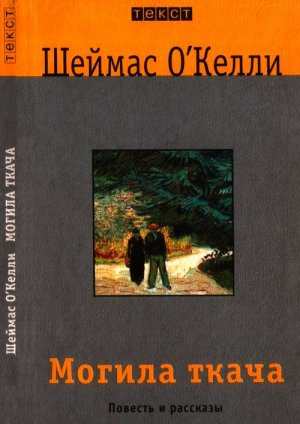
Коротко об авторе
Шеймас О’Келли прожил совсем немного — всего тридцать восемь лет, но успел сделать в литературе столько и так, что имя его по праву стоит в ряду самых ярких писателей Ирландии.
О’Келли родился в 1880 году в Лафри, графство Голуэй, в довольно зажиточной семье. Шеймас рано почувствовал желание заниматься литературным трудом. Уже в двадцать лет он стал редактором — самым молодым в истории ирландской журналистики — небольшой провинциальной газеты «Саутерн стар», выходившей в Скибберене.
В 1905 году Артур Гриффит основал и возглавил партию Шин фейн, выступавшую за политическую и экономическую самостоятельность Ирландии, и молодой и весьма патриотически настроенный Шеймас становится членом этой партии. В 1906 году он переезжает в Наас и руководит газетой «Лейнистер лидер», а в 1912–1915 годах живет в Дублине, работая в газете «Сетердей ивнинг пост». Уже в эти годы его мучают ревматические атаки. Сильные сердечные и суставные боли заставляют О’Келли оставить службу. Он снимает дом, где живет с известным ирландским поэтом Шеймасом О’Салливаном.
Впоследствии О’Салливан с большим теплом вспоминал о своем друге: «Шеймас был из тех редких людей, которые излучают вокруг себя дружелюбие и спокойствие, рядом с ними чувствуешь себя защищенным, уходят прочь заботы и печали; они лечат израненные души одним только своим присутствием. Если в нашей компании оказывался Шеймас, ругань и ссоры были исключены. Под изяществом и благородством его манер скрывалась сильная личность, которая проявлялась тогда, когда это было необходимо…»
Шеймас много работает, пишет пьесы (среди них «Невеста», «Ребенок Шатлера» и другие, они идут на сцене театра Аббей с большим успехом), чудесные рассказы и повести, среди которых парадоксальная, мудрая, смешная и добрая притча «Могила ткача», трогательная история о зарождении любви, разыгрывающаяся на фоне старого кладбища.
В те годы патриотически настроенные литераторы группировались вокруг Артура Гриффита и его газеты «Нэшинелити». В 1916 году после большого восстания, в котором приняли участие многие замечательные поэты и писатели Ирландии, Гриффит был арестован. Но газета борцов за ирландскую независимость, должна выходить несмотря ни на что, и Шеймас О’Келли встает на место заключенного в тюрьму друга: теперь он — главный редактор «Нэшинелити».
В 1918 году Шеймас как обычно работал в своем офисе. Вдруг в редакцию ворвались солдаты, громя все, что попадалось им на пути. Свидетели случившегося рассказывали, как слабый, больной О’Келли пытался тростью защитить себя и печатные прессы. После разбоя друзья нашли Шеймаса в ужасном состоянии, почти бездыханного. Он так и не смог оправиться.
Активисты Шин фейна объявили Шеймаса героем, павшим в борьбе за независимость Ирландии. Они устроили ему пышные похороны, которые стали событием в жизни Дублина. Судьба Келли превратилась в легенду.
В России Шеймас О’Келли практически не известен. Но теперь и у российского читателя есть возможность познакомиться с этим своеобразным и ярким ирландским писателем.
«Могила ткача» — признанный шедевр, одна из лучших литературных сказок XX века.
Словарь ирландской литературы
Могила ткача
(Повесть)
Умер ткач Мортимер Хехир, и его сверстники пришли на кладбище Клун-на-Морав, или Поле Мертвых. Первым спустился со ступенек на каменной ограде гвоздильщик Михол Лински. На его лице явственно проступало волнение. Длинная согнутая фигура одолевала путь, дергаясь и виляя. Следом за ним появился камнедробильщик Кахир Бауз, которого будто сломали пополам, отчего верхняя половина его тела была параллельна земле, как у зверя. В правой руке он держал палку, на которую опирался при каждом шаге, а левую закладывал за спину, сжимая в кулаке сюртук на пояснице, и таким образом ему удавалось не перекувыркиваться через голову при ходьбе. Мать-земля, как магнитом, притягивала к себе Кахира Бауза, а Кахир Бауз как мог оттягивал момент последнего поцелуя. В то мгновение, когда он оторвался от привычного созерцания дорог и тропинок, его лицо оживилось. У обоих стариков был такой вид, будто им неожиданно повезло оказаться на воле. Долгое время они прозябали на задворках жизни, и миру не было до них никакого дела, а тут вдруг о них вспомнили, да еще позвали совершить службу, какую на всей земле никто другой совершить не мог. Волнение на лицах стариков, когда они поднимались и спускались по ступенькам, переходя через оградительную стену в Клун-на-Морав, отражало внутреннее нетерпение, с каким они относились к запоздалому спросу на себя. Не заставили себя ждать и двое темноволосых, красивых, крепко сбитых мужчин, одинаковых вплоть до веревок, которыми они подвязывали под коленями свои вельветовые штаны, а так как оба были могильщиками, то в руках они несли сверкающие лопаты. После некоторого перерыва на перилах показалась белая рука, а потом на лестнице появилась темная фигура женщины, чье бледное печальное лицо с трагической живописностью обрамляла черная шаль, накинутая на голову. Вдова ткача Мортимера Хехира, ибо это была она, последовала за мужчинами на Клун-на-Морав, на Поле Мертвых.
Стоило взглянуть на Клун-на-Морав сверху, проходя по горной тропинке, и сразу становилось ясно, что это очень старое кладбище; стоило постоять на тропинке и поглядеть на Клун-на-Морав подольше, и появлялось ощущение покоя, слышалось пение горных ветров, оплакивавших мертвых; стоило встать на стену-ограду и увидеть могильные холмы вблизи, как в голове начинали звучать строки из «Элегии» Грея; стоило перекреститься и посмотреть на мрачную стену, заросшую лишайником, повнимательнее присмотреться к надгробиям, разбегающимся во все стороны, словно желтые змейки, и сразу же вспоминался Гамлет, морализирующий на краю могилы Офелии и рассуждающий о Йорике. Стоило войти внутрь и побродить между могилами, как все это исчезало и уже не было ничего, кроме самого кладбища Клун-на-Морав. Не зная, сколько ему лет или веков, люди волей-неволей погружались в мифологию, перебирали в уме языческие древности тех времен, когда христианство было еще беззубым младенцем. Сколько же поколений, сколько кланов, сколько родов, сколько семейств, сколько людей ушли на Клун-на-Морав? Разуму под силу осознать лишь романтику здешней математики. Земля тут неровная, не такая, как везде. Ее вид определяют отчасти подавляемые мятежные возмущения внутри — постоянная жажда движений, толчки, возня. Высокая жесткая трава оплела Клун-на-Морав из конца в конец. Таким образом природа пытается контролировать более дерзких бунтовщиков. На Клун-на-Морав нет тропинок; нет ни плана, ни карты, ни какой-либо регистрации могил. Будь хоть что-нибудь, от кладбища уже давно бы ничего не осталось. Вражеские нашествия, войны, голод, междоусобицы не обошли здешние места стороной, но не тронули кладбища. Всякое погребение тут было обосновано могучими традициями. Но несколько лет назад от традиций ничего не осталось — разве что в особых случаях, когда речь шла об уходящем поколении. То ли старое кладбище стало тесным, то ли еще по каким-то причинам, примерно в миле от него возникло новое кладбище, где, как грибы, вырастали известняковые надгробия и кельтские кресты, рекламируя незначительность цивилизации тех мужчин и женщин, которые, судя по эпитафиям, сделали в своей жизни две вещи, будучи, в общем-то, не в силах этого избежать: они родились и они умерли. Иногда к датам, вроде бы в оправдание, прибавляли ничего не объясняющую цитату из Священного Писания. Остававшиеся в живых едва ли не единодушно отпускали Богу вину за то, что случилось с ушедшими. Подобного и в помине не было на Клун-на-Морав, где оставалось сравнительно небольшое количество памятников, но те из них, которых не поглотило время, не нарушали общую атмосферу. Ни одна из надписей не сохранилась в целости и сохранности, они были частично или полностью поглощены временем. Памятники же, до сих пор выдерживавшие нелегкую битву за существование, не оставляли трогательных и тщетных потуг сохранить себя. Из-за притязаний давно почивших модников хотелось плакать. Ну кому пришла в голову мысль притащить глыбу белого мрамора на Клун-на-Морав? От стыда она позеленела. Наверно, когда-то сверкали золотой краской легко читавшиеся буквы. Но об этом могут рассказать лишь визгливые ветры и лютые дожди с гор. Простые, но тяжелые камни с закругленными краями, вероятно, для ненавязчивого придания им какого-никакого сходства с человеческим обликом, теперь поражали своими фантастическими конфигурациями, словно люди, над которыми их воздвигли, нещадно воевали с ними. Некоторые плиты и вовсе валялись разбитыми, наводя на мысли о Моисее, который, сойдя с горы Синайской, увидел, как его последователи пляшут вокруг ложных богов, после чего бросил каменные таблицы Заветов на землю и разбил их вдребезги, что было самым трагическим уничтожением первого издания, какое только известно человечеству. Зато другие тяжелые квадратные потемневшие надгробия, наверняка создания языческого воображения, лежали плашмя на многочисленных коротких ножках, иногда напоминая скульптурные изображения отвратительных черных тараканов, а иногда — столики, за которыми, когда их никто не мог видеть, посиживали лунными ночами гости Клун-на-Морав, скажем, гоблины. Как правило, от ножек уже почти ничего не осталось, и столики лежали перевернутыми, словно накануне гости поссорились за картами. А те столики, которые сохранили свои ножки, выставляли напоказ глубокие трещины и надломы, подобные черному снегу весной. Возле стены, невидимой за темно-зеленым лишайником, кланы из сумеречных времен, сделав попытку перенять традицию восточных захоронений, выказали аристократическое пренебрежение родной глине на кладбище Клун-на-Морав. Они возвели вдоль мрачной стены низкие, похожие на корзины домики, поставили непомерно тяжелые железные двери с увесистыми цепями, напоминающими цепи на морском пирсе, на которых висел массивный замок — ключ от него был под силу единственно Голиафу, — а потом все это обнесли железной оградой с острыми шипами. В этих хитроумных сооружениях самые аристократические семейства хоронили своих покойников, словно они были дикими и опасными зверьми. Однако сия древняя суетность послужила возвышению местных жителей. Чтобы иметь право на место в кладбищенском сообществе, надо было указать на родственную связь с человеком, покоящимся в запечатанном пространстве. Эпитафией был сам по себе акт похорон на Клун-на-Морав. Поразительно, что оставались всего два человека, имевшие право покоиться на старом кладбище. Одним был накануне упокоившийся ткач Мортимер Хехир, а другим — еще живой бондарь Малахи Рухан. Когда земля Клун-на-Морав возьмет к себе последних представителей великого поколения, поразительная история кладбища, по крайней мере в ее практической части, завершится.
Гвоздильщик Михол Лински ссутулил узкие плечи и уставился вдаль, но, хотя глаза у него были маленькие и острые, все же им были непривычны большие пространства. Просторы и богатства Клун-на-Морав сбивали его с толку. Всю свою долгую жизнь он провел, высматривая крохотную точку, чтобы стукнуть по ней. Его любимым был золотистый цвет на раскаленном кончике железной палки. Стоило Михолу Лински увидеть палку, как он захватывал ее кольцом на длинной ручке, выворачивал одним движением запястья, несколько раз ловко ударял по ней молотком и опускал в воду, из которой та выходила безукоризненным и прохладным гвоздем. Делая по нескольку сотен гвоздей шесть дней в неделю да в коротких перерывах раздувая кузнечные мехи, Михол Лински выработал поразительную сноровку глаз и рук и так быстро управлялся с гвоздями, что ни один смертный не мог бы сравниться с ним в этом искусстве, и ровно столько, сколько он сражался с гвоздильщиками в крови и плоти, ровно столько оставался первым среди них, более того, он вступил в великую и неравную схватку с гвоздильными машинами. Как человека, привыкшего концентрировать свое внимание на единственном, светящемся и вполне определенном объекте, его раздражала запутанность и отсутствие порядка на Клун-на-Морав. Однако у него не возникло намерения признаться в этом профессиональном недовольстве камнедробильщику Кахиру Баузу. За преклонные годы, знание кладбища и уживчивый характер смотритель Клун-на-Морав выбрал Михола Лински своим послом, и теперь от него требовалось показать могильщикам-близнецам, сыновьям смотрителя, правильное место могилы, чтобы они вырыли ее и она приняла тело Мортимера Хехира. Никто не знал кладбища и его многочисленных захоронений лучше Михола Лински, тогда как смотритель, не имея официальных документов, был совершенно незнаком с подведомственным ему миром мертвых.
Следом за раскачивающимся на ходу гвоздильщиком шел Кахир Бауз, вздергивая при каждом шаге голову и сверкая острыми, серыми, как камни, которые он каждый день дробил на дорожные нужды, глазами. Кахир не хуже Михола знал Клун-на-Морав, да и некоторые из его родственников были похоронены тут. Ясным взглядом он впивался в насыпи, словно пытаясь проникнуть в глубь земли. Его тоже избрали послом, и ему даже в голову не приходило, что Михол Лински может в чем-то с ним не согласиться, ведь знания гвоздильщика не шли ни в какое сравнение с его знаниями. Едва Кахир Бауз замечал в траве камешек, он, не раздумывая, переворачивал его своей палкой, с профессиональной быстротой оценивая вес камешка, а потом ударял по нему той же палкой, которая, несомненно, попадала в самое уязвимое место, и, будь она молотом, камешек разлетался бы на мелкие кусочки, как стекло. В камнях Кахира Бауза интересовали не поучения, а швы. Даже надгробные камни он многозначительно выстукивал наконечником палки, ибо Кахир Бауз относился к своему искусству со страстью художника, хотя его искусство и не было созидательным. Он принадлежал к великим разрушителям, покорителям, творцам хаоса, могущественным и беспощадным критикам Каменного века.
Два старика бродили по Клун-на-Морав, не торопясь с выполнением своей миссии. В конце концов, оба уже давно не работали, отчего мир отверг и забыл их. Поэтому заново прочувствованная нужность стала для них бесценной. Им не надо было объяснять, что, едва они покончат с похоронами, как до них опять никому не будет дела. Их радовала возможность еще раз угодить человечеству, но и хотелось немножко помурыжить его. Что же до человечества, состоявшего из двух могильщиков и вдовы ткача, то оно понимало это без слов. Медленно, не раздумывая, оно следовало по Клун-на-Морав за двумя стариками. А они, обремененные годами, радовались, как дети. В каком-то месте разойдясь в разные стороны, они молча пошли дальше, здороваясь со старыми знакомыми, спотыкаясь на забытых камнях, соединяя нити миновавших дней, оживляя воспоминания, а потом, вновь сойдясь вместе, заговорили медленно, словно нехотя, об ушедших людях, о тех, кто лежал под землей. Сочувствием согревалась ожившая память, и они называли имена, перекидывались несколькими словами о сложных семейных отношениях, о забавных случаях из жизни, кого-то хвалили за добродетели, кого-то шепотом ругали за пороки, за те самые давние пороки, которые уже и не казались пороками, ведь годы всё смягчают, когда бегут в одной упряжке с самой скромной из всех добродетелей — Жалостью. Громкие скандалы Клун-на-Морав, о которых шептались старики, виделись могильщикам-близнецам и вдове ткача сквозь такую плотную завесу времени, что казались легендами, а не скандалами. Если смотреть на распутника и проститутку издалека, то они всего лишь колоритны. Как положено на кладбище, могильщики опирались на воткнутые в землю лопаты, да и бледная вдова, стоявшая поодаль, была молчаливой, замкнутой, застенчивой и немного загадочной, как все женщины с темными волосами и трагическим взглядом.
Дрожавшей в его руке палкой камнедробильщик показывал на могилы людей, о которых рассказывал. Каждый раз, когда он поднимал палку, остальные инстинктивно, с тревогой или страхом, смотрели на его руку, вцепившуюся в сюртук на спине. У Кахира Бауза было такое физическое сложение, что все вокруг постоянно боялись, как бы он не потерял равновесие. Дышавший с натугой, подобно его приятелю-камнедробильщику, гвоздильщик делал короткие и резкие жесты, и только правой рукой, при этом пальцы у него были скрючены, и выбрасывал он их так, что казалось, будто в них зажат молот, который взлетает и опускается в ярко пылающий огонь. Каждый раз, когда Михол Лински поднимал руку, все ждали, что вот-вот во все стороны разлетятся искры.
— Ну, и где нам копать? — не выдержав, спросил один из могильщиков.
Оба старика повернулись к наглецу, посмевшему прервать их беседу. Они переводили сосредоточенные и, уж точно, опасливые взгляды с одного близнеца на другого, так как не знали, кто из них кто, возможно, побаивались обмана зрения, а то и хитрости, которой молодые парни сбивали их с толку.
— Ну, и где нам копать могилу? — повторил вопрос второй могильщик, и лица стариков исказились еще сильнее. Они пытались определить и запомнить, какой из близнецов заговорил первым и какой — вторым. Подчиняясь профессиональной привычке, Михол Лински уставился на одного из братьев, тогда как Кахир Бауз держал в поле зрения обоих, а еще пытался не упускать из виду стоявшую в отдалении вдову, молча обвиняя ее в дерзости, да еще в таком деле, в котором спешить неприлично.
— Не можем же мы стоять тут вечно, — сказал первый близнец.
Это был тот парень, с которого Михол Лински не сводил взгляда, и теперь, убежденный, что не обидит невинного, он нанес удар.
— Тут много людей, не тебе чета, — сказал Михол Лински, — и им лежать на Клун-на-Морав, пока не наступит конец света.
Он обвел кладбище скрюченными пальцами правой руки.
— Тем, кто будет лежать на Клун-на-Морав до конца света, — подхватил, хрипя, Кахир Бауз, — нечего стыдиться… Им нечего стыдиться. Запомните это, молодой человек.
Михолу Лински пришлось не по душе то, что Кахир Бауз прервал его, решив прийти ему на помощь. Ему как будто указали, будто он — это он-то! — промазал, забивая гвоздь.
— Да ладно вам. Где же все-таки копать могилу для ткача? — спросил близнец, пытаясь извлечь выгоду из досады гвоздильщика — гвоздильщика, которому указали на то, что он не попал по гвоздю.
— Вы будете копать там, где похоронены все его родичи, — ответил Михол Лински.
— Для этого мы как будто и пришли сюда, — вмешался другой близнец. Подражая старикам, он произносил слова медленно. Сначала его красивое лицо разгладилось, а потом вокруг глаз прорезались морщинки-смешинки, и когда взгляд Михола Лински, дернувшись, застыл на красивом смуглом лице этого второго из близнецов, то и у него лицо сначала разгладилось, а потом вокруг глаз прорезались морщинки-смешинки, отчего у Михола Лински возникла беспокойная мысль, а не нарочно ли сбивают его с толку юные могильщики?
— Вы выкопаете могилу… — произнес он с некоторой горячностью и опять подивился тому, как Кахир Бауз перехватил его слова, словно вырвал молот из рук.
— …там, где мы скажем, — закончил фразу Кахир Бауз.
До того неприятно стало Михолу Лински, что он покачнулся и всем своим длинным кособоким телом дернулся в сторону, однако тотчас остановился. Он решил совершить злое дело. Он решил совершить такое злое дело, какое было похуже, чем выбить костыль у несчастного калеки, и могло сравниться разве что с воровством святой воды из комнаты умирающего. Незамедлительным и подлым раскрытием могильной тайны ткача он решил и Кахира Бауза и себя лишить радости последнего дня пребывания на земле Клун-на-Морав!
— Вот это место, — сказал Михол Лински, повернувшись к остальным. — Здесь и копайте.
Все двинулись к указанному месту, и первым — с поразительной живостью — Кахир Бауз, стуча своей мерзкой палкой по попадавшим под нее камешкам.
— Между этими двумя могилами, — сказал Михол Лински, и могильщики мгновенно и грозно подняли одинаковые лопаты, словно всадники на учениях — сверкающие мечи. — Между этими двумя могилами, — вновь поднял голос Михол Лински, — и есть могила Мортимера Хехира.
— Стойте! — закричал Кахир Бауз. Он впал в ярость, он был вне себя и даже ударил палкой по спине одного из могильщиков, после чего оба развернулись к нему, словно один удар причинил боль обоим.
— Эй, потише, — сказал первый могильщик.
— Эй, потише, — сказал второй могильщик.
— Сами потише, — крикнул Кахир Бауз и обратил подрагивавшее лицо к Михолу Лински. — Что это ты говоришь насчет двух могил?
— Я говорю, — даже не стараясь сдерживать гнев, отозвался Михол Лински, — что здесь могила ткача.
— Какого ткача?
— Мортимера Хехира, — ответил Михол Лински. — У нас нет другого ткача.
— Джулия Рафферти разве ткачиха?
— Какая Джулия Рафферти?
— Повивальная бабка, упокой, Господи, ее душу.
— Какая же она ткачиха, если она повивальная бабка?
— Откуда мне знать? Но я скажу тебе то, что знаю и знал всегда: здесь похоронена Джулия Рафферти, а никакой не ткач.
— А я говорю тебе, это могила ткача.
— А я говорю тебе, никакая это не могила ткача.
— Пусть меня возьмет смерть, как она взяла моего отца, но ткач похоронен тут.
— Ни один ткач не был похоронен тут, сколько ткачи живут на нашем свете. Здесь сплошь Рафферти.
— Нет, эта могила кишмя кишит ткачами.
— Вы только послушайте его, кишит мертвыми ткачами.
— Их тут не счесть — что верно, то верно.
— Да Мортимер Хехир приготовил для себя чистенькую могилку, хотя ни разу не похвастался ею, — глубокую, сухую, славную и уж точно пустую. Да тебе пришлось ли видеть могилу его отца?
— Пришлось, честное слово, видел я его могилу… сорок лет назад, день в день.
— Сорок лет назад… Шестнадцатого мая будет уж пятьдесят один год. Еще бы мне не помнить, ведь у меня и зацепка есть, потому что на другой день я сбежал в солдаты, а тетка бегом за мной, да и выкупила меня через неделю, это меня-то, когда я мечтал о большом будущем.
— Оставь в покое солдат и свою тетку тоже, мы тут ради ткача. Вот место, где был похоронен последний ткач, и я больше тебе скажу. По прямой линии отсюда…
— Ага, еще и прямая линия! На Клун-на-Морав, кроме тебя, Михол Лински, никому и в голову не придет говорить о прямой линии. Такой здесь никогда не бывало и не должно быть.
— По прямой линии, отмеренной по правилам…
— По прямой линии, отмеренной кривыми ногами, да еще спотыкающимися, да еще когда нога за ногу заходит от выпитого…
— Ты можешь меня выслушать?
— Никогда у меня не получалось выслушивать тех, кто несет околесицу. Кому-кому, но только не тебе говорить о прямых линиях, когда ни одна картинка не задерживается в твоей голове из-за тучи искр, летающих у тебя перед глазами.
— При чем тут искры и картинки, когда по прямой от могилы ткача была могила Кэссиди.
— Каких еще Кэссиди?
— Да тех, что пасли скотину для О’Ши.
— Каких таких О’Ши?
— О’Ши Руадх из Каппакелли. Хоть кого-то ты знаешь или у тебя совсем память отшибло?
— Хватит о Каппакелли! Кому интересно слушать о Руадхе О’Ши, о нем самом и его потомках, о его детях и родичах? Проклятые, награбили себе земель!
— Вот это точно. А уж как им не терпелось наложить свои рыжие лапы на этот кусочек травы и тот кусочек луга.
— Да им все подавай, что луг, что болото.
— А вот Мортимер Хехир был честным ткачом, к его рукам ни шерстинки чужой не прилипло.
— Лоб у него светился честностью и во дворе, и над станком.
— Вот только поругаться любил, когда выходил со своей трубкой на порог.
— А теперь будет лежать рядом с Руадхом О’Ши.
— И что Руадх О’Ши получил в конце концов?
— Я скажу тебе. Он получил столько земли, сколько хватило бы и слепому скрипачу.
— Ровно столько, чтобы засыпать макушку и пятки! А ты говоришь!
— Черта с два ему удастся выдавить из себя хоть слово. Все они тут молчат, на Клун-на-Морав.
— Ничего не стоит обсуждать нас, когда мы упакованы в деревянные ящики.
— Вот и ткача закопают, прыснув ему в лицо святой водой.
— И Джулию Рафферти тоже закопали, прочитав над ней молитвы, а ведь не было в ее времена женщины красивей, здоровей и веселей, да и повитуха она была искусная.
— Какой бы она ни была, да хоть трижды искусная, а нет ее тут, это я говорю!
— Полагаю, ты хочешь, чтобы я вытащил ее из земли и показал тебе?
— Да что ты, Кахир, нет, конечно. Вряд ли из вас получится красивая пара, о Джулии уж что говорить, но ведь и ты на ладан дышишь.
За этим последовал медленный, трудный, вымученный обмен репликами между двумя знатоками, которые шли от могилы к могиле, соревнуясь в том, чья память лучше, чье воспоминание достовернее, опровергая высказывания друг друга, оспаривая такие подробности, о которых никак не мог знать посторонний человек, и камня на камне не оставляя от знаний соперника, пока все вокруг не оказалось под грудой их доводов. Оба могильщика следовали за стариками в угрюмом молчании, выказывая свое нетерпение только жестами и взглядами, и вдова ткача с несчастным видом совершала обход кладбища, чувствуя себя все хуже и хуже после очередного отвергнутого места, словно особо исключительное кладбище Клун-на-Морав не принимало ее покойного мужа и лишало его заслуженных привилегий. Как все великие эпосы, спор закончился на том, с чего начался. Ни до чего не договорившись, ни на чем не сойдясь, старики в конце концов выдохлись. Михол Лински уселся на перевернутое безобразное надгробие, а Кахир Бауз прислонился к памятнику, наполовину ушедшему в землю и напоминавшему корму покинутого морского корабля. Так они отдыхали, не сводя друг с друга глаз, подобно парочке зловещих грифов.
Могильщики понемногу теряли терпение. У них стояло дело. Ткача надо было похоронить. Время поджимало. И они, отойдя в сторонку, решили держать совет. Когда братья обменялись мнениями, они коротко рассмеялись, подводя итог.
— Михол Лински прав, — произнес один из братьев.
Михол Лински просиял. Зато Кахир Бауз выглядел так, словно его отхлестали по щекам. Он отодвинулся от памятника.
— Михол Лински прав, — повторил другой брат.
Они решили положить конец спору, приняв чью-то сторону. Подняв лопаты, могильщики зашагали к тому месту, на которое указал Михол Лински.
— Стойте! — крикнул Кахир Бауз, замахиваясь палкой на одного из могильщиков, когда тот быстро повернулся к нему красивым смуглым лицом, не предвещавшим Кахиру Баузу ничего хорошего.
— Только тронь меня, — громко произнес он, — и я…
Какое-то движение произошло за его спиной — как оказалось шевельнулась шаль на вдове, и это свело на нет угрозу могильщика, слова умерли у него на губах, и щеки полыхнули огнем. Словно она закричала: «Ах, не трогайте бедного, несчастного старичка! Не делайте ему больно!» А могильщик как будто крикнул в ответ: «Очень уж он достал меня, но я не собирался его бить. А теперь, когда вы попросили меня, то я и грозить ему не буду».
Все-таки испугавшись, Кахир Бауз немного отпрянул, нанеся некоторый вред своему важному виду, а потом оперся на палку, и могильщики приступили к работе.
— Не сомневайтесь, это могила ткача, — проговорил Михол Лински.
— Если так, — откликнулся Кахир Бауз, — то могила его отца должна быть на глубине в семь футов. Ты сам говорил утром.
— Не стоит даже говорить об этом, — откликнулся Михол Лински. — Всем известно, что одним из чудес Клун-на-Морав было захоронение последнего ткача на семи футах, так он сам наказал своим родичам. И всем известно, что он лежит на глубине в семь футов.
— Вспомни-ка лучше, — не успокаивался Кахир Бауз, — что для Джулии Рафферти не рыли землю так глубоко — в лучшем случае на три фута.
Могильщики углубились не дальше чем на три фута, когда одна из лопат глухо стукнулась о гнилое дерево. Этот страшный удар ни с чем нельзя было спутать. На мгновение воцарилась тишина. Неожиданно Кахир Бауз вспрыгнул на кучу земли рядом, напомнив механического зверя с подрагивающей спиной, и немыслимым усилием попытался выпрямиться. Ему удалось поднять уши и тупо срезанный нос. Уже лет двадцать, как он не стоял прямо. Когда Кахир Бауз разогнул свое чудное тело, с его языка сорвалось кудахтанье, которое на самом деле должно было стать победным криком. Не отрываясь, он смотрел на Михола Лински и наслаждался триумфом, от которого даже прослезился.
По своему обыкновению, Михол Лински смотрел в одну точку, и эта точка находилась в могиле, точнее, в том самом месте, где лопата задела гроб. На лице у него были написаны сомнение и страх. Медленно отведя взгляд от могилы, он перевел его вверх, на торжествующего и кудахчущего Кахира Бауза.
У Михола Лински был такой вид, словно он хотел что-то сказать, но не мог подобрать слова. Тогда он отошел немного, отказавшись от дальнейших военных действий, и, стоя поодаль, почесал одну ногу другой позади лодыжки, словно некое громадное насекомое. Одновременно его скрюченные пальцы коснулись переносицы. Это было поражение.
— Похоже, не та могила, — проговорил один из могильщиков, и оба посмотрели на Кахира Бауза.
— Теперь и вам ясно, что не та, — сказал камнедробильщик. — Вы нарушили покой Джулии Рафферти. В свое время она многим помогла явиться в этот мир, и нехорошо платить злом за добро, мешая ей спать сном праведницы. — С этими словами он повернулся к неподвижно стоявшему Михолу Лински. — Ах-ах, чеши, чеши свои ноги. Будем надеяться, Джулия простит тебе твои сегодняшние дела.
Молча, быстро, почтительно близнецы засыпали могилу. Вдова глядела перед собой все с тем же таинственным видом — молча и терпеливо. Один из братьев повернулся к Кахиру Баузу.
— Надеюсь, вы знаете, где могила ткача? — спросил он.
С соответствующим возрасту, кислым видом Кахир Бауз поглядел на могильщика:
— Надеешься?
— Конечно же, вы знаете.
У Кахира Бауза был вид человека, который знает, где находятся райские врата, и может — если захочет — просветить невежественное человечество. Мол, поживем — увидим! Знающим взглядом он обвел луга за кладбищем и сказал:
— Мне известно, где могила ткача.
— Если бы вы показали ее нам, мы были бы вам очень обязаны.
— Очень обязаны, — эхом откликнулся другой могильщик.
Довольный камнедробильщик повел всех ближе к стене, где находились подобия восточных усыпальниц. Он довольно долго ходил между ними, считая количество шагов, что-то невразумительное бормоча себе под нос, наслаждаясь кладбищенской геометрией и с силой ударяя палкой по земле.
— Слава Тебе, Господи! — вскричал Михол Лински. Он был похож на тех, кого раньше звали, чтобы узнать, где на каменной пустоши долбить колодец, они-то и выстукивали землю волшебным ореховым прутом.
Кахир Бауз промолчал. Он был слишком поглощен своим делом. На лбу у него выступил пот. И вообще он походил на нелепого паука, плетущего невидимую паутину.
— Полагаю, — продолжал Михол Лински, обращаясь к мраморному памятнику, — как только Кахир ударит в нужное место, один из ткачей перевернется в гробу. Не исключено, он думает, будто кто-нибудь свистнет из-под земли, дьявол его побери! Вот-вот, где услышим свист, там и будем хоронить ткача.
Кахир Бауз постепенно сокращал круг и вскоре закружился на одном месте, как пес, который собирается лечь на землю.
Приблизившись немного, Михол Лински, не отрываясь, смотрел на него, и на суровом желтом лице с желтыми метами огненного труда появились скептические морщины. Слова, которые он почти шептал, были злыми из-за старческого сарказма.
— Ничего не говорите, — пытался прокричать он. — Для нашего Кахира Бауза нет преград, он у нас образованный, все знает! Только дайте ему время. Дайте ему год. Смотрите, как он на левом каблуке поворачивается в правую сторону. Проворен наш Кахир, как юноша! Эй, Кахир, еще никто не свистит тебе? Уж не под музыку ли ткачей ты пляшешь, дьявол тебя побери?
Кахир Бауз чертил на траве палкой. Постепенно появились как будто очертания могилы. Тогда он снял шляпу и красным платком утер пот со лба.
— Вот могила ткача, — сказал он.
— Господи помилуй! — вскричал Михол Лински. — Только поглядите, что он называет могилой. Молчу, молчу. Прикушу язык. Ни слова не скажу. Ни одного словечка не промолвлю об Алике Финлее, о самом смирном человеке из когда-либо живших на земле, о самом благочестивом человеке, никогда не устававшем возносить хвалы Господу! Но точно известно, что святым всегда достается больше, чем другим, вот и Алик, если при жизни ему повезло, то теперь ему придется защищаться от пиратов и похитителей трупов.
На ближайшем лугу запел коростель, и скребущие звуки прозвучали сомнительным аккомпанементом к словам Михола Лински. Работавшие рядом с Кахиром Баузом могильщики коротко хохотнули, а один из них окинул мгновенным взглядом Михола Лински и сказал:
— Чертов коростель! С удовольствием заткнул бы ему глотку землей.
Могильщик посмотрел на вдову, но та ничем не выдала своих чувств, и он вернулся к работе. Зато Михол Лински никак не мог угомониться.
— Ну, конечно! Я должен молчать. Мне, оказывается, и слова нельзя сказать. Зато другим тут позволено болтать, сколько душе угодно, словно они у себя дома. От доброго старого кладбища скоро ничего не останется, и тогда горы себя покажут, дьявол тебя побери. Замки падут и поднимутся навозные кучи! Вот так, Господь пребудет с добрыми старыми временами и с людьми, воспитанными в добрых старых традициях, Господь пребудет с Аликом Финлеем, самым благочестивым…
Кусок дерна мелькнул в воздухе, появившись со стороны могилы, и, задев голову Михола Лински, упал за его спиной. На лугу затих коростель. Михол Лински застыл в безмолвном протесте, и на кладбище воцарилась тишина, нарушаемая лишь пением могильной глины в маятниковом ритме.
Пристально наблюдая за работой могильщиков, Кахир Бауз сказал:
— Чуть было не упустил.
Михол Лински фыркнул:
— Что?
— Могилу ткача.
— Имей в виду: последний ткач лежит на глубине семи футов. И еще имей в виду: Алик Финлей лежит ближе, чем Джулия Рафферти.
Не успел он это сказать, как случилась страшная вещь. Если прежде лопата мягко входила в землю, то теперь вдруг послышался стук, как будто она наткнулась на что-то твердое, не очень громкий стук, но вполне определенный, словно упали прогнившие доски, а потом посыпалась земля. Могильщики перестали копать. На мгновение все замерли в страхе. Тишину нарушил короткий сухой хохоток Михола Лински.
— Смилуйся над нами Господь! — сказал он. — Это гроб Алика Финлея.
Могильщики переглянулись. Заколыхалась шаль вдовы, стоявшей поодаль.
— Вряд ли это могила ткача, — сказал один брат другому.
Другой согласился. Они оба обратили свои взгляды на Кахира Бауза. А тот в болезненном напряжении склонился еще ниже, у него задергалась голова, и пальцы еще крепче сжали палку. Повернувшись к мраморному памятнику, Михол Лински со злостью произнес:
— Будь это моя вина, я бы сейчас упал на колени и просил прощения у Бога. А иначе уж точно призрак Алика Финлея, святого человека, накинулся бы на меня да так, что мокрого места не осталось бы — с какой такой стати я натравил на его могилу людей с лопатами?
Кахир Бауз ничего не замечал. Он долго смотрел на землю перед собой, потом вокруг себя, а потом вновь начал свой медленный и нелепый танец. Не говоря ни слова, могильщики забросали могилу землей. Кахир Бауз как будто потерялся в страшном тумане, сотворенном им самим. Время от времени он тихо поскуливал. Его лоб стал мокрым от пота, и в конце концов он уселся на край могильного камня, не зная, что делать дальше. Михол Лински сел на другой камень лицом к нему, и — мрачные, нелепые — они сидели и смотрели друг на друга горящими глазами.
— Кахир Бауз, — проговорил Михол Лински, — я скажу тебе, кто ты, а потом ты скажешь мне, кто я.
— Делай, как знаешь, — отозвался Кахир Бауз. — Так кто же я?
— Джентльмен ты, настоящий старый камнедробильщик, вот ты кто, дьявол тебя задери!
Морщины на иссушенном лице Кахира Бауза разгладились, не пряча глаз, он посмотрел на Михола Лински, и два желтых зуба показались у него между губ.
— А ты знаешь, кто ты? — прохрипел он.
— Не знаю.
— Ты — гвоздильщик, вот ты кто, чертов гвоздильщик.
Потом они долго в мрачном молчании смотрели друг на друга.
И в это время, когда стало очевидным крушение стариковских надежд, когда создалось безвыходное положение, подала голос вдова. При первых же звуках ее голоса один из братьев поднял голову и устремил взгляд на ее лицо. Говорила она так же тихо и спокойно, как прежде двигалась.
— Может быть, мне сходить на Таннел-роуд и спросить у Малахи Рухана, где искать могилу?
Как это никто, кроме нее, не вспомнил о самом старом из стариков, о Малахи Рухане? Ему предстояло последним из смертных прийти на Клун-на-Морав. В далекие времена он был первым другом ткача Мортимера Хехира, и все знали об этом. А никто не знал Клун-на-Морав лучше, чем Мортимер Хехир. Может быть, Малахи Рухан чему-нибудь научился от него? Однако бондарь Малахи Рухан так долго лежал в постели, что даже знавшие его думали, будто он уже давным-давно умер.
— Больше ничего не остается, — сказал один из братьев, кладя лопату, и второй брат положил рядом свою лопату.
Сидевшие на камне старики молчали. Даже им не пришло в голову возразить против бондаря Малахи Рухана. Своим старческим молчанием они дали согласие на предложение вдовы, и она направилась к выходу с Клун-на-Морав. Один из могильщиков достал трубку. Другой, медля, провожал взглядом вдову, а потом зашагал следом за ней. Ступив на лестницу, она услыхала мужские шаги за своей спиной и повернула к могильщику бледное печальное лицо. Тот смущенно остановился, пряча от нее глаза, потом проговорил:
— Спросите Малахи Рухана, где могила, пусть точно скажет.
Как раз для этого вдова покидала кладбище Клун-на-Морав, и она объявила, что идет к Малахи Рухану спросить, где находится могила. И все же у могильщика был такой голос, словно он давал ей очень важный совет. В его голосе хоть и приглушенно, но звучала доверительная нотка, отчего вдова подумала, что, возможно, он последовал за ней из-за неожиданной для него самого приязни. Мужчин иногда трудно понять. Вдова отлично умела себя вести, отчего постаралась сделать вид, будто получила очень ценное указание.
— Непременно, — сказала она. — Я спрошу об этом у Малахи Рухана.
И она пошла дальше.
Пройдя дорогу от кладбища, вдова направилась к домам на окраине города. Она неторопливо шла по сумеречным улицам, не особенно печалясь из-за смерти ткача, так как была его четвертой женой, а вдовство четвертой жены ни в какое сравнение не идет с откровенным горем, с потрясением первой и даже второй жены. Если четвертой жене и не чужда скорбь, то она не теряет от нее разум. У вдовы было определенное чувство, что она поведет себя неправильно, если даст волю обычным проявлениям горя. Зачем напоминать людям о том, что она четвертая вдова? Стоит человеку умереть, и оказывается, все вокруг отлично осведомлены в семейной хронике покойного! Собственно, вдове было безразлично, что будут говорить о ткаче, и она не собиралась волноваться из-за этого. Ей уже пришлось кое-что услышать во время ночного бдения. И теперь она лучше понимала, почему людям нравятся эти бдения в домах усопших. Они слушают, вспоминают и верят всему, сказанному в это время. Для них это куда как важнее, чем сказанное в школе, в церкви, в театре. И дело тут не в обыкновенном развлечении. Скорее в том, что во время бдений оживают семейные призраки. Можно досконально узнать историю рода, услышать сентиментальные подробности, ощутить несентиментальную горечь, познакомиться с традициями и удивительными событиями из жизни кланов. Памятливая женщина, которая вещает, сидя на стуле рядом с покойным, внушает больше почтения, чем епископ, обращающийся к пастве с амвона. Заупокойное бдение — это сама жизнь. Много чего услышала вдова о клане ткачей и сделала вывод, не выразив своих чувств, что она вошла в летопись, в отличие от других женщин, не за что-то особенное в себе самой — за красоту, за веселость, сдержанность, преданность или непреданность, — а всего лишь за то, что была четвертой женой, как некая странность, как матримониальный последыш в жизни Мортимера Хехира. Ей почудилась в этом несправедливость, и она решила про себя — вдовы, которые были четвертыми женами, заслуживают больше сочувствия, чем вдовы, которые были первыми женами, хотя бы по той простой причине, что они не были и не могли быть первыми женами! От этой мысли ей стало немного неловко, и она не отважилась додумать ее до конца, подсознательно не желая принимать привычное отношение к себе, которое только и могло, что превратить ее вдовство в горе, непонятное всем остальным и потому совершенно неуместное. Да и что толку? Сначала с одной стороны, потом с другой вдова пригладила под шалью темные волосы.
У нее не осталось ни горьких, ни счастливых воспоминаний о ткаче. В ее замужестве вообще не было ничего запоминающегося. И оплакивать Мортимера Хехира ей не хотелось. Ничего такого пылкого в его отношении к ней не было. Обыкновенный брак старика и молодой женщины. С самого начала она знала его стариком, который уже похоронил трех жен, и со своим спокойным от природы темпераментом не испытала особых чувств, столкнувшись с бурной наглостью мужа. Ткач старательно поддерживал иллюзию своей вечной молодости, крася волосы и беря себе следующую жену, едва позволяли приличия. Четвертой жене он достался совсем стариком. Но она не страдала от того, что своим присутствием ублажала его непомерный эгоизм.
В том или ином виде эти мысли занимали, не волнуя, вдову, которая шагала темной тенью по улицам, требовательным в своем безмолвии, страдающим в отсутствие всего того, ради чего их строили. Единственное желание владело женщиной, и она знала, что оно естественно в ее положении, ведь это было искреннее желание увидеть, как ткача похоронят в той самой могиле, в которой покоится вся его семья и которой он был предназначен всей почтенной историей своего старинного рода. То, что происходило на кладбище Клун-на-Морав, ощущалось вдовой как мучительное, даже трагическое. Ткачи всегда были почтенными и добросовестными хранителями древнего кладбища. Так уж сложилось издавна, и они охотно подчинялись обычаю. Особенно последний из них — Мортимер Хехир. Его считали самым главным знатоком захоронений, принадлежавших местным кланам. А его познания — научными. Он был великим ученым Клун-на-Морав. Он поддерживал здесь порядок. Нет, он был здешним тираном. Вновь и вновь ему приходилось предотвращать ужасные ошибки, осложнения, которые устрашили бы заинтересованных лиц, если бы их еще что-то интересовало. Частенько вдове ткача приходило в голову, что в какой-то момент занятия Мортимера Хехира превратились в безрассудную и едва ли не всепоглощающую страсть. Поговаривали, будто в этом виноват страх, обуявший его еще в ранней юности, когда ему помстилось, что, воспользовавшись чьей-то оплошностью, чужак, неровня, даже враг сумеет занять место среди фамильных гробов ткачей. Страх сделал из него то, чем он стал. Ведь в последние годы гордость за семейные погребения уступила место настоящему культовому поклонению. Чем меньше было работы, тем больше было гордыни. Погребения на Клун-на-Морав стали очевидным доказательством его аристократизма. Они были его гербом, его поместьем, подтверждением его высокого рождения в среде ткачей. И вот теперь человек, который помнил всё о чужих могилах, не мог обрести свою собственную. Вдове пришло в голову, что это одна из тех несправедливостей, которая ложится пятном на репутацию всей земли. Правда, она чувствовала и себя виноватой в том, что ни разу не спросила у ткача о расположении драгоценной могилы, но ведь и он тоже ничего не сказал ей. Вот какой этот несчастный мир! В своей страсти к классификации прав других людей ткач забыл о своих правах. В долгой и вообще-то успешной борьбе по выдворению чужих трупов из своей аристократической ямы он добился того, что его собственный труп не может найти себе места ни в одной яме на кладбище. Верховный священнослужитель при жизни, он стал, умерев, парией на Клун-на-Морав. Теперь никто не может указать, помимо разве что Малахи Рухана, точное место, которое ткач защищал от путаницы и беспорядка в их сообществе, от забывчивых, безразличных и нерадивых!
Вдова старательно вспоминала всё, что когда-либо слышала от ткача о его могиле, в надежде отыскать нужный ключик, что-нибудь получше позорных попыток Михола Лински и Кахира Бауза. Ей припоминалось многое, что рассказывал разговорчивый ткач о своей могиле. Пятьдесят лет назад могилу вскрывали в последний раз, и тогда в ней похоронили его отца. А за тридцать лет до этого она приняла отца его отца, то есть деда ныне умершего ткача. Будучи долгожителями, ткачи не могли похвастать большим количеством мужского потомства; за всю жизнь у ткача рождался один сын, которому он завещал свой станок; а если были дочери, то их разбрасывало по свету, и иногда их могилы отделяли моря и океаны. Три жены покойного ткача нашли успокоение на новом кладбище. Вдове припомнилось, что ткач редко говорил о них и совсем не интересовался их могилами. Его сердце принадлежало Клун-на-Морав и мягкому, сухому, глубокому, аристократическому ложу, которым он владел по праву. Однако в его описаниях не было ничего конкретного. Ни разу, в этом вдова не ошибалась, он не сказал ничего о расположении, знаках и размерах, благодаря которым можно определить точное место. Вне всяких сомнений, многим людям это было известно, вот только они все умерли. Ткачу даже в голову не приходило, что может значить для него самого их уход. Расположение могилы было настолько ясно запечатлено в его памяти, что он подумать не мог, будто для других это не так. Мортимер Хехир ушел в небытие, подобно одинокому астроному, который открыл новую звезду, был несказанно восхищен ее красотой, ее уникальностью, ее властью над его сердцем и втайне радовался тому, как имя звезды вместе с его именем будут вечно сверкать в небесах, — но забыл обозначить ее место на карте звездного неба. Михол Лински и Кахир Бауз могли бы стать опытными астрономами, обладающими практическими познаниями, и поискать звезду, которую ткач упустил из-за своей любви к ней и невероятной перенаселенности небес.
Частенько бывает, что самая простая мысль одного человека непроницаема даже для его ближайшего окружения. Святой может идти по земле в полной уверенности, что всему миру явлен его светящийся венец; а весь мир не видит его, но если бы увидел, то, возможно, забил бы святого камнями. Вот и Мортимер Хехир простодушно гордился своей могилой, как святой — своим венцом. Он верил, что придет время и у него будут королевские похороны — достойные последнего из великих ткачей Клун-на-Морав. А получается, что никто не имеет представления, где его хоронить, словно он бродячий лудильщик.
Погруженная в эти размышления, вдова уже была готова тяжело вздохнуть, как вдруг услыхала за окном песню канарейки. Оказалось, что, сама того не заметив, она подошла к дому бондаря Малахи Рухана.
Вдова ткача виновато приблизилась к дому Малахи Рухана и потопталась у порога, как простая крестьянка — в манере, перенятой у робкого животного, — прежде чем опустила голову и вошла в дом.
Дочь Малахи Рухана стояла у плиты и обернулась к ней, показав лицо, которое выражало страстную душу поварихи. Но оно погасло, стоило вдове ткача поделиться с ней своим делом.
— Я бы не очень рассчитывала, что отцу известно, где должна быть могила, — проговорила дочь Рухана. — Пусть земля будет твоему мужу пухом, — прибавила она и повела вдову к бондарю.
Комната была маленькой, с низким потолком и спертым воздухом, освещенная лишь тем светом, что попадал сюда из никогда не открываемого окошка. Здесь стоял запах старости, разложения. И вдова едва не упала в обморок. У нее появилось чувство, будто Бог посвятил ее старикам — вспыльчивым, сварливым, себялюбивым старикам, которым она всегда была чем-то обязана и которые всё помнили, от оторванных пуговиц до пропавших могил.
С безразличием, даже некоторым сомнением она обыскала взглядом кровать Малахи Рухана. Но бондаря не увидела. Тогда над кроватью наклонилась дочь, внимательно прислушалась, очень ловко перевернула тряпки, и показался торс Малахи Рухана. Вдова увидела странноватое лицо, не бледное и не морщинистое, а, наоборот, красное, и лысина у него на голове была будто красного дерева — словно без кожи — твердые линии черепа казались неприкрытыми. Из подбородка лезла седая бороденка, но такая спутанная и клочковатая, какой вдове еще не доводилось видеть; это оказалась самая фантастическая борода на свете, так как непонятно было, на чем она выросла, на чем держится и продолжает расти, ведь ничего похожего на подбородок как будто вовсе не имелось. Вдову до того поразила эта борода, словно она увидела цветок в горшке без земли. Сквозь бороду проглядывали кожа да кости шеи, которые и были шеей. Над этой головой и плечами склонилась дочь бондаря и стала что-то кричать в сморщенное ухо. Мумия как будто затрепетала. Тихие непонятные звуки донеслись с кровати. Вдове уже стало казаться, что она поступила неправильно, когда вспомнила о бондаре. Но ей-то что было делать? Ведь если ткача похоронят не на том месте, его душе никогда не обрести покоя. А что может быть ужаснее, чем душа, которую носят по земле воющие ветры? Ткач будет переживать, даже если попадет на небеса, из-за своей могилы, будет, наверное, переживать так же тяжело, как святой, потерявший свой нимб. Он был вспыльчивым стариком, стариком с непокорным нравом. Наверняка он… Вдова постаралась унять испугавшие ее мысли. Она была не более суеверна, чем все мы, однако… От непонятных страхов и приличествующей ее положению печали не осталось и следа из-за того, что последовало дальше. Мумия, лежавшая на кровати, ожила. Более того, она сделала это без посторонней помощи. Дочь никак не отреагировала, словно все чувства у нее давно притупились из-за постоянного наблюдения за разными стадиями отцовского воскрешения. Вдове стало ясно, что дочь отлично вымуштрована и знает свое место. Она даже не попыталась помочь своему отцу, когда он заворочался на кровати. Сначала старик повернулся на бок, потом на спину и начал потихоньку, двигая лопатками, ползти вверх по подушке, пока не добрался головой до светлого пятна из окошка. Вдове уже давно было привычно помогать старикам, поэтому она, сама того не заметив, сделала непроизвольный жест, но тотчас остановилась. Почти незаметное движение дочери, неожиданно взметнувшиеся вверх веки на лице мумии, открывшей голубые глаза, — и вдова, не успев разобраться в том, что происходит, замерла на месте. Она стояла, не шевелясь, подобно дочери хозяина дома. Когда же ее взгляд встретился с голубым взглядом Малахи Рухана, вдове не составило труда понять, что в немощном теле бондаря живет неукротимый дух. Уж точно, этот мужчина привык сам все решать за себя и отвергал всякую помощь даже в последнее время, когда ему начало отказывать сознание. Вверх он тащил свои лопатки, череп, словно из красного дерева, истончившуюся кожу, пронзительные глаза, чтобы быть ближе к свету и чтобы удобнее было рассмотреть нежданную гостью. На определенной стадии воскрешения — когда бондарь вытащил из-под одеяла обе тощие жилистые руки — дочь заученным движением шагнула вперед и стала что-то искать в постели. Вдова заметила веревку, один конец которой дочь вложила в руки своего упрямого отца. Другой конец был привязан к железной поперечине в изножии кровати. Жилистыми пальцами бондарь ухватился за веревку и медленно, истово, волшебно, как показалось вдове, поднялся в сидячее положение. В комнате стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием старика. Вдова мигнула. Да, это был призрак мужчины, который каждый день возвращался из мертвых с помощью привязанной к изножию кровати короткой веревки. Эта веревка привязывала его к жизни, и он прилагал все усилия, чтобы жить. Веревка представляла собой связь с миром, с тем самым миром, который забыл его, который шагал мимо его окна, не зная о потрясающем действе, вновь и вновь повторявшемся в его комнате. А он был там, сидел на своей кровати, возрожденный без посторонней помощи и до последнего державшийся за жизнь. Как бы дорого ему это ни стоило, он вышел победителем. С каждым днем ему придется все дольше и дольше ползти по веревке, он будет уступать эль за элем[1], погружаясь в безнадежность, отправляясь в вечность, как ведро опускается на веревке в черный глубокий колодец. Но пока он еще тут, все еще готов к работе, ни от кого не зависимый, самостоятельный и живой, глядящий немного затуманенным голубым взором на вдову ткача. Ничего не говоря, его дочь споро поправила подушки и проделала это с видом человека, которому дарована особая честь.
— Нэн! — позвал старик свою дочь.
Не отличавшаяся живостью темперамента, вдова едва не подпрыгнула на месте. Голос звучал на удивление громко. Скорее это был крик, заполнивший своими вибрациями маленькую комнату. Остался Малахи Рухан в памяти вдовы своей веревкой, голубыми глазами, сильным голосом и волшебной бородой. К счастью, именно они выступали на фоне его скелета.
— Что, папа? — прокричала ему на ухо дочь. Вот так, он был совсем глух, и эта его немощь потрясла вдову. У бондаря оказалось немало сюрпризов.
— Кто эта женщина? — крикнул он, глядя на вдову, в полной уверенности, что она его не слышит.
— Миссис Хехир.
— Миссис Хехир… Это какая же Хехир?
— Жена ткача.
— Ткача? Мортимера Хехира?
— Да, папа.
— По правде говоря, я ее знаю. Это Делия Морриссей, она ведь вышла замуж за ткача. Та Делия Морриссей, за которой он отправился в Мюнстер, свихнувшись от любви к ней.
Горячая волна замешательства залила вдову. На секунду ей почудилось, что мыслями бондарь далеко от своего дома. Но потом она вспомнила, что первую жену ткача действительно звали Делией Морриссей. Ей пришлось пару раз слышать об этом.
— Неужели это сама Делия Морриссей? — спросил старик.
Вдова прошептала дочери:
— Пусть будет Делия.
У нее не было ни малейшего желания вступать в спор с тенью на кровати о семейной истории ткача. Ей даже стало стыдно, что она была женой ровесника удивительного старика, державшегося за веревку жизни.
— Да что это я? — вскричал Малахи Рухан, сверкнув голубыми глазами. — Делия Морриссей умерла. Как-то раз за обедом она подавилась костью. Сколько ткач ни бил ее по спине, ничего не вышло. У него уж и глаза повылезали из орбит, а она все равно задохнулась до смерти. Мне ли не помнить. Ткач тогда тоже чуть было не умер с горя. А потом женился еще раз. Нэн, на ком он женился?
Нэн не знала. Она отвернулась к окну, чтобы сосредоточиться. Вдова облизала губы. Ей ничего не оставалось, как задуматься о вещах, на которых она ради собственного спокойствия старалась не концентрировать свое внимание. Она ненавидела генеалогию.
— Сара Маккейб, — произнесла она не без волнения.
Дочь бондаря прокричала это имя на ухо отцу.
— Значит, ты — Салли Маккейб из Лускауна, которую Мортимер увел у кузнеца? Да, да, вот уж дело было, они ведь оба горячие были, и твоя красота бросалась им в голову не хуже крепкого вина.
Он поглядел на вдову, и одновременно недоверчивое и восхищенное выражение промелькнуло на его обтянутом кожей лице. Таким же взглядом он мог смотреть на Дергорвиллу из Лейнстера, Дейрдре из Улада[2], Елену из Трои.
Но вдова не была пресловутой Сарой Маккейб из Лускауна, второй женой ткача. Поговаривали, у них была бурная жизнь с неистовыми скандалами и расставаниями и не менее неистовыми воссоединениями, так как Сара Маккейб из Лускауна не совсем забыла кузнеца и дарила его своим вниманием даже после замужества. Однако вдова вновь шепнула дочери бондаря:
— Пусть будет Сара.
— Как поживает Мортимер? — спросил старик.
— Он умер, — ответила дочь.
У старика задрожали цеплявшиеся за веревку пальцы.
— Умер? Мортимер Хехир умер? — крикнул он. — Какого черта с ним случилось?
Нэн не знала, что случилось с Мортимером Хехиром. Однако она знала, что вдова не будет возражать, поэтому, не став медлить, ответила:
— Он заболел, неожиданно заболел.
— Подумать только, был человек — и нет человека! — вскричал бондарь. — Если такое могло случиться с Мортимером Хехиром, то на что надеяться нам? Нэн, что с нами будет? Подумать только, ткач с бычьим сердцем поддался обыкновенной болезни! Мы живем в вероломном мире, да-да, в вероломном мире. Больше ни одного ярда твида не сойдет с его старого станка! Морри, Морри, ты был хорошим другом, отлично одолевал горные тропы, насвистывал разные мелодии, умел вести приятную беседу и говорил, словно читал Библию.
— Папа, ты хорошо знал ткача? — спросила его дочь.
— Никто не знал его лучше, — ответил он. — Мы с ним выпили вместе столько пива, сколько я больше ни с кем не выпил. И уж точно, я бы проводил его в последний путь и подставил плечо под его гроб, если бы не проклятая веревка.
Несколько минут он просидел с опущенной головой. Женщины же тем временем обменялись быстрым сочувственным взглядом.
Судя по дыханию, старик заснул. И голова у него опустилась еще ниже.
Вдова сказала:
— Уложите его. Он устал.
Дочь сделала недовольное движение; она боялась вмешиваться. Наверно, бондарь мог быть очень жестоким, если его разозлить. Прошло довольно много времени, прежде чем он поднял голову. Теперь он выглядел иначе. У него посвежело лицо, стало гораздо бодрей. Клочковатая борода свисала до самого одеяла.
— Спросите его о могиле, — сказала вдова.
Дочь помедлила минуту, и тут бондарь, словно услышал вдову или понял, о чем она просит, взглянул на них. Он сказал:
— Если подождешь немного, я расскажу тебе, что за человек был ткач.
Несколько мгновений он молча смотрел на маленькое окошко.
— Ой, конечно, мы подождем, — отозвалась дочь и повернулась к вдове, — правда, миссис Хехир?
— Конечно, подождем, — согласилась вдова.
— Ткач, — неожиданно произнес старик, — был сном.
Он повернулся к женщинам, чтобы посмотреть, как они восприняли его слова.
— Наверно, — издав короткий смешок, сказала дочь, — наверно, миссис Хехир не согласна.
Вдова неловко пошевелила руками под шалью, с опаской посмотрев на бондаря. Но взгляд его голубых глаз был чист, как озерная вода над белым песком.
— Согласна она или не согласна, — возразил Малахи Рухан, — Мортимер Хехир был сном. И его станок, и его челноки, и его рамы для основы, и его бобины, и его нитки — все это сон. И то, что сходило с его станка, тоже было сном.
Старик причмокнул губами и стукнул крепкими деснами. Наклонив голову набок, дочь не сводила с него взгляда.
— Даже больше, — продолжал старик, — каждая женщина, из-за которой он терял голову, и каждая женщина, на которой он женился, тоже были сном. Говорю тебе правду, Нэн, правду тебе говорю о ткаче. Его жена была сном, и его смерть — сон. И его вдова — тоже сон. И весь мир — сон. Ты слышишь, Нэн, весь наш мир — сон.
— Папа, я все слышу, — пронзительным голосом пропела дочь.
Бондарь дернул головой, приподымая ее, и взмахнул бородой, вновь придав себе бодрый вид. Потом он заговорил трубным голосом:
— И я тоже сон!
С этими словами он перевел взгляд голубых глаз на вдову. Ей стало не по себе. Бондарь показался ей самым страшным стариком, какого она когда-либо видела, и то, что он говорил, звучало ужаснее всего слышанного ею прежде. А он продолжал кричать:
— Дурак смеется на улице, король любуется своей короной, женщина оборачивается, заслышав мужские шаги, колокола звонят в церкви, мужчина шагает по земле, ткач склоняется над своим станком, бондарь крепит обручами бочку, Папа надевает красные туфли — и все они сон. Я скажу вам, почему они сон: потому что этот мир был задуман как сон.
— Папа, — вмешалась дочь, — ты слишком много говоришь. Ты обманываешь себя.
Старик немного натянул веревку. Таким образом он показал, что у него еще есть силы, продемонстрировал свое отличное состояние.
— Ты говоришь так, — возразил он, — потому что не понимаешь меня.
— Я прекрасно тебя понимаю.
— Тебе только так кажется. Послушай, Нэн. Я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Ты ведь не откажешь мне?
— Конечно же, нет, папа, ты ведь знаешь.
— Нэн, ты хорошая дочь, это правда. Поэтому сделай, как я скажу. Закрой глаза. Крепко-крепко закрой их. И не открывай.
— Хорошо, папа.
Дочь закрыла глаза и сразу стала похожа на слепую. Вдове нравились ее сильные резкие черты, добродушная линия рта. Старик с волнением смотрел на дочь.
— Что ты видишь, Нэн? — спросил он.
— Ничего, папа.
— Делай, как я тебе говорю. Зажмурься, и ты увидишь.
— Не вижу ничего, разве…
— Что разве? Говори же!
— Разве что темноту, папа.
— Разве этого мало? Разве темноту увидеть легче, чем свет? Ну же, Нэн, гляди в темноту.
— Я гляжу, папа.
— И подумай о чем-нибудь — все равно о чем — скажем, о стуле перед очагом.
— Я думаю о нем.
— Помнишь его?
— Помню.
— А когда ты вспоминаешь о нем, чего тебе хочется — может быть, сесть на него?
— Нет, папа.
— А почему тебе не хочется на него сесть?
— Потому что — потому что сначала я хочу посмотреть на него, убедиться в том, что он есть.
Старик вскрикнул от удовольствия:
— Вот, вот! Ты хочешь убедиться в том, что он есть, хотя отлично помнишь, что он есть. И так всё в этом мире. Люди закрывают глаза и теряют уверенность в чем бы то ни было. И хотят вновь посмотреть на мир, прежде чем поверить в него. Вот и ты, Нэн, ты не хочешь поверить в стул около плиты, в тот самый стул, который видела всю свою жизнь, на который тебя еще сажала твоя мать, когда ты была маленькой. Ты закрываешь глаза, и тебе кажется, что стула нет! Послушай меня, Нэн — если бы у тебя был муж и ты закрыла бы глаза, то не была бы уверена в том, что это тот самый мужчина, которого ты помнишь, и тебе понадобилось бы открыть глаза, чтобы убедиться, он это или не он. И, будь у тебя дети, ты тоже, отвернувшись от них и закрыв глаза, стараясь вспомнить их, захотела бы поглядеть на них, чтобы удостовериться в своих воспоминаниях. Ты была бы так же не уверена в них, как в стуле на кухне. Опускаешь веки — и от нашего мира ничего не остается.
— Папа, пожалуйста, ты слишком разговорился.
— И совсем я не разговорился. Разве нам уютно в этом мире со всеми его вещами, в которых мы уверены, только когда смотрим на них? Переходя из одного периода жизни в другой, разве у нас не появляется ощущение, что когда-нибудь мы проснемся и все будет совсем иначе? Нэн, неужели ты не чувствуешь ничего такого? Неужели ты не думала, что все может измениться, что весь мир изменится и происходящее вокруг лишь отвлекает нас от чего-то еще? Мы миримся с жизнью, пока загоняем в дальний уголок своих сердец стремление к чему-то иному! Все мужчины верят, что рано или поздно ЭТО будет, что они завернут за угол и окажутся на неведомой и прекрасной УЛИЦЕ!
— Ну, конечно, — отозвалась дочь, — не исключено, что они правы и что так все и будет.
Тело старика сотрясла судорога смеха. Она началась под одеялом, потом содрогнулось его тело, потом она пробежала по жилистым рукам и перекинулась на веревку, отчего задребезжало железное изножие кровати. Оживленное лицо бондаря зажглось неожиданно злобной насмешкой. Вдова смотрела на него, как завороженная, с усиливающимся ужасом. Он мог что угодно сказать. Он мог что угодно сделать. Он мог запеть какую-нибудь отвратительную песню. Он мог соскочить с кровати.
— Нэн, — спросил он, — ты веришь, что можешь завернуть за угол и проснуться?
— Ну, — задумчиво произнесла Нэн, — я верю.
Бондарь вновь издал нечто похожее на павлиний крик.
— Ага! Нэн Рухан верит, что проснется! Что значит — проснется? Перестанет спать и видеть сны об этом мире! Что ж, Нэн Рухан, если ты веришь в это, значит, знаешь, что почем. Ты знаешь, что окружает тебя и что такое наш так называемый мир. Только во сне человек может надеяться, что проснется, — ты слышишь меня, Нэн? Только тот, кто спит, может надеяться на то, что сон закончится.
— Я слышу, папа, — отозвалась Нэн.
— Мир вокруг нас всего лишь сон, а сон — это ничто! И нам всем хочется прогнать великое ничто этого мира.
— И с помощью Божьей у нас получится, — сказала Нэн.
— Отними у меня весь мир, Нэн, — сказал бондарь, — но ничего не получится.
— Почему, папа?
— Потому что, — ответил старик, — мы сами — сон. Когда сон закончится, нас тоже не будет. Вот почему.
— Папа, — проговорила дочь, вновь склонив голову немного набок, — ты много знаешь.
— Достаточно, — коротко отозвался бондарь.
— Может быть, ты расскажешь нам о могиле ткача? Миссис Хехир надо знать, где она находится.
— Разве я не сказал тебе о могиле ткача? Разве я не сказал тебе, что все на свете сон, и ничего больше?
— Ты не сказал, папа. Ты правда ничего не сказал.
— Я сказал, что весь мир — сон, а могила ткача находится в этом мире, на кладбище Клун-на-Морав.
— А где на кладбище? В какой его части, папа? Миссис Хехир очень нужно знать. Ты знаешь?
— Знаю, — проговорил Малахи Рухан. — Я был на похоронах его отца. Эти похороны запомнились мне лучше всех остальных, потому что тогда красивая девушка Гонор Костелло упала на могилу без чувств. Молодой Донохью весь потом покрылся, когда увидал, что Гонор Костелло лежит на могиле. Какая уж тут свадьба после этого, а ведь он поклялся, что женится на ней, и поцеловал ее в губы. «Я не возьму в жены женщину, которая валяется на чужой могиле, — сказал Донохью. — Она может родить от меня косоглазого или сухорукого младенца». Вот он и женился на дочке фермера, а Гонор Костелло в тот же день вышла замуж за гуртовщика. Вот так. Жена Донохью не родила ни одного ребенка. Она оказалась бесплодной. Ты слышишь, Нэн? Бесплодной она была. А уж Гонор Костелло только и делала, что ходила тяжелой от своего гуртовщика! У всех ее детей были рыжие волосы, тяжелые, как водоросли, кожа — светлее ветра, и руки-ноги чистые, как свист! Говорили, предками гуртовщика были датчане, и это проявилось в детях Гонор Костелло.
— Наверно, — произнесла дочь старика, — они были викингами.
— Что ты говоришь? — возмутился отец. — Разве я не сказал, что они были датчане? Это же чудо из чудес.
— Ты прав, — подтвердила дочь, и обе женщины зацокали языками, чтобы выразить свой восторг.
— Я вам скажу, что спасло Гонор Костелло, — продолжал Бондарь. — Когда она упала на Клун-на-Морав, ее пальто вывернулось наизнанку.
— Папа, ты скажешь, где могила ткача? Миссис Хехир нужно знать.
Старик поглядел на вдову; его глаза внимательно обозрели ее лицо и фигуру, и выражение иронического восхищения оживило черты его лица. У него дрогнули ноздри, и он сказал:
— Вот вам и конец истории! Салли Маккейб, возлюбленная кузнеца, желает знать, куда ей сбагрить ткача! Великие битвы происходили в Лускауне из-за Салли Маккейб! Ткач думал, что у него сердце разорвется, а кузнец продал душу черту ради нескольких часов с Салли Маккейб.
— Папа, — вмешалась дочь, — оставь мертвых в покое.
— Ну да, пусть мертвые дураки покоятся с миром. Сон о Лускауне закончился. И теперь бледная женщина ищет могилу черного ткача. Что ж, удачи тебе!
С бондарем вновь случился спазм недоброго смеха. Единственная разница заключалась в том, что на сей раз он начался с дребезжания железа, потом потряс веревку, жилистые руки и завершился где-то в изножии. Бондарь со странным звуком облизал губы, словно на них не хватало мяса.
— Разве я знаю, где могила Мортимера Хехира? — спросил он в раздумье. — Разве я знаю, где моя веревка?
— Где могила? — повторила дочь свой вопрос. У нее было нескончаемое терпение.
— Ладно, скажу тебе, — сказал бондарь. — Она под вязом на Клун-на-Морав. Это точно. Еще не было ткача, который бы не нашел успокоение под вязом на Клун-на-Морав. Они все туда уходят, и это точно, как почки раскрываются на ветках вяза. Пусть Салли Маккейб похоронит там несчастного Морти; пусть прольет над ним пару слезинок в память о тех днях, когда ее сердце было готово разорваться ради него, и поверьте мне, никакой призрак не придет к ней. Ни один мертвец еще не возвращался, чтобы поглядеть на женщину!
Едва заметный вздох сорвался с губ вдовы. Платочком она вытерла капельки пота, выступившие по обе стороны носа. И старик сочувственно кивнул головой. Он думал, что давно покойная Салли Маккейб оплакивает ткача! А волнение вдовы было связано с тем, что наконец-то открылась тайна могилы, и ей стало легче на душе. Однако долгое общение со стариками приучило ее к осторожности. Неожиданно ей привиделось красивое загорелое лицо могильщика, который проводил ее до ступенек. Она вспомнила, как он что-то сказал о «точном месте могилы», и осмелилась задать вопрос:
— А где под вязом?
Старик выслушал вопрос, и напряженное выражение появилось на его лице.
— Где что? — переспросил он.
— Могила.
— Какая могила?
— Могила ткача.
Еще одна судорога скрутила старое тело, но на сей раз никакого веселья не было и в помине. Судорога крепко вцепилась в несчастный скелет и трясла его. Похоже было, будто сзади за шею старика вдруг схватила невидимая сильная рука и стала размахивать им. Костяшки пальцев стучали по веревке. Звуки были ужасные. У вдовы появилось жуткое предчувствие, что бондарь сейчас развалится на куски, как мешок с костями. Он обернул лицо к дочери. Крупные слезы потекли из голубых глаз, сначала придав им выражение детской капризности, а потом острой печали.
— Зачем ты говоришь со мной о могилах? — спросил он, и его сильный голос дрогнул. — Зачем ты мучаешь меня? Я ведь не умираю, нет? Нэн, я не умираю?
Дочь наклонилась над отцом, как над ребенком.
— Да не бойся ты, — сказала она. — Лежи тихо и отдыхай. Просто ты очень устал.
Старик немного отпустил веревку и вновь утонул в подушках, совершенно беспомощный, и до женщин теперь доносилось лишь слабое хныканье. Дочь наклонилась пониже, чтобы поправить подушку возле стены. Однако неожиданно раздался громкий рык, и подушка упала.
— Не трогай меня! — крикнул бондарь. У него опять восстановился голос, умеющий держать командирскую громкость. С изумлением вдова смотрела, как старик опять ухватился за веревку и поднялся в постели. — Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не прикасалась ко мне? — кричал он. — Зачем я вообще разговариваю с тобой? Разве я больше не хозяин в моем доме?
Сверкая глазами, он смотрел на дочь, и глаза у него были красными от ярости, словно у пса, заходящегося в лае в своей конуре. Дочь отступила, криво улыбаясь большим ртом. Вдова тоже отступила, и несколько мгновений он как будто прижимал женщин к стене своим яростным красным взглядом. Еще один рык, и бондарь, держась за веревку, стал опускаться ниже и ниже в постели. Несмотря на весь свой опыт общения со стариками, вдова никогда не видела ничего подобного: ни такого воскрешения, ни такого изнеможения. Когда же старик улегся, дочь осторожно накрыла его по плечи и кивнула вдове, чтобы та вышла из комнаты.
Покидая дом Малахи Рухана, бондаря, вдова чувствовала себя так, словно она нашла могилу одного старика, почти убив другого.
Вдова шагала по улицам, внешне спокойная, а внутренне — в замешательстве. Ее первой мыслью было: «А денек-то еще не кончился!» Еще хватало дел дома; она помнила, что ткач лежит там, наконец-то спокойно, вокруг горят свечи, он накрыт коричневым покрывалом и в руках держит распятие — всё, как положено. Вдове казалось, что прошла вечность с тех пор, как он окончательно слег. Все это время он только и делал, что придирался и брюзжал. И агония была долгой и жестокой, словно напоказ. Несколько раз вдова едва не сбегала из дома, желая оставить ткача один на один сражаться со смертью. Однако ей помогали здравый смысл, крепкие нервы и религиозные убеждения, и когда она клала пенни на глаза ткача, то радовалась тому, что исполнила долг до конца. И теперь она тоже радовалась, что перехватила поиски могилы у Михола Лински и Кахира Бауза; Малахи Рухан был еще тот старик, и она никогда его не забудет, но он знал то, чего не знал никто другой. Поднимаясь по дороге, шедшей к Клун-на-Морав, вдова заметила, что небо стало ярче и на серо-синем горизонте полыхает красная полоса. А сразу под красным лежит черная земля, и, естественно, Клун-на-Морав. Вдова смотрела прямо перед собой, и вскоре все то, что казалось ей размытым, постепенно обрело ясность.
Она обратила внимание на заднюю стену Клун-на-Морав с зеленым лишайником на ней, куда более заметным на фоне красного неба. И тут же, над зеленой стеной, на фоне яркого неба поднял спинку один из двух черных тараканов. На стене, как на насесте, удерживались две неряшливые фигурки, такие смешные и неподвижные, что казались неотъемлемой частью композиции. Одна фигурка до того нелепо наклонилась, будучи на краю надгробия, что на секунду вдове показалось, будто человек находится на столе и наклоняется, чтобы посмотреть, нет ли чего под ним. На другой стороне стола находилась хрупкая искаженная фигурка, и, приглядевшись, вдова заметила, что она движется. Непокрытая голова была в отчаянии поднята вверх. Лицо загорелось красным, повернутое к небу, да так сильно, что взгляд вдовы инстинктивно переместился вверх. Над красной полосой, в западной части, была единственная звезда, которая светила так ярко и так молодо, как никогда не светила прежде. Что бы там ни было, а вдове хотелось, чтобы это была юная звезда, которая веселилась и радовалась жизни. Не на нее ли, подумала вдова, смотрел старый Михол Лински? Он был старым, очень старым, а звезда — молодой, очень молодой. Наверно, в его движении головой, когда он поднял ее, был протест; или в сиянии звезды на небе старик уловил насмешку над собой? Почему звезда должна быть всегда молодой, а человек не успеет повернуться, как уже состарился? Разве человек не величественнее звезды? Не об этом ли думал Михол Лински? Вдова не знала что именно, но что-то пугало ее в звезде. У нее появилось чувство, какое бывает у человека, если он вдруг приподнимается над обычной действительностью. Михол Лински как будто простерся перед алтарем в религиозной агонии. Старики, размышляла вдова, очень-очень странные, и ей казалось, что она никогда не поймет их. Глядя на непокрытую голову Михола Лински на фоне яркого неба, вдова подумала, а нет ли в его голове такого, что сделает его таким же великим, как звезда, таким же бессмертным, как звезда? Неожиданно Михол Лински пошевелился. Вдова точно видела это. Она видела, как он поднял руку и короткими быстрыми движениями вытянул ладонь со скрюченными пальцами — раз, два, три — в сторону звезды. Вдова не сводила с него глаз, и его движение было до того знакомым, личным, интимным, что она все поняла. Она поняла, что Михол Лински вовсе не думает ни о чем великом. Он всего лишь гвоздильщик! А глядя на сверкающую в небе Вечернюю Звезду, он думает о своей мастерской, о мехах, о железе, об огне, об искрах и о раскаленном металле, который можно превратить в гвоздь, пока он горячий! В своих фантазиях он уже взялся за молот и ударил по небу, где сверкала Венера! Юная красота звезды, веселившейся на бледном небе над ярко-красной полосой, всего лишь внушала ему мысль еще об одном гвозде! Даже если бы Михолу Лински посчастливилось поднять свое изрезанное шрамами лицо до самых звезд, он увидел бы в них искры, как в своей маленькой кузнице.
Кахир Бауз, как казалось вдове, смотрел вниз, на землю, с другого края надгробия, словно искал какие-то твердые предметы, чтобы расколотить их вдребезги. Старики сидели, повернувшись друг к другу спинами. Очень похоже, что у них вышел еще один спор, который закончился этим выражением обоюдного презрения. Вновь вдова пришла к выводу о неблагоразумии стариков, но не почувствовала возмущения. Слишком она привыкла к ним, чтобы восставать. У нее было чувство, если это можно назвать чувством, устоявшейся тупой терпимости к их маленьким слабостям.
Уже во второй раз положив руку на каменный поручень, вдова вновь подняла бледное печальное лицо над кладбищем Клун-на-Морав. И в это мгновение она ощутила себя невероятно обогащенной дневным опытом чувств. Эти чувства подарили ей великолепное ощущение одновременно реальности и нереальности жизни. Помедлив на лестнице, она ясно увидела то, что до этого мгновения было ей непонятно. Но как только на нее снизошли определенность и ясность, жизнь стала настоящим чудом. Все было очень похоже на сон, о котором толковал Малахи Рухан.
На выцветшей траве, в красных лучах солнца, лежали на спинах оба могильщика, молча вглядываясь в небеса. Все еще стоя на лестнице, вдова глядела на них. До последнего момента ее мысли об этих мужчинах были незначительными, скорее подсознательными. А ведь мужчины были красивыми и молодыми. Наверно, если бы могильщик был один, вдова одарила бы его большим вниманием. Смуглая красота совсем не то, если повторяется дважды. А красота этих мужчин, если можно говорить о красоте, была их общей, была красотой цветов, темных бархатистых анютиных глазок, и знаки этой красоты у одного в точности повторялись у другого. Приятная внешность одного, размышляла вдова, каким-то образом сводила на нет красоту другого. Слишком много от Питера было у Пола и от Пола — у Питера. Первый могильщик сводил на нет иллюзию уникальности в отношении второго могильщика. Нельзя сказать, чтобы вдова думала именно так, но она согласилась бы с тем, кто шепнул бы ей на ушко, что красивый мужчина, добивающийся ответных чувств у женщины, не должен иметь столь похожего на себя брата-близнеца. Женщине должно быть разрешено, если она нежно простилась с мужчиной, а свернув за угол, встретила его неотличимое подобие, убить его. Нет ничего более могущественного и нет ничего более хрупкого в жизни, чем индивидуальность. Если создать впечатление, что люди те же монеты, ничего не останется от иллюзии жизни. Близнецы-могильщики произвели на вдову примерно такое впечатление, неясное и не очень сильное, но она все равно потеряла к ним интерес. Тем не менее теперь, когда она медлила в нерешительности на ступеньках, все эти мысли в одно мгновение оставили ее. То, что было самым неуловимым и важным, то есть личность, тихо проявилось в близнецах, и они стали, по крайней мере для вдовы, такими же разными, как Северный и Южный полюсы. Двое мужчин одинакового роста и телосложения лежали, раскинувшись, в высокой траве. Но, глядя на них, вдова понимала, что один из мужчин знает о ее присутствии, а другому ничего не надо, кроме синего неба над головой. Первый близнец повернул голову, и ласковый взгляд бархатистых карих глаз встретился со взглядом вдовы. Глаза мужчины смотрели призывно. И вдова без труда прочитала призыв, словно мужчина выразил его словами. В следующее мгновение он уже с улыбкой вскочил на ноги. И сделал несколько шагов ей навстречу, но потом опомнился и остановился. Если бы он только поднялся и улыбнулся, вдова все равно бы поняла. Но он проделал несколько шагов, а потом встал как вкопанный! Другой близнец поднялся неохотно, и, пока он поднимался, вдове бросилось в глаза физическое несходство братьев. Да у них даже глаза были разными. У второго и в помине не было мягкого блеска. Пожалуй, он был поглупее. И пофлегматичнее. Всего лишь копия с оригинала! Вдова удивилась, как не заметила этого прежде. Сходство братьев было исключительно поверхностным. В это время оба старика, которые показались ей второй парой близнецов, медленно, преодолевая боль, поднялись с надгробия, и все четверо двинулись навстречу вдове. Собравшись с мыслями, вдова скромно подобрала юбки и стала спускаться по узким каменным ступенькам, чтобы ступить на глинистую землю Клун-на-Морав. Она не помнила себя от радости, вернувшись с долгожданной информацией.
— Ну же, — спросил Михол Лински, — вы видели Малахи Рухана?
Вдова поглядела на его выжженное, ироничное, желтое лицо и сказала:
— Да.
— И узнали что-нибудь для нас?
— Он сказал, что это под вязом.
Наступила тишина. Камнедробильщик повернулся на каблуках, его голова тоже сделала полукруг, но его острый взгляд был устремлен вверх, словно он обыскивал небеса в поисках вяза. У гвоздильщика, если так можно сказать, отвалилась челюсть, и он стал внимательно оглядывать все кругом, терпеливо и настойчиво, как рыбак, стоя на берегу, всматривается в пустое море. Могильщик по-мальчишески отвернулся, словно ему не хотелось видеть смущение вдовы; у этого мужчины были в высшей степени деликатные манеры. Другой могильщик флегматично молчал, разве что вокруг его глаз появились смешливые морщинки. Неприятное чувство охватило вдову. Ей показалось, что вот-вот должно случиться непоправимое.
— Под вязом, — буркнул камнедробильщик.
— Так он сказал, — отозвалась вдова. — Под вязом на Клун-на-Морав.
— Что ж, — проговорил Кахир Бауз, — найдем вяз, найдем и могилу.
Вдова не знала, как выглядит вяз. Так сложилась ее жизнь, что ей не нужно было различать деревья, и она не интересовалась ими. Собственно, ничего плохого в деревьях не было; поленья давали хорошее пламя; деревья и все, что давали деревья, было хорошо. Этого знания вдове было достаточно, как достаточно было многого другого из того мира, в котором она жила. Однако то, что у деревьев есть свои имена, может быть, даже семейные отношения, казалось вдове ненужным осложнением в устройстве Вселенной. Ну, что в этом пользы? Она еще могла понять, когда фруктовые деревья называют фруктовыми деревьями, ну а все остальные — просто деревья. И вдове совсем не нравилось, что одно дерево называется вязом, а другое ясенем, что у них всех разные имена и, наверно, разные характеры, свои особенности, индивидуальные черты. Как раз в это время, когда вяз Малахи Рухана заново поставил проблему поисков на Клун-на-Морав, сходство стариков со старыми деревьями — с их согбенностью, наростами, углами, заскорузлой корой, кривыми, кручеными-перекрученными стволами — было столь очевидным, что измученная вдова почувствовала себя совсем подавленной.
— Под вязом, — повторил Михол Лински. — Под вязом на Клун-на-Морав. — Он по-старчески рассмеялся. — Будь я рифмачом, уж непременно придумал бы рифму к вязу, проклят я буду, но придумал бы.
Вдова оглядела кладбище, в первый раз в жизни не случайно останавливая взгляд на том или другом дереве. Ведь если деревьев много, то и, не дай Бог, Малахи Рухану нетрудно ошибиться. Наверно, он принял за вяз какое-то другое дерево — вдове пришло в голову, что на кладбище должно быть много деревьев, похожих на вяз. В самом деле, ей казалось, что другие деревья, как бы ни хотели, не могут не быть похожими на вяз. В мире, должно быть, тысячи, миллионы людей, которые, как она, живут себе в полной уверенности, что знают, какой из себя вяз, а в действительности это может быть ясень, или дуб, или каштан, или бук, или даже тополь, береза, а то и тис. Малахи Рухан, похоже, никогда не давал повода усомниться в своем знании вяза. Он отпустил веревку, твердо уверенный, что на кладбище Клун-на-Морав есть вяз, а под этим вязом находится нужная могила — это если Малахи Рухан в своем старческом заскоке ничего не сочинил. Не сразу, но вдова все же поняла, что спор насчет деревьев между Михолом Лински и Кахиром Баузом станет, как любой спор стариков, настоящим праздником для них. Благодаря принесенной ею весточке от бондаря они развяжут очередную войну из-за каждого дерева на Клун-на-Морав; они опять будут усыпать кладбище трупами убитых аргументов, а в конце концов все равно не придут к единому мнению насчет вяза и могилы ткача. Медленно, печально оглядывая деревья на Клун-на-Морав, вдова в сложившихся обстоятельствах ощутила одновременно боль и облегчение. Облегчение наступило оттого, что Михол Лински и Кахир Бауз не имели возможности сразиться из-за деревьев; а больно ей стало, потому что здесь не было ничего похожего на дерево Малахи Рухана. На кладбище Клун-на-Морав вдова вообще не видела ни одного дерева. С трех сторон кладбище окружали каменные стены, а с четвертой — живая изгородь. Даже старикам было не под силу преобразить эту изгородь в вяз. Даже они не могли пару веток шиповника, вознесшихся над могилой, преобразить во что-либо, кроме шиповника. Вяз Малахи Рухана не существовал. И вряд ли кто мог сказать, существовал ли этот вяз когда-нибудь. Скорее вдова отдала бы душу ткача на волю воющих ветров, чем вернулась бы обратно к бондарю и стала опять задавать ему вопросы.
— Малахи Рухан, — сказал, вдруг став терпимым, Кахир Бауз, — страдает старческим слабоумием.
— Самый ближний вяз, который я знаю, — отозвался Михол Лински, — не меньше чем в полумиле отсюда.
— Тот, что в Каррае? — спросил Кахир Бауз.
— Ага, около мельницы.
Больше ничего сказано не было. Загадка могилы ткача все еще оставалась загадкой. Кладбище Клун-на-Морав умело хранить свои тайны. Но тем не менее ткача нужно было похоронить. Не мог же он вечно лежать дома. Словно очередной мучительный тупик придал ему храбрости, Михол Лински решительно и мужественно вернулся к своему изначальному мнению.
— Могила ткача тут, — сказал он и ткнул скрюченными пальцами в направлении развороченной под его давлением земли.
Кахир Бауз повернул к нему побелевший бегающий взгляд.
— А вы не боитесь, что Бог разразит вас прямо там, где вы сейчас стоите?
— Не боюсь — решительно не боюсь, — заявил Михол Лински. — Могила ткача здесь.
— Вы на этом настаиваете после всего, что мы видели и слышали? — продолжал вопрошать Кахир Бауз.
— Настаиваю, — твердо заявил Михол Лински. Он вытер губы тыльной стороной ладони и ринулся в атаку, как всегда, нагруженный подробностями. — Я видел, как тут опускали в могилу отца ткача. И я говорю вам, что важнее, в последний путь его провожал отец Оуэн Маккарти, в то время молодой рыжий викарий. Это уж потом он стал священником в Бенелоге. А я стоял вон там, тоже совсем молодой, со светлыми усиками; я держал шляпу в руках, а неподалеку — может быть, в пяти ярдах от мраморного надгробия Кирнаханов — стоял Пэтси Куртин, который потом допился до смерти, а с другой стороны стояла Гонор Костелло, которая бросилась на могилу, а потом вышла замуж за гуртовщика, великана датчанина с обвислыми плечами.
Терпеливо, бездумно прислушиваясь к вновь разгоравшемуся спору, вдова вспомнила слова Малахи Рухана и его рассказ о Гонор Костелло, которая упала на могилу больше пятидесяти лет назад. Ну и память у этих стариков! Положиться на них невозможно, и все же сколько достоверных подробностей они бросают друг другу в лицо! Может быть, в словах Михола Лински что-то и есть. Может быть — но на этом вдова остановилась. К чему все это? Эта могила не может быть могилой ткача; они все видели, что она заполнена массивными гробами. Тревожным движением вдова пригладила волосы на нежном овале головки под шалью. И в это мгновение она встретилась взглядом со взглядом могильщика; он смотрел на нее! И тотчас отвел взгляд, после чего принялся крутить пальцами кончики темных усов.
— Если, — сказал Кахир Бауз, — это могила ткача, то что тут делает Джулия Рафферти? Ну же, Михол Лински?
— Не знаю, что она тут делает, и, более того, мне плевать на это. Поверь мне, много всякого непонятного происходило на Клун-на-Морав, чего не должно было происходить. Не исключено, Джулия Рафферти не единственная находится там, где ей не место.
— Может быть, ей тут не место, — возразил Кахир Бауз, — но она тут, и, полагаю, тут и останется.
— Если она в могиле ткача, — воскликнул Михол Лински, — а я так считаю, то ее надо вытащить!
— Отлично, Михол Лински. Ты человек сильный, вот и вытаскивай ее. Но попомни мое слово, прикоснешься к одной косточке, придется все тут перевернуть.
— У меня нет страха, когда надо неправильное сделать правильным. Если дело доходит до восстановления справедливости, я не убегаю, а теперь нам предстоит восстановить справедливость между мертвыми и живыми.
— Ну что же, действуй, дорогой друг. Если Джулия не в своей могиле, то кто-то должен быть на ее законном месте, и тебе придется разобрать много из того, что правильно и неправильно, пока в конце концов у тебя голова не пойдет кругом от здешних мертвецов. Вот что тебе предстоит, Михол Лински.
Михол Лински плюнул на свой кулак и ударил по этому месту скрюченными пальцами. Кровь бурлила у него в жилах.
— Быть мне мертвым, как мой отец! — воскликнул он в традиционной манере, и в этот момент Кахир Бауз с негромким криком воинственно поднял свою палку. Они отправились вверх и вниз по тропинкам кладбища, словно поднимаясь и опускаясь на волнах своего гнева, а вдова не двигалась с места и чувствовала себя все более несчастной и опустошенной, да и ноги у нее уже стали ледяными, пока она стояла на холодной сырой земле. Близнец, который был не в счет, достал трубку и раскурил ее, не сводя тяжелого взгляда со стариков. А второй близнец неловко отошел в сторонку, откусил и выплюнул толстую табачинку, а потом встал всего в нескольких футах от вдовы, чтобы видеть ее; и вдова вновь почувствовала, что нравится ему все сильнее.
— А из них получилась неплохая парочка, из наших старичков, — заметил он, обращаясь к вдове. Он повернулся к ней лицом. Он был очень красивым.
— Думаете, они найдут могилу? — спросила она. В голосе у нее звучало волнение, и мужчина, который теперь повернулся к ней всем телом, заразился ее волнением.
— Трудно сказать. Никогда не знаешь, что может выйти. Эти два старичка вроде ловкие ребята.
— Бог даст, у них получится, — сказала вдова.
— Бог даст, — отозвался могильщик.
Однако у стариков ничего не получилось. Они только измучились, как в первый раз, и, тяжело дыша, кашляя, не сводя друг с друга взглядов, уселись на два могильных холма.
Могильщик поглядел на вдову.
Она чувствовала на себе ласковый взгляд его карих глаз.
— Опять будете сидеть возле ткача?
— Буду, — ответила вдова.
— Что ж, может быть, кто-нибудь — здешние старик или старуха — придет и скажет, где его могила. Да и вы поспрашивайте.
— Да, — произнесла вдова упавшим голосом. — Я поспрашиваю.
Могильщик помедлил и произнес сочувственно:
— Мы все могли бы поспрашивать.
В его голосе послышалась сочувственная заинтересованная нота, отчасти даже авантюрная.
Вдова повернула голову и, не прячась, улыбнулась мужчине.
— Я вам благодарна, — сказала она. — Все очень добры ко мне, — добавила она с легким печальным вздохом.
Могильщик подкрутил кончики усов.
Все слышавший Кахир Бауз поднялся на ноги и резко произнес:
— Я согласен оставить все, как есть.
Вид у него был такой, словно он приносил непомерную жертву. На самом же деле он думал о том, что ему предстоит провести еще один прекрасный день вместе с Михолом Лински на кладбище Клун-на-Морав. Он еще покажет старику Лински, кто такие Баузы.
— Я тоже не против, — сказал Михол Лински тоном человека, с которым никто не сравнится в великодушии. Он тоже думал об еще одном дне, который проведет на кладбище Клун-на-Морав, когда, с Божьей помощью, покажет Баузам, кто такие Лински.
После этого все отправились прочь с кладбища, впереди старики, за ними вдова, а могильщики помедлили, натягивая свои куртки и раскуривая трубки.
По дороге в город им пришлось одолеть небольшой подъем, и, когда старики взбирались наверх, вдова думала, до чего же тяжело им дался прошедший день. Ей стало боязно, как бы Кахир Бауз не лишился сил, прежде чем окажется на вершине холма. Она бы напоила его виски у себя дома, если в бутылке еще что-то осталось. Из двух стариков, несмотря на хромоту, Михол Лински гораздо легче одолевал подъем. Кстати, они шагали вровень, но держались далеко друг от друга, словно дорога между ними символизировала разрыв дружбы в результате спора о могиле ткача. Весь день им нравилось делать друг из друга врунов, и завтра, с Божьей помощью, они будут делать то же самое. Понимая смысл их враждебности, вдова с легким удивлением смотрела, до чего же старики не похожи друг на друга. Она не имела ни малейшего представления, что происходило в голове Кахира Бауза, которая висела, как поникшая фуксия. Откуда ей было знать о подъемах и падениях его размышлений, волнений, раздражений, наконец, ироничности, за которыми, возможно, он и сам вряд ли мог уследить. Никто — даже Кахир Бауз — не сказал бы точно, о чем он думает. Все, что знала вдова, это то, что Кахир Бауз неожиданно остановился как вкопанный. Что-то такое произошло в его голове, какое-то старое воспоминание дремало-дремало и вдруг проснулось, пошевелилось, запульсировало, стало теплым, стремительным, как молния в небе, и озарило светом его память. Как будто прожектор вдруг осветил темные закоулки его мозга. Из-за этого Кахир Бауз застыл на месте, тогда как Михол Лински продолжал путь без него. Вдова видела, как Кахир Бауз повернулся на каблуках и его голова на краю горизонтально развернутого тела обернулась кругом, как стрелка на часах. Вместо того чтобы указывать вверх на холм, то есть в ту сторону, где был дом, голова указывала вниз, на Клун-на-Морав. За этим последовали и вовсе фантастические действия — шарканья, вращенья, — каких вдове еще не приходилось видеть. Кахир Бауз хотел быстро сбежать вниз по дороге. Это было ясно. И Кахир Бауз был уверен, что он быстро бежит по дороге. Это тоже было очевидно. Однако на самом деле он легонько подпрыгивал, ставя палку впереди себя, но ни один прыжок не отдалял его от остальных. Своей нормальной походкой он мог бы добиться большего. Его прыжки были чудовищной пародией на прыжки кенгуру. К тому же Кахир Бауз кричал что-то совершенно непонятное. Глядя на него, вдова остановилась в изумлении, а потом ее лицо разгладилось, на нем появился румянец, глаза потеплели, исчезла печаль, и все ее тело затряслось в неудержимом приступе смеха. Кахир Бауз миновал ее, продолжая совершать фантастические прыжки, что-то непонятно крича и стуча палкой о землю, тогда как левая рука оставалась словно приклеенной к пояснице, осуществляя тормозную функцию.
Михол Лински оглянулся, и его лицо исказилось, когда он увидел, что творится с камнедробильщиком. Стащив с головы шляпу, он перекрестился.
— Защити нас, Господи, от греха! — воскликнул он. — Вот и старый Кахир Бауз повредился в уме. Недаром я еще днем заподозрил неладное. Нетрудно было понять, что что-то ужасное происходит у него в голове.
Вдова наконец-то справилась со своим смехом и тоже перекрестилась. Она сказала:
— Прости мне, Господи, мой смех и ткача, уже облаченного, но заждавшегося похорон.
Могильщик, который не был не в счет, поспешно поднимался по лестнице, но Кахир Бауз ударил его палкой, потом ударил еще, согнав вниз, и сам вновь оказался на Клун-на-Морав. Он ковылял по траве, то поднимаясь на земляную насыпь, то исчезая в яме, но упрямо продолжая путь, как судно в шторм; и опять он надолго погрузился в раздумья, показывая, однако, свою вечную палку, свой перископ, свой знак того, что он занят делом. Потом он устроился на земле, помеченной камнями с большими белыми знаками на них, и закричал всем, призывая в свидетели Господа, что это и есть могила ткача. Сначала могильщики не поверили, постояли в нерешительности, но потом переговорили между собой, а так как Кахир Бауз являл всем своим видом невиданную страсть, неистовость, кричал, вопил, брызгал слюной, показывая желтые зубы, стирал пот со лба, с трудом держался на подгибавшихся ногах, то принялись копать землю точно в том месте, на которое он показывал. Поглядев на это и поправив шаль на голове, вдова сошла на землю Клун-на-Морав, заметив, однако, что пара теплых карих глаз на мгновение остановила на ней свой взгляд. Встав немного поодаль, она с необычно бьющимся сердцем ждала результата. У могильщиков был такой вид, будто они каждую минуту готовы к любой неожиданности, поэтому копали с необычными предосторожностями, а Кахир Бауз наклонился над ямой и, каркая и кудахтая, требовал, чтобы они работали быстрее. Из ямы летела земля, черная и плодородная, судя по цвету, блестевшая, как золото, в сгущающихся сумерках. Два фута, три фута, четыре фута; через равные промежутки времени лопаты мощно вгрызались в землю, и пока еще ничего не происходило. Кахир Бауз весь дрожал от напряжения, опираясь на свою палку. Наконец в яме, открывшейся в древней земле, было уже пять футов. Лопаты остановились. Один из могильщиков посмотрел на Кахира Бауза и сказал:
— На этот раз вы правильно показали могилу ткача. Больше свободных мест тут нет.
Вдова потихоньку вздохнула и, поглядев на другого могильщика, немного помедлила в нерешительности, а потом позволила себе слабую благодарную улыбку, осветившую ее бледное печальное лицо. Взгляд мужчины обежал темнеющее пространство Клун-на-Морав.
— Все-таки я нашел могилу ткача, — крикнул Кахир Бауз, и его лицо озарилось неземным воодушевлением. Найди он сейчас философский камень, он и смотреть бы на него не стал. А вот могила ткача открывала ему путь к мудрости, перед которой склонится весь его мир. Торжествующе оглядевшись по сторонам, он произнес: — Где же Михол Лински? Что скажут люди о его осквернении могилы Джулии Рафферти? Джулия еще навестит его, а уж я бы с кем угодно встретился, только не с Джулией Рафферти. Куда подевался Михол Лински? Уж не стыдно ли ему показать свое лживое лицо? И что там Малахи Рухан говорил о вязе? Вот вам и вяз! Если у него сейчас на уме одни деревья, то пусть залезет на одно и повесится на своей веревке! Так куда же подевался старый Михол Лински со своей дырявой головой? Где он, я спрашиваю? Пусть придет сюда, на Клун-на-Морав, и я покажу ему могилу ткача в пять футов глубиной и без единой косточки, чистенькую и красивую, о какой можно только мечтать. Иди же сюда, Михол Лински, и я послушаю, как ты врешь своим желтым языком.
Непонятным образом он перескочил через могилу и отправился к лестнице, продолжая говорить на ходу.
Михол Лински притаился снаружи за стеной, когда Кахир Бауз повел могильщиков на новое место, и его лицо было искажено напряженным вниманием, почти мучительным. Потом, глядя поверх стены, он говорил себе:
— Тихо, тихо! Плевать на этого сумасшедшего. Ничего он не знает. Говорю я, ничего ему не известно. Тихо, тихо! Пусть себе копают. Не пройдет и минуты, как все станет ясно. Ох, что с ним сделают тогда! Он совсем свихнулся. Тихо, тихо, еще минута, и старый лунатик Кахир Бауз будет в моих руках. Вот уж он тогда попляшет у меня. Я выставлю его на посмешище всему миру. Я ему покажу. Пусть тогда поговорит. Уж я помучаю его. Все ему выскажу. А пока тихо!
Однако могильщики продолжали копать, а вскоре послышались восторженные крики, и у Михола Лински подогнулись колени. Он опустил голову, лицо у него пожелтело и исказилось, нервы напряглись до предела, и немного желтой пены появилось в уголках рта. Когда Кахир Бауз подошел к ступенькам, Михол Лински поскреб одной ногой другую чуть пониже икры и мысленно воскликнул, покоряясь судьбе: «Боже Милостивый, у него все-таки получилось! Он отыскал могилу ткача!»
Убитый горем, с трудом переводя дух, Михол Лински повернулся кругом и, держась тенистой стороны, поплелся вверх по холму. К тому времени, как Кахир Бауз подошел к каменным ступенькам, Михол Лински уже спускался с холма с другой стороны. Громкий крик Кахира Бауза лишь ускорил его шаги, и он исчез из виду, словно пес, которому грозят камнем.
Глаза могильщика, который был не в счет, следили за Кахиром Баузом, приближавшимся к каменным ступенькам. От души посмеявшись, он вытер пот со лба. Потом вылез из могилы. И повернулся к вдове со словами:
— Там пять футов. Верно, этого хватит. Вас устраивает?
Мужчина говорил с ней, не претендуя на особую почтительность. Для него она была четвертой женой ткача, и он обращался к ней, как к четвертой жене ткача. Это не осталось незамеченным для вдовы, но не обидело ее. Она окинула его спокойным взглядом, в котором не было обиды. С ее стороны не было ни обиды, ни обмана, ни ханжества. Бесстрастным взглядом она следила, как он воткнул лопату в землю. Крик Кахира Бауза отвлек мужчину, он рассмеялся и, прежде чем вдова успела произнести хоть слово, сказал:
— Старик Кахир своего не упустит. Мы еще услышим, как он догонит гвоздильщика.
И он исчез с глаз.
Вдова осталась наедине с другим могильщиком. Он вылез из ямы, плавно повернувшись всем телом, что не прошло мимо внимания вдовы. Потом он стоял, не говоря ни слова, возле насыпи и смотрел на вдову. Она тоже смотрела на него, и неожиданно тишина наполнилась непроизнесенными словами, летучими звенящими чувствами. Вдове была видна темно-зеленая стена, над ней темнеющая красная полоса, еще выше темно-серое небо, а прямо над головой мужчины — веселая мерцающая молодая звезда. На кладбище Клун-на-Морав опустились таинственные сумерки. Вдова вдыхала аромат прохладного ветра, запах остывающей земли, но, как ни странно, ей было тепло и очень приятно. У мужчины светились глаза, что было заметно даже в тени, скрывавшей его лицо. Куча земли рядом с ним походила на нечто вроде миниатюрной бронзовой горы. Он стоял, не двигаясь, в напряженном ожидании чего-то важного в своей жизни. А вдова думала, что ее окружает странный мир, что ей никогда не приходилось видеть такого неба, что голова мужчины на красном фоне — чудо, поэма, к тому же над ней горит яркая молодая звезда. Вдова знала, что они еще минуту пробудут в таком состоянии и эта минута будет как вечность для них. И еще она знала, что рано или поздно этот мужчина придет к ней и она с радостью примет его. Возле каменных ступеней слышался старческий голос Кахира Бауза. И если не считать этого, то на земле стояла небесная тишина. Неожиданно вдова почувствовала слабость. Все поплыло у нее перед глазами. Никогда еще мир не казался ей таким странным, таким похожим на сон, о котором говорил Малахи Рухан. Движение мужчины, стоявшего возле кучи земли, стало для нее предостережением, пробудило в ней страх и радость. Она тоже сделала ответное движение, отступила на шаг назад. В следующее мгновение мужчина перепрыгнул через разверстую яму.
Едва слышный звук слетел с ее губ, а потом она почувствовала на своем лице его горячее дыхание, и его губы прижались к ее губам.
Минутой позже Кахир Бауз вернулся в сопровождении второго брата.
— Я ему покажу, — сказал Кахир Бауз. — Старый гвоздильщик от меня не уйдет. Еще сегодня на поминках ткача я все скажу ему!
Могильщик, стоявший за его спиной, не сдерживал смеха. Он покачал головой, привлекая внимание своего брата, который стоял в одном шаге от вдовы. Он сказал:
— Пять футов.
Потом он заглянул в могилу и посмотрел на вдову:
— Вас устраивает?
Несколько секунд она не отвечала, а когда заговорила, ее голос звучал низко и чисто, как голос юной девушки. Она сказала:
— Меня устраивает.
РАССКАЗЫ
Майкл и Мэри
Много дней Мэри собирала шерсть на незапаханной затвердевшей части поля. Шерсть приносили перед стрижкой овцы. Когда у Мэри набиралась полная корзинка, она шла к воде и стирала шерсть. После стирки та становилась мягкой, белой, шелковистой. Мэри клала ее обратно в коричневую корзинку, которую всегда брала с собой, и прижимала длинными изящными пальчиками. Она уже встала, чтобы идти дальше, поднимая корзинку повыше, как ее взгляд последовал за узкой протокой, которая, извиваясь, текла через болото.
Далеко за желтой протокой проследить было невозможно. День близился к концу. Над великим Алленским болотом повис туман, который быстро распространялся вширь. Вдалеке из тумана вынырнул корабль. Во-первых, он был, судя по всему, очень далеко, а во-вторых, плыл как будто на облаке. Нежный розовый свет с неба будто захватил и корабль тоже, и он заблестел как старое золото. Приближался он неторопливо, ведь его тянула всего одна лошадь, и был похож в сумерках на «Золотой барк». Склонив набок каштановую головку, Мэри не сводила глаз с корабля. Лошадь шагала неторопливо, терпеливо поднимая и опуская голову при каждом шаге. Из болота показался журавль и полетел, захлопав ленивыми крыльями, наперерез кораблю. Он первым достиг узкого пролива и исчез в тумане.
Человек, который управлял большим рулем на «Золотом барке», поначалу был едва различим и слишком бесформен, однако Мэри не могла отвести глаз от неторопливо двигавшейся фигуры. Она думала о том, как красиво поворачивается рука на руле, что ведет «Золотой барк» сквозь сумерки.
Вдруг Мэри поняла, что корабль находится куда ближе, чем она полагала. И люди стали видны отчетливо, особенно стройная фигура у руля. Она даже различала канат, который тянулся от лодки к лошади и который то натягивался, то слабел. Один раз, упав, он поднял фонтанчик воды, просиявший серебром. Мэри видела и хлыст под мышкой у человека, шедшего рядом с лошадью. Теперь она могла считать тяжелые шаги лошади и была поражена длиной грязных волос за копытами. И все-таки ее взгляд почти не отрывался от фигуры за рулем.
Мэри подалась немного назад, чтобы видеть, как идет мимо нее «Золотой барк». Он пришел из неведомых, дальних краев и, когда пересечет болото, отправится в другой неведомый мир. На носу дремал краснолицый мужчина. Мэри улыбнулась и кивнула ему, однако он как будто ее не заметил. Может быть, и в самом деле не заметил, потому что спал. Еще один мужчина шел рядом с лошадью, не отрывая глаз от земли под ногами. Проходя мимо Мэри, он не поднял головы. Мэри видела, как у него двигались губы, и слышала, что он что-то говорил. Наверно, молился. Это был сморщенный бесформенный человечек, который старался идти шаг в шаг с лошадью, по крайней мере, пока болото не осталось позади. Зато Мэри почувствовала на себе взгляд рулевого и тоже посмотрела на него.
В сумерках его лицо скрывала тень от шапки с козырьком. Однако, судя по фигуре, он был гибок и молод. Когда она подняла голову, он улыбнулся, и она заметила, как блестят у него зубы. Потом лодка прошла мимо. Мэри не улыбнулась в ответ на улыбку рулевого. Она отступила на шаг и больше не шевелилась. Один раз рулевой оглянулся и неловко коснулся шапки рукой, но Мэри не показала виду, будто заметила это.
Когда лодка оказалась довольно далеко впереди, Мэри уселась на берегу, поставила рядом корзинку с шерстью и стала смотреть вслед «Золотому барку», пока тот не скрылся во тьме. Она еще долго сидела на берегу, о чем-то раздумывая в беспредельной тишине болот. Когда же наконец встала, канал внизу был прозрачным и холодным. Мэри заглянула в него. В воде сияла бледная нарождающаяся луна.
Частенько Мэри простаивала возле двери в хижину, глядя, как суда, будто черные улитки, тянулись по узкой протоке в болоте. Но теперь не все казались ей черными улитками. Среди них был «Золотой барк». Стоило ей увидеть его, и она улыбалась, не сводя глаз с фигуры рулевого.
Однажды вечером Мэри шла вдоль протоки, когда показался «Золотой барк». На сей раз светило солнце и все было видно. Но, несмотря на прогнившие, съеденные червями и заляпанные варом доски, для Мэри он совсем не потерял в своем волшебстве. Маленький сморщенный лошадник с опущенной головой и шевелящимися губами шел рядом с лошадью. Мэри слышала его тихую ругань, когда он проходил мимо. Краснолицый знакомец, перегнувшись через край, набирал в бутылку, привязанную за веревку, воды и монотонно напевал балладу. Высокий, смуглый, изящный молодой человек стоял возле трубы. Мэри поискала взглядом рулевого.
В смущении она подалась назад, когда разглядела его лицо. А позади нее рос единственный на всем берегу куст боярышника. И как раз в это время он был весь в цвету. Едва Мэри дотронулась до веток, как на нее посыпался снег из белых лепестков. И на голове у нее получилось нечто вроде венка. Рулевой приподнял головной убор и улыбнулся девушке. Мэри и в голову не приходило, что у него может быть такое азартное, такое мальчишеское лицо. Наконец она смущенно улыбнулась ему в ответ. И он, просияв, вновь коснулся рукой головного убора.
Краснолицый стоял возле открытого люка, держа в руках бутылку с водой. Он поглядел на Мэри, потом на рулевого.
— Эй, Майкл! — насмешливо позвал его краснолицый. Юноша отвернулся, а Мэри почувствовала, как румянец заливает ей лицо.
— Майкл! — Мэри тихонько повторяла его имя. Боги открыли ей один из своих величайших секретов.
Она смотрела вслед «Золотому барку», пока две квадратные щели на корме, служившие и иллюминаторами, не превратились в узкие японские глазки. Потом она услыхала гудок. Этот гудок звучал всегда, извещая начальника шлюза о приближении корабля. Но ближайший шлюз был в полумиле от того места, где стояла Мэри. Кроме того, гудок был длинным и низким, а не коротким, резким, командирским, каким обычно сообщают о приближении. Улыбаясь своим мыслям, Мэри прислушивалась к низкому гудку. Ведь гудок всегда был таким, когда «Золотой барк» шел мимо единственного боярышника.
Мэри подумала, как замечательно, что «Золотой барк» должен пройти шлюз как раз в тот день, когда она с корзинкой пойдет на рынок в дальнюю деревню. Она постояла в нерешительности. Майкл заглянул ей в глаза, и в его взгляде было одобрение.
— Идешь в Бохермин? — спросил краснолицый.
— Ага, в Бохермин, — ответила Мэри.
— Мы можем подвезти тебя до следующего шлюза, — предложил он. — Это сократит тебе путь. Иди сюда.
Мэри помедлила, когда он протянул ей большую руку, и он, заметив нерешительность в ее взгляде, обернулся к Майклу:
— Ну же, Майкл.
Майкл подошел к ним и тоже протянул руку. Мэри оперлась на нее и ступила на борт судна. Краснолицый хохотнул. Мэри обратила внимание, что смуглый человек, стоявший возле изогнутой трубы, ни разу не отвел взгляда от течения впереди. Лошадник принялся понукать лошадь, чтобы она вышла на берег. И животное начало собираться с силами, напрягая мускулы на ногах, блестевших под шерстью.
От одного шлюза до другого было около полумили. Майкл ни на мгновение не отлучился со своего места. Один раз Мэри взглянула на него и подумала, что у него застенчивое, но очень азартное лицо, самое азартное лицо, какое ей только довелось видеть у людей, приплывающих из-за болота, из большого мира.
Потом, когда у Мэри выдавалось время, у нее вошло в привычку путешествовать на судне. Она всходила на палубу и примерно милю путешествовала вместе с Майклом на «Золотом барке». Однажды, когда они вот так плыли вместе, Майкл что-то положил ей в руку. Это был брелок, но странный и сверкавший, словно золотой.
— Мне подарил его один необыкновенный матрос, — сказал Майкл.
На другой день, когда Мэри была на барке, они попали в непроглядный туман, какой часто сходил на болото. Краснолицый вместе со смуглым спрятались внизу. Мэри же огляделась и рассмеялась. Но Майкл распахнул для нее свой дождевик. Когда Мэри скользнула внутрь, Майкл укрыл ее. Дождь бил по ним, но им это было нипочем, потому что Майкл старательно укрывал их обоих дождевиком.
— Ты промокнешь, — сказала она.
Майкл не ответил. Она видела, как азартное лицо приближается к ней, и сама чуть-чуть придвинулась к парню, чувствуя мощь его рук, сомкнувшихся на ней. И они поплыли вместе на «Золотом барке» в сверкающие дали, принадлежащие богам.
— Майкл, — всего один раз прервала молчание Мэри, — разве это не прекрасно?
— Прекрасен безбрежный океан, — ответил Майкл. — Я всегда думаю о том, какой там, за болотом, океан.
— Безбрежный океан! — ужаснулась Мэри. Она никогда не видела безбрежного океана. А тут и дождь кончился. Когда двое мужчин вышли на палубу, Майкл и Мэри вместе стояли возле руля.
Потом Мэри долго не плавала на судне. Ей пришлось много работать на том самом поле, которое к этому времени перепахали. Однажды поздно вечером послышался гудок. Он был долгим, очень нежным и низким. Мэри села в кровати, прислушиваясь, и раздвинула губки, вспомнив Майкла с «Золотого барка». Ей слышалось, как звук стихает вдалеке. Тогда она опять легла на подушку, сказав себе, что пойдет к нему на обратном пути.
Однако человек, стоявший у руля, не был Майклом. Когда Мэри подошла к тому месту, где краснолицый бросал на берег канат, вместо Майкла у руля стоял невысокий незнакомый мужчина с зябким рябым лицом.
Краснолицый закрепил канат и повернулся к Мэри.
— Майкл отправился путешествовать, — сказал он.
— Путешествовать? — переспросила Мэри.
— Ага. Там, где кончается канал, он всегда говорил в доке с иностранными матросами и не сводил глаз с высоких мачт на их кораблях. Я знал, что его не удержать на месте.
Мэри простояла на месте, пока «Золотой барк» не отправился дальше в путь. И теперь он казался ей игрушечным корабликом в деревянном ящике.
— На его теперешнем корабле три мачты, — проговорил краснолицый, перед тем как начал готовиться к отплытию. — Я видел его перед выходом в море. Майкл теперь путешествует под большими парусами. Ему всегда хотелось повидать океан, в его жилах течет вольная кровь морского бродяги.
И краснолицый, который был капитаном маленького судна, посмотрел на узкую протоку впереди.
Мэри не сводила глаз с уплывающего «Золотого барка» и смешной фигурки рулевого. Освещенная бледной луной, она не двигалась с места, лишь крутила в пальцах маленький брелок, пока не выронила его.
Раздался негромкий всплеск, и разбилось отражение луны в воде.
Хайк и Калькутта
Капитан корабля стоял рядом с маленькой черной печкой и наливал что-то в эмалированные кружки. На его лице отражались блики печного пламени. На полу по-восточному на корточках сидел мужчина с рябым лицом. Еще один поразительно смуглый мужчина сидел лицом к зажженной свече, прислонившись спиной к бочонку с водой в углу. Кожа у него была как дубленая, и он никогда не мылся. Его прозвали Калькуттой, потому что, как говорили, человек с таким лицом мог прийти только из Черной Калькутты. Когда он откидывался на бочонок, его мерцавшие в полутьме глаза останавливались на лошаднике по прозвищу Хайк[3].
Хайк расположился в дальнем конце каюты и что-то искал в своей койке. При этом он не переставал говорить сам с собой. Даже когда он переступил через койку, его чахлая фигурка не попала в круг света, созданного свечой.
— Хайк, — окликнул его капитан, — ты выпил только одну кружку. Возьми еще.
Хайк не ответил, даже не повернул головы. Он был глухой.
— Хайк! — крикнул капитан.
Но тот лишь что-то пробурчал едва слышно.
Калькутта наклонился над решеткой, выбрал тлеющий кусок угля и бросил его в Хайка. Уголек попал Хайку в голову, отчего он резко развернулся, и глаза у него мрачно сверкнули, как у кошки.
Капитан хохотнул.
— Пей! — сказал он. И протянул кружку. Но Хайк не пошевелился. Калькутта взял из рук капитана кружку и подал ее Хайку.
Хайк покачал головой.
Тогда Калькутта стремительно дернул рукой, и лицо Хайка стало мокрым. Ручьи стекали по его щекам, с носа и подбородка бежали на пол быстрые капли.
Калькутта со смехом отвернулся. Рассмеялись и капитан корабля, и рябой матрос. Хайк выбранился и сделал шаг вперед, угрожающе подняв слабую руку. На лице Калькутты появилась жуткая гримаса, когда он увидел это. И Хайк, заметив ее, уронил руку. Он подошел к своей койке, вытер лицо одеялом, потом свернул одеяло, сунул его под мышку, поднялся по трапу и вылез наверх, через люк, на палубу.
Небо было все в звездах. От воды исходило ощущение покоя и прохлады, земля вокруг замерзла и затихла. Хайк наклонился к доске, служившей сходнями. Она была будто серебряная лента, украшенная россыпью крошечных бриллиантов. Нерешительно ступив на нее, Хайк сошел на берег.
— Вот черт! Он свалился.
Капитан выругался, услыхав приглушенный крик и плеск воды. В два прыжка он оказался наверху, рябой помчался следом. Калькутта тоже стал подниматься по трапу, но не спеша и тихонько насвистывая веселый мотивчик.
Щуплый Хайк уже выбирался на берег, когда капитан протянул ему руку. Стоя на берегу, Хайк дрожал с головы до ног, и вода ручьем бежала по его одежде. Но одеяло он крепко держал под мышкой.
— Весь вымок, — заметил рябой, — и замерз.
Плохо владея руками, дрожащий Хайк чувствовал себя совсем несчастным, стоя в двух лужицах, собиравшихся у его ног. Он поглядел на судно. Калькутта молча смотрел с палубы на происходящее на берегу. Хайк был в нерешительности.
— Хайк! — вдруг крикнул Калькутта. И опять он не удержался от насмешки.
Хайк отвернулся и зашагал по дороге, хлюпая башмаками и заливая все вокруг водой. Позади себя он оставлял узкий ручеек.
— Пошел в конюшню, — сказал капитан.
— Ага, — поддакнул Калькутта, — теперь заляжет там.
Утром, едва забрезжило, судно отправилось дальше. Хайк пришел затемно, ведя под уздцы лошадь и держа под мышкой плетку. По дерганью веревки все, кто оставались на судне, поняли, что Хайк понукает лошадь, мол, пора за работу.
— Да-вай, да-вай! — раздавались его крики. Лошадь стучала копытами по твердой земле, и судно медленно двинулось с места. Предстоял долгий путь. В перерывах на еду Хайк держался наособицу. Весь день, едва он ступил на берег, слышно было, как он перхал и кашлял. Несколько раз он до того заходился в кашле, что терял ритм, и лошадь поворачивала к нему голову. Хайку приходилось тянуть руку и хвататься за поводья возле самого мундштука. Тогда лошадь наклоняла голову, будто давала ему разрешение на это. Когда же меняли лошадей, Хайк не замечал разницы в их отношении к нему; все лошади знали его руку.
— Опять у него начался гнилой кашель, — заметил капитан, стоя на палубе.
Калькутта вытянулся вдоль трубы и глядел на Хайка, тихо насвистывая, едва кашель усиливался. Один раз Хайку пришлось резко остановиться, и лошадь, заржав, тоже остановилась. С палубы то ли насмешливо, то ли командно Калькутта громко пропел:
— Да-вай!
Услышав его, лошадь неловко шагнула вперед, еще раз, еще, пока не почувствовала удерживающую ее веревку. Так же инстинктивно Хайк плелся за ней. Всю дорогу он не выпускал поводья из рук, и его рука была так близко к мундштуку, что вскоре покрылась пеной изо рта лошади.
Когда дневной переход подошел к концу, Хайк отправился вместе с лошадью в конюшню.
— Он опять собирается спать в конюшне, — заметил капитан, и Калькутта вроде бы улыбнулся, блеснув зубами.
Утром Хайк не пришел. Тогда капитан сам отправился за ним и, не доходя до конюшни, позвал его.
Ответа не было. Капитан подошел к двери и толкнул ее. В лицо ему пыхнуло горячим смрадом. Света не хватало. Капитан разглядел лишь контуры деревянных перегородок да ограду ясель возле стены. Лошадь перебирала ногами, стуча железными подковами по булыжнику. В конце концов капитан увидел ее.
— Хайк! — позвал он.
Лошадь опять перебрала ногами, повернула голову и негромко заржала. Капитан обратил внимание, что в темноте от его дыхания идет пар в сторону света. Он подался вперед и положил руку на круп лошади. Она дрожала.
Только теперь капитан увидел прямо у своих ног маленького чахлого человечка на постели из сгнившей соломы. Он наклонился и разглядел лицо Хайка. Оно было бледным и обострившимся, особенно жутким в полумраке. Капитан протянул было руку, но тут ему в голову пришла страшная мысль.
А что, если Хайк умер?
Капитан отпрянул. Странная тишина в конюшне наводила жуть. Здесь была атмосфера жалкой трагедии.
Почему лошадь дрожит? Подозрение переросло в уверенность. Капитан вернулся на судно.
— Хайк лежит в конюшне, — сказал он. — Не шевелится. Наверно, умер.
Рябой поднял шапку и перекрестился. Калькутта презрительно хмыкнул.
— Думаю, у него не было друзей, — в конце концов произнес капитан. Он говорил о Хайке в прошедшем времени.
— Да, друзей у него не было. Откуда? — отозвался Калькутта.
Что-то в его голосе насторожило остальных, и они посмотрели в его сторону. А Калькутта уставился невидящим взглядом впереди себя. Капитану показалось, что он уловил что-то на темном лице Калькутты. Похоже, это была неизбывная ненависть — такую ненависть испытывает только человек со сломанной судьбой.
— Что тебе известно о Хайке? — строго спросил капитан.
— Ничего, — коротко ответил Калькутта.
— Сходи за священником и врачом. Заяви в полицейский участок, — приказал капитан рябому матросу.
— Слушаюсь, — ответил тот и отправился вниз за теплой одеждой.
Капитан прошелся по палубе, наклонился над желтой водой. Он предавался раздумьям, которые нередко завладевают человеком, неожиданно столкнувшимся со смертью, с таинственной смертью, которая крадучись приближается к своей жертве. Капитана передернуло, едва он вспомнил жуткое лицо Хайка в конюшне. Потом ему пришло в голову, что жизнь — странная штука, за которой следует наказание в виде смерти. Увы, и у него не нашлось ответа на вопрос о жизни и смерти, уже много веков мучающий философов.
Прошло немного времени, и капитан почувствовал, что Калькутта стоит рядом с ним. Последовавший разговор они вели в приглушенных тонах.
— Послушай, босс!
— Что?
— А ведь я был женат.
— Да ну?
— Был. Эту женщину я заполучил не совсем обычным образом. Она обещалась другому. И бросила его ради меня. Мне известно немного. Мы почти не говорили о нем.
— Правильно. Она хотела забыть.
— Для нее это было проще простого. Она забыла его, а потом забыла и меня.
— Как это?
— Вот так. Она забыла меня, потому что бросила. Ушла к другому.
Капитану было непонятно, зачем рассказывать об этом, но, по крайней мере, безобразное угрюмое лицо Калькутты немного прояснилось.
— Сочувствую, — с неловкостью проговорил капитан.
Калькутта рассмеялся, но коротко и неприятно.
— Да нет, ничего. Когда она ушла, я не очень расстроился.
— Да?
— Тяжело было то, что она ушла к мужчине, которого я ненавидел. Для меня было унижением, что она ушла к такому мужчине. Она ушла к Хайку.
— Так вот почему ты все время сводил с ним счеты?
— Я преследовал его. И сюда пришел из-за него. Он знал это. Я оставался тут, потому что хотел посмотреть, как он будет умирать на берегу, выхаркивая свои внутренности. Никогда еще не чувствовал себя таким счастливым, как вчера, когда он заходился в кашле. И он отлично это знал, поэтому, думаю, не мог протянуть долго. Из-за той женщины я возненавидел его сильнее всех на свете.
— А что стало с женщиной? Где она теперь?
— Где она? — повторил вопрос Калькутта, не сводя глаз с узкой полоски воды. — Откуда мне знать? Надеюсь, что в аду.
Он вернулся на свое привычное место возле трубы.
До судна донесся крик рябого матроса с берега. Он показывал на что-то рукой. Капитан посмотрел в том направлении. Из конюшни, ведя лошадь, шел Хайк.
Приблизившись к судну, он поднял голову. Вид у него был болезненный, но в глазах горел живой огонек. Тем не менее капитану показалось, что он видит воплощение беспредельного упорства и затаенного вызова, когда Хайк смотрел на смуглого мужчину возле трубы.
— Я проспал, — сказал Хайк. — Голова разболелась.
Вскоре судно продолжило свой путь, и Хайк кашлял намного меньше, чем накануне. На небе приятно светило солнце и согревало воздух. Усмешка на лице смуглого мужчины возле трубы стала еще очевиднее.
Едва появилась возможность, капитан вновь заговорил с Хайком. Ему было трудно представить почти горбатого, несчастного человечка, который стоял перед ним, участником рассказанной Калькуттой истории. Да кто разберет, кому что предназначено, решил он в конце концов.
— Хайк, — спросил он, по привычке грубовато, — ты был женат?
Хайк поднял на него трогательные большие глаза, какие бывают у не очень здоровых душевно людей. И капитан разглядел в них такое чувство, что еще сильнее ощутил необыкновенность Хайка.
— Был… И не был, — сказал Хайк и закашлялся.
Он перевел взгляд на «Золотой барк» и мрачную фигуру возле трубы.
— Одна у меня была, которую я считал женой, — еще более прочувствованно признался Хайк.
— Ага. Хорошо, — отозвался капитан со всей серьезностью, понимая, что в сложившихся обстоятельствах не может допустить даже намек на юмор.
У Хайка увлажнились глаза.
— Она была ангелом, — сказал он, и у него дрогнул голос.
Здравомыслящему капитану удалось совладать со своим лицом.
— Где же она теперь? — спросил он как бы случайно.
Хайк задумался. Ему надо было успокоить свои взбунтовавшиеся чувства. И надо было собраться с силами, чтобы ответить.
— Она ушла, — признался он наконец не без таинственности. — Надеюсь, она в раю, — добавил он после короткой паузы.
Капитан вернулся на судно. То, что когда-то было настоящей трагедией, теперь представлялось в несколько комичном свете. Оказавшись рядом с Калькуттой, он сказал, тоже как бы случайно:
— Я знаю, где теперь твоя жена.
— Не хочу ничего слышать, — отозвался тот. — Уверен, она в аду.
— Да нет. В раю.
Калькутта хрипло рассмеялся:
— А я-то сразу не понял.
— Не понял чего?
— Видно, дьявол не выдержал ее присутствия в аду.
Капитан прошелся по палубе. Он смотрел на заходящее солнце. Несколько деревьев решительно выступали вперед на фоне других деревьев. Потом он поглядел на Хайка, который вышагивал по берегу рядом с лошадью, и было что-то упрямое, неправильное, смешное в его горбе не горбе. Калькутта стоял возле трубы и горящим, немигающим, непримиримым взглядом следил за своим бывшим соперником. Он был похож на собаку-ищейку, поглощенную необычной бесшумной охотой.
Поразмышляв о судьбах двух мужчин, капитан вновь пришел к выводу, что не может объяснить, тем более решить эту задачу. И ничего комического в ней не было. В розовом свете завершающегося дня ему никак не удавалось избавиться от ощущения человеческой трагедии, разворачивавшейся на желтой реке.
Пожав плечами, капитан взялся за руль.
Дом Нэн Хоган
Когда миссис Пол Мэнтон отодвинула щеколду и распахнула дверь в дом Нэн Хоган, она словно приросла к полу из-за явившегося ей зрелища.
Лежа на полу и опираясь на камин, Нэн Хоган предстала перед ней в куче причудливых платьев стародавних времен, или, как сказала миссис Мэнтон, в «великолепии прошедших лет», собранном воедино «на протяжении не одного десятилетия и не одним поколением». Тем временем упрямая голова Нэн Хоган и ее плечи оторвались от подушек, и ее единственный серо-стальной глаз впился в миссис Пол Мэнтон с неколебимым и нескрываемым неудовольствием.
— Господи прости, что это нашло на вас, Нэн Хоган? — спросила миссис Мэнтон.
— Слабость одолела, — ответила Нэн Хоган, как всегда, не скрывая раздражения.
— И огонь не горит, — проговорила миссис Мэнтон и двинулась к плите.
— Ну и что? Надо быть благодарным за искру жизни, особенно если живешь среди людей, которым лень прийти и поинтересоваться, жива ты еще или умерла.
С этими словами Нэн натянула на себя еще несколько тряпок. Миссис Мэнтон ничего не ответила. Она принесла охапку торфа из ящика в углу и разожгла огонь в камине.
— Когда вам стало хуже? — спросила она, помахивая фартуком над огнем.
— Вечером, мэм, — холодно отозвалась Нэн. — Если вас интересует точное время, боюсь, не смогу удовлетворить ваше любопытство.
— Ревматизм? — продолжала спрашивать миссис Мэнтон, не обращая внимания на тон Нэн Хоган.
— Нет, мэм, не ревматизм, потому что тогда у меня болят четыре кости.
Миссис Мэнтон подала больной горячего молока в кружке.
— Я думала, это как раз то место, — говорила Нэн Хоган, попивая молоко, — где женщина может умереть на полу, и рядом не будет ни одной христианской души, разве что вечно спящая кошка.
Нэн сделала слабое движение ногой в куче тряпья, чтобы выгнать сонную кошку, пристроившуюся в рукаве старого жакета. Но кошка лишь мягко перекатилась на другой бок и уютно свернулась в остатках когда-то великолепной мантильи.
— А крикнуть вы не могли, позвать на помощь, стукнуть чем-нибудь?
— Конечно же, могла, — с сарказмом отозвалась Нэн, — если бы у меня были силы. Но что поделать с телом, если на него нападает слабость? Я просматривала старые платья, нельзя ли сшить из чего-нибудь юбку, когда, увы и ах, силы покинули меня. Ну, я и легла, мэм, там, где стояла, а платья натянула на себя, чтобы не умереть от холода.
— Я постелю вам постель, — сказала миссис Мэнтон, отправляясь в соседнюю комнатушку.
— Какая разница, где гнить, — продолжала Нэн тем монотонным металлическим голосом, который уже давно не действовал на нервы миссис Мэнтон. — Но я думала, каким отличным местом предстанет перед всем миром Килбег, когда газеты напечатают, что старуха умерла тут без заботливого врача и милосердного священника.
Миссис Мэнтон принялась с грохотом двигать мебель. Это был ее способ отвечать на нестерпимый тон Нэн, которая подняла голову, заслышав шум в соседней комнате. Когда она заговорила вновь, ее голос стал еще более визгливым, пронзительным.
— И кстати, — крикнула она, — в Килбеге есть такие, которые ждут не дождутся, когда я умру. Есть одна охотница до дома в Килбеге, она-то уж точно на коленки встанет, чтобы поблагодарить Господа за мою смерть перед плитой в компании одой лишь кошки.
По какой-то причине именно в это мгновение в соседней комнате упал стул, и Нэн Хоган с выражением мрачного удовлетворения откинулась назад. В дверях появилась миссис Мэтон и принялась прибирать в кухне. Потом она собрала все тряпье, окружавшее Нэн Хоган, в большую кучу возле стены. Когда же дошла очередь до самой Нэн Хоган, силы как будто оставили миссис Пол Мэнтон. Нэн оказалась настолько беспомощной, что не могла подняться на ноги.
— Разве я не говорила, что стала калекой? Полагаю, мэм, вы принимаете меня за лгунью и мошенницу, тогда как я уж точно на краю могилы.
— У тебя судороги в ногах, Нэн Хоган, — отозвалась миссис Мэнтон. — И не удивительно. Позову-ка я миссис Денни Хайнс.
Пока миссис Мэнтон бегала за помощью, Нэн Хоган сидела на полу, поглядывая в окошко немигающим мрачным глазом, который придавал ей жуткий вид. Миссис Пол Мэнтон и миссис Денни Хайнс со всей возможной осторожностью помогли ей улечься на кровати.
— Я вам признательна, — сухо и не без насмешки произнесла Нэн. — Теперь мне уж недолго беспокоить килбегцев.
— Тим О’Халлоран будет тут завтра, — сказала миссис Мэнтон. — Он поможет. Наверно, сможет послать за врачом.
— Какое счастье, — ответила, коротко хохотнув, Нэн. — Почему бы не сказать, что Килбег устроит роскошные похороны, когда наконец избавится от меня.
За оставшийся день женщинам пришлось выслушать немало подобной критики в адрес Килбега.
Когда весть о болезни Нэн Хоган распространилась по Килбегу, все, у кого нашлась хоть толика времени, «пришли навестить несчастную».
Соответственно, всю вторую половину дня нескончаемый поток посетителей, спустившийся с каменных ступеней, тянулся по узкой дороге к дому Нэн Хоган.
Ее дом стоял в самой низине, так сказать, выставив себя из неровной цепочки других домов, да еще повернувшись к ним задом. Строившийся Килбег никогда не знал власти архитектора или здравого смысла инженера. Здесь не интересовались ни проектами, ни планами, ни видами, ни размерами. Дома были поставлены, как кому в голову взбрело, то есть при условии абсолютной личной свободы. Один дом, скажем так, плевать хотел на другой и демонстрировал это всем своим видом. Если, например, хозяин был человеком, любящим общество, то он ставил свой дом с оглядкой на соседей. Если же ему нравилось уединение, то он уходил подальше от дороги или в низину. Если он был агрессивен или самолюбив, то выбирал командную высоту, а если у него был отвратительный характер и он хотел досадить односельчанину, то строился прямо перед входом в дом врага, чтобы тому приходилось постоянно проходить мимо и вся его жизнь была как на ладони. Итак, дома килбегцев ясно говорили о характере их владельцев, так что взглянешь на них — и очевидно, какие люди живут под их крышами. Дом Нэн Хоган откровенно выражал отношение Нэн к Килбегу, потому что, куда ни стань, одним из углов дом Нэн обязательно тыкал в остальных.
Нэн Хоган весь день просидела на кровати в подушках, принимая гостей. Каждого следующего посетителя она мерила своим единственным глазом. И язык ни разу не отказал ей в едкой насмешке. Здороваясь, она выпускала жало, которое попадало прямо в цель. С ее лица ни разу не сошло несчастное выражение так же, как голосу ни разу не изменила неприязнь. Однако я сомневаюсь, что перед троном Клеопатры, даже когда она была в зените славы, прошло столько же льстивых красавиц, сколько прошло в тот день через крошечную комнату Нэн Хоган. Вот только Сара Финнесси не пришла. Стоило Нэн Хоган вспомнить о Саре Финнесси, и у нее кровь вскипала в жилах. Если бы Сара Финнесси переступила порог ее дома, когда она наслаждалась всеми преимуществами своей неожиданной болезни, это стало бы кульминацией всего действа.
Ссора Нэн Хоган и Сары Финнесси была нешуточной и очень давней. Это случилось в тот день, когда Нэн осталась совсем одна в своем доме. Ее последний сын, которому она отдала всю свою любовь, в тот день ушел от нее. С ним исчез и старший сын Сары Финнесси, «сбежавший из Килбега плут, который мог надуть и обвести вокруг пальца весь мир», как говорила о нем Нэн Хоган. Два юных искателя приключений из Килбега пристали к банде бродяг, которые спустились с гор, чтобы «отправиться в плавание по морям и океанам». Нэн Хоган верила, как она верила в своего Бога, что юный Финнесси увел ее мальчика из дома, и все свое горе она изливала на голову Сары Финнесси с того дня и до сей поры.
Люди жалели Нэн Хоган. Никогда она не была, что называется, «уравновешенной или сдержанной», но почти все знали, как она гордилась своей семьей. Бог забрал у нее мужа, у Нэн Хоган, оставив ее с двумя маленькими дочерьми и двумя маленькими сыновьями, и она из кожи вон лезла, чтобы прокормить своих детей. Старшая дочь заболела и умерла, едва успев стать девушкой. Другая дочь вышла замуж за парня из Бохерлахана. Они эмигрировали в Америку. И до сегодняшнего дня, не зная ни дня, ни продыха, сражаются за лучшую жизнь в Республике. Младший мальчик зачах сразу после сестры, и всю ночь, что Нэн Хоган просидела у его постели, она говорила соседям, что ее Томасин был слишком нежным для грубого земного мира.
Грустная это история — история Нэн Хоган. Понятно, как у нее болело сердце за последнего из ее детей, за старшего сына, сильного, энергичного, добродушного, легкомысленного, чувствительного парня. И как не понять боль, которую она почувствовала, когда ее мальчик оставил ее одну в доме и во всем мире. Неудивительно, что в Килбеге жалели ее. Ничего не осталось от ее любви, рассеянной по свету и закопанной в землю, и если она выжила после этого, если сохранила свой дом, если каждый день отправлялась работать в поле, чтобы сохранить свою независимость, то, как говорили соседи, потому что у Нэн Хоган храброе сердце.
И нет ничего противоестественного в том, что Нэн Хоган обозлилась на весь мир — скажем так, на Килбег. У нее оставалось единственное право — на жалобы, и она воспользовалась им до конца. Соседи носились с ней, сколько могли; они старались не забывать о ее несчастьях и не обращали внимания на ее язык — все, кроме Сары Финнесси, которая нее могла заставить себя быть терпимой по отношению к Нэн Хоган. «Болтливой старой коровой» называла она Нэн Хоган и старалась подальше обходить ее, насколько позволяла география Килбега.
Однако если Нэн Хоган, неожиданно заболев, была лишена удовольствия все высказать Саре Финнесси, она получила возможность поиздеваться над Кристи Финнесси, когда он довольно поздно вечером переступил порог ее дома. Кристи было тяжело идти к Нэн, ведь он отлично понимал, что Нэн видит в нем источник всех грехов его жены. У Нэн Хоган огнем зажглись глаза, едва она услыхала шаги Кристи Финнесси.
— Слышал, ты вдруг приболела, — неловко проговорил Кристи, переступая с ноги на ногу возле самого порога. Крепко сжав губы, Нэн внимательно оглядела его. И Кристи пришло в голову, что, может быть, на сей раз пронесет. Увы, эта мысль подарила ему недолгое облегчение.
— Полагаю, — сказала Нэн, — тебя прислали, чтобы ты снял с меня мерку для гроба?
— Да нет, Нэн, никто меня не присылал, — мягко произнес Кристи.
— Ты сильный человек, — сказала Нэн ровным голосом, — ты сильный человек, Кристи Финнесси, я всегда это говорила. И всегда думала, что Богу нужны люди, которые могут терпеливо нести тяжелую ношу.
Кристи двинулся туда, где была Нэн, не сводившая с него единственного глаза.
— Бог — это хорошо, — произнес Кристи с облегчением.
— Ты всегда был смелым, — продолжала Нэн, — смелым и выносливым. Тебе надо благодарить Бога и за то, и за другое, или Сара Финнесси уже давно была бы в нашей с миссис Лаури компании — в компании двух вдов, которые не перестают оплакивать своих мужей.
— Миссис Лаури мудрая женщина, — удалось вставить Кристи Финнесси. — Она никогда не предавалась горю так, как ты, Нэн Хоган.
При этих словах Нэн Хоган привстала на подушках с выражением такого любопытства на лице, что у Кристи душа убежала в пятки.
— Чем больше я думаю о тебе, Кристи, — сказала Нэн, — тем больше уважаю тебя за твою силу. «Будь он другим, — говорю я себе, — она бы уже давно довела его до могилы». И наши безобидные горцы должны вечно возносить хвалы тебе. Ведь если бы не ты, любой из них мог бы попасть в руки Сары, когда она искала себе мужа. Но, мой сын, у тебя смелое сердце, и ты отвел опасность от остальных в тот день, когда она повела тебя к алтарю.
— Ну уж, у меня никогда не было сожалений из-за того дня, — сдержанно произнес Кристи.
— Так-то так, милый, — продолжала Нэн, — ты всю жизнь тянул свою лямку со смелостью десятерых мужчин. Никто не слышал, чтобы с твоих губ слетела хоть одна жалоба, но ведь тебе приходилось не легче, чем мулу, который тащит большой караван. Тобой все восхищались.
С огромным облегчением Кристи Финнесси увидел, что в комнату вошла вдова Лаури. Она поправила подушки и приложила ладонь ко лбу Нэн.
— Слава Богу, все в порядке, — сказала вдова Лаури. — Ничего страшного не случилось.
— Какая разница? — отозвалась Нэн. — Да и тебе не следовало так печалить Кристи Финнесси, ведь ему еще предстоит рассказать об этом дома. Вряд ли его встретят с радостью, если он не принесет весть о скором последнем вздохе Нэн Хоган.
— У Кристи Финнесси нет желания сообщать дурные вести, — сказала вдова, и Кристи с благодарностью посмотрел на нее.
— У него нет желания! — воскликнула Нэн. — Когда это желания Кристи имели значение в доме Сары Финнесси? Только что я как раз говорила ему о всеобщем уважении и восхищении, которое он заслужил. И кому известно об этом лучше, чем вам, мэм, ведь через ваши руки руки прошли двое мужчин.
Вдова Лаури добродушно рассмеялась:
— Я бы не против еще нескольких.
— Что ж, если так, — заявила Нэн Хоган, — вам посчастливилось не ввязаться в драку из-за Кристи Финнесси. Если бы Сара не помучила так Кристи Финнесси, никому бы и в голову не пришло, что в его-то годы можно стать таким доходягой, особенно если бы он попал в ваши руки, миссис Лаури.
Кристи Финнесси двинулся к двери.
— Надо бы трубку раскурить, — сказал он, выходя в кухню.
Но голос Нэн преследовал его.
— Скажи Саре, — кричала она, — что с Нэн Хоган еще не покончено. И похорон, которых она ждет, ей придется еще подождать. Не стоит и говорить, кто может опередить ее. Боже сохрани. Кристи Финнесси, ты такой из себя крепкий, что твоей тени не видать на полу.
Нэн откинулась на подушку, закрыла единственный глаз, и ее лицо, как показалось вдове Лаури, еще больше побледнело.
— Зачем вы обманываете себя? — с раздражением спросила вдова.
Нэн открыла свой глаз и внимательно посмотрела на вдову Лаури.
— Я была бы рада, — сказала она, — если бы этот Кристи Финнесси не был таким олухом. Меня бесит то, что он ничего не скажет дома. Это так ужасно — быть больной и растрачивать слова на человека, который пропускает их мимо ушей.
Вернувшись домой, Кристи Финнесси уселся у камина.
— Ну, — с любопытством спросила его жена, — что там с ней?
— Она говорит, что заболела.
С этими словами Кристи постучал трубкой о ладонь.
— Ну и?
— Ну, — ответил Кристи, — если заболела, то с языком у нее все в порядке. Мозги у нее не откажут до самого конца.
Миссис Сара Финнесси наклонилась над мужем.
— Она что-нибудь говорила? — спросила она, и в ожидании бойцовский огонь зажегся в ее глазах.
— Говорила. Много чего говорила.
— И все обо мне, я полагаю?
Кристи зевнул и вытянул ноги поближе к огню.
— Не могу припомнить точно, — ответил он. — Всё как-то у нее получалось двусмысленно. И вылетело у меня из головы. Пока я шел домой, ничего не осталось в памяти.
А так как Кристи стоял на своем, то его жена смотрела на него с нескрываемым презрением.
Когда вдова Лаури пришла домой, она увидела, что Сара Финнесси, обхватив себя руками, стоит, прислонившись к ее двери.
— Она как будто заснула, — сообщила вдова. — Кристи что-нибудь рассказал?
— Нет, мэм, совсем ничего, — ответила миссис Финнесси. — Молчит, словно в рот воды набрал. В первый раз в жизни вижу человека, который ничего не запоминает.
Вдова Лаури уловила в голосе Сары Финнесси ту же болезненную ноту сожаления, что прежде в голосе Нэн Хоган.
И она мысленно посмеялась, приглашая Сару Финнесси в дом.
— Кристи, — сказала она, — постоял за них обеих. Он самый несчастный посол в стране.
Когда Тим О’Халлоран, ведающий помощью беднякам в приходе, на другой день приехал по делам в Килбег из Бохерлахана, Нэн Хоган была в очень плохом состоянии. Она не вставала с постели.
— Оставь пару шиллингов на комоде, Тим, — сказала она.
— Нэн, мне придется прислать к вам врача, — отозвался Тим. — Вы не очень хорошо выглядите.
— У меня слабость, ноги совсем не ходят. Тебе очень повезло, и дело совсем не в соседях, что ты видишь меня живой, Тим О’Халлоран. Думаю, тебе не доставило бы удовольствия найти мой труп на полу. А ведь до этого было совсем близко благодаря милосердию соседей.
— Лучше бы вам поехать в больницу, — сказал Тим. — Там профессиональный уход.
— Ты хочешь отправить меня в Дом призрения? — торопливо переспросила Нэн, и ее глаз загорелся былым огнем.
— Вам будет там лучше, — стоял на своем Тим.
Целую минуту Нэн Хоган не сводила с него подозрительного взгляда.
— Тим О’Халлоран, — требовательно спросила она, — кто-нибудь в Килбеге посоветовал тебе отправить меня в Дом призрения?
— Зачем лишать Килбег его мудрости? — ответил Тим. — Мне очень давно приходится ездить сюда, и я не жду ничего необычного от здешних людей. Они никогда не разочаровывали меня.
Этот ответ пришелся Нэн по сердцу.
— На Сару Финнесси пролился бы райский свет, если бы она увидела, как меня везут в Дом призрения, — сказала Нэн.
— Послушайте, — воспользовался случаем Тим, — а если бы она подумала, что хорошее лечение поставит вас на ноги, на райском свету появилось бы облачко?
Довольно долго Нэн молчала, обдумывая его слова.
— Правда, Нэн, — подзуживал ее Тим, — вряд ли кто-нибудь завидует вам в вашем теперешнем положении. Наверно, Саре Финнесси доставляет большое удовольствие говорить, что Нэн Хоган стала как прикованный к кровати Денни Хайнс.
С этими словами Тим оставил Нэн Хоган, чтобы она подумала о своем положении, пока он давал кое-какие распоряжения соседям. Тим посоветовал им вбить в голову Нэн Хоган, что у Сары Финнесси нет большего желания, как видеть ее беспомощной в своей постели, пока Бог не призовет ее к себе.
Не без труда Тим уговорил соседей играть на предрассудках больной. Они ведь никому не желали попасть в Дом призрения. И только когда Тим О’Халлоран соврал насчет Нэн Хоган, вдова Лаури и миссис Пол Мэнтон согласились с ним.
Весть о том, что Нэн Хоган скоро увезут в больницу при Доме призрения, погрузила Килбег в уныние. Машину Дома призрения видели в Килбеге только в годы неодолимых бедствий. Даже мысль о ней была отвратительна любому горцу. Многие говорили, что скорее Нэн Хоган увезут из ее дома в гробу, чем они позволят забрать ее в Дом призрения. Для них машина специального назначения была символом смерти, эпидемии, ужаса, черным грифом, летающим над местами, где лежат разбившиеся люди, эта карета была прямой наследницей экипажей, возивших трупы во время Голода, и вместе с собой она приносила атмосферу ночлежек и прозелитизма с вонью, сопровождающей продажу души и похищения тела, память о тирании уголовного законодательства — в скрипе своих колес.
Вдова Лаури и миссис Пол Мэнтон сновали туда-сюда, из спальни в кухню и обратно, инстинктивно понимая, что общественное мнение Килбега не на их стороне. Оставалось лишь верить в то, что цель оправдывает средства — что выздоровление Нэн Хоган зависит от лечения в больнице, а иначе они бы ни за что не сдержали обещание, данное Тиму О’Халлорану.
Вдова Лаури была в кухне, приглядывала за приготовлением лекарства, которое было прописано больной, когда миссис Мэнтон, к счастью, вышла из комнаты и поддержала ее. Миссис Мэнтон увидела, как вдова слепо шарит, будто ищет что-то на столе.
— Что с вами? — спросила миссис Мэнтон. Вдова, всхлипнув, отвернулась к плите, но миссис Мэнтон успела заметить выражение ее лица.
— Вы думаете о том, что будет с Нэн Хоган? — строго спросила миссис Мэнтон.
Вдова села на табурет возле плиты.
— Не могу не думать о том, как этот дом обезлюдел, — ответила вдова. — Только представьте, сначала муж, потом дети. Как только у нее не разбилось сердце? У меня тоже хватало бед, Господь знает, но разве сравнишь их с бедами Нэн Хоган?
— Это самое лучшее, что мы можем для нее сделать, — сказала миссис Мэнтон. — Вам должно быть стыдно, должно быть стыдно. — Миссис Мэнтон старалась говорить строго, но напоследок и у нее дрогнул голос. Ей тоже, как вдове Лаури, пришлось сесть возле плиты. Так они сидели вдвоем, обе, как в тумане, в дыму от плиты Нэн Хоган, тихо плакали и вытирали фартуками глаза.
— Я была здесь, когда несчастья одно за другим стали сыпаться на нее, но никогда не думала, что дойдет до такого.
— Он сказал, когда должна прийти карета?
Они перешептывались, словно в ожидании некоего кошмара.
— У меня не хватило смелости спросить.
Карета Дома призрения прогрохотала по деревне, когда уже начало смеркаться. Однако потребовалось бы больше, чем милосердие ночи, чтобы скрыть ее уродство. Неряшливый, неухоженный тупица, который ее вез, казалось, осознавал тяготы своего положения. Он был бедно одет, сидел как-то неловко на своем кучерском месте и кнут держал в руках так, что он вот-вот должен был упасть на землю. Карета была черной, тяжелой и кренилась то в одну, то в другую сторону, как корабль, потерявший по дороге балласт, короче говоря, это была темная закрытая повозка с дверью сзади. Оглобли лежали на плечах лошади, словно упряжь подобрали не по размеру, и лошадь была слишком маленькой для подобного транспорта. По всей дороге люди стояли молча, дети испуганно прятались в домах, потому что они наслышались таких ужасов об этой карете за день, что она была для них страшнее Всадника без головы.
Миссис Мэнтон и вдова Лаури издалека услыхали скрежет колес. Они засуетились, заговорили громче обычного, зашумели, стараясь заглушить громкое приближение кареты для Нэн Хоган. Но она тоже слышала мрачный скрежет. И не произнесла ни слова, лишь взгляд ее единственного глаза теперь не отрывался от маленького окошка в ожидании тени, которая промелькнет мимо. Наконец она появилась — темное пятно в сумерках. С несколькими мужчинами пришел и Тим О’Халлоран; все двигались нарочито бесшумно и разговаривали полушепотом. Миссис Пол Мэнтон и вдова Лаури готовили Нэн к путешествию, разговаривали с ней нарочито весело, как вдруг миссис Пол Мэнтон всплеснула руками и бросилась прочь из дома Нэн Хоган. Вдова Лаури не сумела скрыть дрожь в голосе, но постаралась сделать бегство миссис Мэнтон как можно менее заметным, однако Нэн была на редкость внимательна ко всему, что происходило вокруг нее. Едва заметная улыбка появилась на ее лице, когда она увидела, как миссис Мэнтон взмахнула руками и убежала. Но она больше ничем не выдала своих чувств, и мужчины в полном молчании отнесли ее в поджидавшую карету, почти незаметную в темноте. Мужчины шаркали ногами о землю, и Нэн видела смутные фигуры своих соседей, собравшихся вокруг ее дома.
— Заприте дверь, — приказала она своим хорошо знакомым голосом. Несколько человек бросились к дому, отыскали ключ и заперли дверь на замок.
Вдова Лаури сказала одной из женщин:
— Вот вам крепость духа! Таких женщин больше нет на всем свете!
— Килбег еще не совсем избавился от Нэн Хоган, — пропел голос Нэн из кареты.
Тим О’Халлоран хлопотал вокруг больной, а вдова Лаури пела свои хвалы, иначе не случилось бы то, что случилось. У входа в дом произошло некоторое замешательство, и ключом завладела одна из женщин — как раз в ту минуту, когда Нэн крикнула из кареты:
— Принесите мне ключ. Я еще не собираюсь с ним расставаться.
Женщина шагнула в направлении кареты и, подойдя ближе, протянула ключ. В следующую минуту тишину разорвал отчаянный крик.
Не кто иной, как Сара Финнесси протянула ключ Нэн Хоган. Килбег так и остался в неведении, сделала она это из вредности или по роковой случайности, ибо сама Сара Финнесси не унизилась до объяснений. Но какой бы ни была причина, Нэн Хоган впала в истерику. Она выла и кричала в карете так, что люди стали подходить ближе. Сара Финнесси швырнула ключ в карету, как в ужасе рассказывали потом, и зашагала к себе домой. Было видно, как Нэн Хоган дерется в карете с женщиной, которая должна была сопровождать ее в поездке. Она сорвала с себя простыни, и было смутно видно, как она прокладывает себе дорогу к выходу. Наконец она достигла двери, прижалась к ней и стала раскачиваться как символ ярости, громко сетуя на судьбу и призывая соседей отнести ее обратно. Тим О’Халлоран умолял Нэн Хоган успокоиться, однако Нэн дралась с яростью отчаяния.
Жители Килбега плотной толпой окружили больничную карету, и Тим О’Халлоран слышал, как они хрипло переговаривались друг с другом. Тим О’Халлоран хорошо знал жителей Килбега. Знал он и о болезненных атаках, предпринимаемых Нэн Хоган, чтобы пробуждать злость в их сердцах, и одно слово любой из стоявших тут женщин или любого из мужчин могло бы привести к настоящему насилию. Он знал, что достаточно одного удара, после чего Нэн Хоган отнесут обратно в ее дом, а от больничной кареты не останется и следа. Настал момент решительных действий. И Тим О’Халлоран повернулся к толпе.
— Фарди Лалор, подойди сюда, — сказал он.
Фарди Лалор приблизился ко входу в карету и встал, молча повернувшись лицом к толпе. Тим О’Халлоран подхватил кричавшую больную на руки и вернул ее в карету. Потом он захлопнул дверь и крикнул кучеру, чтобы он трогал.
Никогда еще килбегцам не приходилось видеть ничего более удручающего. Карета медленно ехала по деревне, и из нее доносились приглушенные крики Нэн Хоган, следом же за каретой как охранники шагали Тим О’Халлоран и Фарди Лалор, а за ними двигалась возбужденная толпа. Не меньше мили одолели они по Бохерлаханской дороге, прежде чем в карете стихли крики Нэн Хоган. Потом и толпа стала понемногу редеть.
Тим О’Халлоран вытер со лба пот и тяжело, с облегчением вздохнул.
— Еще чуть-чуть, и они убили бы ее, — сказал он. — Знаешь, Фарди Лалор, сегодня что угодно могло произойти в Килбеге.
— После этого ей лучше не возвращаться, — заметил Фарди Лалор.
Тим О’Халлоран покачал головой:
— Я давно знаю Нэн Хоган и знаю, в каких передрягах ей пришлось побывать. Она вернется в Килбег.
Пока Нэн Хоган проходила лечение в Бохерлаханской больнице, она ни разу не произнесла вслух то, о чем она думала. Да и все, что ее окружало, не могло смягчить ее. Однако теперь она не владела монополией на мрачные раздумья, ибо ее соседки по палате тоже более или менее мрачно смотрели на жизнь. Это неприятно действовало на Нэн. У нее появилось чувство, будто она льет черные чернила на черное небо. Что толку разговаривать с соседками, которые отвечают мрачными речами на мрачные речи? У Нэн отняли живые декорации Килбега, отняли конфликт мироощущений, который наполнял светом и тьмой ее воинственную душу.
Как-то так вышло, что Нэн Хоган обратила внимание на некую Мойру Кейзи, веселую хрупкую женщину, которую из палаты выздоравливающих перевели в общее отделение. Среди нянечек она занимала самое низкое положение, насколько помнится, если верить официальным документам. Сестры, врач, нянечки, с точки зрения Нэн Хоган, настолько вписались в больничные ритуалы, что она не получала никакого удовольствия от общения с ними. Их делом было следить, чтобы машина работала безотказно, и они представляли собой умелых инженеров, которые умасливали дневные болячки и чинили ночные поломки. Они продлевали жизнь, сколько могли, а когда не могли, то отправляли больных в распоряжение другого отделения. А вот Мойра Кейзи, как почувствовала Нэн, была ближе к больным людям, она была единственным человеком, не ставшим винтиком машины, ее движения и жесты не регулировались невидимым механизмом. Приходя, Мойра приносила с собой безответственность внешнего мира. Поэтому Нэн Хоган и прилепилась к Мойре Кейзи. Тот факт, что Мойра Кейзи могла предоставить свои уши во владение Нэн Хоган, только когда глаза начальства не следили за ней, делал их отношения еще более приятными.
Какое-то время Мойра Кейзи не очень шла на сближение, потому что уже лет пять, как «всякого навидалась» в больнице. Ее интерес к земным страданиям в то время и в тех обстоятельствах был несколько притуплен. Пробудили любопытство Мойры Кейзи рассказы Нэн Хоган о своем доме и о мечте, не оставлявшей ее в покое в ночные часы. Пока Мойра скребла пол около ее кровати, Нэн рассказывала ей о доме и о мечте.
Рассказы Нэн Хоган о доме звучали бы чистой выдумкой для любого, кто был хоть немного знаком с Килбегом, но когда играешь на одной струне, для артистической натуры велико искушение приукрашивать мелодию легкими пассажами, вибрациями и потрясениями. И Мойра Кейзи забрала себе в голову, что Нэн Хоган из-за неожиданно поразившей ее болезни ног была принуждена оставить очаровательное жилище в Килбеге на милость недостойной кошки. Особенно сильное звучание эта картинка брошенного в Килбеге жилища обрела, когда Нэн Хоган наутро после ночных фантазий откровенно поведала Мойре Кейзи о своей мечте. Именно воспользовавшись своей великой мечтой, Нэн Хоган с заномерными приукрашиваниями поведала Мойре Кейзи о позоре деревни, то есть о Саре Финнесси. Нэн Хоган расписывала все с большим удовольствием, с таким удовольствием, что даже Мойра Кейзи уселась на коленках и сидела так, пока ее щетка совсем не высохла. Мойра Кейзи больше не сомневалась, что это чудовище, Сара Финнесси, заслуживает виселицы. Она как будто видела Сару, победно отплясывающую в опустевшем запертом доме, переходящую на буйный шотландский танец возле двери, скачущую по крыше в сумасшедшем ритме и в исступлении заканчивающую пляску чудовищным прыжком. У Мойры Кейзи с воображением было туговато, однако Нэн Хоган красочно живописала свое ночное видение.
Все это настолько подействовало на Мойру Кейзи, что, отпросившись на несколько часов из Бохерлаханской больницы, она, ведомая необоримым любопытством, отправилась в Килбег, чтобы взглянуть на разоренное владение Нэн Хоган и, если получится, на захватившую ее воображение Сару Финнесси.
Мойре Кейзи удалось и то, и другое, и она вернулась из Килбега, уныло опустив уголки губ. Когда же Нэн Хоган вновь взялась за свои рассказы, Мойра Кейзи слушала ее с гораздо меньшим интересом, не отрываясь от своей щетки. «Бредит, — решила Мойра Кейзи. — Бредит перед смертью».
Тем не менее пустой дом в Килбеге произвел неожиданное психологическое воздействие на Мойру Кейзи. О таком доме она всегда мечтала. Всю жизнь ей приходилось переходить из одного работного дома в другой и много бродить по дорогам, прежде чем удалось осесть в Бохерлахане и зарабатывать себе на пропитание в больнице. Как многие бездомные, Мойра Кейзи совсем не любила бродяжничество, которое в крови цыгана и лудильщика. И бродяжничала она по необходимости, а не по своему желанию. У Мойры Кейзи всегда было такое чувство, что она рождена домашней хозяйкой, но по иронии судьбы, по капризу Фортуны она никогда не имела собственного угла. Поэтому ей нравилось примериваться к маленьким домикам, ведь она воображала, что стала бы делать, принадлежи они ей. По этой же причине ей нравились уединенные, тихие места, подальше от дороги, словно инстинкт подсказывал ей, что если и повезет с домиком, то лишь в таком месте.
В глубине души мечтая о собственном домике, Мойра Кейзи много лет глядела в лицо ветрам и шагала по бесчисленным дорогам, пока в одну холодную зиму не попала под валом валивший снег, заставший ее в горах, Вконец измученная, она укрылась в Бохерлаханском приюте и осталась там навсегда. Мечту о собственном домике пришлось похоронить глубоко в душе, и она, эта мечта, спала там, пока Мойра Кейзи не увидела пустой домик Нэн Хоган в Килбеге, после чего Мойра приобрела привычку о чем-то размышлять, когда выдавалось свободное время.
Вскоре Нэн Хоган перестала видеть Мойру Кейзи в больнице. Ей сказали, что Мойра оставила работу — «уволилась», как ей сообщили, — и уехала Бог знает куда. В результате Нэн Хоган опять впала в уныние, несмотря на то что врачам удалось «влить немного жизни в ее ноги».
Тем временем в Килбеге жизнь шла своим чередом, и волнение, вызванное вынужденным переездом Нэн Хоган в больницу, сменилось разговорами о том, вернется ли она в свой дом.
И вот в одно прекрасное утро Килбег с изумлением увидел дым, идущий из трубы дома Нэн Хоган. Он поднимался в голубое небо, будто объявляя всему белому свету, что под крышей дома началась новая жизнь. По деревне пробежал сумасшедший слушок о том, что Нэн Хоган посреди ночи вернулась домой. Те, кто проснулся пораньше, побежали по каменным ступенькам и по дорожке, чтобы побыстрее поздороваться с ней. Однако парадная дверь оказалась запертой, и никто не ответил на нетерпеливый стук соседей. Вдова Лаури первой пробралась на задний двор. И это она обнаружила, что задняя дверь распахнута настежь.
Около плиты сидела незнакомая женщина и откровенно наслаждалась утренним чаем. Она выглядела так, будто сидит у себя дома, и ее никоим образом не тронуло появление вдовы.
— Кто… кто вы такая? — в конце концов спросила вдова, пока остальные жители деревни собирались за ее спиной.
— Я? Ну да, я Мойра Кейзи.
— Мойра Кейзи?
— Она самая, мэм. Мойра Кейзи из Бохерлахана.
— Что она делает тут? — спросил Пол Мэнтон у соседей.
— Занимаюсь домашним хозяйством, — ответила Мойра Кейзи.
Воцарилась неловкая тишина, тогда как Мойра Кейзи продолжала с удовольствием пить чай.
— А где Нэн Хоган? — решительно спросила миссис Мэнтон.
— Она в больнице, днем болтает, ночью бредит.
— Ночью бредит?
— Да, зовет смерть.
— Откуда вам известно?
— Как это откуда? Я что, ничего не слышала, когда была в больнице?
— Нэн послала вас сюда?
Мойра Кейзи поставила чашку с блюдцем на стол, после чего краем фартука вытерла рот, всем своим видом показывая, что она получила большое удовольствие. Потом она подошла к двери и встала лицом к лицу с миссис Пол Мэнтон.
— Я думаю, мэм, — заявила Мойра Кейзи, — что Килбегу всегда было наплевать на своих жителей.
Жители подались назад. У Мойры Кейзи был вид человека, который знает, что делает, и уверен в своей правоте.
— Слишком уж скоро вы заговорили о том, наплевать или не наплевать Килбегу на своих жителей, — возразила миссис Мэнтон, правда, не без сомнения в голосе. — Нэн Хоган передала вам права на дом?
— Вас, мэм, это совершенно не касается. Вот если я потребую себе права на ваш дом, тогда да, тогда у вас будет возможность продемонстрировать свое воспитание.
— Мы обратимся к закону, — вмешался Пол Мэнтон и медленно пошел прочь, уводя за собой большинство молчаливых зрителей. Миссис Пол Мэнтон и вдова Лаури остались на месте.
— Вы сказали, — примирительно спросила вдова, — что бедняжка Нэн Хоган скоро умрет?
— Так оно и есть. А так как вы считаетесь подругой Сары Финнесси, то передайте ей, чтобы она близко не подходила к ней живой.
Такое знание состояния души Нэн Хоган со стороны незнакомой женщины стало убедительным аргументом для женщин Килбега. Они были готовы вернуться и продолжить расспросы в надежде побольше разузнать у Мойры Кейзи насчет нее самой.
— Значит, она послала вас сюда проветрить и протопить дом, думая, что сможет скоро вернуться? — спросила миссис Мэнтон, как бы показывая, что она признает права Мойры Кейзи.
— Ну уж нет, Нэн Хоган ни к чему знать, что здесь кто-то живет, — ответила Мойра Кейзи.
Резким движением подоткнув юбки, Мойра Кейзи принялась за уборку. Поняв намек, вдова Лаури и миссис Пол Мэнтон удалились.
Весь день жители Килбега крутились вокруг дома Нэн Хоган. Каждое движение его новой хозяйки было подмечено и обсуждено на все лады. В конце концов килбегцы пришли к выводу, что Мойра Кейзи на редкость энергичная особа. Домик Нэн Хоган заблестел, как новенький, вид у него стал свежий, ухоженный.
— Вот что скажу я вам, — заявил один из мужчин, — Нэн Хоган знала, что делает, когда посылала сюда эту женщину.
Ожидалось, что Сара Финнесси выкажет в той или иной степени гостеприимство новой жительнице Килбега. Почему-то люди решили, что любая замена Нэн Хоган — какая бы она ни была — будет приятна миссис Финнесси. Однако Сара Финнесси не спешила и придерживала свое мнение до самого вечера. И тут она не выдержала.
— Эта женщина мошенница, — заявила Сара Финнесси. — Она настоящая мошенница, и Килбегу надо выгнать ее.
Однако ее мнение пришлось не по вкусу остальным. Неожиданное появление Мойры Кейзи, его таинственность, недостоверность ее прав на дом Нэн Хоган представляли для жителей интерес, сдобренный немалой дозой волшебства. Им не хотелось выгонять ее, и боевой клич Сары Финнесси остался без ответа.
Однако Сара Финнесси ощущала в себе силы, которые не позволяли ей оставаться пассивной. Она дрожала от волнения — и от удовольствия, — когда спускалась по ступенькам и с решительным видом шла к дому Нэн Хоган.
Мойра Кейзи сидела, штопая чулок, когда тень Сары Финнесси загородила ей свет. И пальцы Мойры Кейзи слегка дрогнули, когда она подняла голову.
— Эй, мошенница, убирайся отсюда.
Сара Финнесси сразу заняла воинственную позицию. Даже шаль она накинула на плечи так, словно посылала вызов Мойре Кейзи. И вошла в дом Нэн Хоган.
Мойра Кейзи попятилась от нее.
— Вы Сара Финнесси? — спросила она.
— Миссис Сара Финнесси, с вашего позволения, отлично известная всем в Килбеге и всем ее родичам.
Сара Финнесси откашлялась в преддверии будущей схватки, тем более что у нее появилось приятное ощущение своего превосходства над не очень-то речистой Мойрой Кейзи. Слово было единственным оружием, известным женскому населению Килбега, и Сара Финнесси не сомневалась в своих силах. Что же до Мойры Кейзи, то она недаром много путешествовала, так что всякого навидалась. Она имела куда более широкий взгляд на возможности цивилизации в кризисные времена. И ее рука потянулась за метлой из вереска, стоявшей за дверью.
— Брось метлу и покажи документы на дом, — властно потребовала Сара Финнесси.
Первый удар пришелся Саре Финнесси по голове. Схватившись за голову, она отскочила к окошку. Подобно всем несведущим людям, которые слишком полагаются на силу слова, она была совершенно деморализована тактически верным ударом.
— Уфф, — произнесла Мойра Кейзи, и на сей раз Сара Финнесси приняла это к сведению. Она метнулась к двери, но не успела выскочить на улицу, как почувствовала удар метлы на спине. Едва держась на ногах, Сара Финнесси переступила через порог, и, когда жители Килбега, поджидавшие на дороге, увидели ее лицо, в толпе послышался ропот изумления.
Сара Финнесси в одно мгновение оказалась возле каменных ступеней, но Мойра Кейзи не отставала от нее. Она орудовала метлой, словно жонглер индийской булавой.
— Уфф! — приговаривала она каждый раз, когда взмахивала метлой. Едва поднявшись по ступеням, Сара Финнесси принялась звать на помощь Кристи, но Кристи был в доме и играл в лошадки с детьми.
Мойра Кейзи стояла со своей метлой на верхней ступеньке каменной гряды и смотрела, как Сара Финнесси с развевающимися волосами бежит к своему дому. Стоявшие неподалеку люди начали кричать, смеясь над Сарой Финнесси и восхищаясь Мойрой Кейзи.
— Вот это да, — сказал некий мужчина, — никогда ничего такого не видел на Бохерлаханских бегах.
— Кто бы мог подумать, что Сара Финнесси будет повержена в две минуты? — поддержала его одна из женщин. — Дьявол ей в помощь! — кричала она.
— А теперь, мои дорогие, — объявила Мойра Кейзи, стоя на возвышении, как пародия на Галатею на пьедестале, — я сделаю для Килбега то, чего не делал ни один учитель. Я научу Килбег хорошим манерам.
С этими словами она вернулась в дом Нэн Хоган, чувствуя себя победительницей, но не чувствуя счастливой. Вот бы жители Килбега увидели ее пятью минутами позже, когда она лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и истерически рыдала!
Весь вечер Сара Финнесси не показывалась из дома. И ее муж Кристи тоже.
— Помоги Бог Кристи, — сказала вдова Лаури, у которой было странное выражение лица.
Когда Фарди Лалор пришел к Мег, он уселся в кресло и смеялся, пока малыш не пригрозил ему толстым кулачком.
— Прости Господи, — сказал Фарди, — надо было видеть, как эта маленькая женщина гнала миссис Финнесси прочь. И Сарины шпильки летели во все стороны.
Конец недели Мойра Кейзи со всей истовостью посвятила себя хозяйству Нэн Хоган.
Однако вопрос о ее правах на дом, как сказал Пол Мэнтон, должен был подтвердить закон.
Закон прибыл в лице Тима О’Халлорана. Тим был представителем хозяина домов, которые занимали Нэн Хоган и другие жители Килбега. Это имущество не представляло особой ценности. «Всего-то несколько шиллингов», — говаривал Тим О’Халлоран.
Когда Тиму О’Халлорану сообщили, что дом Нэн Хоган заняла Мойра Кейзи, он удивился, однако как умный человек оставил свое мнение при себе. Задумчиво поглядев несколько минут на дорогу, он отправился на переговоры к Мойре Кейзи.
Килбег так никогда и не узнал, что это были за переговоры, но, когда Тим О’Халлоран вышел из дома, он отправился к миссис Макдермотт, которая жила на ферме в Логе.
— Почему бы вам не давать ей работу через день в поле? Она утверждает, что ей частенько приходилось этим заниматься и она отлично разбирается в сорняках, — сказал Тим О’Халлоран.
— Посмотрим, — ответила ему миссис Макдермотт. — Но не слишком ли рискованно она себя ведет, забравшись в чужой дом?
— Что ж, она уже там, и дом выглядит при ней привлекательнее. И в своих запросах она вполне скромна, картошка да чай — вот все, что ей нужно. У нее есть несколько шиллингов, которые она накопила, работая в Доме призрения.
— А что будет, когда Нэн Хоган выйдет из больницы и обнаружит в своем доме чужую женщину?
На длинном лице Тима О’Халлорана появилась привычная едва заметная улыбка.
— Тогда и подумаем об этом, — сказал он. — Некоторые вещи в этом мире следует принимать по очереди, а последний расчет оставим Всемогущему.
В тот день Мойра Кейзи распахнула парадную дверь на поглядение всему миру. И Килбег принял это как объявление независимости. Закон оказался на стороне Мойры, однако по Килбегу пробежал слух, что до тех пор Мойра Кейзи была, по словам миссис Финнесси, «настоящей мошенницей».
— Что ж, — сказал жене Пол Мэнтон, — Тим О’Халлоран отлично знает свое дело, и все же странно повернулась история дома Нэн Хоган.
— Она выглядит вполне уверенной в себе, — ответила миссис Пол Мэнтон, — но помяни мое слово, ее еще ждут неприятности, когда Нэн Хоган вернется.
Пол хлопнул себя по колену.
— Придется ей тогда уйти отсюда, — отозвался Пол Мэнтон. — Вот уж будет зрелище так зрелище, когда Нэн Хоган будет стоять по одну сторону порога, а Мойра Кейзи — по другую.
— У Нэн Хоган все права на дом, — решительно проговорила миссис Мэнтон. — Каждая деревяшка принадлежит ей. Странный закон, если выселяет ее отсюда, и я все скажу Тиму О’Халлорану, пусть он даже мудр, как все календарные святые, вместе взятые.
Соседи-фермеры предоставили Мойре Кейзи показать свою работу на поле. И она ходила по деревне с независимым видом. Сара Финнесси несколько раз прошипела ей что-то в спину, но так как Сара Финнесси старалась не давать повода для драки за ее собственную цитадель, Мойра Кейзи ходила своим путем если не в мире, то, по крайней мере, в тишине.
Так как о возвращении Нэн Хоган не было слышно ни слова, Мойра Кейзи постепенно упрочила свое положение. Не проходило недели, чтобы она не вносила изменения в дом, потому что работала со всем энтузиазмом новичка, безразличного ко всему общепринятому. Она занималась побелкой в то время, когда никому в Килбеге даже в голову не пришло бы заниматься этим. Однажды она принесла домой разбитый горшок с остатками оранжевой краски, и у жителей Килбега глаза повылезали из орбит, когда они увидали оранжевые оконные рамы на фоне белых стен. Даже сама Мойра была настолько поражена произведенным эффектом, что на другой день стала красить дверь. Однако краски хватило всего на половину двери, так что контраст между розовой половиной и серой, то есть цвета всех дверей в Килбеге, был и вовсе потрясающим. Но еще раньше, чем килбегцы узнали о сенсационной двери, стало известно, что у Мойры Кейзи есть курица, которая сидит на яйцах. На подоконнике появились два горшка с геранью. Дешевенькие репродукции украсили стены кухни с такой поспешностью, что у килбегцев перехватило дыхание. Если кто-то направлялся к дому Мойры Кейзи, соседи обязательно спрашивали: «Вы, случаем, не в картинную галерею?» У Нэн Хоган был совершенно аскетичный вкус, поэтому килбегцы принялись обсуждать, что она скажет и — это их волновало сильнее — что она сделает, если все же вернется в Килбег.
— То одно, то другое, — сказал Пол Мэнтон, — да к тому времени, когда Нэн Хоган встанет на ноги, она не узнает собственного дома.
Миссис Пол Мэнтон было до того не по себе из-за Нэн Хоган, что в один прекрасный день она совершила путешествие в Бохерлахан и нанесла визит в больницу.
Нэн Хоган встретила ее скептически и, воспользовавшись возможностью, излила на нее немало новых жалоб на Килбег, которые она копила в тишине больничной палаты.
Однако, когда миссис Пол Мэнтон откашлялась, исподволь осмотрела палату, наклонилась над Нэн Хоган и принялась шепотом излагать ей новости, взгляд единственного глаза Нэн Хоган затвердел и посуровел, и губы сжались в тонкую ниточку.
— Она до сих пор в твоем доме, Нэн, и такая гордая, словно в ее власти весь Килбег, — завершила свой рассказ миссис Мэнтон.
— Трусливый Килбег, — в конце концов печально прошептала Нэн Хоган, — трусливый Килбег.
— Не надо винить Килбег, — возразила миссис Мэнтон.
Нэн Хоган медленно обвела палату единственным глазом и остановила вопросительный взгляд на покрасневшем лице миссис Мэнтон.
— Похоже, — произнесла Нэн Хоган, — вас там была целая деревня, один сильнее другого, и какая-то пигалица одолела всех! Значит, стоит женщине заболеть, и любая мошенница с большой дороги может завладеть ее домом! Уходи, вон отсюда!
Вздохнув, Нэн Хоган отвернулась к стене.
Миссис Пол Мэнтон всеми силами пыталась успокоить и утешить ее, но Нэн Хоган продолжала лежать лицом к стене. «Я больше не хочу видеть Килбег, — повторяла она, — и никого из его жителей тоже».
Когда миссис Мэнтон вышла из больницы, она вытерла пот с лица.
«Лучше бы мне не приходить сюда, — мысленно произнесла она. — Незачем было добивать Нэн Хоган».
Всю ночь Нэн Хоган пролежала лицом к стене. Но утром она вдруг села на кровати, и, когда поглядела кругом, лицо у нее было как будто совсем другое. На нем не было ни живости, ни подвижности, в глазах не горел воинственный огонь. Не прошло и полчаса, как в Бохерлаханской больнице была засвидетельствована сцена, опровергшая все медицинские теории и научные резоны. Сестры милосердия с ужасом наблюдали, как Нэн Хоган слезла с кровати и попыталась пройтись по палате. Ее немного покачивало, когда она встала в своей ночной рубашке, а потом она ухватилась за изголовье кровати. Сестры бросились ей на помощь и уговорили ее лечь обратно. Однако каждые полчаса Нэн Хоган вновь поднималась «попрактиковаться в пляске», как сказала одна из больных. Ни монашки, ни сестры милосердия не могли ничего поделать с Нэн Хоган. Она хочет вновь дать силу ногам, сказала она, и собирается действовать по-своему. Три дня Нэн Хоган удивляла врачей и мучила сестер, но на третий день она уже могла ходить.
— Мне пора домой, — объявила она, — и если на Небесах есть справедливость, я больше никогда не попаду сюда. Я буду драться со всем Килбегом от дома Мэри Хики до моего собственного дома, если они опять задумают вызвать за мной карету.
Па Клун возвращался из Бохерлахана и взял с собой Нэн Хоган, когда она вновь вышла в большой мир. Нэн уселась на мешке с сеном и с неудовольствием глядела на знакомые места, пока они добирались до Килбега. Ни словом не обмолвилась она с Па Клуном, но все равно у Па на лице было необыкновенное выражение — возможно, скрытого удовольствия. Он высадил Нэн возле дорожки к ее дому. По деревне они проехали, не вызвав шума, хотя люди выбегали из своих домов и окружали Нэн, жали ей руки и радостно здоровались с ней. Однако над всем этим громыхал голос Нэн.
— Хватит врать. И не стойте у меня на дороге, — крикнула она. — Килбег всегда был труслив в душе.
Толпа немного подалась назад, когда Нэн Хоган сошла по каменным ступеням на дорожку, не сводя единственного глаза со своего дома.
— Где еще такое видано, — кричала она, показывая на двухцветную дверь, — чтобы так смеялись над чужим домом, чтобы человека лишали его собственности?
Дверь была распахнута, и Мойра Кейзи стояла на пороге с кухонным полотенцем в руке. Когда она увидала Нэн Хоган, то подалась назад и полотенце выпало из ее дрогнувших пальцев. Нэн подошла к двери и остановилась. Мойра же с горящими щеками оставалась внутри. Некоторое время две женщины в упор смотрели друг на дружку, и Нэн Хоган немного склонила голову набок, ведь у нее был один глаз.
— Неужели, — наконец спросила Нэн Хоган, — у тебя нет стыда, что ты вот так стоишь передо мной?
— Заходи в дом, — волнуясь, позвала Мойра Кейзи.
— Никогда! — вскричала Нэн Хоган и, как могла, замахала руками. — Никогда, пока ты в моем доме. Отправляйся, откуда пришла.
Жители Килбега вытянули шеи поверх ограды и, затаив дыхание следили за поединком. Так продолжалось довольно долго. Мойра Кейзи говорила мало, зато Нэн Хоган говорила много. Она нарисовала воображаемую жизнь Мойры Кейзи, но в этом не было ни силы, ни ожидаемого скандала.
— Что ж, — в конце концов произнесла Мойра Кейзи, — не хочешь входить, не надо.
И она закрыла дверь.
На какое-то время Нэн Хоган перенесла свое внимание на жителей Килбега, и в том, что она им сказала, не было ничего приятного. Миссис Мэнтон и вдова Лаури прилагали бесполезные усилия добиться взаимопонимания между двумя женщинами. Однако Нэн Хоган не желала входить в дом, а Мойра Кейзи — выходить из него. И не было возможности вывести их из тупика.
— Говорил ведь я, — сказал Пол Мэнтон, — все дело в законе.
— Трусливый Килбег! — кричала Нэн Хоган, с мольбой обращая единственный глаз к небу.
— Пусть Тим О’Халлоран разбирается, — стоял на своем Пол Мэнтон. — Он оставил дом Мойре Кейзи, а дом принадлежит Нэн Хоган. Пусть Тим О’Халлоран распутывает, что сотворил, если ему хватит ума.
Нэн Хоган подошла к закрытой двери и, прислонившись к ней спиной, опустилась на порожек.
Симпатии жителей Килбега были на стороне Нэн Хоган. Она же была одной из них, в отличие от чужачки Мойры Кейзи. Однако никто не желал выступать в роли судьи и не стремился, как сказал один из килбегцев, «делать из себя ни грязных судей, ни зачерствевшую скорую помощь». Будь на месте Нэн Хоган мужчина, захвативший форт, они бы давно выбили его оттуда, но перед ними маленькая женщина, а это уж не их дело. Если даже тут и требовалась сила, то женщины справятся как-нибудь сами, но все помнили, что было с Сарой Финнесси. Закрытая дверь и тишина внутри, никак не нарушаемая Мойрой Кейзи, предполагали силу, драку и решимость. Она сидела прямо, затаив дыхание и мысленно твердя девять пунктов закона. У жителей же Килбега не было уверенности в своей правоте, и они, не раздумывая, согласились с Полом Мэнтоном, что это дело решать Тиму О’Халлорану. Таким образом, пришлось запрячь лошадь в телегу, и два молодых человека помчались в Бохерлахан, чтобы поставить Тима О’Халлорана в известность о чрезвычайном положении, сложившемся в Килбеге.
— Что ж, — сказал Тим О’Халлоран, когда познакомился со всеми фактами, — Бохерлахан большая и нецивилизованная территория, здесь много гор, озер и лесов и не меньше чужаков, однако лучше уж быть на просторах Бохерлахана, чем загнанной в угол в Килбеге.
По дороге в Килбег ни слова больше юноши не слышали от Тима О’Халлорана, отчего решили, что он старается решить проблему, связанную с домом Нэн Хоган.
Однако, добравшись до Килбега, они были поражены, когда Тим О’Халлоран отказался сразу ехать на место сражения. Сначала он приказал отвезти себя к Полу Мэнтону, и там на кухне состоялся военный совет. Тим сидел, теребя подбородок, пока в кухню входили все новые люди и у него рисовалась полная картина происходящего. Нэн Хоган продолжала сидеть на порожке, ругаясь, плача и перебирая одно за другим все несчастья своей жизни, пока Мойра Кейзи сидела в доме тише мыши.
— Где Сара Финнесси? — спросил в конце концов Тим О’Халлоран.
— У себя дома. После того как ей досталось, она носа на улицу не кажет.
— Пришлите ее ко мне, — приказал Тим О’Халлоран.
Потребовалось много народу и много уговоров, прежде чем Сара Финнесси согласилась прийти к Тиму О’Халлорану.
Выгнав всех из кухни, Тим О’Халлоран остался один на один с Сарой Финнесси.
— Плохо дело, — сказал Тим.
— Меня это не касается, Тим О’Халлоран.
— Полагаю, ты ошибаешься, Сара.
— Еще чего?
— Ты и Нэн Хоган давно на ножах.
— Если и так, виновата Нэн Хоган.
— Знаю, Сара. Однако нынешнее дело с домом целиком в твоих руках. Никто, кроме тебя, с этим не справится.
— В моих руках?! — воскликнула Сара Финнесси, недоверчиво глядя на Тима О’Халлорана.
— В твоих.
Сара издевательски рассмеялась.
— Только ты одна во всем мире можешь сладить с Нэн Хоган.
— У меня не получится.
— Ты должна войти в дом и выгнать из него Мойру Кейзи на глазах Нэн Хоган. Тогда все уладится.
— Опять Мойра Кейзи? Да она же как настоящий барсук[4].
— На сей раз, Сара, она не посмеет драться.
— Даже если бы Килбег стал золотым и мне предложили это золото, я бы все равно отказалась, не будь у меня в руках топора или чего-нибудь потяжелее, — мрачно произнесла Сара Финнесси.
— Послушай, Сара, — сказал Тим О’Халлоран, поднимаясь, — жители Килбега тебя ни во что не ставят с тех пор, как Мойра Кейзи выгнала тебя за ограду. Никто не уважает тебя в Килбеге с тех пор, и если ты хочешь смыть пятно со своей репутации, то уладь это дело. Это твой шанс. Если у тебя получится, ты будешь самой уважаемой жительницей Килбега до конца своих дней. Сара Финнесси, не упусти свой шанс.
— Говорю тебе, Тим О’Халлоран, для этого мне понадобится топор, — стояла на своем Сара Финнесси, однако Тим не без удовольствия заметил, как на ее лице появляется решимость.
— Войди в дом с заднего входа, возьми метлу и прогони ее на глазах Нэн Хоган и всего Килбега. Ты сделала ошибку в первый раз, когда пренебрегла метлой. Все дело было в том, кто схватится за нее первой.
— А если она возьмет каминные щипцы? — предположила Сара Финнесси.
— Не дай ей времени. Да она и сама не посмеет. Ей ведь очень страшно сейчас. Люди окружили дом. У меня будут наготове несколько человек, если она пойдет на тебя с каминными щипцами.
Тим уговаривал и уговаривал Сару Финнесси, и она постепенно сдавалась. К тому времени, как она вышла из дома, у нее в глазах горел прежний огонь, выдававший ее наследственную любовь к стычкам. Ей хотелось отплатить Мойре Кейзи за унижение, которому та подвергла ее. Ее пальцы жаждали прикосновения метлы, ибо Сара Финнесси была готова к битве.
Тим О’Халлоран ухватил щипцами уголек и поднял его, чтобы раскурить трубку, а потом удобно устроился в кресле, и на его длинном лице появилась и исчезла безрадостная улыбка.
Сара Финнесси разыгрывала план кампании, придуманный Тимом О’Халлораном. Она тихонько пробралась к задней двери дома Нэн Хоган, бесшумно открыла ее и тотчас схватилась за метлу. Потом оглядела кухню. В ней было пусто. Тогда она быстро подошла к парадной двери и распахнула ее.
Нэн Хоган как раз взяла высокую ноту в своих причитаниях, когда почувствовала, что дверь за ее спиной открыта. Она огляделась, поднялась на ноги, и у нее перехватило дыхание от представшего ее глазам зрелища. Сара Финнесси, возмущенно оглядывая всех, крутила метлу над головой.
В ту же минуту из маленькой комнатки вышла Мойра Кейзи. Она сразу оценила ситуацию и застыла на месте, прижавшись спиной к стене.
— Господи, спаси и помилуй! — воскликнула Нэн Хоган. — Неужели это Сара Финнесси в моем доме?
— Убирайся прочь, — прокричала Мойра Кейзи.
Сара Финнесси замахнулась метлой на Мойру Кейзи. Удар пришелся ей по лицу, но в то же мгновение другой конец метлы оказался в руках Мойры. Сара хотела выдернуть метлу, но Мойра Кейзи была привычна не выпускать из рук того, что в них попадало.
Произошла небольшая схватка возле двери в комнату. Потом Сара Финнесси часто заявляла, что выиграла бы, если бы ее не слепил солнечный свет. Как бы то ни было, Мойра Кейзи прижала ее к стене, и дальше Сара помнила только твердые длинные пальцы у себя на шее. Дрожь пробежала по ее телу, потому что она сразу поняла, что это пальцы Нэн Хоган. Потом ее несколько раз подтолкнули сзади, и она почувствовала, как, шатаясь, перешагивает через порог. Сара Финнесси отлично слышала насмешливый шепот вокруг и, собрав последние силы, повернулась к двери и вытянула руки, чтобы схватить первую же из женщин, которая окажется рядом.
— Закрой дверь, иначе она убьет нас! — закричала Нэн Хоган, и дверь захлопнулась прямо перед носом Сары Финнесси. Напрасно она стучалась. А толпа все собиралась и становилась все насмешливее, тогда как дверь не открывалась, и Сара Финнесси почувствовала несказанное облегчение, когда рука Кристи легла ей на плечо.
— Идем домой, — сказал Кристи.
— Идем, — истерически крикнула Сара. — Пусть остаются тут, и Бог им судья.
Минутой позже миссис Мэнтон вбежала в свой дом.
— Это вы послали Сару Финнесси выгонять Мойру Кейзи?
— Да, было такое, — не выказывая никакого волнения, подтвердил Тим О’Халлоран.
— Ну так теперь там стало еще хуже.
— А те две в доме? — спросил Тим.
— Дома. И оттуда ни слова, ни звука не доносится.
— Отлично, — сказал Тим. — А теперь пора в Бохерлахан. Я тут провозился почти целый день, а у меня полно дел дома.
Миссис Мэнтон долго с удивленным видом смотрела Тиму О’Халлорану вслед. Постепенно она как будто поняла его, и лицо у нее вытянулось. Она уселась в кресло, обхватила себя руками и покачала головой.
— Ох, Тим О’Халлоран, — проговорила она в конце концов, — ты сущий дьявол.
Однако внутри дома Нэн Хоган было совсем не так спокойно, как все думали. Нэн чувствовала себя не в своей тарелке, потому что колотившая в дверь Сара Финнесси пугала ее. А с другой стороны стояла Мойра Кейзи, державшая наготове метлу. Сара Финнесси все равно проиграла бы, даже если бы дверь открылась. Когда же стало слышно, что Кристи уводит свою жену прочь, Мойра Кейзи аккуратно поставила метлу за дверь. Нэн Хоган, тяжело вздохнув, опустилась в кресло.
— Ну, вот я и пришла, Мойра Кейзи, — заявила, помолчав, Нэн Хоган. — Благодари за это Сару Финнесси, иначе я бы ни за что не встала на ноги.
— Когда вы вышли из больницы? — робко спросила Мойра.
— Сегодня утром, слава Богу, — ответила Нэн. — Стоило мне подойти к ограде, как килбегские разбойники сбежались здороваться со мной. Ничего, вот поднаберусь сил, я им все выложу, что у меня на уме.
Тем временем Мойра Кейзи разожгла плиту и поставила чайник, чтобы вскипятить воду. Единственный глаз Нэн следил за ней с растущей насмешкой. Когда же Мойра Кейзи потянулась за чайником, стоявшим на столе, Нэн повернулась к ней.
— Не трогай чайник, — крикнула она. — И не думай, что обвела меня вокруг пальца. Не такая уж я добренькая, как ты думаешь, Мойра Кейзи.
Мойра поставила чайник и повернулась к Нэн. У нее было расстроенное и даже испуганное лицо.
— Вы не позволите мне жить тут вместе с вами? — спросила она.
— У меня что, дом медом намазан?
— Я привыкла к нему. И мне страшно подумать, что опять придется бродить по дорогам.
— Плевать мне на твои страхи.
— Я могла бы помогать вам. Могла бы работать в поле через день и зарабатывать несколько шиллингов.
— Можешь работать, где и когда хочешь, но сначала уберись отсюда.
— Нэн Хоган, вы еще не совсем выздоровели. Если вам опять станет хуже, они отвезут вас в больницу.
— Нет, — в испуге вскрикнула Нэн. — Их карета никогда больше не остановится у моей двери.
— Тим О’Халлоран найдет способ увезти вас отсюда.
У Нэн Хоган задрожали губы, и она выглянула на улицу. От Мойры Кейзи не укрылся ужас, охвативший Нэн Хоган.
— Не мучай меня своими разговорами, — в конце концов проговорила Нэн. — На сегодняшнюю ночь можешь постелить себе в углу. Слишком поздно, чтобы отправляться в путь. Но завтра утром ты соберешь свои вещички и оставишь меня в покое.
Нэн прошла в комнату и закрыла дверь. Мойра Кейзи слышала, как она заперлась на задвижку, и печально уселась возле плиты. Как бы там ни было, тяжело думать о бродяжничестве, когда успеешь вкусить прелести домашней жизни. Время от времени взгляд Мойры обегал кухню, останавливаясь на предметах, которые стали милыми ей. Большую часть ночи Мойра просидела в кресле, тихонько оплакивая себя. Потом она набросала соломы на пол рядом с плитой и немного поспала.
Утром Мойра Кейзи вновь разожгла огонь, бросила крошек для курицы и ее потомства, сделала кое-что еще по хозяйству. Потом услыхала, как Нэн Хоган отодвигает задвижку.
— Мойра Кейзи, — позвала Нэн.
Мойра Кейзи бросилась к ней. Нэн Хоган сидела на кровати, поднявшись, только чтобы отодвинуть щеколду.
— Что это за шум там? Курица, что ли, приблудилась с цыплятами?
— Это моя собственная курица. Я взяла ее и яйца у миссис О’Хеа. Одиннадцать штук. Не успокоюсь, пока они тоже не начнут нестись.
— Ладно, — сказала Нэн, — можешь взять их с собой.
— Они останутся тут. Куда это я потащусь с ними, Нэн Хоган?
— А горшок с цветами, — проговорила Нэн, показывая на герань на подоконнике, — разбитый. Отдай его ребятишкам.
— Вы встаете, Нэн Хоган? — спросила Мойра Кейзи, пытаясь сопоставить сидение Нэн Хоган в постели с практичностью, осветившей лучом надежды ее сердце.
— Не сейчас, — немного смутившись, произнесла Нэн Хоган.
— Вы хорошо себя чувствуете? — продолжала расспрашивать Мойра, делая пару шагов внутрь комнаты.
Нэн опустила голову.
— Лучше некуда.
— Опять слабость в ногах?
— Вчера я переусердствовала. Постепенно все наладится.
Мойра Кейзи вышла в кухню и через некоторое время вернулась с чашкой чая и тостом. Не говоря ни слова, она поставила поднос на колени Нэн Хоган и опять вернулась в кухню.
В это время пошел проливной дождь. Мойра Кейзи стояла в дверях и смотрела на мокрую траву.
«Сегодня будет тяжело идти», — мысленно проговорила она.
Когда Мойра Кейзи появилась опять в комнате, от чая и тоста не осталось и следа. Нэн Хоган все еще сидела на кровати, перебирая большие коричневые бусины на покачивавшихся четках.
Мойра Кейзи взяла чашку, блюдце и повернулась, чтобы выйти из комнаты. В это мгновение Нэн Хоган прервала свои молитвы и взглянула на Мойру Кейзи.
— Когда ты уходишь? — спросила она.
— Дождь очень сильный, — ответила Мойра Кейзи.
— Скажи, Мойра Кейзи, — продолжала спрашивать Нэн Хоган, — кто-нибудь из твоих родственников плавает по океану?
— Нет, у меня никого нет.
— А у меня сын где-то в море, — сказала Нэн, — а все остальные на небесах. Я молю их, чтобы они вернули его мне.
И Нэн Хоган снова стала молиться.
Мойра Кейзи отправилась в кухню. Там она хваталась то за одно, то за другое, лишь бы что-то делать. Но большую часть времени она прислушивалась к звукам, доносившимся из комнаты, и руки у нее судорожно сжимались, когда она прислушивалась. Время от времени с ее губ слетало еле слышное: «Ей никогда не удастся вновь заполучить их к себе».
День уже приближался к концу, когда дверь комнаты отворилась, и Нэн Хоган — одетая — несколько неуверенно шагнула в кухню.
— Кто-нибудь из трусливых килбегцев приходил сегодня? — спросила она.
— Почти все перебывали тут, — ответила Мойра Кейзи, — но я сказала, что вы не желаете видеть их у себя дома. Я сказала, вы спите, потому что вам нужен отдых после болезни.
Нэн Хоган довольно хмыкнула:
— Пусть поторопятся повидаться со мной, когда голова у меня прояснится.
Мойра Кейзи двинулась к двери и посмотрела на небо.
— Дождь все еще проливной, — сказала она.
Нэн Хоган уселась возле плиты.
— Что ж, — проговорила она, — я должна благодарить Бога, что опять греюсь у своего очага. Еще один месяц в Бохерлахане, и у меня бы не выдержало сердце.
— Дома и стены помогают, — поддакнула Мойра, которая все еще стояла возле двери и смотрела поверх безлюдного пространства на туман, который то поднимался, то опускался на горы.
Нэн Хоган смерила Мойру Кейзи единственным глазом.
— Что-то ты уж очень задумчивая, — сказала она. — Похожа на старую больную курицу, которая часами сидит на насесте, опустив крылья.
— Я думаю о грязных дорогах и о единственных башмаках, которые у меня есть, — отозвалась Мойра Кейзи.
— Ох, — продолжала Нэн Хоган, берясь за щипцы, чтобы поправить огонь в плите, — в человеческой жизни без счета поворотов и зигзагов. Думаю, пару дней назад ты стояла на солнышке, чистя свои прекрасные крылышки, и думала, будто все здесь принадлежит тебе, потому что Нэн Хоган ни за что не встать на ноги и не отнять у тебя свое добро, которое ты присвоила.
— Ничего я не присваивала, — возразила Мойра Кейзи. — Я сохраняла ваше добро, не жалея рук, Нэн Хоган.
Мойра Кейзи вошла в кухню и сняла с гвоздя, вбитого в дверь с внутренней стороны, тонкую шаль, которую накинула себе на плечи.
— Дождь перестал.
Нэн Хоган поднялась с кресла и, останавливаясь, хромая, подошла к двери. Подняла голову к небу.
— Такому небу можно доверять не больше, — проговорила она, — чем соседской любви жителей Килбега.
— Мне пора, Нэн Хоган, — сказала Мойра Кейзи.
Нэн сделала вид, будто не слышит.
— Погляди вон на ту большую тяжелую тучу на западе. Она ни одной травинки не оставит сухой в горах.
Закрыв дверь, Нэн Хоган похромала обратно к огню. Потом ее взгляд упал на картинки, развешанные на стенах, на лица патриотов и политиков, святых и писателей, взятые из старых журналов.
— Еще чего не хватало, — заявила Нэн, не сводя с них недовольного взгляда. — Завтра сожгу их все.
Мойра Кейзи немного помедлила, внимательно глядя на Нэн Хоган. А Нэн уселась на прежнее место у плиты, после чего придвинула табурет и поставила его с другой стороны.
— Мойра Кейзи, — сказала она, — я рассказала тебе сегодня о моем сыне, который плавает по морям и океанам. Его увел из этого дома самый большой негодяй, который когда-либо лишал женщину ее последнего утешения. Сиди тут, пока я буду рассказывать тебе о красивом мальчике, которого забрало у меня море.
У Мойры Кейзи немного дрожали пальцы, когда она вешала шаль на гвоздь. Потом она подошла к табурету и села рядом с плитой Нэн Хоган.
Когда ночь опустилась на Килбег, две тщательно завернутые в шали фигуры, оставившие лишь маленькую дырочку для глаз, бесшумно перелезли через ограду и, тихонько подойдя к дому Нэн Хоган, заглянули в маленькое кухонное окошко. Они совершенно ясно увидели двух женщин, которые сидели около плиты, — Нэн Хоган и Мойру Кейзи. Нэн Хоган что-то говорила, положив руку на плечо Мойры Кейзи. А Мойра Кейзи очень внимательно слушала Нэн Хоган, время от времени отворачиваясь и тайком вытирая глаза.
Вдова Лаури локтем толкнула миссис Пол Мэнтон. Закутанная фигура вдовы Лаури возвышалась над закутанной фигурой миссис Мэнтон.
— Она рассказывает ей о своих несчастьях, — прошептала вдова Лаури. — Неудивительно, что у той слезы на глазах.
Миссис Мэнтон согласно кивнула.
— Они похожи на парочку старых подружек, — прошептала в ответ миссис Мэнтон. — Нэн Хоган нужен был кто-нибудь, с кем можно по вечерам беседовать у плиты.
— А если она опять заболеет, то рядом есть женщина, которая умеет управляться с больными.
— У меня такое мнение, — сказала вдова Лаури, — что Тим О’Халлоран придумал это с самого начала.
— Он у нас хитрец, умеет заранее все предусмотреть. Все понимает. Ты только подумай, ведь он использовал Сару Финнесси, чтобы соединить этих двоих.
— Посмотри! Они встают на колени перед плитой. И Нэн достает свои четки.
Талант
Двадцать пять лет Капитан поднимался и спускался по веревочной лестнице, не испытывая никаких неудобств. Его руки привыкли к веревкам, к катающимся бочкам, к подпрыгивающим ящикам, к погрузке и разгрузке «Золотого барка». Движения его рук стали частью палубного ритуала. И еще от Босса всегда пахло смолой. Ступни у него стали плоскими, руки округлились, шея подалась вперед, словно первым делом показывала лицо. Глаза были бледно-желтыми, как вода в канале. Взгляд проницательный, словно видел насквозь все окружающее, как воду канала. И еще капитан отличался спокойным нравом. Его чувства обретали силу и слабели как будто механически, регулируемые невидимыми запорами. Он был тихий, как утка. Звали его Мартином Кафланом и, насколько можно было понять по отдельным словечкам, бездумно слетавшим с его губ, приехал он с Севера.
В один прекрасный день на него вышел «Факел демократии». Эта организация придумала свой путь в жизни, и из всех людей ей потребовался именно Мартин Кафлан. До тех пор у него в мыслях не было отвечать за грехи мира, не мучился он и современными проблемами. В одном порту начинались его интересы и в другом заканчивались. Его миром было то, что он видел с палубы своего судна. Этот мир был хорош, и капитан радовался жизни.
А потом к нему пришли и сказали, что он выбран членом комитета. Тогда он расплылся в улыбке, потому что считал, хотя прежде и не думал об этом, что он избранный, что ему еще предстоят большие почести. Он шел туда, где собирался комитет, с ленивой грацией, и в голове у него не было ни единой мысли о том, кому и зачем нужно это собрание. Вопросов он не задавал. Уселся среди остальных и огляделся. Мужчина за столом читал вслух какую-то книгу. Мартин Кафлан рассмеялся и сразу же почувствовал, как все взгляды обратились на него.
Глубокий голос с нотой грусти, если не отчаяния, призвал к порядку. Мартин Кафлан ткнул соседа в бок локтем, желая показать, что он оценивает юмор происходящего.
Потом мужчина, сидевший во главе стола, поднялся с места. Он был худощавый, с висячими усами, проницательным взглядом и голосом, который звучал высоко и пронзительно в тесном помещении.
Мартин Кафлан поглядел на оратора. И его жизни коснулось что-то редкое и неожиданное. Он не мог понять, откуда этот хлюпик взял столько слов, которые текли ровным потоком. У него явно была какая-то цель, но что это за цель, Мартин Кафлан не понимал, да и не старался понять. Ему было достаточно того, что слова не затихали ни на мгновение. Никогда еще ему не приходилось слышать, чтобы человек с такой легкостью, не прерываясь, говорил, словно река лилась широко и свободно. Мартин Кафлан откинулся на спинку стула, и на лице у него было выражение удовольствия.
Потом встал другой человек. Он тоже говорил, и даже лучше первого. И энергично жестикулировал. Другие начали бить себя ладонями по коленкам. Мартин Кафлан последовал их примеру, ощущая себя избранным. Он как будто ожил.
Потом заговорил толстый мужчина. Его голос разбудил дремавшее эхо. У этого мужчины огнем горели глаза, впиваясь сначала в одно лицо, потом в другое. Вдруг его взгляд остановился на Мартине Кафлане; этот человек обращался к нему, как будто напрямую разговаривал с его разумом! Он спорил с ним, жестикулировал, выкладывал ему все свои логические построения.
У Мартина Кафлана вскипела кровь. Он почувствовал на затылке биение пульса и кашлянул, чтобы снять напряжение. Взгляд оратора переместился на другого.
И так продолжалось несколько часов. Мужчины уже забыли о своем хладнокровии. Некоторые говорили одновременно. Мартин Кафлан весь покрылся потом. Один раз он крикнул: «Послушайте, послушайте», потому что слова стали казаться ему знакомыми.
Когда заседание комитета закончилось, он с горящими щеками вернулся на свое судно, ощущая, что совершил нечто героическое. По дороге ему попался Хайк. Маленький механик почтительно поглядел на него. Смуглый сидел на ящике ближе к корме.
— Закончилось заседание? — спросил он.
— Закончилось, — ответил Мартин Кафлан.
Голос у него вдруг стал хриплым. Во рту пересохло. Он подошел к бочонку и выпил целую кружку воды.
Потом Мартин Кафлан, преисполненный некоего нового чувства, стал мерить шагами палубу. Он был переполнен мыслями. Однажды его видели жестикулирующим на берегу перед кустом. У него появилась новая интонация в голосе, когда он говорил с наземными службами. И он постоянно откашливался.
Несколько раз во время еды казалось, что он готов произнести речь. Но каждый раз что-то мешало ему. Прослушав ораторов на заседаниях комитета, он возвращался с сияющим лицом.
— Говорили речи, — обычно сообщал он.
— О чем говорили?
Мартин Кафлан поднимался со своего места. Поправлял китель, призывал к молчанию. Вдохновенное выражение озаряло его лицо. Однако за этим не следовали слова. Мартин Кафлан брал ковш и отправлялся на палубу.
— Великий человек. Он-то уж ничего не выдаст.
— Правильно, парень, но он все знает. Он бы и секреты кабинета не выдал.
Однажды смуглый принес из деревни газету.
— Речи они не печатают, — сказал он. — А вот имя — пожалуйста. Мартин Кафлан.
Мартин Кафлан взял в руки газету. Он медленно провел взглядом по буквам своего имени. И весь вечер он только и делал, что водил глазами по словам. Когда в его каюту заходили, он говорил:
— Ребята, а ведь храбрая газетка.
Потом он зажег свечу и опять сидел над газетой, заново прочитывая все подряд, включая рекламу. Когда он выпрямился, его лицо сияло удовольствием, а в глазах было выражение человека, достигшего некоей цели.
— Ребята, я тщательно прочитал все от начала до конца, от носа до кормы, от одного бока до другого.
Однако ответом ему был густой храп. И ему ничего не оставалось, как, чертыхнувшись, вернуться к себе.
Вскоре было назначено следующее заседание комитета. Речи сыпались на голову Мартина Кафлана, как роса с неба. Язык! Ничего подобно ему до сих пор не приходилось слышать. Более того, ему стало ясно, что остальные считаются с ним. Он сидел, как судья, как самый важный слушатель, какой когда-либо появлялся в этом помещении. Ораторы чувствовали, что наконец-то получили понимающую их аудиторию. Время от времени Мартин одобрительно кивал. Для этого стоило потратить силы в долгих дебатах. Когда же он недовольно качал головой, это удручало говоривших. Но они продолжали свое дело, сражаясь, споря, борясь за его мнение. Однако Мартин Кафлан с потрясающей воинственностью держал свое мнение при себе. Его так просто не проведешь.
— Мартин, о чем они говорили вчера? — как-то спросили его.
— Это, — ответил Мартин, помолчав, — секрет.
— Он слишком себе на уме, — рассудили его подчиненные. — Он позволяет себе говорить только на заседаниях комитета. Надо как-нибудь послушать его, когда он расслабится.
Смуглый был в восторге от газеты. Он регулярно брал ее в деревне.
— Вот, — проговорил он удовлетворенно, — на сей раз они напечатали речи. Теперь мы узнаем, что там говорит Мартин Кафлан.
Однако в газете не оказалось речи Мартина Кафлана. Каждый что-нибудь да сказал, кроме представителя «Золотого барка».
Смуглый расстроился.
— Не обращай внимания на газету, — сказал ему Мартин Кафлан. — Что в ней хорошего? Я с самого начала понял, что в ней есть течь.
Однако он чувствовал, что его люди разочарованы. Топнув ногой по палубе, он потребовал внимания и сказал:
— Господин председатель, джентльмены… смею думать. — Он помолчал. — По моему разумению, — продолжил он и опять замолчал. — Сегодня мы будем стоять тут. — Мартин Кафлан обвел берег затуманенным взглядом. — Прошу ваших предложений.
После этого он пробежался туда-сюда по палубе, с удовольствием потирая руки.
— Слишком он умный, — сказал один из мужчин. — Он думает, будто обманет нас своим притворством. Не получится.
Прежде чем началось следующее заседание комитета, Мартин Кафлан отвел секретаря в сторону. Секретарь был умным человеком, и члены комитета подумывали о назначении ему жалованья.
— Джон, — с непривычной для комитетчиков фамильярностью обратился к нему Мартин Кафлан, — я хочу, чтобы ты рассказал мне, как это делается.
— Что делается?
— Ну, речи; язык, слова, много слов.
Джон удивился. Потом его осенило.
— Знаешь, это заложено внутри человека.
— Что заложено внутри?
Джон помедлил, подумал, потом сказал:
— Талант.
Мартин Кафлан был поражен в самое сердце. Он понял, что в жизни есть нечто не доставшееся ему.
— А где можно получить этот талант? — спросил он после долгого молчания.
— Не знаю, — ответил его собеседник. — Он внутри.
— А, понятно, — повеселел Мартин Кафлан. — Джон, — признался он секретарю, — у меня он есть внутри. Там есть речь, великая речь. Но я не могу вытащить ее наружу.
— Наберись храбрости и хватай свой шанс. Встань. Посмотри всем в лицо. Когда ты сделаешь это, слова польются сами собой.
— Ты думаешь, Джон?
— Конечно.
Джон умел уговаривать, ведь это ему приходилось вселять уверенность, пробуждать надежду — и вытягивать жалованье.
— А газета, Джон? Если я найду слова, то они наверняка будут там. И их будут читать, чтобы понять, зачем я говорил их.
— Ах это, Мартин? — Джон похлопал его по плечу. — Все будет в порядке, старик. Оставь это мне. Голосуй за жалованье, и ты будешь выглядеть как нельзя лучше в газете.
— Спасибо, Джон. Я так и сделаю.
Когда наступил критический момент дебатов, Мартин Кафлан поднялся со своего места. Он подошел к столу, постучал по нему костяшками пальцев, призывая к тишине, поправил воротник кителя. Принял позу, которую репетировал на своем судне. Она напоминала позы великих ораторов, запечатленных в мраморе и бронзе.
Он оглядел помещение. Воцарилась гробовая тишина. Мужчины подались вперед, желая узнать, что скажет в этой критической ситуации вечно молчавший член комитета, их аудитория, не проронившая пока ни звука.
— Мистер председатель, мистеры джентльмены, — произнес Мартин Кафлан, борясь с волнением.
Послышался смех. Мартин Кафлан облизал губы, потому что они неожиданно высохли и стали как деревянные. Коленки у него дрожали так, что стукались одна о другую. Тогда он откашлялся.
— Джон, наш секретарь, — произнес он наконец, — сказал мне, что если я выйду сюда, то слова польются из меня сами собой.
Он помедлил, оглядываясь в ужасе и понимая, что все пропало. Потом он страдальчески улыбнулся.
— Продолжайте, — поторопил его председатель.
— Он сказал, — сделал еще одну попытку Мартин Кафлан, но едва слышно, — что, если я встану перед вами, они польются сами. А они — прости Господи — не льются.
Он сел на свое место. Вокруг смеялись и аплодировали.
Все смотрели на Мартина Кафлана с той смесью скептицизма, радости, насмешливого удовольствия, с какой всегда смотрят на поверженных богов. Они забавлялись выставленной напоказ пустотой, сорванной маской, благоразумием, оказавшимся ничем.
Мартин Кафлан был до того взволнован, до того смущен, что не замечал жестокой перемены. К тому времени, как он очнулся, рядом никого не было. Он больше никого не интересовал. Он больше никого не привлекал своим глубокомыслием. Инстинктивно Мартин Кафлан подался в тень и просидел в тени до конца собрания.
Когда он пришел на свое судно, то и команда приветствовала его не так, как раньше. Что-то пробормотав в ответ, он отправился в свою каюту. И оставался там весь вечер.
— Комитет, — сказал он смуглому на другой день, — он — гнилой.
— Так я и думал с самого начала, но не хотел говорить, чтобы не расстраивать вас.
— И невежественный, — добавил Мартин Кафлан.
— И это тоже.
В конце недели появилась еще одна газета. Смуглый, прочитав ее, поглядел на Мартина Кафлана и подошел к нему.
— Послушайте, босс, — сказал он, протягивая руку, — давайте пожмем друг другу руки.
Они обменялись рукопожатием, но боссу было явно не по себе.
— Это была великая речь, — сказал смуглый. — Вы зря теряете тут время.
Мартин Кафлан покраснел, и взгляд его выразил сомнение. Смуглый оставил ему газету.
Мартин Кафлан уселся на бочку и развернул газету. Опять его имя! Он медленно прочитал его. «Мистер Мартин Кафлан, встреченный громкими аплодисментами, и…» — После этого шла целая колонка слов, фраз, речи. С сжимающимся сердцем он дочитал ее до конца. В скобках было много «тише, тише», «аплодисменты», «смех». Когда он закончил читать, встал и пошел на палубу, грудь у него была гордо развернута, а плоские ступни уверенно шагали по деревянному полу.
— Там все правильно, босс?
— Все правильно, правильно до последней буквы, ребята, — ответил Мартин Кафлан, не вступая в объяснения.
— Эй, босс, а как бы нам послушать вас?
— Еще послушаете.
— Значит, послушаем?
— Послушаете, обязательно послушаете.
Он пробежал ладонью по волосам, сверля взглядом пространство, далекое пространство за пределами знакомого пейзажа. Понемногу разогревавшаяся кровь, поднимаясь все выше и выше, красила ему щеки, пока они не стали багровыми, а она продолжала равномерно подниматься, словно кто-то открыл шлюз.
— Господи, вот тебе и речь, — повторял он целый день.
В первый раз в жизни он не пошел в «Райский уголок», когда они пересекали болото. А вместо этого спустился в свою каюту в наедине с самим собой несколько раз прочитал свою речь.
Постепенно он одолел привычку думать, будто это нечто вне его жизни, отдельное от него. Больше он не повторял: «Господи, дай мне речь». Он говорил: «Великая речь; великолепная фраза; что надо. Что надо. Я бы тоже так сказал. Точно так же сказал бы все до единого слова. Как раз вертелось у меня в голове. Я должен был это сказать. Если не сказал, то все равно собирался сказать. Совсем забыл. А может быть, я сказал? Наверняка сказал. Конечно же, сказал. Почему нет? Именно это, ну да, в точности это. Если я произнес одно слово, то произнес и другое. Не мог же я сказать одно и не сказать другое. Что могло меня остановить? Ничего. Так оно и бывает. За одним словом тянется другое. Иначе не бывает. Наверняка я это сказал. В самом деле, я все это сказал, слово за словом».
Капитан продолжал уговаривать себя, пока остальные не вернулись из «Райского уголка».
Он подошел к смуглому.
— Я скажу тебе, что это такое, это очень хорошая статья; очень хорошая статья; лучше не бывает. Там все слово за словом, черным по белому.
И он, сложив руки в кулаки, ударил одним по другому.
— Капитан, — проговорил матрос, почти изобразив почтительность на длинном узком лице, — вы великий человек, талантливый человек. Чтобы так сказать, надо иметь талант.
— Это точно, — согласился Мартин Кафлан, делая несколько шагов вдоль груза, закрытого промасленным брезентом. — Я сказал Джону, секретарю, что это есть внутри меня. Что, я вас спрашиваю, есть такого внутри меня? Талант!
— Ну вот, слава Богу, мы все скоро услышим вас, — заявил смуглый. — Скоро будет большой митинг.
Мартин Кафлан тяжело вдохнул:
— Ты мне не говорил.
— Говорил. И в «Райском уголке» об этом шла речь. Там будет много ораторов. И мы так решили, что вы покажете нам свой талант.
— Это правильно, — сказал Мартин Кафлан, но без особого энтузиазма. И опять пробежал ладонью по волосам. Потом он отошел от своей команды и встал на носу, так что его крепкая фигура была отлично видна на фоне воды.
— Большой он человек, чтобы чесать с нами язык, — без всякого почтения произнес урод. — Ты только погляди, какие у него сильные ноги, которыми он попирает землю.
После этого Мартин Кафлан и вовсе затаился, притих и старался избегать всяких упоминаний о предстоящем митинге. Матросы говорили, что он готовит себя к великому делу. Но время от времени они замечали, что он поглядывает в газету с речью. Ночью он лежал в своей каюте, не гася свечи, и читал речь. Пару раз слышно было, как он что-то бормочет, как мальчишка, который зубрит урок. В эти дни все видели, что он был бледнее обычного. И на его лице появлялось задумчивое выражение.
— Капитан, — спросил его один из матросов, — вы не заболели?
— Заболел, — ответил Мартин Кафлан и печально пошел прочь.
Однажды матросы проснулись и услыхали, как он расхаживает по палубе посреди ночи. Смуглый поднялся по трапу и покрутил над трюмом рукой. Через некоторое время он вернулся.
— Он в одной рубашке на палубе. Луна его освещает, и ноги у него, как две белые колонны. У него с собой та газета. Я слышал, как он произносит слова. Он теряет их, пытается поймать снова, спотыкается и чуть не падает на них, словно сошел с ума. И еще он проводит ладонью по волосам, и ветер раздувает рубашку.
— Держись, — сказал урод, поворачиваясь на своей койке, — сегодня холодная ночь, и я рад, что у меня нет таланта.
День, назначенный для митинга, приближался, о нем все чаще заговаривали, и уныние Мартина Кафлана усиливалось. Как будто тяжелый груз гнул его к земле. Один раз он отвел смуглого матроса в сторону.
— Ты знаешь, что комитет сегодня собирает митинг? — спросил он.
— Знаю.
— И ты помнишь, что я когда-то давно сказал тебе о комитете? Я сказал, что это гнилой комитет.
— Сказали. Я помню.
— И еще я сказал, что это невежественный комитет.
— Правильно, вы так сказали.
— Ты согласился со мной. У нас был одинаковый взгляд на этот комитет. Отлично. Поэтому я не собираюсь доставлять ему удовольствие и сочинять для него речь.
— Какая жалость. Ведь у вас талант.
— Вот-вот. Все из-за таланта. Как я могу использовать свой талант для прогнившего, невежественного комитета?
Для смуглого это был трудный вопрос. Возможно, в этот момент выбора, когда времени уже не оставалось, Мартин Кафлан продемонстрировал талант политика.
Он шагал по палубе.
— Никогда! — воскликнул он решительно и взмахнул руками.
Митинг прошел без Мартина Кафлана, который даже не появился на нем. Но «послал просьбу» вычеркнуть его имя из списка членов комитета.
— Ну, конечно, — сказал один из мужчин. — Что толку в робких утках?
Команда «Золотого барка» была разочарована тем, что Мартин Кафлан не продемонстрировал свое сладкоречие перед собравшимися. Они даже считали, что с ними поступили несправедливо. Но сам Мартин Кафлан явно повеселел. Опять, обходя судно, он насвистывал. Шаги его плоских ступней стали еще большей, чем всегда, частью палубного ритуала. Изгиб шеи повернул его голову немного в другую сторону. Глаза стали еще бледнее и желтее. Его взгляд снова искал воображаемые каналы на берегу. Мартин Кафлан был счастлив, как утка в воде. Один раз смуглый спросил его:
— Капитан, что сталось с газетой, где была напечатана ваша речь?