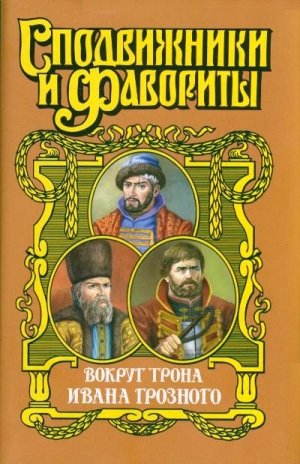
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Каждый правитель оставляет определённый след в истории жизни своей страны. У царя Российского Ивана IV, прозванного, как и его великий дед, Грозным, этот след весьма противоречив и не поддаётся однозначной оценке.
В самом деле: покорение Казани, жившей в основном за счёт грабительских налётов на Средневолжские и Приокские княжества; разгром стотысячного крымского войска хана Девлет-Гирея, возомнившего устроить столицу обновлённой Золотой Орды в Москве; завоевание Астрахани с целью обеспечения южных границ от вражеских нашествий и расширения торговли с Восточными странами; и, наконец, завершение разгрома Сибирского татарского ханства, начатого ещё при Иване Третьем Великом, что обеспечило большую безопасность для русских промышленников, торговцев и землепашцев продолжать заселение Сибири. Во всех этих так необходимых в то время для России свершениях участвовали славные сыны отечества братья Воротынские, Шереметев, братья Мстиславские, Курбский и десятки других верных присяге и своему ратному долгу воевод-стяжателей исторических побед.
Не менее важное значение имел переход от удельно-княжеской системы охраны границы к единой государственной системе, с введением чёткого устава для пограничной стражи. Эта решительная и довольно смелая для того времени мера, с одной стороны, позволила более надёжно защищать Российские украинные земли от разорительных набегов крымских и ногайских орд, своевременно обнаруживать крупные вражеские силы, идущих большим походом на Русскую землю, а с другой — отодвинула пограничную полосу глубже в Поле.
Главным исполнителем воли государя Ивана IV был истинный патриот России воевода князь Михаил Воротынский.
Ещё одним знаменательным событием явилось строительство крупного порта на Белом море — Архангельска. Были открыты очередные ворота для развивающейся торговли со странами Западной Европы. Вместе с тем Архангельск стал крепким оборонительным форпостом Северных окраин от алчных соседей, жаждущих овладеть Поморьем как плацдармом для дальнейшего движения в Центральную Россию.
В первую половину царствования Ивана Грозного шли успешные сражения за возвращение исконно русских земель на западе, обманом захваченных в годы татаро-монгольского ига Польшей и Литвой. Сложность борьбы заключалась в том, что Литву и Польшу поддерживала Швеция, которая сама стремилась к захвату русского Поморья. По «государеву слову» строились (тайно от врагов) боевые корабли, чтобы неожиданным мощным ударом по морю умерить непотребные аппетиты алчных соседей. Увы, более полусотни мощных (по свидетельству английского посланника Гарсея) боевых кораблей, вполне готовых к морским сражениям, так и остались стоять на якорях в затоне близ Вологды. Они даже не приняли участия в отражении морских набегов шведов на острова Белого моря и берега Кольского полуострова.
Не поддержал Иван Грозный и предложения дьяка Посольского приказа Герасимова обустроить острогами, взяв под государеву руку Северный морской путь в тёплые моря и на Амур. Более того, царь вообще запретил плавание по Ледовитому океану, даже в Мангазею, центр меновой торговли русских с народами Сибири, существовавший многие сотни лет. Почему? Ни современники, ни нынешние исследователи не нашли вразумительного ответа на этот вопрос.
При Иване Грозном были проведены и административные, как их теперь называли бы, реформы. Разработаны они были государственниками Адашевым и Сильвестром. Особенно важным преобразованием можно считать «практическое» создание дворянского сословия, которое стало играть важную роль в управлении страной и в укреплении её оборонной мощи. Но, увы. Все эти, да и не только эти, полезные дела затмила невероятная жестокость самодержавца, его неописуемая разнузданность, кровожадность и скоморошничание, развивавшиеся под влиянием окружившей трон стаи алчных, не имевших ни совести, ни чести волкодлаков. Имена тех, кто вроде бы безоглядно служил царю, но на самом деле готовил ему смерть, стали нарицательными. Малюта Скуратов, Вяземский, отец и сын Басмановы, Богдан Бельский, Борис Годунов — вот кучка гонителей славы и чести.
Но каждый из них получил по делам своим.
Однако Россия от вакханалии вокруг трона потеряла очень много. Пришлось оставить все земли, отвоёванные у Польши и Литвы. Кровь, пролитая русскими ратниками, оказалась напрасной. Более того, больших успехов в своих захватнических планах добилась Швеция — она заняла всё русское побережье Балтийского моря, вплоть до Новгородской Водьской пятины с её крепостями Усть-Нево и Орешек.
Подробнее о событиях и о людях, окружавших трон Грозного царя, читатель узнает, прочитав биографические очерки, представленные в книге.
СИЛЬВЕСТР
После удачной соколиной охоты Иван Грозный пировал в доме настоятеля церкви Преображения Господня. Вина и хмельные меды лились рекой. Скоморохи забавляли царя. Скоморошничал и сам царь. Вот уже стал тесным пятистенник священника — Грозный велел идти на вольный воздух, где и продолжать пир под кривляние скоморохов. Суматоха началась невообразимая.
И вдруг — напряжённая тишина: во двор входит толпа, числом более пятидесяти, и — бух в ноги государю. Не только он перепуган, но и все его сотрапезники трясутся: как такое могло случиться?
Царь, понятное дело, за самого себя испугался, а князья и бояре — за свои животы: а ну, решит дознаться, по чьему злому умыслу свершилось такое из ряда вон выходящее событие? Тогда их всех, поодиночке, в пыточную, а затем, тайным ходом, в Москву-реку. С камнем на шее.
Скор на расправу Грозный.
Наиболее догадливые отгораживают государя от толпы, вроде бы готовые грудью защитить помазанника Божьего. Однако толпа, упавшая на колени и склонившая головы, бородами гладила нежную траву, не намереваясь что-либо делать.
— Кто такие?! — наконец прозвучал строго вопрос.
— Избранные от всех сословий Пековым городом. Челом бьём на наместника твоего, государь великий, князя Турунтая-Пронского. Зорует зело. Дышать невмоготу.
Иван Грозный едва не задохнулся вскипевшим гневом: как можно хулить его, государя, наместника?! Тем более что князя хвалят не только братья Глинские, но и мать их — Мария.
«Проучить! В назидание другим!»
Топнув ногой и стукнув о землю посохом, Иван Грозный прошипел:
— Раздеть донага!
— Выслушай, царь-батюшка, нас, — вставая с колен, заговорил дюжий молодец, явно из ремесленников. — Если мы не правы, тогда уж...
На него налетело с дюжину бояр с криком «Молчи, наглец!» Наиболее ретивые тут же начали стаскивать с него кафтан.
— Я сам, — повёл плечами смельчак, и бояре отсыпались от него горохом. — Я сам!
Молча, с неторопливой основательностью скидывали с себя одежды посланцы Великого Пскова, недоумевая, чем не доволен государь и почему не выслушал их.
А пьяные бояре, князья и дворяне меж тем подгоняли их, чтоб, значит, поторапливались исполнить волю государя; каждый из них хорошо понимал причину его гнева: Турунтай — угодник Глинских, а державой правят именно они. Иван же Грозный, который хотя и пыжится, но на самом деле, ловок и умён только в наказаниях и необузданных прихотях. Оттого-то, понимая, насколько велик риск потерять голову — кому не дорога голова на плечах? — мало кто осмеливался перечить царю. Да и не могли приспешники знать, что на сей раз придумает Грозный, чтобы потешить себя и всю их честную компанию.
— Нагреть вино до кипятка! — стукнул посохом о землю Иван Грозный. — До кипятка!
Что-то новое.
Увы, потешную новинку никому не удалось ни лицезреть, ни участвовать в ней: к воротам усадьбы настоятеля церкви подскакал на взмыленном коне тысяцкий царёва полка и, спрыгнув с седла, бухнулся в ноги Ивану Грозному:
— Государь, Москва пылает. Огонь перекинулся на Кремль. Упал большой колокол Успенского собора. Буря несусветная и огонь! Подобного Москва не видывала!
— Коня! — крикнул Иван Грозный, и уже через несколько мгновений скакал сломя голову в свой стольный град.
Несмотря на хмель в голове, осознал царь по взволнованности доклада вестника необычность случившегося, но пока не мог представить, сколь ужасен пожар. Начался он за Неглинною, на Арбатской улице. Не велика вроде бы беда: пожары мелкие случались всё чаще и чаще, ибо всё более и более теснилась Москва. Так уже часто бывало: сгорит несколько домов, но в конце концов общими усилиями всё-таки Сдавалось загасить огонь. На сей раз, однако же, словно по колдовскому наущению налетела страшная буря, которая подхватила языки пламени, принялась швырять их на Великую улицу, на Варварку, на Покровскую, Мясницкую, Дмитровскую, Тверскую.
Запылал Китай. Огонь перекинулся через кремлёвские стены. Первым заполыхал Успенский собор. Из него успели вынести только образ Марии, писанный святым Петром митрополитом, и «правила церковные», остальное всё сгорело. Даже мощи святых.
Рёв бури. Дикая пляска огня. Вопли сгоравших заживо. Никто не думал о том, чтобы уберечь от огня ни казну, ни оружие, ни древние картины и книги — спасали свои жизни, а не богатство, нажитое праведно или неправедно.
В один день, как потом подсчитали пережившие несчастье, сгорело в Москве тысяча семьсот человек, деревянные дома превратились в пепел, кирпичные — рассыпались.
Что мог сделать царь, скакавший к Москве, бушующей адским пламенем и воющей невиданным доселе вихрем? Ивану Грозному осталось одно: искать себе временное жильё.
Выбор пал на Воробьёвы горы.
Только к утру огонь, насытившись и пожравши всё, что мог, утих. Успокоился и ураган. Вот тогда Иван Грозный поехал к митрополиту в Новоспасскую обитель, куда тот сбежал от пожара. Государь хотел получить благословение на восстановление Кремля и всего стольного града. Благословение он получил, однако Скопин-Шуйский и духовник царский по наущению митрополита и его непосредственной поддержке начали утверждать, что пожар московский — наущение дьявольское, вызванное колдовством Глинских, особенно Анны, матери Михаила и Фёдора. Она якобы вынимала у мертвецов сердца, опускала их в воду с колдовскими наговорами, затем кропила той колдовской водой все улицы, тёмными ночами ездя по Москве.
Иван Васильевич от своих подданных не отличался — был тоже суеверен. Хотя и удивившись услышанному, он всё же велел боярам, особенно Тайному дьяку[1], начать розыск. Шуйские воспряли. Им казалось, что они теперь свергнут власть Глинских, их действия стали решительными и быстрыми. Уже на следующий день оставшиеся в живых, но потерявшие всё нажитое, взбудоражились. Шуйскими, через своих слуг, был распространён призыв: «Смерть колдунам Глинским!» С каждым часом он захватывал всё новых и новых сторонников.
Князь Михаил Львович Глинский, дядя государев, посчитал за лучшее на время покинуть Москву, посоветовал сделать это и брату своему, князю Фёдору, но тот отмахнулся, считая обвинения их семейства в колдовстве и поджигательстве не заслуживающими внимания. Не уговорив брата, Михаил взял с собой мать, бабку государеву, и поспешил в Ржевское своё поместье. Шуйские схватили его, обвинив в стремлении сбежать к польскому королю, а Фёдора толпа растерзала.
Возбуждённая, почувствовавшая силу свою толпа погорельцев (раззадоривали которую слуги Шуйских) двинулась к путевому дворцу на Воробьёвых горах требовать от царя казни Глинских и всех княжеских приспешников. Имена их выкрикивались всё теми же слугами Шуйских, сами же князья, особенно Скопин-Шуйский, наседали на Ивана Грозного, дабы тот казнил тех, кого требует казнить народ, чтобы успокоить бушующую толпу, которая может в противном случае наделать бед, захватив дворец. Шуйские и их сторонники видели себя победителями, надеясь, что царь выполнит их требования, увы, Иван Грозный уже привык решать судьбы подданных своих самостоятельно. Он поднял угрожающе руку.
— Умолкните все! Воля моя такая: Михаила Глинского освободить немедленно! Сейчас же подготовить полутысячу конных стрельцов моего полка, облачив их в доспехи. Мне тоже — кольчугу с зерцалами и коня. Я сам выведу своих стрельцов.
Решительный момент: склонись толпа, скинув картузы и шапки перед государем, всё могло бы пройти без кровопролития, но толпа, особенно нанятые Шуйскими крикуны, завопила ещё громче:
— Смерть курдушам[2]!
— Смерть их пособникам!
Вскипел гневом Иван Грозный и — воеводе своего полка, конь которого по правую руку от государя прядал ушами и требовал повода:
— Усмири! Горлопанов излови отдельно, дознаюсь в пыточных, по чьей воле бунтуют!
Всадники врезались в толпу, рассекая её ударами нагаек и держа направление к примеченным крикунам; толпа, однако, всё более упорно сопротивлялась детям боярским[3] царёва полка, всё чаще болезненное ржание коней вплеталось в зловещий ропот толпы — ловкачи начали засапожными ножами подсекать коням бабки, этого не могли снести всадники: в воздухе замелькали акинаки[4] и мечи; полилась кровь.
Разбушевался и сам Иван Грозный. Подбадривал ратников своего полка, приказывал охватить обручем смутьянов и сечь всех поголовно, пока не опустятся на колени.
Новая полутысяча уже начала выпластывать из ворот дворца, и будто из-под земли вырос перед разгневанным царём настоятель церкви Благовещения иерей Сильвестр[5]. Иван Грозный знал его как священника крепкой веры, искренне озабоченного нравами паствы. И не только своего прихода, но и всей России. Царь даже читал им написанный «Домострой», несколько раз исповедовался у него, мыслил даже взять себе в духовники, почитая его приветливость и разумность советов, без назойливости высказываемых. Таким, как в этот раз, Сильвестра Иван Грозный никогда не видел: лик иерея суров, глаза пышат гневом, в высоко поднятой руке — Библия.
— Останови избиение овец Божьих! Не лей христианскую кровь, упиваясь властью своею! Она дана тебе Господом Богом для заботы о христианском люде, а не для кровожадности! С тебя спросится Господом нашим, но и люди могут спросить с тебя. Не остановишься, прокляну! И народ проклянёт тебя. А Господь воздаст тебе по делам твоим! Смертельный грех по поводу и без повода лить христианскую кровь. Ты — государь. Ты — благодетельный отец нации, а не тиран. Останови побоище! Молю тебя именем Господа. Останови! Или будешь проклят!
Нет, это не плевок в лицо и даже не хлёсткая пощёчина, это — удар наотмашь по темечку. Разве можно такое стерпеть?!
Пара ретивых телохранителей выхватила акинаки, ещё миг, и голова столь решительной смелости священника плюхнется к ногам единовластца, но Иван Грозный крикнул поспешно:
— Назад!
Он казался кроликом, попавшим под завораживающий взгляд удава. Таково, во всяком случае, было впечатление у окружавшей царя свиты.
Сильвестр же не опускал руки с Библией. Он ещё раз, даже с большей настойчивостью, потребовал:
— Останови кровавую бойню!
Совсем немного помедлив, Иван Грозный велел воеводе своего полка князю Владимиру Воротынскому[6]:
— Уводи во дворец.
Ударил набат. Не тревожно, а умиротворяюще, и всадники с явным удовольствием повернули коней в обратный путь, хотя и не вкладывали в ножны окровавленные мечи и акинаки. Но осторожничали напрасно — толпа расступалась пред всадниками охотно, и что удивительно, не улюлюкала им вослед, теша свою победу, а смиренно молчала. Ещё удивительней было то, что все смахнули колпаки и шапки, когда заговорил царь Иван Грозный. Как ни суди, а простой народ его уважал.
— Идите с миром. Виновных в смуте прощаю. Зачинщиков тоже. Выделю из казны малоимущим на домы взамен сгоревших. За грехи мои — простите!
У бояр, князей и дворян челюсти отвисли: вот это — перемена нрава. Надолго ли?
Иван же Грозный обратился к Сильвестру:
— Зову во дворец мой на беседу с глазу на глаз.
Ещё больше удивились придворные, многие скрипнули зубами, поняв, что к трону вполне может приблизиться ярый противник развратного самоуправства, а это совсем ни к чему.
Но что они сейчас могли сделать? Они выберут нужное время. Пока же — выказывай внешне уважительность к столь смелому священнослужителю.
Уединились в домовой церкви. Иван Грозный пал на колени пред образом Спаса, то и дело крестясь, зашептал истово молитвы, но так невнятно, что Сильвестр, отбивавший поклоны слева и пытавшийся понять суть обращения царя к Богу, не мог этого сделать. Иногда только улавливались фразы из псалмов царя Давида.
— По уму бы — исповедоваться мне, но я хочу беседы с тобой. И не столько о моих грехах, сколько о причинах, толкнувших меня на грехи тяжкие, — проговорил царь и пригласил: — Пошли.
Молча миновали несколько палат, и в небольшой полутёмной комнате Иван Грозный указал Сильвестру на лавку.
— Садись. Садись и слушай.
С неподдельной горечью он принялся выворачивать душу наизнанку, старательно оправдывая и свою необузданность, и свою вспыльчивость, и свою ненависть, месть, к большинству князей, которые все детские годы унижали его донельзя. Исповедь была даже более откровенно безысходной, чем при первой беседе с Михаилом[7] и Владимиром Воротынскими, когда он распахнул душу перед ними после их освобождения из подземелья. На сей раз это были жалобы человека, глубоко переживавшего свой недавний позор, свою обиду на тех князей и бояр, кто жаждет трона, волею Господа Бога предназначенного только ему одному. Единовластцу.
Сильвестра удивляли не сами факты бесчинства бояр — он, как и многие священнослужители его ранга, знал довольно много о жизни Государева Двора. Иерей понимал, что вопиющие факты унижения малолетнего царя, интриги, ложь и разврат, царившие в Кремле, развращали не только царствующего ребёнка, но и всю Россию (рыба с головы гниёт), это и подвигло Сильвестра на создание нравственного наставления христианам, заставило сесть за «Домострой». Теперь его удивило столь оголённое признание самовластца в своей беспомощности, хотя и о ней Сильвестр был наслышан. Он со своими друзьями дьяком Адашевым, братом государя Владимиром Старицким с князем Андреем Курбским не единожды говорили о том, как поправить дело, более того, у них имелся выработанный план преобразования управления Россией, и сейчас Сильвестр готов был ответить откровенностью на откровенность, и только насилуя себя, не делал этого.
Поступок не ахти какой честный, зато, Сильвестр считал, полезный и для него лично, и особенно для России. Любой совет сейчас, когда царь в таком напряжении, не может быть воспринят с должным вниманием. Это — первое. Но более значительно иное: выскажи он все свои мысли сейчас, царь может больше не позвать его к себе. Что-то государь примет, на что-то не обратит внимания, но, чтобы добиться того, о чём говорилось в кругу друзей, нужно долгое и настойчивое влияние — следует стать необходимым царю. Быть ему не духовным отцом — он у царя есть, Фёдор Брамин, и пусть остаётся — а ближним советником.
Перекрестившись, Сильвестр заговорил:
— Слов нет, иные бояре и князья не блюдут заповеди Господни. Не все, однако. Не опора ли тебе братья Воротынские? Не поддержка ли тебе князья Шереметевы? Да мало ли честных, болеющих душой за отечество твоё. Не гневи, мой совет, Бога, не хули всех скопом. Приближай к себе честных и преданных. И всё же, как я считаю, у бояр следует повыдёргивать маховые перья. Как? Дай, государь, подумать недельку, благословясь у Господа Бога. Я дам тебе знать, как буду готов к беседе.
Вот так. Не единовластцу определять срок для беседы, а всего лишь настоятелю церкви Благовещения. Иван Грозный, однако, вовсе не обратил на это внимания.
— Хорошо, — кивнул он согласно.
Неделя прошла в нескольких встречах с друзьями и сторонниками нестяжательства и соблюдения устоев славяноруссов (Сильвестр был ярым поборником идей Нила Сорского[8]), но главное, в переписке набело «Бесед Валаамских чудотворцев». Этот морально-нравственный кодекс в основном для духовенства, особенно же для монашества, вот уже несколько месяцев ходил по рукам служителей церкви, у одних вызывая восторг, у других — злобу. Дознаться, кто автор этого убийственного памфлета, стремились и те и другие. Нестяжатели, чтобы достойно почитать его в своих рядах, стяжатели — чтобы предать анафеме, а то и расправиться: сжечь по решению церковного суда в железной клетке, как с согласия начавшего царствовать сына Ивана Третьего Великого Василия Ивановича[9] сожгли на Красной площади выдающихся российских мыслителей, обвинив их в жидовствующей ереси и колдовстве только за то, что они боролись с безудержной алчностью духовенства, особенно высшего. Увы, поиски автора памфлета были безуспешны. Чудотворцев Сергия и Германа, от чьих имён он написал памфлет, в Валааме не было.
Не сам ли Сильвестр его автор?
Главная мысль, которую твёрдо отстаивали «чудотворцы» — удел духовенства жить в бедности и молиться, соблюдая строго все посты, а следить за этим (какая наивность) должны правители всех рангов и самолично царь. С памфлетом Сильвестр собирался непременно познакомить Ивана Грозного.
Вот уже переписана набело «Беседа Валаамских чудотворцев», но задержка оказалась в другом: затягивалась подготовка списков, содержащих сведения о том, какими средствами и какими землями располагают высшее духовенство и монастыри. Сильвестр знал, что они громадны и никак не соответствуют нынешнему состоянию российского общества, однако лишь голословные утверждения о сложившемся положении дел не очень-то убедят Ивана Грозного — нужны цифры.
Неделя на исходе, дьяк же Поместного приказа, добровольно взявшийся пособить Сильвестру, не укладывался в срок. Он просил ещё пару деньков.
— Ладно, — согласился Сильвестр, — обойдётся, быть может.
Обошлось. Иван Грозный, когда миновала неделя, не напомнил Сильвестру об уговоре, а терпеливо ждал вести от самого иерея, и как только дьяк Посольского приказа справился со своим добровольным уроком, встреча Сильвестра с царём состоялась сразу же.
— Чем порадуешь? Чем огорчишь? — спросил Иван Грозный.
— Ни то ни другое не приготовлено. Только советы. Разумны они или нет, тебе, государь, судить.
— Выкладывай.
— Перво-наперво покайся перед народом. Прощения попроси за опозоренных посланников Великого Пскова, за кровь, пролитую после пожара, за то, что не видел ничего и никого, упиваясь борьбой с наглостью князей и бояр, многим из которых желательно сидеть на троне державы Российской. Позови для этого подданных от всех сословий всех старейших городов и выйди к ним со своим покаянным словом. Объяви, что станешь впредь принимать челобитные от каждого подданного, и определи сразу же, кто будет разбираться по каждой челобитной для доклада тебе.
— Не унизительно ли для царя? Трепет перед наместником Бога на земле не потеряется ли?
— Нет. Напомни собранным Завет Господа Бога, а он таков: царь — благодетель, а не тиран. Кто осудит, кто отнесётся к тебе с пренебрежением, если ты будешь править по Заветам Господа? Если только церковь. Вернее, митрополит и его клир.
— Не злословь всуе. Ты же сам не из рядовых служек.
— Оттого и говорю, что много знаю, много вижу. Посуди сам, государь, церковь давно нарушила священное: Богу — богово, кесарю — кесарево. Церковь и светское правительство слились воедино.
I Церковь сама управляет своим имуществом. Церковные земли никак не зависят от твоей воли, воли Думы и приказов. Церковь судит своим судом. Она ме отчитывается в своих доходах, не платит пошлин. Вот тут список, чем владеет российское духовенство. Погляди.
— Почитай сам и поясни.
— У митрополита владения в пятнадцати епархиях. Доход годовой более трёх тысяч рублей. Архиепископ Новгородский имеет и того больше — ежегодный доход его десять-двенадцать тысяч рублей. Чуть беднее другие епископства, но те тоже далеко не убогие. Что удивительно, приходское духовенство страшно ущемлено: денежная руга — 12 копеек или чуток больше, а земли же в основном десятины три-четыре. И это при том, что монастырские общины владеют почти четырьмя миллионами десятин, имея от земли ежегодно дохода почти девятьсот тысяч рублей. Более чем шестьсот тысяч крестьян, обрабатывающих монастырские земли, тоже живут не богаче приходских священников. Вот такие загребущие руки у тех, чей удел творить молитвы к Господу Богу, дабы ниспосылал он благо всем страждущим на земле.
— Выходит, твой совет: монастыри, клир и лавры — под самый корень?
— Не совсем. Конечно, если продолжить дело деда твоего Ивана Великого, польза для России будет неоценимая. Дед твой, отбирая неправедно приобретённые монастырские земли, наделял ими служилых людей. Он, по сути дела, создал новое сословие — дворянство. Не завершил дед задуманного, докончи его ты. Возвеличь дворянство, умножь его многократно, тогда сами собой выпадут маховые крылья у бояр, кто всеми силами цепляется за удельное право, то есть за власть над тобой. А церковь — на их стороне.
— Ложное слово. Церковь почитает меня наместником Бога на российской земле, молится за здравие моё.
— Показушничает. Не митрополит ли в сговоре с Шуйскими устроил бунт в Москве после пожара? Если, государь, серьёзно вдумаешься, поймёшь. Митрополит Макарий спит и видит возвращение к удельщине. А молитвы? Церкви всё одно, за кого молиться, лишь бы с пользой для себя.
— Кощунствуешь. Не боишься суда Божьего за греховные слова?
— Разве грешно говорить истину? Скажи, разве не молились церковники за здравие и долголетие монгольских ханов. Да. И ради только того, чтобы те не обложили их данью? Иль православными были ханы? Они — притеснители христианского люда, грабители. Они обложили Русь непомерным ясаком и к тому же — данью крови: всякий первенец мужского пола полагался быть отданным монголам. Они выращивали из них нукеров. Тех самых, которые ходили и ходят набегами на русские земли. Вот и суди: на ком грех? Я не злословлю, я говорю правду.
— Какой же совет твой?
— Урезать права церкви. Обязать верхи духовенства заботиться о нравах священнослужителей, особенно монахов и монахинь. Вернуть в казну неправедно приобретённые земли монастырями, наделив ими дворян, с твёрдой обязанностью править службу. В основном — ратную. Но и иную, для державы твоей полезную. Лучших из дворян бери в своё окружение.
— Вы вроде бы сговорились с дьяком Адашевым. В одну дуду дуете.
— Мы с ним в самых добрых отношениях. Не стану скрывать, идея общая. Да и не только нас двоих. Её поддерживают довольно многие. Против церковной алчности — нестяжатели. И хотя по воле отца твоего свершилась устрашительная казнь тех, кто был душой нестяжательства, но это не сломило волю тех, кто любит Россию. Их сегодня сотни. Их — тысячи.
— Но есть и противники. Вот у меня целое послание. Пересветов незнаемый пишет: скопление земель в руках монастырей — зло. Но не будет ли не меньшим злом и раздача земель служилым людям. Обирая крестьян, они поведут жизнь в лености и разврате. Не исключено, что станут они выпускать и коготки.
Как в воду глядел мудрый и дальновидный публицист, скрывший своё имя под псевдонимом Пересветова. Так всё и случилось. Не вдруг, конечно, но коготки, какие начали выпускать новоиспечённые дворяне, получившие власть, почувствуют на себе честные люди уже при царствовании Ивана Грозного. Их коварные происки не обойдут стороной и Сильвестра. Ему, однако, не дано было это предвидеть, он был захвачен идеей преобразования, которое, как он полагал, в единовластии, подкреплённом новым сильным сословием — дворянством.
— Не руби только сплеча, — продолжал Сильвестр. — Бояр оттесняй исподволь, а с церковью поступи так: собери Собор, и пусть ему принадлежат решения и о нравах, и, главное, о земле. Пусть Собор осудит стяжательство. Вопросы, какие ты поставишь перед Собором и потребуешь решить, поручи подготовить мне.
— Небось, они уже готовы?
— В основном.
— Представь их мне. Я сам ещё подумаю над ними.
И современники, да и историки расходятся во мнениях о роли Сильвестра в подготовке Собора 1551 года, вошедшего в историю под именем Стоглавого, ибо постановления его имели сто глав. Одни предписывали всю организаторскую работу только Сильвестру, а сам Собор считали величайшим событием, сильно изменившим жизнь в России; другие считают, что Сильвестр был только исполнителем повелений Ивана Грозного, а Собор признают пустопорожним. Говорить, кто прав, вряд ли логично. Определённая доля уверенности есть лишь в том, что основные вопросы, которые предстояло решать Собору, предложил Ивану Грозному Сильвестр, безусловно, выработав их совместно с Адашевым. Однако и сам государь вряд ли оставался в стороне, ибо он, по свидетельству современников, не чурался черновой, как бы мы теперь её назвали, работы. Более того, Иван Грозный отсылал и подготовленные вопросы, и даже первые решения Собора в Троицкую лавру, где тогда находились опальные сторонники Нила Сорского бывший митрополит Иоасаф, епископ Ростовский Алексей и другие, тоже опальные нестяжатели. Их оценки решений, принимаемых на Соборе, озвучивались, что вполне могло влиять на ход обсуждения проблем. Именно под их влиянием, как утверждается, удалось в какой-то мере решить — хотя далеко не в полной мере — проблему земель, незаконно приобретённых монастырями.
К сожалению, материалы Стоглавого собора полностью не сохранились. Видимо, это было в чьих-то интересах, но и по остаткам видно: он явился полем упорного противостояния сторонников прошлой удельной системы (их возглавлял митрополит Макарий) и сторонников политических, экономических и церковных реформ, задуманных царём под влиянием Сильвестра, Адашева и других патриотов России.
Такие выдающиеся историки, как Карамзин и Соловьёв, которых порой называют казёнными, считали Стоглавый собор значительным событием в жизни пашей страны, но на самом же деле на его заседаниях забалтывалась любая серьёзная проблема. Вроде бы спорили очень заинтересованно, дело иной раз доходило даже до потасовок, но всякий раз так уходили и сторону от сути, что от неё оставался пшик.
Всего лишь один пример: проблема распущенности духовенства и монашества, погрязших в содомском грехе. Спорить начали бранчливо, а в ходе спора уходили всё дальше и дальше от главного — от поисков ответа на вопрос, как поправить положение — и дошли в конце концов до мелочи: решали, если монахиня занедюжит, может ли она исповедоваться у церковного священнослужителя? Решили — может. А содомский грех? Да Бог с ним, с грехом.
Только одно решение Стоглавого собора в какой-то мере соответствовало духу устремлений молодого царя — отмена местничества.
Местничество — старинное право бояр и князей занимать должности в соответствии со знатностью рода, а не в зависимости от ума, в зависимости от способностей и сноровки. Это весьма пагубно сказывалось на всей системе управления, но самое главное — на ратных делах. Особенно во время походов и сражений, где очень важно единоначалие, разум, воля воеводы. Так вот, Собор дал согласие упразднить местничество, однако с оговоркой: во время походов и боев.
Поистине бурю вызнал вопрос о монастырской земле. Сам митрополит Макарий, архиепископы, епископы и настоятели монастырей завопили, что грех посягать на собственность церквей и монастырей, ибо она от Бога, потому священна. Ссылались на то, что даже безбожные монголы не свершали подобный грех.
Полный провал. Собор снизошёл лишь до укора тем, кто без должного внимания заведует собственностью, данной Богом. Под сильным нажимом царя и сторонников полнокровной церковной реформы святые отцы уступили казне только те земли, которые перешли (мягко выражаясь) к монастырям и клиру без «государева доклада».
Забегая вперёд, нужно сказать, что это поражение не остановило царя Ивана Грозного, на которого продолжал влиять Сильвестр, да так основательно, что след его остался даже после опалы. Через несколько лет, в 1573 году, по указу царя «посвящённый собор» постановил: в пользу богатых монастырей вотчин не завещать. А в 1580 году как чёрному, так и белому духовенству было запрещено приобретать какие бы то ни были земли ни за деньги, ни в качестве дара.
Рост церковно-монастырских земельных владений полностью прекратился.
А что с Сильвестром?
Он до 1560 года оставался на посту советника и как член Избранной рады, как любимец царя, не ослаблял своего влияния на него. Однако деятельность иерея оценивается не однозначно. Для наглядности приведу только два противоположных мнения весьма известных историков.
К. Валишевский:
«...был ли Сильвестр настолько крупной личностью, чтобы играть видную роль при таком человеке, как Иван? «Домострой» не обнаруживает в нём ни дальновидного политика с широкими планами, ни высокого моралиста. Кроме «Домостроя» до нас дошли ещё три послания Сильвестра, но и в них нет ничего, кроме чистейшей чепухи».
Н. Карамзин:
«Смиренный иерей, не требуя ни высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, чтобы утверждать, ободрять юного венценосца на пути исправления... Сильвестр возбудил в царе (добавим: совместно с Адашевым) желание блага... По крайней мере, здесь начинается эпоха Иоанновой ела вы, новая ревностная устремлённость в правлении, ознаменованная счастливыми для государства успехами и великими намерениями».
Чего стоит только одно покорение Казани!
Но всё это — до болезни Ивана Грозного. В тот решительный час Сильвестр ратовал за присягу Владимиру Андреевичу Старицкому, а не сыну-младенцу государя. И всё же какое-то время после того как государь оправился от хвори, всё шло прежним порядком, ибо царь будто бы простил всех своих противников. Сильвестр вошёл в свиту, сопровождавшую Ивана Грозного в богомольную поездку, которую предпринял по обету Богу, пославшему выздоровление. Иерей даже предостерегал царя от встречи со злобствующим затворником Вассианом, опасаясь дурного влияния на молодую, ещё не окрепшую душу государя. Иван Грозный впервые за много лет не послушал первого советника, своего духовного пастыря, а после беседы с Вассианом изменился до неузнаваемости. Впрочем, иного ничего не могло произойти. Выходец из Лифляндии Вассиан был епископом Коломенским, играл заметную роль в Кремле при Василии Ивановиче, а ещё большую при Елене правительнице. Отличался он лукавством и жестокосердием. По его слову не один десяток преданных России вельмож был отправлен на Лобное место под топор палача, за что после кончины Елены его лишили сана и заточили в монастырь на Яхроме.
Предвидя возврат к прежней кровожадности царской, избегая расправы над собой, Сильвестр постригся в монахи и в 1566 году смиренно ушёл в мир иной, в мир без тревог и волнений, в мир, где не царствует злоба.
АДАШЕВЫ
Братья Алексей и Даниил Фёдоровичи — худородные. Алексей Адашев — постельничий у царя-ребёнка, затем и юного самодержца. Даниил начал с милостенника в царёвом полку. Оба брата оставили весьма заметный след в истории России. Алексею Фёдоровичу современники давали, на мой взгляд, даже преувеличенную оценку. Его сравнивали с земным ангелом при помазаннике божьем. «Имея нежную, чистую душу, нравы благие, разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, он искал Иоанновой милости не для своих личных выгод, а для пользы отечества, и царь нашёл в нём редкое сокровище, друга, необходимого самодержцу». О Данииле Фёдоровиче отозвались скромнее: «Достойный брат любимца государева искусством и смелостью заслужил удивление, россиян». Зря летописец не добавил, что его воеводские подвиги многочисленны и значимы.
Знатный воевода, тоже удостоенный как и старший брат чина окольничего, всё же остался в тени Алексея. Она в значительной мере заслонила его заслуженную славу.
Что же делать? История — капризней самой вздорной девы.
Алексей Адашев, будучи постельничим венценосного ребёнка, болел душой за него, переживал наносимые тому боярами обиды, возможно, более чувствительно, чем сам ребёнок. Он-то, Алексей, был старше и понимал больше. Постельничий утешал Ивана, давал ему советы, как вести себя с наглецами. Иногда это были жёсткие советы, хотя сам Алексей был ярым противником жестокосердия. Однако обстановка в Кремле диктовала ему свершать противные духу поступки.
Подрастая, Иван Васильевич всё более и более понимал, что худородный постельничий — самый преданный его слуга, и постепенно они распахивали души встреч друг другу. И всё же долго ещё Иван Васильевич, даже понявший свою власть и начавший мстить обидчикам, всерьёз не прислушивался к советам Алексея Адашева. Не отдаляя его от себя, продолжал часто с ним уединившись долго беседовать. Постельничий неотступно твердил, что не пытки и казни изменят положение дел в Кремле, да и во всей России, но уменьшение влияния боярства на дела государственные.
Адашев не просто советовал, а предлагал пути исправления неправедности: судебная реформа, которую начал Иван Третий Великий, но не довершил; смена боярства дворянством, которую тоже начал Иван Третий; реорганизация ратного устройства и, наконец, преобразования церковно-монастырского устройства. Цель этих последних заключалась в том, чтобы лишить церковь тех прав, которые подлежат только Думе, Приказам и государю-самодержцу, урезав ради этого земельные владения митрополита, его клира и многочисленных монастырей, тем самым значительно сократив доходы духовенства, которые те используют для обеспечения своей власти над светским правительством и даже над царём-самодержцем.
Царь, уже получивший прозвище Грозный, не отвергая советов Адашева, продолжал лить кровь и скоморошничать на троне. Только падение в Кремле Большого колокола и страшный пожар в Москве отрезвили юного самодержца. Он, кажется, всерьёз задумался о советах постельничего, тем более что дополнительным толчком этому послужил уже упомянутый отчаянный поступок иерея Сильвестра и последовавшая за этим затянувшаяся беседа с Адашевым.
— Хватит постельничать да советы мне давать, — заявил Алексею Иван Грозный. — Пора, засучивши рукава, пособлять мне проводить в жизнь твои разумные советы. Я уже поручил Сильвестру готовить церковный Собор, тебе поручаю подготовку Вселенского собора, что надобно провести на Красной площади. Покаюсь перед подданными, потом примемся за преобразования. Вселенский собор — раньше церковного. Готов ли ты к такой работе?
— Да, государь. Со всем старанием примусь за столь важное дело. Не почтёшь за ошибку, доверив мне благое.
Успешно справился Адашев с первым заданием: через малое время в Москву были присланы из всех городов люди, избранные от всякого чина и состояния. Они собрались на Красной площади в день воскресный после обедни. Иван Васильевич вышел к ним из Кремля, сопровождаемый духовенством, боярами и дружиной воинской. Отслужили молебен. Иван Грозный с первым словом — к митрополиту:
— Святой владыко! Знаю усердие твоё ко благу и любви к отечеству, будь же мне поборником в моих благих намерениях.
Митрополит троекратно осенил венценосца нагрудным своим крестом и напевно так:
— Благословляю тя именем Господа Бога нашего.
Замерла Красная площадь, о каких таких благих делах скажет государь, уже давно вызывавший ужас у честных граждан, особенно сановитых? Его правление в последние годы — расправа, расправа, расправа. Как с виновными в крамоле, так и без вины виноватыми.
И вот, неожиданное для всех: Иван Грозный начал прилюдно исповедоваться, но обращаясь не к митрополиту, а к боярам и князьям.
— Рано Господь Бог лишил меня отца и матери, а вельможи не радели о мне: хотели быть самовластными. Моим именем похищали чины и чести, богатели неправедно, теснили народ. И никто не поднимал голоса протеста. Один мой слышен был — глас вопиющего в пустыне. И ещё — лились мои слёзы. Замкнувшись в себе, я казался слепым и глухим. Не внимал стенаниям бедных, и не было обличения зла в устах моих, — длань царя словно повисла над думными боярами, князьями и думными дворянами. — Вы делали что хотели, злые крамольники, судьи неправедные! Какой ответ дадите нам ныне?! Сколько слёз, сколько крови от вас пролилось?! Я чист от сей крови! А вы ждите суда Божьего!
Вот теперь всё вроде бы встаёт на свои места: сейчас царь Грозный крикнет именем Божьим палачей, и пойдёт потеха. Перед ликом не только москвичей, а и всей России, которая своими выборными как бы благословит очередное кровопролитие.
Ничего подобного. Иван Грозный поклонился низко во все стороны и заговорил иным тоном, полным покаяния:
— Люди божьи и нам Богом дарованные, молю вашу веру к нему и любовь ко мне: будьте великодушны. Нельзя исправить минувшего зла, могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте чего уже нет и не будет! Оставьте ненависть, вражду — соединимся все любовью христианскою. Отныне я судья ваш и заступник.
А дальше ещё радостней, ещё вдохновляюще: прощение всем виновным в неладности державной, призыв радеть за отчизну всем, от мала до велика.
И первый богоугодный шаг к исполнению обещанного:
— Отныне я стану принимать челобитные от каждого обиженного. За разбор их и доклады мне лично ответственным определяю Адашева, рода не знатного, оттого не спесивого, доступного каждому. Отныне он — окольничий.
Возликовала площадь: благодетельный царь — чего лучшего можно желать? Иван же Грозный, ещё раз поклонившись избранным из сословий, торжественно удалился в Кремль. А новоиспечённому окольничему повелел:
— Завтра на утреннюю молитву — в мою домовую церковь.
— Благодарствую, государь!
Разговор, после молитв перед образами, короткий:
— Через полгода — церковный Собор. В подготовку его не вмешивайся — он поручен Сильвестру. Подсказать ему — подскажи, если найдёшь нужным и если он попросит твоего совета. Для тебя главное: указы и законы по преобразованию, тобою предложенному. Они должны быть готовы до Собора. Я намерен получить его благословение.
— Не ахти как велик срок, управиться всё же можно.
— Не можно, а нужно. Кровь из носу.
— Управлюсь. Дозволь, государь, сегодня же от твоего имени определить урок всем Приказам, собрав главных дьяков?
— Собирай. За тобой слово твоё, я тоже послушаю. А если кто закапризничает, приструню.
Никто даже не подумал сказать Адашеву противное при государе. Впрочем, все дьяки поняли, что предлагаемое выскочкой, возвысившимся по случаю, не в ущерб, а во благо России. Да и им самим тоже. Их права не ущемляются, напротив — растут. Особенно это касается Поместного и Разрядного приказов. А что ещё нужно чиновникам? Не заволокитят решение вопроса, если оно им самим даёт выгоду.
Ко всему прочему, ещё и Иван Грозный предупреждает:
— С великой разумностью исполняйте урок. И без волокиты. Кто не управится к сроку, не обессудьте — придётся уступить место более разумным и оборотистым.
Как тут не засучишь рукава?
Особенно, конечно, доставалось самому Адашеву. Он крутился как белка в колесе, но вскоре оценил сполна народную мудрость: дурная голова ногам покоя не даёт. Он намеревался поднести государю проекты всех указов и законов вместе, а это дело очень трудно исполнимое. С избытком рутинной работы для постельничего, пусть он и семи пядей во лбу. Слава Богу, дьяк Поместного приказа ему подсказал:
— Не хватайся за всё сразу. Ты прикинь, с каким делом спорей можно управиться, а на какое времени больше потребно. Вот меня, к примеру, стегай не стегай, я из шкуры никак не вылезу прежде времени. Мне от всех царёвых наместников нужно получить точные сведения о земле вольной и о той, какую можно изъять в пользу казны, тогда только появится возможность обмозговать, сколько и где дворян сажать.
Поругав себя за неумелость, Адашев начал приглядываться и прислушиваться, а долго ли до разумности, если по уму подойти. Смышлёные подьячие, кому было поручено готовить Судебник, уже, можно сказать, заканчивали его основу. Они, сравнив древнюю Русскую Правду с Русской Правдой Ярослава Мудрого, а затем с Судебником Ивана Третьего, нашли в них полное сходство в нормах ответственности за свершённые нарушения правил общежития и за преступления. Менялись в какой-то мере только формы судопроизводства и его цели. Судебник 1497 года был подчинён идее централизации власти, в то же время отдавал дань славянорусским традициям, шёл на уступки общинам городов и посёлков; им предоставлялось право участвовать в суде через своих выборных представителей: старост, сотских, добрых людей, то есть присяжных.
Подьячие решили не менять этого принципа, внося лишь изменения в организационные формы — установили единый порядок для всех областей, и так как они делились на округа, губы, то в каждом округе избирался губной староста. Все судебные дела, кроме уголовных, переходили в их руки. В таком виде представили проект Судебника Алексею Адашеву. Тот, однако же, смотрел дальше подьячих, он видел в Судебнике основу реорганизации всей системы местного самоуправления, на которую можно возложить большую ответственность перед государством. Он внёс существенные добавления. Перво-наперво вменялось в обязанность губным старостам судить уголовные дела. Во-вторых, общине, во главе с губным старостой, надо было распределять налоги и собирать их. И наконец, Адашев предложил в статьи о холопстве внести такое изменение: дети, рождённые до перехода родителей в холопство, считаются свободными; запретить продавать детей в рабство родителям свободных состояний; тем же, кто готов продать себя в рабство, может это делать «в любое время года».
Читал ли Адашев внимательно древнюю Русскую Правду? Ведь в ней чёрным по белому написано, что те, кто продаёт себя в рабство добровольно, карается смертью. Может, он и читал, и знал о таком порядке, но эпоха первых русских царей стала иной, чем эпоха вечевого правления, эпоха князей-воевод, полностью подчинённых вече и на нём выборанным степенным посадникам. Народ сам решал, как ему жить, а не самодержцы, окружившие себя далёким от людей боярством, а затем и дворянством. В древности у славяноруссов было установлено так: даже пленённый вражеский воин, вступив на Русскую землю, почитался совсем свободным.
Иван Грозный, обычно вносивший поправки в документы, ему представляемые, на этот раз вернул Судебник Адашеву с похвалой.
— Готовь несколько списков для утверждения на Думе, затем и на Соборе.
— У меня, государь, есть просьба: дозволь приобрести печатную машину или, для ускорения дела, заказать своим умельцам?
— Разумно. Не нужны переписчики, за которыми глаз да глаз, чтобы не перепутали чего или не добавили отсебятину. Машина не наврёт, сколько бы раз ни тискал на бумагу. Дерзай.
Алексею Адашеву того и надо. У него почти всё было готово для типографии, он только ждал удобного момента получить одобрение государя. Через две-три недели печатный станок заработает.
— Как с законом о дворянстве? — спросил Иван Грозный. — Скоро ли?
— Приблизительно через месяц. Не все губернии прислали расклад свободных и доступных для передачи в казну земель. Не промахнуться бы в спешке.
— Ладно. Поспешай не егозя.
Ни Иван Грозный, ни Алексей Адашев ни полусловом не обмолвились о челобитных. А их — мешки. Десяток подьячих парят лбы, их разбирая, даже сквернословя в адрес жалобщиков: более половины жалоб ну никак не для Кремля, тем более для царя всей России. Пастух загнал в реку стадо и долго держал в холодной воде, отчего многие коровы застудили вымя. Сосед нарушил межу. Соседская коза забралась в огород, всё потоптав и попортив посадки. Особенно много тяжб было о захвате земли. Не четей[10], а клочков. Такие споры — для общинных судов. Кремлю не до этих мелочей. Вот будет принят закон о губных старостах — им и вожжи в руки.
Оставляли без внимания подьячие и челобитные серьёзными просьбами — зачем государю лишняя докука? Есть его наместники, пусть они и решают, рассудили подьячие. Только жалобы на самих наместников и бояр-притеснителей откладывали в отдельную папку для доклада Адашеву. Пухла эта папка, а никому до неё не было интереса. Естественно, что постепенно и сами подьячие тоже стали относиться к своей работе спустя рукава. Они знали, что царь, Адашев и почти все приказы заняты преобразовательными проектами.
И в самом деле, на очереди реорганизация службы управления. И здесь Иван Грозный поддержал Адашева, предложившего отобрать тысячу самых лучших из детей боярских для высшей столичной знати, разделив их на три класса, или статьи, и в соответствии со статейностью наделить в ближнем Подмосковье поместьями. Эта новая аристократия основательно потеснит спесивых бояр и станет исполнять свои обязанности ревностно, ибо за нерадивость последуют наказания: на первый случай — понижение в статье, если же это не поможет — вон из тысячи. С потерей, само собой, поместья.
В этой реорганизации уже можно видеть зачатки опричнины. Не предполагал Алексей Адашев, что своими руками готовит себе и брату своему мучительную кончину.
Разделение на статьи так понравилось Ивану Грозному, что он велел этот же принцип применить и для реорганизации ратной службы. Не всех дворян, определённых в полковую службу, стричь под одну гребёнку, но каждому по его статье — определённый надел и определённые обязанности.
Получив такие указания, Поместный и Разрядный приказы быстро управились со своими уроками. Определили норму: с сотни четей пахотной земли дворянин выставляет на ратную службу для боев и походов одного конного ратника с запасным конём. Сам тоже выступает в поход. Вместо конника возможен денежный взнос. Вопрос оставался лишь в том, где и сколько дворян наделить поместьями.
Официальная московская летопись, подтверждают которую списки Разрядного приказа, сообщает такие данные о количестве уездных полковых дворян: по Суздалю — 636, по Можайску — 486, по Вязьме — 314... Список длинный, приводить его полностью, считаю, нет смысла, понятно и так, что основой войскового комплектования, особенно низового командного состава, стали дворяне, и это значительно увеличило мощь Вооружённых сил России. Лучше стала их организация. Всё это не замедлило сказаться на ратных успехах в борьбе с алчными соседями.
Алексей Адашев занимался проектами реорганизации системы управления страной и ратной службы, стараясь проводить свои идеи через Вселенские соборы (за 1550-1553 годы их было проведено шестнадцать), он успевал к тому же вести переговоры как с теми, кто лелеял захватнические устремления, так и с теми, кто стремился к дружбе с Россией, кто хотел с нею прибыльно торговать — вскоре стал руководителем Посольского приказа, выдающимся для своего времени дипломатом. Брат его, Даниил, тем временем стяжал славу храброго и удачливого ратника в сечах с набегами крымцев и казанцев, стремительно повышаясь в чинах. Недоброжелатели, считавшие Адашевых выскочками по случаю, злословили, будто Даниил не храбр, а труслив, да и не так умён, как его превозносят, а его тянет за уши старший брат, ставший любимцем царя.
Конечно, поддержку Алексея исключить полностью нельзя, но не Алексей же сражался с ворогами за Даниила, выказывая невероятную храбрость и завидную сноровку. Не без замолвленного слова, можно думать, обошлось и назначение Даниила Адашева первым воеводой московской рати, посланной на Дон. Однако разве это назначение стало обузным?
Отношения с Крымом в этот период накалились донельзя. Переговорными усилиями Алексея Адашева удалось посадить на казанский престол сторонника Москвы Шаха-Али[11]. Хан Девлет-Гирей[12] не мог смириться с потерей влияния на Казань и усилил набеги на южные российские земли. Более того, вступив в союз с ногаями, Девлет-Гирей, при поддержке Османской империи, собрал до сотни тысяч всадников и выступил в поход в самом начале зимы, выбор времени был необычен для татар. Хан вовсе не думал, что за его действиями пристально следят князья порубежных вотчин, снабжая сведениями Ивана Грозного.
Надеясь на успех, Девлет-Гирей начал наступление не в одиночку — он приказал своему сыну Махмуд-Гирею идти к Рязани, улану Мухамеду — к Туле, ногаям и улану Ширинскому — на Каширу. Огромное войско тремя языками подступило к реке Мече, но предводители похода сведали, что русские не распустили свои полки по домам до весны, как это обычно делали, что князь Шереметев с несколькими полками находился в Белёве, а князь Воротынский стоит (тоже с несколькими полками) в Туле. Но сведения те были устаревшими: воеводы Иван Шереметев и Михаил Воротынский уже обходили справа и слева войско Девлет-Гирея, и когда крымцы узнали об этом, было поздно. Стотысячное войско захватчиков, застигнутое врасплох, было разбито наголову.
Как повествует московский летописец, Девлет-Гирей бежал назад, поморив не только остатки лошадей, но и людей.
Пользуясь столь значительным ослаблением крымского войска, глава донских казаков князь Вишневецкий, вступивший в союз с Иваном Грозным, под Перекопом разбил улусы ногаев, которые ушли в поход с Девлет-Гиреем, захватили тысячи пленных и тысяч пятнадцать коней, затем казаки взяли штурмом сильную крепость Азов, которую обороняли не только крымские татары, но и турки.
Взять-то взяли, а как удержать крепость малыми силами, какими располагал князь Вишневецкий, ведь хан Крымский и султан Османской империи решили во что бы то ни стало отбить крепость. Князь Вишневецкий запросил у Ивана Грозного помощь, и тот не отказал в ней: восемь тысяч детей боярских, казаков и стрельцов во главе с Даниилом Адашевым спешно двинулись к Дону.
Чётких и строгих инструкций Даниил Адашев от Разрядного приказа, тем более от самого государя не получил, поэтому мог действовать по своему разумению, а он считал, как все разумные воеводы, что для победы важно не обороняться (подобный тактический приём хорош при необходимости), а наступать. Он послал к Вишневецкому гонца с тайным ото всех словом о намерении не пополнить гарнизон обороняющих крепость, а провести дерзкий налёт на сам Крым, что станет лучшей помощью защитникам удерживаемого ими Азова.
Операция прошла более чем удачно. Её красноречиво, хотя и кратко, описывает историк Карамзин:
«С осмью тысячами воинов он сел близ Кременчуга на ладии, им самим построенные в сих, тогда ненаселённых местах, спустился к устью Днепра, взял два корабля на море и пристал к Тавриде. Сделалась неописанная тревога во всех улусах; кричали: «Русские! Русские! и царь с ними!», уходили в горы, прятались в дебрях. Хан трепетал в ужасе, звал воинов, видел только беглецов — и более двух недель Адашев на свободе громил западную часть полуострова, жёг юрты, хватал стада и людей, освобождая российских и литовских пленников. Наполнив ладии добычею, он с торжеством возвратился к Очакову. В числе пленников, взятых на кораблях и в улусах, находились турки: Адашев послал их к пашам очаковским, велев им сказать, что царь воевал землю своего злодея, Девлет-Гирея, а не султана, кому всегда хочет быть другом. Паши сами выехали к нему с дарами, славя его мужество и добрую приязнь Иоаннову к Солиману. Между тем хан опомнился: узнал о малых силах неприятеля и гнался берегом за Адашевым, который медленно плыл вверх Днепра, стрелял в татар, миновал пороги и стал у Монастырского острова, готовый к битве; но Девлет-Гирей, опасаясь нового стыда, с малодушною злобою обратился назад.
Весть о сём счастливом подвиге молодого витязя, привезённая в Москву князем Феодором Хворостининым, его сподвижником, не только государю, но и всему народу сделала величайшее удовольствие. Митрополит служил благодарственный молебен. Читали торжественно донесение Адашева, радовались, что он проложил нам путь в недра сего тёмного царства, где дотоле сабля русская ещё не обагрялась кровию неверных».
На торжественной службе при чтении донесения Даниила Адашева не обнародовали его предложения воевать Тавриду, пользуясь благоприятными для России условиями — оно стало достоянием лишь узкого круга близких к Ивану Грозному вельмож, и те почти все высказались за захват Крыма. Особенно настойчиво убеждали государя князья Михаил Воротынский, Владимир Старицкий, Иван Шереметев и иные славные воеводы — царь, похоже, начал склоняться к такому шагу. Сказал даже:
— Позову Даниила Адашева на совет.
Встретил Иван Грозный героя Адашева и его боевых товарищей с величайшей торжественностью. Вручил всем золотые медали, а на почестном пиру громогласно объявил:
— Дарую юному воеводе Даниилу Адашеву чин окольничего. Заслужил доброй ратной работой.
Несколько раз после этого, пользуясь своим правом окольничего, пытался Даниил заговорить с царём о походе на Крым двумя путями: через Поле[13] частью сил, но главное — речной ратью по Дону; Грозный, однако, отмахивался:
— Пораскинул умишком своим я — не до Крыма нынче. Тем более Девлет-Гирей просит мира. Вот послание ему, подготовленное твоим братом: «Видишь, что война с Россией уже не есть чистая прибыль. Мы узнали путь в твою землю и степями, и морем. Не говори безделицы, а докажи опытом своё искреннее миролюбие: тогда будем друзьями».
Даниил, несмотря на это, попросил брата повлиять на царя, доказывая великую выгоду в наступлении на Крым, а не в обороне от него, но Алексей пожимал плечами:
— Не единожды говорил об этом царю, но не одолел. Да и не один ты этого требуешь. Сильвестр настойчив. Вместе с ним убеждаем. Многие славные воеводы того же требуют, но государь, почти согласившийся поначалу, теперь упорствует. Не пойму его.
Разве он один не понимал? Многих воевод и думных бояр упрямство Ивана Грозного, мягко говоря, удивляло. Дед царя при более сложных условиях решился на вооружённое свержение монгольского ига и преуспел в этом, а внук, для кого есть полная возможность разорить последнее гнездо разбоя, наносящее страшный урон южным и даже центральным областям России, не хочет этой возможностью воспользоваться. Он даже не даёт никакого объяснения своему решению.
А чего опасаться? Казань не ударит в спину, она даже не посмеет пикнуть; ногаи — ниже травы, тише воды; в Ливонии наблюдалась неспокойность, так магистру, возжелавшему по молодости своей за счёт России вернуть былое могущество Тевтонскому ордену, дали, как говорится, по зубам умелыми действиями воевод князя Андрея Кавтырева-Ростовского, отстоявшего Дерпт, князей Ивана Мстиславского[14], Петра Шуйского, Василия Серебряного, благодаря мужеству четырёх сотен стрельцов, командовал которыми стрелецкий голова Кошкарёв. Они отстояли заштатный городишко Лаис, который без успеха штурмовали в сотни раз превосходящие их силы магистра ордена Кетлера, и основательно побили немцев-наёмников. Выиграно было время, чтобы основные русские силы, идущие по стопам Кетлера, успели нанести рати ордена знатный удар в спину. Глава ордена со значительно поредевшим войском едва спасся в Вендене, где, как и посчитали разумные воеводы, какое-то время будет сидеть тихо. Во всяком случае, не станет помехой походу на Крым.
Сложность пути? Об этом твердили не желавшие решительных шагов государя. Они пугали Ивана Грозного: без великих потерь невозможно пересечь Поле, а уставшая армия, да ещё схоронившая в дороге значительную часть соратников, разве может вести решительное наступление?
Пустое голословие! Крымцы ведь преодолевают Поле, да и казаки казакуют по нему. А по всему прочему советовал Даниил Адашев — его поддерживали особенно горячо брат Алексей, князья Михаил Воротынский, Андрей Курбский, Иван Шереметев — удар по Крыму наносить не только через Перекоп или в обход его через Сивашский залив по малой воде, что сделать можно и нужно, но и со стороны моря. Путь знаем. В седую старину Тавриду воевал с моря на боевых кораблях новгородский князь Бравлин, в более же близкие времена ходил на Херсонес великий князь Киевский Владимир, где он принял крещение, перед тем завоевав город.
И вот повторил бы подвиг предков славный воевода Даниил Адашев всего с восемью тысячами ратников.
Нет, не сложность пути останавливала Ивана Грозного от решительного и такого важного для России шага. А что же? Ни тогда, ни сейчас никто толком на этот вопрос ответить не может. Сам Иван Грозный не оставил исповеди по этому факту, а высказывать предположения и строить догадки вряд ли благодарное занятие. В точности известно только одно: чаяния патриотов эпохи Ивана Грозного воплотились в жизнь лишь при Екатерине Второй.
И всё же — гадают историки, выдвигая всё новые версии. Одна из них, на первый взгляд не очень приемлемая, — боязнь Ивана Грозного потерять трон. Царь стал очень подозрительным после выздоровления. Ведь самые любимые и самые верные, как он считал до болезни, слуги ему изменили: и Сильвестр, и Адашев, вроде бы не вступая в горячие споры, которые бушевали в сенях перед опочивальней государя, всё же не присягали царевичу дитяти Дмитрию, ратуя как бы между делом за присягу Владимиру Андреевичу Старицкому, дяде царевича. Они, стало быть, выступали за возврат к старому порядку (по нему дядя имел преимущество перед племянником), от этого не так давно Даниловичи отказались, перешли на прямое наследование от отца к сыну, чтобы избавиться от междоусобной борьбы за трон. Разве мог после случившегося не опасаться государь своих любимцев: уйдёт вся рать из Москвы, да ещё если он сам её поведёт, сторонники двоюродного брата Владимира Старицкого устроят переворот.
Могло такое случиться? Вполне. И если в этой версии — истина, тогда не интересы отечества останавливали царя от важного для Россия похода, но свои личные интересы, опасение потерять трон. Действительно, ему уже начали нашёптывать наиболее приблизившиеся к трону из той тысячи, которая была отобрана в Кремлёвскую аристократию по предложению (на свою голову) Адашева, будто и он, и Сильвестр — чародеи, опутавшие колдовской паутиной царя, полностью подчинив его своей воле. Мол, они правят страной, а не он, самовластец, помазанник Божий.
Не верить игравшим в безмерную преданность Алексею Басманову и его сыну Фёдору, Василию Грязному, Малюте Скуратову-Бельскому? В дни болезни не они ли помешали перевороту, который готовил князь Владимир Старицкий при поддержке Шуйских и, как ни горестно это понимать, Сильвестра и Адашева. А избранные дворяне? Особенно Малюта Скуратов поступил весьма разумно и споро: он принял присягу у дворни и, главное, у ратников Царёва полка, бывшего важнейшей опорой государя, против которой вот так, с бухты-барахты не попрёшь.
И ещё они говорили правду: по совету же Сильвестра и Адашева была создана так называемая Избранная рада, узкий круг советников государя, видную роль в котором играли сами Сильвестр и Адашев. Да иначе не могло быть: в Избранную раду входили близкие друзья любимцев царя: князь Курбский, братья Морозовы, Михаил, Владимир Воротынские, Дмитрий Курлятьев и Семён Ростовский, да ещё с ними митрополит Макарий по сану своему. Последний был ярый противник единовластия, вот почему и явных патриотов России, отличавшихся трезвым умом и дальновидностью, охальники наделяли митрополитовой враждебностью, и Иван Грозный верил хулителям без сомнения. Если он поначалу считал Избранную раду добрым подспорьем себе в управлении державой и в связях с иноземными послами, то под влиянием недругов — обладателей светлого ума и честности круто изменил своё мнение, заподозрив, что рада отбирает у него единоличную власть.
Как бы подтверждая зловредную клевету, вдруг на любимую жену Ивана Грозного, Анастасью[15], навалилась хворь. Болезнь для придворных лекарей была неведомая, и их методы: пускание крови, примочки, прижигания, травные настои, не приносили желаемого результата. Царица угасала. Тут же наушники зашептали о колдовстве, о чёрной магии и заклинаниях. Нашлись даже свидетели связи Адашева и Сильвестра с чародейками. Схватили какую-то польскую вдову, якобы подружку Адашева, пытали её, и хотя не получили от неё желаемого признания, казнили. Вместе с сыновьями.
Иван Грозный всё более и более гневался на своих бывших любимцев, в которых прежде души не чаял. Уход в монастырь Сильвестра — явное подтверждение его нечистой совести, постоянно твердили Малюта Скуратов, Алексей Басманов, Василий Грязной и даже братья царицы, которые отчего-то недолюбливали иерея с Адашевым. Вся эта группа усилила нажим на царя, радуясь малодушию Сильвестра, оставившего Адашева в одиночестве и вполне справедливо полагая, что с одним справиться будет легче.
Под действием грубых наговоров Иван Васильевич совершенно уверился, что Адашев — враг его самовластия, но до поры до времени не решался на крутые меры, как того требовали новые любимцы. Не было и убедительного для казни предлога, ибо прямых улик причастности Адашева к болезни царицы Анастасьи не удалось обнаружить. Вот и решил государь удалить поначалу Алексея Адашева из Кремля, отстранив его от должности главы Посольского приказа и назначив третьим воеводой Большого полка в Ливонии, ставка которого располагалась в Феллине.
Недруги мудрых советников царя — теперь уже бывших, — как можно было ожидать, восторжествовали; друзья же осиротели и примолкли в ожидании грозы, ибо видели, как настойчиво действовали царедворцы-выскочки. Те не упускали ни одного момента для восхваления мудрости принятого Иваном Грозным решения, которое якобы позволило ему сбросить оковы чародейства.
— Теперь ты истинный самодержец! — с жаром хвалил Ивана Грозного Малюта Скуратов. — Не окован ты обручем колдовским. Вольно дышишь. Волен в своих поступках и помыслах.
Наседали так настойчиво на царя новые его любимчики оттого, что продолжали считать и Сильвестра, и особенно Адашева опасными для себя. Сами-то они в делах державных были не сильны, и государь, раскусив их беспомощность, вполне мог бы вернуть разумных и дальновидных советников в Кремль. Вот царедворцы и злобствовали.
Рок благоволил им: царица Анастасья отдала Богу душу. Иван Грозный был убит горем. Весь Кремль тоже лил слёзы, кто от истинной жалости, кто в угоду неутешному царю. И в эту искреннюю (вперемежку с наигранной) печаль вплелась ещё более наглая клевета, утверждавшая, что достопамятную добродетельностью царицу извели её тайные враги — Сильвестр и Адашев.
Малюта Скуратов-Бельский, утешая стенающего в горести государя, сокрушённо вздыхал:
— Без чародейства, как о том шёл слух, ещё когда незабвенная Анастасья занедужила, не обошлось. Твои враги курдушили, ловко прикидываясь верными твоими советниками. Теперь им должен быть один конец: казнь лютая.
Через день-другой ещё хлеще:
— Известно ли тебе, государь, как величаются и убогий монах, и третий воевода Большого полка?
— Тайный дьяк сказывал: сверх меры берут.
— Тайный дьяк вроде бы бескорыстен, но он не обо всём докладывает с полной откровенностью. Может, с корыстной целью, может, по малому своему знанию. Не обессудь, ради твоего твёрдого сидения на троне я самовольно установил пригляд за Тайным дьяком... — сообщил Малюта и замолчал, ожидая, что скажет на то Иван Грозный. Не возмутится ли?
Нет. Помолчал царь, правда, недолго сдерживал злобу, затем — решительно:
— Тайный дьяк пусть остаётся на своём месте, но отныне кроме него ты — мои глаза и уши. Служи по чести и совести.
О какой чести слово? О какой совести? Малюта Скуратов торжествует. Теперь всё в его руках. А он уж сможет добывать нужные ему факты в пыточных, а из мухи делать слона. Как вот теперь:
— К Сильвестру в келью сам настоятель монастыря на поклон ходит. Без благословения монаха опального ни шагу не шагнёт. Да и келья Сильвестра не по меркам кающегося грешника — настоящие просторные палаты.
Ничего не знал Малюта Скуратов, в каких условиях живёт богомолец, он просто действовал наобум, выдавая первое, что пришло на ум, за действительность. Был уверен: чем наглей клевета, тем больше ей веры. Что же касается Алексея Адашева, то Малюта поостерёгся нагло врать, он только позволил себе преувеличить факты.
— Твой бывший любимый окольничий в полку более почётен, чем первый воевода. А в городе затмил главу его и твоего наместника. Сила-то в Ливонии великая, не дай Бог, чарами своими Адашев сполчит её под своей рукой, поставив во главе её знатного князя Андрея Курбского, тоже, как и ты, государь, Владимировича. Туго придётся и тебе, государь, и нам, верным слугам твоим.
Предостережение, на первый взгляд чрезмерное, но вполне оправданное. Если бы Адашев возжелал, он мог бы устроить мятеж. Если и не во всех полках, то в Большом — наверняка. В пользу князя Владимира Андреевича. Или действительно в пользу князя Андрея Курбского. Однако Адашев о каком-либо мятеже даже не помышлял. Он явно тяготился происходившими вокруг него событиями.
А началось с того, что дети боярские, стрельцы и их командиры, вплоть до сотников, потребовали — именно потребовали — у воевод устроить торжественную встречу прибывающего к ним опального окольничего, славного делами державными и заботой о добром переустройстве ратной службы. При этом построен должен быть весь полк. Не стали возражать своим подчинённым и тысяцкие, а вот Андрей Михайлович Курбский, хорошо знавший нравы Кремля, воспротивился. Не в обиду, конечно, другу своему, а желая блага ему, ибо опасался дурных последствий для опального и даже для тех, кто хотел выказать честь высланному из Кремля. Заявил твёрдо:
— Он назначен третьим воеводой. По чину должна быть и честь.
— Как можно?! Это же Адашев! Алексей Адашев!
— Знаю не хуже вас, но повторяю: по чину и честь.
Если тысяцкие отступились, с сожалением, конечно, но без сильных возражений, то мечебитцы, стрельцы, дети боярские, особенно же дворяне, коих в полку было изрядно — упорствовали: быть торжественному построению! Не устоял князь Курбский, понимая, что мог произойти бунт.
Этого только недоставало, дать такой повод в руки недругам?!
— Хорошо. Иду на попятную. Только весь полк собирать не стоит. Только тех строить, кто в Феллине и близ него в своём лагере. Там и быть построению.
Вполне возможно, такая встреча третьего воеводы полка не вызвала бы злословия, но город тоже удивил и озадачил Алексея Адашева, встретив его многочисленной делегацией с хлебом-солью. Преподнесён был ещё и дорогой подарок в знак уважения к столь знаменитому мужу державному. Более того, к нему шли отцы города за советом по всем вопросам, особенно по устройству наиболее выгодного правления. Адашев отмахивался:
— Не окольничий я нынче, а воевода. Какой из меня советчик?
— Не к чину мы со своей нуждой идём, но к уму державному. Не растерял же ты его.
Волей-неволей Адашев вынужден был советовать, как поступить более разумно и с пользой для города и горожан. Советы принимались. Они оказывались весьма полезными. Уважение к Адашеву росло, хотя все знали о его опале. Сам же он понимал: такое положение дел — не на пользу ему.
Разделил тревогу брата и Даниил, приехавший проведать его и посочувствовать. Да ещё обговорить, как дальше строить свою жизнь.
— Есть два пути, — твёрдо заявил Алексей, — один: податься в Литву. Сделать это не составит труда. Второй: испить горькую чашу до дна ради интересов России.
— Эго не с отсечёнными ли головами?
— А если и так. Не современники наши, но потомки оценят по достоинству наши устремления ко благу России. К тому же мы — не агнецы, готовые безропотно идти на заклание. Поборемся со злом. Глядишь, одолеем нечисть злобствующую у трона.
Как он ошибался: кучка злодеев, обложивших трон, сбилась в стаю, став практически непобедимой. Устами Малюты Скуратова она требовала решительных мер:
— Спокойней тебе станет, государь, если казнишь чародеев.
Ждал Малюта решительного слова, только Иван Грозный сказал не то, что он хотел услышать от царя.
— Нет прямых доказательств вины их в смерти моей юницы.
Подобный ответ никак не устраивал недругов Адашева, и они собрались за бражным столом думать думку. Каждый из них знал, сколь вспыльчив и гневлив Иван Грозный, имевший к тому же душу разгульную. В первые годы после того, как он почувствовал свою власть, выказал себя во всей красе. Вот и родилась мысль: вернуть бы его в былое. У всех на кончике языка эта мысль, но никто пока что не знает, с чего начинать её претворять в жизнь, ибо государь никак не отрешится от уныния. Вроде бы свет ему не мил. Готов, как видится со стороны, уйти за любимой супругой своей в мир иной.
Первым заговорил Грязной.
— Не тайна для нас, что Иван Грозный до свадьбы не чурался сенных дев, меняя их чуть не еженедельно. Есть у меня на примете одна прелестница. Мёртвого расшевелит.
— И не пожалеешь?
— Не без того. Только ведь ради общего дела. Укрепимся мы, в достатке будет у нас дев горячих.
— А следом — медвежья потеха. Засиделись без дела в клетках косолапые. Разбойником, присуждённым к смерти, потешим. Есть такой. Отцеубийца, — высказал свою мысль Басманов.
— Всё так, други мои, всё так, — подняв кубок с вином фряжским, заговорил Малюта Скуратов. — Главное всё же — навести на мысль о женитьбе. А в жёны посоветовать ту, что нас устраивает.
— Иль есть на примате?
— Пока помолчу. Выпьем давайте, сдвинув кубки, за нашу удачу.
Меньше чем через неделю Алексей Адашев узнал, в каком злодеянии его винят, проведал и о том, что одновременно прилагают усилия, чтобы возвратить Ивана Грозного на путь кровожадного правления. Адашев решил не сдаваться без сопротивления, послав весточки Сильвестру и брату своему Даниилу, сел за послание Ивану Грозному. Напомнил ему о роли государя, которому как благочестивому отцу нации не пристало выступать в качестве скомороха и душегубца, клятвенно заверил он в полной своей непричастности ни к болезни Анастасьи, ни к её смерти, просил суда чести. Просил дозволения приехать в Кремль, дабы на суде доказать своё бескорыстное служение отечеству, без стремления к богатству и славе. Доказательств этому, как Адашев утверждал в послании, хоть отбавляй.
Получив искреннее послание бывшего любимца, Иван Грозный хотя успел уже осушить слёзы, а Кремль уже шумел пирами с разными потехами, всё же притих на несколько дней, что весьма встревожило сонм алчных властолюбцев, успевших плотно окружить царя. Но как на него повлиять, если он сам о послании ни слова, ни полслова. Вроде бы ничего не получал.
А царь думал. Он колебался.
«Посоветуюсь с митрополитом, — решил он в конце концов, — а уж после него со своими ближними слугами».
Разговор с митрополитом оказался долгим и очень трудным. Митрополит по старости лет всё более думал о душе, а не о путях движения России. Ему уже было всё равно, удельное ли правление возьмёт прежнюю силу или одолеет единовластие. И хотя многие годы он был ярым противником всех преобразований, которые велись по совету Алексея Адашева и его личными заботами, он всё же не мог не уважать умного и преданного отечеству патриота. Явно лукавил, обвиняя его во многих не совершенных им грехах, но теперь всё-таки решил говорить только истину.
— Грех величайший свершишь, государь, не позвав на суд обвиняемых всуе Адашева и Сильвестра.
— Ты, владыка, виделось мне, противился не на шутку всему, что предлагали Адашев с Сильвестром, отчего же теперь на их стороне?
— Ты прав, государь. Противился я серьёзно. Брал грех на душу. Я и теперь не приемлю нового, их усилиями тобой установленного, только нынче я понимаю: попусту суетничал. Жизнь не остановишь. Против нового стоять, шею можно свернуть. В мои-то годы, когда самое время замаливать грехи, кривить душой? Нет. Больше не хочу. Господь Бог, надеюсь, простит мои грехи, ибо не ведал, что творил. Вот и говорю тебе истину: суди праведно подозреваемых. Если виновные — накажи, не виновные — верни им свою милость. Такие люди, особенно как Адашев, державе твоей зело нужны. Без него и Сильвестра и ты начал сползать к грехам содомским.
Плюнуть бы да выгнать вон из палат митрополита, но сдерживал Иван Грозный гнев: он ещё опасался оскорбить главу русской церкви, главу духовенства — до полной разнузданности ещё дело не дошло. Придёт время, и он станет играть с митрополитами в свою игру, меняя без всякого угрызения совести неугодных ему и даже лишая их жизни.
— Благослови подумать над твоими словами, — смиренно склонил голову государь.
Он и в самом деле засомневался, верно ли поступил, опалив умных советников, а теперь готовит им расправу. Окажись с ним рядом искренний патриот России, он, вероятно, вполне бы смог окончательно убедить государя в ложности обвинения честных мужей и во вредности затевавшейся расправы. Но к Ивану Грозному доступ честных бояр и князей был перекрыт наглухо — стая клеветников навалилась на государя скопом.
— Как же можно верить святоше Макарию?! Он был твоим врагом, он им и остался. А с Сильвестром и Адашевым в одну дуду дул, хотя вроде бы они тоже враждовали.
— Верно! Кому-кому, а митрополиту известно, что чары служителей демона очень часто пересиливают Божью благодать. Демон и его слуги — нахраписты, а Господь Бог — милосерден.
Понося слуг дьявола, они, не придавая этому значения, даже не понимали того, что говорят о себе, о своей наглости, и если бы Иван Грозный серьёзно осмыслил поведение новых любимцев, вполне бы мог понять их натуру. Однако любовь слепа, как и ненависть. Подозрительность тем временем уже устойчиво расположилась в душе царя.
— Быть суду без вызова обвиняемых.
Если принять во внимание знаменитую переписку, послание Ивана Грозного и князя Курбского, то в ней царь даже словом не обмолвился о главном обвинении Адашева с Сильвестром (отравление Анастасьи), за которую определил судить их самолично. Он оправдывал своё коварство иначе:
«Ради спасения души моей приблизил к себе иерея Сильвестра, надеясь, что он по своему сану и разуму будет мне споспешником во благе; но сей лукавый лицемер, обольстив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдружился с Адашевым, чтобы царствовать без царя, им презираемого. Они снова вселили дух своевольства в бояр; раздавали единомышленникам города и волости, сажали, кого хотели, в Думу, заняли все места своими угодниками. Я был невольником на троне. Могу ли описать претерпленное мною в сии дни унижения и стыда?»
В том же послании Иван Грозный называет Алексея Адашева «собакой, поднятой из гноища».
Вот такой наивный лепет. Разве не известно было тому же Курбскому, что Иван Грозный оставался при своих советниках полновластным государем?
Как бы то ни было, суд собрался: митрополит, епископы, архиепископы, бояре. Среди судей оказались и злобствующие монахи Вассиан Косой и Михаил Сукин.
Зачитали, говоря современным языком, обвинительное заключение. Митрополит высказался против суда без приглашения обвиняемых, несколько человек поддержало эту мысль, но злобная стая подняла гвалт, горячо подхваченный Вассианом Косым и Михаилом Сукиным. Твердили одно: колдовские чары подсудимых опасны. Не приводя фактов, которые бы подтвердили их вину, они настаивали на немедленном решении ради спокойствия государя и всего отечества. Требовали казни.
В это время братья Адашевы вторично встретились, чтобы обсудить своё будущее. Даниил, узнавший о том, что на суд не будет приглашён Алексей, настойчиво убеждал брата покинуть коварного государя и переметнуться к королю.
— Нет и нет! Не Ивану Грозному мы с тобой служили, но отечеству своему. За Россию любезную, многострадальную, я готов пострадать. Даже отдать жизнь. Никогда не стану изменником своей родины.
— Я иного мнения. Но я не могу бежать в Литву без тебя, ибо мой побег поставит тебя в ещё более сложное положение. Стало быть, будем прощаться. Предвижу — навечно.
Младший брат был более прозорлив. Действительно, они больше не встретились в бренном мире. Алексея Адашева морили голодом в Дерптской тюрьме, пока через полгода он не скончался, Даниила же, по воле Ивана Грозного, казнили немного раньше — ещё тогда, когда начались казни и ссылки сторонников Алексея Адашева, его друзей и родственников.
Перечислять всех казнённых и разосланных по монастырям не посильно. Иван Грозный изводил целые семейства. Казнив Даниила Адашева, он не пощадил и его двенадцатилетнего сына, а заодно и тестя Турова. Казнили троих Сытиных, сестра коих была замужем за Алексеем, и родственника его Ивана Шишкина с женой и детьми. Казнён князь Дмитрий Курлятьев, как друг Адашева и Сильвестра.
Князь Курбский свидетельствует: менее значимых, кто трудился вместе с Алексеем Адашевым на благо отечества, казнили целыми десятками, не меньше отправляли и в ссылку.
Оказался в опале и знаменитый воевода князь Михаил Воротынский. Придавать его смерти Иван Грозный не стал — очередь воеводы ещё не подошла, — царь сослал князя, вместе с семьёй, на Белоозеро, где пробыл тот несколько лет.
С особой изощрённостью Иван Грозный расправился с князьями Дмитрием Оболенским-Овчиной и Михайло Репниным. Предлог для расправы с Дмитрием Оболенским был не так уж и важный. Князь повздорил с Фёдором Басмановым, юным любимцем государя, в запальчивости сказав тому: «Мы служим царю трудами праведными, а ты — гнусными делами содомскими!» Фёдор Басманов пожаловался царю, и тот во время очередного пиршества самолично вонзил нож в честное сердце князя.
Михайло Репнин лишился живота по ещё менее значительному поводу: князь отказался в подражание Ивану Грозному на разгульном пиру надеть маску скомороха, да ещё позволил выказать недовольство: «Государю ли быть скоморохом? По крайней мере, я, боярин и советник Думы, не могу безумствовать». Царь в гневе взашей вытолкал князя из Большой трапезной, где козлоплясил в опьянении, однако не нанёс смертельного удара ни посохом с острым наконечником, ни ножом. Казалось, что на этот раз обошлось, но разве стая могла оставить без своего внимания подобную выходку честного боярина, к тому же приятеля Алексея Адашева? Дурной пример, как они рассудили, заразителен. Попусти одному, поднимут голову и остальные. Вот и жужжали пару дней клевреты государевы, убеждая его не проходить мимо дерзости, и тот в конце концов согласился.
— Умертвите. Да так, чтобы другим в назидание.
Изуверство несказуемое придумала разнузданная стая: палачи ввалились в священный храм, где бил поклоны в молитвах князь Репнин, и закололи его как жертвенного барана. Алая кровь добродетельного мужа разлилась по церковному полу.
Зло и кровожадность торжествовали. Россия стонала. Катились с плеч гордые головы славных князей российских. Беднела держава мудрыми умами и честными патриотами. Править страной стало злодейство.
АНДРЕЙ КУРБСКИЙ
Об Андрее Михайловиче Курбском Краткий энциклопедический словарь даёт следующие сведения: родился в 1528 году, умер в 1583-м. Князь, боярин. Участник казанских походов. Глава Избранной рады. Воевода. Участник Ливонской войны.
Опасаясь опалы за близость к казнённым феодалам, в 1564 году бежал в Литву. Член Королевской рады. Участник войны с Россией. Публицист. Его перу принадлежат три послания к Ивану VI и «История о великом князе Московском».
Так кто же он, этот яркий человек и политический деятель, которому удалось избежать участи других соратников Грозного царя.
Родословную свою Андрей Курбский ведёт от Владимира Мономаха[16], старшей ветви древа Владимирова. Курбским, по установленному тогда праву, стоять во главе всех князей, но ни Смоленск, ни Ярославль, где княжили Курбские, не могли возвеличиться ни над Киевом, ни над Великим Новгородом, ни даже над Тверью и Рязанью, где властвовали более предприимчивые князья. Не посильно им оказалось противостоять Андрею Боголюбскому, который, назвав себя Великим князем Российским, перенёс столицу державную из Киева во Владимир.
Не поддалось Курбским и Большое Гнездо великого князя Всеволода, сводного брата Боголюбского от второй жены Юрия Долгорукого — гречанки.
Особенно возвеличились птенцы гнезда Всеволодова Даниловичи, добившись главенства над всей Русской землёй.
Курбские никогда не поддерживали междоусобную борьбу Твери, Рязани, Владимиро-Суздальских князей и Великого Новгорода с Москвой — они, гордые своей знатностью и своим правом на власть, хотели не поддерживать кого-либо из князей, а иметь поддержку всех старейших городов, всех удельных князей, однако, к их разочарованию, среди них не появился способный сплотить вокруг себя грызущихся за власть удельных князей, как это сделал их дальний предок Владимир Мономах.
Вот так, не вдруг, конечно, а постепенно, они превратились из удельных князей в служилых, сохранив, правда, свои богатые вотчины. Таким служилым князем и был Андрей Михайлович Курбский. В основном — воеводил.
Как принято считать, Курбский, при всех его недостатках, являлся выдающимся выразителем идей, усвоенных Россией XVI века. Можно сказать, он демонстрировал тот культурный уровень, до какого мог подняться русский человек. Как утверждают учёный литературовед Пыпин[17] в своём труде «История русской литературы» и более ранние биографы Курбского, князь был человеком, который стремился расширить круг познаний, которыми довольствовались его современники. Он был выдающимся публицистом и гражданином своего отечества в полном смысле этого слова. Курбский, всецело увлечённый прогрессом, смело протестовал против грубого деспотизма.
Как воин, князь Курбский не щадил своей крови, защищая родину от её врагов.
Справедливы в полной мере подобные оценки, несут ли они в себе истину? Читателю самому предоставляется право сделать своё заключение по достоверным, неоспоримым фактам из жизни и деятельности князя Андрея Курбского, какими сегодня располагают историки.
Итак...
Один, следом второй и третий взрывы прогремели мощно, сотрясая землю и вздыбливая монолитную крепостную стену, неожиданно как для осаждённой Казани, так и для большинства русских полков, окружавших город. Идея проломов в стене путём подкопов и взрыва под стеной десятков мешков пороха родилась впервые в ратной истории благодаря князю Андрею Курбскому. Он со своей дружиной засел на одном из возможных путей подхода помощи осаждённой Казани, и вот в руки одной из застав попал связной, пробиравшийся в Арск. Его пытали и выяснили: связь с Арском, а также с ногайцами казанцы поддерживают постоянно, используя для этого тайный ход. Где точно он находится, захваченный гонец не мог сказать. Его выводили за стену с завязанными глазами (так, как позже подтвердилось, поступали с каждым), и сопровождавший его снял повязку с глаз уже вдали от города, только после того, как вывел на тропу, которая шла через лес к дороге на Арск.
— Где-то в северной стороне, — всё, что мог сообщить пленник. — Каким бы мукам вы ни подвергнете меня, большего я сказать не смогу, ведь и сам я ничего больше не знаю.
Поверить ему, ясное дело, не поверили, решив всё же с дальнейшим допросом повременить до утра, а ночью вышла ещё одна удача. Из Арских ворот, пользуясь темнотой, татями выскользнула небольшая группа смельчаков, рассчитывавших, судя по всему, на ротозейство русских ратников, однако, как они ни уповали на успех, ничего у них не вышло. Вылазку встретили, завязалась короткая, но отчаянная сеча. Свирепая, можно сказать. Казанцы улепетнули за ворота, потеряв более половины отчаянных бойцов, и тут выяснилось, что один из казанцев в самом начале рукопашки притворился сражённым. Притворник тот назвался мурзой Камаем и попросил доставить его к самому царю.
Чего ж не доставить, ежели просит басурман? Глядишь, польза какая выйдет.
Не то слово: польза от перебежчика мурзы Камая оказалась великой. Перво-наперво поведал он, что у ворот Нур-Али есть тайный ход, оттого ворота те зовутся ещё Тайницкими. По тому тайному ходу посылают вестовых к ополчённой луговой черемисе[18] и возвращаются от них, а кроме того, со стен и из леса сигналят друг другу. Всё отменно, только одно не ладно: мурза, как и захваченный гонец, не мог указать, где тот ход. Не знал.
— Кому не очень доверяют и кто не должен возвращаться, того выводят на тайную тропу с завязанными глазами.
Рассказал мурза ещё об одном, не менее важном, о том, что прошлой ночью ушло через тайный ход посольство к ногаям. С ними ещё один гонец — к князьям Японии и Шипаку, а от них — в Арск. С каким заданием послан, мурза тоже не знал.
— А где Японии с Шипаком? — перевёл толмач вопрос Ивана Васильевича. — В Казани же они должны быть.
— Нет их в Казани. Они в пятнадцати вёрстах от неё. В остроге, специально построенном. Они там. Ещё примкнул к ним со своим войском Арский князь Эйюба. Отряды эти ударят с тыла, когда русские полки пойдут на захват крепости. Это их главная задача. До этого будут только тревожить русскую рать, надеясь на счастливый случай, который поможет захватить стан русских и даже самого царя. Я покажу вам дорогу к острогу.
Обещание важное, но оно сразу вызвало подозрение: не затеянная ли это ханом Едигером[19] игра? Выведет рать, посланную к острогу, который может и не существует вовсе, на засаду, тогда что?
Иван Грозный пригласил Камая потрапезовать с ним, и как бы мимоходом велел Курбскому:
— Займись своим.
У главного воеводы Михаила Воротынского тоже подозрение, не специально ли подослан мурза, у Курбского тоже. Верно они поняли повеление государя, и оба пошли в шатёр, где находился иод неусыпной стражей захваченный гонец. Решили не пытать, а удивить первым же вопросом:
— Тебя вывели из крепости, как ты утверждаешь, с завязанными глазами, а послы к ногаям, с которыми ты выходил, тоже были с повязками на глазах? — с ухмылкой спросил князь Андрей Курбский. — Что скажешь?
От удивления вроде бы покосел глазами пленник, но тут же обрёл прежний почти спокойный вид:
— Да, я слышал впереди себя много шагов, но что за люди там шли и как их вели, не знаю. Я говорю правду.
— Но дорогу к Япанче и Шипаку ты знаешь! — с жёсткой утвердительностью сказал Михаил Воротынский. — Ты же шёл не в Арск, а к ним!
Потупился пленник. Решал, как вести себя дальше. Русские воеводы знают очень много, ещё раз соврёшь, начнутся пытки. Стоит ли подвергать себя мучениям, если ты уже предан. Кем? Понятно, что не кем-то рядовым.
А Курбский пригрозил:
— Мучительная смерть ждёт тебя, если впредь продолжишь извиваться змеёй!
— Да. Я шёл к ним. Дорогу знаю хорошо. Вернее, тропу.
— Нам не тропа нужна, а лесная дорога. Она должна быть. Она есть. Проведёшь нас, будешь принят на службу к русскому царю. Всё равно Казань будет покорена и присягнёт государю Ивану Васильевичу.
— Хорошо. Поведу по дороге.
Вот теперь всё. Теперь ясно, что мурза Камай — не обманщик. Можно подумать и над тем, как разгромить и острог, и Арск. Можно и нужно искать тайный ход. Иван Грозный тут же собрал ближних своих бояр и воевод, послушать, что они скажут, а уж затем высказать свою волю.
Судили-рядили не очень долго. Все как один предложили нанести удар по острогу в Арском лесу, после чего захватить и сам Арск. Покончив же с ним, оставить на всех дорогах, что идут от Ногайской орды, крупные заслоны с крепкими тынами, нужные на случай, если ногаи решат послать Казани помощь.
Иван Грозный принял предлагаемое, внеся лишь поправку: направить на острог и в Арск отдельную рать численностью в тринадцать тысяч конных, во главе с князем Андреем Курбским и пятнадцать тысяч пешцев, которых вести князю Александру Шуйскому-Горбатому. В заслоны же на дороги из Ногайской орды идти Сторожевому полку.
Когда же речь пошла о тайном ходе, предложения от участников совета посыпались горохом. Одно другого мудренее. Отмахивался от них Иван Васильевич, и вот слово своё сказал Курбский, предложивший устроить подкоп под стену справа и слева от ворот Нур-Али и рыть под стеной норы, пока не удастся им пересечься с тайным ходом. Никаких засад в нём устраивать не стоит, лучше заложить пару мешков с порохом и разрушить его.
— Разумно, — согласился государь. — Исполнять тебе, князь Дмитрий Микулинский, воеводе Ертаула[20], и тебе, боярин Морозов, воеводе пушкарей.
Всё пошло ладом. Острог в Арском лесу взяли с ходу, не дав никому ускользнуть из него. Шуйский-Горбатый намерился было разрушить лесной стан татар, но Андрей Курбский воспротивился:
— Нельзя этого делать. Оставим здесь тысячи три детей боярских и стрельцов, пусть охраняют пленных, пока мы Арск берём. Главное — не выпустить никого, чтобы предупредили бы Казань и Арск. Когда Арск возьмём, пленников туда переведём, а здесь оставим засаду. На воротах — касимовские татары. Всем станут открывать ворота, выпускать же — никого.
— Ладно, пусть будет по-твоему.
Очень толковое решение, которое уже через малое время могло сослужить важную службу.
Вскоре докопались и до тайного хода. Точнее, приблизились настолько, что услышали голоса. Заманчиво конечно же перехватить гонцов, но воля государя непререкаема. Пару дней протаскивали в вырытый ус мешки с порохом, но перестарались: взрыв получился такой силы, что сделался пролом в стене.
Микулинский просит полки, чтобы ворваться в город, но Иван Грозный не даёт согласия. Рать не готова к штурму, тем более что татары не сдадутся, а станут сражаться за каждый дом, за каждую улицу. Сорвётся поспешный штурм, как на это отзовутся ратники. Куда денется боевой дух. А вот использовать случайно открывшееся вполне возможно: два или даже три подкопа в разных частях стены и — одновременные взрывы. А полки готовы к сече на улицах города. Почти все собраны под стены.
Ещё не осела пыль, а ратники уже заполнили проломы, прут по улицам, поначалу не встречая заметного сопротивления. Вот уже и центр города — мечеть Кул-Шериф. Стеной встали и нукеры, и мужчины добровольные, даже у женщин в руках сабли. Остановилось наступление. Нет, не заминка, а затор. Главный воевода принимает решение ввести резерв: половину царёва полка и дружину князя Андрея Курбского.
Столь заметная подмога сразу же внесла перелом в сече: казанцы отступили к ханскому дворцу, а когда подоспели пушки на колёсах и окатили защищавшихся дробосечным железом, те выбросили белый флаг.
Не вдруг можно было оценить, какое очередное коварство задумали огланы. Уже не первый раз Казань признавала главенство России вот в такой критический момент, клялась жить в мире и добрососедстве, а проходило несколько лет, и разбойные набеги возобновлялись. Теперь они предложили выдать хана Едигера живым и невредимым, как относительного сторонника России, тех же, кто возмутил Казань на клятвоотступничество, посечь саблями. За это просили выпустить оставшуюся рать и всех желающих из города. А таких набиралось более десяти тысяч, самых храбрых и умелых, самых непримиримых грабителей России. Оказавшись на свободе, не станут они мирными хлебопашцами, ремесленниками или купцами, сабель из рук не выпустят. И всё же белый стяг. Нужно, по всем человеческим правилам, останавливать бой и диктовать условие: оружие побросать и сдаваться на милость победителей.
Позорным для себя посчитали татарские головорезы те условия, полезли напролом к воротам Нур-Али и кинулись было на стан, но Андрей Курбский самовольно (не до спросу у главного воеводы) выпластал со своей дружиной из крепости и успел на помощь дружине Романа Курбского, защищавшей стан. Всего около тысячи защитников, но встали они намертво.
Андрей Курбский — первым скрестил меч свой с кривой саблей ловкого нойона, и первым бы он лёг на поле боя, ибо ловки у нойона телохранители, но и стремянные князя не лыком шиты — пошла рубка. Валились с седел и те и другие, но если число татар всё увеличивалось и увеличивалось, то ряды дружинников редели. Гибли отменные ратники, но не пятились. Они понимали: время сейчас на вес золота. Каждый миг дорог.
Много храбрых дружинников полегло в той отчаянной сече, князь Роман Курбский был ранен, у князя Андрея помяты шелом и зерцала, однако стан спасён, спасён и государь. Когда же казанские нукеры отступили, Курбский вызвался идти им наперерез.
— Они вдоль Казанки пойдут, не иначе. К лесному острогу путь их. Я постараюсь опередить их. С остатками своей и Романа дружины я поскачу лесной дорогой. Встречу с оставленными в остроге стрельцами.
— С Богом. Продержись немного. Князь Микулинский и Михаил Глинский пойдут по следу беглецов.
— Живота не пожалею. Нельзя такую силу оставлять не разбитой.
Всего четыре сотни дружинников под началом у Андрея Курбского. Не велик и отряд, засевший в лесном остроге. Оплот его — жиденький. Без лестниц можно взять: встав на седло, ухватишься за верх. Попрут отчаянно — разве сдержишь. Но — надо. Во что бы то ни стало.
«Успеть! Успеть!» — подгонял себя князь Курбский. Коня он на сей раз не жалел, и, кажется, конь понимал хозяина.
Сборная дружина опередила казанских храбрецов. Хватило времени, чтобы ладно устроить оборону, приготовить к долгой стрельбе пушки, так предусмотрительно здесь оставленные. Для рушниц тоже зелье разложили так, чтобы сподручно было их перезаряжать. Вот и окатило передовых казанцев дробосечное железо, а следом засвистели пули.
Опешили сбитые в кучу малу нукеры, они не ждали подобной встречи, ибо не знали, что острог в руках у русских. Надеялись соединиться с князьями Япанчей, Шипаком и Эйюбом и тогда, став грозной силой, возвратиться к Казани и побить русское войско, которое, взявши Казань, успокоится, потеряет настороженность. Увы — не тут-то было: встретили казанцев не объятия соратников, а пушки врагов.
Заминка, однако, недолгая. Начали татары, подчиняясь сигналам, обтекать острог, чтобы начать штурм сразу со всех сторон.
А время-то идёт. Это на пользу отчаянным нукерам, готовившимся отражать штурм.
Вот — полезли. Подскакивают — на седло, а потом сразу хвать за верх оплота. Секи, стало быть, по пальцам. Беда только в том, что не каждый под защитой. Мало стрельцов. А князь ещё держит половину прискакавших дружинников у своей руки. Разумно ли такое? Оказалось, ещё как.
На южной стороне одолели оплот первые смельчаки, попёрли следом в продушину новые и новые вороги, вот тут в самый раз пригодился резерв. Посёк он прорвавшихся в острог и — снова под руку князю.
В другом месте прорыв. В третьем. Мечется резерв от прорыва к прорыву, редея с каждым разом. Положение аховое, а Микулинского с Глинским нет и нет. Недолго ещё можно продержаться. А там -— головы посеченные на алтарь отечества. Но ни о них у князя Андрея Курбского думки, а о том только, как всё усложнится, если десятитысячный отряд — правда, поредел он изрядно — головорезов захватит острог. Гонцы поскачут во все концы. Луговая черемиса поспешит на помощь. Горная черемиса тоже не останется в сторонке. Не вся, конечно, там есть много сторонников подданства Москве, но добровольцев найдётся достаточно.
«Поспешайте, други! Поспешайте!»
Или воеводы опытные — без голов? Торопятся, даже не объезжают болотистые низины. Слышны им уже выстрелы рушниц, а не только пушек. Понимают, каково приходится обороняющим острог.
В самый раз, можно сказать, подоспели. Навалились со спины на штурмующих острог, и пошла потеха. Побросать бы сабли свои кривые татарам да сдаться на милость победителям, но они частью сил продолжили штурмовать оплот острога, частью — отбиваться от ударивших им в спину конников. Но теперь силы были неравные — в пользу русских ратников, к тому же озлобленных трудной погоней.
Князь Михаил Глинский, дабы остановить бойню, предложил татарам сдаться, но те в ответ с ещё большим остервенением продолжили сечу.
Сам князь Андрей Курбский о столь трудном бое написал очень скупо: «Воины татарские предпочли смерть в жаркой сече постыдной жизни в рабстве».
В самой Казани к тому времени тоже были посечены последние сопротивлявшиеся, но и после этого русские ратники не вложили мечи в ножны, не прекратили буйства, секли всех, кто попадался под руку, поджигали дома, в которых хозяева намеревались укрыться и переждать лихо. Стоны и вопли убиваемых, казалось, радовали сердце царя Ивана Грозного, который гордо въезжал в город через ворота Нур-Али, держа путь к ханскому дворцу. Хоругвь свою, образ Спаса и Пречистой Богородицы с животворным крестом, сам держал высоко над головой.
Это произошло 1 октября 7061 года от сотворения мира, в 1552 году от Рождества Христова, а если считать по мусульманскому летосчислению, то сей несчастный для Казани день — 13 февраля 939 года.
Мечом и кровью зачиналось Казанское ханство в годы правления великого князя Василия Тёмного, мечом и кровью закончилось.
Князя Андрея Курбского Иван Грозный встретил не просто благодарственным словом -— он поклонился ему поясно.
— Велик твой нынешний подвиг. Учитывая твои прежние ратные успехи, твои умные слова в Думе, беру тебя в Избранную раду, которую предложил Алексей Адашев на манер Польской Королевской рады. Станешь главой её.
Странно слышать такое: Сильвестр — признанный её глава! Так что ж в немилости теперь он? Не сдержался Курбский, спросил:
— А как же Сильвестр?
— Плечом к плечу с ним. Ему — духовное, Адашеву — посольское, тебе — ратное. Самое важное. Отпускай своих соколов в Ярослав, одарив из моей казны каждого по паре гривен, детям же и вдовам тех, кто сложил свои буйные головы в сече, — по три гривны. Сам же готовься со мной в Москву. Завтра — в путь.
— Дозволь, государь, на правах главы Избранной рады дать совет?
— Прытко. Ладно уж, говори.
— Казань у твоих ног. Свершилось великое. Только Казань — не вся земля татарская и к ней примыкающие земли. Арск — не арская земля. А черемысы? А мордва? Повремени, государь, с отъездом, пошли рать по всем большим и малым городам, по всем селениям взять присягу тебе в подданство. Городовую рать крепкую оставь во всех крепостях, новые построй, вот тогда со спокойной душой можно торжествовать.
— Никто не поднимет головы. Или Казань — не назидание всем?
Только ли в излишней уверенности дело? Князь Курбский за помощью — к главному воеводе Михаилу Воротынскому.
— Ты ближе всех к царю, повлияй. Нельзя уходить рати, не завершив полного завоевания края.
Увильнул от прямого ответа главный воевода. Он только сообщил Курбскому, что у государя родился наследник. Про то, что и у него самого родилась дочь, промолчал. Он тоже рвался домой, хотя и понимал, что не следовало бы столь поспешно распускать полки по домам.
— Не послушает меня государь. Его решение, как я вижу, твёрдое.
— Станем локти кусать. Как пить дать — станем.
— Господь вразумит неверных. Да и наместником остаётся князь Шуйский-Горбатый, лоб которому перстом не зашибёшь.
— Без рати муж семи пядей во лбу — не ловец. Посоветуй меня оставить. С двумя-тремя полками.
— Попытаюсь подсказать.
Нет, не поддержал Иван Грозный этой просьбы. Отмахнулся, можно сказать, как от назойливой мухи. Он был уверен, что с падением Казани пало на колени перед ним, государем Российским, всё Среднее Поволжье.
Вот уж поистине непростительная ошибка, которая, как покажут дальнейшие события, в самое ближайшее время даст о себе знать. Да как!
Ещё не утихли почестные пиры, а в Кремль начали поступать тревожные вести: луговая и частью горная черемиса, сбившись в дерзкие ватаги, грабят и убивают русских купцов, жестоко расправляются с тиунами и иными государевыми людьми. Отряд стрельцов вроде бы обуздал бунтарей, казнив самых ярых врагов России (семьдесят четырёх человек), что должно было бы стать наглядным уроком для остальных, только вышло не по предполагаемому. Вышло — худо: в семидесяти вёрстах от Казани, на реке Меше, луговая черемиса, поддержанная огланами и мурзами казанскими, возвела крепость и набегами из неё принялась наносить урон, размещённым и в луговой и в горной земле стрельцам, малочисленность которых позволяла это делать без больших потерь со стороны мятежников.
Воевода Борис Салтыков выступил против мятежников из Свияжска с отрядом конницы и пехоты, с трудом продвигаясь по глубокому снегу, из крепости же вышли отряду навстречу мятежники на лыжах, что позволяло им маневрировать стремительно. Окружив отряд, они напали на него в самом для русских воинов неудобном месте: в низине, полной сугробами снега. Начался бестолковый бой. Более пятисот русских конников и пешцев осталось в той низине, сам же воевода оказался в плену и был зарезан словно баран.
Победа эта воодушевила мятежников настолько, что они посчитали себя свободными от Москвы.
Не единожды корил себя Иван Грозный, что не послушал совет князя Курбского, единственного, кто сказал нужные слова. Но признанием своего промаха мятеж не успокоишь, нужны решительные меры, и государь, прервав пиршества, собрал спешно Думу.
Неожиданно для него она началась. Приподнимали свои зады с лавок бояре-домоседы и уговаривали, будто сговорившись:
— Покинь, государь, сию бедственную для России страну. От неё отгородись крепостями, дабы отбивать набеги, отвечая на набеги разорительными набегами.
Не хотел Иван Грозный терять приобретённого, не хотел кровоточащей занозы в боку державы своей. Ждал, кто скажет противное слово лежебокам боярам.
Первым из воевод поднялся князь Курбский. Спросил сурово:
— Кровь витязей, павших при покорении Казани, — козе под хвост?! Не верни мы нынче же завоёванного, сколь трудно и кроваво будет это сделать, если упустим время. Поход крупного войска — вот верное решение вопроса. Не дожидаясь весны выступить.
Михаил и Владимир Воротынские поддержали, Даниил Адашев, Симеон Микулинский, Иван Шереметев. Воспрял Иван Васильевич. Думу завершил повелением дьяку Разрядного приказа:
— Спешно готовь роспись полков. За пару дней управишься?
— Раз надо, как же не управиться?
И в самом деле, роспись была готова к середине следующего дня. Дьяк Разрядного приказа доложил:
— Не единая рать из пяти полков. Каждый полк со своим огнезапасом, со своей посохой[21], сам несёт сторожевую службу.
— Разумно. Кто надоумил?
— Сообща. Князь Курбский и мои подьячие.
— Докладывай.
— Первым выступает полк на Каму. Он перекроет пути бегства мятежников к калмыкам и в Сибирское ханство. Первым воеводой — окольничий Даниил Адашев. Второго-третьего воевод он сам определит. И воеводу огненного наряда тоже.
— Принимается. Дальше.
— Три полка во главе с князем Андреем Курбским — на Казань. Со всеми тремя войдёт в Казань, повторит присягу на верность тебе, государь, после чего, оставив один полк, двумя другими, каждому свой путь, пойдёт с мечом по взбунтовавшимся землям — Арской и Луговой черемисы. Если всё пойдёт ладом, а иначе не может быть, продвинется ещё дальше. Насколько сил хватит. Воеводами полков к нему — князья Симеон Микулинский и Иван Шереметев.
— Добро. Все, кто твёрдо стоял на Думе за поход. Не станут действовать они спустя рукава. Когда намечена готовность полков к походу?
— Через неделю. Москва и Подмосковье ополчаются для Даниила Адашева, Ярославль, Муром, Суздаль с Владимиром и Нижний Новгород дают три полка.
— Молодцом, если успеете.
Поход, однако же, задержался: Иван Грозный, совершенно неожиданно для всех, занемог. Дьяк Михайлов, единственный, кто входил в опочивальню государя, докладывал собравшимся в сенях перед опочивальней удручающе однообразно:
— На ладан дышит.
На следующий день дьяк Михайлов объявил волю умирающего:
— Присягать его сыну, крещённому Дмитрием, на царство.
Пошла буза. Вновь на троне дитя малое?! Сколько же можно?! То Глинские верховодили, теперь Захарьины, родичи Анастасьи, власть загребут под себя! Нет и — нет! Присягать надо брату государеву Владимиру Андреевичу.
Только некоторые князья и бояре смекнули, что всё похоже на игру в кошки-мышки. Если близок конец Ивану Грозному, отчего митрополит не спешит соборовать? Нет и лекарей. Только дьяк Михайлов вхож. Даже князя Владимира Андреевича Старицкого тот не пустил к брату.
— Нет. Не велено.
Шуйские, Курбский, Шереметевы — все за Владимира Старицкого, Алексей Адашев с Сильвестром хотя и не встревали в свару, которая доходила до кулаков, но тоже за присягу Владимиру Андреевичу стоят. Момент, прямо скажем, для Ивана Грозного критический. Возьмут верх сторонники Старицкого, даже если государь и поправится, трона ему не видать. В оковах проведёт остаток дней своих. Однако у дьяка Михайлова ушки на макушке. Побыл какое-то время у постели умирающего и, выйдя в сени, ушат холодной воды вылил на горячие головы спорщиков:
— Ивану Васильевичу полегчало. Он заснул. Прошу вас, прекратите гвалт.
Не только прекратишь с пеной у рта доказывать свою правоту, но скоренько попятишься. Один за другим стали присягать царевичу Дмитрию. Дольше всех держались князья Шуйские, князь Курбский и Сильвестр с Адашевым. Ждали, как поведёт себя Владимир Старицкий. Только когда присягнул тот Дмитрию, последовали его примеру.
Все воеводы, которых предложил Разрядный приказ в поход на Казань и их утвердил Иван Грозный, выступали против присяги царевичу Дмитрию, посчитали, что государь не доверит им столь крупную рать, ждали опалы, но никаких изменений не последовало. С малым запозданием полки по прежней росписи вышли усмирять мятежников.
Морозы крепчайшие. Реки сковало намертво. Снега на льду — кот наплакал. Любо-дорого ехать на конях, имеющих подковы с шипами. Одно смущало: не станешь же всё время двигаться по льду? И на совете воевод решили слать во все города и посёлки, чтобы спешно собирали бы все имеющиеся лыжи и ладили новые без промедления, дабы успеть сделать их как можно больше.
Не густой ответ. Даниил Адашев, ушедший первым, изъял лыжи почти из всех городов. Пришлось замедлить движение, делая даже остановки в приречных городках, в которых озадачивали всех, кто мало-мальски владел топором и стамеской. Теряли, естественно, драгоценное время, но понимали: в трудную минуту лыжи окажутся важным подспорьем. Весьма предусмотрительно. Воеводам было известно о разгроме отряда Бориса Салтыкова и о бесславной гибели его самого.
В Нижнем Новгороде воеводы всех полков по просьбе князя Андрея Курбского собрались на совет. У главного воеводы возникла мысль несколько изменить предписанное Разрядным приказом: в Казань идти лишь двумя полками, одному неё полку следовать через Волжскую огибь на Свияжск через земли горной черемисы, приводя всех к присяге царю Ивану Грозному, подавляя очаги сопротивления. В деталях замысел такой: полк, которому придётся приводить к присяге земли огиби, разделится на две части. Одной — путь держать через Чебоксары, стольный град Чувашии, на Канаш. Вторая часть пойдёт на Алатырь по Суре и далее по Свияге до Свияжска на соединение с основным войском. В Казань предстояло входить двумя полками.
Доложив тактический замысел и получив полную ему поддержку, князь Андрей Курбский спросил:
— Кто по доброй воле готов идти по правобережью? Чуваши вроде бы мирные, но и среди них есть наши недруги. Засады вполне возможны. Но нам нельзя повторить судьбу отряда Салтыкова. Никак нельзя. Если сротозеем где-либо, считай, поход наш не станет удачным — задерут носы мятежники.
— Каждому полку будет трудно. Это поход чай не к тёще на блины. Тебе, князь, определять, кому какой урок, — высказался князь Иван Шереметев. — Рядиться — не дело ратных воевод.
— Тогда так: князь Микулинский пойдёт по огиби. Мы с тобой, князь Иван, — в Казань. После чего тебе, оставив часть полка в крепости, идти в Арск. Привести к присяге его и всю Арскую землю. Я с моим полком — на крепость черемисскую, что на Меше. Путём воеводы Бориса Салтыкова. О дальнейшем пока гадать не станем. Успокоим если успешно левобережье, определим дальнейшую задачу.
Одобренный воеводами план оказался удачным. Князь Микулинский почти без стычек приводил к присяге города и поселения нагорной черемисы, не прибегая даже к помощи стрельцов, размещённых в Чебоксарах, Канаше, в крепостице Стрелецкой, в Алатыре. В Казани тоже всё прошло тихо, мирно. Тех, кто вопреки клятве на Коране будоражил народ, жители сами выдали головами, и Андрей Курбский, оковав этих зачинщиков, отправил в Москву для решения их судьбы государем Иваном Грозным.
Но впереди ещё было самое важное: Арск непредсказуемый и черемиса мятежная.
На Мешу свой полк повёл Андрей Курбский, хорошо подготовившись. Избрал, как и обещал на совете, тот же путь, что и Салтыков. Без всякой скрытности вывел полк из Казани. Будто бы весь полк ушёл, однако это не так: часть полка, поставленного на лыжи, должна была покинуть Казань в полной тайне и лесными тропами идти в паре вёрст справа и слева от основной колонны. При подходе к той низине, где погиб почти весь отряд Салтыкова, затаиться, ожидая мятежников. Андрей Курбский был уверен, что они повторят свой манёвр, так удачно для них завершившийся. И вот, когда мятежники затаятся в засаде, охватить их обручем со спины, особое внимание уделив тайности манёвра. Раскроется если он, не видеть тогда успеха. Тогда случится кровопролитный бой с неизвестным окончанием.
Мечебитцам и самопальщикам на лыжах повезло: черемиса мятежная благодушествовала, никак не предполагая, что их же манёвром воспользуются каратели — они не лазутили за своей спиной, поэтому русские ратники смогли без помех окольцевать засаду бунтарей.
Основная колонна тоже хитрила. Вроде бы напролом шла, уминая сугробы, но опытный глаз сразу бы заметил необычное в организации движения.
Передовой — не выслав даже дозоров — шла всего сотня конников, за ней сразу — обоз. Санные биндюхи[22] нагружены под завязку. В центре обоза, довольно основательной длины — дюжина пушек на колёсах. И только за обозом — конные и пешие сотни. Но не более тысячи.
Вот и низина. На полторы версты в поперечнике, на пару вёрст в длину. Очень удобное поле для сечи. Хмурой, почти непроницаемой стеной окружил низину лес — в основном сосна и ель. Особенно хороши для укрытия ели. За могучими нижними лапами, густо облепленными снегом, от которого ветви склонились почти до самых сугробов, наметённых позёмками, не разглядеть не то что лыжника, но даже и всадника. Зоркому глазу одно лишь может броситься в глаза: кое-где с еловых лап сбит снег, стало быть, кто-то неловко задевал эти лапы, кто-то есть в дремучем лесу.
Выехала передовая сотня по дороге на опушку, постояла, оглядывая пристально, приложив ладони ко лбам, дабы отгородить глаза от рассыпавшегося по вольным сугробам серебра солнечных лучей, заметили оголённые от снега еловые лапы и сделали для себя вывод: засада есть. Вопреки, однако, здравому смыслу всадники не повернули коней в лес, чтобы в нём укрыться и дождаться ответа воеводы с посланным к нему галопом вестником, а неспешно, вроде бы ничто их не смутило, продолжили путь; но уже через несколько саженей кони начали увязать в наметённых сугробах, с виду твёрдых, но оказавшихся не такими — тогда сотня остановилась, вроде бы решая, как двигаться дальше (хотя ими хорошо был усвоен их урок), подозвали даже для отвода глаз пяток возниц. Некоторое время делали вид, что искали подходящий вариант, после чего пустили вперёд биндюхи.
Впряжены в каждые сани по паре тяжеловозов, но даже им не без труда поддавались сугробы. Через каждые полсотни саженей меняется головной воз. Хлопотно и долго дело это идёт. Когда же голова обоза достигла центра поляны, случилась неразбериха при смене передовых саней — весь остальной обоз начал вроде бы обтекать застопорившуюся голову, но каждые сани застревали в сугробах, почти рядом друг с другом и вроде бы случайно получился довольно широкий круг.
Обоз догнала передовая тысяча. За ней — вторая. Мечебитцы спешились и начали помогать коням вытягивать возы из снежного плена. Поднялся такой гвалт, словно сошлось несколько цыганских таборов.
Мятежная черемиса и сбежавшие к ним не смирившиеся с поражением казанцы ликовали. Беззвучно, конечно. Они предвкушали новую великую победу, после которой русские войска наверняка не посмеют идти против них походом до лета, а к лету, глядишь, силы мятежников удесятерятся. Попробуй тогда одолеть их. Возродится Казань. Нет, не прежняя на Казанке, малодушная, изъявившая покорность гяурам, а новая — на Меше. Она о себе заявит ещё громче, особенно если к ней присоединится нагорная черемиса, Пермь и Вятская земля.
Бодливой корове Бог, однако, рогов не даёт. С нетерпением ждут условного сигнала мятежники. Руки у них чешутся, сердца пылают, предвкушая справедливую месть. Главари мятежа тоже не сомневаются в успехе, только они ждут, не появятся ли ещё вражеские конники. Но их нет и нет. Решают в конце концов послать тысячу к дороге, чтобы перекрыть её заслоном на случай подхода новых вражеских сил. И вот, когда прошло достаточно времени для устройства засады на дороге, прозвучала команда:
— Во имя Аллаха — вперёд!
Покатилась она спешной волной по опушкам, и дремучий лес выплеснул несчётную массу лыжников.
Но что это?! Русские не пытаются даже строиться в ряды, чтобы встретить грудью атакующих — они кинулись к биндюхам и начали стаскивать с них щиты, ловко устраивая гуляй-город. Перед пушками — китаи с бойницами.
Как не стремителен бег лыжников, но чтобы добежать до центра поляны, нужно время, а гуляй-город округляется, растёт, словно опарное тесто. Очень неожиданное действие русских, поэтому нужно спешить, нужно не дать гяурам полностью огородить себя деревянной стенкой. И никому из ведущих в атаку мятежников не приходит в голову остановить её. Пока не поздно. Отступление — ещё не разгром. Силы сохранены. Можно продолжать борьбу, ожидая к тому же поддержку и нападая неожиданно на зазевавшихся гяуров.
Нет, летят сломя голову. Благо, смазанные лыжи скользят отменно.
Даже первый залп рушниц не остановил атакующих. Даже дробосечное железо, выплюнутое с громом из пушечных стволов. Рвутся вперёд, чтобы как можно скорей приблизиться на полёт стрелы, тогда, по их пониманию, лучники тучами стрел заставят спрятаться ненавистных гостей за свои доски, остальным же лыжникам представится возможность подбежать к самим доскам и перемахнуть их. Никому тогда не дадут они спастись. Даже возницам. Подмога же осаждённым не подойдёт. Благодаря мудрости вождей, дорога перекрыта мощным заслоном.
Полное недомыслие. Андрей Курбский и его тысяцкие не лыком шиты. Засада уже давно обнаружена лазутчиками и обложена со всех сторон. Начнётся бой в центре низины, прозвучит сигнал напасть на засаду. Правда, немного не рассчитали воеводы — засада сопротивлялась чуть дольше того времени, какое определялось на её разгром, и всё же основные силы успели на помощь гуляй-городу, который отбивался уже из последних сил.
Когда сотни конников, одна за другой, начали выпластывать из леса по довольно сносно утоптанной биндюхами дороге, опомнившиеся мятежники отхлынули от гуляя и понеслись во всю прыть, как убегающие от гончих зайцы, к опушке. Увы, для них не спасительной. Отовсюду их встречали дружные залпы рушниц.
Паника — смерти подобна. Мятежников — не жалкая кучка, многие из них умелые и храбрые воины; им бы не метаться растерянно по снежным сугробам, теряя впопыхах лыжи, а встать в круг, огородившись щитами, и изготовиться к рукопашке, итог которой может рассудить только Всевышний. Вышло же так, что лишь малые группы, да и то порознь, сошлись с русскими воинами в смертельной схватке. Остальные что? Сдавались почти поголовно. Побросав сабли, колчаны со стрелами и саадаки, ложились на снег, ожидая либо лютой смерти, либо рабства.
Курбский остановил сечу, велев собрать все лыжи, отобрав их у мятежников. Много вышло. Очень много. Целый обоз нужен бы, да где его взять. Пришлось воспользоваться смекалкой посошных возниц, и выход нашёлся: теми же лыжами, повтыкав их частоколом между бортами биндюх и китаями, поднять борта. Куда как ладно. Грузи — не хочу.
— В остроге бунтарей разживёмся и санями, и новыми лошадьми, — укладывая лыжи, вслух высказал один из возниц своё сокровенное, и князь Курбский даже удивился разумности рассуждений посошника. Действительно, путь полка лежал к крепости на Меше, добраться туда следовало как можно скорей.
— Повремените укладывать лыжи, — велел он возницам, — пусть ратники себе выберут, какие ладные к ноге каждому. Остаток уложите.
Оставив тысячу конников при обозе и по дюжине от каждой сотни коноводами, всех остальных князь Курбский поставил на лыжи и приказал:
— Вам с Божьей помощью брать вражескую крепость. Сдавшихся — не сечь. Саму крепость сравняем с землёй. Я — с вами. Обоз, его охрана и коноводы обождут нас здесь.
Крепость пала без боя. Вновь князь Курбский пошёл на хитрость. Когда до крепости оставалось версты четыре, он выделил полусотню, переодев её в черемисские одежды, вооружил луками со стрелами и татарскими саблями. Кольчуги, правда, воины не сняли, поверх них надев стёганные чапаны с проложенными внутри железными пластинками, как было у многих мятежников. С надвратной вышки передовых ратников признали за своих, отворили ворота, оповестив оставшихся в крепости воинов, что явно с победой возвращаются их товарищи, воины Аллаха, домой.
Когда же воротники обнаружили обман, оказалось уже поздно. Кто успел оголить сабли, были тут же посечены, кто сдался, тех заперли в надвратной башне; затем, не дожидаясь подхода главной силы, оставив на воротах пару дюжин, начали пробираться меж густых мазанок, готовые посечь каждого встречного. Но тихо на улочках. Неужели все мятежники там, в низине, разбитые в пух и прах?
Нет. Вскоре послышались голоса. Не тревожные, скорее возбуждённо-радостные. Стало быть, на какой-то площади собрался народ.
Не ошиблись наши воины: на площади перед убогой мечетью, размером чуть больше окрестных мазанок, собралось сотни четыре мятежников совершенно безоружных и даже не в ратных чапанах. Явно вышли встречать товарищей, возвращающихся с вестью о победе.
Не рискнул сотник, командир передового обманного отряда вступить на площадь с парой дюжиной своих ратников. Мятежников, хотя и безоружных — пруд пруди. Разбегутся, поняв в чём дело, по своим мазанкам, похватают сабли, натянув ратные чапаны, пойдёт тогда потеха. Не лучше ли обождать подхода князя Курбского с основной силой. Гонец к нему уже послан.
А на площади начали возникать недоумённые вопросы: отчего же, мол, вестники о победе не спешат вознести хвалу Аллаху за полный разгром очередной рати гяуров?
— Пересказывают воротниковой страже подробности боя, — успокаивал собравшихся мулла, но вскоре сам предложил:
— Я пойду и выясню, в чём дело?
Русские ратники перехватили его. От испуга он словно язык проглотил, невнятно промычал что-то, но мулле тут же зажал рот мечебитец могучей ладонью.
Дали мулле прийти в себя и рассказали ему о разгроме засады. О полном её разгроме. Ещё о том сказали, что на подходе целый полк русского войска, поэтому сопротивление бесполезно.
— Сейчас со ступеней мечети призовёшь свою паству к смирению. Иначе смерть всем. Тебе в первую голову.
Толмач переводил слово в слово. И рассказ о разгроме мятежного войска, и о требовании сдаться, и об угрозе, в ответ же услышал гордое:
— Смерть правоверного в бою с неверными — прямая дорога в рай. Со ступеней мечети я призову отчаянно биться во имя Аллаха!
— Ишь ты, как поёт! — хмыкнул сотник, хотя и был обескуражен ответом. Он не сразу сообразил, что делать дальше, коль скоро предложенное им не проходило, но никто из подчинённых, да и мулла, не заметили замешательства сотника, ибо тот быстро обрёл уверенность. — Не хочешь призвать свою паству к покорности, сделаю это я.
Сотник велел десятку мечебитцев вернуться к воротам, чтобы в случае чего удержать их всеми силами до подхода полка, остальным приказал оставаться на месте в готовности к неравной сече.
— Ждите моего знака.
Ухватив муллу за шиворот и подталкивая его коленом в зад, сотник принудил его идти к площади. Толмач робко семенил за сотником и муллой, шепча беспрестанно:
— О! Аллах!
Поступок сотника был очень рискован, но вполне оправдан: требовалось во что бы то ни стало выиграть время. Даже ценой своей жизни. Ради сохранения жизни сотням боевых товарищей.
В мановение ока насупилась ликующая площадь, увидя своего муллу, подневольно, за шиворот выпихнутого из узкого переулка. Он что-то хотел крикнуть, но получил удар по загривку и сник. Заговорил громко русский ратник (это моментально поняли мятежники), а толмач столь же громко начал переводить его слова.
— Вашего войска нет! Частью посечено, частью пленено. Целый полк русского государя совсем скоро будет здесь. Ворота мы взяли. Они отворены. Сопротивление бесполезно. Предлагаю сдаться. Даю слово, всем будет сохранена жизнь.
Площадь угрожающе зашипела и, уплотнившись, начала надвигаться на сотника — он выхватил засапожный нож и приставил его к кадыку муллы, однако тот не сник ещё больше, как можно было ожидать, а встрепенувшись, прокричал:
— Именем Аллаха, спешите к оружию! Надевайте доспехи. Смерть гяурам!
Подействовало. Мятежники устремились было в узкие проулки к своим мазанкам, но поздно: их встречали русские ратники, успевшие окружить площадь. Твёрдо ступая, они оттеснили мятежников на площадь и сбили их в тесную кучу. Только тогда на площадь вышел сам князь Андрей Курбский.
— Молодец! — похвалил он сотника. — Водить тебе отныне тысячу. А муллу отпусти. Безвреден он теперь. Его вопли, обращённые к Аллаху, ничего не изменят.
Князь подошёл ближе к донельзя стиснутой толпе мятежников и долго вглядывался в их лица, стараясь угадать мысли, настроение этих людей, понять, смогут ли они в конце концов осознать, что самый худой мир лучше самой успешной войны. Неведомо, удовлетворил ли князь своё любопытство, всё ещё осматривая толпу, он заговорил, чеканя слова:
— Сейчас мы изымем всё ваше оружие, после чего вы своими руками сравняете с землёй крепость, вами построенную. Когда управитесь с этим и присягнёте государю Российскому Ивану Васильевичу на Коране, сможете вернуться к своим семьям. Упрямцев окуём и — в Москву. Вершить суд станет сам царь. Суд праведный. Суд суровый.
Через неделю, когда разрушение крепости закончилось, все до одного мятежника поклялись быть верными присяжниками царя Российского.
Можно вздохнуть с облегчением? Можно бы, но не нужно. Ещё преждевременно. Впрочем, расслабиться не дал новый очаг мятежа, во главе которого встал сотник Бердей из луговой черемисы. На его зов откликнулись ногайцы, калмыки и башкирцы — изрядное получилось войско. И вообще, Луговая и Арская земли не дышали покоем. Вести, доходившие от Даниила Адашева с Камы, хотя и добрые, но не успокаивали полностью. Учитывая сложившуюся ситуацию, князь Андрей Курбский послал к Ивану Грозному гонца с докладом и просьбой не уводить из Татарстана полки, усмиряющие мятежников, до полного успокоения края. По мнению Курбского, на это требовалось не менее года. В ожидании ответа главный воевода готовил полк Микулинского к походу до Башкирских пределов; князя Ивана Шереметев — на Бердея; сам же намеревался идти по Вятке до самого Уржума, где, как стало известно, тоже волнуется народ против Москвы.
Разрешение было получено без проволочек, и вот пустились в путь — вновь по льду, пока ещё крепкому. До самого Уржума. Если основной колонне со всем обозом и огневым нарядом передвижение давалось сравнительно легко, если передовые дозоры лазутили без труда, то боковым приходилось очень трудно: снег уже начал набухать, особенно на солнцепёке, став ещё более тяжёлым, а за ночь, прихваченный морозцем, он покрывался ледяной корочкой, кровявшей бабки коням; из-за этого всё громче и настойчивей раздавались голоса тех, кто был против боковых дозоров. Они выдвигали свой казавшийся им убедительным аргумент:
— Какие засады в таком лесу? Снег, что каша недоваренная.
Курбский же стоял на своём. С одним соглашался — коней нужно беречь.
— Пусть дозоры встанут на лыжи. Но бдить и бдить! Мы же не к тёще на блины направляемся, — повторил он слова князя Ивана Шереметева.
Твёрдость эта оказалась не зряшной. У Вятских полян — засада. У Малмыжа — ещё одна. Даже больше первой. Своевременно обнаруженные, они были сравнительно легко ликвидированы, что отбило у вятичей охоту сопротивляться. Уржум встретил полк князя Андрея Курбского с хлебом-солью.
Присягнули царю Ивану Грозному без принуждения, а по поводу засад утверждали, что это, мол, самовольство безмерно ретивых, без воли народной взявших оружие.
Андрей Курбский сделал вид, будто поверил сказке, велел отпустить всех пленников на поруки, удержав только десятка три их начальников.
До самой макушки лета сотни детей боярских и стрельцов оставались в Вятской земле, хлебосольно мирившейся с этим. Курбский же, ратуя за дело, писал митрополиту, просил уделить больше внимания укреплению православия в крае; умелыми проповедями вести заблудших в светлый духовный мир. Митрополит откликнулся сразу же, правда, не проповедников умных прислал, а нескольких настоятелей монастырей с кучками монахов и просьбой помочь им обзавестись землёй и поставить на Богом данной земле крепкие монастыри.
И помыслить даже Андрей Курбский не мог, что митрополит прислал монахов без согласия на то Ивана Грозного, что в будущем вменится князю в вину и будет расценено как крамольные действия.
Но в данное время Курбский придумал свою хитрость: решил строить монастыри так, чтобы они стали одновременно и крепостями, способными выдерживать многомесячные осады. Для этого опытных ратников выделил, и местной власти определил урок, вроде бы плату за вынужденный поход к ним.
К осени князю Курбскому пришлось покинуть Вятскую землю, где, по всему видно, нужда в ратной силе отпала. Тем временем земля Арская, присягнувшая прежде вроде бы охотно, вновь изменила. Возглавили мятежников князь Ямчура, прозванный Измаилтяниным, и богатырь черемисский Алека. Властям Уржума Курбский не стал сообщать о том, что ему необходимо спешить на помощь князю Ивану Шереметеву, обосновал свой уход так:
— Верю в вашу честность, в ваше искреннее желание благоденствовать в единой семье российской, поэтому увожу полк свой. Пора с вас снять бремя кормления ратников, да и им самим пора по домам.
Знали ли вятичи об измене Арска? Вряд ли. Они ещё раз заверили клятвенно, что их дом, их семья — Россия, ибо сами они испокон века русские.
Путь полка лежал не на отдых, а к Арску. Спешный. Шёл полк, сметая засады, беря в плен бунтарей, без особого разбирательства казня князей, мурз, всех иных знатных татар. Летопись оставила такие данные: преданы смерти 1600 человек, убито в боях 10 000 неприятелей, взято в плен 600 татар, а жён и детей — 15 000. Данные эти с учётом последнего боя под стенами Арска.
Взять его штурмом полку князя Ивана Шереметева не удалось, потому он и запросил помощи. Однако Курбский не привёл свой полк в стан осаждавших Арск, а разбил свой стан вёрстах в трёх от столицы Арской земли и позвал к себе на совет князя Шереметева.
— Наша с тобой задача — выманить из крепости хотя бы крупную вылазку, обескровив тем самым её оборону, — выслушав доклад Шереметева о положении осадных дел, начал излагать свои мысли Андрей Курбский, затем спросил: — Часты ли вылазки?
— Да.
— Успешны ли они?
— Нет, конечно. Отбиваем. Но не получается на плечах убегающих врагов ворваться в город.
— А надо бы. Именно — на плечах бегущих. Только в этом я вижу успех. Путь один: обмануть, выказать страх и, побросав туры, отступить от стен как можно дальше.
— Не бегал я никогда, — с явным недовольством воспринял предложенное Курбским Шереметев. — Опозоришься донельзя.
— Придётся, князь. Не бежать, а умело отступать, сохраняя ратников. Иначе, теряя время, мы делаем услугу мятежникам.
Ждать вылазки долго не пришлось. Словно в угоду замыслу Курбского, на этот раз отворились сразу все ворота, и на русские закопы и тыны навалилась приличная сила, оттого паника выглядела вполне правдоподобно. Арцы увлеклись погоней, не обращая внимания на свои тылы. Вот тут и выпластал полк Андрея Курбского из ближнего леса и намётом понёсся к воротам. Какие-то из них успели захлопнуться перед самым носом русских конников, а какие-то — нет. Из центральных же, Казанских, вывел свою отборную дружину сам князь Ямчура Измаилтянин.
Ошибка полководца. Можно сказать — роковая. В крепости почти не осталось войска, вот русские ратники легко захватывали улицу за улицей, а против Ямчуры встал сам князь Андрей Курбский со своей не менее храброй дружиной.
Нашла коса на камень.
Могло бы всё закончиться печально, прекрати отряд, совершавший вылазку, преследовать отступавших в панике и вернись обратно — не устоять бы тогда дружине князя Курбского, а ворвавшиеся в крепость ратники оказались бы в западне, но князь Иван Шереметев поступил разумно, заманив этот отряд в мешок. Это он сам продумал отрезать татар от крепости, чтобы не оказался полк Курбского в трудном положении. Вроде бы улепётывают в панике русские воины, ныряют, спасаясь якобы от острых сабель в ёрники, а на самом деле сбивалась в лесу тысяча за тысячей основная часть полка и заходила справа и слева за спину увлёкшимся в погоне. По удару набата, глухой звук которого слышен более чем на версту, тысячи сомкнулись за спиной противника.
Узнав от гонца о сече у Казанских ворот, отряд круто развернулся, дабы поспешить на помощь своему вождю, но не тут-то было — путь заступили вставшие стеной русские конники. Равновесие сил у Казанских ворот, таким образом, не изменилось. Рубка продолжалась отчаянная. Ямчура пытался пробиться к князю Курбскому, и путь ему прорубали богатыри, особенно Алека, известный на всю Татарию не только медвежьей силой, но и лютой ненавистью к гяурам. Казалось, ничто не сможет остановить Ямчуру и его телохранителей — быть поединку князей, к которому Курбский тоже стремился, прорубаясь сквозь секущихся со своими стремянными к Ямчуре. Всё ближе они друг от друга. И тут — вопль:
— Алека убит!
Да, раненый дружинник по имени Козьма подсек засапожным ножом бабки богатырскому коню, а когда конь завалился на бок, тот же Козьма вонзил богатырю нож в незащищённый кадык. Алека ещё вскочил, взмахнул даже саблей, чтобы рассечь надвое своего обидчика, но удар шестопёра русского богатыря Никиты Коломенского довершил благое дело.
Князь Ямчура только на мгновение отвлёкся, услышав вопль рядом с собой, и этого было вполне достаточно, чтобы тот же шестопёр Никиты Коломенского смял в лепёшку мисюрку[23] князя Ямчуры.
— Князь убит! — разнёсся крик отчаянья над головами бьющихся в рукопашке.
Ход боя резко изменился. Арские воины в панике понеслись к воротам, но, к счастью русских соколов, сотня из прежде ворвавшихся в город уже пробилась к Казанским воротам, встретила залпом рушниц и обнажёнными мечами дружину павшего в сече главаря мятежников.
Благоразумные побросали сабли и пали ниц, не пожелавшие сдаться были посечены.
За тот последний в Татарии славный бой, после которого в крае наступило успокоение, Иван Грозный милостиво одарил медалями и Андрея Курбского, и Ивана Шереметева, которого особенно похвалил:
— Низкий поклон тебе, князь, за то, что ты ловко убегал от взбунтовавшихся агарян.
Совсем иные слова скажет Иван Грозный после подобного, только более значимого тактического хода, применённого полком Ивана Шереметева в сражении с Девлет-Гиреем, когда по воле главного воеводы русского немногочисленного войска, заступившего путь стодвадцатитысячной армаде крымцев, полководец тоже проведёт безукоризненное ложное отступление, которое поможет победоносному окончанию битвы.
— В кандалы труса! Зайцам нет места среди моих воевод! — изречёт тогда государь.
К тому времени Иван Грозный рассудил, что ему не нужны великой славы воеводы. Расправился он не только с Иваном Шереметевым, но и с Михаилом Воротынским, героем России. Вечным героем.
Произойдёт такая перемена через десяток лет. Теперь же полки, подавившие мятеж, царь Российский встретил торжественно, но всё же не с тем доброжелательным настроением, какое заслуженно можно было бы ожидать. Андрей Курбский не удивился. Он реально оценивал отношение к нему Ивана Грозного: хорошо, что тот после болезни не упрятал в подземельную темницу или даже не казнил за сопротивление присяге царевичу Дмитрию. И всё же — обидно. За героев ратников обидно, за других воевод. Столько усилий, столько славных побед — успокоен огромный край, теперь навечно прирощенный к России. Достойна ли оценка свершённого?
Ну, пусть он, Курбский, на подозрении, пусть не в чести первые воеводы полков, тоже благоволившие Владимиру Андреевичу, предпочтя его несмышлёному дитяти. Пусть обида на них у царя не прошла, но виновны ли вторые и третьи воеводы полков? Виновны ли тысяцкие, сотники, десятники да и тысячи рядовых витязей в чём-либо пред царём? Так и их чествовали, словно подневольно, будто опричь души это.
В памяти осталось, как одаривал Иван Грозный воевод и ратников после взятия Казани, хотя падение столицы Татарии ещё не значило полного уничтожения угрозы возродиться разбойному гнезду. Теперь же, когда народ силой принудили понимать, что мирно жить с Москвой себе же в выгоду, а тех, кому можно было довериться в борьбе за призрачную свободу, уже нет и в ближайшее время вряд ли таковые объявятся — разве за такую победу, более значимую, чем взятие самой Казани, менее щедро нужно честить? Иван же Грозный явно скаредничал.
Но что поделаешь? Царь, он и есть — царь. Окружил себя содомской стаей и куролесит на престоле. Стало быть, так судил Господь Бог.
Встреча с братьями Адашевыми (Даниил тоже блестяще исполнил ратный урок на Каме), с Сильвестром и Владимиром Андреевичем ещё более озадачила Курбского. Весь Кремль словно на бочке с порохом сидит. Никто не знает, что с ним случится завтра. Сегодня цел и — слава Богу.
— Не собраться вот так же всей Избранной радой у самого царя и высказать ему всё без обиняков. Разве простительно нам оставлять его без нашего внимания? Разве допустимо, чтобы у трона толпились безнравственные козлоплясы? Я, как глава Рады, попрошу государя собрать её в ближайшие дни.
— Рискнёшь головой, — со вздохом предостерёг Сильвестр. — На меня, во всяком случае, не рассчитывай. Я принял решение воротиться в монастырь. Даже не в свой, а в более удалённый от содомского гнезда.
— Я тоже собираюсь покинуть Москву, — в тон Сильвестру огорошил князя Курбского Алексей Адашев. — Не борец и я с содомией. Слишком далеко всё зашло. Плетью обуха не перешибёшь. Считаю, не сносить нам голов.
— А я всё же попробую. Может, и нет пока ещё никаких обухов? Может, есть ещё возможность поправить дело?
— За то время, пока ты вразумлял мятежников, в Кремле день сменился ночью. И не только Малюты и его дружков вина, но и новой жены Грозного Темгрючихи[24]. Она — сатана в сарафане. А муж и жена — одна сатана.
— Не отговорите.
Готовился к разговору с царём князь Курбский основательно, выясняя в деталях обстановку в Кремле, продумывал, как ловчее осудить зло и как призвать к добру. Однако предполагаемый разговор не состоялся. Андрей Курбский не был ещё к нему готов, когда сам царь позвал князя к себе. В комнатку для тайных бесед.
— Садись, глава Избранной рады. Послушай меня, а я тебя послушаю.
Вроде бы доброе начало, только приглашение, как будто свойское, прозвучало с ехидцей.
«Что задумал? Не опалит ли?!»
Нет, Иван Грозный пока не собирался расправляться с князем Андреем Курбским. Его казни, вроде бы стихийные, по настроению или по неожиданному навету, на самом деле имели довольно продуманный порядок. Каждому — своя очередь, и Курбский в этой очереди пока не в первых рядах. Удачливый, умный и самоотверженный воевода ещё был нужен Ивану Грозному. Он усмирил край Татарский, теперь ему усмирять Ливонию. Вместе с Даниилом Адашевым, тоже воеводой от Бога. А потом — видно будет.
Продолжил Иван Грозный уже без ехидства. Вполне серьёзно:
— Проведя долгое время в трудах ратных вдали от Москвы, ты многое не знаешь. Поведаю. Тевтонский орден сменил магистра. Вместо престарелого Фирстенберга магистром стал Кетлер. Размазня. Но коварен зело. Сразу же заварил кровавую кашу.
Наёмники немцы вроде бы по своей воле начали обстреливать из Нарвы Ивангород[25], нарушив перемирие. В ответ — спалена была Нарва, взят Дерпт, к Вендену подступили, где сидел сам Кетлер. Едва тот ускакал, но обоз магистра стал нашей добычей.
Подробнейшим образом пересказывал Иван Грозный, как разворачивались события в Ливонии: наёмников немцев и рыцарей били во всех сражениях, захватывая всё новые и новые города, и тогда Кетлер взмолился о переговорах, сам попросив перемирия. По совету Алексея Адашева Иван Грозный согласился принять послов магистра, ибо передышка ему тоже была нужна. Вернее, не передышка, а полки: началось завоевание Астраханского ханства, против чего на дыбы встали Крым и Османская империя. Вот и требовалась основательная сила, чтобы противостоять им.
Не хотели мириться с завоеванием Астрахани Москвой и ногаи, и даже Сибирское ханство, чтобы сбивать с них спесь, тоже нужны были полки.
Не предполагая, что Кетлер, запросивший перемирия для переговоров, сам его нарушит, Иван Грозный вывел из Ливонии значительную часть своего войска и ждал послов. А Кетлер не спешил. Узнав о сокращении русского войска, ему противостоящего, магистр решил коварно воспользоваться этим; не направляя посольство в Москву, сам лично, с пышной свитой, чтобы пустить пыль в глаза, он выехал в Краков, убедить короля Августа вступить в войну с Россией в союзе с Тевтонским орденом.
Собрался Сейм. Рядились долго. Сошлись на том, что королю отдаётся в залог крепости Мариенгаузен, Лубан, Ашерат, Дюненбург, Розитен, Луцен при условии, что по окончании войны будет заплачено семьсот тысяч гульденов, король же обязался стоять всеми силами за Ливонию, восстановить целостность её владений и братски разделить с орденом будущие завоёванные в России земли.
Разделили шкуру неубитого медведя.
Кроме короля Августа орден поддержали и некоторые другие правители. Герцог макленбургский Христофор привёл из Германии новую дружину наёмников, а император пообещал выделить на её содержание сто тысяч золотых. Герцог прусский, ревельский магистр и многие другие снабдили войско Кетлера знатной суммой денег, и тогда магистр ордена решился нарушить перемирие, не ожидая сроков его окончания. Один из отрядов его войска напал близ Дерпта на полк воеводы Захария Плещеева, не предусмотревшего возможность коварства. Захваченный врасплох полк был разбит наголову. В том бою полегло более тысячи русских ратников.
— Я срочно послал на Кетлера из Новгорода и Пскова воевод Ивана Мстиславского, Петра Шуйского, Василия Серебряного. Держится и Дерпт. Кетлер застрял у его стен. И ещё в нашу угоду, король Август не направил своё войско в Ливонию, а прислал ко мне секретаря своего Володковича. Хитрит. Ни вашим, ни нашим. Ещё из Вены от цесаря Фердинанда прибыл вельможа с посланием. Обещает дружбу, если я не стану воевать Ливонию. А я её не воюю. Я возвращаю исконно русские земли под свою руку. В ратных делах тоже вроде бы исправляем допущенное по недосмотру Плещеева, но, как я вижу, война с орденом надолго. Вот я и позвал тебя, князь, чтобы возложить на тебя великую долю: встать во главе моего войска, что стоит против Кетлера. В помощники тебе даю Даниила Адашева. Поведёшь четыре свежих полка.
Ранние биографы князя Андрея Курбского оставили о том событии восторженные свидетельства, и они долгое время перекочёвывали из одного исторического труда в другой. Воспроизвёл их и Карамзин: «Курбский в восторге целовал руку державную. Юный государь обещал неизменную милость, юный боярин — усердие до конца жизни». Правда, историк тут же оговаривается: «Оба не сдержали слова, к несчастью своему и России».
Если отрешиться от откровенного восторженного свидетельства явного угодника Ивана Грозного и взглянуть на те события с должным анализом, то вполне могут возникнуть сомнения, с таким ли низкопоклонством воспринял князь Курбский новое назначение государя?
Да, он служилый князь и, стало быть, не мог не подчиниться царской воле, а как воевода и патриот России тем более. Ослушание или даже упрямство имели бы самые печальные последствия. Удаление из Кремля в одну из своих вотчин или ссылка на Белоозеро, где обычно держал Иван Грозный под неусыпным надзором опальных князей, — более мягкий вариант. Пострадал бы и авторитет в среде князей и бояр — они единодушно осудили бы отказ от столь высокого доверия. Главный воевода всей рати, сражающейся в Ливонии с орденом, — это не шуточки.
Но если приглядеться с другой стороны? Курбский — князь из перворядных. Он — Владимирович, а род их более знатный, чем род Даниловичей, волею судеб оказавшихся на престоле. Пусть он теперь служит царю, но не теряя родового достоинства. Ведь он сохранил родовые уделы, оставаясь одним из богатейших князей. И вообще, разве Андрей Курбский, видя, что творится вокруг трона, не понимал, по какой причине его отсылают подальше от Кремля, чтобы не мешал царю и его окружавшей своре куролесить. А он бы мог быть очень полезным советником доброты.
Короче говоря, как ни болела, всё же померла.
С охотой или без неё Курбский в скором времени вместе с Даниилом Адашевым повёл свежие полки в Ливонию и ранней весной был уже в Дерпте.
Дав отдых полкам и разобравшись с обстановкой, Андрей Курбский с Даниилом Адашевым и первыми воеводами полков, действовавших в Ливонии и вновь прибывших, определил тактический план всей весенне-летней операции. Главный удар наметили по Белому Камню, по пути овладев замком Фегефеер ревельского епископа. После этого разорить область Каскильскую, где благоденствовало множество замков орденских рыцарей.
Выступили на исходе мая, имея уже кое-какие сведения о силе неприятельских войск и том месте, где они находятся. Они вроде бы не настораживали, не понуждали готовиться к крупным боям, и в это не очень верилось ни Курбскому, ни Адашеву.
— Разведывать и разведывать, — твердил князь Курбский воеводам полков, хотя они сами вполне понимали, что вслепую двигаясь, можно попасть как кур в ощип.
Фегефеер взяли сравнительно легко. Подтащили как можно ближе стенобитные пушки к воротам. Полчаса непрерывного обстрела ворот тяжёлыми чугунными ядрами, и — путь открыт. Десятка два рыцарей попытались остановить в узком проходе под надвратной башней атакующих русских ратников, но те благоразумно не полезли в рукопашку, а постреляли рыцарей из рушниц и из подтянутой к месту боя пушки.
Пленён был сам епископ. Разграблен замок. Добыча ратная отправлена в Дерпт. Можно и вперёд, на Белый Камень, или, как его именовали рыцари — Виттенштейн. И тут лазутчики известили, что к замку спешит полутысячный отряд.
— Похоже, наёмники немцы, — докладывал гонец от лазутного дозора. — Зело спешат. Видно, прознали рыцари о нашем походе.
— Спасибо за своевременную весть, — поблагодарил гонца Андрей Курбский. — Пока оставайся при моей дружине.
Князь позвал Даниила Адашева и велел встретить отряд засадой. Языка при этом заполучить обязательно. Хорошо, если самого командира отряда пленить.
Адашев блестяще справился с заданием. Устроили засаду на лесном участке дороги совсем близко от замка, он, посчитав, что ратники, предвкушая скорый отдых за стенами замка, потеряют настороженность, велел двум касимовским татарам заарканить того, кто будет ехать впереди отряда, только после этого по его сигналу можно будет нападать.
Немцы хотя и шли на рысях, передовой дозор имели. Его решили пропустить, и он миновал засаду, ничего не заметив. А если нет сигнала опасности, чего же тогда опасаться? Перед лесом наёмники даже не перевели коней на шаг, и вот, когда весь отряд втянулся в лес, из подлеска змеями взвились петли конского волоса, и обе ловко захлестнули скакавшего впереди командира — дружно заговорили рушницы, мечебитцы, вначале пешие, затем и конные, укрывавшиеся в глубине леса, навалились на наёмников. Серьёзного сопротивления не получили: наёмники, они и есть — наёмники. Им к душе только деньги и лёгкие победы, а к смерти он не склонны относиться наплевательски: чего ради гибнуть в бою, если можно, сдавшись, перепродать себя новым воеводам, более удачливым и предусмотрительным. Наёмникам всё равно, за кого воевать, лишь бы платили деньги.
Не стал темнить и командир отряда наёмников.
— Да, о вашем выходе из Дерпта известно. Мы посланы оборонять замок епископа. Надеялись опередить вас.
— Какие ещё силы выставил орден?
— Прежний магистр Фирстенберг с девятью полками на дороге под самым Виттенштейном. С множеством пушек. Его трудно и даже невозможно победить ударом в лоб, но его можно обойти по болотам. Он не будет ждать со стороны болот удара. Я смогу проводить ваше войско болотистой низиной. Я знаю несколько проходимых дорог.
— Ишь ты! Быстро же изменил своим нанимателям.
— Я вынужден это сделать. У меня есть условие.
— Какое?
— Отпустите моих воинов, пленённых вами. Конечно, после того, как обходный манёвр позволит разбить Фирстенберга. Или заключите с нами свой договор. Мои воины храбры и послушны.
— Храбрость вашу мы уже испытали. Без неё обойдёмся. Отпустить же — отпустим.
Вот так, можно сказать, нежданно-негаданно появилась возможность одержать новую серьёзную победу, хотя путь к ней связан с немалым риском. У Фирстенберга девять полков, у Курбского — всего четыре. Но обходный манёвр многого стоит.
Распределил силы Курбский следующим образом: два полка без огневого наряда, только с рушницами, направлены болотистой низиной, два других он сам лично повёл по дороге к Белому Камню. Шёл медленно, основательно разведывая, как построил своё войско Фирстенберг. Получалось, в угоду тактическому замыслу: все силы расположены так, чтобы встретить русское войско на дороге, а со стороны болота нет ни закопов, ни тынов — не ждёт орденская рать оттуда никакого лиха.
Вызнав обо всём этом, Андрей Курбский поменял порядок атаки: первым не он будет налетать, а Даниил Адашев. Пусть перестраиваются полки для встречи с тыла (без сумятицы не обойдётся), тогда и введёт свои полки Курбский в сечу.
Гонец, вернувшийся от Адашева, доложил:
— Доволен воевода. Он сам хотел предложить подобное изменение.
— Вот и ладно тогда.
Вроде бы действительно всё шло ладно, только вот будто ступали по лезвию ножа. Ударь по полкам Адашева Фирстенберг первым, праздновал бы он лёгкую победу, и благо, что престарелый воевода, надеясь на свои девять полков, стоял бездвижно, ведя разведку только на дороге и ожидая подхода русского войска, очень, по его пониманию, худосочного. Болотистую низину он оставил полностью без своего внимания, оттого и получилось, что удар в спину для крупного орденского войска, оборонявшего подходы к Белому Камню, оказался совершенно неожиданным.
Взошла луна. Светло, почти как днём. Даниил решает воспользоваться этим благоволением Господа Бога — атаковать, не дожидаясь утра. Только дав немного передохнуть коням.
Такое решение было связано с немалым риском: Адашев намного опередил бы условленное время атаки, но слать главному воеводе гонца с сообщением о принятом им решении не было смысла, да и опасно в такой близости от полковых станов противника. Надежда у Адашева была лишь на то, что, услышав пальбу из рушниц — а немцы, возможно, даже пушки применят — полки Курбского поспешат к месту боя.
Без лишнего шума Даниил Адашев повёл пять тысяч детей боярских на главный стан орденского войска, остальные отряды, тоже по пяти тысяч, — на полковые вражеские станы. Силы, конечно, далеко не равные, и весь расчёт только на неожиданность.
Расчёт вполне оправдался. Полковые станы, атакованные русскими конниками, не вдруг обрели ладность в обороне, понесли заметный урон, а не атакованные русскими из-за нехватки сил полки, не получая команд от Фирстенберга, не знали, что делать. По собственной инициативе на всякий случай поворачивали пушки в сторону болотистой местности, а некоторые даже для острастки начали стрелять, раня и убивая своих.
Совсем недолго длилась растерянная несогласованность, затем бой обрёл стройность. Теперь русские конники вынуждены были отбиваться от начавших наседать более многочисленных врагов, но противостоять им пришлось тоже не слишком долго: подоспели полки Курбского, врубились (получилось тоже со спины) в сечу. Немцы дрогнули, их гнали вёрст шесть, до глубокой реки, мост через которую обрушился под тяжестью убегающих, многие утонули, многие пали от мечей. Спаслось от девяти полков малое число воинов.
С рассветом Курбский возвратился к ставке Фирстенберга, которую держал в полном окружении Даниил Адашев, не пустив свои пять тысяч в погоню за немцами.
Разумно поступил. Вся казна отставного магистра оказалась в руках воевод, а пленено было сто семьдесят знатных чинов Тевтонского ордена.
Стремительно развил князь Андрей Курбский свой первый успех, в два месяца одержал не менее десяти значительных побед, важнейшая из которых — Феллинская. Могучая крепость пала в результате умелой осады и столь же умелого штурма.
И князь Курбский, и окольничий Адашев могли надеяться на ласковое слово царя, на его милость за столь высокое воеводское мастерство, которое весьма и весьма ослабило Тевтонский орден, который теперь, без приукраса можно сказать, дышал на ладан. Однако Иван Грозный словно в рот воды набрал, а друзья Курбского и Адашева слали настораживающие вести.
Главное, что следовало из тех сообщений: настал конец счастливым дням для государя и России, грядут неотвратимо чёрные дни для всех без разбора.
Не совсем так. Разбор имелся. Цепко Иван Грозный ухватился за Алексея Адашева и за Сильвестра. Одного вроде бы отпустил в монастырь, другого — на воеводство, но следом за ссылками полились на обоих ушаты грязи — бывших любимцев стали обвинять во всех смертных грехах, особенно настаивали на участии в отравлении любимой жены государя. Курбского конечно же Адашев известил о гнусной напраслине, на них возведённой, и князь со всей ясностью понял: не сносить братьям голов, а стало быть, и его, Курбского, голова держится не прочно. Его наверняка казнят как друга и единомышленника опальных. Впервые у князя возникла мысль о том, не податься ли ему вместе с братьями Адашевыми к королю польскому, как предлагал Даниил Адашев. Но Алексей наотрез отказался, и это меняло дело. Вместе — приемлемо, уйти одному означало поставить своих товарищей ещё в более тяжёлое положение.
И так князь прикидывал, и эдак. Всё не по уму.
С одной стороны, кроме друзей ещё и семья. Если с ней бежать, схватят как пить дать. Если одному уйти, что тогда станет с любимой женой? Соломенная вдова, пособница изменнику. Ко всему прочему, побег означал и потерю нажитого за многие сотни лет родом Курбских, и потерю чести, славы.
С другой стороны, у него есть право, освящённое Русской Правдой, древнейшей, Ярослава Мудрого и Ивана Третьего, служить по своему усмотрению великим князьям, теперь именующим себя царями и королями. А ляхи — единая славянская семья. Они ближе всех к славяноруссам. И законы у них издревле схожи. Прежде, до завоевания России монголами, не враждовали две могучие ветви славянского народа. Более того, ляхи пришли на помощь русским, начав вместе с ними и с Литвой, тоже единокорневым народом, отвоёвывать захваченные монголами русские земли. До верховий Оки дошли шаг за шагом.
Жадность, однако, пересилила честь, совесть и славянское братство. Не захотелось бывшим союзникам после освобождения России от ига монгольского отдавать, как было изначально задумано, добровольно то, чем они владели многие десятилетия.
Способствовала разобщению и католическая церковь, которая к тому времени основательно запустила свои щупальца в Польшу и в Литву.
Вот так и началась вражда. Непримиримая. Кровопролитная. И всё же — она наносная. Пламя вражды можно загасить, если постараться. Подобная мысль согревала, оправдывая в какой-то мере переход на сторону врагов России.
Но сколько сил отдал род Курбских возвеличиванию своей отчизны? Один поход Фёдора Семёновича Курбского-Чёрного[26] против владыки Сибирского ханства Ипака чего стоит. Набирало силу Сибирское ханство, осколок Золотой Орды, укрепляло союз с ногайцами и даже с крымцами, нависая новой угрозой над Россией. Угрозой из Сибири. Первые её признаки уже осязались. Хан Ипак начал притеснять вогулов и остяков, которые жили в дружбе с Россией, вели крупную меновую торговлю с русскими купцами через Мангазею и через Камень с Пермью и Вяткой, при этом русских купцов и промышленников тюменские татары не только грабили, но и убивали. При поддержке Ипака начал озоровать и князь Асяка, глава вогульского Палымского княжества. Подобного терпеть было нельзя. И вот Иван Третий, Великий, Грозный, разгромив на Угре хана Ахмата и освободившись от татаро-монгольского ига, решил нанести упреждающий удар по Ипаку, одновременно объясачить вогулов и остяков, а при удачном стечении обстоятельств присоединить их к России.
Родовая память Курбских сохранила все боевые подвиги князя Фёдора, свершённые в том исключительной важности для отечества походе. Сохранила и то, что Курбский-Чёрный мечтал, побив хана Ипака, стать великим князем Тюменского княжества, в который войдут все народы Сибири — дружеского Москве княжества, но свободного от неё. Иван Третий Грозный проведал о том замысле, но не опалил князя Фёдора, а прислал к нему в товарищи воеводу Салтыка Травина[27]. Смирился Курбский-Чёрный, а по завершении похода понял, сколь важно честно служить отечеству. Его наказ, данный сыновьям, которых он призывал быть истинными патриотами родины, дорожить честью, был не забыт и его потомками, в том числе и князем Андреем Курбским.
Сын Фёдора Михайловича повторил подвиг отца, о чём в Государевой разрядной книге под 1499 годом записано:
«Повелением государя великого князя Ивана Васильевича всея Руси хождение воевод князя Петра Фёдоровича Ушатого, да Семёна Фёдоровича Курбского, да Василия Ивановича Заболотского Бражника в югорскую землю, на Коду и на вогуличи. А от Печеры-реки воеводы шли до Камня две недели, и тут разделились воеводы: князь Пётр да князь Семён через Камень шли щелью, а Камня в облаках не видать, только ветрено. Да убили воеводы на Камне самояди 50 человек и взяли 200 оленей, а на оленях от Камня шли неделю до первого городка Ляпина. А всего до тех мест шли 4650 вёрст. Из Ляпина встретили с дарами югорские князья на оленях, и от Ляпина воеводы пошли на оленях, а рать — на собаках. И Ляпин взяли, и поймали 23 города, да 1009 лучших людей и 50 князей привели. Да Василий Бражник взял 8 городов. И пошли к Москве здоровы все ко государю».
У Великих князей московских и первого государя Российского Ивана Третьего Великого Грозного, хотя и стремился он к единовластию, в чести были князья и бояре, особенно Владимировичи. Иван Третий уважал права удельных князей, признавших его царскую власть. Никогда за поперечное слово, даже не в угоду общему делу сказанное, не опалял. Напротив, прислушивался к советам, даже к тем, какие оприч души, и если находил в них доброе начало, принимал.
Круто повернул укоренившийся порядок сын его от второго брака с Зоей Палеолог, племянницей последнего византийского государя Константина Девятого. Упрятал венчанного на престол Дмитрия[28], внука Ивана Третьего, сам царствовал не будучи венчанным на царство, оттого, может, с болезненной остротой воспринимал любой, даже самый полезный совет, им не дозволенный. Тогда многие, привыкшие говорить смело о недостатках в правлении, поплатились либо ссылками, либо головами. Пострадал тогда и Семён Фёдорович Курбский, воевода, славный не только походом в землю югорскую.
А уж Елена правительница, вторая жена не венчанного на царство царя, тоже незаконно властвовавшая, вовсе не давала никому пара изо рта выпустить, руками своего любовника Овчины-Телепнева расправляясь с добрыми советчиками, не в угоду ей сказавшими слово.
А сын Елены Глинской, не весть от кого зачатый[29] (ещё при жизни мужа поговаривали, что она якшалась с Телепневым), но даже если от законного царя, всё равно на четверть крови Мамаевской[30], ибо Глинские — потомки хана Мамая, разбитого Дмитрием Донским и окончательно добитого царём Золотой Орды Тохтамышем. Не умертвил Тохтамыш врага России и своего врага, а отпустил к польскому королю, который дал Мамаю на содержание городок Глину.
Иван Васильевич Грозный единовластие довёл до такой извращённости, что при нём рта не откроешь, пока не получишь на то государева позволения. Жизнь подданных он ни в грош не ставит. Родовитая знатность тоже вне уважения. Особенно планомерно расправляется царь с Владимировичами, видя в них могущих законно претендовать на царствование. Как, к примеру, Курбские. Как и он, князь Андрей Курбский, знатных! представитель древнейшего владетельного рода. Перворядного рода. Разве не обидно такое?
Да, обида эта сопровождала подспудно Андрея Курбского всю его сознательную жизнь, но изменить что-либо в сложившемся положении служилого князя он не мог, да и не пытался это сделать. Он утешал себя тем, что усердие его искреннее, не по принуждению, и служит он не полукровке мамаевскому, врагу отечества, а на благо России.
И вот теперь князю надо было делать выбор: либо Россия, либо собственная жизнь. Князь метался душой. Он не находил покоя ни днём ни ночью, определиться же окончательно никак не мог. Подстёгивали к измене и побеги славных воевод и князей. Один за другим бежали они в Польшу от злодейств Ивановых: первым бежал князь Вишневецкий, которого за ревностную службу России Иван Грозный едва не отравил, следом — братья Андрей и Таврило Черкасские. Большее влияние оказали тут и арест Алексея Адашева, и ссылка Сильвестра на Соловки, и, наконец, казнь Даниила Адашева. А он — первый помощник и друг князя.
Совсем не ко времени пришлось и позорное поражение Петра Шуйского под Оршей.
Король Сигизмунд с большим опозданием, когда уже Тевтонский орден «приказал долго жить», начал войну с Россией. Иван Грозный не замедлил с ответом: из Полоцка выступил полк князя Петра Шуйского, из Вязьмы — полки князей Серебряных-Оболенских. Их задача: соединившись под Оршей, действовать уже по плану всей армии, вступившей в войну с Польшей и Литвой. Но полк Петра Шуйского был разбит польским воеводой Николаем Радзивилом. С лучшими полками королевскими и литовскими он встал близ Витебска, имел хорошую разведку и проведал, что полк князя Петра Шуйского идёт без должного охранения, в полной беспечности. Как упустить преподнесённый на блюде случай? Устроил засады на лесных дорогах близ Орши и наголову разбил русский полк. Сам Пётр Шуйский погиб. Пали два брата — Семён и Фёдор Полецкие, пленены князья Овчина-Плещеев и Иван Ослябин. Остатки полка бежали в Полоцк, оставив неприятелю весь обоз и весь огневой наряд.
Вроде бы вины главного воеводы рати князя Андрея Курбского в том поражении не было (полки ещё не перешли под его руку), но для Ивана Грозного, решившего расправиться с одним из авторитетнейших друзей Адашевых, вполне мог сгодиться и этот надуманный предлог. И царь пошёл на это. Послал к Курбскому емцов[31].
Но то ли емцы не очень спешили, то ли друзья послали вестника, который не жалея коней, опередил палачей, только у Курбского осталась в запасе ночь, чтобы принять окончательное решение — он выбрал жизнь, пусть даже без чести. А раз так, следовало поспешить. Пока готовили к быстрой дороге коней и упаковывали вьюки с частью драгоценностей (жену не оставишь без средств), нужно поговорить с ней. «А если она не согласится отпустить?»
Ответа на этот тревожный вопрос князь не находил. Ответит на него сама жена, юная летами, пригожая лицом и станом. Каково будет ей в монастыре?
— Что с тобой? — поняв его возбуждённое состояние, она спросила, прильнув к супругу.
— Я перед выбором: бежать к Сигизмунду или положить голову на плаху. Как ты рассудишь, то я и выберу.
— Милый мой князь, буду я счастливой только тогда, когда буду знать, что ты жив и здоров. Я не перестану до конца дней своих в монастырской келье молиться о твоём благополучии.
Курбский нежно поцеловал жену. Теперь все терзания позади.
Не сомневался Курбский ни на миг, что король примет его с распростёртыми объятиями и не оставит без дел. И действительно, Сигизмунд обласкал столь знатного воеводу, предоставив ему Кревскую старостию, десять сел с четырьмя тысячами десятин земли в Литве, город Ковель с замком и двадцать восемь селений на Волыни. Король посчитал, что такими дарами возмещает потерю Курбского, понесённую вследствии бегства князя с родины. Хотя это было далеко не так, всё же жизнь Курбского материально была обеспечена добротно.
И ещё Сигизмунд ввёл князя в Королевскую раду.
Побег очередного боярина в стан вражеский — ничего вроде бы из рук выходящего? Не он первый, не он последний. Однако побег Курбского стал шумным политическим, как бы мы теперь назвали, событием. Об этом в первую очередь позаботились сам беглец, его сторонники в Москве и его новые хозяева в Польше. Князя подтолкнули на письменное оправдание своего побега. Публичное оправдание.
Первое послание Курбского — короткое, весьма, однако же, ядовитое. Его можно воспроизвести полностью.
«Царю, некогда светлому, от Бога прославленному — ныне же, по грехам нашим, омрачённому адскою злобою в сердце, прокажённому в совести, тирану беспримерному между самыми неверными владыками земли. Внимай! В смятении горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты Сильных во Израиле, вождей знаменитых, данных тебе Вседержителем, и святую, победоносную кровь их пролил во храмах Божиих? Разве они не пылали усердием к царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками, христиан чародеями, свет тьмою и сладкое горьким! Чем прогневали тебя сии предстатели отечества? Не ими ли разорены Батыевы царства, где предки наши томились в тяжкой неволе? Не ими ли взят ы твердыни германские в честь твоего имени? И что же воздаёшь нам, бедным? Гибель! Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога и правосудия Вышнего для царя?.. Не описываю всего, претерпенного мною от твоей жестокости: ещё душа моя в смятении; скажу единое: ты лишил меня святое — Руси! Кровь моя, за тебя излиянная, вопиет к Богу. Он видит сердца. Я искал вины своей и в делах, и в тайных помышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам её, и не ведаю греха моего перед тобою. Я водил полки твои, и никогда не обращал хребта их к неприятелю: слава моя была твоею. Не год, не два служил тебе, но много лет, в трудах и в подвигах воинских, терпя нужду и болезни, не видя матери, не зная супруги, далеко от милого отечества. Исчисли битвы, исчисли раны мои! Не хвалюся: Богу всё известно. Ему поручаю себя в надежде на заступление святых и праотца моего, князя Фёдора Ярославского... Мы расстались с тобой навеки: не увидишь лица моего до дня Суда Страшного. Но слёзы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мёртвых: убитые тобою живы для Всевышнего: они у престола Его требуют мести! Не спасут тебя воинства; не сделают бессмертным ласкатели, бояре недостойные, товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву! — Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд Божий. Аминь. Писано в граде Вольмаре, в области короля Сигизмунда, государя моего, от коего с Божиею помощию надеюсь милости и жду утешения в скорбях»[32].
Послание это Ивану Грозному якобы вручил верный слуга Курбского Василий Шибанов. Об этом будто бы имевшем место историческом факте даже написан рассказ, в котором утверждается, что Иван Грозный приказал Шибанову читать послание, а выслушав его, якобы велел пытать, но Шибанов выдержал все пытки, не назвав ни одного сообщника Курбского. Картина, отобразившая то событие, красочна: царь слушает посланца Курбского, опираясь на посох, наконечником которого он, как живописует рассказчик, пригвоздил к полу ногу Шибанову. Кстати, нашёлся, значительно позднее, ловкий издатель по фамилии Шибанов, который эту картину сделал гербом своего издательства и, как утверждали современники, изрядно на этом разбогател.
В действительности эта история всего лишь спекулятивная легенда. Шибанов не бежал с Курбским в Польшу. Он, как и несколько других слуг князя, был схвачен задолго до появления первого послания перебежчика и окован. Одно достоверно: Василий Шибанов даже на лобном месте не отрёкся от своего господина.
Иван Грозный мог бы не ответить Курбскому, но он тоже увидел возможность публично оправдать свою жестокость через обвинение бежавшего слуги государева.
«Во имя Бога всемогущего, Того, Кем живём и движемся, Кем цари царствуют и Сильные глаголют, смиренный христианский ответ бывшему российскому боярину нашему советнику и воеводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому, восхотевшему быть ярославским владыкою... Почто, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая бренное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, строптивого владыки, и наследовать венец Мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? Суета и тень: блажен, кто смертию приобретает душевное спасение! Устыдися раба своего, Шибанова: он сохранил благочестие пред царём и народом; дав господину обет верности, не изменил ему при вратах смерти. А ты, от единого моего гневного слова, тяготишь себя клятвою изменников; не только себя, но и душу предков твоих: ибо они клялися великому моему деду служить нам верно со всем их потомством. Я читал и разумел твоё писание. Яд аспида в устах изменника; слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения; но ты не уехал бы ко врагу нашему, если бы мы не излишно миловали вас, недостойных! Я иногда наказывал тебя за вины, но всегда легко, и с любовию; а жаловал примерно. Ты в юных летах был воеводою и советником царским; имел все почести и богатство. Вспомни отца своего: он служил в боярах у князя Михаила Кубенского! Хвалишься пролитием крови своей в битвах: но ты единственно платил долг отечеству. И велика ли слава твоих подвигов? Когда хан бежал от Тулы, вы пировали на обеде у князя Григория Темкина и дали неприятелю время уйти восвояси. Вы были под Невлем с 15 000 и не умели разбить четырёх тысяч литовцев. Говоришь о царствах Батыевых, будто бы вами покорённых: разумеешь Казанское (ибо милость твоя не видала Астрахани): но чего нам стоило вести вас к победе? Сами идти не желая, вы безумными словами и в других охлаждали ревность к воинской славе. Когда буря истребила под Казанью суда наши с запасом, вы хотели бежать малодушно — и безвременно требовали решительной битвы, чтобы возвратиться в домы победителями или побеждёнными, но только скорее. Когда Бог даровал нам город, что вы делали? Грабили! А Ливониею можете ли хвалиться? Ты жил праздно во Пскове, и мы семь раз писали к тебе, писали к князю Петру Шуйскому: идите на немцев! Вы с малым числом людей взяли тогда более пятидесяти городов; но своим ли умом и мужеством? Нет, только исполнением, хотя и ленивым, нашего распоряжения. Что ж вы сделали после с своим мудрым начальником Алексеем Адашевым, имея у себя войско многочисленное? Едва могли взять Феллин: ушли от Пайды (Вейсенштейна)! Если бы не ваша строптивость, то Ливония давно бы вся принадлежала России. Вы побеждали невольно, действуя как рабы, единственно силою понуждения. Вы, говорите, проливали за нас кровь свою: мы же проливали пот и слёзы от вашего неповиновения. Что было отечество в ваше царствование и в наше малолетство? Пустынею от Востока до Запада; а мы, уняв вас, устроили сёла и града там, где витали дикие звери. Горе дому, коим владеет жена, горе царству, коим владеют многие! Кесарь Август повелевал вселенною, ибо не делился ни с кем властию: Византия пала, когда цари начали слушаться эпархов, синклитов и попов, братьев вашего Сильвестра... Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях! Не губим Сильных во Израиле; их кровию не обагряем церквей Божьих: сильные, добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников — и где же щадят их? Константин Великий не пощадил и сына своего; а предок ваш, святый князь Феодор Ростиславич, сколько убил христиан в Смоленске? Много опал, горестных для моего сердца; но ещё более измен гнусных, везде и всем известных. Спроси у купцов чужеземных, приезжающих в наше государство: они скажут тебе, что твои предстатели суть злодеи уличённые, коих не может носить земля Русская. И что такое предстатели отечества? Святые ли, боги ли, как Аполлоны, Юпитеры? Доселе владетели российские были вольны, независимы: жаловали и казнили своих подданных без отчёта. Так и будет! Уже я не младенец. Имею нужду в милости Божией, Пречистыя Девы Марии и Святых Угодников: наставления человеческого не требую. Хвала Всевышнему: Россия благоденствует; бояре мои живут в любви и согласии: одни друзья, советники ваши, ещё во тьме коварствуют. — Угрожаешь мне судом Христовым на том свете: а разве в сём мире нет власти Божией? Вот ересь манихейская! Вы думаете, что Господь царствует только на небесах, Диавол во аде, на земле же властвуют люди: нет, нет! везде господня держава, и в сей и в будущей жизни. — Ты пишешь, что я не узрю здесь лица твоего ефиопского: горе мне! Какое бедствие! — Престол Всевышнего окружаешь ты убиенными мною: вот новая ересь! Никто, по слову апостола, не может видеть Бога. — Положи свою грамоту в могилу с собою: сим докажешь, что и последняя искра христианства в тебе угасла: ибо христианин умирает с любовию, с прощением, а не с злобою. — К довершению измены называешь ливонский город Вольмар областию короля Сигизмунда и надеешься от него милости, оставив своего законного, Богом данного тебе властителя. Ты избрал себе государя лучшего! Великий король твой есть раб рабов: удивительно ли, что его хвалят рабы? Но умолкаю: Соломон не велит плодить речей с безумными: таков ты действительно: — Писано нашея Великия России в царствующем граде Москве, лета мироздания 7072, июля месяца в 5 день».
Вот в таком примерно стиле вся переписка. Один, Курбский, оправдывает своё бегство во вражеский стан; второй, государь Российский — свою жестокость и отъявленное скоморошество, но избегает в них разговора о главном. Воспроизводить все их послания (тем более что они неоднократно издавались в полных списках) в кратком биографическом очерке вряд ли целесообразно, но проанализировать содержание этой переписки, её особенности можно. Вроде бы сокровенное в тех посланиях, а приглядишься — похвальные слова о себе и хула на другого. Не гнушаются даже вымыслами. О главном же противоречии, как я уже сказал, ни слова, только иногда намёки проскальзывают.
В России той эпохи противостояли друг другу два религиозных и философских течения. Одно, вдохновителем которого принято считать Иосифа Волоцкого, являлось проводником византийских взглядов на самодержавную власть государя; второе — защищало старый образ правления, свободно-договорной с удельными князьями, и опиралось на идеологию заволжских старцев. Иван Грозный был борцом за централизованное государство, за единовластие, то есть образа правления вполне прогрессивного для того времени. Впрочем, не только для того времени, но и для сегодняшнего — Иван Васильевич наследовал свою власть от деда и отца и старался сообщить ей новую силу, хотя в той борьбе доходил до опьянения и даже до безумства.
Курбский же был ярым сторонником добровольно-договорного порядка, который многие века терзал Россию междоусобной борьбой и изжил себя полностью. Поэтому считать Курбского либералом, борцом за демократические идеалы, как это делают иные биографы князя, можно лишь с определённой натяжкой.
В посланиях ни тот ни другой не высказывают чётко и своих взглядов на устройство лучшего общежития, более ладной формы правления в соответствии с требованиями времени. Что сдерживало их, знали только они сами.
В Польше князь Андрей Михайлович Курбский прожил девятнадцать лет, о которых осталось свидетельств больше, чем о делах князя в бытность его на родине. Отзывы об его жизни в эмиграции почти не разнятся: он не любил Польши, хлеб которой ел. Только иногда проскальзывает причина той нелюбви: Курбский стоял за православие, не приемля католичества. В этом была его трагедия. А ещё в том, что ему не особенно доверяли. Его советы как воеводы брались под подозрение, и он со скандалом ушёл из воеводства, принялся за самообразование (много свободного времени и наличие средств на безбедное существование позволяли это делать) и литературную деятельность, если так можно выразиться. Кроме трёх посланий Ивану Грозному, он написал «Историю о великом князе Московском». Он начал было перевод с латыни на славянорусский творений Иоанна Златоуста и даже послал первые свои опыты князю Острожскому, как православному, но каково же было возмущение Курбского, когда он узнал, что тот перевёл результаты его кропотливого труда на «варварский» польский язык. Возник скандал, переросший в публичную полемику, в которой Курбский яростно нападал на католицизм, в пылу, к примеру, иезуитов называл волками, которых пустили в овчарню.
К слову сказать, семья князя, не попавшая в опалу Ивана Грозного, была отпущена в Польшу вслед за князем, приняла католичество, и Андрей Курбский, нападая на католиков, жил с женой католичкой в согласии и любви.
В завершение, для лучшего понимания личности князя Андрея Курбского, упомянем о том, как управлял он дарованными ему Сигизмундом землями. Сказать, как барин, значит, ничего не сказать. На него поступало в Сейм множество жалоб из подвластных ему земель, и Сейм признавал их справедливыми, но Курбский на решения, осуждающие его жестокость, реагировал своеобразно: наиболее активных жалобщиков он помещал в небольшой водоём с множеством пиявок.
Закончить же очерк хочется словами К. Валишевского, весьма, на мой взгляд, честного и вдумчивого историка:
«В борьбе между старым и новым порядком Курбский был самым блестящим защитником прошлого. Но признать его героем или мучеником нельзя».
МАЛЮТА СКУРАТОВ
Малюта Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (?—1573). Думный дворянин. Приближённый Ивана IV, глава опричного террора. Участник убийства Владимира Старицкого, митрополита Филиппа и многих других. В 1570 году руководил казнями в Новгородском походе. Так пишет об этом человеке «Малый энциклопедический словарь».
Когда после смерти любимой жены Ивана Грозного новые его любимцы тайно собрались, чтобы решить, как отвлечь царя от тоски по покойнице, Малюта Скуратов, соглашаясь со всеми предложениями, добавил всё же, что это — полумера, нужно, мол, женить царя на угодной для них избраннице. Не сказал лишь Григорий Лукьянович о том, кого он имел на примете, хотя сам уже продумал каждый шаг своих дальнейших действий.
Дело в том, что несколько недель тому назад в Москву прибыл знатный владетельный черкесский князь Темгрюк с просьбой принять его в подданство Российскому государю. С собой он привёз красавицу дочь, тайно надеясь обвенчать её с каким-либо знатным придворным, близким к царю.
Переговоры с князем Иван Грозный поручил Малюте Скуратову.
Стремительно приблизился к трону Малюта после того расчётливого действия, какое предпринял он во время болезни Ивана Васильевича Грозного: Скуратов организовал присягу дворян царевичу Дмитрию, но главное — привёл к присяге ратников царёва полка. Отблагодарил государь старательность Малюты Скуратова знатным чином думного дворянина.
Велика ли корысть в сём почёте? Нет, конечно, если сидеть на Думе, рта не раскрывая. Но и слово на Думе, хотя и важное, не выделит в особый разряд: мало ли умных говорунов среди бояр и дьяков? Важно иное: слово непременно должно быть в угоду государю, в угоду его настроению. Только и этого мало. Советы, сказанные лично царю и ему в усладу, — вот верный ход приближения к трону. А путь к нему один: сплотиться нескольким дворянам из избранной по предложению Алексея Адашева тысячи для государевой службы в Кремле да и окружить трон.
Удалось Малюте Скуратову сбить стаю из тех, кому дай палец, они тут же отхватят всю руку, и вскоре Иван Грозный полностью доверился новому советнику, постепенно становившемуся любимцем царя. Ему был поручен не только пригляд за боярами, князьями и даже за митрополитом, но также сыск и казнь обвинённых.
Шагу не делал Малюта Скуратов, не разобравшись с истинным желанием государя, а определив его, действовал дерзко, безжалостно. Первыми жертвами его наушничества стали Сильвестр, братья Адашевы, их родственники, их друзья и единомышленники.
Угодил единовластцу. Весьма угодил. И ещё плотнее прилип к трону, обскакал на вороных даже Басмановых, отца и сына, безусловно, понимая, каких нажил себе врагов. Но наличие врагов — это даже хорошо. Чувство постоянной опасности не позволит поддаться беспечности. Это — как на охоте, когда ни на секунду нельзя отвлечься от главного, ради чего у тебя в руках сулица.
Вот и теперь Малюте для воплощения задуманного следует терпеливо ждать случая, чтобы сказать нужное слово в самый подходящий момент.
События разворачивались так: при каждой встрече — Малюта Скуратов специально затягивал переговоры с князем Темгрюком, проявляя при этом великую почтительность, часто приглашая князя к себе в дом, пока ещё не дворец, но довольно просторный и велелепный — Темгрюк всякий раз брал с собой свою дочь. Она и впрямь была красавицей: смоляные волосы, то заплетённые в тугую косу, то распущенные, мягкой бармицей спадающие на плечики, обрамляли нежной румяности лицо, такое уютное, будто великий мастер точил его в минуты вдохновения, особенно старательно вырезая губы, в меру пухлые и в меру алые. Стан её сравним был разве с грациозным станом горной козочки, а походку девица имела частошажную. Однако за всей этой благостной ладностью виделся не ангельский характер. Настроение красавицы могло меняться вдруг, по пустяковому поводу, и тогда движения её становились порывистыми, тонкие брови то сходились к переносице, то взмывали вверх, а карие очи швыряли всего на какой-то миг колючие, если не сказать злобные, искры.
«То, что нужно. С Иваном Васильевичем — два сапога пара».
Два обстоятельства пока мешали поведать царю о красавице княжне и подготовить их встречу. Первое — сватовство Ивана Грозного к младшей сестре польского короля Сигизмунда Екатерине. Вроде бы всё там шло ладом, только вряд ли договорятся о свадьбе. Сигизмунд определённо потребует такого подарка невесте, на какой Иван Грозный никогда не согласится. Да и вообще, Сигизмунд войны за Ливонию не прекратит, а Иван Грозный наверняка не захочет отказаться от борьбы за возвращение исконно русских земель.
Второе препятствие — более сложное. Похоже, черкешенка влюбилась в него, Малюту, и её отец поощряет эту любовь. Тут, как говорится, почешешь затылок: либо семейное счастье, либо великое, тайно всколыхнувшее его душу — престол Российский.
Малюта Бога молил, чтобы сватовство с сестрой Сигизмунда сорвалось, хотя сам пока не определил, как отнестись к любви княжны, в которую он, не признаваясь в том себе, влюбился, что называется, по уши.
Бог услышал молитвы Малюты Скуратова: порубежники князя Михаила Воротынского перехватили тайного посланца Сигизмунда к крымскому хану, о чём Малюта узнал сразу же и попросил дьяка Разрядного приказа передать перехваченное письмо ему в руки для доклада государю. Дьяку просьба явно не пришлась по душе, но он понимал, что, судя по всему, Малюта Скуратов в самое ближайшее время станет всесильным, если уже им не стал, и поэтому вряд ли имело смысл обретать такого жестокого и безжалостного (это уже проявлялось) врага. Вот и вышло, что на доклад к Ивану Грозному пошёл Малюта Скуратов. Гоголем пошёл.
— Мои тайные соглядатаи прознали о послании коварного, а порубежники князя Михаила Воротынского перехватили то послание. Сигизмунд зовёт Девлет-Гирея объединиться против тебя, мой государь.
— Читай. Что замыслил готовый стать моим свойственником?
Коротко и ясно: за поход на Россию Сигизмунд обещает солидную плату, говорит о одновременном наступлении на русские войска в Ливонии. Ответа ждёт незамедлительно.
— От Сигизмунда посол прибывает. Приготовь список предательского послания. На печатном станке.
— Исполню нынче же.
Спешка зряшняя. Посол, маршалка Шимкович, прибыл в Москву лишь спустя неделю. Иван Грозный, вопреки принятому им же самим правилу начинать с любым посольством переговоры через назначенных представителей из Посольского приказа и думных бояр, на сей раз самолично встретил маршалку в Большой тронной палате. Как посла великой знатности, прибывшего с важной миссией. Белоснежные рынды с серебряными топориками на плечах застыли у трона и за лавками, на которых обычно восседают думные бояре и князья, но на этот раз совершенно пустых. Только дьяк Посольского приказа и Малюта Скуратов сидят справа и слева от трона государева.
Маршалка Шимкович — тёртый калач: сразу уловил оскорбительную насмешку, поэтому не стал церемониться, как того требовал условленный порядок приёма послов, но спросил, гордо вскинув голову:
— Чем прогневил тебя, великий князь Московский, мой светлый король?
— Раб рабов Сигизмунд — коварен! — кинул тот и повернул голову к дьяку Посольского приказа: — Передай.
Маршалка растерялся, поняв, что у Ивана Грозного в руках основание для такого смелого оскорбления короля Сигизмунда. Надлежало бы, круто развернувшись, покинуть Тронный зал, но Шимкович беспрекословно принял отпечатанный на станке документ и покорно выслушал чеканные слова великого князя Московского, как в Польше именовали государя всей Русской земли.
— Почитав и поразмыслив, известишь нас, готов ли ты к переговорам от имени Сигизмунда. Если готов, вот с ними станешь разговоры разговаривать.
Переговоры вообще бы даже не стоило затевать, однако Иван Грозный, уже наставив и дьяка Посольского приказа и Малюту Скуратова на то, чтобы переговоры окончились ничем, хотел знать, при каких условиях Сигизмунд согласится стать ему зятем и какое приданое даст за свою сестру. Возможно, в будущем сведения эти пригодятся, дабы попрекать польского короля в неумеренности и жадности.
Губа у Сигизмунда — не дура. За мир и сватовство он потребовал отдать Великий Новгород, Псков, всю землю Северскую и Смоленск. Приданое же определялось более чем нищенское.
Сватовство сорвалось. Война в Ливонии началась с новой силой — всё словно в угоду Малюте Скуратову. Дальнейшее теперь зависело только от него самого: изберёт ли он любовь или не откажется от вожделенного.
«Поговорю с княжной, тогда и определюсь».
Разговор состоялся удивительно короткий и настолько откровенный, что даже ошарашил Малюту Скуратова. Она первой пошла на откровенность:
— Я полюбила тебя. Горячо. Безмерно. Ты утонешь в моей любви. Клянусь.
Слова не робкой девы, а видавший виды женщины. Но, может, на Востоке подобное принято? А что она ответит на заманчивое предложение?
— Ты мне тоже люба. Но я подданный своего государя, его верный слуга, и обязан заботиться о его благе. Он — вдовец. Он ищет невесту. Я уверен, если он увидит тебя, ему больше никакая не будет нужна.
Засветились неудержимой радостью карие очи девы, вспыхнули румянцем щёки, а губки, и без того алые, стали ещё ярче, ещё привлекательней.
Вот тебе и любовь?! Куда делась?!
— Я не перестану любить тебя, — справившись с внезапно навалившейся радостью, заговорила княжна. — Став царицей, я найду возможность поделить счастье любви и с тобой, мой ненаглядный.
Ясней ясного. Нечего голову морочить и теребить душу, тем более что такая царица — именно то, что нужно. С ней со временем обо всём можно будет договориться. Её руками убрать путающихся под ногами.
— На днях государь Российский пригласит твоего отца и тебя в свой загородный охотничий дворец на Воробьёвых горах. Потешит вас соколиной охотой.
— Ты так уверен, словно сам царь.
— Да. Уверен. Ждите царского слова.
Действительно, отчего такая уверенность? Просто знал Малюта Скуратов вкусы Ивана Грозного, ибо он, как и все его собратья по усладам государя, тоже подыскивал ему дев неоднократно, никогда не ошибаясь. Не ошибся и на сей раз. На следующий день он докладывал царю:
— Владетельный князь Темгрюк без всяких условий готов принять подданство российское, стать верным тебе слугой. Мой совет, если позволишь?
— Послушаю. Излагай.
— Позови князя в охотничий дворец на Воробьёвы горы...
— По Сеньке ли шапка?
— Не спеши, государь, не дослушав. Он приехал с дочерью. Княжна красы неописуемой. Азартная, как отец сказывал, охотница с соколами, но более с гончими на лис. Не влюбиться в неё нельзя.
— Влюбился, стало быть?
— О тебе, государь, мысли мои. Только о тебе. Сколько можно вдовствовать? Мимолётные утехи не осудительны, но тебе наследник нужен от законной царицы.
— Как всегда, говоришь дело. Готовь охоту и посылай от моего имени к Темгрюку. Не кого попало, а знатного чтобы.
Охоту готовить — не вопрос. Она всегда готова. И на соколиную в один миг изготовятся соколятники, и с борзыми да гончими, если готовы собаки у псарей, только слово молви, а вот с посланцем к князю Темгрюку — закавыка. Перворядные посчитают унизительным такое поручение, захудалого пошли — Иван Грозный может разгневаться, а он, Малюта Скуратов, не настолько ещё твёрд у трона, чтобы прощались ему промашки.
«Думного дьяка Михайлова определю», — нашёл выход Малюта Скуратов и успокоился.
В урочный час в усадьбу, где гостевал князь Темгрюк, въехал целый поезд, возглавил который лично Малюта Скуратов. Для князя — красавец саврасый в золочёном оголовье под бархатным седлом с аксамитовой попоной, шитой жемчугом; слугам, тоже добрые кони, а княжне — коляска. Лёгкая, обитая изнутри медвежьей шкурой, поверх которой на мягком сиденье — текинский мягкошёрстный ковёр.
Глянула княжна на коляску, сверкнула недовольно очами, на миг, конечно, и тут же с мягкой капризностью:
— Я бы лучше — в седле. Горские женщины...
Не дослушал Малюта Скуратов княжну, — ветром его сдуло с вороного дончака.
— Садись.
Она буквально впорхнула в седло. Лёгкая. Гибкая. Сердце у Малюты захлебнулось: он хорошо знал норов своего коня, который беспрекословно подчинялся только ему — сейчас закусит удила, и долго ли до греха непоправимого? Он, однако, не успел даже обозвать себя олухом царя небесного за свой безрассудный порыв, как тревога сместилась удивлением: княжна похлопала по шее всхрапнувшего было коня, готового закусить удила, нежной ручкой и проворковала: «Какой ты нетерпеливый. Погоди, поскачем ещё. Дай срок», и конь стал послушней телёнка.
— Он — твой! — восторженно воскликнул Малюта Скуратов. — Мой тебе подарок.
Малюте подвели нового коня, и вот уже отец с дочерью, а на голову поотстав от них и сам Малюта, загорцевали впереди поезда, который взял путь на Воробьёвы горы.
Иван Грозный сгорал от нетерпения лицезреть княжну, но он принуждал себя оставаться в светлой палате, намереваясь встретить своих гостей именно в ней; когда же ему доложили, что княжна едет не в коляске, а верхом на вороном дончаке рядом с отцом и Малютой Скуратовым, царь не выдержал и вышел на крыльцо.
Поезд въехал во двор, приблизился к царскому теремному дворцу — княжна первой спорхнула с седла, и с поклоном:
— Здравствуй, государь великой России!
У Ивана Грозного едва не потекли слюнки. Он не обращал уже внимания на поклон самого князя Темгрюка, слушал его приветствия вполуха, хотя понимал, что ведёт себя как болван, но ничего поделать с собой не мог. Прошло лишь какое-то время, прежде чем он обрёл своё царское величие.
Пировали до полуночи. Вопреки всем приличиям, княжна сидела за царским столом. Даже её отцу определили следующее за дочерью место. Иван Грозный осушал кубок за кубком, как и Малюта Скуратов, но оба выглядели совершенно трезвыми, да и на охоту не припозднились — выехали как и положено, едва заалела зорька. На утренний лет пернатых.
До Щукинской поймы дорысили быстро, и вот уже — соколы в деле. У княжны, как и у всех охотников, свой сокол. Настоящий соколина. На загляденье. Бил он легко не только утку и гуся, но и лебедя. Радоваться бы княжне, любуясь стремительной силой сокола, однако по всему было видно, что большого удовольствия княжна от подобной охоты не испытывает. Иван Васильевич даже спросил:
— Не нравится?
— Ничего. Потешно.
— Отчего же куксишься?
— Мне по душе скакать, а не стоять, ожидая, когда поднесут добычу сокола к ногам твоего коня. Да и конь повода просит.
— Ладно. Завтра затравим лису. Послезавтра за зайцами погоняемся.
Скачка бешеная, как выяснилось, — стихия юной девы. Слилась она с конём. А тот, вроде бы вполне понимая состояние новой хозяйки, стелется по полю вслед за гончими.
Но что примечательно, даже в самый разгар погони княжна не опережала царского аргамака.
Вроде бы рядом скакала, бок о бок, и всё же её конь, чуточку, на полголовы, отставал. И это не мог не заметить Иван Грозный, ублажая себя мыслью, что красавица жена станет уважать его царское достоинство.
Всего три дня провели гости на Воробьёвых горах, где устроен был выезд на пернатых, охота на лису и погоня за зайцами, а на вечерней трапезе Иван Васильевич объявил своё решение:
— Беру под свою руку тебя, владетельный князь, а дочь твою в жёны. Завтра митрополит окрестит её в православие, послезавтра — свадьба.
— Отдаю тебе дочь свою с великой радостью, — вдохновенно заговорил князь Темгрюк. — Без всякого сомнения оставляю её в твоих руках, мой государь. Сам же, погостив в меру, вернусь домой. Отбиваться от алчных соседей.
— С несколькими тысячами детей боярских ты поедешь. Я построю крепости, где ты укажешь. Надёжней станет безопасность моих украин.
Вот и весь итог переговоров, которые так долго тянул Малюта Скуратов, видя в том свою великую выгоду. Теперь он ликовал. Но в ликовании том не обошлось без примеси горести: жаль всё же терять такую красу — она могла бы быть его женой, а не женой Ивана Грозного.
«Ладно. Долог путь к счастью, но одолим».
Всё закрутилось в нетерпеливости, как мельничный жёрнов под напором полой воды. Митрополит Макарий уже на следующий день по приезде княжны в Кремль стал её восприемником из купели, дав ей имя Мария. Вызвался учить её Закону. После, конечно, свадьбы.
Свадьба тоже не задержалась. Прошла пышно. С соблюдением всех христианских, густо перемешанных со славянскими, обычаев: молодых кормили куриными грудками, обсыпали овсом и пшеницей, провожая после венчания в опочивальню, а в самою спальню прежде молодых пустили петуха. Гордого петушиной красотой. Горластого.
Угодил Малюта Скуратов Ивану Грозному. Крепко угодил и стал вхож даже в его опочивальню без всяких докладов. Во дворец же царицы — пока ни шагу. Подоспеет то время. Пока же нужно ковать железо, пока оно горячее. Начать проводить в жизнь замысленное, обращая государя в свою веру, в послушного ему самовластца. По мелочам пусть тешит своё царское величие, важные же дела как прежде действовал по воле Адашева с Сильвестром, теперь решает по его подсказке, пока что думного дворянина. Малюта Скуратов давно понял, что Иван Васильевич Грозный пусть и крут и заносчив, но по сути дела — ведомый. Вспыльчивость его, непредсказуемость — тоже от неспособности самостоятельно управлять державой; хотя вроде бы от природы он не обделён умом и смекалистостью. Был Малюта умным, дальновидным и, главное, очень хитрым и коварным выразителем чаяний нового, набиравшего силу сословия — дворянства. Программа ясная, как божий день: прихлопнуть боярство и самим стать властвующим классом. И чем чёрт не шутит, пока Бог спит: занять престол. А тут, как считал Малюта, ему равных нет, хотя желающих хоть отбавляй.
Волею судьбы и своим старанием Малюта Скуратов получил самые большие возможности влиять на царя, добиваясь общедворянской цели, не забывая между прочим и себя лично.
Началось планомерное давление. Один и тот же вопрос: что обрёл государь, начав преобразования по предложенному Алексеем Адашевым плану? Ничего. Новые владельцы земли столь же самостоятельны в своих поместьях, как и бояре в вотчинах. Да, они пока более послушны, но так ли останется в день завтрашний, послезавтрашний? Что есть в собственности самого царя? Только его родовые уделы, как уделы всех остальных князей, считающих служилыми. Некоторые князья даже более владетельные и, ясное дело, готовы сесть на царский трон. Особенно Шуйские. Не прочь властвовать и Одоевские. Воротынских тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Как поправить дело? Как божественному началу царской власти придать силу владетельную?
— Думать нужно. Думать, — всякий раз заканчивал подобные разговоры с Иваном Грозным Малюта Скуратов.
— Я тоже стану думать, — соглашался государь. — В твоих словах много разумности. Меня и Мария несколько раз спрашивала, чем я сам владею? А что я отвечаю? Державой, мол. А если серьёзно, то ты прав: только малым числом вотчин. Втрое меньше, чем у Шуйских.
Малюта Скуратов мог бы уже изложить свой план переворота всего уклада российской жизни, как он для себя называл задуманный план. План этот родился не вдруг, а в долгих беседах с такими же, как и он, избранными дворянами, жадными до власти и нежелающими оставаться на побегушках. Он сводился к тому, чтобы перевести в собственность царя наиболее богатые области, где посадить своих тиунов, своих наместников, иметь там своё войско, остальные же, захудалые, земли передать в руки местным князьям, которые всё равно должны быть подчинены царю. Получится единовластие полное, подкреплённое не только правом, взятым взаймы у почившей в бозе Византии, но твёрдое, основанное на всесилии материальном.
А какая выгода лично ему, Малюте Скуратову, от подобного переворота? Пока ещё туманная, но волнующая возможной великой удачей. При встрече с царицей Марией он настраивал её на то, чтобы она способствовала ликвидации тех князей и бояр, кто мог бы по праву рода своего иметь виды на престол. Он с упрямой последовательностью называл имена намеченных в жертвы, безвинно их обвиняя:
— Косятся на тебя, моя царица, многие. Шуйский-Горбатый, например. Князь Дмитрий Швырев особенно злословит.
Искры гнева выплёскивали карие очи горянки, и было ясно Малюте Скуратову, что она не забудет их имена.
В следующую встречу — пара новых фамилий, с того момента занесённых памятью царицы в списки обречённых.
Не спешил Малюта с изложением своего плана перетряски векового уклада русского народа государю. Терпеливо ждал, когда о нём вспомнит сам Иван Грозный. И терпение его было вознаграждено. Государь в конце концов задал вопрос. С явным недовольством:
— Скоро ли думку свою до ума доведёшь?
— Похоже, да. Пару месяцев ещё дай мне, государь, и тогда изложу мысли свои со всей ладностью.
Через недельку-другую вновь вопрос:
— Движется к исходу задуманное?
— Очень даже. Надеюсь, мой государь, управиться раньше определённого срока.
Он и в самом деле вскоре сообщил о готовности к серьёзной беседе, опередив на немного условленное время. И не с пустыми руками пришёл, а с листками бумаги, на которых изложен весь план.
Всё понравилось Ивану Грозному, и он не только послушал Скуратова, но и внимательно прочитал исписанные ловким почерком листки. По возникшим сомнениям попросил разъяснений.
— Вот ты предлагаешь набрать тысячу телохранителей? Это что? Повторение адашевской тысячи?
— И да, и нет. Адашевская тысяча для службы тебе в Кремле в пику ненадёжным боярам. Пусть она остаётся. Только, если будет твоя воля, нужно будет пошерстить её, избавившись от тех, кто начал якшаться с боярами, плетя с ними вместе нити крамольные. Если повелишь, я этим займусь.
— Кроме тебя кому ещё? Но дальше излагай.
— Новая тысяча — это твои телохранители.
— А царёв полк сам по себе?
— Конечно. Но ещё и опричь его — полк. Вдобавок к тысяче телохранителей. Кто посмеет поднять руку на такую силищу?
— Выходит — опричная рать?
— И не только рать. Города твои. Области. Личные, опричь остальной земли, управляемые приказами. Скажем так: земскими.
— Ловко! Опричные и земские. Так и сделаем!
Потянулся долгий процесс подготовки переворота. Перво-наперво, по слову того же Малюты Скуратова, Иван Грозный ввёл в число посвящённых Басмановых, отца с сыном, и князя Афанасия Вяземского, кто почти вплотную приблизился к царю умением ловко скоморошествовать. Они и определяли, какие города и земли, им подвластные, сделать собственностью царя, вызывали оттуда преданных друзей в Москву, не объясняя даже, чего ради эти сборы.
В тайне готовился и обоз из пяти сотен параконок на железном ходу. Если кто узнавал об этих тайных делах и, не дай Бог, проявлял пусть самое малое любопытство, исчезал бесследно.
Считается, что главным хранителем тайны подготовки к перевороту был Малюта Скуратов. Это по его слову исчезали нечаянно соприкоснувшиеся с ней. Для исполнения своего приказа Малюта под рукой имел сотни полторы молодых дворянчиков, без чести и совести, готовых на всё ради сладкой жизни. Правда, не ведали эти молодчики, что мало кто из них доживёт даже до средних лет.
Лично Малюта Скуратов следил и за изготовлением крепкого и удобного возка для долгой дороги. В нём ехать царице Марии. Приглядывал он и за мастерами, готовившими ещё пять дюжин возков.
3 декабря 1564 года Кремлёвская площадь заполнилась параконками и возками. На брички грузили царскую казну, в возках размещались жёны и дети избранных дворян, приказных и воинских чинов, а также загодя приглашённых в опричнину (они ещё не знали этого слова) из разных городов, даже самых отдалённых.
Не только Кремль притих, пытаясь понять, что задумал непредсказуемый в поступках царь, но и вся Москва. Что же случилось? Отчего царь покидает свою столицу с семьёй и со всей своей казной? От татарского набега — ноги в руки? Не похоже. Никаких вестей о нападении крымцев, а тем паче о большом походе татар на Россию не поступало. Так что же случилось?
Больше месяца задавали себе эти вопросы не только князья и бояре, но и люди простые. Весь месяц жили все в тревоге.
Малюта Скуратов, став, по сути, правой рукой царя, показал в этот месяц образцы распорядительности: где бы царь ни останавливался (конечный пункт был заранее определён — Александровская слобода), всё было устроено ладно не только для царя и царицы, но и для всех, с ним ехавших. А двигались медленно оттого, что перестройка дворца в Александровской слободе затягивалась. И вновь по слову Малюты Скуратова. Он предложил, а государь согласился, чтобы во дворце было много места для скоморошьих утех, но главное — крепкое подземелье с добрыми пыточными и множеством тёмных и сырых камер для окованных. Особое внимание Малюта уделил устройству пыточных, предусмотрев при их сооружении хитрости, не позволявшие просачиваться в большую трапезную палату запахам палёного мяса, но доносившие туда крики из пыточных. Приглушённые звуки эти вполне были уловимы даже во время пьяных оргий, к которым новые любимцы государя его уже приучили.
Все искренне хвалили Малюту Скуратова, но никто не знал, какие истинные мысли будоражили его душу и сердце, а он надеялся, что кто-то из князей — Шуйские ли, Владимир ли Андреевич — воспользуется опрометчивым шагом Ивана Грозного, захватит кто-то из них престол Российский, и тогда начнётся неимоверная свара, в которой должны погибнуть захватившие власть и их сторонники, да и сам Иван Грозный со своими любимцами. Восторжествует он, Малюта Скуратов. Он вполне был уверен, что его поддержит не только царёв полк (воевода полка князь Владимир Воротынский потеряет голову в первую очередь), но и несколько других полков, где на командных должностях есть его верные друзья. Но главная сила — его личные головорезы из молодых дворянчиков. Они начнут убирать с дороги и правых, и виноватых.
Малюта даже однажды проговорился Марии Темгрюковне:
— Предвижу, наше счастье в скором времени должно стать не тайным.
Сладкие мечты, но суждено ли им сбыться?!
Диву, конечно, можно даваться, оценивая действия князей родовитых: они дали полную возможность Ивану Грозному надёжно укрыться в Александровской слободе, не перехватив его в пути, где он стараниями того же Малюты Скуратова был почти беспомощным; когда же царь прислал в Москву послание, в котором сообщал об отречении от престола и обвинял всех поголовно князей и бояр в измене ему и России, обвинённые не встали во главе своих дружин с мечами в руках за честь свою и в конце концов за жизнь свою, а поспешили ударить челом самовластцу.
Возглавил покаянный поход в Слободу сам митрополит, прихватив с собой весь свой клир.
Действия церковников понятны: их кредо — царь есть наместник Бога на подвластной ему земле, а сами священнослужители неподсудны государю. Им бояться нечего, а чего ради склонили головы родовитые князья? Чтобы затем положить их смиренно на плаху под топор палача?
Нет, не получилось того, на что рассчитывал Малюта Скуратов: бояре и князья беспрекословно приняли волю царя, с откровенной наглостью им высказанную:
— Моё полное самовластие! Мне невозбранно казнить изменников опалою, смертью, лишением достояния, без всякого стужения, без всяких претительных докук со стороны духовенства. Полные мои условия ожидайте в Москве.
Предельно коротко, но за этой короткой фразой — сотни и сотни обречённых, в том числе и священнослужителей. Но что поразительно, никто вроде бы не думал о себе, о своей жизни, желали единственно возвращения царю его царства. С низкими поклонами умоляли Ивана Грозного вернуться в Кремль, где начать казнить и миловать. Каждый, похоже, надеялся оказаться в милости, не видя за собой никакого греха.
В самом начале февраля Иван Грозный вернулся в Москву. Он настолько изменился, что его нельзя было узнать. Лицо — сама свирепость; черты исказились; взор угас, а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса — всё это произошло, как оценил Курбский, от неизъяснимого действия ярости в его груди. А у более поздних биографов Ивана Грозного появилась даже версия о будто бы свершившейся подмене, и от государя осталось только имя. Иные насчитывают целых три подмены. Но Бог с ними, этими версиями, хотя, возможно, они близки к действительности.
Но вернёмся к событиям, зафиксированным в документах того времени. Иван Грозный поставил несколько условий, при которых он вернётся на трон. Первое требование, иметь при себе телохранителей сколько потребуется, никого не удивило — знали его недоверчивость, боязливость, что свойственно всем людям с нечистой совестью. Следующие же условия привели в тихий ужас Государев Двор, следом — Москву, а за ней и всю Россию: царь объявил своей собственностью города Можайск, Вязьму, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин, Ярославец, Суходоровью, Медынь, Суздаль, Шую, Галич, Юрьевец, Балахну, Вологду, Устюг, Старую Руссу, Каргополь, Вагу, также волость московскую и другие с их доходами. Всех вотчинников и даже неугодных помещиков выселяли из этих городов, отбирая их земли. Передавали же всё богатство телохранителям Ивана Грозного и особым сановникам, для его услад назначенным. Был ещё ряд других условий, менее значительных.
Новый Двор для управления собственностью царя был назван опричным, а всё остальное, то есть само государство — земщиной. Её Иван Грозный поручил боярам земским князьям Бельскому и Мстиславскому.
Два дня прошло после оглашения условий, и начались казни. Пыточные зашлись в криках и стонах, а на лобном месте не успевала подсыхать кровь. Расправлялись заплечных дел мастера и палачи, которыми руководил Малюта Скуратов, с теми, кого он сам загодя оклеветал. Теперь невинные жертвы оказались в его руках, ибо в его руки Иван Грозный передал и сыск и исполнение приговора.
Отводил душу Малюта, срывая злость за свою неудачу на несчастных.
Первой жертвой оказался славный воевода князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок великого князя Киевского Владимира, Всеволода и древних князей Суздальских. Ему предстояло умереть вместе с сыном Петром. Гордо взошли князь и княжич на помост, словно не тяжёлые ржавые цепи у них на руках и ногах, а сафьян и парча. Сын первым намерился положить голову на плаху, но отец остановил его:
— Не гоже так. Не зрить отцу смерть сына.
— Хорошо, отец. Ложись первым.
Отрубленную голову отца княжич Пётр поднял, звякнув цепями, поцеловал в губы и положил свою голову под топор палача.
На следующий день казнили боярина Петра Ховрина, окольничего Головина, князя Ивана Сухого-Кашина и кравчего князя Петра Ивановича Горенского, а князя Дмитрия Швырева посадили на кол. По настоянию Марии Темгрюковны. Она не забыла оговор, сделанный Малютой Скуратовым.
И пошло-поехало. День за днём. Упивался местью Малюта Скуратов, угождая Ивану Грозному, но думал и о завтрашнем дне. Нужно менять основательно образ действий — переходить на медленную, возможно довольно долгую осаду, с которой в одиночку вряд ли можно справиться. Нужны очень надёжные подручные, которым можно было бы доверять как самому себе. Вспомнил о племяннике Богдане Бельском. В небольшом чине служил он в городе Белом и его уезде. Камни станет племянник грызть, если его приблизить к себе.
«Замолвлю слово при случае Ивану Грозному».
Но одного подельника мало. Нужно повнимательней приглядеться хотя бы ещё к одному. Из тех, кто пока не так близок к царю, и если тому избраннику чуточку пособить, станет такой верным соратником. Но подобного не вдруг отыщешь. Пока же хватит племянника.
Выбрав подходящий момент, попросил Ивана Грозного:
— Дозволь, мой государь, позвать мне племянника. Он — дворянин в Белом. Младшая ветвь Бельских.
— Иль один не управляешься? Не похоже.
— Справляюсь. Что верно, то — верно. Только одно смущает: в пыточных не всегда удаётся самому быть, а откровения под пытками можно исказить при желании в угоду себе. Не проверишь. Над кем сыск, того нет, а заплечники — все бессловесные. Не помешает помощник, кому можно верить, как себе.
Не вдруг Иван Грозный ответил — Малюта даже с тревогой подумал, не предложит ли царь в помощники кого-либо из молодых любимцев, например Фёдора Басманова, но вздохнул спокойно, когда услышал:
— Тебе помощник, ты и выбирай, головой ручаясь за свой выбор.
— Не сомневайся, мой государь, в преданности дворянина Богдана Бельского. А учить его уму-разуму я стану без всякой поблажки.
Вот так рядом с Малютой Скуратовым появился Богдан Бельский. Как тень его. Пока только на пиры содомские он не приглашался, зато в пыточных находился почти безвылазно. До тошноты одурь брала первое время, но постепенно стал привыкать и даже возвышать себя в своих глазах, наслаждаясь властью над обречёнными, вроде бы их судьбы в его руках.
Правда, их судьба решена государем по навету Малюты, Богдану остаётся выбить нужное признание, в этом его главная задача, в этом его преданность. Однако можно многие годы проводить в пыточных, умело выбивая нужные царю признания, и государь не обратит на тебя особого внимания. Нужен из ряда вон выходящий случай, умело использованный, чтобы твоё усердие было замечено и вознаграждено.
Малюта Скуратов подбадривал племянника.
— Мне тоже важно особое внимание к тебе царя Ивана. Но будем ждать случая, а может, изобразим его с великой пользой для себя.
И случай пол года спустя представился. Да какой!
Очередной выезд на охоту. На сей раз — травить медведя. Его место обитания углядели псари, и теперь стая собак, натренированных на схватку с медведем, носится впереди в поиске следов жертвы.
Тихо в лесу. Иван Грозный нетерпелив. Обращается к Малюте Скуратову, который ехал рядом, вроде бы с упрёком:
— Что это? Неужто медведя спугнули прежде времени?
— Не думаю. Грязной — добросовестный исполнитель.
— Вот-вот — исполнитель. Не более того.
Сердито засопел государь, но не надолго: издали донёсся остервенелый лай волкодава, догнавшего по следу медведя. И почти сразу к первому псу подоспел второй, затем третий, четвёртый, и вот уже лай и визг стаи стал слышен отчётливо — Иван Грозный, подобрав поводья, прижал шенкеля к бокам своего борзого любимца, и тот сразу же взял в галоп.
Пришпорили коней и Малюта с Богданом, который по совету дяди держался в шаге за ним и царём. Опричники тоже поспешили следом. Они воронием крылом обтекли своего государя, стараясь от него не отставать.
Но куда там: Иван Грозный дал волю своему аргамаку, ибо предвкушал волнующее зрелище, желал увидеть, как будет вертеться медведь, отшвыривая лапищами своими кидающихся на него остервенелых, подстёгиваемых криками псарей, волкодавов, которых не останавливают потери в их рядах. Долго идёт неравная схватка, пока одна из собак не изловчится и не вцепится клыкастой пастью медведю в загривок; и вот тогда наступает самое волнующее: чтобы раздавить вцепившегося пса, медведь упадёт на спину, и это станет началом его конца. Облепят волкодавы медведя и начнут терзать, пока не испустит он дух.
Иван Грозный понукал коня, дабы не опоздать на злобный пир его псарни, чтобы вместе с псарями подбадривать собак, и без того вошедших в раж. Конь его послушно пластал, и не только стража, но даже Богдан Бельский всё более отставал; только Малюта Скуратов висел на хвосте царёва аргамака — новый вороной был не хуже коня Ивана Грозного.
Перелесок. Обочь тропы — густой ёрник. Не свернуть ни вправо, ни влево. Опричники ещё больше отстали, вынужденные вытягиваться в цепочку, Иван же Грозный, чуя по лаю и визгу, что дело до главного ещё не дошло, всё же шпорил коня, опасаясь припоздниться. За перелеском — пойменная поляна. Рукой подать до Сходни, откуда всё явственней слышен злобный лай. Вот и конец узкой тропы — ёрник отступил, позволив вольно раскинуться белоствольным берёзам — простор, скачи теперь ещё прытче. Но что это?! Всадники?! У всех опричников вороные кони, а у этих — различной масти.
Тревожные вопросы, однако, не успели остановить Ивана Грозного — конь вынес его на поляну, и царь оказался лицом к лицу с полусотней всадников в кольчугах, с мечами на поясах, с притороченными к сёдлам сагайдаками и полными стрел колчанами.
Осадил Грозный своего коня, и тот послушно встал как вкопанный. Не напрасно же стремянные учили царёва коня останавливаться с полного галопа на брошенной на земь попоне. Малюта едва не наткнулся на белого в яблоках скакуна, но изловчился всё же, отвернул и встал между полусотней и царём, загородив его собой. Ладонь на рукоятке меча, а мысли вихрем:
«А что, если рванёт полусотня?!»
Изрубит тогда и царя, и его самого. Вот — Богдан рядом. Уже легче. Крикнуть бы царю, чтобы скакал обратно, к своим приотставшим телохранителям, но разве сделаешь это? Не любит Иван Грозный, когда им пытаются повелевать. Опалит непременно, стоит только угрозе миновать.
Стоят Бельские против полусотни и ждут напряжённо, что предпримут непрошеные гости.
Царь наконец крутнул коня и — в перелесок. А оттуда уже выпластывают на своих вороных опричники, стремительно окружают полусотню. А всадники в недоумении, отчего такой переполох?
Малюта Скуратов кинул спешно Богдану Бельскому:
— Разоружить и — в Москву. В Кремль. В пыточную. Допрос учиним вместе с тобой.
Иван Грозный, собиравшийся после охоты ехать в Кремль, передумал. Укрылся в Александровской слободе под крылом своего полка, а Малюте Скуратову приказал:
— Раз повелел задержанных отправить в Москву, сам тоже туда. Дознайся, по чьей крамоле на меня покушение? Поспеши.
— Богдан Бельский глаз с них не спускает. Ни с кем они не смогут встретиться до моего приезда. Мы с ним и начнём сыск.
— С Богом.
Развязаны руки у Малюты. Выходит, ни о чём ином царь не подумал, кроме как о заговоре. Более того, считает, должно быть, что крамола угнездилась в Москве. Оттого и спрятал себя в Слободе, укрылся за крепкими стенами. Тут стоит крепко подумать, чтобы угодить властелину.
Задержанных отправили под стражей в Кремль затемно. Богдан Бельский сообщает Малюте, когда тот прибыл в Кремль, о чём узнал у них дорогой.
— Новгородцы они. С челобитной к царю.
— Отчего же словно к сече изготовились?
— Дорога, мол, длинная, не попасть бы впросак. Да и погони опасались. Важное у них слово. К царю самоличное.
— Ишь ты — самоличное... Ты, Богдан, вот что: в пыточную собери только тех, кто безъязычен. А после того — вот этих, — кивок в сторону уже спешившихся и понуро ожидавших своей участи новгородцев, — поодиночке станем пытать. Писцов тоже не нужно. Запомним сами. А доложим, что найдём стоящим.
Ясней ясного Богдану: задумал что-то тайное Малюта, а может, давно подготовленное? Представил, как станут корчиться в муках, вполне возможно, и в самом деле безвинные челобитчики, но ни слова не молвил поперёк. Такое он позволял себе в первые недели службы в Александровской слободе, когда Малюта поручал ему приводить на пытку и казнь князей, бояр, жён и детей их, вероятно, действительно виновных в крамоле против царя, но кроме того, слуг их верных, без всякого сомнения безвинных, если только не считать за вину их преданность господам, за что, по мнению малоопытного Богдана, не казнить нужно, а миловать.
Малюта тогда всякий раз отчитывал несмышлёныша, как он его называл, внушая, что необходимо отметать сомнения при расправе с верными слугами опальных, что надобно безоговорочно и преданно служить царю, помазаннику Божьему. Один раз Малюта даже спросил в сердцах:
— Сам, что ли, на дыбу захотел?!
Нет, у Богдана не было никакого желания бесславно окончить едва начавшуюся службу при дворе, поэтому он больше не перечил Малюте, а тот стал приглашать его в подземелье, где приведённых им, Богданом, пытали, подгадывал так, чтобы в это время пыточную посещал сам царь.
Оторопь от вида жутких картин постепенно прошла, и что удивительно, его стало тянуть в пыточную, чтобы там, в подземельном полумраке, поглядеть на мучение крамольника, привезённого им и его подручными на расправу.
Подошёл и тот день, когда он не отказался от забавы с дочерью опального князя, затем отдав её рядовым опричникам на утеху и на лютую смерть после позора.
И вот теперь он лишь согласно кивнул и ответил спокойно:
— Всё устрою, как велишь.
До самого утра без устали работали безъязычные палачи. Рвали тела вздёрнутых на дыбу зубастыми клещами, выжигали кресты на спинах, загоняли под ногти иглы, но все твердили, словно сговорившись стоять насмерть, одно и то же, едва шевеля запёкшимися губами:
— С челобитной к царю шли.
— С какой?!
— Ему самоличное слово.
Вскипал тогда Малюта Скуратов гневом, кричал, не сдерживаясь, во всю глотку:
— Кончай!
Палачи знали, что следует делать, услышав это слово. Один из них выхватывал из горна раскалённый добела прут и пронзал им грудь обречённого, прожигая сердце насквозь.
И так — с каждым. Один за другим выносили в крапивных мешках истерзанные трупы тайным выходом к Москве-реке и швыряли в воду. Остался один. Верховода челобитчиков.
— Новый подход испробуем, — поделился Малюта Скуратов с Богданом Бельским. — Пытать не станем.
Ввели рослого детину, тоже раздетого до исподнего. В плечах — косая сажень. Руки не за спиной связаны, а спереди. Глянешь на кулаки — оторопь возьмёт. Что тебе шестопёры пудовые. А лицо доброе. Если бы не борода, можно было бы сказать — женское. Только окладистая чёрная борода придавала лицу суровость.
— Садись, — не повелел, а попросил Малюта и указал вошедшему на скамью. Обычно начинали допрос с того, что не просили на неё садиться, а швырнув на эту скамью, прикручивали несчастного к ней и принимались стегать плетью с крючкастым концом, если же упрямился отвечать на вопросы, выжигали на спине кресты. Оттого скамья вся в запёкшейся крови.
Посмотрел на неё богатырь новгородский, хмыкнул, но всё же сел. Малюта Скуратов к нему с вопросом:
— Все, кого ты вёл в Москву, в один голос сказали, будто имеете слово к самому царю?
— Где они?
— О них позже. Тебя одного повезу к царю Ивану Васильевичу, но примет ли он тебя, вот в чём загвоздка. Мы, окольничие его, обязаны знать, чего ради домогаетесь личной встречи с ним. Иначе нельзя. Не получится иначе. И тебя велит казнить, заподозрив в крамоле, да и нас вон с ним, — кивок на Богдана Бельского, — заодно.
Умолк. Вроде бы определяя, что ещё сказать для убедительности. Затем вновь заговорил.
— Что поведаешь здесь, всё останется навечно тайной. Стены молчат. Вон те, — кивок в сторону тройки палачей, ожидавших своего мига со сложенными на животе ручищами, — лишены языков под самый под корень, а грамоте не учены, царь же не останется с тобой с глазу на глаз, обязательно нас позовёт. Понял теперь, отчего я любопытствую? В добрых ваших намерениях я убедился, но чтобы ехать с тобой к царю — а он подался в Александровскую слободу ещё вчера, опасаясь измены в Кремле, и увидел в вас исполнителей воли изменников, — я хочу знать, чем порадовать государя нашего, когда буду молвить слово за вас, челобитчиков новгородских.
— Ладно, коль так. В Софийском соборе, за иконой Божьей Матери, письмо, писанное посадниками и боярами. Под Литву они намерены лечь. Заводилами — посадник степенный и посадники бывшие. Митрополит с ними заодно. Похоже, воеводы царёвы и наместник его тоже не в сторонке стоят.
— Великую крамолу разведали вы. Без поклона царю не обойтись. Пока же, — Малюта глянул в сторону стоявших у горна палачей и повелел им. — За вами слово!
Будто в зады их откормленные шилом ткнули — рывок, и распластался обречённый на скамье, ещё миг, и прожёг его сердце раскалённый добела прут.
Вышли Малюта Скуратов и Богдан Бельский на свежий воздух. Дыши полной грудью, наслаждаясь пригожестью. А красота и в самом деле неописуемая: солнце будто играет с куполами церквей и храмов, а те весело искрятся разудалым смехом; величаво приосанились и сами белокаменные церкви, вроде даже гордятся золотым высокоголовьем своим, обласканным солнцем, и даже могучие кремлёвские стены, хмурые в ненастье, глядятся в это безоблачное утро какими-то уютными — всё располагает к возвышенным чувствам и приятным мыслям, и Малюта Скуратов расправил грудь.
— Славно потрудились, Богдан. Славно!
— Они ради великого скакали в Москву.
— Ты опять за старое?! Или непонятно я тебе растолковывал о главном в службе царю?
— Понятно, но...
— Никаких «но» не должно быть даже близко! — сердито обрубил Малюта Скуратов, затем смягчился: — Ладно, послушай ещё раз. Говорить новгородцы могли одно, а что у них на уме, они так и не открылись. Только старшой вроде бы клюнул на наживку. Но ты можешь положить голову на плаху, ручаясь за искренность его? То-то! Новгороду извечно хочется да колется, только мать не велит. Киеву противился, но куда ему деваться было без него? Владимир стольный не хотел принимать, но мог ли жить он без Низовских земель[33]. Без хлеба низовского, без торга через Низ. Теперь вот на Москву косятся, даже к Литве морду воротят. Ремесленный люд не допустит этого. Житьим людям[34] и купцам тоже Литва сподручна ли? Или это не ведомо боярам да посадникам? Вот и прикинь, какой может случиться расклад: Ивана Васильевича посекли, а в Новгороде воеводствуют и наместничают Шуйские. Они, сами готовя измену, сами же раскрывают её, приведя люд новгородский к присяге новому царю из Шуйских. Кого сами же определят на трон. Что тогда с нами будет? Самое лучшее — Белоозеро или Соловки. После, понятное дело, пыточной, в которой мы сегодня ночь провели. А мы с тобой — Бельские! Гедеминовичи мы! Столь же достойны трона, как и Шуйские. К тому же кровь наша царствующего нынче рода! Иль запамятовал это?!
Как такое забудешь! Гордость рода. Ещё при Иване Третьем Великом Иван Фёдорович Бельский, от корня которого и они с Малютой, женился на племяннице государя Елене. Не меньше, выходит, они имеют право на трон, чем Шуйские. Может, даже большее.
А Малюта продолжал внушать:
— Служить не на побегушках, какая у тебя пока что участь, а стать по крайней мере окольничим, не так-то просто. Головой думать нужно, а не тем местом, которым на полавочнике сидишь. Иль тебе случившееся с Адашевым не в пример? Он и царя подлизывал, и к боярам тянулся. А чем закончилось? Или запамятовал, как свозили остатки гнезда адашевского в Слободу, в пыточные? В общем, решай: либо прямой путь, либо возвращайся в своё имение и сиди там тише мышки. Пойми, жалостливость твоя и недоумения могут поставить под удар и меня, а мне это совершенно ни к чему. Поэтому решай. Вот сейчас же. Без промедления.
— Останусь при дворе.
— Тогда так: бери сотню опричников во главе с сотником и — в Великий Новгород. В Софийский собор. Поспешая. Слушай, что от тебя требуется в Новгороде. Сразу, без промедления — к иконе. Если письмо там, шли тут же вестника. В Слободу. Но вернее, до Клина. Если же не встретит гонец твой меня там с царём, пусть скачет в Дмитров. Если и там нас не будет — в Сергиев Посад. В Лавру. Сам же упрячь под запор всех служителей храма. Ни одна чтоб душа не выскользнула и не оповестила Торговую сторону. Особливо бди за архиепископом. Хитёр, гад. Ой, хитёр. Поставь дозоры на дорогах и в пятины[35] Водьскую, Обонежскую, на Шелонь и Дерева, в Заволочье и на Терский берег. Пусть досматривают всех, кто выезжает, а особенно, кто въезжает. Посадника степенного, посадников бывших, тысяцких, кончанских посадников, сотников ни в коем разе не выпускать. Начнут ершиться — под замок. Без стеснения останавливать воевод царских и слуг ихних. Словом царским останавливать. Как поступать при нашем приближении, я об этом сообщу тебе лично через вестника, пошлю его со словом моим. Выезжать завтра с рассветом. Я же сегодня поскачу с докладом к царю Ивану Васильевичу.
Выехали затемно. Хмурое предутрие, хотя и довольно зябкое, не бодрило. Неуютно Богдану в седле. От мысли о предстоящем. Там любое может ждать его, даже смерть, если у новгородской знати далеко зашло, и они готовы к отпору. Сомнут сотню ни за что ни про что. А если письмо он изымет и сделает всё, как подсказал Малюта, тогда тоже не легче: великой расправе подвергнется Новгород, и его Богдана Бельского имя, как первого царёва посланца, будет у всех на устах.
Однако не только это волновало его: никак не налаживалась стройность в мыслях о прощальном слове Малюты Скуратова, который по сути дела благословил его на самостоятельный путь, путь без поводыря, лишь с малой подсказкой. Это тоже не простая задача.
Постепенно ему удалось взять себя в руки, обрести внешнюю бодрость, а вместе с ней и успокоенность. Путь ещё далёк, успеется всё разложить по полочкам.
К рассвету Богдан Бельский уже чувствовал себя молодцом.
Всю оставшуюся дорогу Бельский анализировал запутанные отношения и княжеских родов, исстари боровшихся за первенство во власти, и Великого Новгорода с Низом, но более всего продумывал каждый свой будущий шаг, отметая принятое только что, находя взамен новые решения, однако так и не смог найти лучший вариант, в котором не было бы изъяна. Когда подъезжали к главным Новгородским воротам, плюнул на всё.
«Видно будет по ходу дела...»
Воротники, увидевшие собачьи головы на луках[36], расступились пугливо, и вороная сотня на рысях миновала торговые ряды, где было многолюдно, затем проскакала через бывшую вечевую площадь, совершенно пустынную, и вылетела на Волховский мост, нагоняя страх на редких прохожих — новгородцы поспешно прижимались к перилам моста, иные даже кланялись, чтобы, не дай Бог, не осердить своей непочтительностью чёрных гостей, жуткая слава о которых уже расползлась по всей России. В большинстве городов опричники успели наследить знатно, и люди понимали, что появление их здесь не предвещает ничего хорошего.
Богдан спешил. Опасался, как бы не дали знак воротники страже детинца Софийского собора (а ведь такая связь отработана), и не решатся ли стражники затворить ворота? Туго тогда придётся. Что сделаешь, имея всего сотню в руках? Чтоб взять детинец, тысячи нужны будут. К тому же у архиепископа окажется достаточно времени, чтобы избавиться от улики, и это непременно навлечёт на него, Богдана, царскую немилость. По меньшей мере, отдалит он от себя, а если разгневается, то неизвестно, чем всё закончится.
Нет, ворота открыты. Выходит, заговор, если он имеет место, ещё не спустился до ратного низа.
«Если так, привлеку ратников к заставам на дорогах к пятинам».
Весьма разумная мысль. Сотни две добрых мечебитцев и стрельцов — не шуточки. Если, конечно, они согласятся подчиниться ему, минуя воеводу новгородского. Тому, хотя и царём он поставлен, доверять нельзя. Вдруг втянут в заговор, и заодно с верхушкой новгородской? Потому — ни слова ему.
Коней осадили у паперти Софийского собора. Богдан — сотнику:
— Оставаться в сёдлах. Со мной троих определи. Ещё по десятку — к каждым воротам. Не выпускать ни души.
Спрыгнул с коня и — в храм. Отмахнулся от служки, который испуганно попенял:
— В шапке-то не гоже.
— Гоже! Осквернён он давно. Изменой осквернён!
Засеменил служка к начальству своему, а Богдан решительно подошёл к иконостасу. Руку за икону Божьей Матери — есть. Вот оно — письмо! Забарабанило сердце торжествующе. Но не изменил суровости лица своего. Повелел сухо одному из опричников:
— Передай сотнику: всех служителей Собора — под замок. Не медля. И ещё передай, пусть по внешней стороне детинца конные наряды выставит. Скажи ещё, чтобы всю стражу собрал бы в гридню для моего к ним слова. Я — в палату к архиепископу.
Архиепископ Пимен встретил Бельского в дверях, хотел осенить его крестным знаменем, но Богдан остановил его:
— Не приму благословения от змеи подколодной! От двоедушника! Заходи в свои палаты, ваше благочиние. Садись и читай!
С насмешкой повеличал архиепископа Богдан, и было видно, что с Пимена медленно, но верно сползает величественное благодушие, а испуг накладывает печать на привычное для него высокомерие.
— Читай! Я бы мог сам это сделать, но лучше ты потрудись, — и вопрос: — Не под твою ли диктовку писано?!
Архиепископ прочитал первые строчки и воскликнул с ужасом:
— О, Господи!
Бельский сразу понял, что архиепископ слыхом не слышал о письме, но не отступать же.
— Читай-читай!
Ещё строчка — и вновь стон ужаса:
— О, Господи! Кому это с Литвой попутней, чем с Россией?!
Вырвал письмо Богдан из рук архиепископа Пимена от греха подальше и приказал без скидки на высокий его сан:
— Палаты не покидай без моего позволения! Посчитаешь возможным ослушаться, испытаешь меча!
Вроде бы всё началось очень удачно, а дальше что? А ну, поднимется город, посильно ли будет удержаться сотне? С малым числом стражников детинца. Если, конечно, они согласятся на его предложение.
Почти все согласились. Немного легче стало на душе. И всё же он решил больше ничего не предпринимать. Обезопасив себя по силе возможности со всех сторон, затихнуть мышкой, учуявшей кошку. По расчёту Бельского, недели две нужно переждать. Раньше Иван Грозный не подоспеет.
Однако недели не прошло, как в Великий Новгород подоспела полная тысяча опричников, и теперь можно было спокойно ожидать прибытия государя. Теперь появилась возможность и посадников свезти в Софийский собор, чтоб не смутили народ.
А Иван Грозный, послав в помощь Богдану Бельскому тысячу, сам не стал спешить в Новгород. Он безжалостно расправлялся с заговорщиками по всему пути в мятежный город. И подвигнул царя к этому Малюта Скуратов. Излагая всё, что узнал во время пыток новгородцев, он как бы между прочим высказал своё сомнение:
— Гложет меня, раба твоего, одна мысль: как могли невидимо проехать Валдай, Волочок, Тверь и Клин посланные покуситься на твою жизнь? Отчего не остановили вооружённую полусотню, куда и ради какой цели её путь? Ротозеи ли твои воеводы? Или иное что? Во всяком случае, они должны были оповестить Москву о ратниках, едущих в её сторону без путной грамоты. Если, конечно, всё по уму бы. Не пленные ли ляхи и ливонцы воду мутят?
— Как всегда, твой ум, Малюта, что стрела калёная, метко пущенная. И мои думки об том же были.
— Тогда, может, в Москву заезжать не станем, а прямиком — в Клин?
Не сказал Малюта Скуратов, что он давно определил этот маршрут, даже Богдану велел слать вестника в Клин, но зачем знать об этом царю Ивану Васильевичу?
До Клина борзо двигался Иван Грозный со своим любезным опричным полком — словно на пожар торопился. Когда же встретился им посланец от Богдана и была послана тысяча в Новгород (тоже спешно), движение замедлилось значительно. А в Клину, по замыслу Малюты Скуратова, и вовсе остановились более чем на неделю; не давая выскользнуть из города ни одной душе, хватали заподозренных в измене, пытали, отправляли на дыбу. Даже до Твери не доползли слухи о расправе Грозного царя над Клином.
А он там, руками Малюты и его подручных, поднял на дыбу всех, на кого хоть чуточку могло пасть подозрение. Начали с того, что дознавались, кто поддался уговору литовцев решиться на измену. Несчастные не знали ни о чём, ничего подобного даже в голове не держали, но Скуратов умел выбить именно то слово, какое уместно преподнести вошедшему в раж царю.
За казнями следом и погромы. Опричникам только дай коготком зацепиться, тогда их когтистую лапу уже ничем не оттолкнёшь: разоряли и сжигали дома не только казнённых — скорее всего, обвинённых напрасно, — но и тех, кто вёл знакомство с казнёнными или служил у них.
Уходил из Клина опричный полк, оставив после себя полуразрушенный и почти начисто разграбленный город.
Тверь же встретила царя за полверсты от главных ворот крестным ходом. Епископ впереди с большим серебряным крестом с позолотой и дорогими каменьями. За ним — настоятели всех церквей, а уж за их спинами — наместник, воевода, бояре и гости знаменитые. Епископ поднял крест, дабы благословить великого гостя, царя всей Руси, но Иван Грозный остановил его.
— Погоди. Отчего не вижу среди вас Филиппа? От него хочу иметь благословение.
— Отрешённый от митрополитчьего сана тобой, государь, старец Филипп в затворничестве. Молится о смягчении сердца твоего. Без устали молится.
— Твоего благословения, епископ, не приму! Смертью не покараю, но и милости не жди. По заслуге и честь. Как в писании: да воздастся каждому по делам его. А вас всех, — обратился Грозный к толпившимся за спинами священников отцам города, — в пыточную! Пока не откроете мне, по чьей воле пропустили через город вооружённых новгородцев для покушения на меня! Бог прикрыл десницей своей помазанника своего, я же, верный раб Господа нашего, исполняю его завет: око за око!
Подождал царь, пока церковный клир оттрусит от обречённых и спокойно бросил слугам безропотным:
— За вами слово.
Как вороны на желанную добычу кинулись чёрные исполнители воли царя, скрутили руки в мгновение ока, заломив их за спины, и поволокли к городским воротам, а оттуда в детинец, где имелись глухие подземельные камеры и пыточные.
Проводил Иван Грозный конвой суровым взором своим и обратился к Малюте Скуратову:
— Скачи в Отроча монастырь, в келью Филиппа. Испроси благословения на месть мою заговорщикам, кто готовится Россию растащить по своим вотчинам, по уделам своим.
— Будет исполнено.
Хмыкнул Иван Грозный. Знал он упрямство иерарха церкви Российской, не поменявшего честь на вольготную жизнь, потому предвидел, чем закончится поездка Малюты.
«Словно читает он мои мысли и делает всё то, что мне желательно».
Да, Малюта исполнил тайное желание царя. (Об этом подробно будет сказано в очерке об опальном митрополите Филиппе, теперь же упомяну лишь о том, что сообщил Малюта Ивану Грозному, вернувшись из монастыря).
— Не привёз я благословение старца. Я — в келью его, а он уже стылый, на скамеечке сидючи. При мне схоронили его. Я от тебя, государь, и от себя по щепотке землицы бросил.
— Воля Господа, — притворно вздохнув, изрёк Иван Васильевич.
— Мир праху его. Велю в поминальник навечно внести святое имя его, — перекрестился царь троекратно, шепча молитву, и — Малюте: — Сегодня пируем, а завтра — засучивай рукава. Рви в клочья крамольников. Сам я тоже не останусь в стороне.
Более недели свирепствовали опричники в Твери, пока Иван Грозный не посчитал достаточным наказание. И вообще, похоже было, что он начал утихомириваться, утолив жажду крови. В Медном уже не так лютовал. А Торжку, казалось, самая малость достанется, а то и вовсе минует его горькая чаша.
Богатейший город Торжок. От торга крупного его богатство.
Тверда многоводная давала путь кораблям от земель Низовских к новгородским пятинам, вот и тянулись по её берегу причалы и лабазы на добрую версту. Велик здесь детинец. Не менее Новгородского. За его мощными каменными стенами могли укрыться в случае нужды все жители посада. Запасов в Кремле хранилось тоже изобильно. На долгую осаду хватит. Но удивительно, никто даже не помыслил затвориться в крепости от злодейства Иванова, хотя до горожан дошли слухи, как в Клину, в Твери и в Медном рушили опричники всё, что им хотелось, как упивались они кровью мучеников. Лишь шептали жители Торжка с надеждой, моля Господа:
— Боже Всевышний, спаси и помилуй нас, грешных.
Молились, уничижались, не ведая, в чём грешны.
Вполне возможно, услышал бы Всевышний молящихся, ибо полусотня новгородцев могла и не заезжать в Торжок, а миновать его, проехав по прямой дороге от Вышнего Волочка на Клин, так рассудил Иван Грозный, и намеревался попытать только воротниковую стражу, не въезжали ли в город крамольники, и уж исходя из их признания творить суд над городом или миловать его, но всё вышло иначе. Малюта Скуратов донёс царю, что в двух башнях детинца содержатся пленные, и посоветовал ему:
— Не с них ли начать?
— Посещу их сам. Пару-тройку попытаем.
В первой от ворот угловой башне литовцы пали перед царём Московским на колени и умоляли отпустить их домой, клялись, что никогда сами не ополчатся против русских славян-братьев и всем родным и близким закажут — Иван Васильевич даже смягчился, пообещав милость свою и направился к дальней угловой башне.
Вот в ней-то и случилось то, отчего зашёлся город в стонах мученических, запылали лабазы, разграблены были стоявшие у причалов торговые суда, команды их перебиты: пленные крымцы, а именно они были заточены в дальней башне, не с почтением встретили русского царя — дикими кошками кинулись на вошедших к ним, вырвали из ножен у опешивших опричников мечи и начали тех сечь их же оружием.
Царю бы в первую голову не сдобровать, не окажись и на этот раз рядом расторопного Малюты Скуратова. Он, схватив Ивана Грозного за шиворот, отшвырнул его к двери, где царя подхватили телохранители, а сам же Малюта оказался перед двумя свирепого вида крымцами, успевшими вооружиться мечами опричных ротозеев и даже посечь нескольких из них. Моментально обнажён меч — один из врагов пал с рассечённой головой, но второй успел ударить мечом Малюту.
Спас его от гибели шелом, к тому же замешательство среди опричников миновало, крымцев начали рубить беспощадно, и когда покончили с последним, вынесли на воздух раненых.
Крепкая рука у татарина. Хотя шелом и бармица защитили голову Малюты, но меч, скользнув по ним, ударил в плечо, и если бы не кольчуга доброго плетения, врубился бы глубоко в тело — а так отделался верный слуга царя лишь переломом ключицы да нестерпимой головной болью.
Царь Иван Васильевич склонился над своим спасителем.
— Господь Бог послал тебя ко мне. Какой раз закрыл ты меня своим телом! Никогда не оторву тебя от сердца своего! — распрямился и гневно бросил воеводе стражников детинца: — Отчего не уведомил, что в башне дикие крымцы?!
— Сказывал. Мимо ушей твоих, видимо, государь, прошло.
— Что-о-о! В пыточную! Смерть городу за раны спасителя моего!
Вот так. Все мольбы горожан ко Всевышнему, чтобы спас он их, безвинных, от лиха, — козе под хвост. Горел и умирал великий богатством город в муках до тех самых пор, пока лекарь царёв Бомелиус не заключил, что Малюта Скуратов может сесть в седло.
Когда царь Иван Грозный двинулся со своим полком к Вышнему Волочку, зима уже заявила о себя основательно. По Тверце шла шуга, появились забереги, в малых же притоках Тверцы, особенно на омутах и затонах, лёд встал твёрдо. Пора бы поспешать в Новгород, где есть место разместиться полку в тёплых домах, но Иван Грозный специально не спешил.
«Пусть трясутся изменники!»
Только в день Рождества Христова подошёл Иван Грозный к Новгороду. Оставив свой полк в двух вёрстах от стен его, лишь с сыном своим Иваном, свитой и малой охраной въехал в город через Московские ворота. Ему навстречу — крестный ход, каждый из участников которого был тщательно обыскан Богданом Бельским. Даже архиепископ.
Не принял святительского благословения царь. Пронзил злым взглядом архиепископа и рек грозно:
— Злочестивец ты, а не пастырь рабов моих! В руках твоих не крест животворящий, но меч крамольный, нацеленный в сердце наше! Ты — враг православной церкви, волк хищный, ненавистник венца Мономахова, поклонник Сигизмунда!
Тихо-тихо стало на месте встречи. Закрой глаза — покажется, что нет вокруг ни души. Все с замиранием сердца ждут, что вот-вот крикнет Грозный: «Взять их!» — и закрутят всем руки за спины.
Царь долго наслаждался страхом встречавших его людей, а удовлетворив своё торжество, повелел:
— Веди, отступник, в палаты свои. Устрой пир для нас, прибывших в гости, и для клира своего.
Отцов города, наместника и воеводу не позвал, и те в страхе и недоумении расползлись по своим домам.
Иезуитская задумка. Пир начался пристойно, царь — само благодушие, но в самый разгар его в трапезную ворвались опричники и скрутили всех высших священнослужителей. Потом целую неделю оголяли церкви и монастыри не только в городе, но и в окрестностях. Монахов и настоятелей свозили в детинец Софийского собора, каждому установив откупного в двадцать рублей. Кто не уплатит — на правёж.
На добрую неделю неусыпного труда, итог которого — великое богатство. Полное разорение обителей Господних. Не счесть и трупов служителей Божьих. Правёж — улыбчивое слово. Тех, кто не мог внести двадцати рублей (а таких было большинство), забивали палками до смерти, а уплатившие мзду, едва успевали развозить трупы собратьев своих по монастырям и придавать тела земле.
Покончив с церковниками, Грозный перешёл на вторую часть казней. Она началась тоже с пира в архиепископских палатах, на который званы были посадники, и степенные, и бывшие, тысяцкий, царёв воевода и царёв наместник с его боярами. Попотчевав гостей именитых и выслушав их здравицы низкопоклонные в свою честь, государь объявил с зловещим спокойствием:
— Завтра начну суд чинить. С корнем стану корчевать измену. Поскидаю я с вас камку и бархат, шитые золотом и жемчугом.
Удивительно, но под стражу не взял никого. Он ещё не решил, где и как организовать допросы и казни. Позвал, как только гости разъехались, к себе Малюту Скуратова.
— Что скажешь, слуга мой верный, где вершить суд? Здесь ли, в детинце, или на том месте, где Рюрик Вадима казнил[37]?
Малюта Скуратов сделал вид, что задумался, хотя давно уже определил место расправ с новгородцами.
— Ну что? — нетерпеливо спросил царь.
— Да вот — думаю. На мой взгляд, ни тут и не там. Бога мы, государь, не прогневили, наказав знатно церковников и монахов на виду храма Святой Софии, по делам и честь им. А вот крамольников не священного ряда можно ли будет лишать жизни здесь, у паперти соборного храма? Но и у Ярослава двора тоже не очень сподручно. Возмущать горожан стоит ли лишний раз? Не лучше ли на зажитье[38], в стане полка твоего? Повели Богдану Бельскому, кто доказал свою умелость, доставлять на суд изменников по сотне или по две каждый день. Осуждённых после пыток на казнь можно будет сбрасывать в Волхов.
— Но новгородцы не увидят в назидание себе и потомкам своим, как царь всей России карает за измену?
— В страхе пару недель поживут, на дома крамольников разрушенные поглядят, вразумеют обязательно.
Иван Грозный долго молчал, затем, вскинув голову, осенённую какой-то задорной мыслью, молвил окончательное своё слово:
— Так и поступим, верный мой советник. Но прежде архиепископа повозим по городу. Верхом на старой кобыле. В худой одежонке, с бубном и волынкой в руках, аки скомороха. Я с сыном Иваном и ближние слуги мои пеше за ним последуем. Да чтоб народ весь глазел! Плетьми выгонять, если кто по доброй воле не покинет дом свой.
— Эта забота на мне, — покорённый выдумкой царя, воскликнул Малюта Скуратов, затем добавил: — и на Богдане Бельском.
Того результата, на который рассчитывал Иван Грозный и Малюта Скуратов с Богданом, не получилось. Новгородцы насупленно сопровождали полными слёз взорами шутовскую процессию, и это так возмутило Ивана Грозного, что он решил наказать не только отцов города, но и всех гордецов. То есть — весь городской люд. Государь так и повелел Бельскому:
— Первоочерёдно всех именитых, вплоть до кончанских старост и улицких, а как с ними покончим, — с каждой улицы по паре сотен. На твоё усмотрение.
Вот таким оказался окончательный приговор, который с иезуитской выдумкой начал по совету Малюты Скуратова проводиться в жизнь. К домам посадников и тысяцкого (а их брали перворядно) подавались биндюхи, на них грузились золотая и серебряная посуда, ковры, дорогие одежды, самих же обречённых раздевали до исподнего, напяливали на них хомуты и припрягали к последней извозной телеге. За хозяевами шли дворовые слуги, а замыкали обоз жёны и дети. Малолетних детей матери несли на руках. Никому из слуг этого делать не позволялось.
Вот такие обозы потянулись один за другим к зажитью.
Зрелище угрюмое, но Иван Грозный доволен выдумкой Малюты Скуратова, доволен и тем, как быстро и ловко он устроил под открытым небом самую настоящую пыточную. Пока разгружали биндюхи, стаскивая добро во вновь поставленные шатры-хранилища, людей пытали и затем, ещё живых, волокли, привязав к седельной луке арканом, чтобы сбросить в Волхов, в ледяную воду. Большинство обессиленных, истерзанных сразу же шли ко дну, тех же, кто пытался выбраться на берег, опричники, сидевшие на лодках, кололи пиками, били кистенями по головам.
А биндюхи тем временем трогались за следующими жертвами.
Шесть недель Грозный злобился в Новгороде, разорив его до нитки и основательно обезлюдив. Но не всех ждал конец в студёных водах Волхова, довольно многих, по выбору Малюты Скуратова, одобренного царём, увозили в Александровскую слободу, где намеревались пытать их основательно, дабы узнать московских потатчиков крамоле. Только после этого государь собрал по одному жильцу, в основном из ремесленников, и объявил им свою милость.
— Мужи новгородские, молите Господа о нашем благочестивом царском державстве и христолюбивом воинстве, да побеждает оно всех врагов видимых и невидимых. Суди Бог архиепископа Пимена и его всех советников, на коих взыщется кровь, здесь пролитая. Да умолкнут плач и стенания, да утешится скорбь и горечь. Живите и благоденствуйте в сём городе. Наместником своим оставляю боярина и воеводу князя Петра Даниловича Пронского. Не дерзайте против его воли. А теперь идите в домы свои с миром. А кто из Москвы вас соблазнял, о чём выведал я на пытках, с ними у меня иной разговор.
И на том спасибо. Худосочное житьё всё же лучше лютой смерти. Москвичам же, попавшим под подозрение, ох как не позавидуешь. Малюта Скуратов так расстарается, что небу станет жутко, не то чтобы людям. Он уже основательно продумал, какие ему нужны показания на пытках, и опасался только одного: не отпустит его от себя Иван Грозный. Тогда его путь — во Псков, и в этом случае многое может пойти юзом. Что станет со Псковом, Малюту вовсе не интересовало, он думал только о себе, поэтому первым заговорил с царём, не ожидая его решения, которому уже не поперечишь, и так заговорил, будто кроме него больше некому ехать в Слободу. Как о деле бесспорном заговорил.
— Отпусти, мой государь, со мной в Слободу Богдана Бельского. Мне одному трудненько будет.
— Отчего ты решил, что тебе ехать? Я ни тебя, ни Богдана не намечал отпускать. Станем пытать отправленных, когда воротимся.
— Воля твоя, государь, только не во вред ли делу? Пара клириков Пимена двоедушника выдавили из себя на пытке, будто у сердца твоего подстрекатели. Это не один я слышал, потому опасаюсь, как бы тем тайным изменникам не стало известно, кто не сдюжил даже малых пыток, а в настоящей пытке всё выложит сполна — уберут тогда их, мол, Богу душу отдали по своей воле. Вот и концы в воде. А клириков важно сохранить и допросить по горячим следам. Намерен так сделать: признание чтоб подьячий записал. Пусть у тебя в руках будет письменное признание подручных змеи подколодной Пимена.
Иван Грозный потёр ладонью лоб и согласился:
— Ладно. Поезжай. Богдана же с тобой не отпущу. Он мне самому нужен. Расторопен и умён. А как повернётся всё в Пскове, пока не ведаю.
Для будущего — хорошо: царь оценил старания Богдана, но для задуманного Малютой на сей день — не совсем ладно. Одному ему опасно добывать столь важные сведения, как бы самому не оказаться под подозрением. Выше, однако, головы не прыгнешь. Нужно думать, нужно искать кого-то в товарищи, ибо валить предстоит самых близких любимцев царя, умевших ловко ублажать его в козлоплясках.
До самой Александровской слободы перебирал он имена тех, на кого мог опереться, выискивая не слишком близких к трону, однако и не отдалённых вовсе, исполняющих свою службу исправно, но не более того. Чаще всего останавливался на Борисе Годунове. Вроде бы сам по себе, вроде особняком от скоморошества, но в удобный момент всегда рядом с Иваном Грозным. А с сыном его Фёдором, похоже, очень близок и даже ловко пользуется слабоумием Фёдора.
«Скорее всего Грязной и Басмановы готовы его сжить со света. Знает ли Годунов об этом? Думает ли?»
Решил Малюта сразу же, как приедет в Слободу, позвать Бориса Годунова и поговорить с ним с полной откровенностью. Рискованно? Конечно. Очень даже, да только есть, чем себя защитить: разговор без лишних ушей, а если что не так пойдёт, Годунов тоже может оказаться среди тех, кто «соблазнял» Пимена. Сам признается в том, чего отродясь в уме не держал.
«Выдавлю признание! Самолично выдавлю!»
Однако все варианты предстоящего разговора с Годуновым, какие продумывал Скуратов, не пригодились не у дел. Борис Годунов, приехав по приглашению главного палача опричнины, хотя мог бы и не делать этого, не задержался с визитом. Пришёл без боязни. На вопрос, догадывается ли он, ради чего приглашён в Слободу, ответил с ухмылкой:
— Что не в пыточную, это уж как пить дать. В пыточную так любезно не зовут. А вот отчего тайность и срочность — обскажешь, надеюсь.
— Поведаю. Только сперва напомню мудрость вековую: от сумы и тюрьмы не зарекайся.
— Верно. Как Бог рассудит. Но я готов послушать тебя, коли нужда есть, идти рядом с тобой, Григорий Лукьянович, либо в помощниках твоих. Я не могу не уважать знатности рода твоего — рода Гедеминовичей. Можешь мне довериться полностью.
Раскусил, бестия.
— Тогда так: на первых порах — в подручных. Если удачно пройдёт то, о чём тебе сейчас скажу, станем единым целым, — подумав, добавил: — Вместе с племянником моим Богданом Бельским, которого моими стараниями царь уже приблизил к себе. Приблизит и тебя.
— Но на пути могут встать Басмановы, Вяземский и Грязной. Они ненавидят меня.
— Ишь ты! — невольно воскликнул Малюта Скуратов, затем уже с присущим ему спокойствием ответил: — Нам надлежит убрать их с дороги в первую очередь.
— Замах — рублёвый. Иван Васильевич души в них не чает.
— Верно. Оттого гнев его будет страшней страшного. У меня есть соображения. Давай их обсудим. Может, и ты что-либо добавишь для верности.
Главное в плане: оболгать царёвых любимцев, убедить, будто они — крамольники. Заодно с Пименом замышляли покушение на государя. Будто они и весть о времени охоты на медведя дали исполнителям заговора; они и вывели на тропу, по которой непременно должен был поскакать Иван Грозный к месту травли медведя; они, мол, надеялись, призвав короля Сигизмунда владеть Русской землёй, стать его наместниками, а со временем сбросить и иго короля.
— Невероятно! И — нелепо.
— Чем нелепей и невероятней, тем больше поверится. У меня есть на примете клирики, которые иод пыткой подтвердят, что имели связь с ними по приказу архиепископа Пимена. В пыточной признаются. После чего — конец им.
— Вот этого делать не стоит. Лучше будет, если прежде с ними договориться: они — нужное слово; им — жизнь в монастыре. Со временем — настоятелями.
— Но вдруг Иван Грозный пожелает самолично допросить их?
— Следов пыток оставим достаточно. А помиловать? Не может он не помиловать. Движение же от чернецов до настоятеля — в наших руках. Зачем заботить государя этими мелочами?
Они долго ещё обсуждали, на кого направить острие своего коварного удара, кого просто пристегнуть для массовости с тем, чтобы в самый последний момент государь проявил якобы милость и даровал им жизнь; обдумывали основательно, как провести сами казни, чтобы ужаснуть весь народ, напоить досыта царя кровью так называемых предателей; причём, конечно, понимали, что после всего этого не могут не возненавидеть царя не только князья с боярами, но дворяне, купцы и даже простолюдины.
Впрочем, о простолюдинах — зряшняя мечта. Им-то какое дело до возни в Кремле? Им хоть бы пёс на троне, лишь бы яйца нёс.
Остался один вопрос. Ради предусмотрительности. Его задал Борис Годунов:
— Не заподозрит ли Грозный неладное, вдруг спросит, почему именно я оказался в твоих подручных? — ответа, однако, Годунов ждать не стал. Сам предложил ловкий ход: — Я нынче же в Москву возвращаюсь, через день-другой — ты тоже в Кремле. К Фёдору Ивановичу с поклоном. Прошу, мол, в Слободу. В пыточную. Очень, мол, важные признания готовы дать чины Новгородского архиепископского клира, но просят гарантии жизни от имени государя. Или, по меньшей мере, от одного из его сыновей.
— Но разве Фёдор-богомолец согласится в пыточную?
— Нет, конечно. Я так вступлю в разговор, что он с благодарностью пошлёт меня вместо себя.
Так оно и получилось. Фёдор Иванович принялся истово креститься, услышав предложенное Малютой Скуратовым.
— Свят! Свят! Разве позволительно пытать служителей божьих?! Господь Бог взыщет.
— Но интересы державные? — возвышенно изрёк Годунов. — Бог не осудит праведную кару.
— Нет, нет. Не могу.
— Не осерчал бы державный отец твой? — с тревогой в голосе спросил Годунов.
— Нет и нет.
— Тогда позволь принять на себя грех. Засвидетельствовать признание и от твоего имени даровать им жизнь?
— Спаси тебя Бог, благодетель.
Вот теперь можно было без оглядки засучивать рукава и — в Александровскую слободу. Зашлась она в мученических воплях, в скрежете упрямых зубов, в приглушённых гордых стонах. Пытали так ловко, чтобы получить нужное слово, но всех оставить живыми до приезда Ивана Грозного, который мог изъявить желание послушать признания самолично при повторных пытках.
Список так называемых заговорщиков и изменников рос не по дням, а по часам. Вскоре в изменниках числилось более трёхсот человек. Его и преподнесли Ивану Грозному. Вопреки ожиданию, он не стал перепроверять. Особенно, когда узнал, что Годунов участвовал в пытках, подменив собой благостного сына Фёдора. Только о милости клирикам высказался неопределённо:
— Питайте хорошо, устройте удобно, но держите под стражей неусыпной, — помолчав немного, спросил: — А как казнить крамольников, продумали?
— Да, мой государь, — с готовностью ответил Малюта Скуратов. — В Китай-городе на Торговой площади. В единый день — всех. Если изъявишь волю, поручи мне подготовку. В помощники мне — Богдана Бельского и Бориса Годунова.
— Всех в один день?! Славным будет урок не только для тайных крамольников, ещё не раскрытых, но и для потомства ихнего. Подумают, прежде чем заговоры чинить!
Двадцать восьмое июля. Разгар лета. Разливанное море ранних овощей. Торговые ряды ломятся от их обилия. Народу — не протиснуться. И вдруг... Тревожный ветерок понёсся от палатки к палатке: опричники приближаются. С ними — артели плотников. Не коварство ли какое очередное. От них добра не жди.
Когда же почти вплотную к торговым рядам застучали топоры и стали выстраиваться в ряд виселицы с помостами, когда на бричках привезли колоды и палачей в красных рубахах, торговцы не стали даже закрывать лавки или убирать лотки, понеслись прытко всяк к своему дому, а приезжие — к своим бричкам, чтобы поскорее покинуть Москву, где готовилось что-то страшное. Торговые ряды, да и вся площадь стремительно опустела. Люди, кажется, посчитали, что Иван Грозный намеревается покончить с Москвой, перенеся стольный град в Александровскую слободу, а потому затворялись ворота и калитки, а многие горожане укрывались в подвалах и погребах.
А на площади тем временем выстроились в ровный ряд больше двух дюжин виселиц, на помосты, кряхтя, затаскивали дубовые колоды, а чуть в стороне разгорался костёр под треногой с котлом воды, и тут же укладывались самые страшные орудия пыток.
Вскоре артели плотников и брички покинули площадь, и остались на ней только опричники и палачи в красных рубахах, с топорами у ног.
Фроловские ворота давно распахнуты. Воротники, во всей красе своей кольчужной формы, стоят бездвижно в ожидании выезда царя Ивана Васильевича. Вот, наконец, он сам. На своём скакуне белом в яблоках. Рядом с царём его сын Иван — на буланом. Следом — свита опричная, красуется на вороных конях и сама вся в чёрных одеждах. Что туча грозовая на сносях.
Скоморохи справа и слева бьют в бубны, верезжат на сопелках, кривляясь.
За свитой — стройные ряды опричной тысячи, а за ней — более трёхсот истерзанных, измождённых несчастных, которые едва-едва передвигают ноги, понимая, что их ведут на позорный убой. Совершенно безвинных. Вернее, виноватых лишь в нелюбви к ним Малюты Скуратова и Бориса Годунова.
Замыкала торжественно-печальное шествие вороная полутысяча опричного полка.
Царь вроде бы не замечает пустынности площади, горд придумкой, которую считает своей, предвкушает торжество речи перед москвичами, в которой он пояснит вынужденность подобной строгости; всё бы ничего, да только вдруг у него словно спала пелена с глаз, и царь увидел — площадь-то пуста.
Взъярился. Велит сыну Ивану:
— Бери полк! Гони люд со всех дворов сюда! Если кто заупрямится, плётками стегать!
Вскоре, однако желая быстрей начать спорей кровавый пир, сгорая от нетерпения, сам поскакал по улицам, призывая явиться люд московский на площадь, спешить, ничего не опасаясь.
Обречённые всё это время стояли понуро. Они готовы были уже ко всему. У них одно на уме: скорее бы конец нечеловеческим мучениям.
Площадь заполнялась быстро. Обывателю что? Его не тронут — вот это самое для него важное; полюбоваться же невиданным зрелищем — грешно ли? Так и надо крамольникам, собравшимся положить Россию к ногам короля Сигизмунда.
Глашатай прокричал о желании царя Ивана Васильевича молвить слово, и москвичи притихли.
— Народ мой любезный! Увидишь сейчас муки и гибель изменников. Их я караю!
Царь говорил добрых четверть часа, перечисляя вину выведенных на казнь, да так убедительно, что когда в конце речи вопросил: «Ответствуйте, праведен ли мой суд?» — площадь ответила почти единодушно:
— Живи многие лета, государь.
Видимо, смягчило сердце Ивана Грозного это единодушие, и он отпустил с миром около двухсот человек — они ещё не успели смешаться с толпой, как опричники подтащили к ногам царёва коня тайного советника Висковатого. Тайный дьяк начал читать пункты обвинения, ставя точку после каждого ударом по голове Висковатого, — тот вроде бы покорно сносил удары, но стоило только дьяку закончить читать обвинения, как тут же Висковатый распрямился.
— Клевета! Наглая клевета! — воскликнул он. — Земной суд не внемлет истине, но есть суд Божий! Он воздаст мучителям по их заслугам!
Малюта Скуратов зажал ему рот ладонью, затем, выхватив нож, отрезал ему ухо, а его подручные тут же изрубили бывшего тайного советника и любимца царя на куски.
Подвели казначея Фуникова-Карцева. Дьяк тотчас начал читать приговор, но Фуников, не дослушав его, поклонился царю низким поклоном и вроде бы с покорностью заговорил:
— Кланяюсь тебе, государь, последний раз на земле, моля Бога, да примешь ты в вечности праведную мзду по делам своим.
Фуникова окатили кипятком, затем ошпарили ледяной водой, и так чередовали изуверство, пока он в нестерпимых муках отдал душу свою Господу Богу.
Больше приговоров не зачитывали: обожглись. Вешали, рубили, прожигали сердца накалёнными до белизны железными прутьями, рвали клещами тела обречённых до самых до костей — стоны и вопли витали над площадью, не прерываясь ни на миг.
Знавшие увлечения царя-батюшки, его необычную любовь к Вяземскому и особенно отцу и сыну Басмановым, удивлялись, отчего не видно их ни в числе обречённых, ни рядом с царём, ни среди палачей? Да просто их уже не было в живых. Конец их оказался достоин злодеяний, ими свершённых. Вяземский, сам наслаждавшийся пытками им же оклеветанных, попав в руки Малюты Скуратова, испустил дух во время первой же пытки. Ещё назидательней смерть Алексея Басманова: по воле Ивана Грозного его убил собственный сын Фёдор ради спасения своей жизни. Увы, царь не пощадил и отцеубийцу.
Имена всех казнённых в так названную пятую эпоху душегубства не сохранились. Известны только знаменитые: славный воевода князь Пётр Семёнович Оболенский-Серебряный, двадцать лет побеждавший и татар, и литву, и немцев, принял гордо мученическую смерть. Тогда же были казнены думный советник Захарий Иванович Овчина-Плещеев. Далее: Хабаров-Добрынинский, один из богатейших сановников; воеводы Иван Воронцов, Василий Разладин, Кирин-Тырков, Андрей Кашкаров, Михаил Лыков — всех разве перечислишь. Только Колычевых казнено до дюжины, а одного из них, князя Ивана Шеховского, Иван Грозный собственноручно убил булавой. Казнены были многие князья Ушатые, Заболтские, Бутурлины.
Утолив свою жажду крови, царь с ближними своими слугами и сыном Иваном поскакал в дом Висковатого, жена и дочь которого славились красотой. Вдоволь насмеявшись над слезами осиротевших, Иван Грозный потешился с вдовой, дочь же сироту отдал сыну.
Опозоренных, сослали их в монастырь, где они скончались от горя и позора.
Весьма доволен успехом Малюта Скуратов, хотя не всех, кого он намечал, удалось убрать с дороги к трону. Особенно опасным для себя считал Малюта князя Михаила Воротынского и его брата Владимира. Как ни пытался Малюта оклеветать их, даже с помощью Тайного дьяка, царь в ответ лишь сослал Михаила Воротынского с семьёй в Белоозеро, а Владимира даже не лишил воеводства своим полком. Стало быть, нужно продолжить гонение на братьев, пока не будет достигнут конечный результат.
Вновь, в какой уже раз, собралась на тайную вечерю тройка «борзых». Искали самый верный путь низвержения Воротынских.
Его в конце концов подсказал Борис Годунов:
— Не может такого быть, чтобы не было при Воротынских у Тайного дьяка своего глаза. И ещё моё мнение: не стоит гоняться за двумя зайцами — определим для начала одного.
— Естественно, Михаила, — сразу же отозвался Малюта Скуратов. — Его свалим, брату тоже не поздоровится. С Тайным дьяком я сговорюсь. Поделится он своим глазом и ухом. Если захочет спокойно жить и работать. Или не знает он, что Грозный на меня свалил и сыск и расправу?
— Только приманку нужно дать основательную соглядатаю, — вставил своё слово Богдан Бельский. — Чтоб заманчиво было поступать так, как нам угодно.
— Верно. Дворянство пообещаем.
— Обещанием сыт не будешь, — возразил Борис Годунов. — Лучше, если будет подписанная грамота царём. Условие же такое: он исполняет наше задание, ты, Малюта, ему — грамоту о дворянстве. Не ранее того.
— Устрою. Как только царь возвратит из ссылки князя Михаила Воротынского, подпишет Грозный грамоту ради глаза моего при Воротынском. Будем ждать.
Ещё по кубку осушили, ещё и ещё, и тут Малюта Скуратов вовсе осмелел:
— Пора бы и за самого Грозного взяться. И за сыновей его. Особенно за Ивана. Пора.
— Посильно, если не растопыренными пальцами тыкать, а единым кулаком бить, имея одного за старшего брата, а то и за отца, — согласился не медля Борис Годунов, а Богдан Бельский спросил, не очень поняв на хмельную голову:
— А кого станем почитать за отца? — потом, спохватившись, добавил: — Считаю самым достойным Григория Лукьяновича.
— И моё мнение такое же. Я уже говорил Малюте, что по роду своему он — первый. Он — Гедеминович!
— Я тоже Гедеминович! — неожиданно вырвалось у Богдана Бельского, но, как позже выяснилось, вовсе не случайно.
— Верно и это. С этим не поспоришь, — согласился Борис Годунов. — Но ты — племянник, а Григорий Лукьянович — дядя.
— Да я и в мыслях не держу главенствовать.
Не добавил — «пока». Аппетит приходит во время еды. Только Богдан Бельский ещё не приступил к настоящей трапезе.
— Имею план. На ваше суждение, — продолжил Борис Годунов, вроде бы не обращая внимание на признание Бельского. — Я в ближайшее время, если Бог даст, стану шурином царевича Фёдора. Жениться он собрался на моей сестре Ирине. Получится — я в семье царёвой. Многое тогда смогу на себя взять. Приспособлюсь зельем опаивать Иванов, отца с сыном. Не торопясь. Чтоб без подозрений.
— А Фёдора?
— Блаженный он. Кто его всерьёз может принять?
Ого! Не так прост Годунов. Только играет ловко роль подручного, почитающего род Гедеминовичей. И о том, что женить свою сестру на Фёдоре собирается, помалкивал. И то сказать, ни роду ни племени, а уже в царской семье. Уже у трона. Хитёр, бестия. Фёдора Ивановича оставляет для себя. Тот — царь, а он, Годунов, — правитель.
Невольно вырвался вздох у Малюты Скуратова: в его планы подобный расклад не умещался.
«Ничего, день нынешний не без завтрашнего».
Пауза затягивалась. Но выход найден: Малюта Скуратов поднял кубок с фряжским вином.
— Осушим до дна! За мудрое слово Бориса Годунова. Ему исполнять им задуманное. На мне — более решительные меры. Пуля рушницы или отравленная стрела — мои усилия. Тебе же, племянник мой, пока не вмешиваться. По молодости своей можешь опрометчиво шагнуть. Ты от меня — ни на шаг. Каждое своё действие обсуждай со мной.
Согласился Бельский, хотя и кольнула обида: на обочину отодвинули, не спросив его согласия.
«Ничего. Пока по обочине, а там видно будет. Дорога длинная впереди».
За общее дело вроде бы выпила дружная тройка, за главенство Малюты Скуратова, всеми признанное, на самом же деле каждый пил за свой собственный интерес. Вот так и пойдут они дальше по жизни, вроде бы плечом к плечу, но каждый своим путём, им самим избранным.
Для себя Малюта Скуратов чётко определил цель: возвышать свой авторитет в полках опричном и царёвом, убирая всех возможных и даже предполагаемых конкурентов на престол, а к решительным шагам перейти в первом же походе, который возглавит сам царь Иван Грозный. У него уже были отобраны исполнители задуманного. Они пока как сыр в масле купались, не ведая никаких забот, и только неустанно упражняясь в стрельбе из лука и рушниц.
Удобнее всего для осуществления своих планов, как считал Малюта Скуратов, было бы, если Иван Грозный поведёт рать на Оку, дабы встретить большой поход крымского хана Девлет-Гирея, о подготовке которого крымцами от лазутчиков давно уже получали достоверные сведения. Ему даже удалось уговорить государя возглавить Окскую рать, и Грозный вместе с опричным полком выехал в Серпухов.
Малюта потирал руки, предвкушая удачу, но не бездельничал: он послал встретить Девлет-Гирея своего верного слугу, чтобы сообщить о месте нахождения царя Российского, под рукой которого только один полк, остальная же рать разбросана по приокским городам и переправам через Оку. Мудрый расклад. Узнает крымский хан такую новость, и окажется Грозный в его руках, непременно окажется. Тут и конец его царствованию.
Увы, Девлет-Гирей не поверил перебежчику. Да и шёл он на сей раз не большим походом, который намечал только на следующий год, а решил совершить неожиданный крупный стремительный набег на Москву. Задерживаться под стенами Серпухова он не имел желания, посчитал к тому же, что ему подсовывают ложные сведения, чтобы выиграть время для организации обороны Москвы.
Иван Грозный успел выскользнуть из Серпухова и в страхе добежал до Вологды, тут же вернул из ссылки князя Михаила Воротынского, поручив ему оборону своих южных украин. Он, уверенный, что большой поход всё же будет, заранее уехал в Великий Новгород для якобы разрешения спора со шведами.
Малюта Скуратов, понятное дело, был при царе, но без всякой надежды что-либо предпринять: переговоры шли мирно, шведские послы безропотно сносили унижения, принимая вроде бы всерьёз все требования Ивана Грозного, все его обвинения в адpec короля — они даже обещали, что их король не станет больше воевать Эстонию, и даже не возразили, когда Иван Грозный потребовал, чтобы Швеция стала его подданной, а царь Российский помимо других титулов именовался бы Шведским, а герб Швеции вошёл составной частью в герб Российский.
Обоснование удивления достойно: шведы испокон веков варяжили у славянорусских князей целыми дружинами, находясь даже в их подданстве, теперь же настало время подобное положение вернуть.
Послы шведские стремились поскорее покинуть Великий Новгород, ибо они были хорошо наслышаны о нраве русского царя: захочет, затравит медведями, и какой с него спрос? Король явно сейчас не пойдёт на Россию войной, защищая честь своих послов, постарается переждать какое-то время. До выгодного для себя момента. Знал король шведский, что никому из королей католической Европы не хочется отдавать Ливонию России, и заигрывание с Иваном Грозным — явление временное, потому укреплял договорами свою позицию, получая поддержку для увеличения своего войска. Вскоре тон его переписки с Грозным резко изменился. На вопрос Ивана Грозного, когда прибудут послы из Стокгольма для подписания условий, прежде согласованных, король Швеции ответил резким отказом. Он писал, что никогда послы его не приедут в ту землю, где принятое право общения со странами свободными не соблюдается, где послов принимают за своих подданных — на рабских правах. Король, правда, соглашался вести переговоры о мире, только как равный с равным и при условии, чтобы российские послы прибыли бы в Стокгольм или, в крайнем случае, на границу: на реку Сестру.
Не дожидаясь, однако, ответа на своё грубое послание, шведский король нарушил перемирие. Пополнив своё войско тремя тысячами наёмных шотландцев и двумя тысячами англичан, тоже наёмников, он направил его в пределы Эстонии. Иван Грозный и воеводы его не были застигнуты врасплох. В Великом Новгороде ополчились восемьдесят тысяч российских ратников, ожидавших царского слова, но царь не стал передавать приказ войску через своего гонца, а сам поскакал в Великий Новгород. Конечно, не без настойчивого влияния Малюты Скуратова.
Наёмники, шведские воины да и сами эстонцы вовсе не ожидали появления русских полков. Они праздновали и встречу с шотландцами и англичанами, радуясь тому, что те смогут защитить их от Ивана Грозного, и, не чувствуя никакой опасности, во всю ширь веселились на святках — так совпало. Вот и получилось, что передовые отряды русского войска встречали в замках дворянских и городках не сопротивление, а пиры с залихватской музыкой и плясками.
Никого, как и повелел Иван Грозный, в том походе не щадили. Секли всех поголовно, военной добычей считая не только богатство замков и городков, но и убогие крохи сельских фольварков.
Сопротивления не встречали до самого замка Виттенштейна, где горстка шведов и наёмников (в отписке Разрядного приказа названа численность: пятьдесят) при поддержке успевших укрыться в крепости земледельцев и ремесленников подготовилась к обороне.
Героизм отчаяния: лучше смерть в бою, чем смерть покорная, от безжалостного палаческого меча.
Штурм, осуществлённый без должной подготовки, с марша, не оказался успешным. Вынуждены были отхлынуть мечебитцы, оставив под стенами замка множество своих товарищей. Когда о неудаче доложили Ивану Грозному, тот вскричал:
— Что?! Там целая шведская армия?! Я сам возглавлю своё войско!
Малюте Скуратову только того и надо: замок падёт, Иван Грозный, торжествуя победу, въедет в крепость насладиться кровавой бойней, вот тут, в неразберихе, просвистит стрела — калёный болт самострела.
Штурм возобновился сразу же, как только к замку приблизился государь: воевод уже известили о недовольстве Грозного, поэтому они повели свои полки на замок сами, и всё же бой начался безуспешно и затягивался. Никак не удавалось хотя бы в одном месте взобраться на стену ловкому смельчаку, и вот тут Малюта Скуратов, подгоняемый нетерпением поскорее исполнить выношенное многими годами и ловко, как он считал, подготовленное, попросил царя:
— Разреши вдохновить наших воинов?
— С Богом, — ответил царь любимцу и неоднократному своему спасителю. — С Богом.
К стене в это время подносили пару новых лестниц, наспех сколоченных посохой из разбираемых домов и изгородей.
— Ставь сюда, — скомандовал Малюта Скуратов и указал места справа и слева от угловой башни, а когда лестницы приткнули к стене, крикнул зычно своим телохранителям: — Вперёд, братцы.
Полез и сам вверх уверенно прикрываясь щитом от летящих сверху камней и кирпичей.
— Следом за ним — чёрная опричная сотня, его телохранители. По левой от башни лестнице — тоже опричники. Уверенные в себе. Привыкшие к тому, что им всё удаётся под водительством храброго и удачливого их вожака.
Полусотня самопальщиков беспрерывно осыпала защитников этого участка стены пулями из рушниц, ещё одна полусотня сыпала ливнем калёные болты из самострелов.
Споро карабкается Малюта Скуратов вверх. Вот уже можно ухватиться за край стены, вот можно встать на неё во весь рост, отбив акинаком нацеленный удар меча, вот и второй швед падает с рассечённой головой, а вот уже справа и слева от Малюты вскакивают на стену храбрецы — пошла потеха, и всё больший участок стены переходит в руки опричников.
Доволен Малюта Скуратов, и всего-то на одно мгновение расслабился, как обычно после удачного допроса в пыточной, когда вымучено нужное для него слово; увы, этого оказалось достаточно, чтобы пущенная из бойницы башни стрела из арбалета почти в упор впилась в незащищённый ни кольчугой, ни бармицей кадык — пошатнулся Малюта, один из телохранителей кинулся к нему, но был тоже сражён стрелой. Они оба, в обнимку, полетели со стены.
Крик радости в угловой башне, весьма ободривший обороняющихся. В ответ — остервенелая злоба любимцев Малюты, которые жили за его спиной припеваючи, грабили, убивали и насиловали — пошла яростная рубка. Силы, однако, слишком неравные: чёрные опричники лезли и лезли в малый продух на стене, расширяя его, а погибающих шведов, шотландцев, англичан и эстонцев заменить было некем.
Впрочем, счастлив тот, кто из защитников погиб в этой рубке — оставшимся в живых пришлось проклинать Бога, что не дал он смерти в честном бою.
Царь, узнавший о смерти своего главного палача, велел принести его и поклонился герою. Поцеловал в губы и закрыл его начавшие стекленеть глаза. Не ведал Грозный, что готовил ему его любимец и спаситель. И не узнает никогда. Его страшный роковой час ещё не пришёл. Он ещё не всё сделал, что было определено ему судьбой.
Иван Грозный решил отомстить. Жестоко. Велел, распрямившись и грозно сверкнув очами:
— Передайте всем: шведов и наёмников не сечь! Брать живыми. Всех остальных — под корень!
Более двух дюжин — почти все израненные, в помятых доспехах — оказались пленёнными. Их подвели к Грозному.
— Вы слышали о геенне огненной в аду?! Для вас наказание Божье настанет на грешной земле!
Из свежесрубленных лесин устроили большой помост, огородили его железными прутьями, и в эту самую клетку напихали всех приговорённых к лютой смерти. Под помостом разложили кострище из сырых дров. Неспешно начал разгораться огонь от сырой же бересты.
Достойная тризна по кровожадному палачу!
МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП
Игумен не вышел встречать опального иерея Сильвестра, сосланного в Соловецкий монастырь. Более того, он, сказавшись занятым, назначил с ним встречу только на следующий день и то если выкроит время. И всё это не потому, что за пару недель до приезда иерея монастырь посетил посланец Ивана Грозного, который передал строгий приказ государя относиться к Сильвестру не как к иерею, а как к чернецу, определив ему самую сырую и тёмную келью и назначив унизительное послушание.
Но не в царёвой воле было дело — причина холодности настоятеля монастыря в ином: он считал Сильвестра отступившим от канонов служителя православия ради светской власти и тщеславия. Служители Христа — духовные пастыри, а не власть подпирающие. Особенно такую, что на злодействе построена. Более того, настоятель Соловецкого монастыря считал Сильвестра вместе с Адашевым родоначальниками опричнины, ярым врагом которой был сам. И тут игумен во многом был прав: именно преобразования, связанные с заменой в управлении страной боярства дворянством, подвигли Ивана Грозного (под нажимом избранных дворян, окруживших трон жадной стаей) к опричнине.
Сильвестр же воспринял подчёркнуто небрежную встречу не столько с обидой, сколько с недоумением.
Игумен Филипп слыл умным и весьма деятельным настоятелем, считался лучшим из всех настоятелей. За годы своего управления Соловецким монастырём он превратил пустынные острова в обжитые земли с добрыми причалами и дорогами, ведущими от них, чтобы грузы и рыба, поступающие на острова, можно было легко доставить к нужному месту. Достаточно настроено было и промысловых судов. Начали действовать соляные варницы, прежде совсем заброшенные, и на островах кроме монастыря и его скитов появились добротные, весьма зажиточные сёла, многие из которых даже не были приписаны к монастырю. Немногие, в том числе Сильвестр, знали, что, кроме деятельного управления игумена, процветанию монастыря и самых Соловецких островов способствовали крупные взносы царя Ивана Грозного, благоволившего Филиппу.
«Боится потерять благосклонность кровопийцы? — заключил Сильвестр. — Неужели и у него алчность взяла верх над духовностью?»
Ещё одна причина чваниться, по предположению Сильвестра, — знатность. И в самом деле эти служители церкви находились на разных сословных ступенях. Кто он, Сильвестр? Простой иерей, своим умом и своей настойчивостью достигший и этого чина и приближения к царю. А кто Филипп? Князь Колычев Фёдор Степанович. А род Колычевых издревле перворядный. Порвал он с мирской жизнью в юные годы из-за несправедливой опалы его ближних родственников, решив подвижничеством и молитвами исправлять жестокие нравы правителей. И не только их.
«Молится за спасение грешных душ других, сам же тешит свою гордыню?»
На следующий день, после обедни, игумен всё же соблаговолил позвать Сильвестра, прислав за ним служку. И тот серьёзно так:
— Поспеши. Настоятель с нетерпением ждёт тебя в своих палатах.
Какое лицемерие! Если бы спешил встретиться, давно бы позвал, а то и сам пришёл в келью. Однако медлить Сильвестр не стал и уже на ходу обдумывал первую фразу. Когда же вошёл в помещение, названное служкой палатами игуменскими, забыл всё, к чему готовился. Он предполагал увидеть роскошь, а оказался в почти обычной монашеской келье, только немного больше размером и посветлей. Лежанка — жёсткая, покрытая домотканым одеялом, столик возле изголовья со стопкой канонических книг, и только в красном углу поблескивают золотом и самоцветами оклады икон в ярком свете лампады и толстых восковых свечей.
«Свечи по случаю приёма?»
Перекрестился, приклонив колено перед иконостасом, прошептал: «Прости, Господи, мя грешного». Только после этого, распрямившись, Сильвестр обратился к игумену:
— Благослови, князь, на житьё в обители твоей чернецом грешным. Определи послушание.
Вроде обухом по голове это обращение к нему «князь», но Филипп всё-таки сдержал обиду, однако от намеченной беседы отказался.
— Благословлю, подумавши. Пока же успокой мятущуюся душу свою тихими молитвами. Ступай.
И Сильвестру это «ступай» словно укол шила в зад.
«Как рабу или слуге безмолвному: ступай!»
Вот так началась их долгая дружба. Не вдруг, конечно, они поняли друг друга. Первый шаг к откровенному обмену мнениями сделал игумен Филипп. Через пару дней он пришёл в келью Сильвестра. Осенив его, а затем и себя крестным знамением, спросил, устроившись на лавке:
— Отчего повеличал ты меня князем?
— По всему видно, не порвал ты с мирским, не подавил родовой гордыни. Игумен рода княжеского выйдет ли встретить иерея безродного?
— Вон ты о чём?
— Иное можно предположить: приветив опального, можно потерять благоволение Ивана Грозного, остаться без его вкладов.
Долго молчал настоятель. Наконец, вздохнув и осенив себя крестным знамением, пробурчал:
— Прости, Господи, его, грешного, ибо не знает, что творит. — Игумен ещё немного помолчал, и вот — заговорил. Спокойно. Уверенно. — Взносы царёвы — в пристанях и судах для рыбаков, в новых деревнях, в добрых дорогах от пристаней к ним, и ни копейки для меня или даже для монастырской братии. Мы живём по завету Христа нашего: по зёрнышку клюём и тем наедаемся. Не взят монастырём ни один вклад, особенно земельный, где бы ни оставляли его на помин души богатеи грешники. У меня же, кроме кельи, в какой ты по незнанию своему обидел меня, ничего нет. Поживёшь с нами, приглядишься, поймёшь многое. Вот тогда и судить сможешь праведно.
— Отчего же — чванство?
— Не чванство, но неприязнь. Ты переступил духовность священнослужителя, в сутане служа мирским страстям.
Время настало помолчать Сильвестру, осмысливая сказанное игуменом Филиппом.
— Господи, вразуми! — выдавил из себя, перекрестившись, Сильвестр и ответил вопросом: — Когда я был у трона, казнил ли хоть одного царь Иван Васильевич, перед тем лютовавший, как и теперь лютующий? Что ответишь? Помалкиваешь? И то сказать, правда она всегда — правда. В мирской славе, в стяжательстве меня тоже не обвинишь. Нет у меня ничего, кроме одеяния иерейского. Ни дворца, ни земель немереных. Что Господь Бог посылает, тем и доволен.
— Опричнина не по твоему ли совету? По злому умыслу, по верхоглядству ли, не столь важно. Вы с Алексеем Адашевым — крестные отцы невообразимого: Россия надвое разрублена, царь Грозный распоясался донельзя, руки его в крови по самые по локти! Священникам запретил молить о помиловании!
— Извратить можно всё. Довести до крайности. Наши советы разумны для управления державой.
— Дорогу в ад мостили благими намерениями?
Слово за слово — позиции Сильвестра и Филиппа исподволь просвечивались, взаимных обвинений становилось меньше, они всё более и более понимали, что ратуют за одно и то же, что твёрдо стоят на стороне нестяжательства, резко осуждают Ивана Грозного за кровожадное правление и его скоморошество, особенно же за попрание священных прав церкви судить себя только своим судом, и оба против вмешательства в дела духовных пастырей, и более того, против наделения государем себя правом не только судить служителей Господа своим судом, но даже мучить и казнить их, что особенно несносно.
В одном они не сходились: по-разному понимали роль пастырей в жизни общества, то есть всех без исключения сословий. Игумен Филипп стоял на том, что только смиренными молитвами, подвижничеством и проникновенным словом можно и нужно священнослужителям и монахам исправлять нравы верующих. Сильвестр утверждал иное: не одними молитвами и проповедями наставлять прихожан, особенно правителей, на путь истинный, но и твёрдостью, используя все формы воздействия, какими располагает церковь.
— Придай анафеме Ивана Грозного на Соборе иерархов Русской православной церкви, разве смог бы так распоясаться наш царь? Разве позволил бы себе вывести многие сотни на площадь для мучений и казни? Разве скоморошил бы, оплёвывая священные каноны? Разве травил бы медведями служителей Христовых?! А угроза проклятия? Именно этой угрозой смирил я юного Ивана, готового растерзать сотни, а то и тысячи совершенно невинных, искренне веривших, что они свершили праведный суд над поджигателями Москвы.
Долго длился тот первый разговор, за которым последовали еженедельные беседы двух умных и честных людей, болевших за всю страну, и постепенно, приводя весомые факты, Сильвестр убеждал Филиппа взглянуть на роль церкви с позиций деятельного её влияния на нравственный климат в России, особенно же в правительственных кругах, у царского трона и на самом троне. Не обходили они вниманием в своих беседах и насущные в то время вопросы церковной неурядицы — борьбы стяжателей с нестяжателями; и справедливо считали, что идёт та борьба не только за канонический порядок, а в основном за чины в церковной иерархии; да и борьба сама — это дело не только чисто церковное, но и вселюдное, поскольку направлена и на более справедливое распределение всех доходов между сословиями, а также против крепостничества, которое год от года, от правителя к правителю всё более утверждалось и уже будто бы воспринималось, как естественное право одного притеснять многих себе подобных.
Утешали они себя такими беседами? Или надеялись со временем воплотить в реальность свои идеалы? Вряд ли? Они не верили в чудеса. Они понимали, что здесь, на Соловках, они упокоют свои души, и отдавали все силы на ещё лучшее устройство жизни монашеской братии и всех жителей островов.
Весть из Москвы о смерти митрополита Афанасия Сильвестр и Филипп приняли однозначно:
— Слава Богу.
Афанасий был ярым сторонником Иосифа Волоцкого, сплотил вокруг себя подобных себе стяжателей-иосифлян, а царю потакал во всём. Это он принял условие Ивана Грозного, вернувшегося из Александровской слободы для объявления о введении нового порядка — опричнины и запретившего церкви мешать ему своими просьбами о помиловании тех, кого он определил казнить.
Не все иерархи Русской православной церкви согласились с этим, особенно упорствовал архиепископ Казанский Герман, который, кстати, имел добрую поддержку. Согласись тогда митрополит на созыв Собора, России, вполне вероятно, был бы обеспечен иной жизненный путь, но Афанасий, преклонный годами, не пожелал борьбы, не дал согласия на Собор.
Бог ему судья!
Но кто теперь, после его смерти, будет рукоположен на архипастырство? Понятно, что это весьма интересовало Филиппа и Сильвестра — они оба строили догадки. Однако как только Сильвестр заболел, вселенские заботы для него отступили на задворки. И всё из-за простуды. Игумен и опальный иерей попали в шторм, посещая дальний скит на самом северном острове. Заряды налетали снежные, а Сильвестр не посчитал нужным укрыться даже в надпалубной надстройке, не в пример Филиппу, который спустился в тёплую каюту. Сильвестра продуло основательно, и после возвращения в монастырь он слёг в горячке. Ни травные настои, ни перечные и горчичные пластыри не помогали, иерей таял на глазах и через несколько дней скончался.
Отпевание. Похороны. Впервые монахи увидели своего настоятеля плачущим. Однако он всё же сдерживался при монастырских братьях, зато в своей келье рыдал навзрыд. Тоска не отступала долго, и он не воспринял как следовало бы весть о том, что Иван Грозный определил на митрополитство архиепископа Казанского Германа, хотя знал о его неприятии опричнины. Игумен Филипп даже не задал себе вопроса, отчего так поступает государь.
А Грозному из доносов Тайного дьяка и особенно Малюты Скуратова было известно о разногласиях Германа с Афанасием, и о том знал царь, что именно Герман настаивал на Соборе. Не мог Иван Грозный не знать и того, что Казанский архиепископ — противник стяжателей, стало быть, не почитает царскую власть божественной, не подсудной церкви и наверняка станет противником царю в его неограниченном праве судить рабов своих, казнить или миловать; и несмотря на всё это, Иван Грозный вызвал Германа из Казани в Кремль, а следом созвал архиепископов и епископов для подписания избирательной грамоты.
На что надеялся Иван Грозный? Покорить столь высоким постом строптивца, запрячь его в свою телегу, в то же время заставить всех поверить в то, будто он изъявляет усердие ко благу православной церкви, намереваясь дать ей достойного архипастыря.
К рукоположению Германа всё было готово: архиепископы и епископы уже собрались в Москве, избирательная грамота готова, сам Герман живёт в митрополичьих палатах. Он, долгое время не соглашавшийся принять столь важный сан, в конце концов дал согласие и готовился к посвящению.
Расчёт Ивана Грозного на перевоплощение Германа, однако, не оправдался. В беседе с ним перед самым Собором царь понял: горбатого могила исправит: архиепископ гнул свою линию. Говорил он о царе как об отце подвластного ему народа, о суде праведном и неподкупном на Том Свете, где всё берётся во внимание; не преминул упомянуть и о вечной муке в аду злобных грешников. И ещё — о христианском покаянии.
В задумчивости вышел Иван Грозный из палат митрополичьих, и тут как раз навстречу Малюта Скуратов.
— Что расстроило тебя, мой государь?
Иван Васильевич пересказал разговор с Германом своему главному палачу и услышал в ответ:
— Хочешь иметь второго Сильвестра, да ещё в таком сане? Он станет ужасать тебя, лицемеря, намереваясь овладеть тобой. Гони его, пока не поздно!
— Ты, как всегда, прав. Вон его из палат архипастырских! Поганой метлой!
— Мне исполнять?
— А кому же ещё?
Изгнать — изгнали. Но долго ли церкви пристало оставаться без архипастыря? Вскоре выбор Ивана Грозного пал на настоятеля Соловецкого монастыря игумена Филиппа.
Трудно, почти невозможно ответить на недоумённый вопрос: почему? Царь только что казнил почти всех князей Колычевых, целые семьи извёл, и он наверняка предполагал, что те казни воспримутся одним из Колычевых не как благо; не мог не узнать Иван Грозный и о возникшей между Филиппом и Сильвестром взаимной приязни, об их долгих еженедельных беседах (царь не выпускал из виду ни одного из сосланных), и всё же остановил свой выбор на Филиппе.
Захотел вновь выставить себя перед Двором своим и всем народом беспристрастным правителем, который печётся о добром архипастыре для православных? Может быть?
В общем, верно современники отзывались об Иване Грозном, говоря, что он в своих поступках непредсказуем.
За Филиппом был послан пристав, которому не велено было говорить, чего ради вызвали игумена в Москву, и Филипп решил, что и для него, как почти для всех Колычевых, пробил последний час. Правда, не похоже всё-таки на опалу, ибо пристав проговорился, что приглашается игумен в Москву для совета духовного. Но Филипп, однако, словно предчувствовал, что не вернётся в свой монастырь живым — отслужил литургию, причастил всю братию и, поклонившись могиле Сильвестра, произнёс клятву:
— Что бы ни случилось, я не отступлюсь от нашей с тобой мечты, от идеалов, какие мы считали своим правом и своими обязанностями.
Только в Великом Новгороде игумен Филипп понял, что его ждёт великое: новгородцы встретили его дарами и мольбами, просили молвить царю слово о них, передать просьбу нижайшую, чтобы не разорял бы он впредь их города древнего, не лил бы христианской крови по прихотям своим.
Подобные встречи случились в Волочке, в Твери, в Клину, однако Филипп не мог твёрдо заверить, что исполнит их мольбы, ибо и сам не знал, чем окончится его поездка, что ждёт его в Кремле. Он отвечал неопределённо:
— Если Господь Бог даст мне такую возможность, я буду твёрдо стоять за добро и милосердие, против зла и насилия.
С замиранием сердца и не со спокойной душой подъезжал он к Кремлю, ибо знал, как все тогда в России, непредсказуемость царя, крутого на расправу. Понимал, всё будет зависеть от первой встречи с Грозным, от духовного совета ему: будет ли в угоду кровожадности — один исход; поперёк ли злодейской необузданности — совсем иной, смертельно опасный. Тут хочется или нет, а станешь обдумывать своё поведение при встрече с царём, будешь подыскивать слова, какие предстоит сказать ему.
«Что же, двум смертям не бывать. Пусть даже лютая казнь, но не стану потатчиком козлоплясу и кровавому пиру».
Встретили игумена Филиппа перед Фроловскими воротами бояре и митрополичий клир. С почтением проводили в палаты Ивана Грозного. Тот, смиренно склонив голову, попросил:
— Благослови меня, раба Господа Бога нашего, на душевную беседу перед рукоположением тебя на архипастырство.
Филипп благословил царя серебряным нагрудным крестом и спросил с удивлением:
— Ты молвил об архипастырстве, как о решённом тобой, но не избранном на Соборе архиепископов и епископов православной церкви Руси святой? Так?
— Ещё дед мой, Иван Васильевич, оставил за собой последнее слово при рукоположении митрополита, я же, уважая право, бытовавшее в Константинополе, преемницей которого стала Москва, намерен ввести подобное право и у нас: царь выбирает архипастыря, и царь его назначает. За Собором — согласие с волей царя.
— Но император византийский считался и главой церкви.
— Верно. И мы придём к тому же. Пока же у нас нет патриарха, мы пока — митрополия, но уже не под властью патриарха. Я решил сделать второй шаг, после деда моего, к патриаршеству. Ты пособишь духовным старанием успешному движению вперёд.
— Дай мне подумать, государь, прежде чем дать тебе согласие. Я же не знал о твоих намерениях.
— Хорошо, завтра жду после утренней молитвы.
И так, и эдак прикидывал Филипп. Самое лучшее для него — твёрдый отказ. А для православной церкви? А для России? Вдруг всё же сумеет он повлиять на царя, подвигнуть его к добру. Но как? Исподволь? Или сразу и твёрдо? Как в своё время поступил Сильвестр.
«Такую линию и возьму».
Наивность величайшая. Иван Грозный уже далеко не тот податливый юноша, кого припугнул проклятием Сильвестр, — заматеревший с годами, он не страшился ни Бога, ни черта, неукоснительно придерживаясь определённого направления: уничтожая Владимировичей, не понимая, что рубит сук, на котором сидит, что и в нём, тоже Владимировиче, есть малая кровь великого предка.
Линию поведения Филиппа при таком положении вещей можно назвать одним словом: подвиг.
Благословив Ивана Грозного нагрудным крестом на дела праведные, игумен Филипп без всякой робости и без всякого сомнения высказал свои условия:
— Приму, государь, по твоей воле архипастырство, если ты откажешься от опричнины. Соедини Русь святую в единое целое, усмири кромешников, верни людям право жить без страха, служителям же Христа верни право молиться и молить за осуждённых, особенно определённых на казнь.
Нахмурился Иван Грозный — явный признак того, что сейчас самым лучшим словом будет слово: «Вон!», а скорее всего прозвучит: «В пыточную!»
Филипп готов был и к тому, и к другому. Однако случилось чудо.
— Условия твои не приемлю. Прошу, смири гордыню. Даю время на раздумье.
Не выдворили Филиппа из палат митрополичьих, к удивлению почти всего двора и к великому неудовольствию стаи, окружавшей царя, хотя никто из них не пытался вмешиваться и влиять на царя. Бездействовал даже Малюта Скуратов, пока ещё не понявший истинные намерения своего господина, его тайное желание. Малюта не привык действовать наобум, как всегда осторожничал и выжидал время. И если в данный момент государь не приказывает заняться Филиппом, стоит ли лезть в пекло вперёд батьки?
Обошёл вниманием Иван Грозный Малюту, решив действовать иначе. Он, быть может, не отдавая себе отчёта, не хотел и на сей раз выглядеть гонителем добродетели, как им посчитают его, если он выгонит Филиппа из митрополичьих палат, как выгнал Германа. Царь подослал к игумену тех из иерархов церкви, кто искал мирской чести и раболепствовал перед ним, знал их хорошо. Особенно отличался в этом епископ Казанский Филофей. Вот с ним Иван Грозный и провёл тайную беседу, которой остался доволен.
— Есть епископы, одобряющие твёрдость Филиппа, но они сопят в две дырки, не смея рта раскрыть, — рассказал Филофей. — Я же стою за постулат Иисуса Христа: «Богу — богово, кесарю — кесарево». Ты, государь, есть наместник Господа на подвластной тебе земле и не подсуден церкви. Наш долг, Божьих служителей, не осуждать твои поступки, а с почтением, с преклонённым коленом воздавать должное твоей Богом данной власти. Так считаю я, и меня поддерживают многие, верно мыслящие епископы и архиепископы.
Видимо, Филофей, говоря это, надеялся услышать от царя решительные слова: «Быть тебе митрополитом!» — но Иван Грозный сказал иное:
— Ты и твои сторонники повлияйте на Филиппа. Убедите согласиться на митрополитство без всяких условий.
— Убедим! — с жаром воскликнул Филофей, хотя сердце его, кажется, опустилось ниже живота от досады, от рухнувшей надежды.
Поначалу он намеревался выполнять своё обещание царю без особого усердия, ни шатко ни валко, но подумав, не нашёл в этом ладности. Если уж сразу не остановил выбор на нём, нужно добиваться своего усердием. Оценит его государь, когда поймёт, каков Филипп на самом деле, гусь лапчатый. И Филофей развернул бурную деятельность, плодя вокруг себя тех, кому было любо наслаждаться богатой, как сыр в масле, и в то же время беспечной жизнью, взирая с высоты своего духовного достоинства на суету мирскую, пусть и кровопролитную для паствы.
Нажим на Филиппа начался нешуточный. День за днём, сменяя друг друга, сторонники Филофея твердили ему одно и то же: повинись воле государя и прими архипасторство без всяких условий, дабы не гневить Ивана Грозного дерзостью, а влиять на него угождением, кротостью. Такое влияние станет успешней, более заметно подействует на его душевное состояние, за которым последует переход от злобства к милосердию.
Долг святителя, убеждали они, молиться и наставлять царя единственно о спасении души, а не в делах мирских.
Всё это как раз и было тем, против чего у них с Сильвестром горели души, о чём беседовали, к чему стремились, оттого Филипп не мог согласиться с настойчивыми советами иерархов церкви. И всё же он отступил. Как определил для себя: временно, чтобы, получив сан митрополита, смело проводить в жизнь свои идеалы, добиться деятельного влияния церкви на жизнь люда христианского и особенно, на поступки имеющих власть.
Он согласился подписать грамоту, в коей сказано было, что вновь рукоположенный митрополит даёт слово архиепископам и епископам не вступаться в опричнину государеву и не оставлять митрополии под предлогом, что царь не исполнил его требований и запретил вмешиваться в дела мирские.
Игумен Филипп подписал грамоту, и её тут же, как торжество своей победы, преподнёс Ивану Грозному Филофей, за что удостоился ласкового слова царя.
Через несколько дней — 25 июля 1566 года — Филиппа возвели на митрополитство. Подготовку к такому важному событию москвичи и царёв Двор восприняли разноголосо: иным казалось, что Филипп отступился, а победу торжествовал Иван Грозный, и стало быть, ничего хорошего не жди. Сторонники заволжских старцев, нестяжатели, даже приуныли, иосифляне же ходили гоголем.
Филипп знал настроение и тех и других, особенно торжество опричной стаи, окружавшей трон, и готовился, как и положено было по канону сразу после рукоположения, произнести проповедь, да такую, чтобы весь православный мир России понял его твёрдость в борьбе со злом и поверил в неё. Нет, он не станет нарушать подписанное соглашение с иерархами церкви, он не будет хулить опричнину и не станет давать советы, как управлять державой, то есть, как и обещал, не прикоснётся к светским делам правителя, он лишь станет говорить только о добре и зле, о духовной чистоте помазанника Божьего, о его нравственности. Он, конечно, вполне представлял, какие последствия могут за этим последовать, но решил без колебаний проводить именно ту линию, о которой они с Сильвестром мечтали.
Когда он начал проповедь, все честные патриоты, болеющие душой о благе России, а не о своей мамоне, воспряли духом, кромешники же заскрежетали зубами от злобы, пока бессильной.
Новый митрополит хотя ни разу не назвал имя Ивана Васильевича, но было понятно — именно для него проникновенные слова митрополита Филиппа. Он говорил о долге правителей быть отцами подданных, блюсти справедливость, уважать достойных и их заслуги. С особой строгостью зазвучала проповедь, когда Филипп заговорил о вреде державам, если к трону прилепляются, как банные листы, те, кто служит не отечеству, но страстям, кто хулит искренность, возносит достойных хулы.
Более всего, однако же, митрополит Филипп своей речью словно старался предупредить Ивана Грозного, сколь бренно земное величие; говорил вдохновенно о победах невооружённой любви, которые приобретаются государевыми благодеяниями и которые ещё славнее побед ратных. Подобное давно не звучало в этом храме. И в других тоже.
Все, кто находился рядом с Иваном Грозным, внимательно наблюдали за ним, не вспыхнет ли он гневом; но всем казалось, что царь внимает архипастырю с благоговением.
И в самом деле, проповедь невольно перенесла грозного царя в годы юности, когда он под влиянием добрых наставников, особенно Сильвестра и Адашева, вкушал истинную сладость доброго правления и, должно быть, теперь в душе его шевельнулось раскаяние. Такой вывод можно было сделать из того, что к радости всех честных людей царь приласкал митрополита; кромешники с собачьими мордами на луках присмирели и уже не действовали безконтрольно. Казалось, задремало чудище, и наступает благодатная тишина. Какая бывает перед страшной грозой. Воздух спит. Нет даже лёгкого дуновения. Ни лист на дереве, ни травка на земле не шелохнутся. Лишь одно настораживает; замолкли пташки, только что весело и разноголосо щебетавшие.
Тишина эта благодатная будто предупреждала: жди бури.
И в самом деле, проницательные вельможи да и простые московские обыватели вполне понимали, что не станут дремать кромешники, которых Иван Грозный не отдалил от трона. Оттого и притуплялась радость первых дней, рассыпалась надежда, что новый митрополит, подобно Сильвестру, повернёт грозного царя к добру и благости. Лучше попрятаться по своим дворам и замолкнуть, как делают это птички божьи, предчувствуя грозу.
И гроза в конце концов налетела. Со страшной бурей. Предвестником её стали вроде бы не подсудные поступки ряда князей. Дело в том, что Россия и Польша противостояли друг другу не только с оружием в руках, между ними было противостояние, которое мы теперь назвали бы холодным. Каждый правитель старался напакостить другому.
Так за подписью Сигизмунда и гетмана Ходкевича были присланы тайные письма перворядным князьям Бельскому, Мстиславскому, руководителям земщины, Воротынскому и конюшему Фёдорову с приглашением переметнуться на сторону Польши. Им обещалось за это владетельное, а не служебное право, богатство и почёт.
Списки посланий сразу же оказались в руках Тайного дьяка (царь находился в Александровской слободе и Малюта Скуратов с ним), а следом и списки ответов. Во всех — резкий отказ. Злобный. Мягче всех ответил конюший Иван Фёдоров: «Как мог ты вообразить, чтобы я, занося ногу во гроб, вздумал погубить душу свою гнусной изменой? Что мне у тебя делать? Водить полки я не в силах, пиров не люблю, веселить тебя не умею, пляскам вашим не учился. Чем можешь обольстить меня? Я богат и знатен. Угрожаешь мне гневом царя: вижу от него только милость».
Всё вроде бы достойно, только вот одна беда: никто из получивших такие письма не поспешил с ними к царю, дабы показать и их, и свои ответы. Каждый, оставшийся верным присяге, считал лучшим дождаться приезда Ивана Грозного в Кремль, и тогда уж известить о коварстве Сигизмунда. За них это сделал Тайный дьяк. Он самолично привёз государю списки и писем Сигизмунда с Ходкевичем, и ответов на них.
— Твёрдыми оказались князья и конюший, — с долей гордости за них определил поступки князей Тайный дьяк.
— Твёрдыми? Ты даёшь голову на отсечение за такую свою оценку, — спросил с ухмылкой Малюта Скуратов и сразу с подобострастием обратился к Ивану Грозному: — Прости, государь, что я не доложил тебе прежде Тайного дьяка. Я пока не уверен в своей оценке, но у меня есть подозрение, что они в сговоре.
— Но они вот с каким возмущением отказали Сигизмунду, — сказал своё слово Иван Грозный. — Впрочем... Отчего они не поспешили ко мне?
— Вот-вот. Это меня и смутило, — подхватил Малюта Скуратов, который, находясь в Александровской слободе, слыхом не слыхал ни о посланиях, ни об ответах, но ловко играл роль всевидящего и всеслышащего. — Я уже велел своим людям повнимательней приглядеться к получившим приглашение переметнуться в Польшу. Почему именно им эти послания пришли? Дыма без огня не бывает.
— Разберись, Малюта, верный мой советник. Проведи розыск.
Ускакал Малюта Скуратов в Москву, вернувшись через неделю, доложил:
— В заговоре они. Но не в твёрдом единстве. Каждый из них рвётся к трону, соперничая друг с другом. Митрополит Филипп с ними заодно. Они наставили его выступить против опричнины твоей, чтобы обессилить тебя, и тогда легче им станет захватить трон. Как поступить? В пыточную?
— Пока не время. Бельский, Мстиславский и Воротынский мне пока нужны. Глаз только за ними усиль. А с конюшим Фёдоровым я сам объяснюсь.
Понятно. Стало быть, придумано что-то новенькое. Потешное и назидательное.
Со всей свитой поспешил Иван Грозный в Кремль, послав впереди себя гонца с повелением к его приезду собрать весь Двор на Соборной площади, поставив у Красного крыльца трон, специально сработанный и очень похожий на настоящий, тот, что стоял в малой тронной палате. Все придворные в страхе съёжились: что ещё удумал царь Грозный? Кого ждёт кара? Или — милость?
На милость никак не похоже.
Не ошиблись, ожидая худшего. Сам Малюта Скуратов облачил конюшего Фёдорова в царские одежды, сам бережно усадил на стоявший у Красного крыльца трон; Иван Грозный, подойдя к трону, смахнул шапку и — с низким поклоном:
— Здрав будь, великий царь земли Русския! Се принял ты от меня власть, тобою желаемую! — распрямился, гневно сверкнув очами. — Но имея власть сделать тебя царём, я могу и низвергнуть с престола!
Взмахнул Иван Грозный ножом и ударил им Фёдорова, целясь в сердце.
Опричники тут же искромсали старца на куски, выволокли останки за ворота Кремля и бросили их под стеной на съедение бродячим собакам. Затем, во главе с Малютой Скуратовым, они поскакали в дом конюшего Фёдорова и умертвили его жену Марию, старую богомольную христианку, славную своим милосердием.
Следом, как обычно, пошли казни многих так называемых участников заговора: князей Ивана Куракина-Булгакова, Дмитрия Ряполовского, трёх князей Ростовских и Петра Щенятева. Его, как повествует Андрей Курбский, с особой жестокостью жарили на сковороде.
Полностью уничтожили семью казначея Тютина: его самого, его жену, двух сыновей младенцев и двух дочерей, юных красавиц, рассекли на части. Ту казнь свершил Михайло Темгрюкович Черкасский.
Многих других именитых людей опричники умерщвляли, когда те, ничего не ведая, шли в церкви или в свои приказы на службу. Человек по двадцати в день. Трупы оставались лежать на улицах и площадях, ибо никто не смел погребать их.
А в завершение, как уже вошло в обычай, кромешники, во главе с князем Афанасием Вяземским, Малютой Скуратовым, Василием Грязным, понеслись по усадьбам казнённых, хватали их жён и дочерей на выбор Ивану Грозному; он избрал некоторых для себя, других уступил любимцам. Ездил с ними вокруг Москвы, жёг усадьбы бояр опальных, казнил их верных слуг, даже истреблял скот, особенно в коломенских сёлах убитого конюшего Фёдорова. Натешившись, возвратился в Москву и велел развезти жён по их домам.
Некоторые из них умерли от стыда и горести.
А что же митрополит Филипп? К нему с мольбами шли отчаявшиеся бояре. Рыдали. Он утешал их именем Отца Небесного. Дал им слово не щадить своей жизни ради спасения людей и сдержал его.
При каждой встрече митрополит Филипп увещевал Ивана Грозного, но эти увещевания совершенно не действовали на царя, он всё чаще избегал общения с архипастырем, и тогда Филипп решился на публичную выволочку. Иван Грозный вроде бы понял намерение митрополита и сам дал ему повод очередным скоморошеством: одев своих кромешников в чёрные ризы и высокие шлыки[39], вошёл с ними в соборный храм Успения; Филипп находился на своём месте по чину его, Иван Грозный приблизился к нему, почтительно склонив голову в ожидании благословения, но митрополит повернулся к лику Спасителя и молчал. На него зашикали:
— Или не видишь, что государь земли Русской перед тобой?!
— Благослови государя!
— Где государь? — с нарочитым удивлением вопросил митрополит. — Не вижу.
— Да вот же он! Не юродствуй!
— Истину говорю вам: в таком одеянии, оскверняющим храм Божий, не может быть государь. Не узнаю его. Не узнаю и по делам его. Где видано, чтобы благочестивые государи не почитали святость храма Божьего? Чтобы возмущали державу столь ужасно?! Не благословения достойны подобные правители, но осуждения! Мы здесь возносим молитвы к Господу Богу о прощении грехов по неведению своему свершаемых, за алтарём же льётся кровь невинных христиан, и зло сие творится ведомо. В самых неверных языческих странах есть законы и правда, есть милосердие к людям, в России нет ни того ни другого. Достояние и жизнь христиан праведных не имеет защиты. Везде грабежи, везде убийства, и совершаются они, — Филипп прожёг Ивана Грозного огненным взглядом, — твоим именем царским! Ты высок на троне, но есть судья Всевышний наш и твой. Как предстанешь на суд его, обагрённый кровию невинных, оглушаемый воплями их муки?! Сами камни под ногами твоими вопиют о справедливости и милосердии! Я, как пастырь душ, не страшусь тебя. Страшусь только Господа единого!
— Чернец! — взвился Иван Грозный. — Излишне я доселе щадил вас, мятежников, желающих трона! Отныне буду ещё беспощадней! Господь Бог не осудит меня, а даст мне силы и своё, а не твоё, чернец, благословение!
Тихо-тихо стало в храме. Слышно, как потрескивают восковые свечи, над которыми колышутся язычки пламени. Сейчас крикнет: «В оковы! В пыточную!» Нет. Резко повернувшись, поспешно вышагал царь из Успенского собора. Толпа в чёрных ризах и в высоких шлыках на головах заторопилась за своим благодетелем, недоумевая, отчего не велел он им скрутить дерзкого служку.
Со следующего дня начал успокаивать гнев свой Иван Грозный: приступил к очередной серии казней. Одним из первых поплатился за смелые слова митрополита князь Василий Пронский. По воле царя оковали весь клир митрополичий, терзали сановников церковных в пыточных, дабы выведать тайные замыслы Филиппа, не рвётся ли он к трону, как князь Колычев, а если не сам жаждет трона, то кому потворствует свершить подобное.
Ничего не смогли выведать. Да вполне возможно, не очень стремились иметь такие сведения: не осмеливался ещё царь поднять руку на архипастыря, чтимого и весьма любимого народом более, чем кого-либо прежде из святителей. Но царь Иван Васильевич не был бы Грозным, если бы не затаил злобы и не готовил бы мести, хотя всё же не спешил с ней. Имел терпение.
Предлог к расправе нашёлся. Вернее, его «нашёл» Малюта Скуратов, и план расправы с радостью был одобрен Иваном Грозным.
На день святых апостолов Прохора и Никодима, 28 июля, митрополит Филипп служил в Новодевичьем монастыре и шёл во главе крестного хода вокруг стен обители. Присоединился к нему и царь с опричниками, один из которых шёл в скудейчатой бархатной шапочке, являвшейся знаком отличия для белого духовенства. Митрополит, как и предполагали устроители фарса, возмутился и с негодованием сказал царю о греховном поведении его слуги. Однако опричник успел спрятать свою тафью[40], остальные же опричники, да и Малюта Скуратов, начали с жаром убеждать царя, что митрополит говорит неправду, дабы возбудить души верующих против опричников, верных слуг государевых.
Иван Грозный наигранно вспылил. Будто бы забыл все пристойности:
— Ты, чернец, лжёшь! Ты — пастырь мятежников! Ты сам — злодей из злодеев! Я клянусь, что выведу тебя на чистую воду! Народ узнает, какие чёрные мысли роятся под сияющей драгоценными каменьями митрой!
Вторично брошено прилюдное обвинение — есть оправдание очередному злодеянию. Можно приступать к делу. Грозный знал о тайной ненависти своего духовного отца протоиерея Ефстафия к Филиппу, который заступил ему путь, как он считал, к сану святительскому, вот и обратился к тому за советом. А у Ефстафия он был готов.
— Пошли меня в Соловецкую обитель. Я добуду ковы Филиппа против тебя, сын мой.
— Нет. Ты — при мне. Скажи: кого послать, чтобы надёжно и с языком за зубами. И чтобы не я с ними беседовал перед отъездом, а ты с Малютой Скуратовым.
— Есть такие. Верные тебе по завету Господа пастыри: епископ Суздальский Пафнутий и архимандрит Андронникова монастыря Феодосий.
— Достойны. Из светских к ним определю князя Василия Темкина.
Была ли необходимость искать так далеко гнусных клеветников, и в Москве при желании набралось бы достаточно, даже без пыточной, но Иван Грозный намеревался очернить образ Филиппа, там где был источник славы митрополита, там следовало открыть его лицемерие и нечистоту душевную — царю эта мысль казалась ловкой хитростью, которая позволила бы безоговорочно оправдать перед христианским миром расправу со столь знатным служителем Господа.
Посланцы Ивана Грозного, прибывшие в Соловецкий монастырь, из шкуры лезли, чтобы угодить государю. Не гнушались они ни ласками, ни угрозами страшных пыток, но монахи твердили одно и то же:
— Митрополит Филипп свят делами и сердцем.
И всё же нашёлся один клеветник, более всех прежде уважаемый Филиппом и даже по просьбе же самого Филиппа занявший его место настоятеля — игумен Паисий. Он в клевете увидел возможность выдвинуться в епископы, а то и получить сан архипастыря.
Привезли Паисия в Москву. Он на Соборе иерархов церкви повторил всё, что сам навыдумывал и что ему услужливо подсказали. Митрополит Филипп смиренно слушал клевету, не оправдываясь, только сказал игумену-клеветнику, когда тот умолк:
— Злое сияние не принесёт тебе плода вожделенного, — повернувшись к Ивану Грозному, который присутствовал на скоморошьем игрище, подал ему жезл пастырский и заговорил твёрдо: — Ты считаешь, государь, что я боюсь тебя? Не боюсь я и смерти. Лучше умереть невинным мучеником, нежели в сане митрополита терпеть ужасы и беззаконие сего несчастного времени. Твори, что тебе угодно, без моего благословения.
Сделав малую паузу, давая тем самым понять, что с государем у него больше нет никаких дел, обратился к собравшимся слушать клевету на него:
— А вы, служители алтаря, пасите верно стадо Христово! Готовьтесь дать отчёт о делах своих Всевышнему! Страшитесь царя небесного, ещё более земного!
Филипп снял белый клобук и мантию митрополита, хотел отдать их царю и удалиться, но Иван Грозный остановил его:
— Не тебе судить себя! Жди суда Собора!
Царь своим словом принудил его облачиться в святительскую одежду и продолжать архипастырскую службу.
Расправу Иван Грозный назначил на день архангела Михаила — 8 ноября. Назвал он расправу назидательной. В храм Успения, в самый разгар торжественного богослужения ворвались опричники в доспехах во главе с Фёдором Басмановым. Он держал в руках свиток. Народ, битком набившийся в храм, несказанно удивился такому святотатству, но это было лишь началом трагического фарса.
— Читай! — ткнул свиток псаломщику Басманов. — Читай во весь голос!
Псаломщик, спотыкаясь на каждом слове, начал читать приговор Собора духовенства Филиппу. По этому приговору его лишали архипастырского сана за государственные измены — псаломщик ещё не закончил читать, а опричники уже срывали одежды святительские с Филиппа. Облачив его в ветхую ризу, погнали из храма мётлами, делая вид, что заметают даже следы его.
Затем увезли обречённого в обитель Богоявления.
На следующий день привезли Филиппа в Судную палату, где находился сам Иван Грозный, приехавший послушать, как он сказал, приговор. А приговор — ни в какие ворота не лезет: не в измене винили митрополита, а в колдовстве, в волшебстве. Определили жить Филиппу до конца дней своих в заточении.
Свергнутый митрополит поклонился судьям, своим бывшим подчинённым, и заговорил великодушно:
— Благодарю Бога за милость его ко мне, грешному. Благословляю вас, пастыри духовные, слуги Господа, на праведность. Тебя же, государь Грозный, молю: сжалься над Россией, не изводи лучших сынов её. Не забывай о Суде Божьем. Я же стану денно и нощно молиться о справедливой каре Божьей за грехи твои, за злодеяния и кровожадность.
Более недели сидел Филипп в темнице монастыря святого Николая Старого, Иван же Грозный в эти дни истреблял род Колычевых, не щадя ни женщин, ни детей малолетних. Он самолично принёс Филиппу отрубленную голову его любимого племянника Ивана Борисовича.
— Се обожаемый тобой сродник. Ему ты готовил русский трон!
Филипп принял голову, поцеловал её в губы и, благословив, вернул её Ивану Грозному без слов.
Меж тем Москва прознала, что низверженный митрополит Филипп, ими обожаемый как никто иной, заточен в обители Николаевской, и верующие в Христа начали толпами ходить у стен монастырских, пытаясь определить, в какой келье страдает несчастный, так страстно радевший о пастве.
Малюта Скуратов, не решавшийся разгонять толпы силой, известил Ивана Грозного.
— Людишки московские возмутиться могут. Убери Филиппа подальше.
— Я и сам о том думал. Отвези его в Отроче монастырь, что в землях Тверских.
— Исполню.
Взяв с собой на всякий случай пару сотен опричников, Малюта повёз Филиппа в упрятавшийся в лесной глухомани монастырь. Тогда он не обратил внимания на опасную безлюдную дорогу, ведущую к монастырю, — она испугает его во вторую поездку по ней, когда Иван Грозный по пути в Великий Новгород для расправы над городом возжелает, чтобы Филипп благословил его на месть новгородцам за их измену. На самом деле — мнимую.
Легкомысленно Малюта взял с собой всего лишь дюжину телохранителей, когда же втянулся в глухую лесную дорогу, основательно оробел. Нет, он не ждал засады по пути в монастырь, а вот при возвращении могло случиться всё, что угодно, ведь поначалу он предполагал увезти Филиппа в Александровскую слободу, где продержать до возвращения государя из карательного похода и уже при нём казнить упрямца. Жестоко. Сжечь, например, на медленном костре или поджарить на вертеле. Подобное особенно к душе Грозному.
«Всё так, только монастырская братия отбить его может. Доспехов в монастыре достаточно, ратной ловкости чернецам не занимать. Лучше — расправа на месте».
Однако и в этом случае не исключена засада. Побьют, налетев кучно, и — концы в воду.
Решил схитрить Малюта Скуратов. В монастыре спешился сам один, телохранители же остались в сёдлах, готовые в любой момент выхватить из ножен мечи. От благословения настоятеля не отказался, но на его просьбу увести всех коней за ворота монастырские ответил отказом.
— По воле я государя нашего. Получу для него благословение Филиппа и — обратно. Предлагал я привезти его в Тверь, чтоб самолично благословил, но государь сжалился над старцем: посильна ли, мол, для него такая дальняя дорога?
— С Богом.
Ну, что же: с Богом, так с Богом. Пошагал к келье один, остановив поднятием ладони собравшихся проводить его настоятеля и нескольких монахов. Один и вошёл в келью.
Филипп встретил кровожадного палача спокойным вопросом:
— На расправу?
— Так уж и на расправу? Я по воле государя нашего приехал, чтобы получить твоё ему благословение на поход в Великий Новгород карать измену.
— На кровавый пир нет моего благословения.
Уговаривать у Малюты нет времени — облапил он своими ручищами тщедушную шею старца и начал сдавливать её — Филипп задёргался в конвульсиях, и Малюта дал чуточку воздуха.
— Благослови!
— Нет.
Снова сжимаются лапищи палача; вновь глоток воздуха.
— Благослови!
— Нет.
Сдавил с остервенением шею старца безгрешного, а когда тот обмяк вовсе, прислонил его к стене. Выскочил посланник царя из кельи и с напускным гневом налетел на настоятеля коршуном:
— Кто приставлен к праведнику Филиппу?!
Настоятель с перепугу забыл имя чернеца, получившего послушание прислуживать опальному митрополиту.
— Что?! Нет такого?! Он отдал Богу душу, а ты не ведаешь о том?! Доложу если государю, не поздоровится тебе!
Перепугал Малюта Скуратов всю братию. Ещё и удивил несказанно, что решил остаться на похоронах, чтобы бросить, как он сказал, от имени царя и от себя пригоршни земли на гроб честного пастыря христианского воинства.
Какое кощунство! Все поняли, что произошло в келье, но никто не смел открыть рта. Безропотно приняли коварную игру главного палача опричнины. Приняли, испугавшись за свои жизни.
МИХАИЛ ВОРОТЫНСКИЙ
Никакого повода, казалось бы, для беспокойства у князя Михаила Ивановича Воротынского не было, да и не могло быть. Ему бы гоголем держаться и через губу не плевать, но та тревожность, какая возникла ещё при въезде в Москву после великой победы над Девлет-Гиреем, не проходила вот уже несколько месяцев.
Князь Воротынский не подгадывал время, чтобы въехать в Москву после победы специально на Рождество Пресвятой Богородицы, он, можно сказать, упустил подобное совпадение из виду. И вот при подъезде войска победителей к Скородому[41] зазвонили колокольни всех московских церквей, созывая христианский люд на праздничные молебны, а ратниками воспринялся тот звон славицей в их честь.
С завидной быстротой понеслось от дома к дому, от улицы к улице весть о прибытии освободителей от татарского нашествия, и народ повалил не в церкви, а на улицы, по которым ехал князь Михаил Иванович со своей малой дружиной, за которой следовали Опричный полк и иноземные наёмники Фаренсбаха. Ликовали все. Даже священнослужители, покинув опустевшие церкви, с великой радостью осеняли героев массивными серебряными крестами, размахивали кадилами и кропили воинов святой водой. Женщины, вовсе не беря во внимание греховность поступков, смахивали с голов узорчатые платы и стелили их под копыта коней. Цветы охапками летели на ратников, даже на опричников, о развязности, распущенности и злодействе которых москвичи напрочь забыли.
Ничего подобного Михаил Иванович прежде не видел. Даже когда он возвращался вместе с царём в Москву после покорения Казани, радость людская не перехлёстывала вот так, через край.
Поначалу только гордость за себя, за свою дружину, за соратников-соколов, за всю русскую рать вольно или невольно воцарялась в душе, но вот в эту гордость, законную, заслуженную, вплеталась непрошеная тревога. Вполне обоснованная, ибо князь понимал, что вот так же лихо, безбрежно не станет ликовать Москва, когда воротится в неё царь Иван Васильевич, который вместо того, чтобы самому выйти со своим войском на Оку, уехал в Новгород, увезя с собой не только семью, но и казну. Предлог: собрать дополнительно полки и поспешить с ними на помощь тем, кто встретит тумены Девлет-Гирея. Людей, однако же, не обманешь. Они понимают, хотя и помалкивая, всё правильно. Только не совмещаются эти понимания с царскими: любая победа — победа лично царя, и слава — только ему. Если же что не так, виновные окажутся в опале. На расправу царь Иван Васильевич Грозный весьма скор.
Отмахивался князь Михаил от тревоги, мешавшей полной душой распахнуться ответно на торжество людское, только она цепко держала его в своих тенётах. Впрочем, знай он, что после великой победы на свемной сече пошло не так, как он предполагал, обеспокоился он ещё сильнее. Донести царю о победе послал Воротынский Косму Двужила, надеясь, что царь на радостях удостоит отличного воеводу более высокого чина. Посылая воеводу своей дружины, князь Михаил как бы подчёркивал, что считает победу над крымцами и ногайцами не своей, а победой самого царя, он же, воевода царёв, лишь исполнил царскую волю. Двужила, однако, в Москве перехватили: Разрядный приказ, князья Юрий Токмаков и Тимофей Долгоруков, коих царь оставил оборонять стольный град, отрядили в Великий Новгород князя Ногтева и дьяка Давыдова, научив их, с какими словами преподнести Ивану Васильевичу два саадака и две сабли Девлет-Гирея, которые Двужил вёз в подарок царю. Но об этом князь Михаил Воротынский узнает позже, и тогда тревога его, вполне понятно, усилится.
Въехал победитель в Кремль через Фроловские ворота, отправив прежде малую дружину в свой Китайгородский теремной дворец, предполагая, что семья его в кремлёвском доме. За ним, оттесняя опричный полк, протискиваются толпы москвичей — затор даже в воротах — чуть не до смертушки сдавливают друг друга. Всем хочется успеть увидеть, как встретят воеводу-победителя митрополит, думные бояре и князья.
На Соборной площади вся знать кремлёвская. Бояре и князья тоже рады, что их земли, их дворцы не разграблены татарскими ордами, но у многих зависть перебарывает эту радость, вот и получилась встреча с явно наигранным восторгом.
Князь Юрий Токмаков даже не сдержался и буркнул князю Долгорукову:
— И без того муж ближний, теперь на козе не подъедешь.
— От нас многое зависит, — ответил Тимофей Долгоруков. — Мы первый шаг сделали, остановимся ли?
А сами низко поклонились князю Воротынскому, когда тот, спрыгнув с коня, поклонился поясно боярам и князьям.
Обмен приветствиями, поздравления с успешным исполнением воеводского урока (победа не его, победа царёва), и Токмаков, на правах оставленного Иваном Грозным старшим в Кремле, снисходительно дозволил:
— Ты, князь, волен отдыхать, ожидаючи возвращения царя-батюшки. Семья твоя уже переехала из Кремля. Банька, должно, ждёт тебя.
— Недосуг мне, князь Юрий, прохлаждаться. Урок царёв и Боярской думы исполнять самое время. Ковать железо нужно, пока оно не остыло.
— Ну, гляди. Сам если решишь, самому и ответ держать.
— Чуть ли не угроза.
«Ладно, отвечу. За угодное державе дело что может быть, кроме милости царской».
Всего несколько дней провёл князь Воротынский в своём теремном дворце, окружённый заботой и лаской. Расслабился. Отступило то безмерное напряжение, какое было всё время противоборства с Девлет-Гиреем и его лашкаркаши Дивеем-мурзой, которое ещё усугублялось упорным непониманием тактического замысла воеводы и даже строптивостью. Воротынского винили в медлительности, а иные горячие головы даже в трусости. Всё это далеко позади, можно оттаивать душой без всякой оглядки. Однако тревога не выветрилась вовсе, и нет-нет и давала о себе знать. Правда, мимолётно.
Особенно напомнила она о себе во время разговора с княгиней, когда он поделился с ней своими дальнейшими планами.
— Ты бы, князь мой ненаглядный, обождал бы царя Ивана Васильевича, — проговорила она и добавила, окатив призывным взором: — Иль ласками моими пресытился?
Князь вполне оценил и её мудрый совет, и её женскую уловку, готов был отрешиться от всего ради счастья быть всё время с женой и детьми, особенно с сыном, который рос крепким и умным, но не мог Воротынский не понимать того, сколь опасно медлить с выставлением застав и крепостей на намеченных и утверждённых царём порубежных линиях. Время упустишь, Османская империя, оказав Крыму помощь, вполне может побудить его противодействовать устройству твёрдых границ с засечными линиями. Конечно, большого похода ждать не приходится, зуботычину крымцы и ногайцы получили увесистую, но на малочисленные сакмы[42] у них наберётся вполне достаточно смелых мужей, и польётся кровь тех, кто станет ладить сторожи, возводить крепостицы. Ущербно такое для России. Неужели это не понятно?
У княгини иное мнение:
— Я преодолею свою тоску в разлуке с тобой, не во мне дело. Царя Ивана Васильевича тебе бы дождаться. А то и навстречу ему поехать, коль не желаешь в опальные угодить. Белоозером в лучшем случае всё может окончиться. Иль завистников у тебя мало? Шуйские все до одного, но более опасные — Бельские. Малюта, мнится мне, спит и видит тебя под топором палача.
— Знаю. Да и сердце-вещун беспокоится. Вот и теперь оно тебе поддакивает, но разум не потакает ему. Сколько героев осталось под Молодями навечно? Не ради ли того, чтобы без риска укрепить рубежи отечества нашего? До зимы нужно не только доставить срубы к местам, им определённым, но и собрать. Всю зиму засеки ладить, до весны завершив. Вот тогда пусть Степь локти кусает. Не успеем если, степняки пойдут сакмами перечить устройству порубежья. Снова — жертвы. А чья вина? Моя. Воеводы порубежной стражи. Могу ли я позволить себе подобное, превращаясь из воеводы в лизоблюда, царедворца?
Горестно вздохнула княгиня, уткнувшись головкой в широкую грудь мужа. Она любила, она боялась потерять своего любимого и едва сдерживала рыдание.
— Пойми, не могу я иначе, — прошептал супруг.
Уже через день он подался во Владимирские леса, где рубили крепость Орел, взяв с собой только малую охрану и Фрола Фролова, своих же бояр, князя Тюфякина, дьяков Ржевского, Булгакова и Логинова, разослал по всем иным местам, где уже были подготовлены к отправке либо рубились сторожи с крепостицами. Наказ один: без малейшего промедления сплавлять срубы реками, везти обозами к назначенным им местам.
— Самое выгодное время, — внушал князь своим соратникам. — До весны мы обязаны встать прочно на всех новых рубежах.
Он почти не слезал с седла, и где бы ни появлялся, везде его встречали колокольным звоном, славили с церковных амвонов, давая понять, что не токмо от своей благодарности, и по воле царя Ивана Васильевича Грозного. Это вдохновляло. Князь не ведал усталости. Загонял он и своих бояр. Тревожность душевная вовсе, как ему виделось, отступила, хотя ему было не до копания в своём настроении, его мысли только мимолётно обращались к Кремлю, ибо он был занят делом. Правда, Фрол Фролов довольно часто корил князя-воеводу, что не оставил в Москве хотя бы князя Тюфякина, дабы тот присылал вести о делах кремлёвских, но Михаил Воротынский всякий раз отмахивался:
— Не нуди. Возвратимся, все новости окажутся нашими.
Полный месяц миновал, пока всё сладилось по уму, пока по рекам и прямоезжим дорогам густо двинулись на юг срубы вместе с артелями плотников и столяров, большинство из которых отправились в путь с семьями, чтобы обосноваться на новом месте. Настало время спешить в Москву, торопить Разрядный приказ со сбором всей порубежной рати.
Странное дело, чем ближе князь Воротынский подъезжал к Москве, тем упорней радость предстоящей встречи с семьёй оттеснялась непрошеной тревожностью, предчувствием чего-то из вон выходящего.
Коломенское. Состояние такое, что в пору поворачивать коня и скакать без оглядки в свой самый дальний удел, однако князь-воевода пересиливал себя, желая избавиться от столь странного состояния, пытаясь хоть как-то понять, отчего такая напасть? Увы, без всякой пользы. Да и откуда взяться пользе — он совсем не знал, что произошло за время его отсутствия в столице.
Впрочем, об этом ему так и не суждено узнать.
Фроловские ворота. Ещё немного, и он предстанет перед царём Иваном Васильевичем, которого уже оповестил о времени своего прибытия и готовности доложить обо всём, проделанном за месяц, а заодно рассказать и подробности свемной сечи с Девлет-Гиреем. Вот тогда и встанет всё на свои места.
Увы, лишь только князь миновал воротниковую стражу, не успев даже удивиться их необычной насупленности, как дюжина опричников оттеснила телохранителей, а перед мордой коня вырос, словно из-под земли, дьяк Казённого приказа и, взяв княжеского коня под уздцы, произнёс грозно:
— Волей государя пойман ты еси, князь Михаил, — и добавил с ухмылкой: — Отъездился, князь.
Не то чтобы обухом по голове — комлем тарана в сердце. Со всего размаха.
«За что?!»
Воротынского, грубо подхватив под руки, можно сказать, поволокли как падшего разбойника на Казённый двор, где ждали князя кузнецы с тяжёлыми оковами. Ловко, не привыкать им, закрепили цепные браслеты на руках и ногах, впрочем, не причинив никакой боли, что было необычно, и стражники повели его по ступенькам вниз, в подземелье. Подведя к массивной кованой двери, которая была предусмотрительно распахнута, проговорили с ухмылкой:
— Входи, князь Иван, в покои свои.
Он оказался в той самой конуре, в которую отца и их, сыновей его, сажала правительница Елена Глинская. Вернее, полюбовник её, князь Овчина-Телепнев. Здесь, в этой камере, скончался на руках его и брата Владимира их отец, не перенёсший позора. Здесь они с братом сидели долго-долго, не освободили их даже после того, как окончила жизнь блудную свою Елена Глинская, а полюбовник её был свержен. Только когда чуточку подрос и начал набирать державную силу царь Иван Васильевич, замолвил за опальных братьев слово митрополит.
Но тот арест, те пытки, всё то злодейство можно хоть как-то понять, не оправдывая, конечно, его — это была месть правительницы за то, что князь Иван Воротынский противился женитьбе на ней царя Василия Ивановича. Но он из любви своей к России не мог поступать иначе.
Кто такие Глинские? Они из рода темника Мамая, охотника за Российским троном. Мамай — не чингизид, поднявшийся на высоты власти в Золотой Орде смелыми интригами и талантом воинским, был разбит Дмитрием Донским, который после столь знатной победы донёс письмом хану Золотой Орды Тохтамышу об этом, и Тохтамыш поспешил добить алчного, посчитав важным известить великого князя Московского Дмитрия письмом, что «твой и мой враг повержен».
Действительно, Тохтамыш наголову разбил остатки войска Мамая, самого же темника не лишил жизни — отпустил вместе с семьёй к польскому королю, и тот принял несчастного, наделив его городишком Глина. Оттуда и пошли князья Глинские.
В меру своих сил служили они королям польским, пока не появился в их роду Михаил Львович, воеводским талантом своим быстро дослужившийся до самого высокого воинского чина — до дворного маршалки. Была у него даже возможность захватить польский трон, но ему грезилось, что сможет он воплотить в жизнь устремления пращура своего. Он изменил королю и, переметнувшись к царю Российскому, принялся плести тенеты заговора. Случай помог раскрыть коварный заговор, Михаила Львовича упрятали в темницу, не тронув, однако, его братьев и племянницу Елену. Красавицу. Хитрую бестию.
Князь Иван Воротынский, как и многие другие князья и бояре, предостерегал государя от опрометчивого шага для него самого и для всей России, но Василий Иванович не прислушался к добрым советам, обвенчался с Еленой, более того, рассказал ей обо всех, кто противился их венчанию.
Очень недолгим было их совместное житьё — отдал вскорости Богу душу Василий Иванович, а Елена, став правительницей, тут же начала мстить. Ярым пособником ей стал любовник её князь Овчина-Телепнев, который, как судачил втихомолку Двор, снюхался с царицей ещё до её свадьбы с государем.
Повод для ареста Ивана Воротынского с сыновьями дал сам князь Иван. Сторожи княжеские перехватили посланца короля Сигизмунда с его письменным предложением перейти на польскую службу и обещаниями великих почестей, новых вотчинных земель. Сигизмунд советовал не служить тем, кто бесправно царствует в России, захватив трон хитростью и коварством. Выгнал князь Иван посланника короля взашей, а вот известить о нём правительницу Елену не счёл нужным. Не мог даже подумать, что всё это заурядная провокация, устроенная Овчиной-Телепневым: посланец липовый, да и письмо писано Овчиной вместе с Еленой.
Нескольким князьям были написаны такие же письма, и более догадливые царедворцы, раскусив каверзу, поспешили ударить челом Телепневу и правительнице. А вот князь Иван Бельский, будучи в то время главным воеводой Окской рати, навестил князя Ивана Воротынского, чтобы условиться о совместной борьбе с правительницей и её любовником. Отверг князь Воротынский предложение переметнуться в Литву, известить же Елену о готовящейся крамоле посчитал бесчестным, вот и оказался в подземелье вместе с сыновьями.
В эту самую камеру как преступника упрятали теперь Михаила Воротынского, знатного воеводу.
За что?!
Тишина, впору уши затыкать. Медленно тянется время в ожидании появления того, кто объяснит, в чём его, воеводы победителя, вина? Сам же он никак не может определить своей вины или даже какого-либо просчёта. Честен он перед царём и отечеством. Старательно, не упуская ничего существенного, вспоминал он шаг за шагом прожитое и пережитое.
Отец, уходя в мир иной, завещает:
«Живите дружно, сыны мои. Только в поддержке друг друга будете иметь силу, какая пособит вам устоять в жестоком придворном мире. И ещё... Ни в коем случае не противьтесь единодержавию. Помните, только единая крепкая власть, даже жестокая, приведёт Россию к могуществу. Только единодержавие...»
Всё. Смежились очи отца, упокоил навечно он душу свою.
Они терпеливо ждали милости царской, не зная, что правит страной кучка бояр, которые грызутся меж собой, аки бешеные собаки, за первенство у трона малолетнего царя и о безвинных узниках им нет никакого дела.
— Окончим мы здесь свои жизни, — нет-нет да и предрекал с горьким вздохом княжич Владимир, усиливая тем самым неотступную тоску.
Однако всякий раз Михаил подбадривал и его, и себя:
— Не может такого быть. Призовёт нас к себе царь. Призовёт.
Сбылось, наконец. И не просто освободили братьев-узников от оков, но спешно проводили в царский дворец, да не куда-нибудь, а в комнату перед опочивальней, где принимал царь самых близких людей для доверительных, а то и тайных бесед, и откуда имелся вход в домашнюю церковь.
Не в пыточной, а здесь, в замысловато инкрустированной серебром, золотом и самоцветами тихой комнатке братья признались в том, что в самом деле князь Иван Бельский склонял их переметнуться в Литву, но получил, однако же, твёрдый отказ. Причину крамолы князя Бельского видели они не в любви к Литве, а в ненависти к самовольству и жестокости Овчины-Телепнева и его подручных, угнетающих державу.
— Ишь ты! — недовольно воскликнул государь-мальчик. — А ещё сродственник! За право царёво бы заступиться, так нет — легче пятки смазать.
— Мы ему то же сказывали. Предлагали вместе бороться со злом. Сами же честно охраняли твои, государь, украины.
— Не передумали, в оковах сидючи, верно служить государю своему?
— Нет. Обиды мы на твою покойную матушку не имеем, а тем более на тебя, государь. Да и отец наш нам завещал живота не жалеть, поддерживая единодержавие. Не отступимся мы от верного отцовского слова!
Доволен Иван Васильевич ответом. Подумав немного, объявил:
— Вотчину отца вашего оставляю, как и принято, вам в наследство. А тебе, князь Михаил, даю ещё и Одоев. В удел. Пошлите помолимся Господу Богу нашему.
Провожая братьев, царь велел им прибыть на Думу, пояснив:
— Крымцы походом идут. Ряд станем рядить, как их ловчее встретить.
На Думе братья помалкивали, слушая горячие споры думных бояр, предлагавших каждый своё. С трудом, но решили послать дополнительные полки в Серпухов, в Калугу, в Тулу, в Рязань на помощь Окской рати, какая уже многие годы с весны высылалась на переправы через Оку. Но спор разгорелся с новой силой, когда царь обратился к думцам с вопросом:
— Ваше слово хочу услышать, где нынче моё место? В Кремле ли оставаться, уехать ли, как поступали мой отец, дед и прадед?
Долго молчали думцы, затем их словно прорвало. И снова полнейшая разноголосица. Постепенно, правда, верх начал брать совет покинуть Москву, увезя с собой и казну. Укрыться тайно в каком-либо монастыре. И тут сказал своё слово князь Михаил Воротынский:
— При рати тебе, государь, самому быть. Надёжней так.
Многие тут же поддержали князя Воротынского, но митрополит предложил золотую середину:
— Куда не поедешь, государь, везде опасно. В Великом Новгороде — от шведов угроза, в Пскове — от Литвы, в Нижнем — от Казани. Тебе самолично решать, государь, но моё слово такое: останься в Москве. Тем более её не на кого оставить.
— Так и поступлю! — твёрдо заявил царь Иван Васильевич, и было умилительно смотреть на десятилетнего мальчика, на то, как гордо он вскинул голову, с каким торжеством смотрел на бояр. Быть может, это было его первое самостоятельное решение.
Вроде бы условились по всем вопросам, пора отпускать бояр, но князь Иван Бельский опередил Ивана Васильевича:
— Осенило меня, государь. Дозволь слово молвить.
— Слушаю, коль осенило, — даже не стараясь скрыть недовольства, разрешил царь.
— Возможно, Сагиб-Гирей пошлёт часть своих сил Сенным трактом. Поосторожничать бы, да послать встретить его братьев Воротынских.
— Разумно.
По душе Михаилу и Владимиру такое поручение, но и удивления достойно: отчего ни слова о том, какую рать дать им под руку.
Увы, и царь, по малолетним годам своим не ведающий ратного дела, не подумал о рати, а велел завтра же поспешить в свои уделы — вот и получилось, что оказались князья только со своими дружинами. Однако если дружина Воротынска виделась надёжной, то дружина Одоева — замок с секретом. Чтобы отомкнуть его, время потребно, а будет ли оно? Обойдётся ли? Надоумит ли Бог татар не идти Сенным путём?
Не надоумил. Хотя и не вдруг повернул Сагиб-Гирей на Верхнеокские княжества, дав тем самым время Михаилу с Владимиром усилить за счёт смердов дружины, собрать часть казаков и стрельцов со сторож и подготовить всю сборную рать к сече.
Время шло. Крымцы не появлялись. Ни ископотей[43] не встречалось, ни сакмы не прорывались через засечные линии; уже казалось братьям, что всё обойдётся, что поведёт Сагиб-Гирей тумены через Зарайск на Оку, а это и радовало, и огорчало: тишь да благодать — прекрасно, конечно, только видна ли будет при таком раскладе их ретивость, станет ли царю известно их воеводское мастерство, привитое мудрым воеводой Воротынской дружины Никифором Двужилом? Однако выше головы, как ни мечтай, не прыгнешь. Пора, видно, отпустить смердов по домам своим, а казаков и стрельцов порубежников рассылать по своим сторожам, дабы бдили бы на засеках и слали бы дополнительные станицы лазутить в Поле. Только Никифор Двужил отсоветовал:
— Когда лазутчики весть дадут, что Сагиб-Гирей побег восвояси, вот тогда и рассупонимся. Иль нас взашей кто тычет?
Послушали Двужила, оставили на время всё, как есть, и не пожалели: старый друг отца, нойон[44] Челимбек, прислал тайного посланца с вестью, что Сагиб-Гирей, увидя крепкое московское войско на Оке, не решился на сечу, а пошёл на Пронск. Ограбив его, не с пустыми руками вернётся домой. Белев с Одоевым брать не станет, только на время возьмёт в осаду.
Срочный совет и — принято решение: не ждать, пока подойдут тумены Сагиб-Гирея к Одоеву и Белёву, а встретить его передовое войско на переправе через Упу. И не просто встретить, изготовившись для открытой сечи, а приготовить засаду. Силы распределили следующим образом: смердам-конникам, белёвской дружине и стрельцам встречать ворогов на переправе, ввязавшись в сечу; дружинам же Воротынска, Одоева и казакам порубежникам укрыться в лесу за рекой, чтобы, как бой на переправе наберёт силу, ударить крымцев с боков и с тыла.
Передовой отряд крымцев, довольно внушительный, вдвое превышающий силы обороняющихся, был разбит наголову. Едва не испортил всё дело Фрол Фролов, недавний стремянный князя Михаила, исподволь втёршийся в доверие братьев ещё тогда, когда они сидели в подземелье. Михаил доверил Фролу дружину Одоева — тот замешкался с ударом в спину. Правда, обернулось это даже к лучшему. После первого удара казаков порубежников крымцы быстро пришли в себя, второй удар, дружины Воротынска, смутил их основательно, но не посеял паники; когда же спустя некоторое время выпластала из леса одоевская дружина, татары посчитали, что им встретились крупные силы русских, и боясь быть окружёнными, пустились они наутёк. Чтобы оправдать своё трусливое бегство, доложили о численности, встретившейся на переправе через Упу рати, преувеличив её силы. Сагиб-Гирей счёл, что будет благоразумнее не рисковать, тем более, как он посчитал, неожиданность нападения была потеряна.
Фрол Фролов похвалялся после сечи, будто он специально припозднился, но братья выяснили, что тот спраздновал труса, и решили не оставлять его воеводой одоевской дружины.
— Егозит, выказывая старательность, только пустозвонно. Пусть при мне останется стремянным. И это ему — сверх головы.
Вот так и получилось, что вопреки желанию Ивана Бельского, цель которого была отдалить братьев Воротынских от престола, дабы царь забыл о них, они прославились. Вскоре прискакал посланец царёв, дьяк Разрядного приказа, с приглашением в Москву, на почестный пир.
Радость великая: братья остались в милости у царя. Увы, рассказ посланца царёва, дьяка Разрядного приказа, за трапезой весьма отравил эту радость. Закончилось, по его словам, безответное детство государя: Андрея Шуйского затравили, по воле царской, собаками. Князей Фёдора Шуйского-Скопина, Юрия Темкина, Фёдора Головина и всех их слуг ближних сослали на Белоозеро. Окован в Переяславле боярин Иван Кубенский, Андрею же Бутурлину при всём честном народе отрезали язык за дерзкие слова против царя и бросили несчастного в темницу.
Помолившись в Угрешском монастыре, Иван Васильевич вернулся в Кремль и, узрев среди ближних слуг своих мятеж, велел поотрубать головы зачинщикам мятежа — князьям Ивану Кубенскому и Фёдору с Василием Воронцовым.
Новость — всем новостям новость. Не ждёт ли и их расправа? Как при Елене-правительнице.
Не откажешься, однако, от царского приглашения. Тогда уж точно повезут в Москву, оковав цепями.
Опасения напрасные. Царь Иван Васильевич принял их тогда в той же комнате, в какой беседовал после освобождения братьев. Начал с жалобой на бояр, которые почти все в Думе не замечают его, своего государя.
— Поэтому я и позвал вас к себе, чтобы иметь рядом с собой верных и надёжных слуг. Тебе, князь Михаил, быть первым моим советником, слугой ближним. Тебе же, князь Владимир, воеводить царёвым полком, — помолчав немного, добавил: — Думайте, как наказать Казань. Она распоясалась донельзя. Стонут поволжские и приокские княжества от частых налётов алчных.
Князь Михаил Воротынский сейчас будто въяви переживал ту радость, ту гордость, какие тогда всколыхнулись в его душе после столь доверительной беседы царя в уютной комнатке и такого неожиданного почёта. Он, не отдавая себе отчёта, челночил теперь от стены к двери по липкому полу вонючей камеры, звякая тяжёлыми цепями, и горестное звяканье цепей, их тяжесть постепенно возвращала его в сегодняшнюю реальность — он всё более и более чувствовал усталость (сколько времени в седле и в оковах), всё чаще поглядывал на топчан, покрытый видавшей виды полавочником и, наконец, лёг.
Ушёл в небытие моментально. Сработала воеводская привычка засыпать, лишь выдалось время для отдохновения, отбросив при этом все волнения и думы.
Спал беспробудно, будто на перине лебяжьего пуха в своей опочивальне. Разбудил его тоскливый скрип ржавых петель открываемой двери, и вновь — словно обухом по голове: окован!
Не заныло, как должно было бы, сердце. Обида перехлёстывала через край, оттесняя все остальные чувства. Хотел было отказаться от завтрака, проводив вон принёсших на подносах яства и кубки с вином и квасом, но усилием воли сдержался. К тому же голод — не тётка, а у князя со вчерашнего короткого перекуса на малом привале, устроенном по пути, чтобы дать отдых коням, ни маковой росинки во рту не было. Невольно, как говорится, слюнки потекли.
Стражники, поставив подносы на стол, такой же замызганный, как и пол, молча затворили за собой скрипучую дверь: хочешь ешь, хочешь капризничай, не принимая милости злыдня.
Уже за этой утренней трапезой князь вернулся к вчерашнему вопросу: за что? Вновь принялся осмысливать свои действия, свои поступки, но теперь не шаг за шагом, а останавливаясь только на главных вехах жизни.
...Получив приказ подумать о походе на Казань, основательно готовились братья к следующей беседе с государем, и главное, в чём они твёрдо уверились, не стоит больше ходить на Казань походом ради того, чтобы менять ханов, а нужно подготовить основательно поход с целью присоединить к России Казанское ханство, а заодно и Арское. Об этом князь Михаил Воротынский и сказал Ивану Васильевичу, когда их с братом государь позвал в тайную комнату.
— Нашему бы теляти да волка съесть, — хмыкнул царь-мальчик, уже чувствующий своё явное превосходство и державшийся с показным величием. — Турки разве промолчат? Астрахань? Ногаи? Да и черемиса как себя поведёт? Чуваши, мордва и арзя?
— На Порту погляд необходим, слов нет, но ты направь к султану турецкому посольство с мирным словом. Пока послы там разговоры будут разговаривать, мы, глядишь, с Казанью и управимся. А после драки пусть кулаками машут. Или у нас ратники перевелись? Встретим, коль нужда заставит. Что же касаемо мордвы, чуваш, арзи и черемисы правобережной, их ещё до похода необходимо убедить, что рука Москвы крепкая, в состоянии их защитить от ига татарского.
— Как?
— Крепости, загодя срубив их, по правому берегу Волги близ Казани возвести, в огиби стрельцов посадить, тоже в крепостицах, там же наладить литье пушек, ядер и изготовление зелья к ним. Рушницы тоже там готовить. Пошли, государь, меня, дозволив от твоего имени действовать. За лето управлюсь.
— Где крепости рубить?
— Как где? По всем городам, какие выше Казани по Волге. Каждому по крепости определи урок. Да прикажи, чтоб не медлили. Получив от меня весть, тут же пусть начнут сплав в указанные им места. Плотников, столяров и землекопов артели — тоже за ними. А Разрядному приказу учинить такую роспись, чтобы надёжной ратной защитой обеспечить и сплавы, и возведение крепостей, если Казань, спохватившись, начнёт противиться.
Не послушал в тот раз Иван Васильевич мудрого совета, не перенёс поход на год, повёл рать на Казань, но воротился с позором. Вот тогда только принял план Михаила Воротынского, и тот действительно управился за лето, возведя ко всем намеченным ещё одну крепость — Воротынец. На полпути посуху между Казанью и Нижним Новгородом. Самое же главное — наладил в Алатыре литье пушек, ядер к ним и зелья. Мастеров собрал таких, что они сладили пушки на колёсах. Ох, как здорово помогло новшество не только при осаде и штурме Казани, но и в дальнейших сечах с ворогами.
Выросшие крепости в устьях всех рек, сбегавших с огиби в Волгу, особенно крепость Свияжск, сделались крепкими воинскими станами и хранителями огневого наряда, иного ратного снаряжения и продовольствия. Всё это завезено в крепости было заранее и с добрым запасом. К тому же они едва не сослужили службу мира. Казанцы, видя, сколь серьёзно Москва готовится нанести по ним удар, сочли было за благо присягнуть (в какой уже раз) русскому царю, даже срядили договор, посланцы уже въехали в Казань принимать от горожан присягу, но верховенство всё же взяли оголтелые — ворота затворили, посланников русского царя посекли, разграбили купцов российских, лишив и их всех живота. Мосты были сожжены. Без штурма гнезда злодейства не обойтись.
Добротно подготовленный, он завершился победно. Конечно, не без великого ратного труда была взята Казань. Сложилась даже такая ситуация, что впору снимать осаду — пронёсшаяся неожиданная буря с невиданной силы дождём нанесла огромный ущерб кораблям, стоявшим в устье Казанки, а в трюмах тех кораблей хранились запасы зелья. Промок порох насквозь. А что без пороха делать пушкам? А без их поддержки и штурм — не штурм, да и вылазки не вдруг отобьёшь.
Если бы поход был таким, какие бывали прежде, хочешь или нет, но пришлось бы отходить с позором — теперь же спас положение спешно доставленный из Свияжска и других крепостей припасённый там порох. Привезли его в таком количестве, что главный воевода Михаил Воротынский имел возможность воплотить в жизнь свою задумку — сделать подкопы под стены, заполнить их мешками с порохом и одновременно в нескольких местах взорвать их. Через проломы врываться в город куда ловчее, чем карабкаться на стены по лестницам, защищаясь щитами от смолы, кипятка и камней. И хотя казанцы бились в самом городе отчаянно, ничто уже не могло их спасти.
Царь Иван Васильевич тогда низко поклонился славному воеводе Михаилу Воротынскому и произнёс торжественно:
— Награда тебе моя такая: вечно будешь слугой моим ближним, мною обласканным.
Обласкал. Тяжёлыми цепями. А ведь он, князь Воротынский, положивший Казань к ногам государя Российского, не нежился, на печи греясь. Он так устроил охрану своей вотчины и дарованных уделов, Одоева с Новосилем, что любо-дорого. По образцу этому и решил Иван Васильевич устроить охрану и оборону всех своих украин, в первую очередь — южных и юго-восточных. На западных ещё шла кровопролитная война за возвращение исконно русских земель, захваченных в века монгольского ига Польшей, Литвой, немцами и шведами. С юга же теперь можно было плотно заслониться от частых набегов крымцев и ногайцев.
И вот — беседа в тайной комнате. Какая по счёту? Как уже сложилось, Иван Васильевич вначале чуть не слезу пускает, жалуясь на князей и бояр, хотя давно уже многие рода великой знаменитости подсек под корень, остальных же принудил бояться и рот раскрыть. Себя же окружил выскочками дворянами, жестокими, алчными, не имеющими ни стыда, ни совести. Так и хотелось ответить на стенания царя откровенным, что не туда гребёт царь-батюшка, но не забылся пример отца, который не поосторожничал и не придержал в себе мнение по поводу женитьбы Василия Ивановича на Елене Глинской. Жизнью поплатился за это. И их, сыновей своих, чуть не сгубил. Да и свой пример не слишком далёк. Он уже испытал тяжёлую руку царя грозного. Высказал всё, о чём думал, когда Иван Васильевич после кончины царицы Анастасьи разошёлся, когда летели головы с плеч правых и виноватых, от воплей содрогались пыточные, не сдержался тогда Михаил Воротынский, на правах слуги ближнего встал на защиту безвинных, едва не поплатившись за это своей головой. К счастью, окончилось только ссылкой в Белоозеро. Повтори он теперь то же самое, вряд ли дело окончится лишь ссылкой. Одно дело — хочется, совсем иное — можется ли. А ведь висит на кончике языка честное: «Лучших воевод изводишь, государь, с кем останешься бить ворогов?!» Однако делает вид, словно со вниманием слушает и даже будто сочувствует.
Вот уж невмоготу слушать стенания кощунственные, вот-вот сорвётся слуга ближний, но тут смиловался вроде бы царь, заговорил о деле, ради которого позвал князя воеводу.
— Поручу тебе все украины мои надёжно прикрыть от крымцев, ногайцев и астраханцев. Главным воеводой порубежной рати определю тебя, не лишая чина слуги ближнего. Выбирай по потребности помощников себе и — дерзай. По плечу ли ноша?
— Да уж не сгорблюсь. Но для начала одно прошу: вели со всех украинных княжеств собрать знатных краишников в Москве. Сообща устав обсуждать станем. Разрядному приказу не сторониться бы. Изготовили бы подьячие чертёж рубежей украинных. А устав и роспись сторож с крепостицами на Думе бы утвердить.
— Что, моей печати мало?
— Без твоей печати не обойтись, но думные бояре, глядишь, толковую подсказку предложат.
— Ладно. Моим именем действуй. Если кто нерадивость проявит, мне дай знать.
«Голову с плеч в единый миг? Нет, потатчиком душегубству не стану».
В первый же день он имел повод пожаловаться на дьяка Разрядного приказа. Зашёл к нему, чтобы условиться, в какие княжества посылать гонцов с приглашением порубежным воеводам и даже смышлёным порубежникам из рядовых прибыть для работы над уставом, а дьяк сразу же выказал своё нежелание засучить рукава. Гонцов слать согласился, что же касается чертежа границ, наотрез отказался.
— Ты теперь главный порубежный воевода, ты и трудись.
Припугнуть бы дьяка именем царя Грозного, однако же князь избрал иной путь, попросил смиренно:
— Выдели смышлёного подьячего мне в помощь.
— Есть у меня такой. Молодой, да из ранних.
И в самом деле, смышлёным оказался совсем молоденький подьячий. Сразу же уловил суть урока и заверил:
— Не только списки из летописей сготовлю, но и чертёж слажу. От Змиевых валов[45] плясать начну.
— Как звать-величать тебя?
— Сын Логина. Именем Мартын.
— Сколько тебе времени, Мартын Логинов, надобно, чтобы завершить урок?
— Неделю, князь.
— Не мало ли?
— Мало, если спать ночами. Одно прошу, свечей бы сверх нынче даваемых выделили. Можно — сальных.
— Своих пришлю, без волокиты чтоб. Восковых. Сколько потребуется, столько получишь.
Обещанное Логинов исполнил. И, в самом деле, дошёл по летописным текстам аж до Владимира Святославича, великого князя Киевского. Даже дословно привёл выдержку из летописи: «Рече Володимир: «Се не добро, ещё мало город около Киева» и нача ставить городи по Десне и по Въестре и по Трубежову и по Суле и по Стугне. И нача нарубати мужи лучшие от Словен и от Криичи и от Чуди и от Вятич и от сих насели грады. Бе бо рать от печенег и бе воюясь с ними и одоляя их».
В последних словах летописца Михаил Воротынский увидел главный успех предприятия великого князя Киевского: тот возложил основную заботу по строительству городов-крепостей, а затем и их оборону, не на полян, угличей и северян, кто имел соприкосновение с половцами и нёс от них большие потери, а более на тех, кто и в глаза не видел степняков, оттого имел крепкое хозяйство и многочисленные сёла.
«Вот так и я попрошу государя поступить — всем землям указать, где рубить и по каким рекам сплавлять крепостицы для станиц, где ставить погосты, сторожи и города-крепости, потом и заселять их».
Ещё об одном полезном опыте предков сообщал Логинов в пояснении: перед удобными для переправы бродами разбрасывали порубежники триболы вперёд почти на поприще[46] и в бока — по поприщу. Триболы ковали большей частью в самих крепостях, но и привозили возами из Киева, Чернигова и других старейших городов. На многих участках рылись волчьи ямы, а то и целые волчьи борозды.
«Ну, молодец Логинов, расстарался. Не откажусь и я от опыта предков наших».
В пояснении к своему чертежу Логинов предлагал устраивать сторожи в несколько линий, как делали ещё до монгольского ига. Для Михаила Воротынского подобное не внове. У него в вотчине так и устроены засечные полосы, и всё же он не мог не восхититься хорошо продуманным советом. Похвалил от души:
— Молодец!
И ещё — важное: всех, кого отбирали воеводы в порубежные крепости и в сторожи, великий князь наделял без скаредности землями. Холостым повелевал жениться, семейным — брать с собой детей и домочадцев.
«Решит ли нынче государь по-разумному? Не станет ли чего опасаться или скаредничать?»
Более недели прошло в беседах с прибывавшими в Москву порубежниками, и советы их порой удивляли князя Михаила Воротынского. Главное, они не о землях для себя, не о жалованье печалились, хотя и этого не забывали, а о том, как с великой надёжностью организовать службу, как поощрять радивых, какие наказания тем, которые станут дозорить спустя рукава. Даже о том пеклись, как поведут себя крымцы с ногайцами, когда станут появляться на новых рубежах крепости, погосты и сторожи. И тут тоже речи велись с державных позиций. Где полки летом ставить, как с ними порубежникам связь держать и что делать, если крымцы пойдут большим походом?
Так вот и рождался устав порубежной службы. С миру по мысли — доброе творение получалось.
Засечные линии тоже окончательно определились. С дополнением, понятное дело, к предложенной Логиновым схеме. Первая линия — Алатырь, Темников, Ряжск, Кромы, затем — круто в Поле до Путивля, а от него — к Новгород-Северскому. Однако чтобы бок не был открыт, предлагалось ладить засеки от Калуги на Серпейск, Стародуб, Почеп.
Следующая неразрывная линия: Тетюков — Оскол-Змиево, вниз на Изюмскую, а там раскинуть её вправо и влево, дабы пересечь Муравский, Изюмский и Калмиусский шляхи, ещё и углом опуститься к Азову. Вот в этой, в нижней части засечной линии как раз и будут взяты под царёву руку тайные казачьи ватаги.
Дополнен был чертёж Логинова, по совету краишных воевод, ещё двумя линиями: засекой пред Тулой, начиная от Венёва, протянуть её надо было до Волхова, затем — точно на юг через реку Орлик, где поставить город-крепость Орел, до Оскола. Будут пересечены, таким образом, Муравский, Пахмутский и Сенной шляхи. Почти к самому Перекопу подступала Россия, и орда крымская лишалась вольного манёвра, да и возможность неожиданного нападения врагов исключался полностью.
Не забыты были и рубежи восточные: от Нижнего Новгорода — на Алатырь, от него — на Самару; от Самары — на Саратов, а там уж и до Астрахани; от неё — на Лукоморье, к Тмутаракани.
И Боярская дума, и сам царь Иван Васильевич без всяких замечаний приняли устав порубежной службы, не внесли изменений и в засечные линии, охотно поддержали размеры земельных наделов краишникам и денежные оклады им, что же касается дополнительного войска на случай похода крымцев, произошло полное непонимание. Бояре думные подали было голоса за выделение трёх-четырёх полков, но государь резко осадил прытких:
— Нет у меня лишних полков, — обратился тут же к Михаилу Ивановичу: — Завтра после утренней молитвы поговорим в сенях у опочивальни.
Разговор вышел трудный и долгий. Князь Воротынский начал излагать свой план:
— У Девлет-Гирея наверняка есть в Москве соглядатаи и доброхоты...
— Не без того.
— Ему известно станет о приговоре Думы, и он пойдёт большим походом, поэтому я предлагаю не спешить с засечными линиями, а ладить их спешно лишь после того, как побьём Девлетку. А чтоб не ударить в грязь лицом, вели, государь, Разрядному приказу расписать ещё пять полков на Оку и Угру.
— Нет у меня лишних полков. С Литвой мне нужно покончить. Швеции руки укоротить. Немецкому ордену шею намылить.
— Отступись на год-другой от Литвы, оставив в крепостях только крупные отряды. Покори прежде Крым. Пойдёт Девлет-Гирей большим походом, за его спиной пройдёт через Перекоп князь Вешнивецкий, атаман днепровских казаков. Он тебе готов верой-правдой служить. Ты ему пару полков в помощь пошлёшь, как он Перекоп одолеет. Мы же встретим тумены Девлетки на Оке — в ощипе он окажется и вынужден будет присягнуть тебе, государь, будешь ты тогда именоваться и Великим князем Крымским.
— Не замахивайся. Могу выделить на Оку Опричный полк. Немцев наёмников к нему в придачу. И ещё... Большой наряд дам и гуляй-город с воеводами Коркодиновым и Сугорским.
— Благодарствую. Это — знатная подмога.
Говорил князь, а в мыслях — иное. Девлет-Гирей определённо будет иметь достаточно орудий, которыми его щедро снабдит Порта. В общем, шкурка на кисель. Но выше головы не прыгнешь, а вот голову нагрузить стоит до предела.
Сейчас, челноча от глухой стены до крепкой двери, Воротынский более отчётливо понимал, в какую щель воткнул его тогда царь Иван Грозный, но и теперь князь не мог разумно рассудить, чего ради так царь поступал. Долго он перебирал в памяти всё происходившее тогда в Кремле, ища хоть какую-либо вину свою перед царём, но не находил её.
Быть может, в конце концов он нашёл бы, в чём был его просчёт, за который он попал в немилость, но кованая дверь, проскрипев ржавыми петлями, отворилась — ему принесли обед.
После обеда он не нарушил векового уклада славяноруссов, прилёг на жёсткий топчан, не надеясь, правда, заснуть, однако же заснул довольно быстро. Проспал изрядное время, а пробудился бодрый, однако моментально скуксился, упёршись взглядом в сырой потолок, настолько низкий, что, казалось, он вот-вот придавит.
«За что?!»
Возможно, царь обвиняет его в трусости? Как и соратники до свемной сечи. Особенно первые воеводы полков. Повод есть: он оказался за спиной Девлет-Гирея, открыв вроде бы путь на Москву крымским туменам. Но дальнейший ход сражения раскрыл всем глаза. Не может и царь не оценить самый разумный ход в той непростой обстановке.
План сражения с врагом, имеющим вдвое, а может, того и более, Михаил Воротынский разработал с тремя своими боярами — отцом и сыном Двужилами и с Логиновым. Предлагалось полки, Большой огневой наряд и китай-город укрыть в тайных станах с таким расчётом, чтобы, в зависимости оттого, какой путь выберет Дивей-мурза, предводитель похода крымцев, им можно было быстро выйти либо на Серпуховскую дорогу, либо на Боровскую. На переправах же надо было поставить по тысяче ратников, придав каждой с полдюжины длинноствольных пищалей и, по возможности, как можно больше рушниц, да не пожалеть трибол. Чтобы усилить сопротивление на переправах, давая понять ворогам, что на Оке собраны все наличные силы, предстояло пустить по реке боевые корабли — по три-четыре на каждую переправу. Подготовить такие корабли было поручено Логинову. Никифору же и Кузьме Двужилам было поручено определить места полковым станам и найти удобное место для свемной сечи, которое князь должен был сам оценить.
Всё сладилось отменно и без задержек. Когда же огромная «змея» из вражеских отрядов оказалась на пути к Москве, совершенно открытом, первый воевода Опричного полка, князь Хованский, взбунтовался. Воротынский потребовал безоговорочного исполнения приказов, при этом не собираясь открыть свой замысел.
— Запомни, князь! Я не потерплю непослушания! Станешь перечить, заменю тебя Хворостининым! Ясно?! Ведомо мне, как и тебе, сколько пролилось крови ратников и пахарей по воле воевод, споривших перед сечей о главенстве. Теперь же речь не только о жертвах. Тебе государь не сказывал о цели похода Девлет-Гирея? Нет? Тогда слушай. Если хан Крымский возьмёт верх, не быть больше России. Князей и бояр русских — под корень. Воевод, кто не обасурманится, тоже — под корень. Сам хан в Кремле сядет, а во всех старейших городах посадит своих мурз. И вот, спрашиваю я, позволительно ли нам в такое время шапки ломать?
— Но я должен знать обо всём, что ты, князь, замыслил. Иначе какой же я первый воевода Передового полка?
— Поведаю. Тебе одному из всех первых воевод. Только поклянись Господом Богом, что никому до времени ничего не скажешь.
— Клянусь Господом Богом! Слово твоё останется со мной до смерти.
Михаил Воротынский поверил клятве князя, хотя она исходила из уст царского опричника, а для опричников не было ничего святого, что известно было всей земле Русской, вплоть да самых захудалых околков. Не обратил князь внимания и на сказанные Хованским слова о том, что сохранит он тайну не на нужное время, а навечно, но тогда Воротынскому было не до таких мелочей. Пожав друг другу руки, они принялись обсуждать подробно действия Опричного полка и полка Левой руки, первым воеводой которого был князь Фёдор Шереметев. Им предстояло так раздразнить Девлет-Гирея и Дивея-мурзу встречными засадами и наскоками с боков и с тыла, чтобы они почувствовали, что русской рати у него за спиной довольно много. И тогда, прежде чем продолжить движение на Москву, враг обязательно постарается разведать силы русских и уничтожить их.
— Ненароком нужно будет вывести один или два лазутных дозора крымцев на гуляй-город. Он встанет на угоре близ деревни Молоди, — ставил задачу Михаил Воротынский князю Хованскому. — Вот тогда поведёт свои тумены Девлетка на нас. Тогда и быть свемной сечи.
— А Фёдор Шереметев знает о своём уроке?
— Нет. Моё слово ему будет, когда время подоспеет. Ему особенно трудный урок. Ещё и позорный для несведущих. Короткий бой, и — ноги в руки. До нового рубежа. Большей же частью сил полка — щипать слева. Тебе — справа и с тыла.
— Великий риск, — со вздохом произнёс Хованский, затем, уже с воодушевлением, добавил: — Великой мудрости риск.
Он оправдался как нельзя лучше. Остановил своё войско Девлет-Гирей, узнав о гуляй-городе за своей спиной, и, к счастью русских ратников и воевод, послал вначале всего один тумен, чтобы разметать дощатую крепость. Но первый удар был отбит с большими потерями для атаковавших гуляй. Девлет-Гирей направил два тумена, но и их встретили достойно. Тогда, по настойчивому совету Дивея-мурзы, двинулись на гуляй-город все силы крымцев.
Рад Михаил Воротынский, но и понимает в то же время, что, сидя за китаями, победы не обретёшь, и он решился ещё на один рискованный шаг: оставил в китай-городе всего один полк, немцев-наёмников и весь Большой огневой наряд, остальные же полки увёл в окрестный лес, в засады.
Очень жарко пришлось оборонявшимся, но они держались стойко, чтобы как можно больше вражеских сил втянулось в бой, и только тогда, когда уже стало совсем невмоготу, подали знак.
Выпластали из леса конники, высыпали пешцы, казаки Строгановых и даже порубежники. Завязалась сеча, поначалу очень удачная для русской рати, но постепенно положение выровнялось. И тут Михаил Воротынский выпустил свою дружину, нацелив её на ставку самого хана.
Не дрогнула ханская гвардия, встретила дружинников упорно, дрогнул сам хан Девлет-Гирей. Ускакал, бросив своё войско на произвол судьбы. За ним поспешили мурзы, уже считавшие себя правителями богатых русских городов, а уж следом — темники, тысяцкие, сотники. Бей, секи побежавших нукеров, аки баранов.
Остановился князь посреди камеры — зашлось у него сердце. Как и тогда, когда побежало крымское войско. Но тогда от радости, теперь же не ясно отчего?
Ржавой тоскливостью проскрипела дверь. На пороге — опричники.
— Выходи!
У этих совесть ещё осталась — не поволокли князя, применив грубую силу, а шли с боков, приноравливая свой шаг к его затруднённому тяжёлыми оковами шагу. Даже с сочувствием смотрели на героя воеводу. Уважительно. Только перед Тайнинской подхватили его под руки и напустили на лица свирепость.
Втолкнули в пыточную. В ту самую, где в юные годы братьям выжигали палачи накалёнными до белизны прутками кресты на ягодицах, секли ссохшимися сыромятными ремнями — всё то прошлое ярко вспыхнуло в памяти узника, и он не сдержал стона. Нет, не страх перед истязанием, а ненависть к царю Ивану Грозному выдавила тот стон, от которого лица палачей расплылись в довольных улыбках. Палачи словно выросли в своих глазах: бесстрашный воевода, освободитель России ничто против их мастерства!
В пыточной мало что изменилось. Стены, утыканные крюками, покрытые налипшей на них многослойно запёкшейся кровью; стойкий запах окалины и палёного мяса; пылающий горн, только в нём не видно ни щипцов, ни прутьев, хотя огонь горел очень жарко, пожирая добрую охапку берёзовых поленьев. А вот и явное новшество: в «красном» углу стоял массивный трон, иззубившийся острыми иглами.
«Господи, укрепи душу!»
Несколько долгих мгновений гнетущего молчания и — отворилась боковая дверца. В пыточную вошёл сам Иван Грозный. Один. Без своих верных псов-опричников. Палачи склонились в низком поклоне, поклонился царю и князь Воротынский.
— Ишь ты, кланяется. Это я пришёл к тебе с низким поклоном. Ты трона желал? Садись! Изготовлен специально для тебя.
Крепкорукие палачи подхватили князя за локти и плюхнули его на трон — десятки острых игл вонзились в тело, помутив разум; а царь Иван Васильевич встал пред князем на колени, затем опустил голову до самого заскорузлого пола.
— Повелевай, царь-государь всей России, рабу твоему...
Гневом вспыхнуло лицо Михаила Воротынского. Боли он уже не чувствовал от охватившего его возмущения. Ответил резко:
— Да, род наш — державный! Ты прав, государь. И ты, и я — Владимировичи. Но Бог судил не нам, ветви Михаила Черниговского, а вам, Калитичам, царствовать, а Воротынским вам служить. Дед мой, отец мой и я с братом преданно вам служили. Не за здорово живёшь отец мой носил титул ближнего слуги царского, и ты мне жаловал такой же чин за то, что я Казань положил к твоим ногам!
— Казань я взял! — гневно крикнул царь, поднимаясь с колен и с вызовом глядя на слишком разговорившегося раба. — Я взял!
— Её взяла рать по плану, какой предложен был мною, Адашевым и Шереметевым. Ты въехал уже в покорённый город, и в благодарность за то пожаловал меня высшим чином.
— Да, я жаловал тебя, не ведая о твоём двоедушии, о твоей колдовской сущности.
— Род наш, государь, всегда служил ревностно Богу, царю и отечеству, а не дьяволу. В скорби сердечной мы прибегали и прибегаем к алтарю Господа, а не к ведьмам и к дьяволу.
— Твой слуга слышал, как возносил ты нечистого за то, что льётся кровь ратников-христиан, а полки, которые я тебе поручил, бегут. Он видел, как ты вызывал курдушей и повелевал им сеять страх и робость у православных, ярость и злобу у воронья сарацинского!
— Я подозревал, что Фрол Фролов не честен со мной, но чтобы до такого оговора дойти...
— Не оговор! Казаки и немцы-витязи не понуждали ли тебя к действию? Не ты ли оставил гуляй-город, уведомив прежде об этом Девлетку, прислав к нему своего дворянина?! Если бы не упорствовали в гуляй-городе мои наёмники, если бы князь Андрей Хованский не устоял бы против твоих колдовских чар и не повёл бы свой полк на помощь защитникам гуляя, твой коварный замысел был бы исполнен: как баранов бы порезали православных ратников неверные, а ты бы с Девлеткой вошёл в Кремль, чтобы захватить мой трон!
— Осведомись, государь, у князя Хованского. Ему одному поведал я свой план ещё у Коломны.
— Осведомлялся. Не знает он никакого твоего плана.
Выходит, воевода-опричник сдержал клятву молчать вечно. Даже когда возникла необходимость, промолчал. Быть может, смалодушничал, понимая намерения царя и боясь оказаться в опале? Не исключено, что к душе пришлась слава первейшего в разгроме крымцев и в спасении России? Бог ему судья. И потомки.
Но вполне возможно и иное: самовластец не пытался выяснить истину в личном с Андреем Хованским разговоре, честил его, жаловал, основываясь только на своих интересах и слушая облепивших трон нечестивцев. Случись душевная беседа царя и князя-опричника, не утаил бы тот, вполне возможно, истины, восстать же против величания царского не решился.
Мало, очень мало таких людей, кто истину ставит выше своего благополучия, а тем более — жизни.
— Господи! Укрепи душу! Дай силы!
— Не кощунствуй! Огнём душу твою бесовскую очищу, тогда, возможно, примет тебя Господь Бог!
Палачи, а у них всё было заранее обговорено, выгребли кучу углей, разровняли их на полу, отчего толстый слой запёкшейся крови зачадил, сразу же наполнив пыточную душным смрадом, и схватив князя Воротынского, распяли его на углях. Только вместо гвоздей по палачу на каждой руке и ноге.
— Ну, как? Очищается душа от дьявольщины?
— Верного слугу изводишь, государь, — уже через силу выдавливал слова князь Михаил Воротынский, — а недостойных клеветников жалуешь.
— Двоедушник! — истерически выкрикнул царь Иван Грозный и принялся подгребать под бока князю откатившиеся в сторону угли.
Князь глухо простонал, сознание его помутилось, он уже не понимал, о чём спрашивает его царь, что иступленно выкрикивает, словно в припадке бешенства; и лишь несколько раз повторяемое: «Клятвопреступник! Клятвопреступник! Клятвопреступник!» — дошло до его разума. Вновь обида незаслуженного оскорбления чести княжеской пересилила дикую боль.
— Я присягал тебе и не отступал... Я верил тебе... Твоей клятве на Арском поле... У Тафтяной церкви... Перед Богом... При людях вселенских на Красной площади... Митрополиту клялся... быть отцом добрым... судьёй праведным... Ты отступился от клятвы... Честишь недостойных живодёров... Казнишь честных... кто живота не жалеет во славу отечества... И твою, царь... Господь Бог спросит с тебя...
— Ты пугаешь меня, раб?! Ты грозишь карой небесной?! На тебе! На!
Посохом своим Иван Грозный снова стал истово подпихивать угли под бока князя. Пеной вспучился перекошенный злобой рот царя.
Ведал, что творил самодержец Российский: не просто под бока честного воеводы подсовывал он пышущие жаром угли, а можно сказать, под славу и могущество великой державы. Но кидал он угли и под свой трон, не понимая. Изменяя России, он невольно изменял и себе.
Больше ни слова не промолвил князь Михаил Воротынский, лишь скрежетал зубами, сдерживая стон.
В дальней древности, ещё до рождества Христова, мудрый философ изрёк весьма знаменательную фразу, сказав, что история делается злословием.
Царь Иван Васильевич не осмелился казнить народного героя на Лобном месте, на Красной площади — полуживого князя Михаила Ивановича бросили в розвальни и повезли в белоозёрскую ссылку под великой охраной и тайно; но по дороге князь скончался. Тело его не вернули в Москву, а, выполняя волю царя, довезли до обители святого Кирилла и там укромно схоронили.
Вот и всё. Был великий человек и — нет его. Вынужденно забыт. Лишь немногие из его современников подали голос протеста. Среди них — князь Андрей Курбский, воевода от Бога, прославивший своё имя блестящими победами над врагами Русской земли, но бежавший за её пределы от царя-кровопийцы, чтобы не быть казнённым. Он оставил потомкам полные гневной правды слова:
«...О муж великий! Муж крепкий душой и разумом! Священна, незабвенна память твоя в мире!
Ты служил отечеству неблагодарному, где добродетель губит и слава безмолвствует; но есть потомство, и Европа о тебе слышала: знает, как ты своим мужеством и благоразумием истребил воинство неверных на полях московских к утешению христиан и стыду надменного султана! Прими же здесь хвалу громкую за дела великие, а там, у Христа Бога нашего, великое блаженство за неповинную муку...»
Известный историк Карамзин оставил нам такое свидетельство:
«Знатный род князей Воротынских, потомков святого Михаила Черниговского, уже давно пресёкся в России, имя князя Михаила Воротынского сделалось достоянием и славою нашей истории».
Не пророческие, как оказалось, слова. В забвении у потомков имя князя Михаила Ивановича Воротынского. В полном забвении. Достоверно неизвестно, где находится его могила. Кто-то считает, что она в обители святого Кирилла, но кто-то утверждает, что она — в лавре Сергиевой в ряду со славными князьями Горбатыми, Гагиными, Ряполовскими, Пожарскими, чьи роды тоже пресеклись злодействами правителей.
ВЛАДИМИР СТАРИЦКИЙ
— От дьяка Михайлова вестовой, — доложил князю Владимиру Андреевичу Старицкому его окольничий. — Срочно, мол, во дворце государевом тебе быть. Настойчив.
Князь Владимир хорошо знал, как близок думный дьяк Михайлов к царю, и всё же воспринял доклад своего окольничего с недоумением, если не сказать с возмущением: он, князь Владимир, — двоюродный брат Великого князя и государя, и ни какому-то дьяку, пусть даже думному, посылать ему вестника с повелением. К тому же он только что встал с постели, и его ждал завтрак с матушкой, княгиней Ефросинией.
«Что-то, стало быть, случилось из ряда вон выходящее», — предположил наконец князь Владимир и велел окольничему:
— Вели войти.
Переступил порог взволнованный подьячий, был он явно не в своей тарелке, проговорил виновато:
— Дьяк Михайлов именем государя нашего велит без промедления быть в сенях у опочивальни царёвой.
Вошла в палату сына княгиня Ефросиния и, услышав последние слова посланца, опередила князя Владимира:
— Что стряслось? Отчего Михайлов шлёт царское слово, а не сам Иван Васильевич?
— Царь-батюшка наш на смертном одре. Велит всем думным присягать сыну своему царевичу Дмитрию.
— Сошлись уже думные? — спросил князь тревожно.
— Почти все в сборе.
— Присягают? — снова спросил Владимир Андреевич.
— Спорят.
— Ладно, ступай. Ты исполнил свой урок, — вновь не дала открыть рот сыну Ефросиния. — Ступай, ступай.
Посланец переступил нерешительно с ноги на ногу, ибо, как велел дьяк Михайлов, не мог он вернуться во дворец царёв без князя Владимира Андреевича, но княгиня сказала строже:
— Сказано: ступай! Отчего медлишь?
Что оставалось делать бедному подьячему? Побрёл понуро в царский дворец, предвидя серьёзный нагоняй от своего начальника. А Ефросиния тем временем обратила свой раскрасневшийся от гнева лик к сыну.
— Иль ты намерился припуститься в сени перед опочивальней Ивана, как слуга-выскочка?! Место в сенях — Михайлову, Адашеву, Сильвестру да иным послужильцам, хотя и княжеских родов, но не тебе — брату царёву!
— Но брат-то на одре.
— И я о том же. У его изголовья твоё место, а не в сенях со слугами. Приберёт его Бог к рукам — тебе царствовать, а не Захарьиным!
— Не горячись, матушка. Устоялось уже у Даниловичей, что сын наследует отцовский престол.
— А я и не горячусь. Кто нарушил подобный порядок? Дед твой Василий Иванович. Венчанного Иваном Третьим Грозным внука на престол уморил в подземелье, сам же, не венчанным вовсе, правил Россией, а у его сына Ивана, нынешнего царя, что от Даниловичей осталось?
— Как и у меня. С кровью Палеологов смешана.
— Ишь ты, как у тебя! Хазарина Мамая кровь куда откинул? Иль запамятовал, что от Мамая, кого польский король приютил после полного поражения, Глинские пошли. А я, мать твоя, из рода Владимировичей. Тебе, по крови нашей, надобно править Россией, а не лизоблюдить Елениному сыну, скорей всего зачатому от Овчины! Не возражай! — Она подняла предостерегающе руку.
— Поступим так: подольем маслица в огонь. О чём тебе посланец поведал? Спор идёт в сенях. Чует моё сердце, не хотят князья да бояре присягать Захарьиным, кто возьмёт власть якобы по опекунству внука своего, вот мы и подскажем, за кого стоять, кому крестным целованием присягать. И не сам для начала поспешишь в сени, пошлёшь слугу своего ближнего, дабы изложил твою волю. Да чтобы с Адашевым и Сильвестром перекинулся тайным словом. От них многое зависит. Они сохранили мне ту, первую духовную, где дядя твой тебе престол жаловал.
Князю Владимиру не к душе пришлось распоряжение матушки. Уж сколько лет минуло с того дня, когда отца бросили в темницу, а в памяти те последние месяцы и дни сохранились, хотя и лет ему тогда было — кот наплакал. Овчина-Телепнев начал тогда поодиночке изводить опекунов малолетнего царя Ивана, тогда ещё никто не знал, что прозовут его Грозным. Князь Андрей Старицкий, как первый из опекунов, поднял голос протеста, ибо понял политику временщика: извести всех сторонников царя Ивана, а затем и его самого. Об этом меж собой судачили возмущённо почти все бояре, вот и думалось Андрею Старицкому, что не останется он одиноким в борьбе с узурпатором.
Добрым подарком Овчине стал тот протест — он тут же объявил Андрея Старицкого бунтовщиком и послал войско в Старицу. Князь Андрей не готов был к такому повороту событий, потому решил прибегнуть к помощи Великого Новгорода, зная о недовольстве новгородцев правлением временщика. Увы, новгородцы не поспешили на помощь князю, а Овчина, собрав крупную рать, сам повёл её в погоню. Отец проиграл битву. Вернее, сдался, не желая проливать безжалостно кровь русских ратников не на поле сражения с иноземными ворогами, а меж собой. Его оковали, увезли в Кремль, где бросили в подземелье и морили голодом. Бояр княжеских пытали, затем истерзанных, полуживых тайно бросали с камнями на шее в воду Москвы-реки. Дружину княжескую не тронули, лишь отправили на пушной промысел за Камень. Детей боярских и дворян выборных, взявших сторону князя Андрея Старицкого, повесили вдоль дороги на Великий Новгород. На версту друг от друга. К ужасу путников и к сытости воронья.
Около полугода княгиня Ефросиния ждала чуда, что мужа освободят, и вместе с тем беспокоилась за судьбу княжича Владимира; но Елена-блудница не думала освобождать Старицкого, однако не решилась поднять руку на вдову и несчастного сироту; более того, после смерти Андрея Старицкого она пригласила княгиню Ефросинию и княжича Владимира в Кремль на его похороны, которые устроила пышно, но после того, как гроб был опущен в могилу в соборе Святого Михаила, вдову с сиротой взяли под стражу и отвезли в Верею под неусыпный надзор.
Разве такое забудется?
Они вынуждены были терпеливо ждать перемен в Кремле, которые наступили вскорости. Елена-блудница скончалась во цвете лет (по слухам, её отравили), князья Шуйские взяли верх, Овчину-Телепнева оковали, но это не принесло в Верею успокоения: Шуйские вполне могли расправиться с княжичем Владимиром, как с законным претендентом на престол после смерти малолетнего Ивана, какую они ему готовили.
Увы, бодливой корове Бог рогов не даёт: Василий Шуйский, уже почитавший себя царём всей России, внезапно скончался. Шли разговоры, что князя тоже отравили. Продолжатель его дела Иван Шуйский не смог устоять против ловких каверз Бельских, хотя даже взял под стражу Ивана Бельского, обвинив его в отравлении брата, низложил митрополита Даниила, но им же возведённый в сан митрополита Иосав изменил ему — Бельские победили.
В Верее вздохнули свободней и не ошиблись: княгиню Ефросинию с сыном вызвали в Кремль.
Поначалу их поместили в уединённом домике почти у самой кремлёвской стены, но вскорости представили государю Ивану Васильевичу — двоюродные братья обнялись, и тут же царь своей волей вернул князю Владимиру Андреевичу и его матери все прежние богатые вотчины, добавив к ним ещё и Дмитров. Им было позволено иметь свой двор, дружину, бояр и слуг ближних. Вернули им и кремлёвский теремной дворец.
Зажили Иван Васильевич и Владимир Андреевич как любящие братья, с годами мужая, даже когда царь обрёл полную самодержавную власть и перестал нуждаться в поддержке, он не оттолкнул двоюродного брата от себя. В походах Владимир Андреевич почти всегда находился при стремени царя, в Думе сидел на почётном месте, впереди перворядных, вхож был к самодержцу в любое время, что особенно значимо. Княгине Ефросинии радоваться бы такому миру и согласию, но она постоянно внушала сыну, что не он должен служить Ивану, а Иван — ему.
Время шло. Иван Васильевич набирал царственную силу, всё могущественней становилась и Россия. Она могла уже не только отбиваться от алчных соседей, но и сама учить ворогов уму-разуму. Первой поплатилась Казань — разбойное гнездо, разорявшее Среднее Поволжье чуть ли не ежегодными грабительскими набегами. Она пала. Россия ликовала. Ещё более ликовал сам Иван Васильевич, теперь уже Грозный. У него, что называется, радость на радость: сын родился. Наследник престола.
Князь Владимир Андреевич с полной искренностью (его ещё не смутила основательно мать) разделял радость двоюродного брата, особенно он был обрадован, когда Иван Васильевич предложил ему стать крестным отцом царевича Дмитрия.
Вот в это самое время княгиня Ефросиния надумала начать решительное наступление.
Царский поезд с наследником, которого крестили в Троице-Сергиевой лавре, возвратился в Кремль. Запировала Москва. Вся. От мала до велика, от простолюдина до боярина думного, князя знатного. Осушались кубки с вином заморским, с мёдом хмельным за здоровье царя и его сына-наследника; княгиня же Ефросиния вроде бы замкнулась, ожидая окончания пиршеств, и только-только они оттеснились деловой жизнью, княгиня позвала сына в свои покои.
— Набражничался с нагуленным царём? — с грустной ухмылкой спросила она.
— Радость-то какая. И — честь. Я — крестный отец наследника.
— Дубина ты стоеросовая! Тебе ли радоваться?!
— Ты снова за своё, матушка. В ладу с братом-государем худое ли житьё?
— Буду на своём стоять, пока не достучусь до твоего, сын, разума. Я тебе не единожды сказывала: твой удел — править Россией. Государить. Ты с Иваном бражничай, но начинай исподволь примерять престол под себя. Я тебе говорила, тоже не единожды, что истинная духовная Василия Ивановича моим старанием сохранена. По ней тебе наследовать царство. Его переиначила Елена-блудница. Только придёт время, и истина во весь голос заявит о себе. Вот тогда и сгодятся тебе сторонники твои, коими старательно обзаводись.
Долгий разговор в тот вечер был у матери с сыном. Весьма основательный. Княгиня Ефросиния убеждала:
— Ты умён, осанист, пригож и велеречив в беседах с людьми, — пела она хвалу сыну. — Ты со всеми можешь ладить, вот и плоти людишек возле себя. Да не только бояр думных и князей, не отворачивай лика даже от дворян, привечай их посулами, лаской. Они более, чем князья, чтят, когда в общении с ними не чинятся. Вот тогда ты в нужный момент не останешься без крепкой поддержки.
— Дай время подумать, прежде чем ответить тебе?
— Хорошо. Думай.
Она, однако, не пустила раздумья сына на самотёк, продолжая при всяком удобном случае склонять его к своей вере, и в конце концов своего добилась: князь Владимир Андреевич не просто пообещал матушке следовать её советам, но и сам загорелся идеей обретения престола.
Вот так и вплелась в отношения братьев фальшь. Иван Васильевич, возможно, долго не почувствовал бы её, если бы не Тайный дьяк. С большой опаской, но он всё же доложил:
— Брат твой, государь, сети плетёт за твоей спиной.
— Не смей хулить князя Владимира! — вспыхнул царь Иван Васильевич. — Моя семья — не для тебя орех.
Осадить-то строго осадил Тайного дьяка — приглядевшись же, понял: Владимир Андреевич стал каким-то иным. С окончательным выводом, однако, царь не поспешил. Определил себе повнимательней приглядываться какое-то время, а при необходимости проверить, верны ли подозрения.
Некоторые дальновидные думные бояре, да и не только они, но и смышлёные дворяне сразу сообразили, что не так страшен недуг государя, как о том сообщал дьяк Михайлов. Поводов к такому умозаключению было вполне достаточно (если бы не хитрость, которую мы бы сейчас назвали дипломатическим недугом): при болезни государя наверняка опочивальню его не покидал бы лекарь, а коль речь идёт о жизни и смерти, то и митрополит был бы давно тут как тут. Увы, к Ивану Грозному никого не впускали, кроме дьяка Михайлова, и весть о «смертном одре» и воле государя о присяге царевичу Дмитрию исходила именно из его уст.
Не все, однако, обратили внимание на подобные мелочи. В сенях после долгого молчания тишину взорвал гневный баритон князя Андрея Шуйского:
— Снова младенец на троне! Доколе?!
И пошло-поехало. Раскололись бояре, заполнившие сени перед опочивальней Ивана Грозного. Дьяк Михайлов, братья Михаил и Владимир Воротынские, Иван Мстиславский, Дмитрий Полецкий, Иван Шереметев, Михайло Морозов, Захарьины-Юрьевы, родственники царицы, твёрдо стояли за присягу Дмитрию, а вот Шуйские, Иван Пронский-Турунтай, Симеон Ростовский, Дмитрий Немый-Оболенский настаивали на том, чтобы присягать князю Владимиру Андреевичу. Последних исподволь поддерживали Сильвестр с Адашевым. Они, уже переговорив тайно со слугой ближним Владимира Старицкого, передали совет князю прибыть во дворец самому лично и сделать так, чтобы на Соборной площади кто-либо из бояр княжеских прочитал духовную Василия Ивановича, не исправленную царевной Еленой и Овчиной-Телепневым.
Посчитав разумным совет Сильвестра с Адашевым, княгиня Ефросиния позволила сыну отправиться во дворец, пройти в опочивальню Ивана и объясниться с братом у одра его, сама же решила выйти на Соборную площадь, которая была битком набита обывателями, пекущимися о царе, и прочитать духовную Василия Ивановича, показав всем, что она утверждена его личной подписью и золотой царской печатью.
Пока княгиня Ефросиния глаголила на Соборной площади, а князь Владимир Андреевич пытался войти в покои Ивана Грозного (дорогу ему заступали Михайлов и братья Воротынские), хитрованы, понявшие глубинную суть происходившего, торопливо делали выгодное для себя дело. Особенно развернулся думный дворянин Малюта Скуратов-Бельский — его старанием все кремлёвские дворяне начали присягать Дмитрию. Более того, Малюта Скуратов, воспользовавшийся тем, что воевода полка князь Владимир Воротынский вместе с остальными боярами находились в сенях перед опочивальней Ивана Грозного, уговорил тысяцких и сотников царёва полка привести к присяге царевичу Дмитрию своих подчинённых. Сделать это удалось. А полк — это великая сила. Неодолимая.
Дьяку Михайлову стало скоро об этом известно, и он поспешил в опочивальню к Ивану Грозному, чтобы сообщить столь важную новость. Вышел он от царя ещё более возбуждённым и заявил громогласно:
— Государю нашему, слава Богу, полегчало.
Будто на быстрых крыльях понеслась эта весть по Кремлю, и вот уже один за другим начинают сдаваться сторонники Владимира Андреевича. Сам же он присягнул царевичу Дмитрию последним.
Государь поднялся с одра через пару дней. Все ждали страшную грозу — государь уже приучил князей и бояр его бояться; но Иван Васильевич сделал вид, будто ничего особенного во время его болезни не происходило, и все с облегчением вздохнули. Единственно, чему он не стал препятствовать — добровольному постригу княгини Ефросинии в монахини. Более того, он даже высказал митрополиту свою волю, чтобы определён был княгине женский монастырь на Белоозере, где, как сказал государь, строгий монастырский устав, промолчав при этом, что все Белоозёрские монастыри находились под неусыпным приглядом Тайного дьяка.
Однако какой для себя сделали вывод из всего произошедшего Иван Васильевич и Владимир Андреевич, выяснится не так уж скоро. Во всяком случае, внешне ничто пока не изменилось. Многие — и даже сам Владимир Андреевич — начали верить, что опалы царя на двоюродного брата вообще не случится. Так бы, скорее всего, и произошло — дожил бы до своей естественной смерти князь Владимир, но, к его несчастью, в Кремле работали локтями такие охотники за троном, как Малюта Скуратов-Бельский, Борис Годунов и даже Богдан Бельский. Да и княгиня Ефросиния, которой бы давно пристало о душе думать, продолжала, хотя и в малой степени, влиять на дела кремлёвские, а главное — смущать сына. Возможно поэтому и сам Владимир Андреевич со сладкой истомой мечтал о троне. Эта мечта заставляла князя Владимира пристально следить за каждым шагом брата, надеясь на его непоправимую ошибку и рассчитывая воспользоваться ею. Сами же отношения братьев с каждым годом всё ухудшались, что, вопреки здравому смыслу, не остепеняло Владимира Андреевича, а порождало всё новые и новые обиды.
Да, не редко бывает у многих людей подобное: сам же накуролесит, сам же напакостит и сам же злобствует на принимаемые в ответ защитные меры.
Князя особенно оскорбило то, что накануне свадьбы Ивана Грозного с Марией Темгрюковной тот позвал его в комнату для тайных бесед перед домовой церковью. Вместе помолились они перед беседой, после чего Иван Васильевич принялся подробно рассказывать о перехваченном письме польского короля Сигизмунда крымскому хану Девлет-Гирею.
— Коварен Сигизмунд. В письме ко мне он просит оставить Литву в покое, утверждая, будто она миролюбива, а виноват, по его словам, в распри Великий Новгород. Обвиняет меня, сам же коварствует. Вот, прочти мой ответ ему, — передал Иван Васильевич Владимиру печатный оттиск послания.
«Ишь ты, Адашев печатным станком уже обзавёлся. Великое дело, а мне — ни слова», — с обидой подумав, Владимир Андреевич начал читать.
«Ты умеешь слагать вину свою на других. Мы всегда уважали твои справедливые требования; но, забыв условия предков и собственную присягу, ты вступаешь в древнее достояние России: ибо Ливония наша была и будет. Упрекаешь меня гордостью, властолюбием, совесть моя покойная; я воевал единственно для того, чтобы даровать свободу христианам, казнить неверных или вероломных: не ты ли склоняешь короля шведского к нарушению заключённого им с Новым городом мира? Не ты ли, говоря со мной о дружбе и сватовстве, зовёшь крымцев воевать мою землю? Грамота твоя к хану у меня в руках: прилагаю список её, дабы устыдишься. Итак, уже знаем тебя совершенно, и более знать нечего. Возлагаем надежды на судью небесного, он воздаст тебе по твоей злой хитрости и неправде».
Усилием воли сдержал князь Владимир недовольство своё и обиду свою: получается — женитьба Ивана Васильевича на дочери Сигизмунда сорвалась явно по вине польской стороны. Было ясно как день, что есть ещё какая-то переписка с Сигизмундом, о которой ему, брату царя, думному боярину, даже не обмолвились, не то чтобы познакомить с ней. В последнем ответном послании Сигизмунду, в котором тому явно объявляется война, нет привычного «мы с братом» — князь Владимир к этому привык и считал вполне справедливым, когда царь в переписке с иноземными государями и в указах своим подданным ставил его имя рядом со своим.
«Всё! Отдаляет! Ну-ну! Себе же делает хуже!»
Эка — хорохорится. Положение князя Владимира при Дворе ухудшилось настолько, что ничего плохого сделать царю-батюшке он уже просто не имел возможности. Более того, Иван Васильевич, хотя и под благовидным предлогом, всех его бояр взял к себе на службу, одарив новыми землями. Естественно, сделав соглядатаями своими. Да и дружиной княжеской давно уже командует ставленник Тайного дьяка.
В какой-то мере князь Владимир понимал, в каком оказался положении, но оно вызывало у него всё большую неприязнь к царю-брату, а сладостная мечта о том дне, когда возложат на него бармы и наденут шапку Мономаха, не улетучивалась. Лелеял он и мысли о жестокой мести брату за все обиды несправедливые.
Иван Васильевич, переждав малое время — пусть взвесит прочитанное, — заговорил твёрдо:
— Я намерен сразу же после свадьбы с Марией, дочерью князя Темгрюка, полчить крупную рать и идти походом на Сигизмунда. Тебе же такой урок: с сего же дня спешно в купе с Разрядным приказом готовить полки на Оку. Кроме пяти полков, даю тебе под руку половину моего полка. Твой личный резерв и твоя защита на худой случай. Я рать стану собирать не в Москве, а в Смоленске, и Девлетка, узнавши об этом, наверняка нацелится на Москву. Тебе встречать крымцев на Оке, не дав им переправиться.
— Не буду на свадьбе? — невольно вырвалось у Владимира Андреевича.
Иван Васильевич, усмехнувшись, спросил:
— Что важней? Пображничать на моей свадьбе или встать грудью на защиту стольного града моей державы?
Весьма многозначительная фраза. И так произнесённая, что не враз возразишь.
В общем, когда в Кремле игралась пышная свадьба, князь Владимир Андреевич на ладье плыл по Оке от одной переправы к другой, проверяя, разумно ли устроена их оборона, всё ли в порядке с огнезапасом и в достатке ли его; проверял и полковые станы — пустопорожнее дело, ибо не первый год выходит рать на Оку с весны, поэтому всё знаемо, всё приспособлено к встрече татарских и ногайских набегов или малых походов. Вот если большой поход, тогда мозгуй главный воевода Окской рати в согласии с царём, тогда от них многое зависит: от царя — дополнительные полки и огневой наряд, от главного воеводы — ратная умелость и разумная решительность.
Князь Владимир не имел желания ударить в грязь лицом, если крымский хан Девлет-Гирей намерится идти на Москву, поэтому он, установленным издавна порядком объезжая переправы и станы, основное внимание уделял разведке Степи, посылая один за другим лазутные дозоры от себя, требуя и от князей Одоевских, Белёвских, Воротынских, Новосильских держать дружины в постоянной готовности к действию, а Поле отрядами лазутчиков копытить беспрестанно.
Не лишней оказалась такая предусмотрительность — крымцы появились в Поле. По всему видно, не большим походом, но всё же довольно внушительным. Не сакмы разбойные, а целых три тумена. Вроде бы на большую охоту вышли за Перекоп, так, во всяком случае, утверждали нукеры, которых лазутчикам удавалось заарканить. Все — с одного голоса. Пытай — не пытай, иного слова не вымучаешь. Но вот попал в руки лазутчиков сотник. Вполне благоразумный. Сразу же согласился рассказать обо всём, что ему известно, только с одним условием: большому воеводе.
Поскакали с ним (благо у лазутчиков по заводному коню) прытко в Новосиль, который пожалован был Иваном Грозным князю Михаилу Воротынскому, дабы наладил он крепкую порубежную стражу. Сам князь в тот момент находился в своей родовой вотчине в Воротынске, возглавлял же дружину и порубежных казаков воевода Косьма Двужил. Тот сразу же смекнул, сколь важен захваченный язык, который без всякого принуждения рассказал о замыслах царевичей, возглавлявших поход. План такой: один тумен идёт на Тулу, захватив же её, скачет к Серпухову. Вроде бы как главная сила и единственная. Два других тумена спешно выходят к Вязьме и далее по прямоезжей дороге — на Москву. На ней нет большой русской рати, заступить путь будет некому. Под Москвой тумены окажутся внезапно, а войска в ней нет. Как считают царевичи, князь Иван ушёл с войском в поход на Литву.
Сотник, конечно, имел не проверенные данные: Иван Грозный только собирался в поход, даже не определив точного времени для его начала, но разве это важно? Раскрытый план противников немедленно должен был стать известным главному воеводе Окской рати. Двужил, определив охрану в полусотню дружинников при трёх заводных конях, приказал скакать, не жалея коней, в Белев через Мценск. Сотнику, возглавившему охрану, Косьма Двужил велел передать князю Владимиру Андреевичу свой план разгрома крымцев; он заключался в том, чтобы пропустить тумен к Туле без сечи, сделав вид, что он нежданно-негаданно появился, дружинам же Белёва, Новосиля, Воротынска и иных Верхнеокских князей встать заслоном на реке Проне, заступив тем самым пути отхода крымским туменам в Поле. На переправах же через Угру, особенно у Юхнова, выставить два, а то и три полка с мощным огневым нарядом. Такую оборону крымцам не одолеть.
Князю Владимиру Андреевичу понравился предложенный воеводой Косьмой план, и он тут же разослал гонцов ко всем Верхнеокским князьям, определив главным воеводой сборной рати князя Михаила Воротынского; сам же решил провести «заход с тыла», как он обозначил манёвр на Угре.
Одного полка, как определил князь Владимир, вполне хватит для обороны всех важных переправ на Угре, если этому полку придать достаточно пушек. Пример имелся: сражение на Угре при Иване Третьем Грозном, в котором царёву войску пришлось иметь дело с несколько раз превосходящим его противником. Тремя же полками, сосредоточив их тайно в верховьях Угры, выйти к Мосальску и Мощевску, как только крымцы подойдут к переправам в районе Юхнова.
Тактически верный расчёт: крымцы наверняка бросят все силы, чтобы одолеть обороняющих переправы, вот тогда — в спину им удар. Стремительный, мощный. Побегут крымцы в Поле. Никуда не денутся. А на их пути — князь Михаил Воротынский.
Если же тумен под Тулой тоже не одумается, пару полков можно направить туда. Обломают крымцам эти полки рога.
Задуманное удалось на славу. Едва ли треть крымцев смогла улепетнуть из пределов Русской земли. Победа значительная, можно посылать вестника к царю Ивану Грозному и ждать от него ласкового слова, а то и приглашения на почестный пир.
Благодарственное слово князю Старицкому из Кремля пришло, но приглашения не последовало. Более того, воля Ивана Васильевича такова: к исходу лета со своей дружиной и той частью царёва полка, что под его началом, идти, не заезжая в Москву, на Ельню и там ждать государева слова.
«Видимо, ждать до похода на Литву. Не одну неделю», — заключил князь Владимир с досадой. Ему хотелось побыть хотя бы малое время в Старице, где скучала его жена и где рос шалунишка сын, но разве ослушаешься приказа царя? Тогда уже точно обвинят в мятеже.
И почему в Ельню? Почему не в Смоленск? В Смоленске и для ратников больше удобств и для него, с боярами — хоромы приличные. А что Ельня? Захолустный городок.
«Всё ради того, чтоб сохранить в тайне подготовку к походу», — утешал себя князь Владимир Андреевич, хотя и понимал ложность таких предположений.
Однако постепенно рассеивалось невольно даже это призрачное утешение: недели шли за неделями, а князю Владимиру никаких распоряжений не поступало, и он не знал, отчего медлит Иван Васильевич с походом. Вот миновала и расхлябистая осень, вот лёг первый снег. Самое удобное время для похода: дороги тверды от мороза, даже в низинах, а сугробов ещё не намело — двигайся с любым обозом за милую душу.
«Не передумал ли Иван Васильевич с походом?»
Нет. Царь не передумал. Он ожидал послов от Сигизмунда, который известил его из Кракова о посольстве. Если выказывают уступчивость недруги, почему не принять её. Мир, как известно, лучше, чем война, даже победоносная.
Ждать-то Иван Грозный ждал, но готовил и рать. И не в Смоленске, как намеревался прежде, а в Можайске. Хана крымского он теперь не опасался, ибо, получив добрую зуботычину, тот на пару лет остепенится; вот и собиралось в Можайске великое войско. Как свидетельствуют летописцы, ратников было ополчено двести восемьдесят тысяч, пушек собрали двести, обоз насчитывал восемь тысяч девятьсот параконок. Двинулось к Полоцку всё это войско 31 декабря 1563 года.
Князь Владимир Андреевич получил приказ присоединиться со своей дружиной и частью царёва полка к общему строю. Замыкающим. Не позвал Иван Грозный брата к своему стремени.
Едва осадили Полоцк, ещё даже не начали его обстреливать из пушек, как пришла весть, что из Минска на помощь осаждённому городу вышел гетман Радзивилл с сорока тысячами литовцев, с двадцатью пушками. Иван Грозный принял решение ускорить штурм крепости и одновременно заступить путь этот подмоге, для чего выделить полки князей Репнина и Полоцкого под главным воеводством князя Владимира Андреевича.
Снова оказался князь вдали от главных событий, в стороне от царя-брата. Обидно. Очень обидно. Выше головы, однако же, не прыгнешь. Одно успокаивает: можно в предстоящей сече отличиться, тогда Иван Васильевич не сможет не заметить воеводского мастерства своего брата. На громкую победу князь надеялся, ибо знал, что Радзивилл дал слово королю Сигизмунду во что бы то ни стало спасти осаждённый город.
Но исподволь тревожил Владимира Андреевича вопрос: отчего Иван Грозный послал против Радзивилла всего двадцать тысяч конников и десяток длинноствольных пищалей? Мало что ли у него сил для взятия города? Если Радзивилл проявит решительность, сеча сложится явно не в пользу русских полков, тогда — позор или героическая смерть в рукопашном бою. Как ни старался князь Старицкий избавиться от этой назойливой мысли, она липла осенней мухой.
Сечи с Радзивиллом не произошло. Увидя русские полки, занявшие удобные высотки, он не решился атаковать их. Обошлось вялой пушечной перестрелкой. Одно из двух: либо Радзивилл струсил, либо получил весть, что Полоцк пал. А он действительно уже 15 февраля был взят штурмом.
Князь Владимир Андреевич вернулся в Полоцк к шапочному разбору. Царь к этому времени уже завершил своё святое, как он говорил, дело: разрушил все католические храмы, всех католиков и даже иудеев крестил по православным канонам, а не согласных потопил в Десне. Он захватил не только городскую казну, но и ограбил всех бояр, купцов, чиновников и богатых обывателей, а покончив с разорением города и крещением его в православие, распорядился принять от всех жителей присягу на верность ему. Лишь после этого начались пиры, на первом из которых Иван Грозный возгласил себя князем Полоцким и поблагодарил Господа Бога за то, что возвращено в лоно родной земли древнее княжество России, наследие достопамятной Гориславы, известна в истории наших междоусобий и ранним подданством Литве, которое позволило спастись половчанам от монгольского ига. Иван Грозный разослал по всем старейшим городам гонцов, чтобы народы России благодарили в молитвах Небо за столь знатную победу, а митрополиту Макарию написал: «...се ныне исполнилось пророчество дивного Петра митрополита, сказавшего, что Москва вознесёт руки свои на плечи врагов её».
Князь Владимир на всех пирах сидел по правую руку брата, но вроде бы даже не замечаемый им. Ни одного кубка не было поднято в честь разгрома туменов Девлет-Гирея, давшего возможность безоглядно идти на Полоцк; ни слова и о встрече Радзивилла — это смущало основательно, и князь Владимир ждал, когда же брат хоть как-то оценит его вклад в столь важную для России победу.
Не вдруг, но всё же — дождался. Разговор состоялся перед самым отъездом в Москву. Когда отшумели почестные пиры.
— Решил я тебя отблагодарить, брат мой Владимир, за ревностную службу мне, — вроде бы не ёрничая, заговорил Иван Грозный. — Подтверждаю за тобой Дмитров, ещё добавляю в удельное владение Звенигород. Поезжай туда, устраивай удел по своему усмотрению. Старицу я беру в царёву казну, под руку Поместного приказа.
Вот это — милость. Всем милостям — милость. Грабёж среди бела дня. Нет больше наследственной вотчины, есть только полунищие уделы. Да и путь в Кремль заказан. Пока не будет приглашения. Обидно до гнева. Вскоре, однако же, князь Владимир Андреевич порадовался тому, что оказался вдали от брата-царя. Разошёлся тот безудержно. Пыточная захлёбывалась в крови и сотрясалась от криков боли и отчаяния, а Лобному месту вернее бы подошло иное название: бойня. Пытали же и казнили в первую очередь тех, кто противился во время болезни Ивана Грозного присягать царевичу Дмитрию, которого, слава Богу, Господь прибрал безгрешным агнецем. Вот и подумаешь, где лучше, в Кремле быть или в занюханном Звенигороде. Здесь, как-никак, семья — любящая жена и пара сыновей, которых нужно растить честными и, что не менее важно, привычными к ратному делу. Для князя в России, с постоянными на неё набегами алчных соседей, знание ратного дела имеет первейшее значение.
Вот ещё одна весть из Москвы, вовсе обескураживающая: Иван Грозный покинул Кремль, отказавшись якобы от венца. Уехал со всей казной, со своим полком и подручными, которых вполне можно именовать заплечных дел мастерами. Не оставил в Кремле и жену, жестокую, злую красавицу. Куда его путь — тайна за семью печатями.
Хоть бы сгинул, изверг!
Письмо от матушки тут как тут. Не советует она, а принуждает скакать без промедления в Москву и брать власть в свои руки. Слишком чудачит Иван, убеждает она, пора ему дать под зад коленом.
Очень уж заманчиво. Но что-то удержало Владимира Андреевича от столь смелого шага. Будто знал князь, что письма матери не он один читает, но и Тайный дьяк, знающий содержание всех писем княгини Ефросинии (и не только к сыну), и сам Малюта Скуратов, а о содержании писем тут же докладывают Ивану Грозному. Тот, правда, всякий раз с деланным равнодушием от докладов этих отмахивался.
Даже подручные царя не знали, что выгодно Грозному: всё, что бы ни предпринял брат Владимир, стоит тому покинуть Звенигород без царского дозволения, сгинет князь в пути. Так у Грозного всё договорено. Не откликнулся князь Владимир на призыв матери, вышла лишь отсрочка расправы ещё на какое-то время. Без явного повода Иван Грозный не собирался казнить князя Владимира, дабы не прослыть братоубийцей. Расправится он с ним только в крайнем случае, если найдётся очень весомое объяснение жестокости, которое заткнёт рты любителям посудачить.
Только через несколько лет такая возможность появится, хотя любому здравомыслящему будет понятно, что повод для расправы, скорее всего, подстроен.
Взбунтовалась Астрахань, возбуждённая ногайскими князьями и Портой. Серьёзный урон для России, если столь важный торговый порт и не менее важный передовой для обороны и даже возможных присоединений к России южных земель обретёт полную независимость или, более того, станет враждебной — пресечётся торг с Прикаспийскими государствами и, главное, с Персией и Великой Моголией. Да и хищная Османская империя не заставит себя ждать.
Мятеж нужно подавить непременно. Подавить с наименьшей жестокостью, но предельной твёрдостью. Кого послать, чтоб и воевода, и авторитетен, как государственный представитель? И тут Борис Годунов с Богданом Бельским, который только-только получил чин оружничего, дали совет:
— Пошли, государь, во главе рати князя Владимира. Чего смутьяну сиднем сидеть, плетя сети коварства?
— Вроде бы ковы не строит. Нынче он тише воды, ниже травы.
— Не благодушествуй, государь. От матери письма ему идут не так уж и редко, а она не о душе печётся.
— Знаю. Сын-то, однако, не поднимает хвоста.
— Не прогадаешь, государь, послав его в Астрахань. Как воевода он стяжал славу удачливого. К тому же брат царя. Он не только Астрахань усмирит, но и ногаев приструнит. Да чтоб проверить, какие у него мысли в самом деле на уме, поход в самый раз сгодится. Не выпуская его из Звенигорода, разве узнаешь, как он поведёт себя, если получит свободу для действий.
Ещё немного посомневался Иван Грозный, но отступил под напором своих любимцев.
— Хорошо. Принимаю ваш совет.
Ликуют Бельский с Годуновым: удалось! Первый шаг по пути задуманного сделан. Начнёт полнить рать князь Владимир, можно будет обвинить его в заговоре. В каком? Там видно будет. Утро вечера мудренее. Либо уличить в намерении повести полки не в Астрахань, а на Москву, либо в желании, подавив мятеж, объявить себя великим князем Астраханским, всего Южного Поволжья и даже Южной Сибири, а накопив силы, дотянуться и до Кремля. Вот тогда Иван Васильевич в гневе расправится с братом, одним из законных претендентов на царский трон после смерти Грозного. А она, как рассчитывали Бельский с Годуновым, оба охотника за российским троном, уже не за горами.
Получив приказ царя-брата, Владимир Андреевич воспрял духом и уже на следующий день был в Разрядном приказе со своим предложением идти к Астрахани по Волге на боевых кораблях. А готовить эти корабли он предлагал по всем Верхневолжским городам, но главной базой для них определить Кострому, где есть большой затон, а город славен корабельных дел мастерами. Ко всему прочему, князю было известно, что в Костроме находилось более пяти дюжин боевых ладей, учанов и насадов, и если из Ярославля переправить туда все наличные ладьи и учаны, то получится довольно внушительная сила. Прибавить новые корабли, да ещё и юмы для перевозки огневого наряда, продуктов питания для ратников, корма для коней и — готов караван.
Сбор же самой рати, конных и пешцев следовало провести в Юрьевце, Балахне и в Нижнем Новгороде. Весной на полой воде поплывёт речная рать вниз без остановок. Споро пойдёт, без лишней сутолоки, что очень важно для внезапности.
До полой воды — добрых полгода. Вполне достаточно для подготовки. С лихвой.
Иван Грозный одобрил план брата и Разрядного приказа, велев самому князю Владимиру наблюдать за подготовкой, живя в Костроме, Юрьевец же, Балахну и Нижний Новгород навещать по мере необходимости, но во всех городах не выказывать своего пребывания. Тайность подготовки к походу — наиважнейшее условие.
Такое поведение Иван Грозный определил Владимиру Андреевичу по совету Богдана Бельского, согласованному с Борисом Годуновым. Тех осенило, как можно извести князя Владимира руками царя, и решили они действовать стремительно и смело. От Бельского в Кострому к знатным мужам города поскакал посланец со словом якобы государя, дабы достойно встретили они царёва брата, которому Иван Васильевич поручил столь ответственное дело.
Расчёт точный: кто осмелится уточнять у самого царя о его повелении, переданного через своего оружничего? Ну а заставь дурака Богу молиться, он весь лоб расшибёт. Вот и встретила Владимира Андреевича Кострома колокольным звоном да хлебом-солью, что поднесла дева краса. Глава города и воевода городовой рати поочерёдно устроили пышные пиры, их примеру последовали многие из бояр и богатых купцов — пару недель выворачивалась наизнанку костромская знать, чтобы угодить царёву брату и, стало быть, самому Ивану Грозному. Князю Владимиру остепенить бы ретивцев, но он, соскучившийся по славе, воспринимал почести словно должное, вовсе не думая, как отнесётся ко всему этому царь, и даже подумать не мог, что о его величании в Костроме постоянно докладывают Ивану Грозному, не забывая сильно приукрашивать происходящее.
Годунов же с Бельским недоумевали, отчего Грозный не опаляет брата за ослушание: о какой тайности может идти речь, если столько шума вокруг княжеской персоны? Только не принял Иван Грозный никаких мер даже после того, как поездки Владимира Андреевича в Юрьевец, в Балахну и в Нижний Новгород прошли тоже под колокольный звон. И всё же князь Владимир дал врагам своим тайным такие козыри, которые позволяли им выиграть безоговорочно: он вызвал в Кострому всю свою семью.
Казалось бы, что в этом особенного — не хотелось князю утешаться добрых полгода ласками сенных дев, вот и послал за женой. А детей, хотя они уже повзрослели, не оставлять же на руках у прислуги. Всё так, но можно и переиначить, пристегнув, да не забыть вовремя упомянуть княгиню Ефросинию.
В общем, поразмыслив, решились Годунов с Бельским на рискованный шаг, исполнять который суждено было Богдану Бельскому. Тот, улучив момент, как бы между прочим, сообщил Ивану Васильевичу:
— Государь, из Белоозера посланец к Владимиру Андреевичу пожаловал. Тайно.
Сказал Бельский и замер, ожидая резкого: «Не суй нос в дела моей семьи! Голову надоело носить на плечах?!» Минуты, однако же, шли, Иван Грозный всё более и более хмурился; рубанул, наконец:
— Прознать цель! С Тайным дьяком сообща!
Не совсем в строку лыко, ну, да — ладно. Тайный дьяк тоже человек, кого можно смутить, особенно если Годунов возьмётся за это дело.
Никто не может с полной уверенностью сказать, было ли крамольное предложение от княгини Ефросинии сыну и согласился ли он с ним, но Ивану Грозному поднесли так: тайный посланец, мол, под пыткой признал, что мать Владимира настоятельно советовала сыну не вести ополчённое войско в Астрахань, а захватить Москву, выбрав время, когда царь будет в Александровской слободе. Если же этот план покажется слишком рискованным, тогда, усмирив Астрахань, объявить себя великим князем Астраханского княжества, свободного от России, а присоединив к нему ещё Южную Сибирь с ногаями и собрав крупную рать, отвоевать российский трон, по духовной Василия Ивановича ему принадлежащий. И ещё добавили, будто Владимир Андреевич собирает колдунов, чтобы на него, царя, и его сыновей наслать порчу или отравить всех вместе.
Долго ждал Бельский ответного государева слава, и тот в гневе швырнул:
— Всё! Терпение лопнуло!
— Скажи, государь, тайно ли казнишь коварного или принародно?
Замешкался с ответом Иван Грозный, а Бельский уже твердит с готовностью:
— Дай пару дней. Подумавши, посоветую.
— Мозгуй.
Не обошлось без разговора с Годуновым, и ещё не успело солнце начать путь к западу, как после обмена мнениями план был готов: ниже Костромы в Караваеве, а для надёжности и в Наволоках посадить засады для осмотра всех судов, спускающихся в Нижний Новгород; в Ярославль тоже послать пару сотен из царёва полка; в Кострому ехать Бельскому как царскому послу; тайно же под рукой иметь до полутысячи мечебитцев-конников. Встречу братьев они наметили в Солотне, близ Александровской слободы.
— Денёк перегодим, будто напрягаем мозги. Завтра к вечеру доложим.
— Вдвоём — рискованно. Вдруг заподозрит что-либо Грозный? Тебе ли не знать, сколь он недоверчив.
— Ладно. Иди один. Обо мне лишь слово замолви, что всё придумали совместно. Но учти, тогда тебе одному и исполнять. Под силу ли?
— Под силу. И про тебя не забуду.
Обещанию союзника Годунов не поверил — и не ошибся: только от своего имени пересказал план Бельский.
Иван Васильевич одобрил его, высказав всего лишь одно пожелание:
— Семью тоже нужно привезти.
— И её приглашу, государь, — пообещал Бельский. — От твоего имени. Погостить, мол, у царя, пока решаются ратные дела. В крайнем случае, принуждением привезу.
— Согласен. Но без принуждения всё ж таки более желательно.
Сложное дело предстояло сделать Богдану Бельскому: разослать засады и рать в Ярославль быстро и, что особенно важно, в полной тайне. С одной стороны, любая задержка могла вызвать недовольство Ивана Грозного, но самая мелкая промашка могла испортить всё дело: кто поручится, что в Александровской слободе нет тайного сторонника князя Владимира, который успеет предупредить Кострому, а та возьмёт и ощетинится. Не было ясно и то, как поведёт себя Борис Годунов. Его тайные мысли за семью печатями.
Но вот отправлены засады, ушла и полутысяча, с воеводой которой Бельский до мелочей обговорил, как станут они взаимодействовать; пора в дорогу и самому оружничему. Однако как предстать перед князем Владимиром? В парадных доспехах или в охабне с собольим воротом-кобенякой и в собольей же шапке? Выбрал второе, ибо доспехи могут князя насторожить.
Ни к чему оказались все эти мудрствования: либо князь Владимир ловко притворяется, либо, в самом деле, не имеет крамольных намерений, свыкся с тем, что престола ему не видать. Принял он посла Ивана Васильевича со всеми почестями и, посчитав тот прибыл, чтобы узнать, как идёт подготовка речной флотилии к походу на Астрахань, сразу же поехал с гостем к затону, где уже были спущены на воду не только ладьи, учаны и насады, но и юмы под большой огневой наряд.
— Сразу же, как прошёл ледоход, все построенные корабли спустили на воду, чтоб не рассыхались. Через неделю придут корабли из Ярославля, и тогда я спускаюсь в Нижний.
— Всё увиденное обскажу Ивану Васильевичу, государю нашему, но вернее меня ты, князь, обо всём поведаешь царю самолично.
— Как? Ты, стало быть, не для смотрин?
— И да, и нет. Поглядеть велено, главное же — звать тебя в Александровскую слободу на совет. Новые вести пришли из Астрахани, вот и придётся что-то менять. Звал Иван Васильевич и семью твою погостить. Когда ты в Нижний подашься, он её возьмёт с собой в Кремль. Не везти же тебе в поход жену и юных сыновей?
— Вестимо. На днях думал отправить их в Дмитров. Но если царь зовёт в гости, как не уважить?
Вот так всё и уладилось. За пару дней составили поезд с крытыми повозками для женщин и детей. И даже для дорожного скарба. Сам же князь Владимир, как и его путные слуги — верхом. Выехали на рассвете, и будто природа выведала о последнем пути обречённых и полила на них слёзы. Не гроза весенняя взыграла, а пошёл нудный обложной дождь, более свойственный осени; уже к обеду дорога раскисла основательно, пришлось останавливаться в первом постоялом дворе, переждать непогоду.
И тут свершилось похожее на чудо: почти сразу же потянулись на поклон к князю Владимиру поначалу простолюдины, следом дворяне, а там и бояре из ближних усадьб — ударили колокола на погостовской церкви, созывая на торжественный молебен. Князь же Владимир не радовался такому почёту, а хмурился. Он-то знал, с какой ревностью воспринимает Грозный чужой успех, и он помнил многих, сложивших за это головы. Людей честных, прямодушных, заслуживших славу своими достоинствами. Один князь Воротынский — ярчайший тому пример.
Однако князь Владимир не запротестовал так же как в Костроме и в иных городах, где его с почётом встречали, но если там он даже не думал, что брат может узнать о почестях ему, князю, то здесь было иное дело — тут оружничий под рукой, который может доложить государю всё как есть. Понимая всё, не предложил князь всем разойтись и разъехаться по домам, а смиренно принимал славословия, не воспротивился и торжественному молебну, а, напротив, вошёл в церковь с женой и детьми и встал на почётное место.
Поднаторевший в интригах, Богдан Бельский воспринял происходящее не иначе как ловкий ход Годунова: вдруг он, Бельский, не придаст чествованию Владимира большого значения, не доложит о нём государю, тогда опалы не миновать. Предположив подобное, Бельский срочно послал к Ивану Грозному гонца, повелев тому рассказать обо всём увиденном да не забыть приукрасить.
Дождь прекратился только к полуночи, решено было переждать денёк, дабы хоть немного подсохли дороги, и весь день князя Владимира одолевали челобитчики, а он от них не отмахивался, обещая каждому посильное содействие. Напрямую кощунствовал, берясь за то, что ему делать не пристало бы. Разве мог Богдан Бельский не донести об этом Ивану Грозному?
Хотя и медленно двигался поезд, однако Александровская слобода неумолимо приближалась. Богдан уже получил царское подтверждение, что остановка в Слотне должна быть, как и обговаривалось прежде, с маленьким добавлением: из Слотни пусть, мол, князь Владимир пошлёт в Слободу весть о себе и ждёт ответного слова, а в это время подтянуть тайную полутысячу кремлёвских стрельцов как можно ближе к деревне, и лишь только он, царь, минует околицу, тут же охватить деревню плотным обручем.
Сказать напрямую о воле Грозного, желавшего чтобы до его, царского, слова поезд оставался в деревне, Бельский не хотел, ибо видел в этом возможное осложнение, поэтому поступил вроде бы как добрый советчик:
— Предупредил бы ты, князь Владимир, государя нашего о том, что на подъезде. Пусть изготовится он к встрече. В Слотне, в нескольких вёрстах от Слободы, и подожди ответного его слова.
Впервые Богдан Бельский прочёл недоумение в глазах князя Владимира. Не посол же он иностранной державы, чтобы ждать царского ответного слова. Послать вестника действительно нужно, об этом он и сам уже думал, но ради чего ждать?
Однако недоумение отразилось в глазах князя лишь на самое короткое время; снова добродушно-доверчивый взгляд и смиренный ответ:
— Разумный твой совет. Теперь же пошлю вестника.
— А не лучше ли, когда Слотни достигнем?
Богдану Бельскому такой вариант сподручней.
Станет у него больше времени подтянуть полутысячу к самой опушке леса, который подступает вплотную к сельскому выпасу. Оттуда мигом можно на полном скаку окружить деревню. Вот он и ждал удобного для себя ответа.
— Можно и так поступить, — после маленькой задержки согласился князь Владимир Андреевич, но в голосе его уже заметно прозвучали тревожные нотки.
Да, непокой с этого времени одолевал князя неотступно, хотя он всеми силами пытался отделаться от тревожных предчувствий, и ему это в какой-то мере удалось, но в Слотне тревога возродилась с новой силой, подтолкнул к этому вопрос княгини Евдокии:
— Чего это мы встали?
— Ивану Васильевичу весть пошлю о нашем прибытии.
— Посылай, ради Бога. Я спрашиваю: остановились для какой надобности?
— Подождём ответного слова его.
— Иль не родные вы? Чего ради такая морока?
В самом деле, если раскинуть умом, то действительно — морока. Однако Иван, царь-самовластец, просто так шагу не ступит. Хитёр и коварен. Делать, однако, теперь уж нечего, прежде нужно было предвидеть.
«Обереги нас, Господи. Особенно сыновей моих и супругу любимую...»
Но рок давно уже определил иное, а его предначертания никому непосильно изменить.
Ждать развязки пришлось совсем немного: на дороге из Александровской слободы показался сам царь с очень малой свитой. Двигался отряд лёгкой рысью. Вроде бы всё покойно. Отлегло на малое время у князя Владимира от сердца. Но вот Иван Грозный миновал околицу, переведя коня на шаг, и тут из леса, что слева подступал к выпасам, выпластал многосотенный отряд конных стрельцов в полных боевых доспехах, и неслись стрельцы словно к неминуемой кровавой сече — всадники на полном скаку начали обтекать деревню справа и слева.
Княгиня Евдокия в страхе прижалась к мужу.
— Конец наш пришёл! Конец!
Она женским чутким сердцем почувствовала беду не только для мужа, но и для себя и детей своих; знала, как расправляется Грозный с опальными: никого из родных не щадит.
Мамки и няньки подвели к князю и княгине их детей, и княгиня обхватила сыновей, прижав к себе. Хотела было подбодрить их, но не решилась лукавить в последний час их жизни.
— Сыны мои, вы такие же Владимировичи, как и тиран царствующий, который приближается к нам. Не жмитесь покорно, не кланяйтесь раболепно. Не позорьте рода своего. Помните, честь превыше всего!
Мамки и няньки залились слезами, слушая княгиню, но она произнесла строго:
— Не время ещё оплакивать. Поостерегитесь, однако, и вы. Укройтесь в домах.
— Мы не отойдём от вас, — твёрдо заявили мамки, в один голос с ними высказались и скучившиеся вокруг господ боярыни и служанки княгини, да безоружные слуги путные. Охрану поезда взял на себя Богдан Бельский, посоветовав оставить малую дружину в Костроме, наказав ей спуститься в Нижний Новгород с речной ратью и ждать там своего князя.
«Зря послушал, — упрекнул себя князь Владимир и хмыкнул: — Не всё ли равно? Разве плетью обух перешибёшь? »
Смерть, что принята в сече, не краше ли смерти от топора палача или яда?
С приближением царя Евдокия настойчивее потребовала от всех слуг, чтобы они укрылись, разошлись по ближайшим домам, оставив их одних, но никто из слуг не пошевелился.
А Грозный уже совсем близко, а Бельский сычом глядит, запоминая, кто не просто служит князю по обязанности, а предан ему душой и сердцем, чтобы о таких верных князю людях сказать самодержавцу слово, приговорив тем самым и их к лютой смерти.
Князь Владимир поднял руку.
— Мы кланяемся вам низко за верную службу вашу, но теперь послушайте княгиню, разойдитесь по домам, оставьте нас одних.
Воля князя непререкаема. Пошли слуги, понурив головы, словно на казнь.
— А мы, — обратился он к жене и сыновьям, — войдём в церковь и станем в молитве восхвалять Господа Бога нашего.
— Исповедоваться бы не грех.
Только они вступили на паперть, как не только поп, но и пономарь, чтец, иподиякон выскользнули из церкви через задние двери. Они службу правили вблизи Александровской слободы и были весьма наслышаны о гневе царя не только на мирян, но и на священнослужителей.
Тишина в церкви замогильная. Ни души.
— О! Господи! — вырвался стон у княгини. — Даже слуги Божьи бегут! Что же ты, царь-изверг, сотворил с Россией?! Какой ты помазанник Божий?!
— Не гневись душой, не вскипай сердцем, — посоветовал жене князь Владимир. — Давай помолимся с покаянием, дабы простил Всевышний грехи наши вольные и невольные.
Не успели они опуститься на колени, как в церковь вошёл Грозный. По правую руку — наследник престола, сын Иван, по левую — Фёдор. На шаг отстав, шли приближённые: достойный преемник Малюты Скуратова Богдан Бельский и наглый хитрован Борис Годунов. За их спинами — чашники с четырьмя кубками вина в руках.
Выходит, никого из семьи не намерен щадить. Даже детей, чистых душой.
С низким поклоном и иезуитской ухмылкой на лице государь предложил:
— Выпьем за здоровье наше, дорогие гости мои.
Царю подали кубок с вином. Ясное дело, с не отравленным. Поднесли ядовитые кубки князю Владимиру, княгине Евдокии и юным княжичам. Но те не спешили их брать. Тогда Иван Грозный вновь произнёс с язвительной ухмылкой:
— Сдвинем кубки за здравие.
— Не в храме же Божьем творить лихо? — вполне спокойно ответил князь Владимир, отводя руку подающего ему кубок. — Не в церкви же свершать смертный грех, умерщвляя детей неповинных и женщину.
— Тебе ли говорить о смертном грехе, кто намерился умертвить меня и всю мою семью, самому же сесть на престол, завещанный мне самим Господом Богом?! Не по твоей ли тайной воле гибли мои жёны от яда?! Не ты ли ускорил смерть моего первенца?! Пей теперь сам, чем желал напоить меня!
— Нет! Не грешен я! Да, было искушение в дни твоей болезни, но не себя ради алкал я, а державы для. Твоё малолетство дорого стоило России. Семибоярщина загнала её в угол. Малолетство Дмитрия, первенца твоего, совсем бы подорвало державу. Не хотел ни я, ни многие бояре и дворяне, тебе душой преданные, отдавать власть на откуп Шуйским и иным таким же, кому не держава дорога, а живот свой. Но былое быльём поросло. Я давно служу тебе праведно...
— Не гневи Бога. С твоей подачи травили моих жён. И теперь вот замыслил на меня. Господь уберёг своего помазанника, потому простит мой вынужденный грех. Пей!
— Нет! Я не хочу быть похороненным без покаяния, как самоубийца! Не желаю!
Прильнула к нему княгиня Евдокия и заговорила, словно горлица:
— С покаянием ли схоронят после топора палача? Судьбу не переиначишь. Смирись. Твоему примеру последуем и мы. А покаяние? Не мы же себя травим, а мучитель наш. Рассудит Всевышний и даст каждому по заслугам его.
Князь поцеловал жену и молвил с облегчением:
— Ты права.
Благословил сыновей Владимир Андреевич, попросив у них прощения, что не смог уберечь их от ранней смерти, чем пресёк род древнейший.
— Не на тебе, отец, вина, — ответили в один голос сыновья, поклонившись ему.
— Ишь ты, малы-малы, а туда же. На ком вина — Бог рассудит!
— Что верно, то верно. Каждому по делам его. Выпьем яд и станем молиться, — князь Владимир взял кубок. — За здравие твоё, государь.
Слова княгини Евдокии совсем иные:
— Будь ты проклят, изверг! Желаю от всего сердца тебе безвременной кончины! И твоим сыновьям! И вот этим, и тем, кто родится!
Сыновья князя Владимира осушили кубки молча и величественно возвратили их слугам. Затем все четверо опустились на колени и принялись молиться, прося у Бога принять их души грешные без покаяния, а своей волей покарать царя-злодея.
Началась агония. Иван Грозный с наслаждением взирал на терзания отравленных. Он, было видно, упивался местью, и Богдан Бельский, глядя на царя, думал: «Неужели и впрямь считает, будто князь Владимир замышлял его отравить? »
Похоже, так и было. Умело охотники за троном подсовывали измышления царю и вполне убедили его в нужном для себя мнении.
Не покинул Грозный церкви, пока не окончились муки несчастных, после чего велел привести всех слуг брата. Когда же они, уверенные в скорой над ними расправе, предстали пред очами самовластца, Грозный, указав перстом на трупы, заговорил торжествующе:
— Вот они, умышлявшие против меня злодейства! Вы служили им, потому и для вас подобная кара, — вздохнув, продолжил ещё более торжествующе: — Но я милую вас. Вы свободны.
Мужчины повиновались, поспешно покинув церковь, боярыни же и сенные девушки даже не шелохнулись.
— А вы чего ждёте?
Выступила на полшага ближняя боярыня княгини Евдокии, плюнула на Ивана Грозного и заговорила решительно:
— Мы гнушаемся твоей милости, кровожадный псиголовец! Растерзай и нас! Гнушаясь тобой, презираем жизнь и муки.
И ещё раз плюнула, целясь уже в лицо царю.
Страшно было даже смотреть на Грозного, не то чтобы представить, что ждёт женщин. Казалось, государь сам кинется на оскорбительницу и вцепится ей в горло словно настоящий волкодлав, упиваясь кровью и обрастая колючей шерстью, но он всё же, сдержав себя, принялся диктовать волю свою со зловещим спокойствием:
— Тебе, сын мой, — взгляд в сторону наследника престола великого князя Ивана, — и тебе, оружничий, раздеть этих донага и умертвить стрелами. Да не сразу чтоб приняли смерть. Наказать лучникам, чтоб в сердце и шею не целились бы. А тебе, сын мой Фёдор, и тебе, Борис, приказываю ехать в Слободу и молиться за упокой душ дурных и злых баб.
Иван Грозный ещё продолжал распоряжаться, а некоторые из наиболее отчаянных дев принялись скидывать сарафаны, преодолевая в ненависти своей к царю-мучителю стыд девичий. Их примеру последовали боярыни — через несколько минут женщины сбросили с себя все одежды, оставшись в чём мать родила. Избавили палачей от труда раздевать их.
— За мной! — прикрикнул наследник престола и зашагал к изгороди, отделявшей кладбище от церковного двора.
Богдан Бельский своим путным слугам велел присупонивать приговорённых к казни боярынь и сенных служанок к слегам, сам же тем временем принялся отбирать десятка три лучников, кто по доброй воле готов был бы стать исполнителем царского приказа.
Вызвалась только дюжина. Маловато, но — ничего. Управятся, потратив лишь немного больше времени. Впрочем, это даже хорошо. Будет более в угоду царю-батюшке.
Стоят жёны и девы, озябшие на прохладном ветерке, кожа от него стала как у гусынь общипанных, но они, гордые решительностью своей, великой чести поступками, не обращают внимание на подобную мелочь, даже не берут во внимание стыд — глядят гордо на царского сына, на коварного Бельского и на дюжину лучников, обсуждающих, с какого расстояния лучше пускать стрелы, чтобы впивались они в тела жертв на излёте, не принося им моментальной смерти.
— Саженей с дюжину и — довольно будет, — советует один из лучников, но великий князь Иван Иванович так на советчика зыркнул, что тот прикусил язык.
— Два десятка саженей. Не меньше, — твёрдо установил наследник престола, и все склонили головы.
Кто же станет перечить царскому сыну, такому же спорому на расправу, как и отец, такому же гневливому. Начали отмерять шагами. И никто, ни девы и жёны, прекрасные в наготе своей, ни те, кто готовился истязать их, вроде бы не слышали вовсе, как заливается в пышной зелени лещины церковного кладбища соловей, а в его трель вплетается плаксивое «фюи, фюи» иволги (словно сгоняет её кто-то злой с гнезда или уносит детишек малых); столь же тревожно многоголосили иные птахи, а над всеми ими как бы господствовало воронье карканье, утверждавшее своё господство не над гнездом или веткой, а над всей кладбищенской рощей: птичий мир жил своими заботами, люди — своими. Одни готовились с достоинством встретить истязания и смерть, другие — истязать до смерти. Что же, такова жизнь. По законам ли она природы или вопреки им, но она такая, какая есть.
Выровнялись лучники на определённом месте. Великий князь Иван наставляет:
— В перси их пышные. В руки лебединые. В ноги соблазнительные. В бёдра округлые. Да не слишком натягивайте тетивы. Чтоб лишь поклёвки были. Давай.
Полетели стрелы с мягким шелестом, впиваясь в перси, ноги, руки, бёдра. Совсем неглубоко. И всё же три пригожих девы повисли на путах с пронзёнными сердцами, и наследник престола вскипел гневом:
— Вы что?! На их место хотите?! Сказано как стрелять, так и стреляй. Ещё хоть одна стрела в сердце угодит, всех вас попривяжу рядом с упрямыми и неблагодарными холопками!
Кому хочется быть привязанными к кладбищенской изгороди, да ещё нагим? Больше не сердобольничали стрелявшие.
Когда выпустили по десятку стрел, великий князь Иван приказал Бельскому:
— Приведи новичков. Пусть поупражняются в стрельбе.
Молодых стрельцов много. Почти полусотня. Когда Богдан Бельский собрал всех, несчастные боярыни и сенные девы уже медленно истекали кровью. Вместе с кровью улетучивалась, кажется, у них и гордость за свой смелый поступок, они всё более и более теряли бодрость духа, их головы свисали на груди, словно безжизненные, тяжёлые косы повисли никчёмными плетями. Без былой красоты своей.
Подошли новички, скованные робостью. А Богдан Бельский спросил грозно:
— Вы кто?! Мужи ратные или слюнтяи?! Если маменькины сынки, скидавайте доспехи да надевайте сарафаны. А коли в царёв полк взяты, покалывайте удаль свою, крепость руки и точность глаза. Не жёны и девы перед вами, но враги царёвы, кому вы присягнули служить верой и правдой животом своим!
— Верные слова, — положил руку на плечо Польского великий князь Иван. — Или служи, и ни — вон!
После такого напутствия новички из кожи лезли, выказывая умелость и старание. Когда колчаны пустели, они шли вырывать стрелы из тел окровавленных и вновь возвращались на прежнее место, чтобы снова пускать стрелы в истекающих кровью боярынь и сенных дев, уже безразличных ко всему, потерявших чувство времени и боли.
Только к вечеру закончился разгул кровожадности, и тогда, собрав деревенских мужиков, Богдан Бельский велел им выкопать общую могилу за оградой церковного двора и без покаяния свалить казнённых в эту общую яму. Бугра не велел поднимать.
— Ровняйте с землёй, чтоб заросло травой и не привлекало взора.
— Не по-христиански такое: над могилкой попанихидил бы наш поп.
— Не шкни. Или спешка в эту могилу ложиться?
Закончив урок, пошли по домам, дорогой уговорившись меж собой, что на сороковой день заставят попа отслужить поминальную службу по убиенным, поставят оградку и водрузят крест.
— Небось завтра же позабудет царь-батюшка о содеянном.
— И то... У него сколько казней позади, да сколько ещё впереди. О всех помнить — голова вспухнет.
ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ
Поезд, названный посольским, выехал ранним утром через Фроловские ворота Кремля и направился на Ярославскую дорогу. Путь поезда вначале к святому Сергию, а после поклонения его мощам, через Ярославль и Вологду — в Холмогоры. Впереди ехали посол царя Ивана Грозного к царю датскому дьяк Посольского приказа Дмитрий Герасимов и чуточку приотстав от Герасимова, князь-воевода Хилков, а слева, на полкорпуса отстав от них, сутулился в седле, держась за луку, известный на всё Поморье кормщик Семён Веригин. Тихо на улицах Москвы. Только перекличка горластых петухов да лай дворняжек, усилившийся, когда посольский поезд втянулся в Скородом, нарушали ещё сонное спокойствие города.
Вот и прямоезжая дорога на Ярославль, через Сергиеву лавру. Герасимов пустил коня рысью, не взяв на то согласия князя Хилкова, и это ещё более омрачило чело храброго и удачливого в сечах воеводы.
«Ишь! Нос дерёт! Почтил его царь посольством, на сивой кобыле не объедешь!»
Обида князя Хилкова объяснима: сам государь наставлял его на воеводство в гавань Святого Николая, где строить ему порт и новую крепость на берегу Студёного моря[47] — Архангельск. Ему же надо ополчать крупные ратные отряды не только в устье Северной Двины, но и Мезенской губе, чтобы можно было крепким тычком встретить шведов, которых король польский Баторий[48] натравливает на Россию. Король советовал шведам наряду с боевыми действиями в Ливонии нанести главный удар по Коле, по Холмогорам и Мезени, и высадив там отряды, идти к берегам Онежского озера. Благодаря этим неожиданным и стремительным ударам будет, по расчёту договаривающихся, завоёван богатейший и важный для торговли край России.
Расчёт на неожиданность не удался: доброхоты российские при королевском дворе известили Ивана Грозного о коварном замысле Батория и царь земли Русской велел срочно строить боевые корабли близ Вологды, чтобы затем, выведя их в Балтийское море речными путями, налететь на шведов оттуда, откуда они вовсе не ожидают удара. Чтобы манёвр этот оказался неожиданным, предстояло надёжно защитить берега Кольского залива и Белого моря. На него, князя Хилкова, царь и взвалил столь тяжелейший груз, ему и быть передовым, так нет впереди — посольский выезд.
«Через губу не плюёт посольский дьяк. Молчит, гордыню свою теша».
Зряшнее недовольство князя Хилкова: не чинится дьяк Герасимов. Ему впервые выпало возглавлять посольство, да ещё какое?! Конечно, в посольских делах он не новичок, но всегда прежде он был на вторых или даже третьих ролях. Правда, он частенько подсказывал главам посольств, как ловчее вести переговоры в том или ином случае, дабы переупрямить упрямцев, за что его и ценили. Теперь, однако же, он сам в ответе за успех переговоров, а они, как можно было предвидеть, будут очень и очень трудными: нужно во что бы то ни стало повернуть Данию лицом к России в ущерб Швеции. Известно, у Дании со Швецией есть серьёзные противоречия, но так ли они велики, чтобы превратиться в откровенно враждебные, к тому же в угоду Москве, которую почти все европейские королевства начали более опасаться, нежели уважать. Вот и ломал голову дьяк Герасимов над тем, как ловчее исхитриться, чтобы со славою завершить посольство. Сразу же, как получил урок от царя. Всё остальное: сборы, прощальный пир, благословение митрополита накануне выезда и сам выезд, будто скользили мимо, едва воспринимаемые.
Едва сел Герасимов в седло, как вовсе погрузился в свои мысли и даже не замечал, что конь его сразу же выпялился на целую голову вперёд. Не замечал дьяк и сердитости князя Хилкова, не слышал его нарочито громкого сопения.
Иное дело — Семён Веригин. Он, привыкший водить артели промышленников, чутко улавливал настроение сотоварищей, и если замечал хотя бы маленькую трещину в отношениях артельных, тут же принимал меры, упреждающие возможный разлом. Вековой поморский опыт убеждал в том, что только дружная команда удачлива в промысле, и ей легче бороться с каверзами Студёного моря и Океана-Батюшки. А в дальних походах в Мангазею или к Анианову проливу, на другом берегу которого лежит богатейшая зверем земля Аляска, как можно без крепкой мужской дружбы?
Нет, Веригин не осуждал ни князя, ни дьяка, ибо не знаком ему был уклад жизни у окружающих царя, но он ни за что бы, будь его воля, не ехал бы сейчас впереди, а смешался бы с детьми боярскими, которым предстояло оборонять порт Архангельский, устроенный в Двинской губе, близ монастыря Святого Николая. С этими людьми проще, к тому же они должны остаться на постоянное житьё в Поморье и с любопытством станут слушать его рассказы и о природе края, и о богатых промыслах. Царь Иван Грозный, однако, определил кормщика в товарищи к воеводе, да ещё ответственным за своевременный выход в море посольства, а разве царю станешь перечить?
Не очень уютно уважаемому поморскому кормчему, но он всё же держит себя достойно. Рылом в грязь не тычется. Ещё при встрече с дьяками Посольского приказа, которым проводила его воротниковая стража, узнавшая, с какой целью он хочет видеть царя, да и при встрече с самим царём не падал Веригин на колени, не позорил поморской чести. Поклониться — поклонился. Поясно. Не ему, не единожды зимовавшему в становищах Новой Земли и на Груманте, ходившему не только в Мангазею, но и за Аниан пролив на Аляску и даже спускавшемуся далее Курильских островов, ломать шапку. Подати он платит сполна, а что ещё от него требуется? Правда, сесть на узорчатый полавочник без приглашения хозяина кормчий не посмел — не принято у поморов ступать за воронец, а тем более плюхаться на лавку без приглашения. Вот он и ждал, пока читали уже переведённое с аглицкого послание, вручённое ему на совете кормщиков и стариков для доставки царю.
Слушал внимательно. Вроде бы какое ему дело, что вож аглицкого парусника передал царю Грозному, но любопытство — не игрушка бездельная. Тем более что ему уже сказал один из подьячих, вроде то послание от самой королевы аглицкой. О дружбе и прибыльной торговле просит. А это и для него, помора, утешно.
Вот дьяк Посольского приказа умолк и замер в почтительности, готовый ответить царю на любой его вопрос, но Иван Грозный не к дьяку обратился, а повернул лик свой к нему, кормщику.
— Садись, — указал царь перстом на лавку, — поведай, как встретили вы англичанина? Мирно? Либо с пальбой?
— Мирно. Он не палил, хотя пушки у корабля имелись и на кичке, и по бортам, а мы чего ради станем пушками встречать?
— А есть они у вас?
— Как не быть? Лабазов в губе — полно. Варяги охрану несут. Не только из поморов, пришлых много варяжит. Иные из них голландский и шведский хорошо знают. Вот они и разговаривали с кормчим, что привёл парусник в губу. Одно скажу точно: не промышленное судно. Скорее — воинское. Потрёпанное только уж сильно. Кормщик у них называется кепом. Вот он и сказывал, будто три корабля — каравеллы трёхмачтовые — хотели пройти на восток дальше, даже восточней Новой Земли. У Канина носа с нашими ладьями встретились. Более двух дюжин их шло на Новую Землю и на Грумант. Наши вожи растолковали, показав даже карты, как пройти за Вайгач в Мангазейское море, всяк после того поплыл своим путём. Две каравеллы, как сказал их кеп, назвавшийся Дженкинсоном, сгинули после раскидавшей парусники бури. А ему, дескать, повезло: Пресвятая Богородица, милость, мол, проявила.
— Не ладно то, что пути по Ледовитому океану иноземным мореплавателям показывают наши промышленники, — вовсе не серчая, а в задумчивости проговорил Иван Грозный, — не гоже такое.
— Верно, — согласился Семён Веригин. — Вцепятся клещами в добрые промысловые места, начнут почём зря бить зверя. Без расчёта. Им наплевать, что после них останется. Не своё, оно и есть — не своё.
— Не о разбойном промысле я речь веду, хотя и о нём мысли нужно иметь, говорю о том, что они с берегов океана начнут захват земли Сибирской. Данью обложат обских и ленских людишек. Какой ущерб казне нашей? А они — не Кучум[49]. Их из Сибири ничем тогда не выкуришь.
Что верно, то — верно. Только не его, кормщика, забота. На то они, правители, сладко живут в Кремле, чтобы думать, по какому стригу вести державу. Его же дело — промышлять. Пошлину исправно платить, что он и делает по чести и совести. Теперь же, вручив послание аглицкой королевы, надо возвращаться домой, за своё привычное дело браться.
Однако Иван Грозный рассудил иначе:
— Мне сказали, ты — знатный кормщик и род твой среди поморов знатен?
— Не без того.
— Вот и послужи в угоду державе моей. Не промыслом. Стань добрым советником князю Хилкову, кого я пошлю воеводой на Двину и Мезень. Укажешь, где сподручней пристани ставить, а затем, рукава засучив, станешь исполнять намеченное. Вместе с князем. В товарищи ему тебя определяю. Не в слуги ближние, а в товарищи.
«Ого?! По Сеньке ли шапка? Но отчего — нет? Не лыком же он, Семён Веригин, шит. Мезенскую губу и устье Северной Двины знает как свои пять пальцев. Да и мастеровых наберёт таких, что с любой работой справятся. Было бы чем платить. С крепостями посложней будет. Но и это, если поразмышлять, не такое уж непосильное бремя». — Мысли мгновенно пронеслись в голове кормщика, и он почти без промедления поклонился царю поясно:
— Благодарствую, государь. Не ударю в грязь лицом.
— И ещё один урок: своим глазом погляди, чтоб доброе судно снарядили для посольства моего, да кормщика найди, знающего путь морем в Бельгию. Туда посольство направляю.
— Путь знаком почти всем нашим кормщикам.
— Лучшего определи! — осерчал на неопределённость ответа Иван Грозный. — Головой ответишь, ели посольство повезёт неумеха!
Хотелось ответить, что море — не вылизанный кремлёвский двор, не прямоезжие дороги меж старейшими городами, однако впитанный с молоком матери такт не позволил перечить государю, да и униженно заверять, что честно исполнит урок, к лицу ли знатному промышленнику? Кивнул только в ответ согласно.
Притихла палата: сейчас Иван Грозный вспылит и в лучшем случае выгонит вон гордеца-помора. Простому кормщику выпала вдруг такая честь, а он в ответ не кланяется земным поклоном и не благодарит государя за столь щедрую милость! Иван Грозный так и хотел поступить: огреть посохом гордеца, выгнать вон, но, к удивлению государя, гнев его быстро улетучился.
«Уверен в себе, худо ли? Без корысти службу станет править», — подумал царь, но всё же сказал строго:
— Запомни, за промашку живота можно лишиться!
Плюнуть бы на всё после такой угрозы, показав спину царю-батюшке, но разве дозволено простолюдину подобное? Не случайно мудрость народная учит: чтобы сохранить свою голову, лучше не знать ни царёвой любви, ни тем более царёва гнева.
«Ладно, не единожды приходилось поединничать с пакостным ветром. Одолею и этот».
Действительно, теперь хочешь или нет, а поднимай якорь и — в путь. Каким бы он заковыристым ни стал.
Таким вот образом и оказался вож-промышленник в едином карбасе с князем и дьяком. Всё бы, конечно, ничего, они тоже люди, но худо то, что они серчают друг на друга, а такое — не лыко в строку. Долог будет их путь совместный, да и совместная работа не на один день. Совсем не нравятся Веригину насупленные спутники. С каким бы удовольствием придержал бы он своего коня и, отстав, присоединился к детям боярским, которые громко и весело переговариваются, порой заливаются искромётным смехом. Увы, назвался груздем — полезай в кузовок. Стало быть, выход один: помирить князя и дьяка, не в лоб действуя. Как обычно ему удавалось тушить начинавшие тлеть раздоры в своей промышленной артели.
«За ужином подброшу мыслишку, пусть объединясь подумают». Только прежде, чем подбрасывать мыслишку, нужно найти самую ловкую, что будет как раз к этому случаю. Вот и углубился в свои мысли Семён Веригин, больше не тяготясь сердитым молчанием спутников.
Привал с трапезой прошёл в скупых разговорах, после него ехали тоже почти молчком, а вот ужин, приготовленный тиуном погоста без скаредности да ещё с доброй медовухой, в какой-то мере оживил путников, и Семён Веригин начал действовать. Выбрал момент, когда речь пошла о том, как мог войти английский корабль в гавань Святого Николая.
— Поначалу и мы изрядно удивились, — вставил своё слово Веригин, — только опытным кормчим знаемы рукава Двины. Чуть что, и сядешь на намывную банку.
— Счастье улыбнулось, — глубокомысленно заключил тиун.
— Счастье? — хмыкнул кормщик. — У Канина носа с англичанами встретились наши промышленники. Более двух дюжин промысловых судов. Одни шли на Грумант, другие на Новую Землю. Пообщались, как принято у мореходцев. Узнав, что иноземцы намерены идти на Восток, наши вожи разложили перед ними чертежи и Новой Земли и пути в Мангазейское море, и даже пути до пролива Аннана. Сам Дженкинсон нам об этом рассказал. Когда бурей раскидало их парусники, не весьма остойчивые для наших морей, Дженкинсон и повёл свой корабль в гирло[50] Белого моря и дальше — в устье Северной Двины. Чертёж Двинского устья он видел и хорошо его запомнил.
— А у них самих чертежи имеются? — спросил дьяк Герасимов. — Или идут вслепую?
— Есть. Я на них даже глядел. Похоже, с наших, поморских, перечерчены. Один к одному. Даже названия наши, русские. Только Грумантские острова, Малый Брун и Большой Брун на свой манер обозвали: Ост и Вест Шпицбергены.
Из простого любопытства спросил о картах северных российских морей Герасимов, впрочем, не вдаваясь в глубинную суть проблемы, да и кормчий Веригин отвлёк внимание подробностями встречи с английскими мореходами.
— Бросили якоря, не подходя к причалу. У пушек — прислуга, с горящими факелами в руках. Чуть что — ядрами плеваться начнут. Только нам такая страшилка меж дела: корабль ихний в помощи нуждается. Не паруса, а лохмотья. Мачты вкривь и вкось. Вот мы на карбасы и — к бедолагам. На всякий случай, белый стяг держим на поднятом весле. Были бы это голландцы, мы бы ладно с ними разговоры начали, а тут — иное что-то. Благо, толмач у них имелся на борту, вот всё и пошло ладом.
Кормчий Веригин не стал сообщать о той первоначальной настороженности, с какой отнеслись англичане к предложению перейти в Саломбалку, где можно им отремонтировать судно. Не поведал, что чуть ли не силком заставили иноземцев поднять якоря; умолчал даже о том, как Дженкинсон настаивал прежде начала ремонта условиться о цене, на что в ответ мастеровые да и кормчие со своими артелями только ухмылялись, пряча ради приличия ухмылки в своих окладистых бородах.
— Когда каравеллу привели в порядок, кеп со своими фунтами — к нам. Мы же ему толкуем, что ничего не сделали сверх нашего поморского устава, а устав тот твёрд: помоги без всякой корысти попавшему в беду судну. Дженкинсон гнёт своё: не можно, дескать, без оплаты. Так и не понял наши правила, посчитал, должно быть, что мы опасаемся продешевить, поступил так: на подходе к причалу он оставил свои фунты. Пусть, дескать, каждый возьмёт столько, на сколько оценивает сам свой труд. Никто из поморов, понятное дело, ни гроша не взял, вот тогда иноземные мореходы стали к нам относиться с поклонами, а их кеп, не скрывая, показал чертежи свои. Правильней-то будет, не свои, а наши. Только, так подумал не я один, хитрил он. За простаков нас прочёл, намерился есть масло, так ложками. Захотел, чтобы мы пособили подправить, что не так на его чертежах, да и путь до Анина пролива более подробно пояснить. Только мы, кормчие, раскусили его хитрость и, будто сговорившись, взахлёб принялись хвалить его чертежи. А кормщик Прижогин, хитрован, принялся всё же подсказывать ему, что где не так, всё на свете путая. Ну а все остальные молча кивали бородами.
— Отчего так? — пока не отдавая отчёта себе, чего ради ему это нужно знать, спросил Дмитрий Герасимов.
— Иль не ясно? Ход на Новую Землю, в Печерский край, на Мангазею, до земли до Аляски они освоят, торг нам станут перебивать. Да и промышлять начнут не по-хозяйски, чтоб потомкам оставалось, а подчистую. Не своё, оно и есть — не своё. Только вот судят меж собой не только государи-кормщики, корабельные вожи, простые артельщики, но и зуйки, едва к промыслу прикоснувшиеся, что оборонять-то стоит и Кольский, и Белое море, и все берега Батюшки Океана Студёного.
— А чего ради, думаешь, из Москвы направлен я к вам? — спросил горделиво князь Хилков. — Чего ради дети боярские со мной?
— Капля в море, князь, — возразил ему Веригин. — Крепости в Двинской губе и на Мезени, слов нет, это добрая оборона Поморья, только я об ином: Океан Батюшко Студёный оборонять нужда есть. До самой до Аляски, а то и всю Аляску.
— Ого, губа не дура!
Не к душе слова княжеские знатному кормщику, он же не пустозвонил. Обиду, однако, не стал высказывать, только вздохнул.
Дьяк Герасимов, поняв и важность услышанного, и душевное состояние Семёна Веригина, хотел было поддержать его, но спохватился: перечить князю нет резона, не вникнув в глубинную суть проблемы, не изучив её в полной мере. Да и князь с первого шага чем-то недоволен, зачем его ещё сердить? Узнать бы причину и объясниться с князем. Путь-то — долог. С надутыми губами он ещё длиннее покажется.
Не знал дьяк Герасимов, что тем же озабочен и Семён Веригин, что всё, о чём он вёл разговор, всего лишь затравка, и теперь он подойдёт к главному.
— Ладно. Об обороне севера земли Русской государю, князьям да боярам думать, у нас, у поморов, своя забота — промысел и торг прибыльный. Я чаянья поморов без задней мысли высказал. К слову, так сказать. Я о другом хочу поведать, если есть желание послушать? Есть? Тогда — внимайте.
И полился рассказ.
Богатющее село Лебяжье, в устье Лебяжей реки, издавна славилось взаимовыручкой, оттого и богатело. Только честный и дружный промысел без большого урона, а честный торг — прибыльный. Но вот незаметно для других пробежала кошка между молодыми промышленниками Никифором и Севастьяном. Оба удачливы, оба без малого — кормщики, однако, как потом выяснилось, каждый хотел впереди другого идти. По чести если, разве осудительно такое? А если сподличать для этого?
Собрались однажды на белька. В гирло Белого моря. Весной тюлени на льду в гирле плодятся. Детёныши — белые-белые, мехом пушистые. Если без жадности добывать белька, ущерба тюленьему стаду не будет. Вот и вышла из Лебяжьего весновянка, ловкое судёнышко для хода меж льдинами. Кормщиком артель Никифора, обидев тем самым Севастьяна. Более того, когда подошли к кромке плотного льда, на котором сколько глаз видит — белька несчётно, оставили Севастьяна на судне, чтобы дал знать, ели ветер сменится на береговой. Подползли артельщики, в белое обрядившись, к белькам и — пошла потеха. Разгорячились так, что не заметили смены ветра. Зуёк-малец первым опомнился. Кричит:
— Дядя Никифор, лёд пошёл!
И в самом деле, от весновянки уже далеко отнесло, а Севастьян вроде бы заснул. Принялись кричать, да толку мало. А их всё дальше и дальше уносит. Правда, вроде бы зашевелился Севастьян, якорь поднимает, даже ход набрал, но ему поперёк — ледяное поле. Всё! Не подойдёт! Нет спасения.
Девятнадцать дней провели на льдине пятеро промышленников, питаясь сырым тюленьим мясом. Обрыдло оно. Руки и ноги поморозили. Понимать начали, что конец совсем близок. Развязали непослушными руками тесёмки заплечных мешков, принялись доставать чистые рубахи. Промышленник всегда с собой имеет льняную рубашку, как саван, вот на такой случай. Мысли у всех мрачные, а тут зуёк завопил надрывно, хотя и хрипло:
— Парус!
И в самом деле, ладья к кромке ледяного поля подходит, карбас спускает.
— Воротились в Лебяжье, — завершил рассказ Веригин, — Севастьяна на суд кормщиков позвали. Тот юлить начал: заснул, мол, ненароком. Вроде бы поверили, только никто ему не стал руки подавать, в дома за воронец шагу не сделает — не пригласят. А уж про артели и думать нечего. Не то чтобы головой взять, зуйком даже в думке не держи. Помыкавшись неприкаянно, покинул Лебяжье, и никому нет дела, где он теперь мыкается.
— Со смыслом сказ, — проговорил раздумчиво Герасимов. — Словно бы нам в укор.
— Без смысла чего де воздух трясти?
— Да мы-то, разные дела делая, не храним камня за пазухой.
— Ой ли? Со стороны видней. А кто у вас, пока вы вместе, за вожа?
— Как кто? Князь Хилков. Воевода. Считай, наместник царёв на весь край поморский. Моё же дело — разовое, — сказал Герасимов, на самого же будто вмиг озарение нашло: чего перед князем ехал? И засмущался. Без раздумий предложил князю: — Давай конями меняться, а то я, когда в думу ухожу, не замечаю ничего вокруг.
— Ладно уж, на полголовы или на голову вперёд, велика ли беда. Ты только без меня не решай ничего.
— Слушая упрёк помора, что государева служба не имеет должной заботы о Севере, подумал я, не поспрошать ли кормщиков-государей, как ловчее оберегать богатые промысловые земли, и поведать царю нашему батюшке о слове поморском? Как твоё, князь, мнение?
— Дело мыслишь. Поступим так: когда я на время в Вологде остановлюсь урок царёв исполнять по строительству боевых кораблей для отпора шведам алчным, ты возьмёшь с собой Семёна Веригина, моего товарища. А пока оснащают тебе посольский насад и ладьи сопровождения, будет у тебя время разговоры разговаривать с бывалыми кормщиками. Веригин тебе пособит во всём.
— Благодарствую.
— Чертежи берега океана Студёного, берегов Аляски, Курильских островов и Сахалина у доброй дюжины кормщиков есть, а Вайгача, Новой Земли, Большого и Малого Вруна и даже всех малых островов Груманта, почитай, у всех вожей имеются. И что важно, у каждого свои заветные места особо помечены. В тайне держат. Для сыновей хранят. Если сможем тайное поглядеть, знатный чертёж получится. А сказку к нему тебе, дьяк, самому писать. Ты не подумай, что это оттого, будто грамоту мы не знаем да по-державному мыслить не можем, просто тебе-то более ведомо, как ловчее поднести сей чертёж со сказкой царю Грозному.
Насторожило Герасимова откровение кормщика о секретах вожей, и он засомневался, удастся ли выудить сокровенное, даже несколько раз заговаривал с Веригиным, как лучше начать дело, чтобы те не упрямились, на что кормчий всякий раз отвечал уверенно:
— Не волнуй душу пустяшной заботой. Доверься мне. Иль без голов государи-кормщики?
И в самом деле, никто из промышленников не стал ничего скрывать от дьяка Посольского приказа, поняв, что речь идёт не о семейной выгоде, а о выгоде всего Поморья, всего Севера. Они без пререканий снимали, перерисовывали свои чертежи, прикладывая к ним записки о самых, на их взгляд, добычных местах, о самом удобном времени перехода в Мангазейское море и о лучшем пути дальше, на восток; они с удовольствием рассказывали сохранившиеся в народной памяти былины про заселение Поморья, про походы к тёплым морям по проливу Анианскому.
Получалась впечатляющая, вернее даже, захватывающая повесть о любознательности, предприимчивости и мужестве венедов, вытесненных без малого за триста сотен лет до рождества Христова с Янтарного берега. Понеся поражение от готов, отступили венеды по берегу Балтийского моря на восток, в уютных заливах построили городки свои, один так и назвав Новым Городом, второй — Псковом. В ближайшие два-три десятка лет восстановили торговлю с финикийцами, другими славянскими народами, и по их же подсказке (финикийцы, как и венеды, были испокон веков мореплавателями) начали торить пути к Студёному морю, причём не прорубаясь сквозь земли данов, свеев, а посуху, точнее говоря, по рекам, находя удобные волоки. Не слишком притесняя угро-финские племена, а уживаясь с ними, неся им более высокую культуру. Шаг за шагом многими веками познавали поморы суровый нрав Ледовитого океана, называя его Батюшкой, разведывали, где лучше вести промысел.
Пока посольские суда оснащали, карта берегов Северного Ледовитого океана, Большого и Малого Брунов (ныне Шпицберген), Новой Земли и других многих островов была изготовлена, сшиты в единую стопу записанные рассказы кормщиков, но, кажется, ещё бережнее собирали вместе сказы древних стариков и старух, помнивших старину и даже былины, когда-то услышанные от их дедов и бабушек.
Поразмыслив самую малость, Дмитрий Герасимов решил все бумаги взять с собой. Рассудил вроде бы верно: во время плавания хватит времени, чтобы почитать записанные подьячими былины, да и карту изучить со всем вниманием; но не только это повлияло на решение дьяка, а скорей всего то, что он мог не знать, каким путём станет возвращаться в Москву, а если не морем, то немало тогда времени потребуется, чтобы вызволить оставленные у Веригина карты и записи бесед с поморами.
Серьёзная ошибка, если не сказать — роковая, хотя и свершённая из добрых побуждений.
В Дании переговоры прошли успешно и споро. Король датский без долгих раздумий согласился утвердить договор с Россией о дружбе и взаимной помощи в борьбе против шведов, ибо Дания страшилась усиления Швеции. Договор был составлен на двух языках, датском и русском, подписан и затверждён Золотой королевской печатью, осталось попировать с гостеприимными хозяевами и — в обратный путь. Увы, гонец от Ивана Грозного изменил урок посольству. Гонец, вручив Герасимову послание Папе Римскому, известил:
— Посольству ехать в Рим. Вести с Папой переговоры, чтобы утихомирил тот алчность свеев, ляхов и литовцев.
Посольство разделилось. Одна часть взяла курс в Белое море, вторая, приобретя новый парусник, капитаном которого был голландец, многие годы варяживший на торговых судах, какие ходили вокруг Европы в Италию (называли тогда тот путь из варяг в греки), без происшествий доставил московское посольство в Ватикан.
Вот тут и случилась крамола, долгие годы для России неведомая: один из служек Папы Римского (история сохранила его имя — Боус) не по своей, конечно, воле, тайно осматривая вещи посольства, обнаружил карту островов и берегов Северного Ледовитого океана и с благословения, видимо, Господа Бога, выкрал её всего на один день. Факт кражи временной не был замечен.
Переговоры прошли во взаимном недоверии. Назначенные для переговоров кардиналы упорно требовали от России, чтобы она начала войну с Османской империей. Тогда, по их заверению, вся католическая Европа, вооружившись, придёт братьям во Христе на помощь. Скорее всего тогда Швеция, Тевтонский орден и Литва возвратят исконные русские земли Москве. Однако твёрдые гарантии выполнения этого пункта не давались.
Следуя наказу Ивана Грозного, дьяк Дмитрий Герасимов требовал, чтобы в договоре было непременно записано, каким путём Папа Римский повлияет на тех, кто захватил в своё время русские земли, а относительно войны с Османской империей уверял, что Россия готова выступить в неё в составе объединённых сил государств Европы, выделив до пяти полных полков с достаточным огневым нарядом. Взаимодействие всех войск, какие вступят в сражение с Портой на разных направлениях, должен обеспечивать объединённый Совет воевод. Он должен быть утверждён понтификом.
В ответ посланник Ивана Грозного слышал одно и то же:
— Как только Москва начнёт войну с Османской империей, вся католическая Европа присоединится к ней.
В общем, никаких твёрдых договорённостей, а всё писано вилами по воде. Пшиком окончились переговоры. Ответ понтифика, который Герасимов увозил из Рима, был весьма многословен, даже с клятвенными заверениями в дружбе, однако ни слова, ни полслова о конкретном деле. Вроде бы не заметили в Ватикане просьбы повлиять на Швецию, Польшу и, особенно, Тевтонский орден, чтобы утихомирили они свою алчность и не разоряли бы русские земли так безудержно, как давно того не делали даже магометане.
Единственная малая польза от всех переговоров — посольство снабдили опасной грамотой, подписанной самим Папой Римским, которая позволяла ехать прямым путём через все, даже враждебные России католические страны.
Дмитрий Герасимов был рад, что взял с собой карту Севера и записи бесед с поморами. Он собирался сразу же по возвращении поискать подтверждение некоторых фактов в летописях и других источниках, какие не сгинули где-то в каких-нибудь монастырях под Киевом и Великим Новгородом, куда попы-находники после насильственного крещения славяноруссов начали свозить все письменные свидетельства их истории, и какие не были уничтожены во время татаро-монгольского нашествия и двухвекового ига. Не густо, конечно, но кое-что всё-таки сохранилось. Дмитрий Герасимов нашёл то немногое, что оставалось в Хранилищах, намереваясь этим воспользоваться сразу же после доклада Ивану Грозному о карте и своих замыслах.
Воспользовавшись тем, что царь остался доволен его переговорами с Данией и Ватиканом, что одарил его шубой со своего плеча и со всем причитающимся к ней прикладом, Герасимов напросился на встречу с государем, когда основательно подготовился к отстаиванию своей идеи по устройству Северного морского пути от Колы, Архангельска и Мизени к тёплым морям Восточным, в Аляску, на Курилы и даже в Китай.
Выслушав доклад дьяка Посольского приказа, Иван Грозный задумался. Затем начал рассуждать:
— Строгоновым я велел оберегать восточные украины мои, а они всё глубже и глубже уходят в Сибирь. Продолжают дело, начатое дедом моим Иваном Третьим. Только посильно ли нам такое нынче? Нам бы Литву, Польшу, орден и шведов одолеть, на берегах морских твёрдо вставши, а не мечтать о тёплых морях за многие тысячи вёрст.
Царь замолчал надолго, и дьяк воспользовался этим.
— Дозволь, государь, слово молвить? — дождавшись согласного кивка, Герасимов заговорил уверенно: — Через Пояс с трудными волоками нелегко одолеть Кучума. Тут и к ворожею можно не ходить, хотя и отказываться от нажима на него посуху не гоже. Но по океану — куда как ловчее. Путь поморским кормщикам ведом. В удобных заливах имеются станы. Мангазея, почитай, город крупный. Укрепи его немного и посади стрельцов — вот тебе и оборона берегов Сибирских. Из неё по рекам можно походами ходить, не только в центр Сибири, но и на Юг. До самого Амура и даже за него. Там до китайского рубежа, который зовут они зелёным палисадом, — добрая тысяча вёрст, где по берегам притоков Амура уже есть поселения русских людей. Более того, промышленники через купцов, живущих на Амуре и за ним, торг ведут с Китаем. Пути хорошо знаемы.
Герасимов не стал рассказывать о путях, про которые ему не таясь рассказывали в Соломбалке и Мезени — он хотел найти подтверждение тех рассказов в отписках купцов, присылавших свои записи в Посольский приказ после посещения ими северных провинций Китая, особенно по реке Сунгари, к берегам которой лепились поселения и китайцев, и манжуров, и русских. Немного позже дьяк найдёт искомое, и в окончательном докладе представит полный о них сказ.
Междуречье Оби и Енисея освоили промышленники и купцы с незапамятных времён. Известен даже один род хантыйских мансов — род Яши Вологжанина. На реках Тед и Турухан на Нижней и Подкаменной Тунгусках, на Таймыре шла многовековая бойкая торговля, вёлся пушной и зверобойный промысел. Возникали слободы с постоянным старательским населением. А предприимчивый дух венедов, уже ставших называть себя новгородцами и поморами, понукал промышленников двигаться всё дальше и дальше на юг. И вот уже по берегам среднего Енисея началось складываться постоянное земледельческое население, благо земли немеренно, она добрая на отдачу. Климат тоже подходящий.
Немного позднее началось заселение и берегов Ангары.
Торились пути и в Якутию по притокам Лены Вилюю, Алдану, Ямге и других рек. Вместе с этим шло освоение и Прибайкалья. Что особенно важно, и от Байкала и через Якутию были проторены пути на Амур. Русские заселяли берега этой реки и даже правые его притоки, ибо земли до Ивового палисада (оттуда начинались «породные» китайские земли, а это 1000 вёрст на юг от Амура) были совершенно свободными.
Морем и реками шли к Амуру предприимчивые русские люди. Посуху — через Якутию. Но особенно бойкими были два пути: от Лены вверх по Витиму и его притоку Ципе до Олёкминского озера, дальше до устья Аргуни по Селенге и Шилке. Второй путь — по Ангаре, через Байкал к реке Баргузин и далее до её верховья, через Вилок на Еравненское озеро, из него по Ципе на Витим, затем через волок на реки Нерчу и Шилку.
Опережая время на несколько десятилетий, следует сказать, что доклад Герасимова Ивану Грозному ляжет в основу целой системы оборонительных пунктов, которые послужат укреплению России в Забайкалье и Приамурье, хозяйственному освоению богатейших земель переселенцами и одновременно безопасности местного населения, а также определению основного пути от Байкала к верховьям Амура.
Не лишним будет сказать, что Герасимов предлагал Ивану Грозному оборонить пути на Амур острогами, объясачить все ветви намятов, которые жили между рек Хилок и Таза, Керулен и Онон. Особенно было важно, по мнению Герасимова, объясачить род нелюдов-чемчагиров, кочевавших в верховьях Ингоды, а в её низовьях — луникагиров. Предлагал он ещё построить острог и на Аргуни, дабы взять под свою руку живущих в междуречье Шилки и Аргуни такие роды нелюдов, как калтагиры и дуликагиры. Дьяк был совершенно уверен, что Иван Грозный одобрит его предложение без всяких изменений, так как наступление на Сибирское ханство идёт успешно, конец ему уже виден, и не останется больше препятствий для движения на Восток и морем и посуху.
Вроде бы поначалу всё говорило о том, что могут сбыться его надежды — Иван Грозный, выслушав доклад дьяка Герасимова, посидел в раздумье немного, затем медленно заговорил:
— Дерзай. Не спеша. Всё ещё и ещё раз обдумай. На Думе потом обсудим. Помощников определи себе по потребности. Любых, кого пожелаешь.
— Князя Хилкова попрошу прислать пару самых бывалых кормщиков, коих в Поморье называют государями.
— Ишь ты — государи, — хмыкнул царь Иван Грозный, но не осерчал, а милостиво разрешил: — Посылай моим именем.
Более месяца сам дьяк Герасимов и помощники его из подьячих переписывали избранные места из сохранившихся летописей, переводили иноземных авторов, путешествовавших по Русской земле и написавших о своих впечатлениях. Каждый день находили труженики хотя и скупые, но твёрдые подтверждения тем былинам, какие были записаны в Поморье со слов сказителей и сказительниц.
В Повести временных лет утверждалось, что Поморье начало заселяться славяноруссами с давних времён. Словены, как сказано в летописи, осев вокруг озера Ильменя, начали постепенно расселяться по рекам и озёрам далее на Север, в земли племён камрела, водь и весь, заволочьской чуди, обитавшим у Северной Двины, Мезени, Печеры. У берегов же Белого моря потеснили они лопь саамскую.
Особенно много подтверждений движения словян (по Иордану[51] — венедов) у Иордана, историка готов. И если сопоставлять сведения Повести временных лет с данными летописи Иордана «О происхождении и деянии готов», то выходит, что славяне вышли к берегам Белого моря и к Мурому в первые века по исчислению от рождества Христова.
Кое-что удалось найти в Великом Новгороде, хотя там сохранились жалкие куски летописей, но даже из них видно, сколь основательно, с каким упорством венеды продвигались вначале на северо-восток, а затем — на восток, осваивая берега и острова Ледовитого океана, именуя его ласково Батюшко. Не взирая на его суровый нрав и не особую гостеприимность. Маяками ставили мощные дубовые кресты — древний символ солнца, пришедший из седой старины.
Крещён Батюшко. Крещён до самого до Анианова пролива, который теперь отчего-то именуется Баренцевым, будто и в самом деле тем мореплавателем открытый.
Когда сказка к карте была отработана всесторонне, дьяк Герасимов попросил государя уделить ему время для подробного доклада пред Думой. Иван Грозный, к тому времени уже начавший куролесить с опричниной, нашёл всё же время между загулами и казнями для беседы с Герасимовым. Слушал со вниманием, по нескольку раз переспрашивал непонятное, да и не особенно ему известное. Долго, очень долго изучал государь карту Новой Земли, Груманта, всего берега до Анианова пролива и всё удивлялся:
— Ишь ты! Каждый заливчик обозначен. У каждого — название своё.
— У многих у кормщиков свои собственные тони, и никто на них покуситься не мыслит. Случись такое, тут же изгонят из кормщиков и даже Поморье вынудят покинуть.
Особенно назойливо допытывался Иван Грозный, отчего проливы и на Новой Земле и сквозь Вайгач в Мангазейское море называются шарами: Маточкин шар, Никольский шар. Герасимов не мог толково пояснить, ибо, о чём сожалел теперь, не заинтересовался такими названиями проливов, в своё время ничего в этом не увидел заслуживающего внимания: шар и шар.
Иван Грозный хмыкнул:
— Ишь как расписал всё. До самого Амура путь, а что такое шар не поинтересовался.
Обидно Герасимову: разве к такому пустозвонству он готовился? Судьба России, её богатства и безмерные земли виделись ему, свершись задуманное, а не никчёмное выяснение, отчего не пролив, а — шар?
Он ошибался. Иван Грозный хорошо понимал важность предлагаемого великой заботы дела, мелочился же, ибо не мог сразу определить, посильны ли державе подобные свершения. Сколько людей? Сколько средств придётся потратить из казны? Да, всё вернётся сторицей, но когда? Через пяток лет? Через десяток? А то и более? Сегодня Поморье пополняет казну основательно от торговли ворванью, рыбьим зубом, рыбой и жемчугом, а Сибирь мягкой рухлядью обеспечивает в достатке — что ещё нужно?
И всё же — заманчиво. Зверобойный и пушной промысел на Аляске. Золотые прииски. С одной зимовкой, а то и без неё — в Китай и в Индию. Худо ли? А берег Нового Света? Поморы уже освоились в добычных местах по нему, только в казну от того промысла поступает самая малость. Великий Новгород богатеет, а богатство крутит ему голову, воротят посадники степенные и старые с купцами-тысячниками морды к Литве.
Наконец, со вздохом, Иван Грозный повторил уже единожды сказанное:
— Мёд хмельной в золотом кубке, — снова замолчал. Тоже надолго. Затем снова со вздохом, но уже более твёрдо: — Своему Посольскому приказу покажи, Казённому приказу и Разрядному. Пусть они своё слово скажут. Следом — Дума. Получим если поддержку, тогда — с Богом. Тебе и исполнять предложенное тобой.
Вроде бы всё пошло ладом. Посольский приказ поддержал, как и следовало ожидать, безоговорочно. Горячо поддержал Разрядный, посомневавшись, но в конце концов тоже поддержал. Заверил, что для всех станов, которые предлагается построить по Сибирскому берегу в устьях больших рек и удобных для стоянок и ремонта судов губах, наскребёт и ратников и огневого наряда в достатке.
Дольше всех считали казначеи. Они, как и все люди, связанные с денежными делами, скупердяйничали, но и они всё же дали согласие.
Осталась Дума.
Вяло началось обсуждение предложенного Герасимовым обустройства Северного морского пути — далеко всё это и очень сомнительно. Ну, ходили и ходят поморы в тёплые моря, пусть продолжают ходить. Что им мешает? Они исправно платят подати, чего ещё от них ждать? Расшевелил бояр митрополит. И всего-то короткой просьбой:
— Установи, государь, волей своей рубить церкви в каждом остроге и дай право создавать монастыри. Понесут они свет в таёжные дебри, как в своё время пролила свет разума и благодати на дикую Киевскую Русь Киево-Печерская лавра, зародившаяся в глухих лесах.
Бояре не удивились наглой лжи владыки: Киев задолго до крещения был одним из богатейших и красивейших городов Европы. К примеру, по свидетельству дочери Ярослава Мудрого, ставшей женой французского короля, Париж по сравнению с Киевом был захолустной деревней. Никто, однако, не обличил митрополита во лжи, привыкли уже, что церковники в угоду себе белое выдают за чёрное, чёрное за белое, а многие не придавали подобным высказываниям значения, считая, что никакого вреда для страны и русского народа от них нет. Мели Емеля, пока твоя неделя.
У бояр, особенно тех, кто вёл крупные торги, мысли заработали в ином направлении: если церковь увидела свою выгоду в укреплении берегов Ледовитого океана, стало быть, есть в этом резон. Подумав, что могут обрести ещё большее богатство, начали выступать в поддержку создания Северного морского пути.
Что же, руки развязаны — приступай к делу. Ко времени, как показалось Дмитрию Герасимову, пришли тревожные вести из Архангельска. Вернее, не вести, а пленённый капитан германского военного корабля. Не доводя дело до пытки, он сообщил, что по предложению знатного вельможи Штадена при дворе императора Генриха готовится высадка в Кольском заливе и в Белом море стотысячной армии с целью захвата не только Коля и всего полуострова, не только берегов Беломорских, но и Вологды. Намерения: вытеснить Россию с Севера, лишив её удобных выходов к морям, омывающим Европу, лишив русских промышленников и купцов права на доходный промысел и выгодную торговлю.
Всё это подтвердил пленник, присланный князем Хилковым в Москву. Добавил он только с нотками гордости:
— Я послан разведать места высадки. Выбор пал на меня как на лучшего капитана.
Хилков вместе с пленным прислал и свой план организации обороны Кольских и Беломорских берегов. Перво-наперво предлагал укрепить Колу и ускорить окончательное строительство Архангельска; поставить острог на Соловецких островах близ монастыря, дабы перекрыть подходы к Онежской губе; иметь острогу до двух сотен стрельцов, дюжину, а то и полторы береговых пушек, пару или даже тройку лазутных кораблей, хорошо к тому же вооружённых.
Предлагал Хилков возвести и десятки острогов по всем берегам Белого моря и Кольского полуострова. Самые крупные из них — в Йоконьге, в Териберке, на мысе Корабельном, чтобы гирло Белого моря взять под неусыпный контроль. Ещё предложил поставить Сумской острог.
Разрядный приказ, по воле Ивана Грозного, стремительно принял меры: крупную рать спешно направили на Север. Только отряд Сумского острога составлял более тысячи ратников с мощным огневым нарядом. Почти такие же отряды появились и в других острогах.
Своевременные меры. Вслед за Штаденым английский капитан Чемберлен предложил королю Якову Первому план завоевания Русского Севера. Грандиозный план: захватив Архангельск, начать наступление на Москву. Главный расчёт был на поддержку местного населения, которая могла принести успех в этом плане.
Раскатал губу. А получил по зубам. И не только Генрих Штаден. Стремление захватить силой оружия удобные для морской торговли порты России и богатые промышленные земли Русского Севера было у многих государств. В 1570 году шведский трёхтысячный отряд совершил набег на Кемский посад. Десант был успешно отбит. Но захватчики не утихомирились. Через год объединённый шведско-немецко-голландский десант попытался высадиться на Соловецкие острова, но едва унёс ноги. Ещё через несколько лет шведские корабли атаковали Колу. Тоже без видимого успеха. Даже Дания посылала свои военные корабли к берегам Кольского залива и Белого моря.
Ещё не единожды иноземцы стремились перекрыть торговые пути русским купцам, а у промышленников отбить уловные и добычные тони, но всякий раз вынуждены были убираться восвояси не солоно хлебавши. И не только потому, что Россия предприняла оборонительные меры, но не в последнюю очередь благодаря активной помощи самих поморов московским войскам: они своевременно давали знать им о надвигающейся угрозе, а затем плечом к плечу с ратниками отбивались от алчных пришельцев.
Удар по проекту Герасимова был всё же нанесён основательный. Но не нападения захватчиков тому виной, а попытки иноземных мореходов пройти Ледовитым океаном к тёплым морям, используя карту Герасимова — она стала известна многим морским державам.
Особенно активно действовали англичане и голландцы. Их интерес понятен: найти северный путь в Индию, чтобы избежать зависимости от испанцев и португальцев в торговле с богатыми восточными странами. Они имели карты, но не знали, в какое время года освобождается ото льда Мангазейское море, поэтому либо поворачивали обратно от Вайгача, уткнувшись в льды, либо от Новой Земли. Многие гибли.
На одном из затёртых во льдах паруснике артель холмогорских промышленников обнаружила карту северного пути и сочла нужным известить об этом князя Хилкова — тот срочно отправил её в Москву. Лично Ивану Грозному.
Сравнили с картой Герасимова. Точная копия.
Неизвестно, был ли обвинён славный сын России, пытливый патриот в измене, прощён ли за невольное ротозейство, достоверно известен лишь запрет царя ходить поморам судами дальше Новой Земли, а при встрече с иноземными промышленниками или с экспедиционными судами не делиться с ними своими знаниями ни в коем случае. Даже под пытками.
Почему Иван Грозный похоронил очень важный для российского мореходства и вообще для страны проект, так и осталось загадкой.
Оборотистые купцы и промышленники всё же нашли лазейку, позволяющую нарушить запрет. Они проторили путь посуху до устья Колымы, оттуда, на построенных там морских судах плыли по известному уже веками пути. История оставила нам лишь некоторые имена промышленников: Ребров, Парфирьев, Полухин, Стадухин и самое громкое имя — Семён Дежнев. Ему даже приписывали и приписывают, что он впервые в истории поморов на шести судах достиг Анианова пролива, который позднее назвали Беринговым, а самую северо-восточную оконечность Русской земли — мысом Дежнева.
Какая насмешка над великой историей великого народа?!
БОГДАН БЕЛЬСКИЙ
Богдан Бельский не находил себе места: что творит главный воевода князь Михаил Воротынский? Какими силами встречает тумены Девлет-Гирея на переправах?! Слёзы, а не заслоны! Даже ни одной пушки. Лишь одни самострелы. Стрельцов хотя бы с рушницами выставил. По сотне бы на переправу. Так нет, большой огневой наряд и гуляй-город с воеводами Коркодиновым и Сугорским где-то в лесу упрятал. А пушек-то немало успели отлить. На него, Воротынского, работали Алатырь, Васильсурск, Серпухов, Тула, Вятка да и сама Москва. Все пушки на колёсах. Перевозить с одного на другое место куда как ладно, а они стоят без дела, в чащобе затаившись.
Одна поддержка на переправах ратникам — корабли. Они изрядно щиплют крымцев и ногайцев, топят паромы с турецкими пушками, но если бы ещё полки, которые стоят в бездействии по лесам, пустить в дело, подтянув к переправам, разве одолел бы такую силищу Девлет-Гирей?! Неужели князь-воевода не знает, как поступил Иван Великий на Угре? Встал на переправах и не пустил на свою землю хана Золотой Орды Ахмата. С тех пор Россия не платит татаро-монголам дань. Закончилось иго!
«Неужели князь Михаил Воротынский нацелился нынче вернуть хомут на шею России?!»
Чесались у Богдана Бельского руки. И если бы не Хованский был первым воеводой Опричного полка, а он, Бельский, поднял бы полк да выставил его в помощь Засадному полку. Ни один татарин не ступил бы на русский берег.
Молодо-зелено. Сколько вёл с собой хан Ахмат? С полсотни тысяч. Не более. У Ивана Третьего под рукой было не меньше, а то и больше. А сколько огневого наряда? Можно стоять лоб в лоб. К тому же Иван Васильевич Великий послал вниз по Волге речную рать громить аулы монгольские и ногайские, чем вынудил хана Ахмата бежать в Поле, ради спасения своей земли от разгрома. А сколько ведёт с собой Девлет-Гирей? Сто двадцать тысяч с великим огневым нарядом в придачу. Да и цель его иная: захватив Москву, сделать её столицей Великой Орды — более могущественной, чем была Золотая Орда. Не просто набег, подобный прошлогоднему, не просто грабёж или даже принуждение платить Крыму дань, а о полном захвате России речь идёт!
Для каждого русского города Девлет-Гирей везёт с собой наместников своих. Вот такая силища вражеская. Вот такой замысел.
А чем встречает Россия великое нашествие? Ратью меньше чем в шестьдесят тысяч. Не во главе с царём, судьба державы которого решается, а только со слугой ближним. В его ли власти повторить победу Ивана Великого, хотя теперь сделать это можно было бы гораздо проще, ибо Астрахань — российская. И пустить оттуда рать к Перекопу да по ногайским алачугам, ханы которых примкнули к крымцам, не потребовало бы огромных усилий.
Не вправе Воротынский и увеличить свою рать, собрав её из северных городов. Что царь дал, на том и успокойся. Вот и приходится воеводе хитрить, чтобы одолеть вдвое превосходящие силы. А хитрость, она только тогда хитрость, когда о ней знают лишь те, кому по чину положено знать.
В Опричном полку знал её полностью первый воевода князь Андрей Хованский и частично — второй воевода — Хворостинин. Оттого они вели себя спокойно, чем тоже удивляли Богдана Бельского. Он, даже не вытерпев, спросил Хованского:
— Что это мы прохлаждаемся? Прорвётся Девлетка к Москве, как в прошлом году, что тогда?
Не в бровь, а в глаз. Не ради ли того, чтобы отличиться в сече, он, Бельский, здесь? Не слишком-то ему хотелось ехать с полком под руку князя Михаила Воротынского, куда как спокойней под боком у царя Ивана Васильевича хоть в Кремле, хоть в Слободе. Тем более Иван Грозный, почитай, приблизил его к себе окончательно.
А получилось это, можно сказать, случайно, но очень удачно.
Государь после казней в Великом Новгороде направился в Псков, а Малюте Скуратову поручил допрос главных виновников новгородской измены, отвезя их в Александровскую слободу. Сперва царь не отпустил Богдана Бельского с Малютой, но тот всё же сумел немного погодя вызвать к себе племянника на помощь, дважды посылая гонцов к Ивану Грозному с мольбой, сообщал, что один не управляется и что князь Вяземский, оставленный им за главного в Слободе, не желает принимать участие в розыске.
Об отказе князя Вяземского пытать архиепископа Пимена Малюта Скуратов рассказал племяннику сразу же, как тот приехал, и посоветовал подумать о возможности повернуть отказ одного из главных соперников при царском троне в свою пользу. И Бельский придумал: пустил слух, который обитатели Слободы начали передавать друг другу под большим секретом и только шепотком, будто оттого не желает князь Вяземский докапываться до истины, что у самого рыло в пуху. Даже Малюта Скуратов удивился подобному пересуду, узнав о нём от своих соглядатаев. Не сам же пополз роковой для Афанасия Вяземского слух. Решив допытаться, откуда растут уши, вспомнил разговор с племянником о необходимости придержать Вяземского у трона, вот и спросил без обиняков:
— Про Вяземского глагол не твоих рук дело?
— А что? Опрометчивый шаг?
— Не сказал бы, — а поразмыслив, добавил: — Далеко пойдёшь, если по пути голову не своротишь.
Пару недель старались дядя с племянником в пыточных с великой удачей, добывая нужные им оговоры: более двух сотен думных бояр и дворян, приказных дьяков с подьячими оговорили под пытками новгородцы. Самое же важное — есть нужные показания на Вяземского, Басмановых, Висковатого, Туликова, Яковлева. Они в чести у Ивана Грозного, им, похоже, он доверял, хотя вряд ли царь доверял безоглядно даже самому себе.
Опросные листы Малюта Скуратов послал с Богданом Бельским в Кремль, где задержался Иван Грозный после возвращения из Пскова, наставляя племянника при этом:
— Особенно твёрдо стой, слышал, мол, сам от допрашиваемых, что почти все будто бы преданные тебе — свора злых псов, ласкающаяся к Владимиру Андреевичу. Его, мол, видят на троне Российском.
Получилось всё в лучшем виде. Иван Васильевич принял клевету за чистую монету (ему явно так было выгодно), хотел послать Бельского обратно в Слободу с ласковым словом к Малюте и с приказом поспешить тому в Москву, начал было уже давать наказ, но вдруг передумал:
— Нет. Пошлю другого. Ты мне здесь нужен.
Возликовал Бельский: похоже, окончательно приблизит царь его к себе. И не ошибся. Через несколько дней он получил такое поручение, какие прежде царь давал только Малюте.
— Я Афоньку Вяземского позвал в Москву.
Нынче покличу его на обеденную трапезу, а ты с опричниками наведайся в его дом. Побей слуг его. Всех до одного. И не вели жёнам убирать их. Пусть узрит холоп неблагодарный свою участь. А там поглядим, как поведёт себя поганец. Примет ли со смирением первую кару Божью.
Принял князь Вяземский страшный удар со смирением, чем и подписал себе смертный приговор.
Потом Богдан Бельский помогал Малюте Скуратову устраивать великую вселюдную расправу на Торговой площади, чем весьма угодил Ивану Грозному.
А разве худо он исполнил волю государеву, ловко выведя Владимира Андреевича к условленному месту расправы с ним? Заслужил он тогда ласковое слово царя и получил от него новое поручение: привезти в Москву мать князя Владимира Старицкого из дальнего монастыря. Понял он тайные мысли Ивана Грозного, что подтвердил Малюта Скуратов, и он не довёз монахиню до Москвы. По нелепости утонула она при переправе через небольшую реку — через переплюйку, можно сказать. Но всё было устроено так ловко, что в виновных никто не оказался, сам же Бельский получил великую выгоду: царь дал ему чин окольничего.
Вот бы и продолжать в таком духе, покоряя сердце государя, так нет — Малюта со своим словом к Ивану Васильевичу: пошли, дескать, моего племянника в рать, проверь его как воеводу.
Царь согласился, отдал под руку воеводе Опричного полка князю Андрею Хованскому, его полк придал главному воеводе Окской рати Михаилу Воротынскому, который готовился встретить большой поход крымского хана Девлет-Гирея.
Не с большим восторгом принял Богдан Бельский подобное изменение в своей судьбе, Малюта же упрекнул:
— Я тебе уже сказывал: вылезай из детской рубашонки. Иль тебе не хочется стать думным боярином, намерен ходить всю жизнь в окольничих? Не проявив себя в рати, многого не добьёшься — вот тебе мой сказ. Но помни одно: на рожон не лезь, только в нужный момент выпяливай себя, и этого вполне достанет.
А как узришь нужный момент, укрываясь в чащобах бездельно? Если бы на переправе стоять — иное дело. Увы, выше своей головы, как мудро сказано, не прыгнешь. Не первый же он воевода, чтоб за Опричный полк решать.
И всё же трудно оставаться равнодушным, не понимая, что же на самом деле происходит вокруг: полк стоит в полном безделии, а тумены переправляются и переправляются. Теперь уже беспрепятственно, окончательно сбив заслоны Сторожевого полка с переправ. Причём, как понимал Бельский, заслоны оставили обороняемые переправы по приказу, а не под нестерпимым нажимом крымцев. Почему? Чтобы сохранить силы? Но для чего?
Удивлялся Богдан Бельский и возмущался. Он начал подумывать, уж не ведёт ли в самом деле князь Михаил Воротынский двойную игру, верно ли они с Малютой поступили, приставив к нему лишь одного Фрола, а не оставив рядом ещё кого-либо для верности. Богдан всё удивлялся тому, как спокойны первый и второй воеводы Опричного полка, невольно оттого возникала ещё одна мысль: не в одной ли связке с князем Воротынским и они?
Вроде бы такого не может быть, но где же тогда истина?
Она известна стала Бельскому через пару дней, когда в полк прискакал гонец от Михаила Воротынского. Слушать приказ главного воеводы позвали и его, Бельского.
— Замысел не меняется. На всех переправах до самой Десны встанет городовая рать, собранная из всех Приокских городов. Но к этим защитникам будет добавка, чтобы Дивей-мурза, очень хитрый предводитель похода, не заподозрил подвоха, увидев не слишком-то умелых ратников: вам и полку Правой руки выделить в заслоны по третьи полков. Остальными силами щипать колонну, усиливая щипки ближе к Десне. Но не прозевайте момента, когда Девлет-Гирей повернёт свои тумены на гуляй-город, который встанет на холмах близ деревни Молоди. Там от речки Рожай до холмов — долина знатная. Лазутить крымцев станут порубежники с казаками Черкашенина атамана, но и полку иметь своих лазутчиков не в малом числе. И вот ещё что: главный воевода повелел: вашему полку так повести дело, чтобы узнал Девлетка и его лашкаркаши Дивей-мурза о гуляй-городе.
— Всё понятно. Передай князю Михаилу: всё исполним. В полк Правой руки к боярину Фёдору Шереметеву сам пошлю от себя людей для связи и взаимодействия.
Бельский этим разговором был задет за живое: выходит, Хованский знал обо всём, но помалкивал. Не доверяет?! И почему принял он так смиренно приказ главного воеводы играть полку в прятки, рыская по лесным тропам, а не грудью встречать ворогов?! Едва дождался Богдан, когда гонец главного воеводы покинет стан полковой, и — с напористым вопросом к Хованскому:
— Мы — Передовой полк! Нам ли по чащобам таиться?!
Улыбнулся Хованский. Снисходительно. Прощая недомыслие начинающему воеводе.
— Я примерно то же самое говорил князю Воротынскому, но он мне преподал урок. Тебе он тоже не лишним станет. Не о том нынче думка наша должна быть, кто перед кем выше нос задерёт, но о державе нашей многострадальной. Её судьба нынче решается. У Девлетки сто двадцать тысяч ловких в сечах ратников. Добавь ещё таких зубров, как Дивей-мурза, глава похода, и Теребердей — глава ногайских туменов. Их перстом не перешибёшь. Да и перст наш не слишком толст — вполовину меньше у нас рати. А мы просто обязаны победить, ибо Девлет-Гирей хочет сделать Кремль своим дворцом, а Москву стольным градом своего магометанского царства. Как Мамай в своё время.
— Мамай — не чингизид. Он Ордой не мог править, а властолюбцем был великим. Девлетка же — чингизид. Иль ему Орды мало? Ему пограбить и — восвояси. Живи потом, в ус не дуя, несколько годков.
— Верно, чингизид. Только орды-то нет. Вся она кончилась. Крым один остался. А Девлетка возомнил себя восстановителем былого могущества татарского. Прошлогодний удачный налёт ему окончательно голову вскружил. Вот и прикинь: может ли всяк по своему разумению действовать, как бывало прежде с князьями, отчего кровь православная лилась ручьями, но без пользы — монголы покорили в общем-то великую державу и сколько веков измывались над ней! Победить можно только при единстве действий, без всякого пререкания исполняя приказы главного воеводы, которые исходят из его замысла.
— Мог бы прежде сказать об этом.
— Хитрость — тогда хитрость, когда она неожиданная. Он свой замысел рассказал только мне одному, а я дал ему клятву умолчания. Не обессудь. Так нужно было до поры до времени. А теперь вот, выбирай: на переправах ли стоять, щипать ли будешь, выводя лазутчиков крымских, будто повезло им, на гуляй-город? Подумай, но недолго.
И в самом деле, есть над чем поразмышлять. Оборона переправ — дело видное, но довольно бесхитростное: враг напирает, ты бьёшь его. Никакой хитрости, никакой воеводской смекалки не покажешь. Стой стеной, не страшась смерти. Когда же невмоготу станет, отходи к следующей речке. А их до Десны несколько: Нара, Лопасня, Рожая, Пахра — это крупные. Переплюек же не перечесть. Но тоже — рубеж. На каждом можно на денёк-другой задержать крымцев. Славно, конечно, но грудь в грудь, и жив ли останешься, Богу одному ведомо. А что говорил мудрый дядя Малюта, наставляя в последний перед походом вечер:
«Не уподобляйся князю Ивану Бельскому. Не зарывайся в норы. Не задохнись, как он задохнулся от дыма в своём погребе. Если сложить голову судьба, то со славою сложи её. А лучше будет, если живым воротишься со славой и со щитом...»
В прошлом остались те размышления, когда он бездействовал в лесу под Окой — сейчас он выбирал, всё взвешивал.
«Да и не главным я буду на переправах. Опричники — как подмога. А слава всегда на голову старшего опускается». Истина неоспоримая. Это когда неладно что, тогда всегда находят виновного из второрядных. Сподручно ли на такое по доброй воле идти? Иное дело, набеги стремительные: выскочил из леса (а ему, Бельскому, какой резон впереди скакать?), посёк как можно больше растерявшихся и — снова в чащобу. Если погоня случится, в лесу сподручней с ней сразиться, а то и рассыпаться, коль силёнок не хватит для рукопашки. Тем более будут и сотники бывалые и тысяцкие не без головы. Они все сами знают, как поступать в тех или иных случаях.
Всё обдумал Богдан Бельский и уже вскоре сообщил о своём решении Хованскому:
— Я готов щипать.
— Вот и ладно. Даю тебе две тысячи под руку. С лучшими тысяцкими во главе. А моё слово тебе такое: без совета с ними — ни шагу. Не мни себя пупом земли. Ищи с ними дружеский язык, не осуждая за резкость и прямоту. Не с боязнью бы шли они к тебе, как к племяннику Малюты, но с открытой душой. Тогда и успех твой сам в твои руки поплывёт. А с ним — и слава.
Неоспоримая правильность в словах первого воеводы, но сам-то Хованский, похоже, не забывает, чей он, Бельский, племянник: тысяцких лучших отдаёт, да и рати не кот наплакал — целых две тысячи. С ними можно развернуться и показать себя.
Поговорили недолго — собрались уже приглашённые на совет. Их малое число. Хованский с Хворостининым, Бельский с двумя тысяцкими, ему подчинёнными. Чётко первый воевода определяет задачу Хворостинину — встречать одной тысячей засадами передовые дозоры ворогов, но в рубку не ввязываться. Побить сколько успеет и — в лес.
— Береги ратников своих. Они ох как нужны будут в свемной сече, — наказывает Хованский и добавляет: — Это касается всех. Клюнул побольнее — и отступил. Выжди нового момента, хорошо его подготовив.
Второй тысяче, похоже, самая сложная задача: сечь пушкарей турецких и по возможности портить сами стенобитные пушки. Кроме того, налетать на ту часть змеи ползучей, в которой едут нойоны, отобранные в правители русских городов.
— Чем меньше их останется, тем славней. Пусть могилы себе найдут, а не города им подъяремные! — В заключение спросил Хованский: — Всем ли всё ясно?
— Один только вопрос, — уточнил Хворостинин. — Где будет полк.
— Не гони вскачь. Как я могу не сказать об этом? — и обратился уже к Богдану Бельскому: — Тебе, воевода, и твоим тысяцким особый урок. Вам бить наотмашь. Злить и злить, вызывая погони. Особенно когда последние полки вражьи переправятся через Рожаю. Но не забывай о главном: встречая лазутчиков засадами, однако же ненароком вывести одну или две лазутных группы к полю перед Молодями. Пусть узрят, что там ладится гуляй-город. Когда подвезут гуляй и огневой наряд, я дам тебе, воевода, знать. Ясно?
— Да. Вполне.
— Теперь о самом полку. Из леса он выйдет только по приказу князя Воротынского. Я должен сохранить полк, чтобы привести его к гуляю. Вы действуете каждый самостоятельно. Без помочей ходите. На поддержку не рассчитывайте. И ни на миг не забывайте о тайности гуляй-города. Ни слова о нём ратникам. Даже сотники не должны о нём знать, пока не наступит нужное время.
Самостоятельность — и хорошо, и плохо. Если удача, то полностью твоя, а вот если просчёт, — виновных кроме тебя тоже никого нет. Козлом отпущения не прикроешься, как завесой. Прав поэтому Хованский: без совета с тысяцкими не делать ни шагу.
Подготовку первого щипка Богдан Бельский начал с разговора не только с тысяцкими, но и с сотниками. Общими усилиями определили, что удобнее всего устроить засаду в ёрнике, подступающем к дороге. Без рушниц. Без лишнего шума чтобы. Только с самострелами и с обычными луками. По полусотне ратников посадить в ёрниках справа и слева от дороги, а чтобы боковые дозоры не обнаружили засаду прежде времени, занимать место после того, как они минуют ёрники.
Мысль хорошая. Сотнику, её предложившему, Бельский поручил выбрать место для засады и устроить её. Остальным сотням этой тысячи обеспечить тайность засады, и если какой из боковых дозоров слишком углубится в лес, его перехватить и уничтожить бесшумно.
Удар наносить по отряду, замыкающему строй вражеской тысячи.
Вторая опричная тысяча — в резерве. В нужный момент, когда смешается в панике обстрелянный отряд крымцев, ему надо будет взять его в мечи и шестопёры.
Вроде бы всё по уму, но когда сотники покинули шатёр Бельского, тысяцкий, выделенный для резерва, посчитал нужным сказать своё слово.
— При сотниках я не стал возражать тебе, воевода, теперь — послушай меня. Из леса не выводи мою тысячу. Зачем зря в рукопашке терять людей? Их сохранить нужно для главного боя, прорежая ряды вражеские. Крымцев самих нужно заманивать в лес. Там им и карачун. Важно и другое: не выказывать свои силы татарам — пусть считают, как им хочется. А у страха, сам знаешь, глаза велики.
Подобное откровенное назидание задевает самолюбие, но верность совета заставляет уняться недовольству.
— Пожалуй, ты прав. Не станем без нужды втягиваться в рубку. Даже, считаю, в лесу. Болтами самострельными сечь, укрываясь в подлеске да под лапами елей, уподобясь боровым птицам.
— Вот это уже — слово мудрого воеводы. Но ещё хочу посоветовать. Перед ёрником, где засада укроется, триболы разбросать. Как можно гуще. Поворотят татары коней на ёрник, кони их враз обезножат. Вот и секи тогда кучу малу. Останется время и исчезнуть, свершив своё полной мерой.
Верно и это. Триболы — прекрасная штука. Вроде звёздочки с тремя острыми шильцами, и как ни кинь эту звёздочку, один шип обязательно вверх торчит. Непременно впивается он в копыто, если конь наступит на триболу. А тут по опешившему — болт. Куда как славно.
— Трибол даже в нашем обозе достаточно. Ещё можно в обозе посохи разжиться.
— Что же, так и поступим, — опять согласился Бельский и обратился к тысяцкому, сотням которого в засаде сидеть: — Пошли за триболами. К сроку чтоб доставлены были.
Двинулись опричные тысячи на быстроногих, уж застоявшихся, вороных конях по глухим лесным тропам, в обгон ползущего татарского войска. Быстро обогнали замыкающий тумен и нашли место для засады. И что порадовало: беспечно шли крымцы, не имея по лесу боковых дозоров. Это весьма облегчало скрытно действовать. Можно в ёрнике загодя устраиваться.
Вот прошла голова ногайского тумена. Вот ядро его — мимо. Последняя тысяча. Одна её сотня миновала, вторая, третья, четвёртая. Теперь — в самый раз.
Сигнал, по уговору, — выстрел из рушницы. Но чтобы не попусту дробь сыпать, а подарок сотнику преподнести.
Выстрел этот в лесной тишине ;— словно гром с ясного неба. К тому же сотник, не успев ойкнуть, ткнулся головой в конскую гриву. Миг растерянности. Однако всадники тут же схватились за луки, выхватывая их из саадаков. Ещё миг, и полетели бы смертоносные стрелы влево, откуда грохнул выстрел, но... болты калёные из самострелов засвистели с правой стороны дороги из такого же густого ёрника — тяжёлые железные стрелы, вытолкнутые тугой пружиной, легко пробивали татарские латы из толстой воловьей кожи, прорежая сотню.
В ответ, опомнившись, крымцы пустили дождь стрел в ёрник, но тут — второй выстрел, а следом за ним засвистели болты уже слева. Какие-то мгновения, и от сотни всадников остались жалкие крохи. Но идущая за ней следующая сотня с криком: «Ур! Ур!» понеслась на ёрники, вот тут и оказались весьма кстати триболы: одни кони падали, другие спотыкались о них, образовалась куча — ёрники огрызнулись ещё парами залпов из самострелов и опустели.
Лес насторожился, ожидая, что предпримет командир ногайской тысячи, теперь разрезанной как бы на две половины выпавшей из середины сотней. Не может же он вот так, не ответив на укус, повести ратников своих дальше, оставляя за собой неведомую угрозу. Ждали всё же ответа: не свойственно татаро-монголам и ногайцам признавать себя побеждёнными. И кара за трусость у них одна — переломанная спина и смерть.
Чего ожидали опричники, то и вышло: рассыпались сотни на десятки, и как саранча — в лес. Он же вблизи дороги — пустой. Разумно бы, конечно, татарве покинуть его не солоно хлебавши, воротиться на дорогу, но упрямство и злобность не сродни разуму. Всё глубже и глубже втягиваются в лес десятки крымских конников, не предвидя своей смерти в чащобе, и если кто-либо из них оказывается на лесной поляне, то со всех сторон тут же обрушивается ливень стрел, как болтов, так и обычных. Куда от них денешься? А то, что не звучали выстрелы из рушниц, было очень здорово: десятки врагов гибли один за другим, а не попавшие ещё в тенеты, не ведали об этом и не оказывали помощи.
Лес молча расправился с ногайской тысячей. Лишь немногие вырвались из него, поняв в конце концов что к чему, и догнали своих соплеменников со страшной вестью.
Темник — в гневе:
— Переломите хребты трусливым зайцам!
Дело привычное. Хрусть. Хрусть. И — на обочины. Пусть скулят в назидание другим до прихода смерти.
На расправу у темника ума хватило, а вот что делать дальше, ответа в его голове нет. Сам поскакал к главе ногайской рати, хану Теребердею, боясь его гнева и в то же время не имея возможности скрывать гибель тысячи.
Темникам, конечно, хребты не ломают, с них иной спрос — вон из тумена. А это пострашней смерти будет. Однако на сей раз кара миновала провинившегося. Теребердей вместе с ним — к Дивею-мурзе. Чтобы обсудить произошедшее и определить необходимые меры безопасности.
Хану Девлет-Гирею они решили пока ничего не сообщать.
Богдан Бельский тоже держит совет с тысяцкими, радуясь успеху: у воеводы всего двое раненых случайными стрелами. Лучшего желать нечего.
— Добрый ход найден. Повторять и повторять его. Разить и разить калёными стрелами!
— Теребердей, считаешь, не примет ответных мер? Он — воевода башковитый. Ума ему взаймы не брать. Думаю, теперь все ёрники, какие встретятся по дороге, вначале стрелами прошилят, тогда только — вперёд. Боковые дозоры обязательно жди. Ещё, вполне возможно, лесными глухими дорогами пустят крупные отряды. Лазутчики шнырять станут любо-дорого.
— Поступим и мы иначе. Не станем загодя укрываться в ёрниках, и только после того, как их обстреляют, выползать, — предложил Богдан Бельский.
— Можно будет и так, — поддержал Бельского тысяцкий, — ещё разок таким манером пощипать.
— Главное же, лазутчиков из леса не выпускать, пока не получим иное слово от князя Андрея Хованского. Самые ловкие десятки специально против лазутчиков настропалим. Много десятков.
Удалась и вторая засада. Меньше, правда, постреляно, всего сотни две, но тут сотня-вторая, там сотня-другая, всё, как говорится, наберётся детишкам на молочишко. Поменьше врагов останется, когда дело дойдёт до свемной сечи. Важнее другое: крымцы теперь станут словно пуганые вороны каждого куста бояться. Ведь не только опричный полк их за бока щиплет, но и весь полк Правой руки, все казаки атамана Черкашенина, которые присоединились к полкам то ли по приказу царя Ивана Васильевича, то ли по доброй воле.
Казаки, знамо дело, не только секут крымцев, но и грабят их обозы, но разве это помеха задуманному.
На Наре сводные заслоны из городовой рати остановили тумены Девлет-Гирея на пару дней — опричники Богдана Бельского в эти дни бездействовали. А те тысячи, что впереди, продолжали боковые уколы. А как только вражья рать двинулась, переправившись через Нару, Бельский сразу же приказал обнажить мечи. Опричники даже успели совершить налёт на тех, кто замыкал переправу.
Весьма успешен и этот налёт. Потери опричников — всего десятка полтора, крымцев же полегло более двух сотен. Они уже, видя чёрных всадников на вороных конях, сопротивлялись весьма вяло. Вроде бы нечистая сила на них нападала.
За этот налёт благодарное слово пришло не только от первого воеводы Опричного полка, но и от самого князя Михаила Воротынского.
Дальше тоже всё шло ладом. Опричные тысячи меняли тактику, и Теребердей не успевал с надёжной защитой. Опричники даже аукать стали. Поначалу ради озорства, потом же, познав выгоду, «зааукивали» ворогов в топкие болотины, и те тонули в них вместе с конями. Бесследно исчезали.
Рожаю миновала крымская рать. И если на Лопасне держали её более трёх суток, то на Рожае почти не случилось задержки. И всё же тумены Девлет-Гирея основательно растянулись. Замыкающие сотни только-только отходили от Рожай, а передовые уже схлестнулись с заслонами на Пахре. Теперь по замыслу князя Воротынского и заслонам предстояло стоять упорней, и налёты совершать с большей основательностью. Вот Опричному полку и предстояло развернуться во всю мощь, беспокоить засадами ворогов, ибо полк Правой руки должен был выделить добрую половину от себя на переправу через Пахру. Подтянули к Пахре даже десяток пушек. Пусть Девлет-Гирей почешет свою реденькую бородёнку, предвидя и в дальнейшем всё большее сопротивление русской рати. Вот тогда он не отмахнётся от дерзких налётов на свои тылы, почувствовав и в них большую угрозу. Побоится оказаться в клещах. А чтобы не возникло у него по поводу серьёзности угрозы сомнений, Опричный полк и оставшаяся часть полка Правой руки должны были, объединив усилия, навалиться на тылы ханского войска, подготовив крепкий удар к тому времени, когда крымцы, сбив заслоны на Пахре, начнут через неё переправляться.
Только опричникам Богдана Бельского не пристало ввязываться в ту стычку — им задача иная: продолжить щипать бока Девлет-Гирею и вывести — а это самое главное — часть его лазутчиков на гуляй-город. Как предполагали все воеводы, после удара в спину вражеской армии у Пахры число лазутчиков возрастёт, станет их как растревоженных муравьёв: Дивей-мурза не успокоится, пока не выяснит, какие силы русских у него за спиной.
Гонца к Богдану Бельскому с повелением выводить лазутчиков к гуляю прислал сам главный воевода князь Воротынский, ибо от действий опричных тысяч Бельского во многом зависел ход дальнейших событий. Богдан, гордясь важностью своей роли в общем замысле главного воеводы, самолично наставлял всех сотников:
— Не больше двух лазутных групп подпустить к гуляю, но и тех на обратном пути основательно проредить. Пусть только пара или две пары доскачут до своих с важной вестью. Со страху-то наговорят, будто весь лес запружен нашими ратниками.
О страхе он сам добавил к приказу главного воеводы, справедливо рассуждая, что страх — не вдохновитель победы.
Велено — сделано. Все лазутчики, переправлявшиеся через Рожаю, попадали под зоркое око опричников Бельского. Пропускали их поглубже в лес и скашивали самострелами. Но вот одних подпустили к холмам. Оказавшись на опушке перед большим полем, они разинули рты от изумления: великий гуляй-город, способный вместить несколько десятков тысяч ратников, грозно поглядывал на них из бойниц жерлами пушек.
Десятник приказывает:
— Рассыпаемся парами. Ящерицами ползти, но об увиденном весть донести!
Сам же пустил коня вскачь прямо по дороге. Не таясь.
Вот его-то опричники и решили одарить жизнью. Одного. За решительность, за смелость, за понимание важности увиденного.
Прискакавшего на взмыленном коне командира лазутной десятки сотник сразу же повёз к Теребердею. Минуя и тысяцкого и темника. Теребердей — прямиком к Дивею-мурзе. Тот с великим вниманием отнёсся к сообщению десятника, прося ещё и ещё раз повторить рассказ. Затем спросил:
— Где остальные из твоей десятки?
— Они, если им удастся, возвратятся лесом. Я же поскакал открытой дорогой. В лесу гяуров много, на дороге же — никого. Но я побоялся, если вся десятка со мной поскачет, привлечёт внимание.
— Ты достоин стать сотником. Пока же — иди.
Долго два военачальника обсуждали тревожную весть. Даже сомневались.
— Не может быть у Воротынского большой рати. В прошлом году все полки, какие обороняли Оку, погибли, — рассуждал Дивей-мурза, — а по городам российским прошёл мор. Великий мор. С Ливонией не замирились, значит, и оттуда полки не могли прибыть. Думаю, туменом одним, твоим, Теребердей, разнести можно будет гуляй-город.
— Я тоже так думаю. Но нужно ещё и ещё посылать лазутчиков, чтобы подтвердить слова десятника.
— Сотника.
— Да, сотника. Я поверил ему, только один глаз — не два глаза. Повременим, не получив ещё одного подтверждения и более подробного осмотра места.
— Наши мысли совпадают. Хану Девлет-Гирею я пока ничего не скажу. Движение к Москве не остановлю. А сотника предупреди, пусть язык держит за зубами и про увиденное никому ни слова.
В то же самое время Богдан Бельский упрекал опростоволосившихся:
— Как же можно позволить одному только воротиться? Одному никогда не будет полного доверия. Теперь, по нашему же недоумию, лазутчики полезут ещё нахрапистей.
— Встретим, — успокаивали Бельского сотники. — Всё сделаем как надо.
Слово опричники сдержали. Подпустили к гуляю пару лазутных десятков. Более того, сумели захватить языка. Он знал не слишком много, но даже то, что знал, оказалось очень важным: на гуляй-город будет послан один ногайский тумен.
Отправил языка Богдан Бельский своему воеводе, в ответ ни звука. Целых два дня в неведении. А они прошли с великой пользой для русской рати: гуляй подготовился к отражению тумена и успешно от него отбился. На следующий день — два тумена навалились на гуляй, но тоже без малого успеха. Не сможет теперь Девлет-Гирей продолжать движение на Москву, пока остаётся у него за спиной большая ратная сила. Так рассудили на совете воеводы и решили срочно подтянуть все полки к гуляю.
Богдан Бельский тоже получил приказ соединиться со своим полком.
Богдану приказ первого воеводы лёг на душу. Он даже возликовал.
«Сеча! Игра судьбы. Если Бог даст, с головой и со славой выйду из неё», — думал Богдан Бельский, вполне уверенный, что их полк войдёт в гуляй и станет отбивать штурмующих. Увы, полк вновь остался в чащобе.
Весь следующий день с тревогой прислушивался Богдан к пушечной стрельбе, к залпам рушниц, к барабанному бою татарских сигнальщиков и даже к воинственным воплям: «Ур! Ур!». Он боялся, как бы не захлебнулась стрельба, не ворвались бы в гуляй-город вражеские тумены. Впрочем, не он один опасался этого. Даже Хованский, не говоривший обычно лишнего слова, не выдержал:
— Не ошибается ли князь Михаил? Что в гуляе? Большой полк, полк Левой руки, немцы-наёмники Фаренсбаха, казаки атамана Черкашенина и огневой наряд. Тысяч тридцать пять, если учесть ещё княжескую дружину. Девлетка бросил в сечу вдвое больше. У него оставлен тумен на Боровской дороге, ещё один — на Десне, но ему два тумена держать в запасе свободней, чем нашему воеводе два полка.
— День, почитай, выстояли. Бог даст успеха и в завтрашний день, — довольно спокойно не согласился с Хованским второй воевода Хворостинин, — что-то же задумал князь, коль нас в запасе держит. Подождём своей очереди.
Богдан Бельский счёл нужным не говорить своё слово, не делиться своими подозрениями. Может, они заодно с князем Воротынским? Вроде бы хотят побить Девлетку, а сговор иной имеют.
Что ни говори, но влияние дяди, возглавляющего сыскное ведомство опричнины и по долгу службы подозревающего всех и каждого, оставило заметный след.
Не раскроешь, однако, душу тем, кого подозреваешь в возможной измене.
Начало темнеть. Протрубили татарские карнаи отход, ухнуло ещё несколько выстрелов из пушек, и всё затихло.
— Ну вот, жди гонца, — заключил князь Хованский.
Точно. Вскоре гонец прискакал в Опричный полк. Долго о чём-то говорил с Хованским с глазу на глаз, когда же ускакал, первый воевода тут же позвал Хворостинина и Бельского.
— По дыму из гуляя налетаем на крымцев. Тремя клиньями. Ты, воевода Бельский, возьмёшь под свою руку свои две тысячи и те, что впереди тебя щипали. Встанешь справа от меня. Твоя задача: по берегу Рожай с полверсты пронестись галопом, потом налетать на спины татарские. Без барабанного боя. Без рожков. Молча. Черной тучей. Будто кара Божья на головы басурманские. Я — в центре. Хворостинин — слева. Мы должны так рассчитать, чтоб нам вклиниться в тылы врагов одновременно. А дальше своими тысячами каждый управляет сам. Исходя из обстановки. Если нет вопросов — по своим местам. Впрочем, окольничий Бельский, повремени чуток.
Ещё Хворостинин не успел опустить за собой полог шатра, Хованский задаёт вопрос:
— Ты в настоящей сече бывал?
— В серьёзной — нет.
— Послушай тогда совета: ищи золотую середину. Наблюдая лишь за действиями тысяч своих, стоять в сторонке на облюбованном бугорке не стоит. Тысяцкие они — сами с усами. Но и рубиться, забыв обо всём — не дело. Время от времени выходи из рукопашки осмотреться. А холопов своих от себя ни на шаг не отпускай. Они — твоя защита.
— Отборные у меня боевые холопы. Знают своё дело.
— Верю. Только прошу: главу своей дружины пошли ко мне. Я с ним потолкую. Имей в виду, мне за твою голову перед Малютой ответ держать.
— Иль грозил за недогляд? Не может такого быть. Сеча, она и есть — сеча.
— Малюта никогда никому не грозит. Он делатель, а не пустомеля.
Точная оценка. Дядя Малюта никогда лишнего слова не скажет. Даже с ним, племянником, не часто откровенничает. А что за смерть племянника может отомстить, такое вовсе не исключено.
— Непременно учту это, памятуя заботу твою обо мне. Однако зайцу, под ёлочкой укрывшемуся, не уподоблюсь.
— Условились.
К рассвету, когда Богдан вывел свои тысячи на исходное место, откуда удобен рывок по берегу Рожай, и стан свой временный густо опоясал засадами против возможных лазутчиков, к нему подъехала четвёрка могучих опричников — глянул на них Богдан Бельский, оторопь его взяла. До жути суровы их лица. А руки, что твои кувалды.
— Первый воевода к тебе послал. Стремянными.
— Добро. Соединяйтесь с боевыми холопами.
— Нет. Мы сами по себе. Наш глаз — особый.
— Хорошо. Не поперечу воле первого воеводы.
Может, они ещё бы о чём-либо поговорили, но в это время предутреннюю тишину разорвал гулкий бой главного татарского барабана, его подхватили дробь меньших барабанов туменов, тысяч, сотен, а следом словно повисли над предрассветным полем утробные звуки карнаев, визгливые сурнаев; и вот уже вздрогнул лес от великого многоголосья:
— Ур-а-агш!
— Ур-а-агш!
— Ур-а-агш!
Первый залп пушек и рассыпчатая дробь рушниц. Ещё залп и дробь. Ещё и ещё. Штурм набирал силу.
Томительно тянется время. Очень томительно. Оно так тянется, когда ты в полном безделье, а у тебя чешутся руки. Татары же настолько увлеклись штурмом, что вовсе забыли об охране тыла, о разведке в окрестных лесах, подступающих к пойменному полю, поэтому даже засады дремали в ёрниках.
Без Дивея-мурзы, который всегда всё предусматривал (его заарканили порубежники прошлой ночью, когда он выехал осмотреть гуляй-город и определить, где его наиболее уязвимое место), некому было подсказать умное решение Девлет-Гирею, он же сам пылал гневом, повелевая одно и то же:
— Снесите деревянный забор, трусливые бараны! Смерть гяурам!
Время к обеду. Пора бы и в рубку со спины. Но нет дыма. Богдан Бельский едва сдерживался, чтобы не скомандовать своим тысячам вступить в сечу. И когда уже совсем стало невтерпёж, когда мысль об измене чуть было не толкнула на необузданный поступок, взметнулся над гуляй-городом чёрный столб дыма.
Богдан Бельский, забыв о советах первого воеводы Андрея Хованского, поскакал впереди своих тысяч. Подковой его охватили боевые холопы и приставы Хованского. Первым и врубился Бельский в плотные ряды крымцев, увлёкшихся боем и не обративших внимание на столб дыма над гуляем.
Любо-дорого сечь растерявшихся, видя, как они падают под ударами твоего меча. Нет, не держат их кожаные латы острую новгородскую сталь. Кишка тонка. Машет и машет мечом Богдан Бельский, не замечая времени, забыв обо всём, будто и не воевода он, а простой мечебитец. И тут грубый такой, можно сказать приказной, голос:
— Охолонись, воевода. Выйди из сечи. Оглядись.
Бельский ругнул себя и развернул коня. Боевые холопы и приставы первого воеводы прикрыли его спину и бока.
В полусотне саженей — взгорок. Должно быть, удобный для командного стана. Точно. Одним взором можно охватить не только свои тысячи, но и всё поле боя. Только для чего это? Пока Бельскому невдомёк.
Подскакали тысяцкие со своими стремянными. Им тоже надо охватить взглядом происходящее и получить какое-либо уточнение из уст воеводы, над ними поставленного.
— Похоже, пришли в себя татары, — со вздохом определил один из тысяцких. — Тягучая сеча пошла. Не побежали вороги, на что, похоже, главный воевода расчёт имел. Теперь не ясно, чем всё закончится. Их намного больше, чем нас.
И в самом деле, рубка шла по всему полю. У русских только одно преимущество: из гуляй-города продолжают палить пушки, рушницы и самострелы, прорежая крымские ряды, ибо от разящей дроби и калёных болтов укрыться просто невозможно. Вороги зажаты со всех сторон, и выход у них один — рубиться до конца или рвануться на прорыв.
Похоже, не предвидел князь Воротынский такого поворота событий. Когда неприятель поставлен в безвыходное положение, он просто вынужден драться с удвоенной силой. Нужно было, возможно, оставить продух между полками, чтобы дать просеку для бегства. Теперь это видели даже тысяцкие и рады были сказать своё мудрое слово.
— Не всё учёл князь Воротынский, — тоже со вздохом поддержал своего товарища второй тысяцкий. — Потому, считаю, одной головой думал, а мог бы большой совет собрать. Теперь в три руки биться нужно, иначе...
Он не договорил, увидев, как из леса выпластала дружина князя Воротынского с его стягом. Впереди — знатный воевода Никифор Двужил.
— Ого! Князь имел силы в запасе? Внесёт перелом!
Однако не в гущу сечи несётся дружина, а держит путь свой к ставке Девлет-Гирея, которая расположилась в полуверсте от гуляй-города на высоком холме. Со взгорка, на котором восседает на коне Богдан Бельский, её хорошо видно. Да и расстояние до ханской ставки не так уж велико. Первые ряды обороняющих ханскую ставку дружина смела играючи, но чем ближе к хану, тем яростней сопротивление. Да и как иначе, если добрая половина ханской гвардии — отборные нукеры — оберегает драгоценную жизнь властелина.
Замедляется движение княжеской дружины, вот-вот остановится она, завязнув в тягучей сече.
«Пособить бы?» — мелькнула мысль у Богдана. Окинул он поле сечи взглядом: напрямую прорубаться сквозь татарские тумены очень долго. А если обочь поля? По берегу до леса, а там — краем леса, да и ударить сбоку?
Взыграла кровь. Приказывает своим тысяцким:
— Поможем дружине славного воеводы нашего! Дайте знак о выходе из сечи и — за мной!
— Риск великий. Оголим свой участок. И всё же, стоящий риск. Дело задумал ты, воевода.
А Бельский уже скачет со своими боевыми холопами и приставами Хованского по берегу Рожай, не замечая даже, что в иных местах татары поджимают русских ратников очень близко к берегу; но вот его начали догонять вороные опричные сотни — всё больше и больше их. Чувствует это Богдан Бельский по топоту несущимся за ним и торопит коня — тот рвётся из-под седла, словно поняв намерение хозяина.
Вот она, гряда холмов. Пора выскакивать из леса. Осадил коня Бельский, чтобы подтянулось как можно больше ратников. Понял, тысячи не наберётся. Выходит, не всех вывели из сечи тысяцкие, побоялись полностью оголить участок.
«Ослушались!»
Только не время возмущаться. Нет нужды ждать и остальных, кто ещё не подоспел. Тем более правы тысяцкие. Нигде нельзя давать простора татарам, иначе, почувствовав слабину, они ещё пуще ободрятся.
Оглянулся Бельский на стоявших в ожидании опричников и — громко, чтобы услышали все:
— Кто подрубит ханский стяг, обещаю выборное дворянство и чин тысяцкого! За мной!
Момент решительный. Должна дрогнуть ханская гвардия, увидя боковой удар. На это уповал Богдан, пластая на своём вороном впереди вороньей стаи. Забыл наказы и Малюты, и Хованского не действовать сломя голову. Напрочь забыл.
Увы, не дрогнули гвардейцы ханские. Без страха встретили они чёрных опричников кривыми саблями. Пошла рубка. Не пятились нукеры, только по их трупам продвигались вперёд опричники, теряя своих соратников.
У Богдана Бельского мелькнуло сомнение: не зря ли предпринята им атака, не сложит ли он здесь свою голову?
Но вот перемена: не гвардейцы дрогнули, дрогнул хан. Он видел, как с одной стороны упрямо прорубается к нему княжеская дружина со стягом главного воеводы, с другой, не менее упрямо, продвигаются чёрные опричники, к которым продолжает прибывать из леса пополнение. Вышло совершенно случайно, но оказалось, что Бельский поступил весьма разумно, не став дожидаться полного сбора своих ратников, — именно выскакивающие одна за другой из леса десятки более всего напугали Девлет-Гирея, ибо хан посчитал, что не будет конца чёрным ратникам. Хан махнул рукой сотне своих телохранителей, которая ещё не вступала в бой, и поскакал в обход гуляя на большую дорогу.
За ним, не теряя ни мига, понеслись нойоны, тоже со своими телохранителями — защитников холма сразу же заметно поубавилось, да и боевой дух их моментально сник.
Через четверть часа сотник Ивашка Силин подрубил ханский стяг.
Упавший стяг — сигнал великого бедствия. Правда, ещё какое-то время сеча не утихала, но вот наиболее разумные тысяцкие или наиболее трусливые повели своих подчинённых на прорыв; русские же ратники, поняв, что близок миг победы, не слишком-то препятствовали желающим улепетнуть. Пусть несутся в панике. Сподручней сечь их, догоняя. У каждой речки. Особенно на Оке. Если ещё их мудрый главный воевода загодя определил Серпуховскому гарнизону тормошить переправы вылазками.
Тех, кто сдавался, не секли: будет кому хоронить нечистых басурман, да и работники из татар со временем получаются неплохие, а руки рабочие земле обезлюдевшей от мора и рати ой как нужны. Ещё и о том мысли: пойми, кто из них монгольской, а кто русской крови — во все годы ига Орда брала налог крови, каждого первенца-мальчика. Явно готовила из них бойцов.
Богдан Бельский гоголем восседал на коне, взирая с восторгом на происходившее вокруг. Удобное место выбрал Девлет-Гирей, чтобы всё видеть, увы, толку от этого никакого не извлёк. Теперь вот он, Бельский, на его месте. Гордый тем, что не дружинники княжеские подрубили ханский стяг, а опричник, ему подчинённый. Он ждал, когда к нему подъедут первый и второй воеводы Опричного полка и признают его важный вклад в победу над крымцами.
Завысил значимость своих действий? Ещё как! Его смелый шаг не более, чем родничок, влившийся в Окские струи, только дополнение к проделанной огромной подготовительной работе князя Михаила Воротынского и его соратников. Причём «родничок» был случайным. Но разве мог Богдан трезво об этом подумать, считая, что именно его умный и смелый манёвр принёс столь великую победу, в корне изменив картину боя?
Нет, он не спустится с холма, пока не подъедут к нему его начальники и не пожмут его руку. Храбрую руку героя.
Никифор Двужил уже сказал ему своё слово:
— Молодцом, воевода. Завяз бы я со своей дружиной. Слишком отчаянны ханские нукеры. Да и больше их намного.
— Увидел я, что туго вам, вот и решил.
— В самое время решил. Ладно, оставайся здесь, а я — к князю. Вдруг пособить есть нужда.
Не Хованский с Хворостининым подъехали первыми к бывшей ханской ставке, а сам князь Михаил Воротынский. Гордый великой победой, но старающийся скрыть радость, ибо на поле сечи да и в гуляй-городе сложили свои головы многие сотни.
— Низкий поклон тебе, опричный воевода Бельский. Пособил знатно. Как бывалый воевода действовал. Стяг ханский тебе к ногам Ивана Васильевича, царя нашего, бросать. А теперь... Чешутся, небось, руки. Вдогонку кинуться хочется?
— Конечно.
— Веди свои тысячи. Я всем полкам велел сечь безжалостно наглых захватчиков, кто не бросит сабли своей кривой да саадака с колчаном. И тебе это же велю.
Поспешил Богдан Бельский со своими опричниками, и уже на Лопасне догнал улепетывающих в панике татар и ногайцев. Они почти не сопротивлялись, и он пленял их сотнями, заявляя на них своё право. Его вотчинам и поместьям в Московском, Ярославском, Переяславском, Зубцовском, Вяземском, Нижегородском уездах и в Белом рабочие руки лишними не станут. Можно, кроме того, приглядевшись, отобрать из татар храбрецов, готовых исполнять любое его поручение. При усердном служении их можно будет даже возвысить ещё более.
Угодили в руки Бельского и те, кого Девлет-Гирей прочил наместниками в города русские. За них князь полагал получить хороший выкуп, значительно пополнив свою казну, которая хранится в Иосифо-Волоколамском монастыре.
Когда насытился сечей окончательно, решил Богдан, что можно теперь присоединяться к своему полку, под руку воеводы Хованского, выказывая и в дальнейшем ретивость. Он достиг того, чего желал: отличился в сече настолько, что даже недруги не смогут этого отрицать. А уж Малюта Скуратов сумеет преподнести царю Ивану Грозному его решающую роль в победе над Девлеткой, князя же Воротынского унизить или даже обвинить в нерешительности, в которой можно увидеть, если приглядеться внимательно, двойную игру со злым умыслом.
Пособит в этом и Фрол Фролов.
Надежды Богдана Бельского исполнились. Ему повезло. С помощью, конечно, доброго дяди Малюты. Получилось так, что рать победителей, въехавшую в Москву во главе с князем Михаилом Воротынским, встречали великим ликованием и колокольным звоном всех церквей. Под копыта коней бросали охапки цветов, женщины расстилали шёлковые платы свои. Не боялись греха остаться простоволосыми. Когда же возвращался в Москву сам царь Иван Грозный, бежавший, как рассудил народ, от важнейшей для страны сечи, его встречали подневольно, что почувствовал царь и его до глубины души это скорбило.
Не встретил царя и сам Воротынский лично. Он поспешил воспользоваться победой и вместе со своими боярами устремился к тем местам, где давно уже были срублены заставы и крепостицы, чтобы наладить спешную их отправку в предназначенные им места на порубежных линиях. И вот тут Малюта Скуратов, поняв, как всегда, тайные мысли государя, пустил слух, что князь Воротынский не добился бы победы над Девлет-Гиреем без героизма Опричного полка, особенно тех тысяч, которыми командовал Богдан Бельский. Когда же слух этот, распространяясь, набрал силу, Малюта донёс о нём Ивану Грозному, добавив:
— Сам князь Воротынский определил Богдану Бельскому, холопу твоему верному, стяг ханский бросить к твоим ногам. Когда и где, твоё, государь, слово.
— На пиру в честь моей победы над Девлеткой!
С этого и началось пиршество. Расселись званые гости по своим местам согласно знатности их рода, воссел царь за свой стол — всё, как обычно, только отчего-то по правую руку царя — пусто. Для кого место оставлено?
Недолго томились бояре, князья и дворяне в неведении, двери трапезной палаты распахнулись, и в сопровождении десятка вооружённых опричников вошёл в неё Богдан Бельский, волоча за собой стяг хана Девлет-Гирея, как половую тряпку.
Вот это — выдумка!
Приблизился Бельский к царскому столу и швырнул к трону царёву изрядно испачканное и помятое знамя.
— Тебе, царь-победитель Девлетки, стяг его, в навозе конском вывалянный.
Царь указал Богдану Бельскому место рядом с собой.
И пошло после этого, поехало. На пиру царь словом не обмолвился о князе Воротынском, ибо его самого среди гостей не было, он продолжал мотаться теперь по порубежью со своими соратниками, организуя работы по возведению крепостей и застав, а раз нет воеводы, зачем говорить о нём. Честил царь лишь своих любимцев, даже тех, кто вовсе не был причастен к сражению под Молодями, а из воевод славил Хованского, Хворостинина, Юргена Ференсбаха, особым словом отмечая мужество и находчивость Богдана Бельского — славил только тех воевод, кого сам определил в Окскую рать для усиления.
После пира, скорее нечестного, чем почестного, Скуратов имел тайный разговор с племянником своим.
— Молодцом ты себя показал в рати, а ещё лучше — со стягом ханским. Теперь путь тебе открыт более вольный. Если к тому же довершим начатое нами. Если низвергнем Воротынского.
Нашли они зацепку, раскрутили её, и Грозный жестоко расправился со спасителем России от полного её порабощения.
Малюта Скуратов размечтался: «Ближним слугой очинит меня взамен Воротынского. Свою сыскную и карательную службу передам Богдану».
Гопнул Малюта, не перепрыгнувши, обнадёжив даже племянника радужным будущим. И Малюта, и Богдан остались при своих интересах. Богдан Бельский даже боярства не получил: не перевёл его государь из окольничьих Государева Двора в бояре думные.
Верно молвится: поступки властелинов непредсказуемы. Можно лишь затаить обиду, не более того. И ждать подходящего момента для расплаты за несправедливость.
Богдан даже заболел от огорчения. Целую неделю не покидал дома из-за недуга, крепко подкосившего его здоровье. И как уже стало привычным, Богдан, перед сном приняв снадобье, отправился было в опочивальню, но вошедший ближний слуга его известил:
— Боярин, тебя кличет спешно Малюта, дядя твой.
«Боярин» — привычно слышать от слуг. Лести ради они его так величают, и он не противится, а вот с приглашением дело странное.
«Вчера наведывался. Спокоен был. Уверенный в себе. Чего это вдруг зовёт? Знает же о хвори моей. Мог бы и сам наведаться, если что стряслось».
— Вели нести одежду на выезд. Да пусть запрягут коляску. Верхом недюжин я ещё. Полость медвежью не забыли бы положить. Не зима на дворе, но хворому остудиться вполне можно.
Ехать всего ничего, но слуги укутали барина своего основательно, чтоб, не дай Бог, не продуло бы его, не усилился бы недуг. Кучер тоже не гикнул на тройку, чтоб понеслась она лихо — не нужен барину встречный ветер. Когда же въехал во двор усадьбы Малюты Скуратова, не остановил коней на обычном месте, а подвёз Богдана к красному крыльцу под самый под навес.
Племянника ждали. И хотя он был здесь частым гостем и хорошо знал дом, ему услужливо подсказали:
— В дальней горнице они.
Почему «они» и почему в дальней горнице, крохотной каморке, можно сказать? Он, Бельский, был в ней всего несколько раз — копия царской горницы для тайных бесед. Выходит, серьёзный на этот раз ждёт его разговор. Тайный. Подальше от слуг. И всё же, почему «они», и сколько ещё гостей дядя позвал?
Гость был всего один. Борис Годунов. Зять Малюты. Муж Марии, двоюродной сестры Богдана.
Впорхнула в душу ревность, а с ней и неприязнь. Конечно, Богдан знал, что дядя подтягивает к трону своего зятя Бориса, и тот уже был дружкой на свадьбе царя Ивана Васильевича с Марфой Собакиной[52]. Такой почёт не часто достаётся даже князьям именитым, боярством очиненным. И то сказать, великолепен юный Борис, одарён природой щедро. Что осанка, что вид сановитый, что манера держаться — явно он нравился царю даже несмотря на то, что, как поговаривали, Борис всегда умел увильнуть от участия как в оргиях, так и в кровавых расправах.
Не должно бы подобное нравиться Ивану Грозному, но надо же — вроде бы царь не замечает ничего. Значит, лестью берёт Годунов, либо хитростью.
Даже Малюта однажды высказался о нём откровенно:
— Далеко пойдёт. Ты с ним, племяш, ухо востро держи. Рта лишний раз не открывай.
И вдруг они вместе? Наверняка чтобы говорить друг с другом с полным доверием и совершенно откровенно. Что же изменилось?
— Вот и слава Богу, что подъехал, — заговорил Малюта Скуратов, указывая племяннику на лавку с мягким полавочником. — Не время, племяш, хворать. Царя-батюшку снова блажь одолела.
Вот это — выходка. Далеко не та скрытная усмешка, какая однажды сорвалась с дядиных уст, а прямая крамола. Стало быть, не опасается он своего зятя.
«А меня предупреждал рта не раскрывать лишний раз».
Просек Малюта, о чём мысли племянника, и успокоил его:
— Сегодня не коситься нужно нам друг на друга, а плечи подставив, сообща идти к единой цели. Цель же — готовиться к самому худшему.
Помолчал миг-другой, собираясь с мыслью, и продолжил с грустным вздохом:
— Письмо царское Василию Грязнову мне дали почитать. Вам ведомо, что израненный, пленён он Девлеткой. Слишком увлёкся преследованием за Окой, вот и оказался в руках татарских. Девлетка предложил обменять Грязнова на Дивея-мурзу. Василий от себя прислал просьбу уважить Девлетку. И что ответил Иван Васильевич, царь наш? Ишь, мол, чего захотел: кто Дивей-мурза и кто ты? Не забывай, мол, кто отец твой и дед. Дивей-мурза из знатных, а тебе чего, дескать, в знатные нос совать. Ты, дескать, низкий раб, гож лишь скоморошничать на наших пирах. Так и назвал: низкий раб.
Вновь молчание. На сей раз довольно долгое. Снова вздох.
— Ни ты, Богдан, ни ты, Борис, не из первых княжеских родов. Стало быть, — рабы. Низкие. Я тоже не из первых среди Бельских, хотя и очинен в думные бояре. Вас же выше окольничьих не жалует. Скажете, настанет, мол, и наше время. Может быть. Но вот в чём загвоздка: завтра на Боярской думе царь намерен объявить о конце опричнины. Не станет больше отдельно опричнины, отдельно — земщины. Россия снова станет единой. Не мне судить, хорошо или плохо это для России, для нас же — худо. Очень даже худо. Не при деле мы окажемся. Если даже минуем опалы. Пока я знаю, кого опалит Иван Грозный. Не очень многих. Казней не ожидается вовсе. Предстоят только ссылки. Знаю и то, что царь собирается удалить от себя многих из опричников, кто был его спутником на разгульных пирах и в кровавых забавах. И кто из нас скажет, что и с нами подобное со временем не случится? Тем более что опричные полки, где у нас есть кое-какая опора, намерен он заменить стрелецкими полками. Даже при себе царь думает создать Стрелецкий полк. Вот я и позвал вас, чтобы сообща решить, станем ли мы ждать рока, будем ли сами о себе иметь думку и действовать согласно с этой думкой?
Не успел ещё Богдан полной мерой оценить услышанное, как Борис Годунов заговорил уверенно, словно о давно выношенном.
— У Ивана два сына: Иван и Фёдор. Иван столь же умён и хитёр, как и отец. Жесток не менее его. Фёдор же — блаженный. Вот его и следует на трон возвести. Он станет царём всей России, управлять же ею будем мы.
— А брат Грозного Владимир Старицкий?
— Не помеха, если умело действовать.
— Выходит, извести и сына Грозного и Владимира? — решился на откровенный вопрос Богдан. — Не в пыточную ли прямой путь, если дознаются?
— А сейчас ты от сумы и тюрьмы можешь заречься?
— Это так. И всё же нужно действовать ловко и тайно.
— Есть ход. Вполне надёжный, — уверенно сказал Борис Годунов.
Вот и весь сказ. Больше ни слова. Разве это откровенность? Богдан хотел было упрекнуть Годунова, но сдержался, прикинув всё в уме. В самом деле, есть ли нужда раскрываться во всём, не лучше ли, имея одну цель, делать каждому своё дело тайно. Так меньше опасности провалиться, если что-либо изменится.
В общем, долгий разговор окончился твёрдым уговором: идти сообща к единой цели, не подстёгивая друг друга, действуя размеренно и очень осторожно, даже не раскрываясь полностью друг перед другом.
— Важно хорошенько запомнить это да не выпячивать на людях нашей дружбы. Жить как все: при Государевом Дворе дружбы нет, есть только интересы каждого. Лучше будет даже, если мы, помогая друг другу по большому счёту, прилюдно изредка станем показно противоречить по мелочам. А такое останется в памяти.
— Принимается! — горячо поддержал Малюту Борис Годунов.
Так порывисто, так несдержанно, что у Богдана Бельского закралось подозрение:
«Угодно, видать, ему станет двуличить при таком уговоре. Себе на уме...»
Когда стало очевидно, что обо всём тайном уже обговорено, хозяин предложил:
— Перейдём в трапезную. Сделаем вид, будто продолжаем наш разговор. Для ушей слуг моих.
В трапезной потянулся долгий пустопорожний разговор, в основном о делах в вотчинах и поместьях.
На следующий день, к удовольствию заговорщиков, Иван Грозный не собрал Боярской думы, ибо резко изменилась обстановка: посольский приказ известил государя о смерти польского короля Сигизмунда и о том, что в Москву направлено посольство из Кракова. Его цель — предложить Ивану Грозному от имени шляхты и ясновельможных панов выдвинуть свою кандидатуру Сейму для выбора его в короли польские. Иван Грозный ломал голову над тем, как поступить. Вроде бы заманчиво, и в то же время, кто предскажет результаты этих выборов. Начались, как бы мы сейчас назвали, консультации. Советы самые разные, но большинство бояр стояло за то, чтобы дать согласие идти на выборы. Только Богдан Бельский ответил государю коротко и ясно:
— Избранный на Сейме — не самодержец. Ты, государь единовластный в России, в королевстве будешь повязан по рукам и ногам.
Лыко — в строку. Взыграло самолюбие Ивана Грозного, и он хотя вроде бы и не отказался от предложения послов, прочащих его на Польский престол, но палец о палец не стукнул, чтобы добиться победы на выборах. Поступил так, дабы не слишком обидеть ясновельможных панов резким отказом. Тянул время.
Ещё одна причина неспешности в отмене опричнины — действия шведов. Считая, что Россия ослабла — потеряла изрядно ратников в сече с ханом крымским, а войско пополнить некем, ибо по городам и весям российским прошёл страшный мор, — шведы начали шажок за шажком захватывать земли эстонцев. Мало того, смущали карелу, ижору и водь, занедовольничала и чудь побережная, вроде как тяготиться стала подданством российским, и это, пожалуй, была главная причина, по которой Иван Грозный заменил обсуждение задуманного прежде вопроса другим — он испросил совета, как лучше организовать поход на шведов. Предложений много. Выслушав их, государь объявил:
— Я сам поведу полки на шведов. Весны ждать не буду, как предлагают некоторые осторожные. До зимы устрою войско в станах Великого Новгорода и ударю оттуда неожиданно.
По росписи Разрядного приказа Богдану Бельскому было определено идти воеводой в карелы. С одним полком.
Волю государя исполняли усердно, и несмотря на раскисшие дороги, в станы под Великим Новгородом полки подошли точно в установленный срок. Иван Грозный провёл смотр своей рати и первым разрешил выход полку Богдана Бельского, как более всех подготовленного к походу и к сечам.
Это соответствовало истине. По совету Малюты Скуратова Бельский ещё в Москве изучил по Новгородским древним чертежам, где стоят какие города и посёлки на Ладоге, по берегу Невы, на Охте, Ижоре, Сестре и на островах Котлина озера (Финского залива). И не только сам изучил, но велел сделать это же тысяцким, сотникам и даже десятникам. Проводники — проводниками, а самим не гоже уподобляться слепым котятам. Особое же внимание Бельский обратил на земли северней Невы, где издревле обитала народность ижора, более финско-угорского корня, нежели венедского. Вот их-то больше всего соблазняли шведы, хотя и с невеликим успехом, но всё же не безрезультатно.
Полку предстояло действовать не единым кулаком, а разрозненно, чтобы взять под ратную руку одновременно все народности в Карелах, поэтому Богдан Бельский ещё до смотра войска царём провёл совет с тысяцкими и сотниками, указал кому и где сосредоточиваться перед началом карательных действий. Для себя он наметил крепость Невское Устье, остальным же места указал так: одной тысяче — на Васильевском острове в усадьбах бывших (в Великом Новгороде их принято было называть «старыми») посадников Василия Казимира, Василия Селезня, Василия Ананина; другим тысячам в сёлах по берегам Котлина озера и на Фомином острове, где тоже не одно боярское поместье. Отдельно приказал паре сотен остановиться в посёлке Клети, что на Ижоре.
— Никому без моего слова ничего не предпринимать, — наказывал Бельский тысяцким и сотникам. — Сидеть смирно. Меч обнажать только против тех, кто первым поднял меч.
Богдан Бельский рассудил так: лучше попытаться успокоить ижору и карелу бескровно, не устрашая, а соблазняя, как это делают шведы. Все города, посёлки, особенно погосты, привести к присяге царю Ивану Васильевичу, и не только ижору, карелу, водь, а и русских. Казнить лишь тех, кто наотрез откажется присягать самодержцу Российскому. Казнить прилюдно. Как изменников. Он понимал, что нарушает наказ Ивана Грозного, для кого главное — держать всех в страхе. Бельский даже представлял, какие ужасы испытает эстонская земля, но понимая, что самовольничает, и предвидя не слишком лестное слово государя, всё же твёрдо решил не размахивать мечами, не жечь и не грабить, справедливо полагая, что добровольная присяга куда как прочней подневольной.
Не считаясь со временем, Богдан Бельский встречался со знатными гостями новгородскими, какие благодаря крупному торгу имели здесь заметное влияние на местное население; с боярами и дворянами, с воеводами крепостей Ладоги, Канцев, Орешка, Невского Устья, обсуждал с ними, как ловчее приводить к присяге сёла и погосты. Не все сразу становились на его сторону, но Бельский шаг за шагом добивался своего, да к тому же, на его радость, в Невское Устье потянулись посланцы от ижоры, корелы и води с просьбой принять от них присягу на верность русскому царю. Дошли, видимо, до них слухи о намерениях воеводы, который испытывает трудности в осуществлении своего плана.
Конечно, не обошлось подобное без убедительного слова гостей и бояр новгородских, кто увидел в мирном разрешении неурядицы свою великую пользу.
Приезд посланцев пришёлся очень кстати. Сторонники меча поутихли. Настало время приступить к задуманному.
Одного не учли, однако, Бельский и его сторонники — бунта священнослужителей. Канцы, Невское Устье, Орешек, как и Ладога — не в счёт; здесь почти все горожане православные, и им — крест целовать. А как быть с посёлками, где в основном карела, ижора и водь? Чудь, она и есть — чудь, никак не хочет расставаться со своими богами. Кое-чего, правда, церковники добились, прирастив приходы за счёт многобожников, а предстоящее крестоцелование для попов, что тебе манна небесная. Вольно или невольно приобщатся язычники к православному таинству, и для многих из чуди это может стать началом прозрения.
Особенно настойчивым оказался отец Никон, настоятель церкви Спаса, выстроенной в довольно крупном селе, переименованном по его же настоянию в Спасское. Приобщив многих из чуди к христианству, теперь он никак не желал отпятиться хотя бы на малый шажок.
Однако Богдан Бельский переупрямил всех, решил так: православным присягать на кресте в присутствии пастырей, тем же, кто придерживается своей веры — под Священным Дубом правосудного бога Прова. Под приглядом ратных чинов.
Безусловно, князь не уходил мыслями в далёкое будущее, просто считал, чего ради проливать кровь, если люди сами, по доброй воле, намерены присягнуть самодержцу Российскому? На самом же деле его действия будут иметь очень далёкие последствия. Когда шведам удастся захватить Вольскую пятину, земли, исконно принадлежавшие Великому Новгороду по Столбовскому мирному договору 1617 года, останутся за шведами, то не только русские, а карела, ижора и водь покинут свои насиженные места, и все до единого сбегут в среднюю полосу России: под Тверь, под Москву и даже южнее — под Тамбов и Курск, где обоснуются на века. На службе у шведов останется только несколько дворян: Рубцов, Бутурлин, Аполлов, Аминов, Пересветов.
Неожиданно для всех гонец доставил послание от Грозного с решительным требованием ехать Бельскому в Москву. Немедленно. Настоятель, понявший, если он сдержит клятву, то может дорого за это поплатиться, дал гонцу проводника до Приозёрного.
Ещё один удар под девятое ребро. И слуга ближний прозевал, и настоятель предал. Но что делать теперь? Ехать вместе с гонцом, взяв с собой путных слуг. Волнение конечно же есть, и немалое.
Спешили насколько могли. Даже коней меняли. Но как оказалось, спешка та была лишней: государь находился в Александровской слободе, и Бельский решил отдохнуть с дороги:
«Послезавтра утром выясню в Кремле всё. Царь Иван Васильевич непременно кого-то оповестил. Иного не может быть. Скажут, как мне дальше поступать».
Только и здесь пошло всё не так, как он задумал. Пред самой вечерней трапезой пожаловал в гости Борис Годунов и после первой же чарки, которую поднесла гостю хозяйка дома, подчёркивая тем самым его желанность, сообщил:
— Нежиться, Богдан, тебе долго не придётся. Всего одна ночь. Утром завтра едем к нашему царю-батюшке. Он для того и оставил меня, чтобы тебя встретить.
Бельский почувствовал в голосе Бориса плохо скрываемую зависть и удивился этому: неужели царь определил ему, Богдану, место выше Борисова, о чём тот уже знает?
Многое открылось, когда мужчины после трапезы уединились для беседы с глазу на глаз.
— Тебя ждала опала за самовольство твоё, но я замолвил слово и смягчил гнев государя, — сразу же похвалился Годунов. — Моё слово было такое: более надёжного слуги ему не сыскать. Думаю, поручит что-нибудь ответственное. Если не ударишь в грязь лицом — ещё больше приблизит.
И снова не смог сдержать Борис зависти. Не странно ли, если сам защищал перед царём, сам теперь завидует? Не сходятся концы с концами. Хитрит, похоже, родственничек. Ни слова, видимо, доброго не замолвил — царь сам всё решил. Ну, что же, не выкажем сомнений своих и подозрений.
— Крепкой дружбой отплачу тебе и великой поддержкой.
— И ещё тем, что станешь твёрдо держать слово, данное друг другу при покойном Малюте, тесте моём и твоём дяде.
— Клянусь!
— Ия клянусь. К этой клятве ещё добавлю: я уже приступил к задуманному.
Утром, как они и договорились, встретились у заставы на Ярославской дороге, а через пару дней предстали пред царские очи с низким поклоном. Царь же вместо приветствия предупредил Богдана Бельского:
— Ещё раз допустишь самовольство, пеняй на себя, — затем, указав на лавку с узорчатым полавочником и дождавшись, когда гости усядутся, добавил: — Теперь же милую и очиняю тебя оружничим[53].
Вот это — милость! Доверие, выходит, больше чем Малюте. Вот причина зависти Годунова. Он сам рвался занять место главы Аптекарского приказа, давно уже свободного. Ещё тогда, когда Малюта Скуратов свёл их для тайного сговора, Годунов, похоже, был вполне уверен, что получит его. Оттого, как теперь стало понятно Бельскому, без всякого сомнения заявил, что исполнимо извести и самого царя, и сына его Ивана Ивановича. Не исполнились надежды.
«Что же, придётся мне заменить Бориса в этом щекотливом и весьма рискованном деле. Но скорее всего, снабжать Бориса нужным зельем», — подумал Богдан, не отрывая взгляда от самодержца.
А царь продолжал:
— Начнёшь пригляд за тайным сыском и Аптекарским приказом не вот так — сразу. Вначале исполнишь два моих поручения, за которые Бог простит тебя, да и меня тоже, ибо вынуждает меня к этому сам рвущийся к престолу, подстрекаемый властолюбивой матерью.
Бельский сразу же понял, о ком идёт речь, задал поэтому только уточняющий вопрос:
— Скажи, государь, тайно ли казнить намерен либо принародно? В Москве?
— Подумай о тайной казни. Да чтоб сразу и сыновей его спровадить в ад вместе с коварным отцом. И жену тоже.
Блестяще, с точки зрения палаческой, справился с заданием Ивана Грозного Богдан Бельский — вся семья князя Владимира Андреевича Старицкого была отравлена, всё прошло без всяких осложнений. Следом — столь же успешно провёл он казни сторонников князя Владимира. Действовал по своему усмотрению, ибо так царь приказал, который сам уехал в Москву для встречи с послами Батория, короля польского.
Все, кого наметили Богдан и Борис, прошли через пыточную и приняли лютую смерть. Царь после только глянул на список казнённых, не став даже читать признания, полученные под пытками.
— Теперь за Ефросинией. В Кирилло-Белозерскую пустынь. Вези в Москву. Скажи, доживать ей жизнь в Новодевичьем монастыре.
Как и Малюта Скуратов, Богдан Бельский начинал вполне правильно распознавать истинные желания государя и конечно же не довёз до Москвы мать князя Владимира: на переправе через речку лодка из-за неумелости бродника перевернулась.
Доволен Иван Грозный, и Бельский предвкушал, как получит чин боярина, но вместо этого был зван в комнату для тайных бесед.
Впрочем, предстоящая беседа для Богдана была вполне ожидаемой. Имея в Посольском приказе своих людей (наследство Малюты Скуратова) и войдя в доверительные отношения с Тайным дьяком, он знал многие тайные дела самого Ивана Грозного, извещал о них Бориса Годунова, а тот по мере возможности, в беседах за шахматными партиями как бы невзначай направлял мысли царя в угодное для заговорщиков русло.
Одна из подобных тайн — просьба царя к английской королеве прислать для укрепления мощи русской армии свинец и порох. Но это не всё: Иван Грозный собрался посвататься к самой королеве Елизавете. Послал со своими просьбами английского дипломата и купца Горсея, жившего несколько лет в Москве и умело отстаивающего интересы английской торговли в России. Теперь Иван Грозный ждал возвращения Горсея с важным грузом и ответом Елизаветы Английской. Естественно, и этой важной тайной Бельский поделился с Годуновым, и тот пророчески изрёк:
— Государь тебя пошлёт встречать Горсея. Не иначе.
Хотел ответить: «Типун тебе на язык», но воздержался. А пророчество, как ни странно, сбылось. Скорее всего, Годунов знал об этой государственной тайне раньше Бельского, и именно он надоумил царя поручить столь ответственное задание оружничему.
Иван Грозный, усадив Богдана Бельского на лавку у противоположной стены, сразу заговорил:
— Собирайся в Архангельск. Встречать Горсея. Знаешь ли ты, с какой просьбой я его посылал?
— Да, — решил не лукавить Бельский, — забота о припасах для рушниц и огневого наряда. И ещё одно, не менее важный наказ — посватать за тебя английскую королеву.
— Ишь ты! Не зря, выходит, очинил я тебя оружничим. За малый срок проник в самые тайны.
— Обязанность моя такая. Не дело мне с повязкой на глазах спотыкаться. Не могу.
— И не моги. Для тебя не должно быть никаких тайн.
Помолчал царь малое время, после чего заговорил повелительно.
— Встретив Горсея, не говори с ним о сватовстве. Об этом у меня с ним отдельный разговор. Твой урок — проводить груз до Вологды. Посуху ли, водой ли — решать тебе. В Вологде примет груз подьячий Разрядного приказа. Он знает, что с ним дальше делать. Тебе же везти Горсея в Москву. Но прежде непременно покажи корабли, какие я строю. Их уже должно быть сорок. Да сделай так, чтобы не ударить в грязь лицом.
— Яснее ясного. Всё исполню как надо.
— Поспешай. Тебе, если доставлять водой решишь, насады и учаны ладить придётся. Лучше всего в Холмогорах. Оттуда плёвое дело скатиться в Архангельский порт. Рукой подать.
— На этой неделе выеду, — кивнул Богдан.
— Ладно будет, — согласился Иван Грозный.
Определил Богдан для себя такой порядок: в Вологде на пару дней сделать остановку, чтобы побывать на верфях, где по повелению Ивана Грозного тайно строили корабли. Говорили про это разное. Кто утверждал, будто собирается царь, покинув Россию, уплыть в Англию и увезти с собой всю государеву казну. У иных другое слово: проведёт, мол, он тайно на Балтику и ударит шведов так, чтобы им на многие века лезть в Россию расхотелось. Однако не ради выяснения истины собирался встретиться Бельский с судостроительными мастерами, хотел он сам всё посмотреть загодя, порасспросить о том, что не совсем понятно, дабы с Горсеем речи вести знающие. И ещё он себе наказал: в Холмогорах не указывать, какие суда ладить, а лишь сказать поморам только о грузе, который предстоит водой доставить в Вологду.
В Вологде Богдан Бельский поступил так, как и задумывал. О многом узнал сам, но, главное, выбрал тех, кто станет знакомить английского гостя с построенными кораблями. Чтобы, значит, с гордостью за свою работу, а не с заискиванием перед иноземцами, которые любят хвалить только себя, а русских оплёвывать, относясь к государству Российскому с пренебрежением. В Холмогорах он своей линии не выдержал, не остался сторонним наблюдателем, доверившимся местным мастерам. Послал слуг своих, чтобы своевременно известили, когда причалят в Архангельском порту английские суда, сам же гостевал у воеводы городовой стражи. Но не без пользы для дела время проводил: то встречался с вожами, знающими речной путь до Вологды, отбирая из них самых уверенных в себе, гордых своей работой, своим авторитетом у поморов, к тому же при надобности не лезущих в карман за словом; то проводил весь день в артелях судостроителей, которых определили ладить учаны, берущих много груза, но имеющих малую осадку. Чтобы ненароком не подмочить груз, вода для которого губительна, решили паёлы делать повыше, но даже на них грузить вначале свинец, а уж поверх его зелье для пушек и рушниц.
— Если осмолим основательно днище, груз никак не подмочится. Голову наотрез даём, — утверждали мастера. — Не опасайся, боярин. Мы же понимаем, сколь важен груз из Англии.
Бельский верил мастерам, но каждый спущенный на воду корабль проверял не единожды, сухо ли в трюмах, не послезятся ли борта. Артельные обижались на дотошность оружничего, но он, сходя на берег, всякий раз жаловал им добавку к договорной цене, и обида уменьшалась.
И всё же смог выкроить Богдан и денёк для охоты на уток, гусей и лебедей. Воевода уговорил и расстарался. Не только подготовил уйму калёных болтов для самострелов, но и запасся на всякий случай рушницами. Вдруг гость захочет по дичи сидячей жахнуть дробью. А на место охоты выслал загодя пару ловких в охоте ратников, чтобы выставили бы они чучела да подновили бы скрадки.
Выехали затемно. Миновали ворота, рысью прошли выпасы и сенокосные луга, ещё пару вёрст до Даниловки, и за этой деревней — в лес. Вековой. С густым подлеском. Заря уже высветила восток, когда они сворачивали к лесу, а в нём темно, хоть глаз коли. В два счета можно заблудиться даже хорошо знающему здешние места, но проводник вёл охотников уверенно, иной раз даже пуская коня рысью, и к лесному озеру выехали как раз к тому времени, когда оно начало просыпаться.
Светало быстро, и озеро раскрывало свою изумительную красоту. Вода нежной голубизны ещё бездвижна. Лишь прибрежный тростник нарушает девственную тишину лёгкими всплесками, хотя ещё полусонными. Но вот в эти всплески поначалу вплелись незлобивая перебранка крякух, приглушённый говорок гусей, а потом всё чаще стали врываться в эту благодать бурные всплески щук, вышедших на тропу охоты — тростники жили своей предутренней жизнью по извечному природному укладу.
Вот уж и первая пара лебедей скользит по ещё сонной воде из тростниковой прогалины. Величаво изогнуты их шеи и, будто сердясь друг на друга, ведут они меж собой ворчливую беседу, едва задевая мягкими боками сонные лилии, ещё не распустившие свои нежно-восковые цветы.
Вот ещё одна пара. Вот ещё. Следом — гуси. Эти не парами, а крупными стаями. Озёрная гладь сразу же всколыхнулась рябью, а то и волнами пошла, если сразу два или три гуся принимались разминать от ночного безделия разленившиеся крылья.
Тут время и для уток пришло. Крякухи держатся попарно, чирки — стайками, красногрудки и крохали — табунами. Как и гуси. Раздолье для стрельбы. Выбирай любую приглянувшуюся птицу, стрела непременно достанет, спусти только крюк, выцелив. Но охотники не берут в руки самострелы: грешно бить дичь сидячую. Вот когда поднимется она на крыло, чтобы лететь на поля для кормёжки, вот тогда — самый раз проверить меткость глаза своего и ловкость. И пусть не на воду шлёпнется подсеченная калёной стрелой дичь, а в тростник прибрежный или даже в лесной ёрник, что за спиной охотников, ведь собаки обязательно разыщут добычу и поднесут к ногам воеводы. У воеводы этих собак, натасканных на водоплавающую и на боровую дичь, целых полдюжины. И все они здесь. Терпеливо ждут команду.
По мере того как утки, гуси и лебеди всё чаще помахивали крыльями, сгоняя ночную леность, Богдана всё более и более охватывал азарт. Несчётно он вот так встречал рассветы на озёрах в ожидании, когда дичь поднимется с воды, но обрести спокойствия так и не сумел. Более того, первые стайки, поднявшиеся с воды, потянувшиеся на поля, вызывали у него такую суетливость, что стрелы его летели мимо, словно у начинающего неумехи. Бельский всегда злился на себя, пытался зажать себя в ежовую рукавицу, но ничего не помогало, однако знал, что когда лет пойдёт полным ходом, он быстро успокоится, а успокоившись, выкажет и меткость глаза, и точность расчёта. Но если знали об этой слабости князя в его усадьбах, знали о ней даже те, кто готовил царскую охоту, то здесь, где он был новичком, суетливость его наверняка станет предметом пересуда и завтра же, и даже после отъезда. Бельский, понимая всё это, ничего не мог поделать с собой: он сгорал от нетерпения, руки, судорожно сжимавшие самострел, предательски подрагивали.
Первой зашлёпала по воде стайка чирков. Взмыла вверх и, описав дугу, полетела на поле как раз над головами охотников, сидевших в скрадках. Не очень это ловко.
Лучше, когда утка летит чуть в сторонке, тогда удобней рассчитывать, но не охотник выбирает путь стайке, а она летит там, где считает более удобным.
Пять калёных болтов взмыли наперерез чиркам, и четыре из них угодили в цель. Только болт Богдана пролетел впустую и затерялся где-то в ёрнике.
Вторая стайка чирков — и снова болт оружничего улетел в ёрник. Лишь когда потянулась четвёртая стая, на сей раз красногрудок, Богдан выцелил головного селезня и, к своему большому удовольствию, сбил его — по головным стреляют очень уверенные в себе охотники. Ну а после этого Бельский показал всем, каков он стрелок: ни одного промаха не сделал. Этого никому из напарников не удалось.
Вернулись охотники домой довольно поздно, но дворня даже не думала спать, дожидаясь хозяина. Вместе с дворней ждал своего господина и слуга Бельского, прискакавший из Архангельска. Тот сразу же с докладом:
— Как пальнули из пушек англичане, дав знать о своём прибытии, я — в седло. Вожа для проводки судов по стреженю я просил высылать без спешки. Не раньше завтрашнего обеда он проведёт все суда в порт.
— Спасибо за весть. Завтра, Бог даст, скатятся по Двине к порту насады, нам же с тобой идти посуху. Коней приготовь к рассвету.
Дорога от Холмогор до Архангельска торная, кони ходкие, и вышло так, что Богдан Бельский слез с седла на пристани в самый раз: первый английский корабль подходил к причалу. На его палубе, скрестив руки на груди, как великий мыслитель, стоял Горсей.
Джером Горсей и Богдан Бельский хорошо знали друг друга, но не выказывать же своё доброе отношение прилюдно. Оба — не простолюдины, да и не на посиделки съехались, чтобы приветственно махать друг другу руками или шапками, не следует и раскланиваться преждевременно, ведь правила издавна определяют поведение и посла заморского и встречающего его пристава.
Так они и поступят, ни пяди не отступив от правил. Лишь потом, за трапезой в каюте капитана корабля или в доме начальника порта, где по совету Тайного дьяка Бельский определил устроить Горсея, они смогут поговорить откровенно по душам.
Но не получилось беседы душевной. Можно сказать, неожиданно какой-то ершистой она оказалась. После установленных приветствий и осмотра прибывшего корабля, капитан угостил оружничего только чаем, Джером Горсей вкратце доложил о том, чего и сколько привезено и даже предложил осмотреть груз на первом корабле, а затем на остальных по мере их подхода, но начальник порта воспротивился:
— С осмотром груза и с его приёмкой успеется. В лес он не убежит. Теперь пошли ко мне в дом. На обед по-поморски.
Дом начальника порта был срублен из мачтовых сосен саженей по двадцати. Суров вроде бы дом, без всяких излишеств, но так ловко подогнаны бревно к бревну, что диву даёшься мастерству плотников. Будто его краснодеревщики поднимали. Горсей даже пощупал стыки меж брёвен, когда с хозяином и Бельским поднялся на гульбище, и покачал головой, восхищенный. А начальник порта Никанор Хомков пояснил, как бы между прочим, не похвальбы ради, лишь для сведения гостям:
— Без единого гвоздя. И без мха даже.
Не понял Горсей, отчего без мха и вообще для чего нужен мох в стенах дома, его место на болотах, но расспросами не унизил себя, хозяин же посчитал сказанное вполне достаточным и радушным жестом пригласил в дом, двери которого были гостеприимно отворены.
В сенях — половик домотканой работы. Узорчатый. Любо поглядеть. А к ноге мягкий, словно по мшистой низинке ступаешь. Дверь в просторную комнату для праздничных обедов тоже открыта настежь. Хозяйка встречает гостей низким поклоном и ласковым приглашением:
— Проходите за воронец, дорогие гостюшки.
Не только Горсей, но и Бельский не поняли, за какой такой «воронец» проходить. На полу мягкая узорчатая полость, по стенам — лавки, застланные полавочниками, тоже узорчатыми; между лавками — горки с посудой, местной и заморской; а в центре комнаты — стол из карельской берёзы, не покрытый скатертью, чтобы не скрыть его красоты, Богом данной и ловкими руками краснодеревщика выглаженной до приятного блеска; у стола тоже лавки с мягкими полавочниками — где же этот самый «воронец»?
А он над дверью. Во всю стену тянется широченной доской. У поморов извечно установлено так: переступить порог дома может каждый, но дальше — ни шагу. Стой под воронцом до тех пор, пока хозяева не пригласят.
Об этом Богдан Бельский узнает после трапезы, расспросив хозяина, а пока же, подчинись приглашающему жесту хозяйки, прошёл вместе с Горсеем к столу.
— Садитесь где кому удобно, — предложила хозяйка, говоря этим, что все чины остались за воронцом, стол всех ровняет.
Конечно, яства не имели такого разнообразия, как, к примеру, у московского боярина или дьяка, но и здесь обильность и основательность блюд покоряла. Особенно аппетитно гляделись ловко нарезанная сёмга, будто вспотевшая каждым ломтиком серебристыми капельками, и янтарный от умелого копчения морской окунь; даже лебедь на огромном подносе, словно плывущий по морошковой полянке, не так привлекал взор своим величием, как сёмга-царица, как окунь-янтарь, как зажаренные до приятной коричневости крутобокие хариусы, с которыми соседствовали белые грибы. А как завораживали взгляд подовый хлеб, шаньги, пузатые пирожки с различной начинкой, рассчитанной на самого капризного гостя — Джером Горсей даже крякнул от удовольствия (это тебе не жидкий чаек в каюте кэпа), будто оставил за воронцом свою расфуфыренную чванливость и словно по мановению волшебной палочки превратился в обыкновенного человека. Увы, на малое время.
— Что ж, начнём, благословясь? — мягким голосом пригласила хозяйка к трапезе.
— Чарка крепкой медовухи либо кубок фряжского вина, считаю, не станут лишними после утомительного пути, что морем, что посуху навстречу друг дружке, — поддержал её супруг.
Кто же от добра откажется? Это тебе не стакан чая вприкуску, хотя и в серебряном подстаканнике.
Всё началось по-домашнему ладно. Хвалили ловкие руки хозяйки, говорили о щедрой обильности поморской земли, и вдруг всё изменилось: Джером Горсей, подняв очередную чарку с крепкой медовухой, окинул гордым взором и стол, и сидевших за столом, многозначительно помолчал, продолжая держать высоко поднятую руку с чаркой, как бы подчёркивая этим всю важность предлагаемого им тоста, и вот заговорил с величавой торжественностью:
— Я предлагаю выпить за нас, англичан, тех, кто открыл для вас, русских, такое прекрасное место для порта. Если бы не мы, стоял бы здесь густой лес, полный медведей и волков. И не сидели бы мы вот за этим столом. Выпьем же за мореходов-англичан, чьи корабли плавают по всем безбрежным морям и океанам, открывая всё новые и новые земли, на которых с нашей помощью начинается новая жизнь...
Джером ещё не окончил своё словесное излияние, а хозяин довольно резко осадил его:
— Тебе, хотя ты и гость, пить одному. Не обессудь. Или вдвоём с приставом твоим. Я же повременю.
— Я не хотел никого обидеть. Я только говорил правду.
— Правду? — хмыкнул Никанор. — А ты её знаешь?
— Как мне не знать правду о своих мореходах, о своём предприимчивом народе? И разве не правда, что корабль королевы Английской Елизаветы первым вошёл в устье Северной Двины, после чего ваш царь повелел строить здесь порт?
— Верно, до вас в устье Двины порта не было, только потому, что не слишком, как мы считали, удобное место. Так думали и наши деды, и наши пращуры. Ветрено здесь. В Холмогорах уютней, да и глубины вполне позволяют морским судам туда заходить. Впрочем, сюда, как и в Холмогоры, вы не в жизнь бы не вошли, не повели царь Иван Васильевич встречать вас нашим вожам. Сколько рукавов в устье Двины? Не посчитал? То-то. Все они приглядные, а сунься незнаючи, враз на банке окажешься. Иль тебе не ведомо, гостюшка заморский, как вы наше Студёное море нашли? Поморам же оно, как и Батюшко ледяной, издревле известно. Промышляли мы испокон веку на Груманте, на Новой Земле, на иных заледенелых островах, что месяц или два пути на Восток. Мой род идёт от Хомковых, знаменитых тем, что братья-промышленники со товарищи четыре года огоревали на Груманте. Вернулись живыми и вполне здоровыми. Детишек нарожали. У каждого вожа — чертежи заливов и губ спокойных, носов и банок. Делились вожи этим, но свой секрет имели. Потому на совете вожей решили, по просьбе дьяка Герасимова, свести их в один чертёж. Мысль такую имеем: не нужно ломать копья за Балтийское море, мелководное, а устремить свой взор на моря вроде бы не очень приветливые, но по ним можно ходить не только в Европу, но до Китая и Индии, и даже до земель, что теперь Светом Новым, как я слышал, называют, ходить. Поморы в этот самый Свет хаживали многие сотни лет. Промыслы там отменные. Так вот, свели мы все чертежи в единую карту, отправили с Герасимовым в стольный град, но вышел из этого не просто большой пшик, а худо вышло: получили мы царский запрет ходить на Восток. Слух до нас дошёл, будто украдена та наша карта. Не к вам ли попала? Не по ней ли вошли вы в Студёное море через гирло его? Войти-то вошли, только укусить локоть не смогли, пока мы от царя указ не получили вас пустить. Иль тебе неведомо, как порешили ваши славные мореходы жизни нашего рыбака Гурия Гагарку, который не согласился вести их в устье Двины по верному стерженю? Если не ведаешь, расскажу. Захватили его ваши горе-мореходы, велели вести в устье Двины. Не повёл. Так и не укусили они тогда локтя, хотя вот он — почти у рта. Иль Ивана Рябова, кормщика нашего, из головы вон? Его тоже ваши хвалёные мореходы силком пытались принудить вести в устье Двины. Он хитрей поступил, повёл вроде бы, но посадил на банку как раз напротив Новодвинской крепостицы, а сам — в воду. Он доплыл. А ваш корабль чем встретили? Ядрами, мил человек. Ядрами! А не медведями из глухого леса.
— Погоди-погоди, — остановил начальника порта Богдан. — Не о нём ли воевода Новодвинской крепости доносил как об изменнике? Покойный Малюта Скуратов мне сказывал о нём, об Иване Рябове.
— Его бы героем величать, а вместо того, в подземелье с кандалами. Слава Богу, нашлись рассудительные дьяки в Москве, выпросили для бедолаги царскую милость. Выпустили его и позволили дальше вожить. Но не об этом моё слово, а вот ему оно, гостю заморскому. Ответ на его похвальбу.
Слушал Бельский хозяина гостеприимного дома, узнавал для себя много нового о жизни и плаваниях поморов аж до самых дальних заокеанских земель, удивляясь одновременно тому, как изменился Никанор Хомков, став вдруг из покладистого добрячка в человека, не стесняющимся обидеть гостя. Такое может произойти, если задеть за живое, унизить донельзя, оплевать святая святых. Удивило Богдана и то, как сник Горсей. Знал, выходит, что не они открыли место для Усть-Двинского порта, а пришли на готовенькое и только добились у царя его строительства и монопольного права вести через этот порт единоличный торг.
Но если знал, чего же куражился?
«Поделом чванливцу. Урок знатный. Поубавится спеси».
Ошибался Богдан Бельский. Отповедь не пошла на пользу Горсею. Он ещё не единожды получит, как говорят, по носу и во время плавания до Вологды и в самой Вологде.
Перегружали привезённое Горсеем из трюмов английских кораблей в трюмы насадов добрую неделю. Вожи торопили артели грузчиков, ибо знали, что вот-вот вода начнёт спадать, и как только уйдут они с Двины, намыкаются на перекатах. Грузчики не волынили, работали с рассвета до полной темноты, падая с ног от усталости, иные даже засыпали в трюмах на мешках, не в силах дойти до дома, и всё равно основательно опередить время не смогли. Когда пошли на вёслах вверх по Двине, кормщик передового учана, для гостя и его пристава специально построенного, сокрушённо вздохнул:
— Намаемся. Как пить дать — намаемся.
Даже Богдану, не знавшему речных повадок, было ясно, что Двина обмелела. Определил он это по заметно оголившимся берегам. Он даже подумал, не послать ли в Вологду гонца, чтобы выслали за грузом обоз, но прежде всё же решил посоветоваться с вожами.
— Прорвёмся, — успокоили его те. — Не впервой. Двину нашу Северную пройдём легко. Меньше воды — легче грести. По Сухоне аж до устья Лузы тоже пройдём, должно, без помех. Проскочим, Бог даст, и до Нюксеницы, а то и до самой Тотьмы. А вот дальше — дальше видно будет. Всё одно, оттуда слать за обозом сподручней. Наш совет: прежде времени не стоит кричать о беде. Холсты парусные мы прихватили с собой для запруд. Станем поднимать воду на перекатах.
Не совсем понятно, как это поднимать воду. Вернее сказать, совсем непонятно. Если бы по воде шли, тогда ясно: перегородил речку, дождался подъёма воды и — скатывайся по волне, но они же идут против течения.
Однако не стал Богдан дотошничать. Придёт время, своими глазами увидит.
Северная Двина меж тем день ото дня сужалась, течение её слабело, и вот вож объявил:
— Через пару дней войдём в Сухону. В ней встречная вода легче. Пойдём спорей. Неделю пути, если не заупрямятся перекаты, и мы — в Вологде.
Не зря упомянул вож перекаты. Когда миновали Шуйское, и до Вологды оставалось всего ничего, учан вгрёбся в затон.
— В нём постоим на якоре, — сообщил вож. — Оглядимся. Пощупаем перекат. Пустит ли насады?
Караван как шёл гуськом, так и встал, подчиняясь поднятому на учане стояночному сигналу, а с учана спустили лодку, на носу которой встал самолично вож с глубокомером в руке.
Прошла самую малость лодка и повернула обратно.
— Будем прудить.
И тут началось самое главное, самое интересное и для Бельского, но более для англичанина. Поначалу Горсей не понял, что речники собираются предпринять, чтобы одолеть мелкое место на реке, он даже пожимал плечами и хмыкал, видя, как матросы грузят длинную парусину на несколько лодок, установившихся гуськом, а потом, угребают с ней вниз по воде. Ещё на двух лодках увезли туда же канатные бухты. Горсей даже спросил с ухмылкой:
— Не собрались ли перегораживать реку?
— Иль негоже?
У Горсея глаза на лоб полезли, когда сразу же за последним насадом одни матросы начали нанизывать на канаты парусиновую полость, которая имела кольца и по верху, и по низу, другие — собирать камни поершистей и поувесистей, а пара молодцов принялась забивать длинный железный клин у самого берега, а забив его, переправилась на другой берег и вбила такой же клин и там.
Когда парусиновая полость была таким образом нанизана, конец нижнего каната закрепили на клине, верхний же, более длинный, завели за столетний дуб, вольно раскинувшийся саженях в двадцати от берега. Две лодки, захватив концы канатов, потянули полость на противоположный берег, остальные матросы ловко крепили на нижний канат камни-грузила. С каждой саженью ход лодок становился всё трудней, но всё же они догребли до противоположного берега.
Теперь — проще. Натянув посильно нижний канат, закрепили его за железный клин, верхний же завели за стволы нескольких сосен из опаски, что одна сосна, даже матерая, не сдюжит напора воды, ибо корни сосны неглубоки, их может выворотить.
Заключительное действие — натяжение верхнего каната, чтобы поднять парусину как можно выше, образовав из неё запруду. По дюжине матросов расположились с каждого конца, и руководит ими звонкоголосый:
— Раз, два — взяли! Ещё раз — взяли!
С трудом, но всё же натянули — вода в один миг начала убывать. Хорошо, что затон глубок. Вож внимателен. Вот, наконец, даёт знак: действуй как я, а своим гребцам велит зычно:
— Навались.
Отпустили в это время полость парусиновую, и вода крутой волной подхватила учан, но тут же успокоилась, сбитая встречным течением, затем встала бездвижно как в озере. По этой озёрной глади и проскочили насады перекат.
— Слава Богу, — перекрестился вож. — Ещё пару перекатов и — у причалов в Вологде.
Там их ждала выстоявшаяся баня, вечерняя трапеза и утренняя поездка в рукотворный затон, на берегу которого стояли верфи, на них по царскому указу строилась большая морская флотилия боевых кораблей.
К верфям поехали так: Горсей — в коляске, запряжённой шестёркой цугом; Бельский, наместник и воевода со стремянными и слугами — верхами. Дорога торная, ухоженная. Вроде бы в тайне строились корабли, но вся Вологда знала о них, и горожане любили в праздничные дни посещать целыми семействами верфи. Кто пеше, кто в колясках, кто верхом. Получалось вроде гуляния на берегу затона. Бывало и такое, что с толпой праздных зевак смешивались иностранные лазутчики, приезжающие в Вологду под видом купцов. Об этом доносили Грозному, но он в ответ только усмехался.
Вот и верфи. Пять кораблей на стапелях и более трёх десятков покоятся на воде. Красавцы. Двух- и трёхмачтовые. И что особенно бросалось в глаза, каждый корабль отличался от остальных. И не только потому, что на них не было обычных для русских кораблей носов, схожих с лебединой грудью, а сами они под стать гордому лебедю. Здесь, в этих кораблях, всё иначе: если на носу львиная голова, искусно вырезанная да ещё позолоченная, то и сам корабль похож на изготовившегося к прыжку льва.
Драконы, единороги, слоны, орлы, тигры — каких только раззолоченных и посеребрённых голов не было у кораблей, дремавших бездвижно на сонной воде затона, и каждый корпус под стать голове — должны бы, по замыслу заказчика, пугать хищным видом, на самом же деле привораживали взгляд изяществом форм и мастерством исполнения.
Гостей встретили главные артельщики, прежде отобранные Богданом Бельским. Работа на верфях продолжалась: пилили, строгали, крепя доски друг к дружке не гвоздями, а деревянными клепами. Артельщики с достоинством приветствовали вельможу зарубежного и своих высоких чинов, не переломились в унизительном поклоне до земли, лишь почтительно склонили головы, высоко держали свою честь, гордились содеянным и справедливо ожидали уважительности от гостей, которым, по их мнению, не может не понравиться великое мастерство исполнителей царского заказа.
— Знатная работа! — вдохновенно заговорил Богдан Бельский. — Поведаю об увиденном царю-батюшке! Предвижу милость его!
— Благодарствуем, — ответил за всех самый, пожалуй, молодой артельный голова, разбитной малый, с острым взглядом голубых глаз. — Мы и так не обижены его милостью, и рады трудиться в угоду ему и на пользу Руси-матушки.
И вот тут плеснул очередную ложку дёгтя Джером Горсей:
— Я в своё время оставил царю вашему макет корабля, какие строят на моей родине в Англии, владычице морей. Я подал самый подробный чертёж корабля, где указал самые точные размеры, но, как я вижу, вы делаете всё на свой лад. Смогут ли ходить вот эти, вроде бы красивые суда, по морям? Сомневаюсь.
— Глядели мы и на чертёж твой, гость уважаемый, и на макет по чертежу сделанный, — ответил вновь за всех голубоглазый артельный голова, — и вот наше мнение: на макет можно глядеть в праздное время, а чертежом твоим, дорогой иноземец, только задницу подтереть.
Горсей от грубости этой начал задыхаться в гневе, а Бельский к артельному голове со строгостью:
— Как звать тебя?!
— Ивашкой кличут. Пока.
— Так вот что, Ивашка, говори, да не заговаривайся! Перед тобой посланец королевы английской, да и гость царя нашего, а ты как с роднёй своей!
— А что я такого сказал? — с искренним недоумением пожав плечами, простодушно ответил Ивашка. — Правду я сказал. И чего на неё обижаться аж до гнева?
— Думай, что говоришь! — продолжал строжиться оружничий. — Попадёшь, гляди, под опалу царскую по слову посла!
— И-и-и, боярин, кто же за правду опалит? И ещё скажу: мы — мастеровые. На нас вся Россия держится. Начни нас на колы сажать, как бояр крамольных и своенравных, кто созидать станет? А ты, боярин, прежде чем стращать меня, разберись, послушав моё слово. Русские что дом, что терем строят по всемеру. От длины всё идёт. И ширина, и высота. Если выдержан всемер, то глазу утешно, не боязно тогда, что покоситься может. А для кораблей ещё нужна устойчивость на крутой волне и при покосном ветре. Тут иной всемер. Но и он по длине. Англичане и голландцы красивы, слов нет, но даже в ласковых морях при добром ветре нередко киль задирают. Для наших морей такие корабли вовсе не годны. Если только на гибель людей слать? Вот мы по своему всемеру и ладим корабли, чтоб, значит, ходкость добрую имели, и на крутой волне устойчивыми были. Скажу одно: придёт время, по нашему всемеру все суда будут строить. Слижут у нас. Да пусть их, мы не жадные. Для людей же всё. Немцы ли они, испанцы ли, — всё одно люди.
— Не слишком ли высоко берёте? — не так уже гневно вопросил Джером Горсей.
— Не слишком. Испытаны веками поморские суда самим Батюшкой Ледовитым. До самых до тёплых морей хаживали на промыслы и на торги выгодные. Пока царский запрет не вышел, мы и в Мангазею, что к соседу на блины ходили. Вот и посуди: раз на наших морях ходко, разве хуже станет на ласковых?
Горсей слушал артельного голову Ивашку внимательней Бельского, забыв вовсе про обиду. Он даже начал выяснять, что такое всемер, и не только Ивашка, но и другие артельные головы старательно объясняли английскому гостю суть прямой зависимости ширины, высоты от длины, но Горсей, похоже, никак не мог взять в толк, для чего нужны такие жёсткие пропорции.
(Не удивительно. Уже многие века ищут крупнейшие проектировщики закономерность пропорций. Вплотную подошёл к открытию этих пропорций зодчий Фибоначчи, предложивший систему пропорционирования; ещё дальше шагнул Корбюзье, разработавший модулёр; но ни единый ряд Фибоначчи, ни модуль Корбюзье не достигли такой универсальности, каким был древнерусский «всемер», но он отчего-то не был взят великими зодчими на вооружение либо от неведения о его существовании, что вероятней всего, либо от мнения, что русские ничего стоящего изобрести не могут).
Бельский слушал артельщиков вполуха. Ему было не до всемера. Он рад, что обида прошла у Горсея.
«Что ж, ещё один знатный щелчок по носу явно на пользу, — удовлетворённо думал Богдан. — Не станет жаловаться Грозному».
Горсей действительно при встрече с Иваном Грозным не вспомнил ни об отповеди начальника Архангельского порта, ни о грубости остроглазого артельного головы, хвалил всё, что видел и слышал в дороге; оставил он и надежду Ивану Васильевичу на удачу в сватовстве, поэтому государь, посчитав, что не обошлось и в этом вопросе без доброго слова Бельского, приблизил его к себе окончательно.
У трона оказалось два любимца, два жёстких соперника, вынужденных выказывать взаимную дружбу: Богдан Бельский и Борис Годунов. Они были повязаны одной верёвкой. Начался новый этап их взаимоотношений, и они оба переступили на новую ступень лестницы, которая, как они полагали, вела к овладению троном. И здесь главная роль постепенно перешла к Годунову.
Однако Богдан Бельский сделал ещё один шаг для достижения своей победы, и хотя думал он только о себе, тем не менее оставил глубокий и весьма суровый след в истории России.
Всё произошло уже после насильственной смерти царя в строжайшей тайне. О том событии знали только отец Марии Нагой[54], последней жены Ивана Васильевича, и её брат Афанасий.
Сразу же после того, как обнародовали духовную царя, в которой роль опекуна царевича Дмитрия отводилась Бельскому, поспешив в кремлёвский дом Фёдора Нагого, отца Марии и деда Дмитрия, предложил ему прогуляться по саду вдоль кремлёвской стены.
— Разговор без чужого уха.
— Не взять ли с собой сына моего Афанасия?
— Можно, — немного подумав, ответил Богдан. — Жду вас на крыльце.
О деле Бельский заговорил только тогда, когда полностью убедился, что их никто не подслушает.
— Я предвижу дальнейшие действия Годунова, поэтому предлагаю решительный шаг: в Углич привезти не Дмитрия, а подмену ему.
— Но при чём здесь Годунов? В духовной покойного государя определено жить царевне вдовой и сыну их с Грозным в Угличе до кончины царя Фёдора, если же у того не родится сын, наследовать престол Дмитрию. Детей у Фёдора не будет, тут к ворожее ходить не нужно. Годунову ли предлагать что иное?
— Верхоглядство. Борис Фёдорович вошёл в царскую семью, и хотя я, как оружничий, доносил не единожды царю о его коварствах. Поверьте мне на слово. Так вот, что бы я ни сообщал, Годунов всегда выходил сухим из воды. Теперь вот он в Верховной боярской думе, хотя в завещании Грозного о нём ни слова. Пролез. Наступит срок, как я предвижу, когда по его слову царь Фёдор Иванович опалит всю Верховную думу, а Годунов останется единственным его советником. Вернее, единоличным правителем. Конечная цель его — престол. Поверьте мне, он домогается именно престола. На пути его — царевич Дмитрий. Разве не постарается он устранить это препятствие?
— Ты о многом умалчиваешь, оттого меня берёт сомнение, — признался Фёдор Нагой. — Пойти на такой шаг, не зная всего, можно ли?
Фёдор Нагой, как и все в Кремле, подозревал, что смерть царя насильственная, и это подозрение подкрепляли слова Бельского, хотя и говорил он туманно; вот Нагой и хотел услышать от опекуна внука Дмитрия всю правду, какую Бельский, по его пониманию, знал. Но разве мог Богдан открыться? Ответил поэтому кратко, но твёрдо:
— Можно. Можно и нужно.
Долго шагали молча, отягощённые всяк своей думой. Прервал молчание Богдан Бельский.
— Вы хотите определить, какой резон в моих столь настойчивых хлопотах? Поясню. Я по духовной — опекун Дмитрия, стало быть, отвечаю за него перед Богом. Я знаю лучше вас Годунова и предвижу его крамолу, а она мне в ущерб. Если же воцарится Дмитрий Иванович, то в благодарность за заботу о нём он приблизит меня к трону, как приближал покойный государь. Думая о царевиче Дмитрии, я не забываю и себя.
— Это я вполне понимаю, — согласился Фёдор Нагой, — и готов принять твоё предложение. Дай только срок подумать, как ловчее подготовить подмену в полной тайне.
— Вам этого делать не стоит. Любой ваш шаг известен Тайному дьяку, а он, как я подозреваю, докладывает не только мне, своему начальнику, но и Годунову. Давно. Теперь же, предполагаю, станет обходить меня чаще. Подмену поэтому я организую. От вас нужно только ваше согласие. И ещё точное исполнение моих советов. Точное, безоговорочное и совершенно тайное. Даже из Нагих о нашем уговоре могут знать только ты, Фёдор Фёдорович, царица Мария и сын твой Афанасий, — Бельский повернул голову к Афанасию: — Тебе, как я считаю, быть при сестре своей неотлучно. По рукам?
— По рукам.
Сам Богдан Бельский уже продумал, как произвести подмену, и теперь ему оставалось всё претворить в жизнь, не выезжая из Москвы. Он сразу же послал стремянного звать Хлопка, воеводу боевых холопов, в кремлёвский дом. В нём, как считал Бельский, можно говорить без утайки, разговор никому не передадут, и не ошибался.
Встретил Бельский Хлопка, как обычно, с почтением и позвал в комнату для тайных бесед, какую устроил в своём кремлёвском доме на манер царской, усадил на лавку против себя и начал сразу же, без всяких околичностей:
— Я намерен доверить тебе величайшую тайну, поручив дело державной важности. Если о нём проведают, кара одна — смерть. И тебе, и мне. Иного исхода быть не может. Готов ли ты на такое? С ответом не тороплю. Подумай. Можешь согласиться или отказаться. Твоё полное право. В жизни твоей это ничего не изменит, если даже откажешься. Воеводство над боевыми холопами в любом раскладе останется за тобой. Сколько тебе нужно времени?
— Нисколько. Я согласен.
— Что ж, спасибо. Не зря я был уверен в твоём согласии. Теперь слушай. Завтра же поедешь в моё ярославское поместье, но не воеводить холопами. Всё изготовь там для тайного приёма годовалого или полуторагодовалого мальчика. Ни моложе, ни старше. После чего, никого не привлекая, даже не беря с собой стремянного, поезжай по сёлам и деревням в поиске младенца. Пригожего лицом выбери. Заплати, сколько запросят, уверив родителей, что сын их станет жить в боярской неге. На всё это тебе недели две. Привезёшь в усадьбу тайно в загодя устроенное место. Дашь мне знать. Дальше жди моего слова.
— Всё понял. Устрою с Божьей помощью.
Выехать Хлопку удалось, однако, только через два дня, вместе с хозяином своим, ибо события развернулись столь неожиданно и столь стремительно, что Бельский едва смог остаться живым.
На исходе дня он поехал в свою усадьбу на Сивцев Вражек, не предчувствуя ничего недоброго, но, ещё не доехав прилично до усадьбы, услышал шум толпы, какой-то злобный гомон. Перевёл Бельский коня с рыси на шаг, стал прислушиваться, чтобы понять, чем возбуждена толпа, где она сгрудилась. Вскоре уже можно было разобрать слова, особенно тех голосистых крикунов, чьи вопли выделялись из общего гомона толпы.
«В чём дело?! Моё имя слышится?! Да. И похоже, возле моего дома!»
Вот он явственно услышал: «Выходи, опричник! Иначе разнесём ворота!»
Подъехал ещё ближе. Прислушался и понял причину такой злобы: несколько горлопанов, похоже, одних и тех же, кричали истошно:
— Душегуб! Извёл царя нашего батюшку!
— Теперь за бояр хочешь взяться!
— Царя Фёдора Ивановича отравить намерился!
«Подъехать к толпе или возвратиться в Кремль? — судорожно решал князь. — Боевых холопов достаточно в усадьбе, чтобы разогнать возмущённую по чьей-то указке чернь, но стоит ли рисковать? Да и кровь нужна ли? Впрочем, ускакать успеется. Можно, не подъезжая ближе, подождать, чем дело кончится».
Толпа тем временем требовала его, Бельского, на расправу, горлопаны кричали, чтоб он выходил, если дороги ему жена, дети и домочадцы.
Отворилась калитка. Кто-то, похоже, вышел. Но кто? Хлопко. Его голос зычный.
— Тихо, вы! Послушайте меня, а не горлопаньте! Я — Хлопко. Один из ближних слуг князя Вяземского. Должно, слыхали обо мне, о Косолапе?
— Слыхали.
— Принять бы мне смерть на дыбе, если бы ни оружничий. Он спас меня. Скажу вам, лучшего барина не сыщешь по всей России. Никого из своих слуг пальцем не трогает, даже никакой обиды не чинит, а добра от него — не счесть.
— А кто царя извёл?! — спросил один из крикунов.
— Кто бояр намеревается извести? — поддержал другой крикун.
— Кто царевичу Фёдору Ивановичу крамолу готовит?! Зови барина, иначе разнесём всё в щепки!
— Люди добрые, не слушайте горлопанов. Скажу вам одно: мы, его слуги, не пожалеем жизни, отстаивая дом его. Не пугайте нас. Мы не желаем крови. К тому же хозяина нет дома, он ещё в Кремле. Прошу, расходитесь подобру-поздорову, не виня всуе доброго человека.
Толпа, однако, не послушала дельного совета Хлопка, а последовала за крикунами, призвавшими идти в Кремль. Впрочем, иного и ждать не приходилось, ибо основа толпы ни с бору по сосенке. Она специально собрана и направлена чьей-то рукой.
Но чьей?
Не время, однако, для размышлений. Круто развернув коня, Бельский пустил его крупной рысью в Кремль. В воротах осадил коня и приказал воротникам:
— Затворяйте ворота. Толпа Кремль идёт громить!
Приказ оружничего — не закон для воротниковой стражи. Побежал было посланник к своему начальнику, воротниковому голове, и это едва не окончилось плачевно — бунтари приближались к Красной площади. Вот они уже на ней, и Бельский повелел со всей настойчивостью:
— Затворяй ворота!
Подействовало. Заторопились воротники и едва успели. Перед самым носом сошлись створки ворот, а разгневанная толпа принялась тарахтеть по ним кулаками и ногами, крича разноголосо:
— Бельского! Бельского! Бельского!
Десятник воротников, пожав плечами, спросил удивлённо:
— За что это на тебя, оружничий? Иль кому поперёк пути встал?
— Должно быть, так. Ты вот что: извести воеводу своего, пусть наследнику Фёдору Ивановичу доложит. Его воля отступиться от меня или разогнать толпу. Погожу его слов в своём доме.
Когда царевича известили о толпе у Фроловских ворот, он горестно перекрестился и промолвил со вздохом:
— Господи, вразуми их, не ведающих, что творят, — ещё раз перекрестившись, добавил: — Пойду к ним. Успокою.
— Нужно ли тебе, государь, — остерёг Годунов, хотел ещё что-то добавить, но Фёдор Иванович прервал его:
— Не спеши величать царём. Я ещё не венчан на царство.
В голосе звучали нотки явного недовольства, однако Годунов продолжил уверенно:
— Будешь венчан, поэтому и теперь уже — государь. И не тебе самолично кланяться черни, холопам твоим. Разве у тебя перевелись верные слуги? Я пойду, взяв с собой тех из Верховной боярской думы, кто ещё не уехал из Кремля.
— Пусть будет по твоему слову.
Только князя Мстиславского удалось Годунову застать в Кремле, и они вдвоём поднялись на надвратную церковь, чтобы со звонницы выслушать толпу и, в зависимости от обоснованности требований, или успокоить её обещаниями, или разогнать силой.
Толпа, увидевшая Годунова, ещё больше возбудилась, особенно настырно, до хрипоты, заголосили крикуны, выказывая свою прыть. Иерихонскими трубами звучали их требования:
— Бельского головой! К ответу погубившего царя-батюшку!
Толпа многоголосо подхватывала это требование, часть её с нарочитой напористостью, другая, большая — ради куража.
Князь Мстиславский поднял руку, и теребень постепенно угомонилась. Дождавшись тишины, князь заговорил, внятно чеканя слова:
— Оружничий Богдан Яковлевич Бельский не виновен перед государем. Не виновен и перед его державой. Вы настроены изветно...
Крикуны прервали его дружными возражениями, а толпа снова стала требовать Бельского на расправу, вовсе не слушая князя, хотя тот всё более повышал голос — затихла она лишь тогда, когда руку поднял Годунов.
— Слушай моё слово, слово государя нашего Фёдора Ивановича. Оружничий и в самом деле безвинен, но волю вашу без внимания государь оставить не может, и радея за тишину и мир в стольном граде, государь наш обещал выслать Бельского из Москвы.
Возликовала толпа и сразу же начала расходиться. Без всякой злобы, словно вмиг пропало всякое желание расправляться с тем, кто готовил ковы против бояр и даже против самого наследника престола царского.
Князь Мстиславский, подозрительно посмотрев на Годунова, спросил:
— Поддержит ли царевич твоё самовольство? Бельский такой же, как мы с тобой, верховник. Его судьба в руке только государя. И нас — верховников.
— Поддержит, — уверенно ответил Годунов и, спустившись по лестнице, пошагал к дому Бельского.
«Наглец! Без всякой совести оделил себя правом решать за государя!»
Решительно направился князь Мстиславский к царевичу, чтобы известить того о самовольстве его шурина и добиться отмены обещания. Увы, царевич, выслушав князя, молвил смиренно:
— Сам Господь надоумил Бориса найти подходящее слово. Так, видимо, Богу угодно. Да и не в застенок же оружничего отправляют. Проводит моего брата с матерью его в Углич, побудет там, пока всё устроится, да и воротится.
Устами царевича мёд бы пить. Иное говорил Борис Годунов Богдану Бельскому.
— Придётся тебе, Богдан Яковлевич, ехать воеводою в Нижний Новгород. Такова воля царевича, государя нашего. Но я советую тебе не сразу отправляться в Нижний, проводи сначала Марию Нагую и сына её Дмитрия в Углич, устрой их там, вот тогда...
Не назвал Марию царицей, а сына её Дмитрия царевичем, и это о многом сказало Бельскому. Его осенило: Годунов устроил весь этот переполох.
— Ты говоришь, в Нижний Новгород на воеводство? Но я же, по духовной покойного царя, член Верховной боярской думы, а нарушать волю покойного — страшный грех.
— Я говорил об этом царю Фёдору. Его ответ такой: никто не гонит тебя из Верховной боярской думы, но ради покоя в Москве Дума на какое-то время обойдётся без тебя. Дума не станет противиться воле государя, ибо один из её членов слышал волю Фёдора Ивановича, мною сообщённую взбунтовавшимся москвичам. Фёдору тоже не советую челом бить. Ещё дальше может загнать.
Мосты, как говорится, сожжены. Однако из любой неприятности можно извлечь выгоду. Теперь он, не вызывая подозрения, может взять с собой столько слуг, сколько посчитает нужным, Хлопка же отправит на исполнение урока, когда они отъедут подальше от Москвы. Например, из Мытищ.
Хотя и не проходило беспокойство о том, всё ли пройдёт с подменой гладко, однако уверенность всё же не покидала его. Он считал, что Хлопко обязательно найдёт подходящего мальчика, мамок же царевича можно будет отпустить в Москву, заменив их своими уже в поместье своём, куда он намеревался на время привезти царицу Нагую с сыном. Без подозрений можно это сделать, ибо поместье это по пути из Дмитрова в Углич. Но куда упрятать самого царевича Дмитрия Ивановича? В одно из своих поместий? Рискованно. Тайный дьяк в угоду Борису навербует себе соглядатаев во всех его поместьях. Даже в том, полутайном, близ Волоколамска. Поэтому нужно искать семью из дворян со славным прошлым, но теперь обедневших. Не открываясь им, придумать правдоподобную сказку.
Когда Бельский рассказал о своей заботе Хлопку, тот даже хмыкнул.
— Чего, боярин, голову ломать тебе? Я и парнишку взамен царевича сыщу, и царевича пристрою любо-дорого.
— Ты так уверен, словно лёгкое дело предстоит. Разве забыл о полной тайне?
— Как забудешь, если головой рискуем. Есть на примете у меня одна семья. Со славным прошлым — Отрепьевы. Они, как и я, служили князю Вяземскому, земля пухом коварно убиенному. Как и я остались они живы, но прежний шик потеряли. Бедствуют. С великим удовольствием возьмут у меня дитя в сыновья свои, особенно если с добрым приданым.
— С приданым не вопрос. Что о ребёнке скажешь?
— Нагулял, мол, а мать Богу душу отдала. А куда мне с ним, при моей колготной жизни и службе?
Так всё и произошло. Но не вдруг. Пару недель не давал вести о себе Хлопко, и Бельский нервничал, ожидая Нагих в Лавре святого Сергия. Время сейчас было на вес золота. Но Нагие оказались молодцами: хотя и давил на них Борис Годунов, затягивали они выезд из Москвы, давая тем самым возможность Бельскому всё хорошо подготовить.
Вот уже явился гонец от Афанасия Нагого с вестью, что поезд с царицей и царевичем выехал из Москвы, а от Хлопка всё ещё нет вести. Бессонные ночи начались.
Наконец — радость: Хлопко с долгожданным словом:
— Всё готово, боярин.
Вроде бы устраивается дело, но тут чуть было всё не разладилось, да из-за причины, которую Бельский даже в голове не держал: согласившаяся на подмену царица Мария вдруг стала слёзно просить, чтобы позволено было ей хотя бы ещё недельку провести с сыном, а это — смерти подобно. Бельский пошёл на крайность, на резкий разговор с Марией и её братом.
— Всё подготовлено на завтра. Мамки уезжают, новые же приходят, как ребёнок проснётся.
— Но как мне, матери, не проститься сыном?! Я не могу.
— Сможешь, если желаешь своему сыну счастья и долгой жизни на царском троне.
— Какая мать не желает счастья сыну своему и долголетия, но какая мать расстанется с ребёнком своим, не благословив его в неведомый путь?
Никакие доводы не действовали. Мария Нагая стояла на своём: пока они гостюют в усадьбе опекуна, царевич пусть будет при ней. Время шло. Слишком долго оставались они наедине, и об этом наверняка станет известно Годунову: мамки, им приставленные, что совершенно ясно, всё видят, всё замечают. Один небрежный шаг и — печальный конец, если не трагический.
Богдан Бельский заговорил жёстко:
— Моё условие такое: сегодня, перед сном, ты, царица, благословишь сына на сон грядущий, как делала это всегда. Никаких лишних слов. Ни даже вздоха. Завтра утром, придя к подменившему Дмитрия ребёнку, поведёшь себя так, словно ничего не случилось. Если всё это не будет исполнено, я отказываюсь иметь с вами дело. Если мать хочет скорой смерти сыну от подосланного убийцы, какого ляда заботиться об ином мне? — махнул рукой, но всё же отвесил низкий поклон. — Я пошёл. Оставляю вас одних. Вы, брат и сестра, определяйтесь. Буду ждать ответа. Скорого.
— Погоди, — остановила его царица. — Я постараюсь взять себя в руки.
— Постараешься или — возьмёшь?
— Возьму. Всё сделаю как надо. Комар носа не подточит.
— Вот и ладно.
— Только одно моё условие... Наденьте на него вот этот нательный крестик. Как знак, что он мой сын. — Мария сняла нательный крестик, и Бельский увидел его необычность: вместо распятого Иисуса Христа на нём была выгравирована Матерь Божья Мария с сыном на руках.
— Подарок царя, супруга моего покойного. По его велению сделан после рождения Дмитрия.
— Крестик сохраню я пока у себя. Когда же придёт время, Дмитрий наденет его себе на грудь.
Богдан Яковлевич исполнил обещанное царице Марии, и необычный нательный крестик стал в своё время неоспоримым доказательством права Дмитрия Ивановича на Всероссийский престол.
Не проиграл и сам Бельский: он получил боярство, так долго желаемое, стал одним из авторитетнейших вельмож при Дворе царя Дмитрия Ивановича. Но до этого помытарил его изрядно Борис Годунов. Особенно, когда захватил трон.
Бельский пережил Годунова, хотя и не на очень много. Погиб он в Казани, куда сослали его Шуйские на воеводство. Они, по всей видимости, и настроили против него толпу казанцев, ибо Шуйские понимали, что Богдан Бельский не потерял надежду на царский трон и вполне может достичь своей цели. Наёмные крикуны, возбудившие толпу, сами поволокли Бельского на звонницу соборной церкви и сбросили его оттуда.
«Сброшен с раскату» — так зафиксировал убийство Богдана Бельского летописец. Произошло оно в 1611 году 7 марта.
ИВАН ШУЙСКИЙ
Его, как и князя Михаила Воротынского, справедливо почитали спасителем России. На него даже Борис Годунов, расправляясь с Верховной боярской думой, не посмел поначалу поднять руку.
Но всё по порядку.
С Запада на Россию наползали чёрные тучи. Уже молнии ослепляли безжалостным огнём, а гром грохотал всё с большей жуткостью — Баторий, избранный польским Сеймом на королевство, в короткое время смирил высокомерных ясновельможных панов, и они приняли деятельное участие в создании крепкой, но главное, дисциплинированной армии. Сумел Баторий ещё и объединить всех, кто желал захвата русских земель в силу, ему подчинённую.
Грозное получилось войско, возглавляли которое лучшие военачальники тех стран. Да и сам Стефан Баторий отличался не только храбростью и умением нацелено вести наступательные действия, но ещё и наглостью.
На польский престол после смерти Сигизмунда вполне мог быть избран Иван Грозный, но он не захотел, чтобы его выбирали — привык властвовать без всяких ограничений, хотел стать помазанником Божьим в Польше, как и в России, а не быть в зависимости от ясновельможных панов, его избравших. Так во всяком случае трактует этот факт официальная историография, почти не принимая в расчёт предположений о том, что польские магнаты могли вынашивать планы присоединения, при содействии Папы Римского и большинства королей Западной Европы, необъятной России к крохотной своей державе, а Иван Грозный не клюнул на предлагаемую ему заманчивую наживку. Не станем, однако, гадать на кофейной гуще, хорошо или плохо поступил царь Иван Васильевич, отказавшись от польского престола, признаем свершившийся факт и попытаемся разобраться в грозных событиях тех лет.
Стефан Баторий, которого его историографы восхваляют взахлёб, воодушевил добротно устроенное войско обещанием завоевать всю Россию, повёл полки болотами и глухими лесами, местами, где почти полтораста лет не ходили никакие войска. Стефан шёл путём Витовта, Великого князя литовского, трижды в четырнадцатом веке вторгавшегося в пределы Московского великого княжества — Баторий, как и Витовт, прорубал в чащобах просеки, на болотах стелил гати, через реки ладил мосты и совершенно неожиданно вывел своё войско к Велижу и Усвяту, легко взял обе крепости, имевшие великий запас продовольствия и ратного снаряжения, а к исходу августа подошёл к Великим Лукам, богатейшему городу древних новгородских владений.
Гарнизон крепости насчитывал всего около шести тысяч ратников, но тем не менее смог отбить первые штурмы. К тому же смелые налёты на осадивших крепость начал совершать воевода князь Хилков, стоявший в Торжке, но он не решался на свемную сечу с врагом, имеющим многократное преимущество, ждал подхода полков из Смоленска, Новгорода, Пскова и других городов. Увы, российские воеводы давно уже были отучены от дерзкой смелости: за самовольные действия, если они даже станут успешными, от царя не дождёшься ласкового слова, а если случится неудача, считай, лишишься живота.
Иван Грозный, в сложившейся ситуации вместо того, чтобы нацелить полки на разгром дерзкого противника, а то и самому выехать к войску, направил к ставшему по случаю королём польским Баторию послов для переговоров о мире.
Узнав, что к нему едет посольство, Стефан Баторий продолжал воевать как ни в чём не бывало: захватил Невель и Озорища, что ещё более добавило ему надменности. Вдобавок к этому весьма успешно действовали и союзники — литовцы и шведы: или разорена Старая Русса, захвачен Кексгольм, в осаде ещё несколько крепостей. Вот и заявил Баторий послам Ивана Грозного, что если Московский царь хочет мира, то должен отдать Литве Новгород, Псков и Великие Луки со всеми областями витебскими и полоцкими, а ещё всю Ливонию.
О положении дел в России Стефан Баторий был хорошо осведомлён от многочисленных своих лазутчиков, соглядатаев и перебежчиков. Она и в самом деле казалась почти безоружной. Король не мог не знать, что кажущееся — ещё не истина. Почти восемьдесят крупных воинских станов, полностью оснащённых огневыми нарядами, в любой момент были готовы вступить в сражение. Кроме станов — городовая рать в крепостях и во всех городах. Особенно крупные отряды находились тогда в городах западной части России.
Соловьёв, Карамзин, Устрялов и другие историки сообщают о многочисленном воинстве полевом, тоже готовом к битве. По оценкам, не Россия изменилась, но ей изменил Иван Грозный — государь самодержец. Он не возглавил своё войско, он даже не переехал в Кремль, где ему могли бы подсказать что-либо дельное приказные дьяки и думные бояре, а из своего страшного пытками и развратом гнезда направил главным воеводам во Ржев и Вязьму к великому князю Тверскому Симеону Бекбулатовичу[55] и князю Ивану Мстиславскому послание такого содержания: «Промышляйте делом государственным и земским, как Всевышний вразумит вас и как лучше для безопасности России. Всё упование моё возлагаю на Бога и на ваше усердие».
Список этого удивительного по отрешённости самовластца не только от ратных, но и от государственных дел наверняка имелся у Стефана Батория, вот он и вёл себя так нагло. Однако вполне возможно, наглостью и чрезмерными требованиями он скрывал своё понимание, что одолеть великую Россию ему не под силу, отступаться же от своих обещаний панам и жолнерам ему не позволяла гордость и боязнь потерять власть над ними. К тому же воеводы, видя слабоволие государя своего, сами не действовали решительно, а если говорить честно, то и некому было организовать достойный отпор захватчикам по единому замыслу, по единому тактическому плану.
А в Слободе Ивану Грозному опасались сказать всю правду о бедственном положении на западных украинах, ибо он играл свадьбы. Вначале отпраздновал свою свадьбу с Марией Нагой, затем — сына Фёдора с Ириной Годуновой.
Да и докладывать государю тревожную правду было просто некому.
Вот оценка тем событиям Карамзиным: «...два брака, ужасные своими неожиданными следствиями для России, вина и начало злу долговременному! Уже Годунов, возведённый тогда на степень боярства, усматривал, может быть, вдали, неясно, смелую цель его властолюбия, дотоле беспримерного в нашей истории! Как любимец государев, он мог завидовать только Богдану Яковлевичу Бельскому, оружничему, ближнему слуге, днём и ночью неотходному хранителю особы Иоанновой; как шурин царевича делился уважением и честию с царскими свойственниками, с князем Иваном Михайловичем Глинским и с Нагими, коими вдруг наполнился дворец Иоаннов; как думный советник видел ещё многих старейших бояр Мстиславских, Шуйских, Трубецких, Голициных, Юрьевых, Сабуровых, но не единого равного ему в уме государственном. На сих двух роковых свадьбах, празднуемых Иоанном только с людьми ближними в Александровской слободе, во дни горестные для отечества, под личиною усердных слуг и льстецов скрывались два будущих царя и третий гнусный предатель России: Годунов был дружкою Марии, князь Василий Иванович Шуйский Иоанновым. Михайло Михайлович Кривой-Салтыков чиновником поезда! С ними же пировал и другой, менее важный, хотя и равно презрительный изменник, свойственник Малюты Скуратова, Давид Бельский, который чрез несколько месяцев бежал к Стефану».
Князья-воеводы, безусловно, знали о свадьбах, иные предвидели их последствия, и всё же многие продолжали действовать смело и решительно, добиваясь внушительных побед, хотя и не слишком влияющих на общий ход военных действий, но отрезвляющих захватчиков и самого Батория.
Для наглядности упомянем об одной из таких ярких операций. Воеводы Кутырев-Ростовский, Хворостинин, Щербатый, Туренин и Бутурлин, соединившись в Можайске, повели объединённые полки к Дубровне и Орше, Шклову, Могилёву, Родимлю, на территорию вражескую, пожгли посады этих городов, а под Шкловом в горячей сече разбили крупные силы литовцев, и с великим воинским трофеем и множеством пленников возвратились в Смоленск.
Подобные вылазки основательно тревожили Стефана Батория и его военачальников — они даже вынуждены были изменить стратегический план боевых действий. Вроде бы продолжая наносить главный удар на юго-восточном направлении, готовить в тайне решительное наступление на Псков и Новгород с целью их захвата.
Первой жертвой этого плана стали Великие Луки. О такой крупной потере клевреты Ивана Грозного не сочли возможным промолчать. Но не вскипел гневом государь Российский — он вновь направил к Стефану посольство с пространным посланием, соглашался уступить многие города ливонские, одновременно упрекая его в том, что он не царских кровей, а ведёт себя как отпрыск королевского рода, не желая добрых переговоров с истинным владетелем державным. Но Баторий не принял унизительной жертвы Грозного — настаивал на передаче Смоленска, Пскова, Великого Новгорода и многих других городов, а сверх того требовал 400 тысяч золотых, которые были им потрачены на организацию похода. На упрёк же о его безродности ответил дерзко:
«Хвалишься своим наследственным государством — не завидую тебе, ибо думаю, что лучше достоинством приобрести корону, нежели родиться на троне от Глинской, дочери Сигизмундова предателя. Упрекаешь меня терзанием мёртвых: я не терзал их; а ты мучишь живых: что хуже? Осуждаешь моё вероломство мнимое, ты, сочинитель подложных договоров, изменяемых в смысле обманом и тайным прибавлением слов, угодных единственно твоему безумному властолюбию! Называешь изменниками воевод своих, честных пленников, коих мы должны были отпустить к тебе, ибо они верны отечеству! Берём земли доблестию воинскою и не имеем нужды в услуге твоих мнимых предателей. Где же ты, Бог земли Русской, как велишь именовать себя рабам несчастным? Ещё не видали мы лица твоего, ни сей крестоносной хоругви, коею хвалишься, ужасая крестами своими не врагов, а только бедных россиян. Жалеешь ли крови христианской? Назначь время и место; явися на коне, и един сразися со мною единым, да правого увенчает Бог победою![56]»
Пока шли переговоры и переписка Ивана Грозного и Стефана Батория, ляхи, литовцы и шведы накапливали силы для наступления на Псков, одновременно активизируя для отвода глаз боевые действия на юго-востоке. Однако главный воевода псковской рати Иван Петрович Шуйский получил весть от своих лазутчиков и от перебежчиков о скоплении вражеских сил в городах, лежащих всего лишь в недельном переходе от Пскова. Станы многолюдные устраиваются и в глухих лесах поближе к Пскову. Баторий ждёт подхода многочисленных наёмников из других стран, а после их прибытия начнёт наступление. Месяца через два. Пока же отрабатываются совместные действия сводных сил. Наёмниками, которые должны подойти, станет командовать Ференсбах, в своё время честно служивший царю Ивану Грозному и весьма отличившемуся в свемной сече под Молодями.
На свой страх и риск Иван Шуйский спешно, меняя коней на погостах, поскакал в Александровскую слободу. Он надеялся, что государь, узнав об угрозе Пскову и Новгороду, в конце концов встрепенётся.
Государь вроде бы и впрямь встрепенулся, тут же вызвал дьяка Разрядного приказа и велел подготовить роспись полков и воевод для усиления обороны Пскова в несколько дней, добавив:
— Вместе с князем Иваном Шуйским действуйте. Как исполните, враз соберу Боярскую думу.
У Разрядного приказа нет затруднения: людей вполне хватит на то, чтобы собрать в Пскове крупные силы, но князь Иван Шуйский имел свой план, который предусматривал не только оборону самого Пскова, но ещё и создание крупного резерва, а также оборону южных границ.
— Сведал я, что к Баторию приезжал посол Оттоманской империи с предложением объединиться. Он так и сказал: если султан и король Баторий захотят действовать единодушно, то победят не только Россию, но всю вселенную. Считаю, поэтому, с Оки нельзя трогать полки, напротив, добавить туда, определив главным воеводой знатного победами и разумностью действий.
— Принимается, — без всякого сомнения, согласился дьяк Разрядного приказа. — Пару полков добавим, определив князя Василия Ивановича Шуйского первым воеводой Большого полка; вторым — Шестунова. Заступят они путь крымцам, если султан нацелит их походом на нас.
— Сколько может дать приказ войска Пскову?
— Тысяч сорок. А воевод полков давай определим вместе.
— Прикидывали и так, и эдак. Чтобы уважаемыми были среди ратников, чтобы отличались смелостью и разумностью, но не менее важно — упорством в сече — выбор пал на князей Шуйского-Скопина, на Овчину-Плещеева, на Хворостинина, на Бахтиярова и на Ростовского-Лобанова. У каждого из них — славные победы за плечами.
— Нужен и резерв на всякий случай, — напомнил Иван Шуйский. — Баторий, как мне известно, приведёт ко Пскову не меньше ста тысяч, и если вдруг станет нам невмоготу, кто поспешит на помощь? В Новгороде бы Великом иметь рать добрую, готовую спешно ударить по тылам войска Батория. В Ржеве бы тоже нелишне иметь пару полков.
— Сейчас в станах под Новгородом и в самом городе почти сорок тысяч. Главным воеводой той рати — князь Юрий Голицын. Подчиним его тебе, чтоб под единой рукой.
— Устроит. А Ржев?
— Не оголяя Смоленска, пару полков сможем наскрести. Тоже под твою руку.
— Ладно будет. Можно докладывать государю.
Иван Грозный без всяких поправок принял роспись Разрядного приказа. Особенно же ему легло на душу то, что всё войско, выделенное для обороны Пскова и для резерва, передано под руку князя Ивана Шуйского.
Государь так и сказал:
— Отменно. Единая воля, единые действия, единая ответственность перед государем и Россией.
Боярская дума тоже почти ничего не добавила в роспись, и тогда Иван Васильевич заключил:
— Тебе, князь Иван Петрович, надлежит дать клятву мне и всей Боярской думе, что не отдашь Пскова псу Баторию, пока будешь жив.
— Клянусь! — горячо заверил князь Иван Шуйский.
— Клянусь! Клянусь! Клянусь! — как эхо повторяли, поднимаясь без особого приглашения один за другим, остальные воеводы, коих определили в псковскую рать.
— Я верю вам. Вы устоите, — вдохновился Иван Грозный. — Сам я выезжаю в Старицу.
«Наконец-то, — радостно вздохнул князь Иван Шуйский. — Понял-таки великую опасность для державы ».
Зряшная радость. Не возглавить своё войско собирался Иван Васильевич, Грозный царь, а встретить посла Папы Римского Григория Тринадцатого иезуита Антония. Царь хотел не силой меча, а хитростью, малыми уступками добиться мира.
Встретили Антония будто самого Папу. Весь царёв полк выстроился в парадных доспехах, свита государева склонилась в низком поклоне. Такого приёма, как утверждает летописец, не бывало никогда прежде в России, не оказывалось подобного приёма ни королевским, ни императорским послам.
Три дня пиров на золоте, после чего — переговоры с Антонием Поссевиным. Со стороны Ивана Грозного возглавил их дьяк Посольского приказа Андрей Шелкалов, очень умелый переговорщик. Суть их привычная: посол Папы Римского, как и прежние послы, требовал от России вольной торговли для купцов венецианских и свободного строительства на Русской земле католических храмов. Не менее важное условие, взамен посредничества между Россией и Польшей — вступление России в войну с Оттоманской империей. Как только эта война начнётся, Папа Римский, мол, тут же повлияет на королей стран Европы, чтобы те выделили 50 тысяч воинов.
Поистине — капля в море. Да и бабка надвое гадала, согласятся ли европейские правители выделить на эти цели.
Ну а что же с миром? Он непременно наступит, если государь Российский согласится отдать Стефану Баторию всё, что тот требует.
Иван Грозный в конце концов всё-таки согласился на кое-какие уступки, однако он более надеялся склонить иезуита на свою сторону ласковостью обращения и подарками, и ему это в определённой мере удалось: Поссевин, покорный уважительным отношением к себе царя и его слуг, вроде бы искренне пообещал повлиять на польского короля. В путевых записках после возвращения в Италию Антоний напишет: «Я видел не грозного самодержца, но радушного хозяина среди любезных ему гостей, приветливого, внимательного, рассылающего ко всем яства и вина. В половине обеда Иван, облокотясь на стол, сказал мне: Антоний, укрепляйся пищей и питием. Ты совершил путь дальний от Рима до Москвы, будучи послан к нам святым отцом, главой и пастырем римской церкви, коего мы чтим душевно».
Если считать заметки посла чистосердечными, то можно поверить, что он настроился услужить миром, как он написал, и тем способствовать решению основных задач, поставленных Папой Римским в отношении России, однако устремления Антония натолкнулись на упрямство Батория: тот не стал слушать увещевания иезуита, гордо ответив, что мир наступит скоро и добыт он будет силой оружия.
Ещё когда в Старице начались переговоры, в Пскове между воеводами, собранными князем Иваном Шуйским на совет для обсуждения мер, которые надо принять для обороны города, возникла разноголосица: зачем, дескать, тратить бесцельно усилия на подготовку к встрече Батория, раз переговоры, какие ведёт сам государь с Антонием, установят мир или, в крайнем случае, перемирие? Лучше, мол, повременить — Баторий же не сможет не принять слово Папы Римского, по указанию которого приехал посредничать иезуит. Однако главный воевода не дал продолжиться подобному разговору, резко одёрнув миролюбцев:
— Мы — воеводы, а не переговорщики Посольского приказа! Нам ли взирать с надеждою на исход переговоров, сложив руки на животы свои, свободные от кольчуг?! Я собрал вас не слушать пустопорожние, если не сказать — вредные речи, а решать, какие меры принять для лучшего укрепления крепости!
Увещевание подействовало. Начались деловые разговоры опытных военачальников, знающих, что делать, и обсуждение закончилось чётким и разумным решением. Перво-наперво обязать клятвою «умрём, но не сдадим крепости» не только ратников, но и горожан от мала до велика, после чего провести крестный ход вокруг всех укреплений. Это предложил игумен печорский Тихон, оставивший свою обитель, чтобы молитвами служить обороне Пскова.
После крестного хода, на который согласились все воеводы и отцы города, начался осмотр всех укреплений самими воеводами полков совместно с тысяцкими, дабы определить участки обороны каждому полку и наметить меры по укреплению стен Кремля, Среднего, Большого города и Запсковья, как ещё его называли Околицей или Внешней стеной, протяжённостью более семи вёрст.
Определили места для затинных пушек, пищалей и площадки, где разместить можно кучно стрельцов с самопалами. Всё это не тайно, без секрета от псковитян, так как решено было привлекать к работе по укреплению стен всех горожан. А в полной тайне Иван Шуйский решил заложить пороховые заряды в каждую башню и прорыть под стенами крепости слуховые лазы. С таким расчётом, чтобы в любом месте, где бы враги ни начали подкопы иод стены, сразу же их обнаружить, а затем и разрушить.
Пороховые заряды — его личная придумка, слуховые же продухи уже делались во время осады Казани. Правда, для того тогда их делали, чтобы найти тайный выход из крепости, которым пользовались казанские воины. Очень удачно там получилось. Почему бы не повторить ту ловкость, изменив только её цель?
Объезжая стены, уже самостоятельно, во второй и третий раз, князь Иван Петрович всё более убеждался, что самое опасное место — у Покровских ворот, что выходят на Порховскую дорогу, откуда и ожидается подход Батория. Воевода решает, что здесь и нужно возвести ещё одну, внутреннюю стену с раскатами. Деревянную, конечно, ибо для возведения каменной времени уже нет. Ещё он определил на этот участок обороны поставить самого надёжного воеводу — князя Хворостинина, дав ему изрядное число пушек и пищалей, а также рушниц.
Стену в самом деле до подхода противника закончить полностью не успели, но она, даже недостроенная, всё же сыграла важную роль в отражении первого штурма. Завершили же её строительство в ходе боев.
Кроме ратных забот у князя Шуйского было много ещё и других, которые волновали и отцов города и всех горожан. Особенно остро обстояло дело с беженцами, чрезмерное скопление которых в городе вполне может стать обузным, особенно если осада затянется. Главный воевода признал опасения горожан разумными и принял жёсткое решение: впускать только тех, у кого достаточно с собой муки и круп, кто ведёт с собой живность и кто обязуется привезти в город, пока позволяет время, несколько возов сена. Кроме того, он велел в нескольких десятках вёрст от города выставить заслоны на дорогах, чтобы советовали беженцам направляться в Великий Новгород, куда Баторий не пойдёт, не взяв Пскова, а тем, кто не согласен был развернуться, сообщить условия пропуска в крепость.
Меры крутые, но важные и своевременные, как покажут дальнейшие события долгой осады Пскова.
Август подобрался к середине — Батория всё нет. Те, кто уповал на успешные переговоры, заговорили громче, но это никак не смутило ни главного воеводу, ни подавляющего большинства ратников, да и псковитян — их усердие не уменьшилось. Они разумно рассудили: переговоры переговорами, а к осаде нелишне готовиться. Ну а если мир наступит, разве отремонтированные стены хлеба попросят?
Старания и впрямь оказались важными и нужными. 18 августа прискакал вестник сотника из лазутного отряда с тревожной вестью: Баторий взял Опочку. Следом — новая весть, столь же неутешная: пали Остров и Красный. На берегах речки Черехи разбит передовой конный отряд детей боярских. Стало быть, дней через пяток жди ворогов у стен крепости.
— Через пару дней поджигаем посады и бьём в осадный колокол, — сообщил о своём решении главный воевода.
— Засадами бы встретить, — предложил Хворостинин. — Две или три друг за дружкой поставить на пути ворогов.
— Мысль разумная, — вроде бы согласился князь Иван Шуйский, — но стоит ли терять детей боярских и стрельцов. Нас и так намного меньше, чем ляхов и их союзников.
— А если так, как Девлет-Гирея щипали? По мысли покойного князя Михаила Воротынского.
Пострелял из рушниц и самострелов, затаившись в ёрнике у дороги, и — в лес. А сунутся туда ляхи, там им и конец.
— Вот это — пригоже. А как подойдёт Баторий к крепости, ударить в спину, и, пробившись сквозь неустроенные ещё ряды, — к воротам.
— Им в поддержку ещё и вылазку сделать, чтоб и языков прихватить.
— Ловко. Они главными силами по Порховской дороге подойдут, вот мы и встретим их.
— А по мне, так не стоит. Нужна ли нам свемная сеча? Не лучше ли засадные тысячи ударят справа и слева по берегу Великой и — к воротам Московским. А мы от них — вылазку.
— Принимается. Но не тебе исполнять. Тебе нужно беречь ратников. Я считаю, на тебя острие первого удара нацелится. Готовься к этому. Тебе нужно сломать ляшское острие.
— Жаль, конечно, но по воле твоей поступлю.
— Пошли за всеми первыми воеводами полков. Обсудим сообща.
Князю Василию Шуйскому-Скопину выпала честь и засады слать навстречу ворогам, и вылазку готовить. Половину полка надо было пустить на это дело: пару тысяч — на засады, три тысячи — на вылазку. Остальную половину держать, когда начнётся вылазка, в седле. На всякий случай. Если вылазке придётся туго.
Иван Шуйский, отпустив всех воевод, попросил Василия остаться.
— Станем вместе провожать тысяцких в засады. Я верю тебе, славный воевода, но всё же хочу и своё слово сказать. Не осерчай на меня, посчитав подобное за опеку.
— Ладно. Для чести моей малый убыток. Лишь бы для дела услада.
Конечно, две засадные тысячи мало что сделали, лишь по паре засад успели устроить на пути огромного растянувшегося войска, но всё же побито было более тысячи ворогов. В плен не брали. Обузно. Да и опасно, если кому удастся сбежать в суматохе. Там, на Великой, достаточно чванливых ротозеев. Главное же, засады дали понять ворогам, что из-под каждого куста на них может выглянуть сама Смерть с поднятой косой.
Ещё медленней потащились полки вражеские, высылая вперёд и в бока крупные дозоры, которым изрядно доставалось от русских ратников (они уже действовали на свой страх и риск, хотя такой задачи им не ставилось), особенно умело пользуясь самострелами или зааукивая в болотины целые отряды. Не их выдумка. Многие ратники знали, как действовали засады под Молодями, ибо об этом ходили легенды, вот и повторялось ловко придуманное прежними детьми боярскими и стрельцами.
Вёрст за десять до Пскова русские тысячи отстали от ворогов. Пусть успокоятся. Пусть посчитают, будто отбились от злыдней.
Верное решение. Некоторые сотники вражеской дворянской конницы, которые рыскали по лесу дозорами и больше всех несли потери, не только с облегчением вздохнули, но и принялись докладывать своим командирам небылицы о славных победах над русскими псами и об их полном уничтожении. И шла дальше вражеская рать хотя и с оглядкой, но уже без прежнего перепуга.
А время играло на руку защитникам Пскова: внутренняя стена между Покровскими и Свиными воротами сделана более чем наполовину, слуховые лазы прорыты тоже почти все, какие намечены. С полдюжины осталось, но это — лишь поплевать на ладони. Заложены и под башни уже заряды зелья.
Ивана Шуйского теперь больше всего заботила подготовка к вылазке. Что начало её станет удачным, он не сомневался; его воеводский опыт давал в этом уверенность; но его же опыт подсказывал, что отход вылазки может стать трагическим, если не продумать основательно поддержку при отступлении её к воротам — они мозговали с Шуйским-Скопиным и так прикидывая, и эдак. В конце концов нашли, как они посчитали, лучшее:
— Снимем со всех участков по нескольку длинноствольных пищалей и — к Покровским воротам. Ядрами и дробосечным железом поддержим.
Получилось так, будто эти славные воеводы посоветовались с Баторием при выборе места для вылазки. Когда рать вражеская подошла к крепости, Баторий место для своего шатра выбрал на холме рядом с Московской дорогой, да так близко от стен псковских, что можно было его достать ядрами из затинных пушек.
Вражеское войско, устрашающе многочисленное, повело себя, по мнению защитников крепости, совершенно беспечно, поспешивших использовать это в свою пользу. Подождали пушкари, когда ляхи, начавшие устраивать полковые станы слишком близко от крепостных стен, более скучатся, — и с просьбой к главному воеводе:
— Вели дать знак на огонь по наглецам. Они думают, что мы безоружны.
— О чём они думают, их дело. Наше дело вправить им мозги. Пусть ещё чуток распояшутся, дам приказ. Будьте готовы.
Он промолчал о готовящейся вылазке, понимал, как ей поможет одновременная стрельба со всех сторон, и знал, что нужно дождаться, когда ударят с севера и с юга по берегу Великой засадные тысячи. И он ждал терпеливо, вызывая недоумение у защитников города: разве можно упускать момент и дать возможность врагам закрепиться на выгодном для себя месте, огородившись оплотом?
Разумно ли поступает главный воевода?
Тот догадывался, что им недовольны, разделял разумные требования пушкарей, но крепился, ожидая нужного момента. И миг этот настал. С небольшим, правда, опозданием. Поначалу справа в полуверсте от стен послышались выстрелы, а затем — и слева. Пора!
Ожили бойницы на всех стенах, во всех вежах, и пошла кровопролитная для подступивших близко к крепости кутерьма. Бросая всё, улепётывали они в лес, приближавшийся к городу на версту.
Иначе повели себя пушки и пищали, густо установленные на стене между Покровскими и Свиными воротами — изрыгнув ядра двумя залпами, умолкли. Ворота распахнулись, и три тысячи детей боярских выпластали с обнажёнными мечами, с тяжёлыми ослопами[57] и шестопёрами в руках. Они неслись на спешивших улепетнуть от дробосечного железа и ядер и не вдруг оценивших ещё одну, более реальную угрозу.
Врагов секли безжалостно. Те же, кому велено было захватывать языков, выбирали командиров и, заарканив, перекидывали их через седло, и спешили покинуть с добычей место сечи — неслись к воротам. Человек двадцать заарканили.
Не долог успех вылазки, но он позволил легко прорваться сквозь вражеские ряды засадным тысячам — теперь можно и отпятиться. Тем более что Баторий, с холма своего наблюдавший за событиями перед Великой, направил против вылазки резерв — отборную тысячу жолнеров.
Дети боярские и казаки успели отпятиться к стене, и тут же ожили бойницы, встречая атаку жолнеров дробосечным железом и ядрами. А из наиболее мощных затинных пушек полетели в сторону ставки Батория ядра, да так близко они падали, что король поспешил укрыться за холмом.
Пять дней тишины. Только ветер доносил стук молотков и топоров из леса, где враги готовили туры, лестницы и оплоты, чтобы укрыться ими во время рытья борозд в близости от стен и более безопасно катить туры. Баторий же, преодолев растерянность и досаду на такую крутую встречу, сам вдохновлял подготовку войска к штурму. И хотя изменник Давид Бельский настойчиво советовал ему идти, оставив только часть сил для осады Пскова, на Великий Новгород, уверяя, что там менее прочные стены, да и сами новгородцы с охотой присягнут польской короне, Баторий твёрдо стоял на своём:
— Возьму Псков, Великий Новгород сам распахнёт ворота. У меня есть чем разрушить любые стены и есть силы сломить сопротивление русских ратников или уничтожить их, если они не сдадутся на мою милость!
«Бодливой корове Бог рогов не даёт», — с досадой думал Давид Бельский. Он через малое время снова твердил своё, и так до тех самых пор, пока не озлил Батория и тот не пригрозил ему карой за вредные советы, которые больше угодны русским, чем королевскому войску.
В крепости же велись допросы пленённых во время вылазки. Кто упирался, того пытали, кто соглашался отвечать честно, того не обижали. Когда сравнили все показания, оторопь взяла: под рукой у Батория более ста тысяч. Сорок против ста. Жидковато. И только князь Иван Шуйский глянул на полученные сведения с иной, чем все, стороны.
— Говорите, ляхи, литва, мозовшане, венгры, немцы брауншвейгские, любские, австрийские, прусские, курляндские, датчане и даже шотландцы? Все, говорите, добротно вооружены? Толку, считаю, от того мало. Почти добрая половина рати — наёмная, им плата нужна да лёгкая победа. Без большого риска для жизни. Мы же свой город обороняем. Свою отчизну. Падёт Псков, встанет на колени Россия. Потому мы вдесятеро сильней. Выходит, не так страшен чёрт, как его малюют. Верно, горячие деньки близятся, но вполне уверен — выдюжим! Не нарушим клятвы своей, сохранив и животы свои. Впрочем, каждому своё на роду написано. От судьбы не уйдёшь, её не перехитришь. Можно и в своём подвале от дыма задохнуться по трусости своей и неумелости.
Воеводы полков поняли, о ком речь. Князь Иван Бельский, назначенный главным воеводой Окской рати, которая на лето, как обычно, выставлялась против возможного нападения татар, не смог преградить путь Девлет-Гирею, который неожиданно с крупным войском появился на Оке и начал стремительную переправу — растерявшийся главный воевода не нашёл ничего лучшего, как поспешно отступить в Москву, да не на подступы к ней, а в сам город! Посчитал, видно, что легче будет сражаться с крымской конницей на улицах стольного града. Но крымцы, подойдя вплотную к городу, не ворвались в него, а подожгли со всех сторон. Но даже после этого Бельский не вывел полки в поле на сечу, сам же укрылся от огня в подвале своего терема, где и задохнулся от дыма. Поучительный пример неумелости и постыдной трусости.
Ещё раз воеводы псковской рати поклялись стоять насмерть, вдохновляя ратников личным примером мужества и решительности.
А горожан готовил к испытанию игумен Тихон. Он едва не потерял голос, усердно проповедуя с амвонов поочерёдно во всех церквах, и горожане тоже целовали крест и клялись именем Господа всячески помогать ратникам, а если возникнет необходимость, то и взять в руки боевые топоры, ослопы и шестопёры. В кузницах их ковали денно и нощно.
Только 1 сентября Баториево войско начало деятельно готовиться к штурму: по берегу Великой за ночь был возведён довольно хорошо укреплённый стан. С рассветом прикатили в него туры, сделали осыпь и начали копать борозды к Покровским воротам. Верно, стало быть, русские воеводы определили главное направление удара. Иван Шуйский торопил псковичей спорей завершить строительство внутренней стены, хотя мужики и сами старались вовсю, но не забывали, что, ежели поспешить, можно и людей насмешить: от первого же ядра стена, не как должно возведённая, развалится. Кому нужна такая работа?
Ровно неделю готовилось войско Батория к штурму, и на рассвете 7 сентября более двадцати тяжёлых пушек ударили по стене между Покровскими и Свиными воротами. Сутки на прекращался обстрел, и не устояла в одном месте стена — образовался пролом, который усилиями польских пушкарей всё расширялся.
Стефан Баторий сам выехал к трём полкам, которым предстояло ринуться в пролом.
— Путь в город для героев открыт! На три дня он в вашей воле!
— Государь! — лихо выкрикнул тысяцкий жолнеров. — Мы будем с тобой обедать в замке Псковском!
— Верю. Вперёд!
Не остановил вдохновившихся скорой победой ляхов и венгров густой огонь пушек затинных, длинноствольных пищалей и рушниц с самострелами — через трупы своих собратьев стремительно неслись штурмующие к пролому, ворвались в него с малым трудом и сразу же устремились к надвратным вежам. Не ждали такого манёвра русские ратники, считали, что враги полезут на внутреннюю бревенчатую стену, и увы — прозевали они башни. Жаркая сеча разгорелась на ступенях, но вот уже взвились и над Покровской, и над Свиной башнями королевские флаги. В сводах перед воротами ещё продолжалась жаркая схватка, исход которой был явно предрешён: защитники ворот падут под натиском сотен, и тогда путь к городу станет куда как вольготней — штурмующие распахнут ворота.
Андрей Хворостинин начал спешно готовить вылазку, чтобы отбить вежи, но подскакавший к внутренней стене Иван Шуйский остановил его:
— Погоди. Взорвём башню Свиную. Пока отбивайся на внутренней стене.
Тяжеловато защитникам. Венгры и ляхи уже начали из бойниц башен стрелять по обороняющим внутреннюю стену, а на самою стену как муравьи лезут по приставным лестницам храбрецы, одни летят вниз с рассечёнными и размозжёнными головами, но их сменяют всё новые и новые жолнеры.
Иерей Тихон спешит с иконой святого Всеволода-Гавриила; за ним, тоже с иконами святых в руках — настоятель соборной церкви и настоятели приходских церквей. Не страшась смерти, они поднимаются на стену и становятся в ряды обороняющихся.
— Пора, — приказал князь Иван Шуйский стоявшему у стремени зелейного[58] дела мастеру псковитянину Любомиру. — Пора.
У того припасён факел. Спрыгнув с коня, чиркнул кресалом, высекая искры, подул на затлевший трут, запалил факел и — в лаз, специально прорытый под Свиную башню из-за внутренней стены.
Любомир сам укладывал мешки с порохом, им самим сработанный, сам свил шнур льняной, пропитав его смолой и обсыпав порохом. Длина шнура — несколько аршин. Рассчитано всё как раз на то время, за какое можно покинуть лаз, пока огонь по шнуру добежит до порохового заряда. Но чем ближе Любомир подползал к шнуру, тем больше его брало сомнение: вдруг что-то не сладится? Вдруг не добежит огонь до пороха? Он уже не принимал во внимание то, что не единожды испытывал фитиль, как называл он свой шнур, и ни разу не случилось оплошки.
Подполз к началу фитиля, поднёс было к нему факел, но — решительно:
«Двум смертям не бывать!»
Он вполне осознавал, как дорог для защитников Пскова каждый миг, ведь, если ляхам удастся отворить ворота, считай, городу конец, и не мог рисковать. Любомир торопливо полез вперёд к пороховому заряду и, перекрестившись, сунул факел в бок ближнего мешка.
Любил он мир, и жизнь любил, но без колебания отдал её. Ради своей любимой жены, ради детишек пригожих, ради дорогого ему города.
Псков! Никогда не забывай подвига Героя! А если забыл в сутолоке революций, войн и так называемой перестройки, воскреси теперь в памяти. Это нужно и ныне живущим и потомкам нашим!
Взлетела башня на воздух, расшвыривая кирпичи и разорванные трупы ворогов: немцев, венгров, ляхов. Пали вниз, вспыхнув факелами, и королевские знамёна, что особенно подействовало на атакующих: штурм внутренней стены заметно ослаб, а из Покровской башни захватившие её бежали без нажима обороняющихся, ибо немецкие и шотландские наёмники боялись, что взлетят в воздух, как их собратья. Русские же ратники обрели больше уверенности и, увлекаемые самим Андреем Хворостининым, начали вытеснять врагов за пределы пролома, когда же подоспели мечебитцы, снятые с других, менее опасных участков стены и резерв главного воеводы, нажим стал настолько упорным, что штурмующие дрогнули.
Баторий тоже выпустил свой резерв, но он не внёс решительного перелома, тем более что русские силы пополнялись спешившими на помощь ратникам псковитянами, вооружёнными боевыми топорами, тяжёлыми ослопами и шестопёрами, а иные даже мечами. Одно удалось Баторию: предотвратить паническое бегство своих полков. Пролома вороги уже не смогли вернуть себе. До самой темноты упрямо отбивались они, особенно бесстрашно сражались венгры, но русские мечебитцы и псковичи больше не пятились, хотя их было намного меньше.
Летописец свидетельствует: узнав, что стена очистилась от литовцев и что они бежали, оставив лёгкие пушки перед внутренней стеной, женщины Пскова поспешили перетащить эти орудия в Кремль, опутав верёвками. Женщины спешили за стены, где ратники и их мужья бились с ляхами и всякими иноземцами, чтобы напоить воинов, изнемогавших в жаркой рукопашке, несли им воду и сочо. Они же обихаживали раненых, а особо тяжёлых уносили за крепостную стену.
Наконец всё нерусское бежало, утверждает летописец. С трофеями и множеством пленных победители возвратились в город. Князь Иван Шуйский приветствовал их:
— Низкий поклон вам, храбрые вой! Пали сильные враги наши, а мы празднуем победу! Гордый Баторий унижен, мы вознеслись гордостью. Исполним же клятву, данную государю нашему и Господу Богу. Не дрогнем же и впредь. Продолжим исполнять клятвенный обет свой, данный нами без хитрости и лукавства.
Князь Иван Шуйский послал вестника к царю Ивану Грозному, велел лечить раненых за счёт казны государевой, а их оказалось более полторы тысячи; справить тризну по убитым (863 ратника и горожанина), придать земле силами пленников убитых врагов, коих легло около пяти тысяч, в числе которых знатный венгерский полководец Бенези, любимец Батория.
В ставке Батория — уныние. Сам король уединился в своём шатре и не хотел видеть своих воевод. Он действительно собирался обедать с ними и отличившимися героями в Псковском кремле.
Не вышло!
Можно было надеяться, что Баторий изменит свои планы, уведёт основное войско к Великому Новгороду, как и советовал ему изменник Давид Бельский, тем не менее князь Иван Шуйский велел с рассветом начать восстановление пролома и Свиной вежи. Работа должна была идти под руководством отцов города и в ней обязательно следовало участвовать укрывшимся за стенами крепости беженцам из окрестных городков и весей. Пленных тоже нагрузили работой.
Князь Шуйский так и приказал:
— День и ночь работать, сменяя уставших. Разбирайте палаты кремлёвские и дома каменные во всём городе — Баторий может повторить свой удар в самое ближайшее время.
Баторий и в самом деле не отступился. Уже на следующее утро, одолев огорчение, собрал он своих полководцев и объявил:
— Мы должны умереть или взять Псков. Несмотря ни на какие трудности. Если нужно, останемся до зимы. Готовьтесь к этому.
— Предложить Пскову сдаться, — посоветовал королю ясновельможный пан Замойский. — Начать переговоры, самим же готовиться к решительному удару, их убаюкивая. Прекратить надо разбивать стены, но начать подкопы, как сделал воевода Воротынский при взятии Казани. Но мы не два сделаем, а десятки. Взрывы одновременные — сколько проломов! Иди, захватывай Псков!
— Тебе идти с белым флагом.
Не по душе приказ ясновельможному пану: не привык он унижаться, нахмурился невольно, но Баторий повторил:
— Тебе. Именно — тебе. По знатности твоей.
Не помогла знатность. Ни Иван Шуйский, ни первые воеводы полков, ни даже вторые не поднялись на стену, чтобы выяснить, с каким словом подъехал к стене знатный лях. Поручили выйти к нему всего лишь сотнику, повелев:
— Проводи прочь, озлив.
Сотник, гордый столь важным доверием, осанисто встал меж зубцами стены и небрежно вопросил:
— Что, кишка тонка с мечом, лукавством хотите обмануть? Напрасно стараетесь.
Пурпурным стало лицо ясновельможного от такой наглости, едва не вырвалось: «Заткни глотку, псивец!» — только нельзя ему было тешить свою родовую гордость. Овладев собой, повелел, как привык повелевать дворне своей:
— Зови князя Шуйского!
— Эка, «зови». С девами тешатся все воеводы наши. Не до вас им теперь. Да и потом, по разумению моему, им до вас не будет дела. Разговор один: ваши сабли, наши мечи. Иного Бог не судил. Ворочайся, пан, к своему королю, — ответил сотник и повернулся спиной к делегации Батория.
Мечи гневные стрелы или не мечи, а возвращаться не солоно хлебавши придётся, а чтобы смягчить позор, нужно предложить Баторию ещё один ход: пустить стрелу чрез стену да предложить сдаться упрямцам.
Пока ехал пан до ставки, продумал текст послания: «Воеводы, ваше положение безвыходно. Знаете же, сколько захвачено мною в два года! Сдайтесь мирно: вам будет честь и льгота, какой не заслужите никогда от московского тирана, а народу льгота, неизвестная России, со всеми выгодами свободной торговли, некогда процветавшей в земле Псковской. Обычаи, достояния, Вера будут неприкосновенными. Моё слово — закон. В случае безумного упрямства смерть вам и народу!»
Стефан Баторий согласился с предложением Замойского, письмо было написано и стрелой переправлено за стену.
Князь Иван Шуйский, кому принесли послание Батория, поначалу хотел вообще оставить его без ответа, но посоветовавшись со всеми воеводами, изменил решение. Позвал писаря.
— Пиши: «Мы не предатели отечества. Не слушаем лести, не страшимся угроз. Иди на брань. Победа зависит от Бога».
Стрелу с этим ответом пустили на следующий день и стали ждать нового штурма. Но его всё нет и нет. Только тяжёлые пушки плюются ядрами с рассвета до заката. Благо дни всё короче и короче. Появляется больше времени для передышек. Ещё и окладные дожди в угоду: при дожде какая пальба? Порох опасно подмочить, тогда вовсе пушки умолкнут.
Но что настораживало и главного воеводу, и остальных воевод — не в одном месте собраны стенобитные пушки, а растянуты почитай вокруг всей стены — не кулаком бьют, а растопыренными пальцами. Отчего такая неразумность? Разве таким образом можно пробить стену?
А вот и туры выше стен подкатили на катках. На них — лёгкие пушки для стрельбы через стену по городу ядрами и огненосными зарядами. Тут уж совсем худо стало: разрушались дома и даже церкви, то тут, то там вспыхивали пожары — с таким мириться можно ли? Собрались воеводы думку думать, как лучше избавиться от такой напасти? Ясно конечно же всем, что только вылазки помогут. В них — единственная реальная возможность отогнать противников от стен. Но вопрос в том, одновременно на все туры ударить или поочерёдно?
И снова князь Андрей Хворостинин с умным словом:
— Тёмной ночью, а ещё ловчее дождливой, по сотне молодцов пустить на каждый тур. Бесшумно, если Бог благословит, порешить охрану, посбрасывать пушки вниз, а сами туры с Божьей помощью подпалить.
— Дело советуешь, воевода. С добавкой можно принять, — сразу же согласился князь Иван Шуйский. — По паре сотен держать в готовности к тихим вылазкам, а ещё изготовиться пушкарям и стрельцам, чтобы в случае чего встретить ляхов, если они очухаются и полезут за нашими вылазками к воротам.
— Само собой, — кивнул Хворостинин. — Без этого нельзя.
— Но мне не даёт покоя ещё одна мысль: отчего пушки и туры редко расставлены? Получается, если вдуматься, не собирается Баторий проламывать стену. Почему? Готовят лестницы? Но не слышно из леса стука молотков и топоров. Да и лазутчики, каких я посылаю постоянно за стены по тайному ходу, не извещают о лестницах.
— Скорее всего — подкопы. Думают взломать стены взрывами, — высказался князь Шуйский-Скопин. — Только ничего у них не получится: у тебя же, князь Иван Петрович, слухачи под всеми стенами сидят, сменяя друг дружку. Засекут.
— Докладывают: тихо.
— Стало быть, тихо. Начнут копать, не избегут шума. Шила в мешке не утаить.
Больше о подкопах не говорили. Начали обсуждать организацию тихих ночных вылазок, стараясь предусмотреть всё до мелочей.
Пару дней ушло на подготовку. Верёвки выбрали крепкие, устроив на концах петли: накинул без помех на ствол, конец — вниз, и — тащи. Легче так, чем сверху руками спихивать. И спорей. Мечи на акинаки сменили, засапожные ножи на оселках основательно подправили, хоть и без того они острые; но главное — огонь скорый. Бересты в русских печах насушили в полном достатке и порезали её на мелкие полоски, чтоб быстро загорелась. О сухости трута и о выборе кресал — особая забота. В общем, во всеоружии изготовились. И — с Богом.
В назначенную ночь одновременно открылись в воротах калитки, и татями выскользнули в темноту дети боярские с казаками, с касимовскими татарами. На сапогах у каждого — льняные чулки толстой вязки. Глушат они шаг, и без того тихий.
У всех куда как хорошо получилось, только одна сотня замешкалась, не совсем понятно почему. Вот ей туговато пришлось. Да и не смогла она полностью исполнить урок, хотя и повредила тур основательно. Получилось так: вспыхнули почти в одно и то же время все туры, а напротив Порховских ворот — заминка. Венгры, а они охраняли тур, встрепенулись, встретили наших ратников саблями — не по уму всё пошло, и тогда сотник командует:
— Горшки поджигай и бросай!
Смола и дёготь, смешанные с мелкой стружкой берёзовой коры, воспламенялись легко, и уже через миг-другой полетели на тур, вдогонку же им — мешочки с порохом, а наверху свой запас пороха. Он тоже рваться начал, сметая защитников тура вниз. На акинаки.
Неуклюже началось, но всё-таки ладом закончилось, и сотника не стали упрекать за задержку с выходом к туру. Доброе слово воеводы всем без исключения, а ещё — по гривне каждому, кто участвовал в уничтожении туров. Не только из казны, но и от зажиточных горожан, ибо опасность потерять дома свои исчезла — ядра через стены больше не летели.
А дня три спустя первый доклад от тех, кто бдил в слуховых лазах:
— Копают ляхи. Почти рядом с нашим продухом.
— Слава Богу.
Князь Иван Шуйский даже перекрестился. Он очень не любил оставаться в неведении о действии противника. Он верно считал, что поняв вражеские планы, можно принять упредительные меры.
Решение пришло сразу же.
— Не обнаруживайте себя. Пусть поглубже зароются. Тогда — можно будет порох подложить. Чтоб обвалить подкоп. Только не переусердствовать. Не случилось бы обвала стены.
Через некоторое время поступили доклады, что ещё в девяти местах под стены ведутся подкопы. Иван Шуйский велел первым воеводам полков, от каких выделялись слухачи, самолично озаботиться о том, чтобы не случилось подрыва стен.
— Узнали латыняне, как Михаил Воротынский, царство ему небесное, разрушил стены Казани, вот и используют его придумку против нас. Не дадим!
Ляхи копали только днём под шум стреляющих пушек (теперь стало понятно, отчего они вроде бы так бездумно расставлены), русские же ратники начали продвигаться к подкопам вражеским только ночами, и когда перемычки основательно истончались, закладывали заряды пороховые такой силы, чтобы только порушился свод у подкопа. Это, конечно, не лучшее действие, ибо обрушивался и сам продух, но иного выхода защитники крепости не находили.
Все девять подкопов приказали долго жить, стена же нигде даже не дала трещин.
Что же Баторий и его военачальники? Озлоблены, конечно, а легковерные (те, кто решил, что русским нечистая сила помогает) впали в уныние. На их настроение влияло и ненастье: холодные дожди и мокрый снег. Утрами подмораживало. Ко всему прочему, начались перебои с поставкой продовольствия, пороха и ядер. Всё ближайшие селения были разграблены, а в далёкие походы кормщиков за хлебом, мясом и крупами приходилось сопровождать значительными силами. На дорогах же из Польши и Литвы дерзко действовали специальные отряды русских конников, перехватывавшие обозы и с продовольствием, и припасами для пушек.
Одним из таких отрядов командовал отважный сотник Юрий Нечаев. После удачных набегов, отряд укрывался в пятидесяти вёрстах от Пскова, в древнем Печерском монастыре. Отряд, по сути дела, запер на массивный замок главную снабженческую дорогу войска Батория, и тот в конце концов с досадной помехой решил расправиться, чтобы не наступил голод и не привёл бы он к худым последствиям. Он направил к монастырю немцев наёмников во главе со славным победами военачальником Фаренсбахом. Приказ строгий: захватить монастырь и сровнять его с землёй.
Успех Фаренсбаха во многом улучшил бы положение осаждающих. Перво-наперво пошли бы обозы из Литвы беспрепятственно, а разграбление монастыря пополнило бы значительно казну и дало бы возможность полностью рассчитаться с наёмниками, которым Баторий основательно задолжал.
Но и здесь случилась неладность. Монастырь в самом начале шестнадцатого века был обновлён, и теперь его окружали добротные толстые каменные стены — не зря для пригляда за работами присылали из Москвы дьяка Мунехина. За стенами монастырскими были построены ещё и дома для детей боярских и стрельцов, чтобы они могли жить там вместе с семьями, неся воинскую службу. Теперь эти меры отозвались великим добром: Фаренсбах, подступив к монастырю, сразу понял, как трудно, вернее, совершенно невозможно взять его штурмом, и уж тем более с ходу, поэтому решил попытать счастья в переговорах, дабы перехитрить доверчивых, как он предполагал, богомольцев, честных и бесхитростных. Он выдвинул два условия:
— Не прячьте за стенами Божьей обители тех, кто льёт кровь христианскую, нарушая заветы Господа Бога нашего. Если вы выпустите на честный бой с нами ратников, а сами сдадитесь, никого мы не тронем пальцем. Не тронем и имущества вашего.
Сам настоятель монастыря поднялся для ответа на стену.
— Собрав воев у стен обители Господа Бога, ты, латынянин, глаголишь о заповедях Господних. Кто звал тебя на нашу землю? Ты пришёл лить кровь христианскую, винишь же нас. Изыди, сатана! Изыди! Не мы и теперь первыми поднимем мечи, а вы. Да рассудит нас Господь! Я благословляю монахов на рать с вами, сатанинским отродьем!
Наёмники начали штурм. Под монашескими рясами у всех чернецов и даже у игумена были кольчуги; монахи, подоткнув полы ряс под волосяные пояса, поплёвывали на руки и с кряканьем опускали мечи и шестопёры на головы тех, кто особенно высоко поднимался по лестницам. Ратники же, по просьбе монахов, не поднимались на стену до необходимости. А она и не возникла — справились сами монахи, ибо кроме ежедневных молитв и хозяйственных послушаний все они имели одно главное послушание — готовиться к защите монастыря-крепости от захвата его алчными ляхами, литовцами, но особенно псами-рыцарями. У монахов даже рушницы метко стреляли, разя штурмующих.
Отступил Фаренсбах, и уже тогда принял решение покинуть Батория.
Баторий же, встретив наёмников с нерадостной вестью, пошёл на отчаянный шаг, на повторение штурма Пскова, не видя больше никакого выхода из столь сложного положения. 28 октября он снова сосредоточил напротив Покровских и Свиных ворот тяжёлые пушки, и они начали канонаду. Под прикрытием их огня к восстановленному с великим трудом псковитянами пролому кинулись жолнеры с ломами и кирками. Вроде бы не замечая огня русских пушек, пищалей и рушниц, хотя и неся потери, враги неслись к стене сломя голову. Именно там они видели свою безопасность — под стеной их ничем не достанешь.
Добежала всё же основная масса врагов. Принялись они ломать стену.
Ничего не скажешь, добрая выдумка. Они и на самом деле почти неуязвимы. Только вылазка могла бы поправить положение, ибо бывший пролом, хотя псковитяне старались заделать его как можно лучше, всё же не мог быть таким же прочным, как монолитная стена. Под ударами ломов и кирок вываливаются кирпичи. А время идёт. Воеводы на вылазку не решаются, видя на берегу Великой готовое к ответному удару войско. Не ровен час, отступающей под напором превосходящих вылазки на спине сил, ворвётся ворог в крепость.
Безвыходное положение? Похоже. Но когда много голов ищут выход, он непременно находится. Самыми умными на этот раз оказались женщины — они без всякой команды принялись разжигать костры под котлами с водой и смолой, которые заранее приготовлены были. Прошло совсем немного времени и полились на головы разрушающих стену кипяток и кипящая смола, а следом посыпались и горшки с огненной смесью.
Ни один из тех, кто рушил стену, не остался живым. Хотя враги всё же успели проковырять небольшой лаз, и теперь пушки тяжёлыми ядрами начали его расширять. Вскоре полки Батория кинулись на штурм. Вначале, как и полагалось, стремительно неслись, выказывая бесстрашность, встреченные, однако, ядрами, дробосечным железом и пулями, замешкались — тогда сотники, тысяцкие и даже командиры полков возглавили штурм, увлекая примером мужества рядовых бойцов. Трудно и на сей раз пришлось бы обороняющимся, но случилось чудо: голова стрелецкий Фёдор Мясоедов, перекрывавший своим большим отрядом дороги из Польши, перехватывая на них обозы некоторое время назад, получил приказ главного воеводы прорваться в Псков, дабы дать отдых ратникам и пополнить свой запас огневого зелья для рушниц, чтобы затем с новой силой начать охоту за обозами из Польши. Вот этот большой отряд стрельцов подошёл справа по берегу Великой к польскому стану, чтобы дождаться ночи для прорыва в крепость, но услышал шум битвы и смело ударил в спину штурмующим. Наведя панику в стане противника, отряд благополучно вошёл в город через Покровские и Свиные ворота, прихватив с собой ещё и несколько сот пленных.
Осаждённые ликуют: так удачно отбита очередная попытка захватить крепость; в станах осаждающих — уныние. И есть отчего носы повесить и упасть духом: штурм не удался, стало быть, остались лишь в мечтах тёплое жильё, ратная добыча и, что особенно важно, продовольствие. В шатрах уже довольно холодно и к тому же — голодно. Да и одежда не по сезону. Полушубки, которыми можно было бы разжиться в городе, не стали бы лишними.
Ко всему прочему порох и ядра на исходе. Хочешь или нет, но пальбу по стенам крепости Баторий был вынужден прекращать. Нет и денег для жалованья не только дворянскому ополчению — эти могут потерпеть ради славы отечества, — но и наёмникам. Они не потерпят. Они уже начали роптать.
Подошло время, когда Баторий был вынужден распорядиться оставить укрепления вблизи стен города, снять пушки и активную осаду сменить тихой, рассчитанной на измор. Но для кого измор более выгоден? Город имел запасов на добрые полгода, а при малой экономии и того больше, войско же польского короля уже страдало и от холода, и от голода. Однако Баторий либо не хотел понять своего бедственного положения, дорожа данным войску словом взять Псков или умереть, либо, в самом деле, не понимал, чем ему грозит его упрямство?
Во вражеском войске начали гибнуть от голода и холода люди и лошади, командиры вынуждены были посылать кормщиков за сотни вёрст, но не всегда им сопутствовала удача, и вот наёмники, во главе с Фаренсбахом, не выдержав трудностей, покинули Батория. Это ещё больше ослабило вражескую рать, и князь Иван Шуйский решил, что пора нанести мощный удар по врагу, чтобы разбить его наголову. Он посылает приказы в Великий Новгород и Ржев, где стояли подчинённые ему росписью Разрядного приказ резервные полки.
Успех мог бы оказаться полным, не устояло бы сборное войско Батория перед совместными ударами защитников города и силами, подошедшими на подмогу. Однако такому хорошо продуманному плану не суждено было свершиться — гонцы, вернувшиеся из Великого Новгорода и Ржева, принесли возмутительную весть:
— Государь не велел воеводам идти к Пскову. Он приказал охранять Московскую дорогу.
— То есть себя, — чуть не вырвалось у князя Шуйского, но великим усилием он заставил себя промолчать.
Что держало в страхе Ивана Грозного? Успехи шведов, которые, идя по берегу Балтийского моря, захватывали город за городом, дошли даже до Иван-города и взяли его? Или направленный ко Ржеву малый отряд князя Радзивилла, который даже близко не подошёл к нему, узнав, что в городе большой отряд русской рати? Похоже, что так, ибо Иван Грозный спешно покинул Старицу и убрался под защиту крепких стен Александровской слободы. Как бы то ни было, но мощный удар, способный наголову разбить Батория и изгнать его из пределов Русской земли, так и не был нанесён. Из Александровской слободы царь выслал на переговоры со Стефаном Баторием князя Дмитрия Елецкого и печатника Романа Олферьева, дабы они во что бы то ни стало заключили с польским королём мир или хотя бы перемирие.
Между Опоками и Порховым в селе Башковичи ждал их посол Папы Римского иезуит Антоний Поссевин. Вместе с ним к встрече с русскими послами готовились воевода Януш Забаражский, маршалка князь Альбрехт Радзивилл и секретарь великого княжества Литовского Михайло Гарабурда.
Остальные уполномоченные Баторием на переговоры ожидали в деревне Киверова Гора в пятидесяти вёрстах от Запольского Яма. Сам же Баторий, оставив за себя воеводу Замойского, уехал в Варшаву. Свой отъезд он оправдал так:
— Еду с малой дружиной за новым великим войском.
Ропот прокатился по войску: бросил король на произвол судьбы, помирать от стужи и неминуемого голода. Призывы разъезжаться по домам громче звучали не только из рядов дворянской гвардии, не только из уст оставшихся наёмников — более всех шумели литовские ратники, за интересы которых во многом и началась война. Однако Замойский сумел убедить разношёрстное войско, что именно от его поведения во многом будет зависеть итог переговоров с Россией.
— Послы князя Ивана смотрят на нас во все глаза, и если мы дрогнем, они наплюют на наши требования. Ни Польша, ни Литва ничего не получат, а значит, вы все вернётесь домой без должной награды за свои воинские труды. Если же русские уступят нам хотя бы половину того, что требует от князя Ивана наш король Баторий, каждый из вас, если захочет, получит столько земли, сколько пожелает. С рабами ружанами.
Ради этого конечно же можно потерпеть ещё немного, тем более что сидеть в тихой осаде не рискованно для жизни. К тому же русская рать не начнёт активных боевых действий, это было понятно по тому, как развивались события в прежние месяцы, но ещё и потому, что рать эта не слишком противилась шведам, которые теснили русские полки в Эстонии, захватывая город за городом.
Куда как заманчиво предложение воеводы. Но не только слова Замойского взбодрили войско, а то, что пушки снова заговорили, принявшись долбить стены. Начали готовиться и туры (неделя на это отводилась), чтобы обстреливать город через стены. Началась подготовка к штурму.
Замойский же, принимая поднимающие дух войска меры, хорошо понимал, что воевода Иван Шуйский, который являлся душой обороны Пскова, может принять свои меры, какие сведут на нет все усилия осаждающих крепость. Поэтому и решился пойти на коварство, подготовив покушение. Гнусное. Не достойное честного воина. Ночью к Новгородским воротам пробрался перебежчик, от имени тех, кто не покинул Батория вместе с Фаренсбахом, он сообщил, что готов переметнуться на службу к русскому царю, встав под руку знатного воеводы князя Шуйского. Так во всяком случае пояснил перебежчик.
— Наш командир предложил нам встать под твою руку, воевода. Вот его послание и залог твёрдого слова.
Перебежчик передал Шуйскому письмо и довольно большой ларец. Шуйский принял и то другое, но начал с письма, пересилив любопытство и желание узнать, что же в ларце. Письмо вроде бы искреннее:
«Я много лет с Фаренсбахом служил царю Ивану Васильевичу и ничего, кроме доброго отношения к себе, от него не видел. Всегда своевременно и полностью платили обговорённую сумму за нашу службу, не как у Батория. Ни уважения, ни денег, поэтому я хочу вернуться на службу к царю русскому и привести с собой до двух тысяч умелых и честных воинов. В доказательство своего искреннего желания посылаю всю свою казну. Как залог. Открыв ларец, убедишься в этом».
Перебежчик подтвердил, что провожая его, командир Миллер просил передать, что все немцы наёмники согласны покинуть Батория и встать в ряды защитников крепости, ибо Баторий не исполняет договора, а теперь ещё и бросил их на страдание и лишения без денег.
Перестарался, однако, посланник, виня Батория в несостоятельности. Откуда тогда взялся полный золота ларец? Такое сомнение возникло у телохранителей главного воеводы, и князь Шуйский, к счастью, не отмахнулся от их предупреждения. Позвали нескольких ремесленников, умелых в обращении с зарядами коварными, те осторожно открыли ларец и показали воеводам:
— Открой князь ларец без осторожности, высеченная при этом искра воспламенила бы порох, а он смешан с дробью. Всех, кто оказался бы рядом, посекло.
Перебежчик рот открыл от увиденного, и тут же лицо его побагровело от злости, а глаза сверкнули гневом: его нагло обманули! Он должен был погибнуть вместе с князем Шуйским! И он заговорил:
— Я поверил Миллеру. Но он поступил со мной подло. А перед тем как послать меня к вам, коварный Миллер долгое время находился в шатре Замойского. Я не придал этому никакого значения. Теперь вот понял: подлое покушение готовилось по приказу Замойского.
— Ну что? Попытаем, где истина? — спросил Ивана Петровича князь Шуйский-Скопин, глядя на главного воеводу, тот же, подумав немного, предложил иное:
— Всё зависит от самого посланца Миллера. Расскажет без утайки, что происходит в войске Батория, отпустим с письмом к Замойскому, начнёт лукавить хотя бы чуточку, станем пытать.
При самом перебежчике вёлся обмен мнениями, и тот вскинул руки к небу:
— Клянусь Девой Марией говорить всё без утайки, о чём спросите и что я знаю. — И перекрестился ребром ладони. Не перстом. Но какой спрос с латынянина.
Всё, о чём рассказывал дальше невольный исполнитель коварного замысла Замойского, полностью совпадало с имевшимися у воевод сведениями, и только два факта были неизвестны и оказались очень важными и своевременными: Замойский намечает штурм. Скорее всего — ночной. Лестницы уже почти готовы. А почему ночной? С одной стороны, чтобы ударить неожиданно, с другой — не показать малочисленность войска, оставшегося под Псковом.
— Я слышал: двадцать шесть тысяч. Сам не считал, конечно, но то, что нас осталось не больше трети от того войска, какое привёл Баторий, так в этом я уверен, — твёрдо сказал перебежчик.
Наёмника отпустили с предложением князя Ивана Шуйского Замойскому не прибегать к коварству, а встретиться на поединке в честном бою. Предлагал Шуйский то же самое, что когда-то Баторий Ивану Грозному, но тогда царь отказался. Отказался теперь и Замойский. Иного, если говорить положа руку на сердце, Иван Шуйский и не ожидал. Как только проводили за ворота перебежчика, невольно втянутого в коварство, позорящего честь любого честного воина, князь Иван Шуйский собрал воевод полков на совет.
— Станем готовить вылазку. Не малую, какие мы делали в последнее время, а более мощную. Несколько полков выпустим. Вместе с ними пойдём на вылазку и мы все. В крепости останется только князь Василий Шуйский-Скопин с одним своим полком. Нам предстоит ударить так, чтобы услышали удар в Запольском Яме. О нашей победе чтобы услышали. Это послам нашего государя очень поможет на переговорах одолеть упрямство ляхов и литовцев.
— Может, отбив нападение ночное, погнать ворогов? — предложил Овчина-Плещеев. — Ловко может получиться.
Действительно, вроде бы заманчиво, только все остальные воеводы не согласились со своим товарищем — высказались за действие на опережение, предлагали ударить обязательно, пока туры ещё не установлены, пока они не стали большой помехой.
Единодушие проявилось и в том, в какое время начинать вылазку. Сошлись безоговорочно на мнении главного воеводы, утверждавшего, что самое подходящее время — послеобеденное. Ни ночью, ни на рассвете не удастся бесшумно и татями подойти к главному стану вражеского войска — снег-предатель выдаст. Да и охрана на стороже в это время. А вот во второй половине дня всегда наступает расслабленность. В любом войске. Неожиданность, хотя и не на долгое время, обеспечена. Враг быстро придёт в себя, но это уже ничего не изменит, ибо главная задача вылазки не свемная сеча, а дерзкий короткий удар. До темноты вполне хватит времени, чтобы изрядно посечь врагов, сжечь, сколько удастся, шатров, взорвать запасы пороха.
К месту его хранения, известного воеводам, был направлен специальный отряд. Взрыв пороха — сигнал для атаки главного стана.
Очень удачно прошла вылазка. День выдался ненастным. Всю ночь мела метель, не прекратилась она и днём. Ляхи и литовцы, в какой-то мере привычные к такой погоде, и то долго находиться под открытым небом остерегались, а венгры, и особенно шотландцы, носа не высовывали из шатров. У них уже случалось, что часовые замерзали на снежном ветру, поэтому они старались не рисковать, надеясь на бдительность ляхов и литовцев, выставивших охрану. Да к тому же они считали, что вряд ли кто рискнёт предпринять какие-либо действия в такую мерзкую погоду. Они завидовали русским воинам, которые в непогодь уютно чувствуют себя в натопленных домах и злились на них за их упорное сопротивление.
И вдруг озябшую нахохленность вражеских станов, не только главного, взметнул мощный взрыв пороха, гром от которого услышали в самых отдалённых станах.
— Что?! Что случилось?! — спрашивали друг у друга встревоженные ратники, словно кто-то из них мог ответить на подобные вопросы.
А командиры уже кричали:
— Облачайся в доспехи!
Мало кому удалось выполнить приказ: противник стремительней метели налетел на главный стан со всех сторон. Самому Замойскому едва удалось вырваться из кровопролитной вакханалии.
Другие полковые станы, не получив никакой команды, на помощь главному стану не спешили — они долгое время даже не знали о нападении на него. Они только приняли меры для своей обороны. На всякий случай.
Хозяйничала вылазка во вражеском стане короткое время, побив во множестве не только рядовых воинов, но и видных военачальников, обогатившись крупными воинскими трофеями, почти без потерь возвратилась в город. Со знаменем самого Замойского.
То была сорок шестая и самая удачная вылазка. Увы, она оказалась последней. Ещё бы пару таких вылазок, и враг бы побежал, побросав всё, в пределы своих стран. Но иначе развернулись события.
Замойский не замедлил известить о крупном уроне главного переговорщика, ясновельможного пана Забаражского, который по поручению короля вёл переговоры с послами царя Ивана Васильевича князем Елецким и печатником Алферьевым. Замойский сообщил, что войско под Псковом держится из последних сил, и просил ускорить заключение мира или перемирия, если нет охоты потерять всё. Забаражский принял эту просьбу с должным пониманием и готов был уменьшить аппетиты, отказавшись от ряда требований, на которых настаивал Баторий; он так и объявил своим помощникам:
— Уступив малое, не потеряем всего. Нам нужно спешить с окончанием переговоров.
Все согласно закивали. Даже представители Литвы, но тут заговорил иезуит Антоний:
— Мне доподлинно известно, что Московский князь Иван велел своим послам не возвращаться в Москву без подписанного договора о мире или перемирии. Они ни в коей мере не ослушаются.
— Но обстоятельства изменились. Наши войска на пороге полного разгрома. Даже без помощи других воевод, какие отчего-то не идут помогать князю Шуйскому, он вынудит наших воинов прекратить осаду Пскова, — возразил Антонию Забаражский. — Извещены непременно русские послы о позорной для нас схватке, потери от которой окончательно похоронили боевой дух нашего некогда доблестного войска.
— Знать они — знают, но не возьмут во внимание это позорное для нас событие, — стоял на своём Поссевин. — Я даю слово повлиять на них со своей стороны.
— И всё же, считаю, без малых уступок они не согласятся на мир.
— Скорее всего — да. Верните им захваченные в этой кампании Баторием города и их земли, думаю, это вполне устроит послов. Я обещаю добиться их согласия.
Антоний и впрямь расстарался. Он хвалил мужество и воеводское умение Батория, говорил, что ему известно, что тот собрал войско больше прежнего и ещё лучше оснащённое, что он со дня на день выступит с ним, и тогда Псков падёт, а следом падут Великий Новгород со Смоленском. Таким образом, дорога на Москву будет открыта, Россия станет вотчиной польского короля. Не станут дремать и шведы.
— Всё это очень плохо для России, не менее плохо и для вас лично: вы лишитесь голов, испытав при этом все прелести пыточных камер. Я знаю царя Ивана Васильевича не хуже вас, поэтому так откровенно говорю с вами. И ещё хочу предупредить: если договор нами не будет подписан, я буду вынужден Поведать вашему царю о вашем упрямстве, ибо я тоже не волен не исполнить воли Папы Римского, который послал меня сюда, чтобы помирить безмерно льющих христианскую кровь.
Послы и без того знали, что ждёт их в Кремле или в Александровской слободе, если они возвратятся туда без подписанного договора, а угроза Поссевина окончательно лишила их воли к сопротивлению наглым требования уполномоченных Батория. Антоний между тем усиливал нажим:
— Мала ли уступка польского короля? Он уступает царю Ивану Великие Луки, Заволочье, Невель, Холм, Себеж, Остров, Красный, Изборск, Гдов и все пригороды псковские. Важность такой уступки велика. Вы же сами хотели всё это уступить ради сохранения Дерпта. При моём содействии Баторий пошёл на уступки. Под моим нажимом от имени Папы Римского, — без стыда и совести превозносил свою роль в переговорах Антоний, якобы озаботившийся интересами России. — Теперь я честно смогу доложить понтифику о своей успешной миссии. Мир в христианском мире восстановится.
Согласны ли были с Антонием Елецкий и Алферьев, трудно сказать, но не их вина в том, что они приняли иезуитский совет и на условиях противоположной стороны поспешили закончить переговоры в январе 1562 года. Они не посмели действовать самостоятельно, исходя из благоприятной для России обстановки — безоглядно исполняли волю Ивана Грозного, отчего-то потерявшего способность отвечать ударом на удары врагов.
Договор был подписан на десятилетнее перемирие.
Полумёртвый стан вражеский ожил. Радость захватчиков неописуемая. Защитники же Пскова встретили вести о замирении более чем сдержанно. Они верно оценивали свой подвиг и могли только удивляться, отчего плоды их самоотверженности и героизма оказались столь плачевными.
Замойский звал к себе на пир русских воевод, князь Иван Петрович, отпустив к нему младших своих соратников, сам не поехал. Он не хотел веселиться. Он недоумевал, как можно в один миг отдать алчным всё, чего Россия добилась за многие десятилетия огромными усилиями и изрядной кровью. Ведь в такой поспешности не было никакой вынужденной необходимости. На ладан дышало войско Батория, и только лишь одним мощным ударом можно было разнести в пух и прах сборище наёмников и жадных до чужой земли ляхов — очистилась бы земля отчичей от захватчиков, да и на многие годы зареклись бы алчные ляхи начинать захватническую войну.
А вышло как? Уже почти разбитый Баторий снискал славу победителя. Почему?
Не поехал к Замойскому Иван Шуйский ещё и потому, что не мог простить тому его коварства.
Времени бездельного много, и Шуйский принялся осмысливать случившийся позор, пытаясь хоть как-то понять действия государя Ивана Грозного, однако это у него никак не получалось: четверть века шаг за шагом Москва отбивала нагло и с обманом захваченные исконно русские земли. Литва и ляхи начали занимать один за другим города, вроде бы ради освобождения их от монгольского ига, и сами русские им помогали в этом. Верили клятвенному обещанию, что как только Россия освободится от монгольского владычества, тут же всё будет возвращено. Благодарили даже добрых соседей Литву и Польшу за участие в нелёгкой судьбе, какую предопределил Господь за грехи тяжкие.
Настал срок, и Россия сбросила тяжёлый хомут с выи своей, но ни Литва, ни Польша не поспешили исполнить клятвенные обещания. Они показали России большой кукиш. Тогда Иван Третий Великий поставил перед собой цель: отбить у алчных и коварных соседей своё, исконное. Много успел сделать. Сын его продолжил начатое, и тоже не без успеха. Но больше всех одержал побед внук Ивана Третьего, Иван Четвёртый. Почти всё вернул. Кроме Киева. Знатно били поляков, шведов, псов-рыцарей, и вдруг всё отдано изнурённым остаткам разноплеменного войска Батория. К тому же ничего не сделано, дабы остановить нашествие шведов. До Водьской пятины Великого Новгорода они дошли, захватив добрые крепости на Неве — Усть-Нево и Орешек.
А в Ливонии, которая более шестисот лет была владением великих князей Киевских, а затем и Владимирских, которой повелевал Владимир Святославович и где при Ярославе Мудром строились крепости, где славяноруссы жили, как и в центральных областях России, вдруг началась передача городов, обильно орошённых кровью русских ратников.
Одно утешало князя Ивана Шуйского: защитники Пскова не только город отстояли, но и спасли Россию от ещё больших потерь. Захватив Псков, Баторий не успокоился бы овладением Ливонии, обязательно взял бы и Великий Новгород, и Смоленск, не оставил бы России ни пяди земли Северской. И всё же гордость за свершённое, благодарность воеводам, детям боярским, казакам, мечебитцам и обычным псковитянам не принесли полного удовлетворения: он не мог согласиться с потерянными возможностями и выгодами, которые были достигнуты благодаря мужеству подчинённой ему рати и самопожертвованию жителей Пскова. Всех, от мала до велика. Мужчин и женщин.
Ему, ко всему прочему, ещё предстояло ехать с Замойским в Ливонию, чтобы передавать тому города, но князь сказался больным, а верный его лекарь представил болезнь такой тяжёлой, едва не смертельной, и утверждал, что бороться с ней нужно долгим лечением.
Иван Грозный, однако, остался недоволен Иваном Шуйским, поняв, видимо, его хитрость, велел ехать в Москву. Но и эту волю самодержца герой Пскова не исполнил поспешно, понимая, что для сумасбродного сатрапа нет ничего святого, и вновь сослался на сильный недуг.
Промедление это спасло князя Шуйского от пыточной и бесславной смерти от топора палача. Вскоре до Пскова дошли слухи, что Иван Грозный окончил дни свои земные, вот только тогда Иван Петрович неспешно тронулся в Москву. С собой взял всего лишь полусотню из своей дружины, остальным ратникам велел ехать спустя несколько дней в его вотчину. Из путных слуг взял тоже малое число — только дюжину. О своём отъезде князь никого не предупредил, но, видимо, тайной он не остался, и в Похрове Шуйского, испытавшего искреннее чувство гордости, встретили колокольным звоном, жители ликовали, все поголовно высыпали из своих домов. Потом были Великие Луки, где гостеприимно горожане чествовали его более недели. Следом — Ржев и Волоколамск. Везде — почестные пиры и торжественные службы в храмах — это тешило его родовую гордость, но и беспокоило: как отнесётся к таким торжественным встречам наследник престола Фёдор Иванович? Иван Грозный жестоко расправлялся и с теми, кого встречали вот с таким торжеством, и с теми, кто встречал. Грозный был твёрд: только ему почёт, только ему слава, любой успех рабов его не их заслуга, а его, самодержца. Вот когда неудача, тогда вся вина на нерадивых рабах.
На выезде из Волоколамска Шуйского встретил вестник от дьяка Разрядного приказа и — с поклоном.
— Ведомо тебе, воевода славный, что почил в бозе государь наш Иван Васильевич, земля ему пухом, но неведома духовная его. По завещанию покойного, ты — член Верховной боярской думы, дабы опекать царя Фёдора Ивановича и решать купно дела как воинские, так и державные. Мне велено передать тебе, чтобы ты поспешил в Кремль.
Так и хотелось возразить, какой Грозному «пух»? В кромешном аду ему место меж жерновами, медленно вращающимися. Одних Шуйских сколько загубил?! А иных, тоже ведущих род от корня великого князя Киевского Владимира, скольких жизни лишил? Но не с дьяком же подобный разговор вести — он принёс столь важное известие, которое позволяет больше не опасаться кары самовластца, а думать о своём деятельном участии в Верховной думе. Он — один из опекунов нового царя. Величайшее доверие. Велик и спрос. Это тебе не город с крепкими стенами оборонять. На плечах — великая держава раздерганная и униженная.
Спросил почти буднично:
— Сколько верховников на опекунство?
— Счетно.
Или не знает, что маловероятно, или не хочет говорить? Отчего?
Не вдруг князь Шуйский поймёт, почему не назвал посланец дьяка Разрядного приказа всех верховников. Только через несколько дней после приезда в Москву, когда Шуйские соберутся на свою родовую трапезу. До того времени ему будет недосуг ни о чём думать. Едва он въехал в Скородом со стороны Тушино, как залилась в захлебистой радости звонница приходской церкви, и сразу же улицы заполнились людьми. Женщины даже с грудными младенцами на руках. А чем дальше князь углублялся в город, тем больше церквей вплетали свой звон в общий, когда же он со своим малым отрядом достиг Китай-города, над стольным градом вроде бы нависла плотная туча из торжественных колокольных звуков, свитых воедино.
Особенно же радостно на душе стало, когда вплели свой голос в торжественный перезвон кремлёвские храмы.
Воротники на Фроловских воротах вскинули вверх обнажённые мечи и троекратно прокричали:
— Слава! Слава! Слава!
Да так слаженно, будто основательно готовились к встрече героев.
Отпустив дружинников и путных слуг в свой кремлёвский дом, с одним только стремянным князь Иван Шуйский направил коня к красному крыльцу царёва дворца; но ещё при въезде на Соборную площадь увидел царя Фёдора Ивановича, спускавшегося по его ступеням — Шуйского как ветром сдуло с седла, и он чётким размеренным шагом пошагал навстречу царю, полнясь гордостью от столь высокой чести.
Вид Фёдора Ивановича, уже венчанного на царство, удручающе подействовал на закалённого в рати воеводу. Он и прежде с жалостью смотрел на царевича Фёдора, когда тот появлялся в Думной палате, или как её называли — Большой тронной. Словно тень прозрачная семенил Фёдор за отцом, гордо шагавшим, и за старшим братом, под стать отцу горделивым, с царственной осанкой. Но то была обыкновенная жалость к человеку, обделённому Богом, теперь же этот человечек — царь державный всей великой России.
Вспомнились Ивану Шуйскому слова Грозного, когда оплакивал тот своего старшего сына-наследника. В горе безутешном проговорился государь: Фёдору не царствовать бы, а поститься и проводить время в молитвах в келье монастырской. В самом деле, с красного крыльца спускался не самовластный государь, а малорослый богомолец, дряблый телом и с постным, ничего не выражавшим лицом, к тому же не велелепным.
А рядом с Фёдором — Годунов. Царственно величественный.
Князь Иван Шуйский поклонился, коснувшись пальцами каменных плит, собрался было докладывать о своих победных делах, но царь Фёдор Иванович опередил его:
— Благословляю тебя боярином Верховной боярской думы. Жалую всеми доходами Пскова, города, который ты с Божьей помощью отстоял для России. Отдохни с дороги в семье своей, завтра — торжественная служба и почестной пир.
Царь Фёдор ещё раз перекрестился сам и перекрестил Шуйского, словно митрополит, и смиренно попросил:
— Поспеши к семье своей.
Но последнее слово оказалось за Борисом Годуновым.
— Долго не придётся нежиться, — мягко добавил он. — Послезавтра — Верховная боярская дума. Второе собрание. Дел хоть отбавляй.
Князь Шуйский ещё в Пскове, а затем и по дороге в Москву слышал, что Борис Годунов, выдав за Фёдора Ивановича свою сестру, начал всё более проявлять властность и будто бы лип к трону Ивана Грозного; но тогда Шуйский воспринимал подобные разговоры как сплетни, идущие из Москвы от завистников, теперь же явные указания Годунова при самом царе сказали ему о многом.
«Ишь ты! Вроде бы он — царь, а Фёдор при нём».
Спустя несколько дней, когда миновали торжественные пиршества и долгие благодарственные службы Всевышнему в Успенском соборе, в теремном дворце князя Ивана Петровича собрались все князья Шуйские, какие находились в Москве. Перед трапезой — серьёзный разговор. Вначале о Богдане Бельском, сосланном, как справедливо считали Шуйские, Борисом Годуновым в Нижний. Вывод единый:
— Лиха беда — начало.
Естественно, самого Бельского они нисколько не жалели, ибо слишком много было крови боярской и княжеской на руках верного помощника Малюты Скуратова и продолжателя его изуверства. Шуйские опасались, что и до них дотянется рука Бориса Годунова, который всё уверенней обретает единоличную власть, подмяв под себя слабоумного царя.
— Есть нужда подумать нам о себе. Опережая Годунова, действовать.
— Может, стоит немного погодить, — не согласился с общим мнением гостей князь Иван Шуйский. — Нужно время, чтобы понять, что к чему.
— Не припозднимся ли?
— Станем зорко следить за Годуновым. Наотмашь ударим, если потребуется.
На этом и остановились. Хотя почти у каждого остались сомнения в верности принятого решения.
Вполне оправданное сомнение. Но отчего-то не учтённое. Спохватятся князья, но лишь потом, и пожалеют, что не приняли во внимание предчувствия недоброго. Однако попробуй укусить локоть, хотя он и близко.
Первый тревожный удар набатного колокола прозвучал совсем скоро: Годунов, обвинив не ставших ему послушными верховников в заговоре против него, расправился с ними. Только князя Ивана Петровича Шуйского не посмел тронуть — возмутился бы люд московский, встал бы на защиту героя. Нужно было повременить, пусть немного уляжется слава воеводская. Так, во всяком случае, оценили действия Годунова Шуйские, услышав тот набат. Снова собрались на совет. На сей раз у князя Василия Шуйского-Скопина.
Вновь разномыслие. Иван Петрович предлагал ещё какое-то время переждать, ибо Годунов имеет, по его оценкам, державный ум и верный взял стриг, опекая царя Фёдора.
— Мы возносили бы его, будь он законным наследником престола, теперь же любые его начинания, любые действия даже во благо отечества осуждаем. А таких дел он начал много, и не стоит мешать ему в их исполнении. Не зависть ли руководит нашими мыслями? Не родовая ли спесивость? Да, наш род должен править Россией. Шуйские — одни из крупнейших ветвей древа Владимирова. Это — истина. Но пока не судил Бог. Если у Фёдора не будет детей, и тут мы в стороне: наследник есть. Дмитрий.
— Уберёт его Годунов. Как пить дать — уберёт.
— Вот тогда мы сможем сказать своё слово. Самый достойный из нас, Шуйских, будет венчан на престол. Так должно быть. Так будет!
— Верное слово. Но к тому дню стоит готовиться загодя. Начиная с нынешнего, — твёрдо высказал своё мнение хозяин дома. — Если отложим на завтра, даже к шапочному разбору не успеем.
С этим согласились все и тут же начали обсуждать, кого взять в союзники. (Даже не могли собравшиеся подумать, что каждое их слово станет завтра же известно Тайному дьяку, а через него — Борису Годунову).
— Митрополит Дионисий не расположен к Годунову. С него и стоит начинать. Вместе с ним ударим челом царю Фёдору Ивановичу, пусть разводится с Ириной бесплодной, ибо Годунов силён сестрой своей.
— Весьма разумный ход. Ещё на Думе станем перечить каждому слову Годунова. Нас, Шуйских, много в Думе. Присоединим к себе князей Татевых, Урусовых, Колычевых и ещё кого удастся настроить против властолюбца наглеца.
— Купечество тебе, князь Иван Петрович, вокруг себя плотить. Ты в чести у них, как и у всех москвичей.
Закрутился маховик заговора.
Копились письменные требования купцов, дьяков, подьячих, воевод, детей боярских и стрельцов от имени России многострадальной ударить челом царю Фёдору Ивановичу, просить его о разводе с супругой-государыней Ириной. Обобщённое письмо, с приложением всех остальных, было вскоре подготовлено, и митрополит согласился идти к царю вместе с князьями Андреем Ивановичем и Иваном Петровичем Шуйскими с так называемыми всенародными требованиями. Выбрали для Фёдора и невесту — княжну Мстиславскую, сестру князя Фёдора Ивановича Мстиславского, отец которых, низверженный Годуновым, отдал Богу душу в Белоозёрском монастыре.
Годунов знал через Тайного дьяка о готовившемся по нему ударе и в самый критический момент принял довольно разумные меры: он не поспешил к царю с сообщением о заговоре и с просьбой дать разрешение расправиться с заговорщиками, что ему обязательно было бы дозволено, ибо Фёдор Иванович очень любил Ирину — Годунов пошёл к митрополиту с покаянием. Вроде бы на исповедь.
Долгим получилось покаяние. Ни о какой исповеди не зашло и речи, Годунов начёт говорить с митрополитом о заговорщиках так умело, словно не обвинял Геронтия в потакательстве им, а предупреждал его, что они могут обратиться к нему с просьбой о поддержке, убеждал святителя, что развод венчанных в храме Божьем, есть великий грех. Особенно если муж и жена, как голубки воркующие.
— Не смертельный ли грех разорять такое тёплое гнездо?
— Но у них нет наследника. Пресечётся род царский. Род Даниловичей.
— Как нет? Дмитрий в Угличе. В завещании, в святая святых, чёрным по белому записано: при отсутствии детей у Фёдора Ивановича трон наследует царевич Дмитрий. Опасения нет никакого. Дело в ином: Шуйские рвутся к трону. Не от них ли угроза роду Даниловичей на троне?
Сумел в конце концов Борис Годунов убедить митрополита не идти с князьями Шуйскими к государю, но митрополит потребовал от Годунова твёрдого слова, клятвы на Библии и на кресте животворящем, что не будет никакого гонения ни на Шуйских, ни на тех, кого они соблазнили.
— Клянусь! — поцеловав крест и положив руку на Священное Писание, горячо заверил Борис Годунов, — не мстить главным виновникам кова, ни иным его участникам!
Дионисий пообещал от себя и от Шуйских не продолжать начатое, Борис же Годунов попросил:
— Помири, владыка, меня с ними. Это посильно тебе. И государь Фёдор Иванович останется доволен. Я смогу замолвить нужное слово в нужное время.
Моментально разнёсся слух по Кремлю, а следом и по всей Москве, что Шуйские с митрополитом не пойдут бить челом государю о его разводе с неплодной Ириной и что митрополит обязался помирить Шуйских с Годуновым, великим боярином и конюшим. В Кремль на Соборную площадь начали собираться не только те, кто шагал в ногу с Шуйскими, но и просто любопытные. Их тоже волновало, кто на троне и кто наследует его.
(Тогда даже серые людишки не были так далеки от власти, как сегодняшняя интеллигенция).
Непримиримые враги с внешней пристойностью сошлись в палате митрополита — он долго и внушительно разъяснял, словно деткам малым, сколь важно согласие среди слуг царёвых (он и словом не обмолвился о слабоумии Фёдора Ивановича, но все поняли, о чём речь), говорил об необходимости бояр не тешить свою гордыню, а впрягаться в единый державный воз, ибо ослабление страны в распрях у трона ещё сильнее вдохновит алчных соседей с юга и запада напасть на неё — первым, как казалось, дрогнул Борис Годунов, а за ним Иван Шуйский: они подали друг другу руки. Как верховники.
Обрадованный митрополит Дионисий благословил это рукопожатие и попросил всех последовать благоразумному примеру.
— Поклянитесь жить в любви и братстве, искренне доброхотствовать друг другу, вместе радеть о государстве и Вере. Молю вас и благословляю.
Исполнили Шуйские и Годунов мольбу Дионисия, поклялись не замышлять взаимные ковы, и тогда митрополит предложил Ивану Шуйскому:
— Тебе нынче более всего доверяют беспокойные москвичи, объяви им о вашем клятвенном заверении. На слова из уст твоих они не посмеют недовольничать.
Дионисий поступил мудро: люд московский, подстрекаемый Шуйскими и их сторонниками, готов был потребовать выдачи Годунова головой, и выйди к ним первым он или кто-либо другой, даже из Шуйских, не миновать бы бунта. Когда же о замирении известил герой Пскова, спаситель России, Соборная площадь ответила лишь глухим молчанием. Только пара купцов, выступив из толпы, сокрушённо покачав головами, упрекнула князя Ивана:
— Князь Иван Петрович, без взгляда вперёд вы поступаете, — сказал своё слово пожилой осанистый бородач, а более молодой купец, перекрестившись, добавил:
— Нашими головами вы помирились с Годуновым. И вам, да и нам всем будет худо от властелина не нашего роду-племени.
В ту же ночь смелых купцов увезли из Москвы, и они исчезли. Но об этом князь Иван Шуйский так и не узнает.
Другие, однако, злодейства Борис Годунов не мог или не хотел скрывать. Первой попала под безжалостный жёрнов властолюбца юная красавица княжна Мстиславская, как опасная соперница Ирине Годуновой — княжну силком постригли в монахини. Возмутило это до глубины души Шуйских, и они в третий раз собрались решать, как ответить Годунову на его коварное отступление от клятвы. На сей раз устроились в доме князя Андрея Ивановича, одного из умнейших и деятельных князей среди Шуйских.
Разговор серьёзный и долгий, к несчастью для собравшихся, твёрдо запомнил кравчий князя Андрея, соглядатай Тайного дьяка. Князья не таились, не опасаясь предательства, горячились в трапезной за пиршеским столом.
На этот раз даже князь Иван Петрович твёрдо заявил:
— Прежде я призывал вас повременить, приглядеться, теперь же даю слово: я — один из его непримиримых супротивников.
На следующий день Тайный дьяк вместе с Годуновым, выслушав кравчего князя Андрея Шуйского, попросили его изложить всё услышанное на той вечере письменно и даже кое в чём пособили ему, чтобы донос выглядел более убедительным. А чтобы кравчий не пожелал ни за какие коврижки отказаться от своего же показания, Борис Годунов твёрдо пообещал ему, что в ближайшие дни войдёт он в число избранных дворян, добавив:
— Если и впредь станешь жить с пониманием, получишь добрый чин в одном из приказов. И земли более установленной меры для дворян избранных.
Кому такое опричь души, если ещё и душа не слишком светлая и не очень разборчивая в выборе?
Не ведали Шуйские обо всём этом, не готовились к скорому решительному удару Годунова, а он не терял времени, действуя хитро и наверняка. Он не сам сообщил царю Фёдору Ивановичу о заговоре, а послал впереди себя Тайного дьяка. Чтобы даже тень не упала на него самого.
Фёдор Иванович с явным испугом слушал донос, то и дело крестясь и со вздохом прерывая Тайного дьяка:
— Разве такое могут замышлять христиане? Господи, вразуми их, грешных, по неразумности своей готовящих зло.
Когда же дослушал царь всё до конца, попросил — именно попросил — смиренно:
— Оставь бумагу. В молитвах к Господу Богу я пойму, Божий ли промысел движет Шуйскими или они искушаемы самим дьяволом?
Не в молитвах на самом деле он станет искать решение, а в совете Бориса Годунова. И тот появился в самое нужное время. Фёдор Иванович — к нему с просьбой:
— Почитай, что Тайный дьяк принёс.
Годунов сделал вид, что внимательно вчитывается в донос, то и дело возмущённо восклицая, словно бы всё для него внове. Закончив, задумался. Да так долго молчал, будто не было у него давно выработано решение, не продумано каждое слово, какое сказать царю Фёдору, чтобы тот сумел уловить своим убогим умом, как дальше действовать.
Вздохнув трудно, предложил:
— Лучше всего — суд. Открытый. А прежде — розыск.
— Нет-нет, прости Господи за грешные мысли. Нет. Не гоже пытать героя-воеводу. Да и других Шуйских тоже. Грех великий. Они же испокон века служат исправно государям Российским.
— Если они намерились тайным заговором отнять у тебя, помазанника Божьего, трон, то какая это служба? Мне тоже обидно, ни сна, ни отдыха не зная, отдаю все силы на благо отечества, а меня — черни головой!
— Нет и нет, — перекрестился Фёдор Иванович, — прости Господи. Судить честным судом можно и нужно, только без пыток.
— Так и поступлю.
Так, да — не так. Годунов был верен себе — поступил, как посчитал нужным и полезным для себя, исполнив только малую часть воли государя. Пыточные зашлись в воплях едва ли не сильней, чем при Иване Грозном: слуги княжеские и менее знатные сторонники заговорщиков не хотели клеветать на уважаемых ими князей, Годунову же были нужны признания хотя бы нескольких человек, вот он и старался как мог. Без всякой жалости пытал.
Увы, без успеха. Не было у него под рукой слуги, подобного Малюте Скуратову, который так ловко добывал нужное; далеко отослан и Богдан Бельский, умелый ученик своего дяди — не нашлось таких ловких мастеров заплечных дел, чтобы снабдить Годунова необходимыми ему признаниями. И всё же суд начался.
Судьи — все угодники Бориса Годунова. Что бы в оправдание себе ни говорили обвиняемые, всё пролетало мимо их ушей. Только донос кравчего князя Андрея Шуйского принимался за истину.
Москвичи несколько раз пытались взбунтоваться, но царёв полк по приказу Годунова и его дружина не дремали, разгоняя народ не только плетьми, но и мечами, а наиболее настырных тащили в пыточную, откуда, истерзанных, выволакивали в крапивных мешках с грузом тайным ходом в Москву-реку.
Вердикт суда: виновны все до единого. И кара всем одна: смертная казнь. И тут выступил Борис Годунов от имени, как всегда, царя Фёдора Ивановича.
— Государь наш милостив. Его воля: не лишать жизней славных сынов отечества, спасших Россию от польского нашествия. Исполняя его волю, я объявляю: князь Андрей Иванович, главный соблазнитель в заговоре, ссылается в Каргополь в заточение; славный воевода князь Иван Петрович, обольщённый братьями и родственниками, — в Белоозеро под пригляд настоятеля монастыря. Принимая во внимание почтенный возраст князя Шуйского-Скопина, дозволить ему жить в Москве, отстранив его от Каргопольского наместничества. Участь других заговорщиков тоже определять, по воле государя нашего, мне.
Расправился Борис Годунов с ними так: одних заточил в Астрахани, в Шуе, в Архангельске, других отправил в Сибирь навечно, а шестерых купцов, которые ради своей выгоды перебивали торговлю Годунову, казнили на Лобном месте, хотя они никакого отношения к заговору не имели.
Постепенно от заточенных в разных городах избавлялись. Живыми остались только сосланные в Сибирь. Очередь в конце концов дошла и до князей Шуйских. Их удавили. Вначале князя Андрея Ивановича, а следом и Ивана Петровича, спасителя России.
Как жестокое коварство похоже одно на другое?! Иван Грозный избавлялся от славных сынов отечества тайно. Годунов поступил точно так же. Злодеи знают, что они злодействуют, они опасаются народного осуждения или даже бунта, но их ничто не останавливает, ибо желание властвовать — непобедимое желание человека и человечества.
БОРИС ГОДУНОВ
Борис Годунов всё более и более беспокоился, не находил себе места. Кто он? Без родовой чести, дворянин выборный по случаю. Да, ему удалось многое во время опричнины: он приблизился к царю Ивану Грозному, ловко используя слабоумие его сына Фёдора, а ещё ловкую игру в шахматы с самим государем. Он без лишних усилий мог бы его обыгрывать, он и создавал на доске безвыходное положение для соперника, но в решающий момент делал нелепую ошибку, так называемый зевок, и Грозный выигрывал партию, радуясь победе и непременно обзывая Годунова играчишкой.
Похоже, он и впрямь — играчишка. Где-то он сделал серьёзный промах: царь заметно охладел к нему, нет-нет да и перехватит Годунов царёв подозрительный взгляд. Мгновение, и снова взгляд спокойный. Именно это особенно сильно настораживало. Похоже, Иван Васильевич уверен, что здоровье его слабеет не случайно.
Впрочем, Иван Васильевич даже высказался по этому поводу. Случилось это в казнохранилище, куда царь повёл Жерома Горсея сразу же, как тот приехал в Москву. Вёл, чтобы рассчитаться за драгоценный груз — свинец и порох. Прошагал Грозный к дальней стене просторного хранилища, и страж казны предупредительно поднял крышку дубового ларя — судя по всему, царь не впервой приводит сюда гостей, и его пояснения не отличались разнообразием, к чему хранитель уже приспособился.
— Поглядите вот на этот коралл, — обратился государь одновременно к Жерому и к Богдану Бельскому, которого тоже пригласил с собой в благодарность за отменное исполнение задания, — и вот на эту бирюзу. Возьмите их в руки. Видите, никаких изменений. Значит, вы совершенно здоровы. Теперь положите их на мою руку. Смотрите, как бледнеет бирюза. Я — отравлен. Смерть моя не за горами, — сказал и уставился тяжёлым взглядом на Бельского: — Тебе, оружничий, любезный мой слуга, узнать, кто покушается на мою жизнь. Отныне это для тебя главное из главных. Вместе с Тайным дьяком примите все меры для разоблачения злодея. Ради этого покличь даже волхвов и колдунов.
«Нет, нельзя ждать у моря погоды, сложа руки. Так и с головой можно расстаться».
Нельзя допустить разоблачения ещё и потому, что всё удачно складывается в главном: ему удалось влюбить Фёдора в свою сестру Ирину — дело движется к сватовству. Разве можно такое упустить? Войти в царскую семью — невероятно дорогого стоит. Тогда в незнатности его никто не посмеет обвинить. Да и в желании отравить государя тоже.
Откуда дует пакостный ветер, Годунов уже понял: Богдан Бельский наушничает. Настораживает царя, вроде бы исполняя его приказ.
Ведь и в самом деле может разоблачить, сам оставаясь вне подозрений. Пытать-то он будет сам. И хотя такой поворот событий казался Годунову исключительным, но он всё же заставлял мучительно искать способ упредить подобный исход.
Само собой понятно, что нужно начинать с Тайного дьяка. С ним у Годунова сложились вроде бы весьма добрые отношения: Тайный дьяк понимал, что в самое ближайшее время Годунов войдёт в царскую семью полноправным её членом, поэтому предусмотрительно благоволил к нему. Понимая это, Годунов не собирался откровенничать с ним беспредельно. Да и не пойдёшь к нему с какой-нибудь безделицей, нужен веский предлог. Надо такой найти ход, чтобы в разоблачении отравителя царя была только личная заслуга Тайного дьяка, а на Бельского пала тень недоверия. Можно даже разделить заслугу с Тайным дьяком и ему, Годунову. Подсказал, мол, мысль подал нужную.
Но кого определить в злодеи?
Если напрячь мысли, особенно такие услужливые, как у Бориса Годунова, нужное обязательно найдётся.
«Бомалей! Лекарь царёв!»
В конце концов план разработан: накануне беседы с Тайным дьяком надо было дать знать царскому лекарю Бомалею о том, что его будто бы подозревают в медленном отравлении государя неведомым зельем, намекнуть, что со дня на день его возьмут под стражу,, а значит, не миновать ему пыточной и казни. Обязательно от таких вестей дрогнет Бомалей. Пустится в бега. И это бегство послужит подтверждением истинности подозрений, которыми Годунов поделится с Тайным дьяком. Важно и другое: появиться у Тайного дьяка без предварительного согласования, что позволено только его начальнику Бельскому и, понятное дело, — государю. Именно это произвело должное впечатление: Тайный дьяк встретил нежданного гостя настороженно, хотя скрывал своё состояние умело. Он даже не упрекнул Годунова за нарушение всем известного правила. Предложил:
— Садись. Важное дело, должно быть, привело тебя ко мне?
— Важней не бывает. Забота о здоровье нашего государя привела меня к тебе. Забота о жизни его.
— Вот как? — вроде бы искренне изумился Тайный дьяк. — Новость даже для меня. Что же угрожает здоровью Ивана Васильевича? Поведай.
Разговор пошёл не по продуманному прежде плану, но Годунов моментально решился на рискованное наступление.
— Полно лукавить. Мне известно, какой урок задал тебе и Бельскому Иван Васильевич в казнохранилище. При Джероме Горсее.
— Откуда известно?
— Земля слухами полнится.
Зачем Тайному дьяку знать, кто сообщил тайну ему, Борису, пусть ломает голову над загадкой. Владение тайной, невесть из каких источников почерпнутой, вызывает невольное опасение и даже уважение. Может, сам царь поделился?
Восторжествовал Борис Годунов, увидя растерянность Тайного дьяка, хотя и мимолётную, и, вдохновившись первым своим успехом, заговорил о том, что хотел сказать дьяку.
— Главная вина в крамоле на Немецкой слободе. Государь, задумав свататься к Елизавете, более льгот начал давать гостям английским, ущемляя гостей немецких. Вот они и подкупили лекаря царёва Бомалея. Расчёт верный: смерть Ивана Васильевича, государя нашего, поставит всё на свои прежние места.
— Обожди. Разве Бомалей — немец? Он же учился в Кембриджском университете. А это — Англия. Он сидел в тамошней тюрьме, обвинённый английским духовенством в колдовстве и чародействе. Именно Лондон подсунул Елисея Бомелиуса послу нашего государя Савину. Выпустил из тюрьмы после того, как он дал согласие ехать в Россию. Защищать интересы Англии, став тайным агентом королевы. Савин, похоже, не знал всего этого. Или скрыл правду. Не без своего интереса.
— Выходит, заговор?
— Не уверен. Скорее всего, обвели Савина вокруг пальца. Царь же взял Бомалея в аптекари, а потом доверил ему заботиться о своём здоровье.
— А Иван Васильевич знает о прошлом Бомалея?
— Нет. Только покойный Малюта знал. Узнал от него и Богдан Бельский. Вот теперь и ты узнал.
— А если Ивана Грозного надоумить, пусть поразмыслит, отчего Малюта, а теперь и Бельский об этом умалчивали? Не без выгоды ли? — оживился Борис Годунов. — Если и ты, и я насторожим государя нашего? Как?
— Подумать нужно.
— Конечно. Но Бомалей всё же — немец. И не потому ли был посажен в тюрьму и ждал казни, что тайно служил немцам?
— Пожалуй, верная мысль. Так, уверен я, и было.
— Сам иди на доклад. Сам.
— Погожу с недельку. Выясню ещё кое-что. Вернее, подготовлюсь основательней.
Однако утром Тайный дьяк узнал, что Бомалей пустился в бега, и поспешил — чуть ли не бегом — к царю. Бельского известить послал подьячего.
— Бомалей навострился в Польшу. Узнал от кого-то, что на крючке он у меня. Его считаю отравителем тебя, государь, и сына твоего.
— Негодяй! Догнать!
— Я послал к оружничему подьячего. Посоветовал спешно выслать погоню. Думаю, расстарается.
— После драки кулаками?! Но почему прежде не известил меня, что Бомалей на твоём крючке? И отчего на крючке?
— Выходит, после драки. А почему прежде не известил? Считал, Малюта Скуратов доложил. Я ему говорил, что Бомалей до приезда в Россию приговорён был к казни за тайную службу немцам. Богдан Бельский тоже об этом знает. Почему и он промолчал, у меня вопрос.
— Я сам спрошу у него. Не тебе, его подчинённому, задавать вопросы.
Бельский конечно же оправдался. Считал, мол, что Малюта Скуратов извещал в своё время, зачем же в ступе воду толочь?
Борис Годунов, узнав об этом, не решился на обещанный Тайному дьяку разговор с царём. И верно поступил, иначе мог бы вызвать у мнительного Ивана Грозного подозрение. А так всё прошло гладко. Во всяком случае не на высоте оказался Богдан, прозевав бегство Бомалея, и это не в строку лыко. Правда, посланные им за Бомалеем стрельцы быстро его догнали и, окованного, возвратили в Москву. Какую-то часть захваченной у него казны раздали стрельцам, хорошо исполнившим приказ оружничего, что-то прилипло к рукам самого оружничего, остальное — в царёву казну. Бомалея же — в пыточную.
Сам царь присутствовал при пытке, но как ни старались палачи, несчастный не назвал ни одного имени — не мог он этого сделать, ибо не было у него никаких сообщников, да и сам он ничего крамольного не сделал и даже не помышлял о крамоле. Однако царь донельзя разгневался на упрямого лекаря и повелел грозно:
— На вертеле поджарить!
Лицезрел Грозный и столь жестокую казнь. Даже ткнул безвинного беднягу острым своим посохом в бок, воскликнув торжествующе:
— Ты хотел моей смерти?! Получай её сам!
Борис Годунов вздохнул свободно. Угроза миновала. Он — вне подозрения. Ещё и Богдану чуточку нос утёр. Теперь смелей можно переходить к главному — к подготовке женитьбы Фёдора на Ирине.
Недели через полторы после казни Бомалея и последовавшего за ним жестокого разграбления Немецкой слободы, в котором тоже лично участвовал Иван Грозный, Борис Годунов заговорил с Фёдором о его сватовстве на Ирине.
— Не слишком ловко как-то получается: Кремль, да и вся Москва слухами полна о вашей с моей сестрой взаимной любви и удивляется, что дело вперёд не двигается. Говорят так: любовь любовью, только для царской семьи не слишком знатная невеста. Так ли это?
— Господи, вразуми заблуждающихся. Я именем Господа Бога нашего молил отца разрешить мне жениться. Он согласен. Только при одном условии: после его свадьбы.
— На ком?
— Ищет. Господь Бог укажет.
Что же, можно и помочь в поиске. Тем более что известна Годунову знатная красавица, от которой глаз нельзя оторвать. Почти год назад по сыскным делам он посетил дом опального боярина Фёдора Фёдоровича Нагого. Во время трапезы его дочь Мария (боярин был вдовцом и роль хозяйки исполняла дочь) поднесла дорогому гостю заздравный кубок с поцелуем; затем, облачаясь в новые, как и положено, наряды, подносила ещё и ещё — Годунов был заворожён её красотой. И так она покорила его сердце, что нет-нет да приходит с тех пор к нему в сновидениях.
«Устрою так, чтобы её увидел Иван Грозный».
В душе, после таких мыслей — неприязнь к самому себе. Что царь воспылает к Марии любовью, тут и гадать нечего. А что дальше? Как страстно он домогался последней своей жены (или наложницы) Натальи Коростовой? Дядю её, новгородского архиепископа Леонида, кто яро противился домогательству, одев в медвежью шкуру, затравил собаками. А прошло всего ничего — она исчезла. Совсем. Никто, даже Тайный дьяк, не знает, что с ней случилось.
Не то же самое ожидает Марию? Иван Васильевич так уж устроен, что воспламеняется неудержимо, но и затухает стремительно. Избалован он развратом. Зело избалован.
На весах, однако, личное счастье: свадьба сестры на царевиче. Такое перевесит. Свершись она, основательно развяжутся у него руки. Почитай, тогда путь к трону никто уже не загородит.
«Впрочем, не успеет сделать зла Марии-красе Иван Васильевич. Не должен успеть».
Человек предполагает, Бог — располагает. Иван Васильевич всем сердцем прикипел к Марии Нагой, полюбив её как первую свою жену, и не собирался не только избавляться от неё, но даже ненароком чем-либо обидеть. Но это, как говорится, дело завтрашнее, теперь же Борис Годунов расстарался, расписывая Ивану Васильевичу волшебную красоту и ладность Марии Нагой, да так преуспел, что у царя загодя слюнки побежали. А когда увидел её, тут же объявил.
— Быть свадьбе скорой. Ты, Борис, — посажёный отец.
Вот это — честь!
«Теперь наверняка не станет противиться свадьбе моей сестры на царевиче!»
Спешно готовили царскую свадьбу, и день этот скоро подошёл. Грозный не просил благословения на венчание с девятой женой у митрополита, а велел ему венчать столь торжественно, словно первый раз шёл под венец. Он помазанник Божий на Русской земле и, стало быть, отвечает сам перед Богом за свои грехи. Митрополит не посмел перечить, отстаивая чистоту христианского нрава. Не хотелось ему, понятное дело, подвергнуться опале, боялся быть облачённым в медвежью шкуру и затравленным собаками, как новгородский архиепископ, с которым совсем недавно расправился Иван Грозный.
Даже первая свадьба юного царя Ивана с Анастасией Захарьиной не была столь пышной и столь торжественной. Вышедших после венчания в Успенском соборе молодых встречали толпы москвичей, битком набившихся в Кремле. Под ноги молодым были расстелены персидские ковры до самого Красного крыльца, или как его тогда ещё называли — Царского. Цветов — неисчислимо, в них даже путаются ноги, а на головы молодожёнов горстями сыплются отборная пшеница, веяные овёс и просо. Церковный хор и хор Чудова монастыря поёт «Многие лета», но ликующее многоголосье заглушает громогласную величальную.
За что любили простолюдины Грозного, понять трудно и даже невозможно. При нём жизнь их не стала лучше. При нём на долю России выпало поистине бесчисленно страшных испытаний, однако царю всё прощалось. Странно, но народ любил самодержца — Грозный понимал это и принимал любовь к себе с достоинством, даже с гордостью. Вот и сейчас шёл самодержец в одежде, шитой золотом и жемчугом, величаво, вроде бы даже не замечая, что творится вокруг, только иногда с нежностью поглядывая на идущую рядом молодую царицу, щёки которой пылали от непривычного почёта, отчего изумительная ладность её лица буквально завораживала прелестной красотой. Несравненной.
Внимательный взгляд, однако, вполне мог разглядеть в глазах юной царицы не только смущение, но и скрытую тоску от предчувствия не безмятежного будущего: царь стар и хвор, к тому же избалован донельзя, отдалил от себя уже семь жён, и не окажется ли она в монастыре, когда стареющий сластолюбец натешится юной красотой? Подневольно, что ни говори, пошла она под венец, не смея отказать царским сватам, ибо знала: отказ приведёт к печальному исходу не только для неё самой, но и для всей её родни.
Но вряд ли кому приходило в голову вникать в истинные чувства юной царицы, велелепной лицом и изумительной станом. Все любовались ею, бросали ей под ноги цветы, обсыпали зерном отборным, чтобы нарожала она как можно больше детей.
Покоряло москвичей и то, как смущена царственная красавица столь великим к ней вниманием.
Отпировав время, установленное вековой обрядностью, и даже прихватив сверх того, принялись готовиться к следующей свадьбе — царевича Фёдора и Ирины Годуновой. И никому нет дела до вопросов государственной важности, ни до отношений меж государствами. Даже Тайный дьяк не решался беспокоить царя-батюшку своими докладами, хотя и очень важными, ведь вполне мог бы Грозный воспринять это как попытку приостановить торжество.
Дня за три до свадьбы Борис Годунов приехал в гости к Богдану Бельскому. Предлог? Приглашение личное — стать посажёным отцом невесты. Истинная цель — определить свои дальнейшие действия при новой расстановке сил. Пока готовили стол, они уединились для тайного разговора, который сразу же принял ершистый характер. И виноват в том — Борис Годунов. Он сразу же взял покровительственный тон, но Бельский не принял его.
— Ты наставляешь меня аки младенца, не оторвавшегося от соски, но ты сам опростоволосился, поступая не очень осторожно и весьма непродуманно. Кабы не я, не сносить бы тебе головы. Тайный дьяк мне откровенно указал на тебя. Будто бы Бомалей твою волю исполнял.
— Ого! — возмутился Годунов двуличности Тайного дьяка и сразу же посоветовал настоятельно: — Дьяк слишком много о себе стал думать. Ты убери его! Если не уберёшь его, вполне можем оказаться на вертеле, как Бомалей.
— Я не царь, чтобы менять дьяков. Тем более — Тайных.
— Но я не якшался с Бомалеем. Навет на меня! Тебе бы у меня спросить, прежде чем доносить о докладе Тайного дьяка государю нашему. Смолчал бы.
— Подставлять свою голову взамен твоей? Ты наследил, а мне ответ держать? Я к такому не готов. Да и уговора такого не было. И потом, раз ты не через Бомалея подносил царю зелье, не Бомалей готовил его, чего тебе тревожиться. А вот меня тревожит многое. Думаю, Тайный дьяк знал всё, знает и о нашем уговоре. Если не точно, то догадывается. Рассудил я так, что именно дьяк надоумил меня на Бомалея всё свалить. Похоже, он его сам предупредил о грозе над ним, посоветовав бежать из Москвы. Вот из этого мы с тобой должны исходить и действовать куда как осторожней.
— Принимается, — кивнул Борис Годунов, довольный тем, как ошибочно рассудил произошедшее Бельский. С языка его едва не сорвалось, что заблуждается Богдан, но рта не открыл. Бельский же продолжил с твёрдостью в голосе:
— И ещё я хочу сказать тебе: не разговаривай ты со мной тоном повелителя.
— Но я спас тебя от опалы за выкрутасы твои в Водьской земле. И ещё не забывай, теперь я вошёл в царскую семью. Не слуга я теперь, но член семьи!
— Всё так. Только и тебе не стоит забывать, что именно я спас тебя от вертела. Квиты мы с тобой, действуя по тайному нашему уговору помогать друг другу в беде. Скажу тебе так: либо мы равные в делах наших условленных, либо зад об зад и — в разные стороны. Только, думаю, печально окончится для нас наш разнотык. Для тебя же — в первую голову. Вошёл ты в царскую семью с большими усилиями, а вылетишь оттуда как пробка из бочки с сычённой брагой. Не забывай, я — оружничий. Не только Тайный дьяк в моих руках, но и аптекари с лекарями тоже.
Не ожидал такого отпора Борис Годунов. Он уже считал, что схватил Бога за бороду, и можно теперь подминать под себя всех и вся, ан — нет. Пока ещё не по зубам Богдан. Время, видимо, не пришло. Оно обязательно придёт. Тогда можно будет отыграться и вот за это высокомерие. Если, конечно, не ломиться в открытую дверь. Пока стоит отпятиться.
— Извини, если ненароком высокомерия, — протянул он руку Богдану. — Друзьями мы были, ими и останемся.
— Принимается. И вот тебе мой совет: зельем в малых дозах не пои ни того ни другого. Ещё покойный Малюта мне сказывал, привыкнет человек к малому, устоит против большого.
— К моему зелью не привыкнут. Оно медленно разрушает тело, но действует наверняка. Неотвратимо. Когда же все привыкнут, что царь и царевич хворые, кончина их поочерёдная не вызовет кривотолков.
— Осторожней действуй. Я конечно же всячески стану оберегать тебя, но я — не царь.
За Богданом последнее слово. Надолго ли?
Услышав приближающиеся к двери шаги, они моментально сменили тему. Заговорили о предстоящей свадьбе, словно ради этого и уединялись.
— Нет, не ловко венчаться царевичу в Успенском соборе, где только что венчался наш государь, — будто бы продолжал с жаром отстаивать свою точку зрения Борис Годунов.
— А я повторяю, не нам решать, — вроде бы стоял на своём Богдан Бельский. — Я предложу как посажёный отец невесты Успенский, а как Иван Васильевич определит, так мы, холопы его, и поступим.
Слуга постучал в дверь и, приоткрыв её, доложил:
— Стол собран. Боярыня самолично готова потчевать гостя кубком фряжского вина.
— Что ж, пойдём. За трапезой продолжим разговор. — Хозяин пригласил гостя, и они направились в трапезную палату.
Бельский не случайно сказал эту фразу: кравчий, звавший их к столу, как раз и был соглядатаем Тайного дьяка, вот и нужно было сбить его с толку.
За столом они беседовали только о предстоящей свадьбе — Борис фантазировал, Богдан всякий раз отвечал смиренно:
— Как определит государь наш. Всё пойдёт по его слову.
Никто не остался доволен этой вечерней встречей. Соглядатай Тайного дьяка досадовал, что не смог уловить хотя бы кончик главного разговора хозяина с гостем (а он был уверен, что не ради обсуждения свадьбы они встретились) и теперь не получит от дьяка ни гроша; Годунов болезненно переживал, что не только не удалось поставить себя выше Бельского, а наоборот, пришлось уступить первенство ему; Бельский же, оценивая Борисово поведение, обдумывал, как и впредь держать властолюбца в узде, не дозволяя ему уросить[59], тем более закусывать удила.
«Не должен я его пропустить вперёд себя. Не пропущу!»
Самонадеянность. Уже через три дня, во время венчания Фёдора с Ириной, Бельский станет всего лишь посажёным отцом, Борис же Годунов на пиру после венчания сядет, на правах брата царевны, за стол по правую руку царевича, а царевич Фёдор — и это видели все — с любовью взирал на шурина, не только как на своего родственника, но и как на близкого друга.
Сумел Годунов влезть в душу слабоумного. Скорее всего, угодил долгими совместными молитвами.
И всем стало понятней понятного, что безродный Борис Годунов отныне не любимый слуга государев, а полноправный член царской семьи. Начнёт, стало быть, уверенней работать локтями, оттесняя всех, кто станет ему хоть в чём-то супротивничать.
Не совсем так оказалось. Все считали, что первым от трона оттеснит Борис Годунов Богдана Бельского, только этого не случилось. Для всех их соперничество продолжало оставаться за семью печатями, внешне же — они друзья. Не разлей вода. Они вместе продолжали липнуть к трону, поддерживая друг друга. По мелочам, конечно. На самом же деле они зорко следили друг за другом, опасаясь подвохов. Пока они вынужденно играли в дружбу, ибо впряжены были в одну бричку с тайным грузом. И из этого положения каждый пытался получить для себя наибольшую выгоду. Но как ни крути, преимущество оказалось на стороне Бориса Годунова, и он постарался им воспользоваться основательно. Перво-наперво он решительней и смелей начал исполнять обещанное ещё Малюте Скуратову — медленно, но верно травить и самого Ивана Грозного, и его сына. В их гибели видел он своё окончательное торжество.
Всё шло вроде бы ладом: отец с сыном всё более и более недомогали, а лекари никак не могли определить, что за болезнь такая высасывает из царя и его наследника жизненные соки. Борис же Годунов старался делать так, чтобы ушёл в мир иной первым Иван Грозный, а уж только следом — наследник. Не успев повенчаться на царство. Угодна его планам такая кутерьма. Однако вышло иначе: первым покинул мир Иван Иванович. По нелепой случайности: невестка встретилась с Иваном Васильевичем в неподпоясанном сарафане, что считалось верхом греховности. Учёл бы строгий хранитель нравственности Иван Грозный, что невестка на сносях, так нет — напустился на неё с руганью и даже, как утверждали любители сплетен, одарил её затрещиной. Сын вступился за свою жену, чем весьма разгневал отца, и тот огрел его своим знаменитым посохом по голове — царевич упал, обливаясь кровью. На шум поспешил Борис Годунов, находившийся, на его счастье, во дворце, когда же увидел случившееся, едва сдержал взрыв радости. С великим трудом он натянул на своё лицо маску скорби.
Несколько дней царевич то терял сознание, то вновь вроде бы возвращался к жизни, а Борис Годунов почти всё время сидел у изголовья ушибленного, когда тот приходил в сознание, потчевал его лекарствами. Царевич, несмотря на все усилия лекарей и в первую очередь Бориса Годунова, таял стремительно. И вот наступил день, когда Годунов вздохнул с облегчением: «Слава Господу Богу нашему!»
Не сдерживая слёз горестных, известил он отца о безвременной кончине наследника — Иван Грозный воспринял чёрную весть отрешённо.
— Прибил я, изверг, своего любимого сына. Наследника престола. Невестка выкинула. Мальчика. Один Фёдор остался наследником. Слабый он. Не царь, а богомолец.
— Бог даст, Мария одарит сыном.
— Похоже. Уже заметно округлилась.
Борис Годунов даже ахнул. Про себя, конечно. Он-то не замечал, что царица понесла. Сарафаны попросторней стала носить, но так и определено замужним женщинам, а гляди ж ты. Стало быть, стоит поспешить. До рождения ребёнка всё должно свершиться.
Увы, Иван Васильевич скрипел и скрипел, как надломленное дерево, но никак не падал. Уже сын родился, а он — скрипит.
Крестить наследника поехали в Лавру святого Сергия. Борис Годунов при царе. Но и Богдан Бельский не обойдён милостью. У стремени оба. И всё же выбрали время для обмена мнениями.
— Что-то зелье по твоему раскладу не того? — упрекнул Бориса Бельский. — С такой медлительностью головы мы с тобой потеряем, сделав неосторожный шаг. Я же предупреждал, что привыкает тело к малым дозам.
— Увеличил я дозы. Лошадь уж можно ими убить, а он — кряхтит себе и кряхтит. Вот и наследника родил.
— Не со стороны ли кто?
— Нет. Мария — ни шагу в сторону. Это тебе не Темгрючиха. Скромна и верна мужу беспредельно.
— Волхвы уже съезжаются, — сообщил Бельский явно себе в ущерб, даже не понимая этого. — Иван Грозный поторапливает, чтоб, значит, спорей они собирались и предсказали его судьбу. Но главное, определили бы, кто злодействует. Боюсь, на нас могут они указать. Да и Тайного дьяка я всё больше опасаюсь. Что у него на уме? Чувствую, скрытным стал.
— Верное замечание, — кивнул Годунов. — Со мной тоже темнит, играя в искренность.
Лукавил Годунов. Он ни в чём не подозревал Тайного дьяка, наладив с ним самые доверительные отношения. Любые новости, какие дьяк узнавал через своих соглядатаев, он рассказывал Годунову, и вместе они обсуждали, нужно ли о них докладывать оружничему. И если была в том нужда, решали, что выхолостить, а что добавить. О приезде первых волхвов и колдунов Борис Годунов уже знал. Он расстарался так всё устроить, чтобы они оказались под боком, и можно было бы встречаться с ними без большой о том огласки. Особенно, чтоб Бельский о тех встречах не знал. Таким местом встреч он избрал Чудов монастырь. Митрополит было заупрямился, но Годунов сослался на желание Ивана Грозного, хотя тот ещё слыхом не слыхивал о волхвах, и мнение царевича Фёдора-Богомольца, тоже ничего не знавшего о волхвах.
Рисковал Годунов? Конечно. Только был уверен, не пойдёт митрополит узнавать истину ни к царю, ни к царевичу. Борис уже не единожды пользовался таким безотказно помогавшим ему приёмом. Чудов удобен для Годунова ещё и тем, что в нём у него есть свои люди. Да и сам настоятель тоже не без участия к нему.
И всё же настоятель поначалу заупрямился. На дыбы встал.
— Как можно?! В обители Господа Бога нашего — язычники! Грех-то какой?! Как же мог митрополит дать на такое согласие?!
— Он уверен, Бог простит ради величайшей пользы. О здравии царя мыслить нужно. О здравии! О помазаннике Божьем забота. Отведи для них кельи в дальнем углу и не позволяй встречаться с чернецами, вот и ладно будет.
— Не то. Выделю я им дом для моих уединённых молитв.
— Устроит вполне. И перед Богом безгрешно. Мне не забудь дать знать, как съедется большая их часть. Для остальных же, кроме оружничего, в тайне всё держи. В строжайшей. О нашем уговоре ни слова оружничему, когда он придёт к тебе. Поупрямься малость и — ладно.
Не стал, само собой понятно, обо всём этом рассказывать Бельскому Борис Годунов, словно прежде о волхвах и не думал, вот только теперь поделился внезапно возникшей мыслью.
— Ты волхвов и колдунов где размещаешь?
— На Арбате. В тайном доме.
— Зря. Чуть что, сбежать смогут, околдовав стражу. Да и стражу ловко ли держать. Заупрямиться могут и не предсказать ничего. Переведи в Чудов. Под приглядом будут. А из Чудова никогда никакие тайны не уходили.
— Видимо, ты прав. Но как священники? Заупрямятся.
— Митрополита я возьму на себя. Дам тебе знать о его согласии. Тогда тебе просто будет вести речи с настоятелем.
Всё прошло в угоду Годунову, и он раньше Бельского встретился с волхвами. Вернее, с одним из них.
Вышел к нему осанистый муж средних лет. Назвал себя хранителем бога Прова, правосудного и неподкупного. Одет в просторную ортьму со множеством волнистых складок, в каждой из которых — мудрость Правосудного бога. На груди — золотая цепь, как символ единения всех мыслей в одно целое. Спросил со спокойной величавостью:
— Чего ради собраны вместе волхвы и колдуны?
— Или не смогли определить?
— Смогли. Судьбу правителя Российского предсказать. Но я хочу слышать точный вопрос. Я говорю от имени всех собравшихся хранителей богов. Ибо мы предполагаем, что не только о судьбе речь пойдёт, вернее, не столько о судьбе, сколько о дне кончины.
— Да. Это — главное.
— Нам нужно пару дней. Каждый из волхвов обратится к своему богу, хранителем какого он есть, колдуны поведут дело по своему разумению, по магиям своим, следом нужно время свести все мнения в единое. Это право бога Прова. Без двух дней, боярин, не обойтись. И чтобы никто бы нам не мешал. Ни единая нога не ступала бы через порог. Ни еды, ни питья нам не нужно приносить. Пусть только сурьи в избытке поставят.
— Сегодня или завтра посетит вас оружничий. Ему скажешь, что сказал мне, и поставишь свои условия. Он — исполнитель. Я же — от царской семьи пришёл приветствовать вас.
— Благое дело.
Бельский пришёл вскоре после ухода Годунова. Разговор у него один к одному, какой вёлся с Годуновым, только закончился он полной неожиданностью.
— Но я обо всём уже сказал приходившему до тебя от царской семьи. Или не сказал он тебе об этом? — спросил хранитель бога Прова.
— Не пересеклись наши стежки ещё. Я у царя был по делам своим, — вроде бы спокойно ответил Бельский, но собеседник с такой проницательностью поглядел на оружничего, что тот понял: с волхвом лукавить не следует. Но разве можно открыть правду?
Ни проблемы с сурьёй, той же медовухой, только выдержанной ещё и на солнце, ни срок ответа не волновали Бельского: сурья будет доставлена в избытке, какой ответ получит от волхвов, то и доложит Ивану Грозному, но посещение скита Годуновым (а кто ещё, кроме него мог?) очень обеспокоило.
«Доложу царю. Если узнает от Тайного дьяка, худо тогда может приключиться. А так, подозрение вызову к Борису».
На просьбу определить время для тайного доклада Иван Грозный откликнулся без промедления. Усадив на лавку против себя, спросил с нетерпением:
— Волхвы собрались? Определили судьбу мою?
— Попросили пару дней для разговора со своими богами.
— Чего же тогда егозишь?
— Борис Годунов побывал у волхвов прежде меня. Я доставил их тайно, а он прознал. От кого?
Ответ на прямой вопрос должен был прозвучать, по мнению оружничего, один: разберись, сыск в твоих руках, но услышал Бельский совсем другое:
— Стало быть, не совсем тайно. Оплошка у тебя случилась.
Вот так — под девятое ребро. Хотя всё вроде бы обошлось.
Напрасное успокоение. Впереди — неведомое. Тем более что и в назначенный день Годунов вновь опередил Бельского, которому царь Иван Васильевич поручил встретить послов Батория и разместить их, пока не вступая в переговоры.
Бориса Годунова и на сей раз встретил только один хранитель бога Прова, заявив, что получил право говорить от имени всех своих собратьев. Встретил с достоинством, как и подобает хранителю бога, наделённого правом определять золотую середину, если между богами возникали разногласия. Он, в прежние времена, ко всему прочему, имел право судить поступки князей и иных, власть имущих, одобряя их или осуждая. И не было случая, чтобы кто-либо из правителей поступил не по воле бога Прова.
— Садись, гость высокий. В ногах правды нет.
Подождав, пока Борис Годунов угнездится на лавке, заговорил с твёрдой основательностью:
— Рассудишь, боярин, угодно ли семье царской слово или нет. Не тебе извещать царя, но оружничему. Исполнителю, как ты прежде сказывал. Тебе же для раздумий. Я говорю о той судьбе, которая определена богом Судом и не может быть изменена никем. Так вот, ваш царь Иван Васильевич — последний из рода Владимира Киевского, кто правит Россией. На нём пресечётся окончательно род великого князя Киевского и всей России, ибо на Священной горе проклят был и сам князь, и его потомки, когда надругался над кумиром всемогущего бога Перуна. Проклят был хранителем бога Перуна. Великому князю предсказано было, что почит он в бозе по вине сына своего. Так и произошло. В проклятии сказано было, что весь род его пресечётся, и вот подошёл тому срок. Многие десятилетия потомки Владимира истребляли друг друга, неся одновременно и кару народу, кто без упорной борьбы отдал себя под пяту алчных церковников. Князья даже не успокоились, когда боги покарали Россию татарским игом — междоусобица продолжалась без остановки. Последний из Владимировичей тоже не остался в стороне: истреблял князей крови проклятой по всей стране. Лишился жизни и его здоровый наследник. По воле Рока. Остался один — царевич Фёдор. Он сядет на трон. Но он не будет царствовать. Царствовать станет его именем властолюбец. Кто он, мы не спрашивали своих богов. Если есть в том нужда, мы сможем предсказать.
— Не стоит, — смиренно ответил Годунов, сам же возликовал: «Я стану царствовать. Именно — я! Но зачем знать об этом кому-то. Даже волхвам!»
— Есть ещё один сын у Ивана Грозного. Он тоже сядет на трон. На малое время. Так определил бог Суд.
«Ничего! Я сам стану судьёй Дмитрию! Он не увидит трона как своих ушей!»
Хранитель же бога Прова, лукаво прищурив глаза, продолжал, не желая дать понять, что прочёл мысли гостя:
— Сам ваш царь, истребив множество своих сородичей, погибнет от рук ближних своих. Ровно через две недели.
Воодушевлённым вышел Годунов из скита для уединённых молитв настоятеля Чудова монастыря. Он вполне уверился, что именно ему предсказано царство. Он создаст новую династию — династию Годуновых. Он отчего-то не придал значения пророчеству, что хоть на малое время, но на трон сядет Дмитрий, уже решив для себя его судьбу.
Иной разговор хранителя бога Прова с Богданом Бельским. Он был намного короче.
— Через две недели закончит свою греховную жизнь твой царь, у кого ты в любимцах.
Как всё это передать Грозному царю?! Как?!
И в самом деле, хватит ли духа? Если же промолчишь, подпишешь себе смертный приговор. Ничто тогда не спасёт. Ни любовь царя, ни верная служба сторожевого пса и ищейки, без чего Грозному не обойтись — всё не в счёт. Богдан даже услышал, будто наяву, свирепое: «На кол его!» — и сдав ленный стон невольно вырвался из груди.
— Не страшись, оружничий. Тебе смерть на роду написана не скорая. Ты сам приложишь руку к царской гибели. Не со стороны, как сейчас, а лично.
Слава Богу — успокоил! Только после такого успокоения — мурашки по коже и спина мокрая.
— Спасибо за откровенность.
— Мы свободные.
— Прыткие. Пока не сбудется ваше пророчество, никуда из скита этого ни шагу. Если сбудется — отпущу. И не просто отпущу на все четыре стороны, но сопровожу под надёжной охраной аж до Вологды.
— Волхвам не нужна охрана. Мы, хранители богов, под их сенью.
— Верю. Скажу лишь одно: меч не слишком разборчив. От меча же спасение — меч, а не щит. А я не хочу брать греха на душу. Я дал слово не навредить вам, я его сдержу.
— Воля твоя, оружничий.
Вышел Бельский во двор. Вышел за ворота, велев стремянному отвести коня в конюшню, пошагал пешком, предполагая по пути найти какое-то приемлемое решение, думал, волоча сопротивляющиеся ноги к царскому дворцу, но в голове лишь набатно стучало:
«Ты сам приложишь руку к смерти царя. Не со стороны, а лично».
Вот прицепилось! Как банный лист.
Постепенно приходило успокоение: не он же сгинет по воле Грозного, а того не станет. Найден в конце концов и выход. Его услужливо подсказал Годунов, вроде бы случайно встретившийся с Бельским перед крыльцом.
— Ну, что?
— Ничего.
— Ладно, не темни. Наша с тобой жизнь на кону. Не таясь рассказывай.
Слушал вроде бы внимательно Годунов, но Бельский почувствовал, что тому всё уже известно. Опередил, выходит, и на сей раз. Ну, да Бог с ним. Авось, не напакостит. Опасно и для него самого. Да и как он может напакостить?
«Смерть на роду не скорая».
А Годунов предлагает:
— Ты промолчи. Ещё, дескать, пару дней просят. Не определятся никак.
Похоже, подходящий выход. Не подумал, что это шаг всё же опрометчивый, который может использовать Годунов. А между тем так и вышло. Годунов не был бы Годуновым, если бы, давая вроде бы дельный совет, не готовил на самом деле для себя выгоду. Но чуть они оба за это не поплатились.
Но до того времени — ещё две недели. Пока же с внешним спокойствием пересказал Бельский свой разговор с волхвами царю, а тот, тоже с полным спокойствием спросил:
— А если в пыточную волхвов и колдунов? Тут же разгадают мою судьбу.
— Можно, конечно, пыточной постращать, только будет ли от этого толк? Они же не отказываются исполнять твою волю, государь. Они пока не могут найти верный ответ. Чтоб без малейшей ошибки. Мне даже понятно отчего: ты, государь, — помазанник Господа Бога. Одного. А не их — многих. Однако они обещают через магию проникнуть в начертанное тебе судьбой. Стоит ради этого подождать всего несколько дней. Если же в пыточную их, они могут пойти на лукавство.
— Пожалуй, верное твоё слово. Подождём.
Вроде бы вполне согласился Иван Грозный с доводами своего оружничего, но по тону (Бельский изучил царя хорошо) голоса почувствовалось, что у царя возникло какое-то подозрение.
— Я, государь, стану каждый день ходить к волхвам и колдунам, поторапливая их. Если станут слишком затягивать, пугну пыточной. И не только пугну.
На том вроде бы и остановились.
Неделя прошла. Богдан Бельский всё ещё не решается сказать Грозному правду. Останавливает его и Годунов.
— Очень опасно называть день.
— Но государь всё более серчает. Не их в пыточную отправит, а меня.
— Не опасайся. Я защищу, если что.
Не мог пока знать Бельский, что Годунов уже назвал царю день, какой волхвы определили последним для него, надеясь, что Грозный в самом деле отправит Бельского в пыточную. Но царь, по непонятной для Годунова причине, этого не делал. Бельский же всё более чувствовал недовольство государя, со страхом ожидая страшного: «В пыточную!» Сказать же правду никак не решался.
Вторая неделя на размен пошла. Царь занемог так, что не в состоянии был подняться с постели до самого обеда — Бельский собрал всех лекарей, всех аптекарей и добился-таки заметной поправки. На радостях Грозный закатил пир, на котором в знак благодарности оружничему просто обязан был посадить его по левую руку, увы, на том месте оказался Годунов. Это многое сказало Бельскому.
На следующее утро Грозному снова стало хуже, и вновь Бельский озаботился лечением царя, хотя прекрасно знал, отчего недуг и как с ним бороться. Правда, теперь Бельский даже не пытался намекать царю, кто главный виновник его болезни — никакого толку. Стоило, однако, чуточку полегчать хворому, как Богдан с вопросом:
— Пора мне волхвов с колдунами проведать. Дозволь?
— Ступай. А при мне пусть побудет Борис. Передай ему моё слово.
Ещё не легче. Бельский хотел всё же спросить — несмотря на то, что не принесли результата прежние слова и он решил больше рта не открывать — не озадачить ли волхвов с колдунами, чтобы узнали они причину хвори и виновного в ней, но осёкся. Дал бы царь добро, сочтены были бы дни соперника. Выходит — не судьба.
На этот раз больше времени провёл Бельский в беседе с хранителем бога Прова, тот подробно рассказывал о всех богах славянорусских, об их обязанностях, о сыновней к ним любви, и оружничему виделась близость людей к самой природе, которую боги воплощали. Однако, хотя хранитель Правосудного вёл рассказ увлекательно, Богдана больше интересовало, как и за что проклят был великий князь Киевский Владимир и его потомство?
— Как за что? За то, что попрал святая святых. За то, что отказался от клятвы волхвам, когда просил их поддержать при захвате Киевского стола. А вот как это получилось, лучше поведает хранитель могучего бога Перуна.
Он вышел, чтобы привести своего собрата, Бельский же осмысливал последние слова хранителя Прова, пытаясь понять их глубинный смысл, первооснову бунта волхвов. И выходило, по его пониманию, что суть всего — в борьбе за единоначальную власть на Русской земле, от которой волхвов оттесняла христианская церковь. С прямого вопроса он и начал беседу с хранителем бога Перуна-Громовержца.
— Князья были подвластны волхвам, особенно хранителям Перуна и Прова, крестившись же, они уходили из-под вашей руки, не в этом ли причина проклятия?
— В этом, — искренне признался волхв, к удивлению Бельского, который предполагал, собеседник станет вилять и выкручиваться. — Именно в этом. И в то же время не в этом. В Киеве стояла церковь, построенная бабкой Владимира княгиней Ольгой. Она съездила в Царьград и там крестилась. Крестились и иные, кто желал. Их же никто не проклинал. Мы боролись с церковью находников не мечом и огнём, не проклятиями, а убеждали, что гораздо лучше быть любимым внуком Дажьбога, ласковым сыном отца Сварога, чем рабом неведомого Господа. С рождения — рабом. По какой такой Правде? Кто хотел стать рабом — воля вольная. Мы боролись словом, и оно было неодолимо для церковников. И вот тогда греческие священники, как они себя называли и называют, совратили великого князя, подсунув ему под бок принцессу царьградскую. Использовали его великую любвеобильность. В ответ и он их утешил: силком, под мечами дружинников своих, ему послушных, крестил Киев, а над кумиром бога Перуна надругался, после чего сбросил его в Днепр, чтобы унесло его вон из Русской земли в океан-море. Но — нет! Не уплыл далеко кумир Перуна. Вынесли его ласковые днепровские струи на берег, и он по сей день обитает в нашей земле, невидимый для отступников от веры отчичей и ласкающий глаз верным Дажьбогу. Придёт время, найдут люди кумир Перуна и поднимут его во весь рост!
— Не согласен, чтобы одна красота заморской принцессы подвигла великого князя Владимира на столь значительный шаг.
— Конечно, нет. Главное в ином. Церковники что говорят? Власть от ихнего бога, властитель же — наместник его на земле, только ему подвластный. Стало быть, он не подсуден простолюдинам, даже в боярском чине; значит — единодержавен. Куда как ладно такое для властолюбца. А как весь остальной народ? Прикинь: если он раб Божий, стало быть и наместника Божьего. Вот в чём главная суть. Быстро это поняли князья и бояре, всяк в своей вотчине почитая себя наместником Божьим, и принялись загонять в христианство кнутами и батогами, а слишком упрямым — дыба да меч. Не по доброй воле всё шло, а силком. Даже волхвов изводили. Тайно. Прилюдно-то побаивались. А тайно: был человек, отмеченный богами правом хранить кумир кого-либо из них, — и нет его. Исчез. А на нет и суда нет.
Долго беседовал с хранителем Перуна Богдан Бельский и стал невольно понимать, что разделяет негодование волхвов в связи с насильственным крещением славяноруссов. По желанию — одно дело, по необходимости — совсем другое, а уж из-под палки или меча — вовсе не гоже. Но не только в России главенство христианской веры шло не по доброй воле — везде не обходилось без насилия. Может быть, не в такой степени, но всё же. Веру в Христа везде несли на копьях, прикрываясь крестоносными щитами. Впрочем, во всех странах сопротивлялись крещению в основном простолюдины, а не князья, бароны и графы.
Прошлое, однако же, не воротишь. Оно, конечно, поучительно. Оно — интересно. Но важней день сегодняшний. Он и не выходил из головы Богдана, ибо роковой день, предсказанный волхвами после совета со своими богами, приближался неодолимо, а Грозный всё более настойчиво требовал окончательного слова волхвов и колдунов, хотя, после пира в честь выздоровления, он скорее играл в настойчивость. Именно это особенно пугало Бельского.
«Неужели узнал о предсказании?! Не может быть. Только ему, Бельскому, открыл хранитель бога Прова истину. Впрочем, откуда такая уверенность. Годунов же навещал прибывших раньше него, Богдана, почему же не мог он посетить их ещё раз, а то и больше? Но волхв даже не намекнул, что раскрыл Годунову тайну предсказания. Может, Годунов строго-настрого запретил говорить об этом? Всё может быть».
И ещё что настораживало, не давая покоя, — ежедневное присутствие Годунова при царе. Не один он, Бельский, а двое их при руке государевой. Не доверяет ему одному. Опасно и другое: о чём они могут говорить, когда остаются наедине?
Подошёл канун предсказанного дня. Царь с самого утра послал своего оружничего к волхвам, строго-настрого наказав получить от них ответ. Бельский снова провёл у них немало времени и даже упрекнул:
— Завтра, как вы предсказали, последний день жизни Ивана Грозного, а он, можно сказать, ещё не дышит на ладан. Даже менее недомогает, чем прежде.
— Завтра — это не сегодня. Грядёт неотвратимое.
С недоверием к словам волхвов возвращался Богдан к царю, вновь боясь сказать ему всю правду. А государь снова встретил его лобовым вопросом:
— Каково их слово?
— Не определились. Просят ещё денёк-другой.
— Что же, если просят — дадим.
Сказано это со зловещим придыханием. Даже пот прошиб Бельского. Холодный пот. А царь, помолчав, попросил:
— Позови-ка постельного слугу Родиона.
Не только у Богдана брови полезли вверх от удивления, но и у Годунова. У него особенно заметно. И, похоже, наиграно. Обоим было известно, как Грозный доверяет Родиону. Безоглядно, что было весьма удивительно с его-то вечной подозрительностью, но ни Бельский, ни Годунов прежде не придавали этому особого значения, ибо Бельский был сам в любимчиках у царя, Годунов же сделался членом царского семейства. Теперь же это желание Грозного озадачило.
Однако сказано — сделано. Вот он — Родион. Перед очами твоими, царь-батюшка.
— От сего мига оставайся при мне, — повелел Грозный спальному слуге, будто ни Бельского, ни Годунова не было рядом. — А теперь пойди и скажи, пусть баню на завтра готовят. Вернёшься и — неотлучно.
Такой вот обоим властолюбцам щелчок по носу. Стало быть, не доверяет больше ни любимцу Бельскому, ни своему родственнику Годунову. И это не к добру.
День прошёл ни шатко ни валко. Слушали песни церковного хора, играли в шахматы, и, казалось, царь ничем не озабочен. Борис во всех партиях проигрывал, хотя по всему было видно, что именно он может и должен поставить мат, но в самый решительный момент совершал ошибочный ход очень продуманно, и позиция на доске круто менялась в пользу царя. Иван Васильевич радовался как ребёнок, по обыкновению дразня Годунова играчишкой.
Несколько раз за день царь отсылал Бориса и Богдана исполнять мелкие поручения, какие могли быть исполнены другими, — Иван Грозный оставался наедине с Родионом Биркиным, и это настораживало соперников.
В конце концов Борис Годунов решился пойти на откровенный разговор:
— Хватит, считаю, играть в кошки-мышки, иначе доиграемся.
— А не продолжишь ли ты двойную игру? Ты же её начал. По твоей воле мы на волоске.
— Даю честное слово быть с тобой предельно честным. Завтра решу всё.
Хотел Бельский сказать, известно же Борису, что завтрашний день должен стать последним в жизни государя, иначе он станет последним для них, но нашёл за лучшее всё же промолчать. Сказал вовсе иное:
— Родион не помешал бы?
— Не помешает. Ума не хватит, — с ухмылкой ответил Годунов и вдруг задал вопрос: — А тебе не проще ли было уведомить Ивана Васильевича о дне его кончины? Пусть бы очистил душу покаянием, причастился бы, приняв иночество. У него давно для этого одежда приготовлена.
— Не назвали они пока что дня кончины.
— Лукавишь, оружничий. Лукавишь.
Объяснились начистоту, называется. Вот теперь разгадай, знает ли хитрован о том, что волхвы ещё две недели назад назвали день смерти царя или только догадывается. Годунов тоже в недоумении — может, волхвы и в самом деле не открылись Богдану, как открылись ему?
«A-а, всё едино. День переможём с Божьей помощью».
Оба не подумали о ночи. Для них — бессонной.
Утром они встретились у красного крыльца. Годунов сказал всего несколько слов:
— Наше спасение не во взаимных обвинениях, а в смерти Грозного. Он должен сегодня умереть!
Вошли они к царю вместе. Тот встретил их ухмылкой:
— Что? Спелись?
— В каком смысле? — с искренним недоумением спросил Годунов, кланяясь вслед за Бельским царю. — Мы, как и я с тобой, государь, родственники. Ещё и дружны меж собой. Никогда этого не скрывали и не скрываем.
— Не виляйте! — и к Богдану: — Скажи, сегодня мне волхвы предсказали смерть? Я же здоров как никогда. Если не сбудется предсказание, я изжарю волхвов с колдунами и ещё кое-кого за одно с ними!
— Не гневайся, государь, зряшно. Вчера я последний раз был у них, они, как мне сказано было, всё ещё не определились. Попросили у меня ещё день-другой. Близко, мол, к цели. Постращал их, дескать, государь наш теряет терпение, может и в пыточную спровадить.
Пронзил Грозный взглядом оружничего, но, странное дело, явно успокоился. Гнев его сменился на благодушие.
— Ладно. Завтра начну дознаваться истины.
Такое в угоду Бельскому. Если не свершится предсказание волхвов, он сможет выкрутиться, ибо не назвал, несмотря ни на что, даты смерти царя (не сказали волхвы и — всё тебе), Борис же, возможно, лишится жизни. Но сам виноват. Забыл об истине: не рой яму другому — сам в неё угодишь. Скорее же всего, будет сослан. И даже такой исход весьма желателен.
Услужливая мысль подсказывала: пойманный за руку Годунов не станет в безделии дожидаться завтрашнего дня.
После утренней молитвы и завтрака Иван Грозный слушал доклады приказных дьяков, не отсылая от себя ни Бельского, ни Годунова, ни Родиона Биркина. В баню они пошли тоже все вместе, хотя прежде государь в баню с собой брал только Богдана Бельского, если тот находился в Москве.
В предбаннике ждал их хор пригожих дев в лёгких, почти прозрачных сарафанах, дабы не взопрели они от тепла банного. Девы потешали царя и слуг его песнями, пока те раздевались и потом, когда вываливались из парилки, чтобы отдышаться и отпиться квасом.
Иван Васильевич любил медово-клюквенный, Борис Годунов с готовностью подавал ему всякий раз после парения этого кваса по полному ковшу, когда же Бельский тоже захотел испить медово-клюквенного, Годунов, вроде бы заботясь о царе, его остановил:
— Ивану Васильевичу может не хватить.
И в самом деле, любимого Иваном Грозным кваса принесли один хрустальный кувшин.
«Что творит?! — недоумевал Бельский. — Великий риск!»
В то же время понимал, что иного Годунову ничего не оставалось: и в риске смертельная опасность, и в безделии — смерть.
Парили царя поочерёдно все трое, особенно же старательно Борис Годунов, чтобы побольше кваса выпил Иван Грозный. Напарившись до полного блаженства, разомлевший, царь пожелал отдохнуть в опочивальне. Родион заботливо уложил его в постель. Грозный же попросил его:
— Подушки под спину. Чтоб полусидя. Шахматы тоже подай.
Подкатили шахматный столик. Первым сел за партию с царём Борис Годунов и, как всегда, проиграл.
— Садись теперь ты, — пригласил Богдана Бельского Иван Грозный. — Обыграю и тебя, хотя ты играешь упрямей, но всё едино — играчишка. Оба вы играчишки.
Последние слова со смыслом. Не с шахматным.
Расставили фигуры. Разыграли масть — белые у Ивана Васильевича. Ему первому ходить. Он взял пешку и, выронив её, склонил бездвижно голову на грудь, а тело его всей тяжестью вдавилось в подушки.
— Беги за лекарем! Быстро! — решительно приказал Годунов Родиону, будто ему одному дано непререкаемое право здесь распоряжаться. — Поживей!
Биркин вылетел из комнаты, и тут Грозный очнулся и произнёс зловеще:
— Вот кто травил меня, наговаривая друг на друга, а действуя заодно. Не выйдет! Я буду жить, а вам поджариваться на вертеле!
— Держи ноги! — крикнул Богдану Борис Годунов, сам же сдавил горло Грозному. Давил и давил, пока не почувствовал, что тело царя обмякло и стало бездвижным. Свершив же убийство, сказал вполне спокойно:
— Того кваса с зельем, что выпил он в бане, — ткнул перстом в удушенного, — хватило бы, чтоб свалить жеребца, а его не умертвило. Прав оказался ты, Богдан, предупреждая меня, что тело приспосабливается к зелью. Вот теперь — всё. Выйду встретить Иоганна Эйлофа.
Эйлоф, как ни странно, оказался поблизости. Взволнованный, влетел в комнату для тайных бесед перед опочивальней, жестом остановив не только Биркина, но и Годунова у порога опочивальни.
Можно было предвидеть, что сейчас из опочивальни Эйлоф выпроводит и Бельского, очень быстро Иоганн вышел сам. Объявил:
— То и гляди государь Богу душу отдаст. Не помешает духовник.
— Быстро зови духовника Феодосия, — вновь скомандовал Годунов Родиону, и тот кинулся было исполнять приказ царского кравчего и родственника, но в комнате для стражи, что тоже удивительно, столкнулся с Феодосием Вяткой.
— Скорей! Царь отдаёт Богу душу!
— Чуяло моё сердце неладное. Чуяло, — крестясь, рек молитвенно духовник царский и, подхватив полы рясы, устремился за Биркиным, но перед входом в опочивальню осадил слугу постельного:
— Исповедь — тайна для всех.
Вскоре из опочивальни вышли все, а ещё какое-то время спустя Феодосий Вятка, приоткрыв дверь, объявил:
— Царь Иван Васильевич желает окончить исповедь и объявить свою последнюю волю в дополнение к завещанию при оружничем и кравчем. Они станут свидетелями его духовного завещания.
Годунов с Бельским вошли, а Иоганн Эйлоф, безнадёжно махнув рукой, заключил:
— Так я и предположил: мне у ложа больного делать нечего. Я уже ничем не смогу ему помочь. Я — бессилен. Не мне спорить с волей Господа.
Нарочито согбенный вышел он из комнаты, оставив Романа Биркина одного. Некоторое время тот стоял бездвижно, но вдруг его осенило: «Нужно митрополита известить», и, бегом миновав комнату для стражников, которые не понимали, что происходит, но спросить ни о чём не смели, скатился вниз по крутым ступенькам.
Когда Феодосий Вятка постриг мёртвого Ивана Васильевича в монахи, теперь уже не грозного, безопасного, Годунов истово перекрестился и смиренно вознёс хвалу Всевышнему:
— Слава тебе Господи Боже наш.
Да, ему надлежало поблагодарить Господа, ибо с его помощью он приручил к себе и лекаря Иоганна, и духовника царёва. По его воле всё было подготовлено заранее, и теперь можно торжествовать победу. Первую на длинном ещё пути к желанной цели.
Вскоре в опочивальню вошёл запыхавшийся митрополит Дионисий. Но как он ни старался казаться подавленным навалившимся горем, не мог всё же принять вид полного смирения и печали. Он в душе несказанно радовался, ибо знал, что Грозный готовил ему замену, его же место царём было определено — Соловки.
Увидев почившего в бозе царя, облачённого в монашескую одежду, митрополит спросил для пущей важности:
— Стало быть, успели?
— Успели, — ответил духовник. — Принял ангельский образ с именем инока Иона.
— Слава Богу. Сняв грехи земные покаянием, отдал душу Господу Богу нашему, — молитвенно пробаритонил митрополит и перекрестился.
И тут, совершенно, казалось бы, не к месту, заговорил Борис Годунов.
— Последняя воля царя такая: на царство венчать сына его Фёдора Ивановича, мне над ним опекунствовать. Если Фёдор Иванович окажется без наследника, венчать по его смерти на царство Дмитрия Ивановича. Опеку о нём возложить на оружничего Богдана Бельского. В удел царевичу Дмитрию и его матери Марии Нагой дать Углич. Тебе, митрополит Дионисий, объявлять духовную народу.
— Но завещание Ивана Грозного было им составлено ещё прежде. Оно — под десницей Господа.
— Не отрицая его, дополним то завещание последней волей умершего. Мы все, кто был свидетелем последней воли покойного, поцелуем крест, положив руку на Библию. А теперь пора идти. Пора объявлять народу горестную весть.
Когда спустились вниз, на крыльцо, Богдан, улучив момент, гневно попрекнул Годунова:
— Обскакал!
— Даже не думал. Ради нас с тобой всё сделано.
— Ну-ну!
Вновь они подтвердили свою непримиримость. Их удел — вражда, захомутованная в один гуж.
Дальше — не до обмена любезностями. Перед крыльцом — почти вся родня царицы, в полном составе Боярская дума и добрая половина Государева Двора. Ждали подтверждения печальным слухам, какие разнеслись по Кремлю и уже перехлестнули за его зубчатые стены. Митрополит сообщил собравшимся и о кончине царя, и о его предсмертной воле — собравшиеся некоторое время молчали, словно у всех перехватило дыхание.
Но вот — вздох. Не у всех горестный. Следом — твёрдое слово князя Ивана Мстиславского.
— У тебя, митрополит, под Божьей опекой духовное завещание, оставленное царём. Грех великий забывать о нём.
— И то верно. По предсмертной воле мало что ясно. Я тоже за то, — поддержал Мстиславского князь Шуйский, — чтобы не обойти вниманием прежнюю духовную грамоту. Прочитаем её на Думе, а уж после того всяк скажет своё слово.
— Не вините меня всуе, бояре, — с поклоном заговорил Борис Годунов. — Я тоже за то, чтобы в первую очередь обнародовать прежнюю царскую грамоту, которую писал он после кончины своего сына Ивана Ивановича.
— На том и остановимся, — заключил князь Мстиславский. — Теперь же соберёмся на совет всей Боярской думой.
— Пригласим на Думу оружничего Богдана Бельского, кравчего Бориса Годунова, постельного слугу Родиона Биркина, духовника царёва Феодосия Вятку и лекаря Иоганна Эйлофа, — добавил митрополит, и все с ним согласились.
— Пусть как на исповеди обо всём поведают.
Верили или нет бояре исповедям приглашённых, понять было трудно, ибо всех смущало, что постельничего так и не впустили в опочивальню, когда царь умирал. Скорее всего, не верили. Догадывались, зная Годунова и Бельского, что не всё так гладко, как они рассказывают, однако вслух никто не высказал своего сомнения и не предложил провести розыск. Если бы об этом хотя бы обмолвился царевич Фёдор, восседавший на своём обычном месте на малом троне, тогда иное дело, тогда развязались бы языки (чего очень боялся Годунов); но Фёдор Иванович помалкивал, вот и остальные молчали.
Думный дьяк начал читать завещание. Всё совпадает: венчать на царство Фёдора Ивановича, царице Марии Нагой с царевичем Дмитрием — Углич в удел. Если же у Фёдора Ивановича не окажется наследника, на царство венчать Дмитрия. Опекун Дмитрия Ивановича — оружничий Богдан Бельский. А дальше — закавыка. О том, что Борису Годунову опекать Фёдора Ивановича — ни слова. Его имя не значилось и среди тех, кому Грозный поручал править державой совместно с царём Фёдором. В Верховную думу, которой решать все государственные дела и определять законы, вошли князь Иван Фёдорович Мстиславский, боярин, воевода, один из влиятельнейших членов земской Боярской думы в период опричнины; Никита Романович Юрьев, брат первой жены Ивана Грозного Анастасии, дядя царевича Фёдора Ивановича; Иван Петрович Шуйский, воевода, прославившийся стойкой обороной Пскова; оружничий Богдан Яковлевич Бельский, как опекун царевича Дмитрия Ивановича; вот и — всё.
Тут и разгорелся спор. Пыль до потолка. Хотя и степенная.
Дело в том, что никто не говорил того, о чём думал. Слова каждого думца, основательно-неторопливые, сводились к одному: Борис Годунов ничем себя не проявил ни в рати, ни в делах государственных, всегда он где-то сбоку, в сторонке, поэтому он станет обузным для Верховной думы. Особенно упорствовали сами верховники, кроме Бельского, который после исповеди перед Боярской думой больше не проронил ни слова, хотя, быть может, он лучше всех понимал, какая опасность грозит членам Верховной думы, окажись Годунов среди них.
О себе он почему-то не думал. А зря. Его слово весомо легло бы на весы справедливости, и у него самого, да и у всей державы жизнь потекла бы по иному руслу. Но он молчал, словопрение же пресёк наследник престола. Он поднял руку, и все замолчали.
— Годуновы при троне со времени Ивана Великого Третьего. Не новик Борис и при государе был. К тому же он — мой шурин.
«Всё! Вылупился кукушонок, — с досадой подумал Богдан. — Повышвыривает всех остальных из гнезда».
А что он, Бельский, станет одним из первых вышвырнутых, он даже не подумал, ибо повязаны они с Борисом Годуновым великим злодейством или великим благим делом.
Увы, для Бориса Фёдоровича Годунова не было ничего святого. Он приобрёл с таким трудом огромное влияние на Фёдора Ивановича не ради сердобольства к другим, а лишь своей корысти ради, поэтому с первых дней начал пробиваться к полновластию, которое только внешне прикрывалось именем царя.
И самая первая его цель — избавиться от свидетелей смерти Ивана Грозного. По его совету Фёдор Иванович отпустил Иоганна Эйлофа домой с великим вознаграждением, но в Москве был оставлен его сын. Вроде бы для службы в Государевом Дворе, на самом же деле как заложник, чтобы Эйлоф, покинув Россию, не сболтнул бы чего лишнего.
Сделано всё это было тайно. Даже оружничий узнал об отправке доктора и о заложнике только от Тайного дьяка.
Духовник царёв получил настоятельство в одном из отдалённых монастырей с благословения митрополита. Ему был обещан через пару-тройку лет знатный чин в клире митрополита. Понятно, если будет держать рот на замке. Отослан из Москвы и Бельский. А вот постельничий Биркин куда-то исчез. Ни слуху ни духу. Словно болото его проглотило.
Самого же Бориса Годунова словно подменили — он теперь не со стороны наблюдал, что творится в Кремле и в самой державе, он во всё вникал, проявляя деятельность, можно сказать, бурную.
Перво-наперво он возглавил подготовку к венчанию на царство Фёдора Ивановича, но главное в этой подготовке уделил особое внимание речи Фёдора. Да и день определил только после отправки поезда с Марией Нагой и царевичем Дмитрием в Углич. В каждом действе заложен был большой смысл. Если останется царевич Дмитрий в Кремле, он будет сидеть по правую руку от Фёдора Ивановича, а если не будет Дмитрия, то это место достанется опекуну царскому.
А речь венчаемого на царство? Воспроизведём её полностью, прежде объяснив, что она произнесена была в нарушение установившихся правил венчания на царство. Как было принято? Духовную покойного государя обычно читал митрополит, он же свершал все таинства венчания. На сей раз сам венчаемый обратился к митрополиту:
— Владыко, родитель наш, самодержец всей России Иван Васильевич, оставил земное царство и, приняв ангельский образ, отошёл в Царство Небесное, а меня благословил державой и велел мне, согласно с древним уставом, помазаться и венчаться царским венцом, диадемой и святыми бармами. Завещание его известно боярам и народу. И так, по воле Божьей, по благословению отца моего, соверши обряд святейший, да буду царь и помазанник.
Многие из тех, кто окружал трон, раскусили иезуитскую хитрость Бориса Годунова: по словам Фёдора Ивановича выходило, будто у ложа умирающего царя Ивана Грозного находился его сын, и царь самолично благословил его на царство. Стало быть, любые кривотолки о насильственной смерти царя сами собой отпадают — при сыне не свершишь злодейства. Не менее важно и то, что не митрополит совершает обряд венчания по воле Господа, а Фёдор Иванович повелевает помазать его, тем самым давая понять, что он, царь, властен над владыкой.
И это не ради самодержавного авторитета воссевшего на трон слабоумного богомольца, а только для того, чтобы самому Годунову подмять митрополита.
Дальше Борис Годунов повёл двойную игру. С одной стороны, начал милостями обретать своих сторонников. Именем царя он отпустил всех военнопленных и многих узников из знатных родов, сделал боярами князей Дмитрия Хворостинина, Андрея и Василия Ивановичей Шуйских, Никиту Трубецкого, но главное — троих Годуновых, внучатых братьев царицы Ирины. Князю Ивану Петровичу Шуйскому пожаловал все доходы Пскова, им в своё время спасённого.
Все эти жалования вместе взятые не затмевали тех милостей, какие имел от царя сам Годунов. Он получил сан конюшего, одного из почтеннейших с древних времён чина, каким в Кремле уже не очиняли никого почти двадцать лет; титул ближнего великого боярина и наместника двух царств — Казанского и Астраханского. А в придачу ко всему ещё и великое богатство — земли по берегам Москвы-реки с лесами и пчельниками, доходы от области Двинской, казённые сборы Московские, Рязанские, Тверские, Северские, сверх особого денежного жалованья.
Нет, не чиномания, не жадность к богатству двигали Борисом Годуновым, который выуживал у Фёдора такие щедрые милости, но трезвый расчёт. Ему было достаточно урока во время обсуждения на Боярской думе завещания Ивана Грозного, он не хотел подобного упрёка в свой адрес, когда встанет вопрос о восхождении его самого на трон (а об этой цели он не забывал ни на миг) — не сможет никто сказать, что он не знатен. А казна нужна, чтобы без скаредности платить тем, кто станет его поддерживать, и чем напористей, тем щедрей должна быть оплата; вот он и обретал несметные богатства, дабы впоследствии прослыть щедрым. Потом можно будет вернуть всё с лихвой, пустив страну в ощип.
Бояре думные, особенно из перворядных родов, винили его в бездеятельности: всё, дескать, в сторонке, поэтому будет обузным в Верховной думе и бесполезным для державы. Вот он и решил доказать, какую пользу он принесёт России, если станет венчанным её властелином.
Долго размышлять, на каком поприще отличиться, Годунову не пришлось. В двух направлениях устремлялись русские промышленники, купцы да и простолюдины — Северный путь для торговли со странами в тёплых морях и земли за Каменным поясом. Поднять забытый план освоения Северного морского пути Герасимова Борис Годунов не решился — слишком много препятствий и слишком велики расходы, отдача от которых пойдёт не сразу, а годы спустя. Такой срок не устраивал пока ещё негласного, хотя и истинного правителя. Ему хотелось, ему нужно было для решения своего замысла просто-напросто снимать сливки с надоенного уже молока. Такими «сливками» являлась Сибирь. Она была уже почти полностью освоена, чему способствовали двадцать ратных походов против Сибирского ханства, начатых ещё Иваном Третьим Великим и, особенно, успешные действия атамана Ермака. Оставалось только помочь желающим переселиться навсегда в Сибирь, поддерживая их и казной и, что особенно важно, охраной. И пошли за Камень караван за караваном ладей, юмов, кочмар по всем проходным рекам, с удобными волоками, и каждый караван судов под охраной боевых кораблей с крепким огневым нарядом и стрельцами на борту.
И ещё одно предусмотрел Борис Годунов — оборону переселенцев уже на местах, которые, ко всему прочему, становились опорными пунктами и местом для отдыха на долгом пути добирающихся до своей земли обетованной землепашцев. По велению конюшего построена Уфа и крепостицы на реках Печере, Кети и Таре. В Тобольск был послан новый воевода, смелый, храбрый и разумный князь Фёдор Лобанов-Ростовцев, и его усилиями вырастали как грибы посады Палым, Березов, Сургут, Тара, Нарым и Кетский острог.
Народ начал славить Годунова, именуя его Мудрым, и он старался оправдать это прозвище.
Откуда знать простолюдинам, что кроме показной, хотя и очень важной для России деятельности, вписывал своё имя в историю властолюбец ещё и тем, что он безжалостно избавлялся от всех возможных претендентов на престол. Первым скончался Никита Романович Юрьев. Как поговаривали в боярской среде, причастна была к этому чья-то злая рука.
Трое всего осталось в Верховной думе. Вернее, один Годунов против двоих. Но и этого мало. Вскоре Борис Годунов раскрыл заговор против себя, возглавил который член Верховной боярской думы князь Мстиславский. Заговорщики хотели, по словам Годунова, пригласив его на пир, передать в руки убийц. Князь Мстиславский тут же был пострижен в монахи, а заодно с ним заточены были ещё многие, виновные только в том, что не желали лизоблюдить Годунову. Остался всего лишь один верховник в Москве — князь Иван Петрович Шуйский, но вскоре подошла и его очередь. Годунов один. Он всё уверенней действует, он всё больше вещает — «я принял решение», «я так считаю» — всё меньше ссылается на волю государя, а повелевает от своего имени, выказывая свою волю. К этому начал привыкать Государев Двор.
Не забывал Годунов слов думных бояр, которые во время обсуждения духовной Ивана Грозного упрекали его в никчёмности и обузности для Верховной боярской думы потому, что не проявил он себя ни в государственных делах, ни, особенно, в ратных. И вот теперь в державных он успел себя показать, но каков он в ратном деле? А без славы воеводской, как Годунов справедливо считал, он вряд ли будет иметь всенародную поддержку, когда дело дойдёт до престола.
На рать, однако, нужно выезжать из Москвы, а этого делать ему не хотелось. Он понимал, что ему ни на день нельзя оставлять царя Фёдора Ивановича без своего пригляда. Царь податлив и его вполне могут настроить против своего главного советника. А если такое допустить, можно потерять всё, чего добивался таким трудом, такой изворотливостью и такой жестокостью.
К тому же для рати нужен противник, а с королём польским перемирие, шведы захватили всё, что намеревались захватить, и теперь копят силы для нового наступления, чтобы овладеть всем Поморьем и продвинуться до самой Вологды, открыв тем самым путь на Москву. На подготовку уйдёт у них несколько лет. Велик срок. Поспешить бы нужно с воеводской славой. Не припоздниться бы.
И Крыму не до похода. Там драчка за ханство в самом разгаре, и кто победит, угадать никто не сможет.
Но вот тут вроде бы Всевышний подал руку Борису Годунову: победу праздновал Казы-Гирей, а захватив ханский трон, тут же начал готовить поход. Куда? На Польшу или на Россию? Это предстояло уточнить. Потянулись купеческие обозы за Перекоп с ходовым для Крыма грузом, а возвращаясь, непременно встречались с Годуновым. И он из бесед с ними сделал выводы: Казы-Гирей готовит поход на Москву. Замышляет повторить успех Девлет-Гирея, сжигать или не сжигать Москву — это уж как получится, а вот обогатиться полным её разграблением хан намерен.
Доложил Годунов о планах Казы-Гирея государю. Тот, само собой разумеется, сразу же в храм, молить Господа, дабы простёр он длань свою над людом христианским, всю же подготовку к отпору ворогам передал в руки Бориса Годунова, великого боярина. А ему больше ничего и не нужно. Тут же велел спешно звать дьяка Разрядного приказа.
— Готовь роспись обороны стольного града от набега Казы-Гирея. Не большим походом он, похоже, готовится идти, но с силой немалой.
У дьяка Разрядного приказа имелись сведения, что крымцы готовят поход на Польшу. Тайный дьяк тоже подтверждал подобные сведения, но кто ж решит перечить советнику царя.
— Исполню. Пару недель, и доложу.
— Не больше. Нужно подготовиться заранее и основательно. Позор на наши головы, если мы проспим угрозу. Воевод видных предложи. Даже опальных.
Разрядный приказ управился в срок. Среди предложенных воевод были Бельский и Шуйский-Скопин. Не очень это понравилось Борису Годунову, но, поразмыслив, он одобрил выбор дьяка Разрядного приказа:
— Верно, что оружничий поставлен первым воеводой полка Правой руки. Велика слава его воеводская. От Молодей она. А Шуйский-Скопин не первым ли был при обороне Пскова? Его верно, что на Левую руку. Со мной же не верен расклад. Я не возьму воеводство над Большим полком. Назначу на него князя Фёдора Ивановича Мстиславского. Сам же определю при себе Воинскую думу.
Ого! Как истинный государь решает, встанет над всеми воеводами, а в то же время без всякой ответственности. Если победа — вся слава ему одному, при неудачах — виновны воеводы неумехи. Но разве посмеешь поперечить уже ставшему настоящим единовластцем? Тут же получишь под зад коленом и станешь молить Господа, что так легко отделался. Все уже почувствовали жёсткую руку правителя. Фёдор Иванович царствует, но не правит.
У Бориса Годунова между тем ещё одна мыслишка родилась: в неразберихе, даже во время подготовки ратников, ненароком зацепить неумелой стрелой оружничего. Отравленной стрелой. Тогда — всё! Ещё одним искателем престола станет меньше.
Как ни странно, подобные мысли возникли и у Бельского, когда получил он приказ спешить в Москву, чтобы принять полк Правой руки и готовить его к обороне стольного града.
«В сече всё может случиться».
У Бельского были подручные с твёрдой рукой, готовые исполнить любую волю хозяина. Именно эта мысль заставила его принять без всяких оговорок предложенное Годуновым, хотя и считал он своё назначение для себя оскорбительным. Покорившись, Бельский твёрдо решил покончить с Годуновым, а избавление от него видел только в смерти противника. Он вполне понимал, что иначе пересилить его не сможет.
А знал же, что Борис не из храбрых, но очень расчётлив. Он не из тех, кто, уподобляясь князьям минувших лет, мог нестись на врага впереди своей дружины — нынешний конюший даже не приблизится к полю боя на полёт стрелы. Он — голова всему, а голову нужно беречь. Так Годунов считал и в этом он был уверен.
И Годунов преподал Богдану урок при первой же встрече:
— Я создаю при себе Воинскую думу из шести опытных воевод. Среди них и ты. Даю тебе день на отдых, после чего позову на Думу. Будем впрягаться.
«Всё же найду способ. Найду! Свершу благое дело!»
Что ж, всякий по-своему понимает благое дело.
На совет Воинской думы её члены и приглашённые собрались без волокиты, и Борис Годунов сразу же предложил:
— Приступим к делу. Для начала давайте послушаем дьяка Разрядного приказа, пусть скажет, что мы имеем под рукой и какая есть возможность собрать крупную рать для встречи крымцев под Москвой. После чего и станем решать, кому какие рубежи взять под оборону.
Дьяк был предельно краток:
— Основные наши силы в Пскове и Новгороде. Разрядный приказ известил Боярскую думу о замысле Казы-Гирея, она же поверила сказке Посольского приказа, будто хан поведёт тумены на Вильну и Краков.
— Не судить Боярскую думу мы собрались, — резко осадил дьяка Годунов, — а решать, как надёжней заступить путь крымцам.
Посопел чуток обиженный дьяк Разрядного приказа, но на большее у него не хватило смелости. Продолжил:
— На Оке обычная летняя рать. Полки, как принято, в своих станах по всему Окскому берегу. При нужде они спешно выйдут на путь следования крымцев.
— Что мы имеем под Москвой и в самой Москве?
— Стрельцов и детей боярских тысяч пять. И — царёв полк. Пока, выходит, не густо — пятнадцать тысяч. Идут полки из Твери, из Волоколамска, из Великих Лук, из Владимира. Можно взять из Ярославля, если Воинская дума решит. Там рать стоит против шведов в готовности выступить.
— Сегодня же шли гонцов в Ярославль, указав место сбора под Москвой. Мы, — Годунов как бы провёл рукой по головам воинских думцев, — поведём полки к Серпухову. Там встретим крымцев. Вначале на переправах, а затем дадим бой, выбрав для главной сечи подходящее для нас поле. Сегодня же Разрядному приказу слать гонцов на Оку, чтобы вся Окская рать сходилась бы к Серпухову. Со сторож тоже снять часть казаков и детей боярских, подчинив их воеводе Сторожевого полка, чтоб лазутили.
Замолчал, сделав вид, будто думает, не упустил ли чего, затем спросил думцев:
— Как, верные советники мои? Согласны?
— Согласны, — разнобойно ответили почти все, и только Богдан Бельский предложил:
— Гуляй-город не помешало бы взять с собой. Он может сослужить добрую службу, как послужил нам с князем Воротынским у Молодей.
— Верное слово. Даже не один можно взять, а два или даже три. В самом деле, не станут они лишними. Тебе, оружничий, и поручим подготовку китаев и огневого наряда к ним.
— Ясно. Построю спешно.
Но тут дьяк, подавив снисходительную улыбку, сообщил:
— Какого ляда строить новые, когда у нас есть в достатке китай-городов. Сколько нужно, столько и поставим.
— Вот и ладно, — заключил Борис Годунов и повернул голову к Бельскому: — Ты, Богдан Яковлевич, всё же погляди, все ли целы, не требуется ли какой починки.
Вот и весь совет Воинской думы. Не советовался Годунов, а повелевал. Впрочем, о чём пока судачить. Все воеводы Воинской думы были на той Боярской думе, когда она взяла под сомнение утверждения Годунова, поверив сведениям Посольского приказа. Ещё не ясно, пойдёт ли к Москве Казы-Гирей. Или всё же направит на Польшу и Литву. Если же и впрямь на Россию нацелится, то когда поход? И каким трактом? Отсюда и неопределённость такая, и вялость. Работал принцип: «Улита едет, когда-то будет».
Не поспешил и Бельский с ревизией китай-городов, огневого наряда и подвод — откладывал «на завтра». Он был более озабочен главным для него: как ему встретиться со старейшим монахом Чудова монастыря Дионисием, не вызвав ни малейшего подозрения у Годунова. Пора, как считал Бельский, устраивать Дмитрия царевича в монастырь, передав в руки мудрому пестуну.
Нашёл всё же способ. Долго беседовал с Дионисием, не открывая всего начистоту, в то же время давая понять, кого ему предстоит опекать. Мудрый старец, похоже, всё понял и ответил кратко, но увесисто:
— Будет со мной, в моей келье.
Довольный договорённостью и решивший с завтрашнего дня засучить рукава, исполняя свой урок, Бельский поехал домой, но только начал переодеваться в домашнее платье, как совершенно неожиданно к нему прибыл посыльный от Годунова.
— Великий боярин кличет срочно на совет Воинской думы. Казы-Гирей подступает к Туле.
Все встрепенулись. На авось больше нет надежды. Разрядный приказ велел гонцам скакать к воеводам, которые ведут полки к Москве, чтобы те поспешили, оставив даже обозы (подтянутся позже), а доспехи приторочили бы на вьючных коней. Спешно собранная Годуновым Воинская дума тоже повела разговор не в полудрёме.
Правда, Борис Годунов и на этот раз не изменил своей манере:
— Моё решение такое: князь Мстиславский со своими полками встретит Казы-Гирея на переправах, после чего один полк посадит в Серпухов, дабы удерживать город и делать вылазки, дёргая за хвост крымские тумены, остальные полки построятся в поле, выбрав удобное себе место для сечи. Мы же получим больше времени для подготовки обороны Москвы. Главное, успеем укрепить китаями посад за Москвой-рекой, пустив на это все припасённые Разрядным приказом китай-города. Установим в бойницах пушки, посадим изрядно стрельцов и встретим ворогов ядрами и пулями, прежде чем выйти на сечу лицом к лицу.
На этот раз бывалые воеводы не остались сонными мухами. Первым возразил Богдан Бельский на правах оружничего, на правах героя Молодей, на правах человека, успешно проведшего операцию по усмирению карелов, а совсем недавно — черемисы луговой и нагорной.
— Не всё ладно в твоём, конюший, раскладе. Если так устроим оборону, не повторится ли то, что сделал с Москвой Девлет-Гирей?
Очень уж недоволен Годунов, особенно то укололо, что Бельский назвал его не великим боярином, а только конюшим, но пришлось недовольство сдержать: сам создал Воинскую думу, теперь заставляй себя слушать советы.
— Ты что предложишь?
— Моё слово такое: сразиться с Казы-Гиреем перед Москвой. Не у стен её, а в нескольких вёрстах от них. Князь Михаил Воротынский, готовя разгром Девлет-Гирея год спустя после его первого успешного набега, предусматривал — мой совет тогда тоже был принят — возможный прорыв крымских и ногайских туменов к Москве, поэтому, испросив согласия высшего церковного клира, посадил в монастырях Даниловой, Новоспасском, Симоновом крепкие отряды с сильным огневым нарядом. Я и теперь советую сделать то же самое. А поле для рати выбрать перед этими монастырями, но так, чтоб ядра из пушек доставали бы татарские тумены.
Дельный совет, но с явным подлогом: никто не спрашивал перед тем сражением совета Бельского — Воротынский свой замысел держал в тайне даже от первых воевод полков, но кто теперь может опровергнуть слова лукавые Богдана? Тем более что Годунов сразу же поддержал оружничего:
— Весьма разумно. Думаю, митрополит не откажет мне. Не станут возражать и настоятели монастырей.
— Скорее всего, они ещё чернецов дадут нам в помощь, — вставил своё слово князь Шуйский-Скопин.
— Вполне, — уверенно подтвердил Годунов, словно это зависело только от его воли. И к Бельскому: — Ты, похоже, не всё сказал?
— Нет, всё. Под Серпуховым не заступать путь Казы-Гирею. Князь Мстиславский ни за что ни про что положит весь Большой полк, ибо не успеют подойти к нему остальные полки Окской рати. Предлагаю слать гонцов немедля, чтобы рать Окская, оставив малые заслоны и разъезды лазутчиков, шла бы к Москве. Спешно. Нам же срочно стоит готовить места для зажитья полкам и гуляй-города каждому полку.
— Не в поле встречать, а укрывшись за плахами? — хмыкнул князь Голицын. — Не по-русски такое. Мы же не зайцы, чтоб под кустами дрожать! Грудью нужно встречать ворогов. Грудью!
— Эка, грудью?! — пылко возразил князь Шуйский-Скопин. — Чем берут крымцы в сече? Они ещё до рукопашки обсыпают стрелами построенную к сече рать. Тучами стрел обсыпают, вертя своё колесо перед нашим строем, изрядно прорежая его. Китаи же — добрая защита от стрел. Из-за них сподручно редить крымцев пушками и рушницами. Если ещё монастыри пособят ядрами да дробосечным железом, любо-дорого получится. Оружничий прав. По его слову нужно нам поступать.
— Думаю, никто разумному не поперечит, — заключил Борис Годунов и предложил: — Давайте определим и тех, кто встретит крымцев, если они всё же прорвутся в самую Москву. Я предлагаю такой расклад: оборону царского дворца возложить на князя Ивана Глинского; Кремля — на князя Шуйского; Белый Город — на Ногтева-Суздальского и Мусу Туренина; Китай-город — на князя Голицына. Выбор места для их китай-городов я возложу на оружничего Бельского. Мы с ним определим и место для главного стана. Там поставим походную церковь, поместив в ней икону Божьей Матери, которой благословил святой Радонежский предка нашего Дмитрия Донского на победу в битве с Мамаем-разбойником. Если нет ещё какого слова, берёмся всяк за своё дело.
Никто даже не обратил внимания на то, что причислил Борис себя к потомкам Дмитрия Донского. С какого боку? Ну, оговорился конюший, бывает же и на старуху проруха. Бывает, конечно, только не у Бориса Годунова. Он случайного слова не выпустит изо рта. Приучает всех к мысли, будто и он царственного рода.
Потом, когда уже станет поздно, спохватятся князья, а в те дни не до того было: нужно спешно готовиться к встрече Казы-Гирея, определять место для главного стана у Данилова монастыря, чтобы двух зайцев сразу убить: и за ходом сечи наблюдать, и в случае опасности быстро можно было бы укрыться за стены. Не менее важны места для китай-городов прибывающим полкам. Чтобы стояли они вплотную друг с другом между Тульской и Калужской дорогами и чтобы не создавали друг дружке помех. Все почти пушки поснимали с кремлёвских стен, оставив лишь малую их часть, особенно у царского дворца.
Через пару дней подошёл князь Мстиславский с Большим полком и занял главный стан. Следом за ним начали подходить полки Окской рати и из других городов по росписи Разрядного приказа. Их встречали и указывали каждому полковой стан и гуляй-город. А для сводной рати из Подмосковья тоже подготовили специальный стан. Вскоре все китай-города были заполнены, оставался свободным только один, специально подготовленный для царёва полка. В нём пока только пушки установили. И когда Казы-Гирей, обойдя Тулу, начал переправу через Оку, под Москвой всё было готово для встречи вражеских туменов.
На Воинской думе выработали такую тактику боя: войску сидеть тихо до тех пор, пока крымцы не начнут атаку. Не огрызаться ни пушками, ни рушницами даже тогда, когда тумены начнут своё смертоносное колесо, обсыпая китай-города стрелами. Затаиться за китаями, прикрыться щитами и ждать набатного колокола Данилова монастыря. Даже наблюдателей не иметь — они будут бдить на звонницах монастырских. Ударит же колокол только после того, как Казы-Гирей выпустит главные силы. Вот тогда — огонь из всех пушек, всех рушниц и даже всех самострелов. Дружный. Залповый. Сбить порыв, расстроить ряды, посечь ядрами, дробосечным железом, пулями и железными болтами передовые сотни, а уж тогда — вперёд. В рукопашную. Тоже по удару главного колокола Данилова монастыря.
Миновала пара первых июльских дней. Ждали, что вот-вот прискачет вестник от лазутчиков-сторожей, но он прискакал только к вечеру третьего дня.
— Казы-Гирей остановился на берегу Лопасни ночевать. Передовой отряд приближается к Десне. Тумены идут и по дороге через Боровск. К Пахре уже приближаются.
Стало быть, ещё один день ожидания.
Известили об обстановке царя Фёдора Ивановича, и тот, нарушая уже давно установившийся порядок, не покинул свой дворец, не поспешил в Александровскую слободу или даже в Вологду, как поступали его дед и отец, а объявил, что намерен встретиться с ратниками в их станах и вдохновить их благословением от имени Господа Бога на смертельное сражение с басурманами.
Воеводы было предложили построить полки на поле между Коломенским и китай-городами для смотра царского, но Фёдор Иванович не принял такую услугу.
— До смотров ли в такой день? Нужно готовиться к великой сече, я же, грешный помазанник Божий, пройдусь по полковым станам, поспрошаю о здоровье воинов, подбодрю ласковым словом.
Он и в самом деле у каждого китай-города спешивался и проходил по станам с одним только телохранителем. Из воевод сопровождал государя лишь князь Мстиславский, готовый ответить на любой его вопрос. Вот таким образом царь хотел показать как свою доступность, так и храбрость.
Особенно проникновенно он беседовал с москвичами, которые по доброй воле опоясались мечами, взяли в руки рушницы.
— Я стану молиться за вас. Я не покину дворца своего и буду воочию зрить поле боя. Бейтесь мужественно, показывая пример остальным.
Они клялись в ответ, что не пожалеют животов своих ради спасения стольного града, жён, детей своих и его, любезного государя, чем растрогали Фёдора Ивановича до слёз.
— Верю в вас. Верю в воев русских. Верю, завтра вы обуздаете хана и его разбойные тумены. К вечеру встанет в общий строй вся моя дружина, весь царский полк. Мне охрана не нужна. Если падёт Москва, паду и я.
Услышав такие слова из уст самодержца, поклялся от имени всего войска главный воевода князь Мстиславский:
— Не быть Москве покорённой! Хан будет разбит! Так говорим мы, ратные, государь, твои слуги!
После обеда — тревожная весть. Высланные как боевое охранение дети боярские во главе с князем Владимиром Бахтияровым встретили на Пахре передовой тумен крымцев, смело вступили с ним в бой. Но разве могли две с половиной сотни долго удерживать переправу? Крымцы разбили отряд и гнали его до самого села Бицы.
Теперь уже не оставалось никакого сомнения, что враг на подходе.
Тут и Борис Годунов пожаловал к рати. Со свитой бояр, аки государь истинный. Шелом золотой. Огнём горит на солнце. Бармица, укрывавшая шею, тоже золотая. Паворози покрыты золотой чешуёй и жемчугом. Кольчуга харолужная, ковки новгородской, с золотой чешуёй на груди. В руке — клевец[60]. Знак главного воеводы всей рати. Однако он не взял первого воеводства над Большим полком, значит, не имеет на это права. Клевец должен быть у князя Мстиславского. Но Годунову, как всегда, наплевать на уставы. Он здесь главный, и этим всё сказано.
И конь под ним — белый. Словно победитель едет после рати со щитом. «Гоп» говорит, ещё не прыгнув.
За свитой, через малый промежуток — царский полк. И в самом деле полный, как и обещал Фёдор Иванович. Очень существенная сила в общий строй — более десяти тысяч отборных воев, хорошо вооружённых, отважных и ловких в сече.
К полку присоединилось ещё несколько тысяч добровольцев москвичей, умеющих держать в руках и мечи, и шестопёры, и боевые топоры.
Проводив царский полк, как хозяин заботливый, до его китай-города, Годунов повернул коня к главному стану, и спешившись у своего шатра, велел слать за первыми воеводами всех полков, сам же, позвав всю Воинскую думу, его сопровождавшую, откинул полог шатра.
— Окончательно утвердим ход сечи.
Стемнело, пока собирались воеводы со всех полков. Внесли свечи, и начался заинтересованный разговор. Предлагалось много, и предложения те либо принимались, либо отвергались, но обоснованно. Годунов на сей раз не выпячивал своё «я».
Особое разногласие возникло из-за сигнала для первого залпа. Воевода полка из самого дальнего китай-города не согласился, чтобы сигналом для первого залпа послужил удар набатного колокола Данилова монастыря.
— Не резон для всех один гребень. Не к каждому китаю подскачут крымцы на выстрел в один и тот же миг. Предлагаю иное: набат — знак, чтобы приготовиться. Он предупредит, что крымцы пошли на нас. А вот для залпов в китай-городах должен быть свой знак. Свой набат пусть ударит по приказу воеводы.
— А не повернут ли кто подальше, увидя, как секут ядра и дробь их соплеменников?
— Легко ли скорый бег лавы замедлить, да повернуть? Да и не повернут без воли ханской тумены. Спины им за такую трусость попереломают.
— Что верно, то — верно. Не повернут ни в жизнь.
— Принимается, — наконец согласился Борис Годунов. — Но до набата с Даниловой звонницы никому не высовываться.
— Знамо дело.
До конца совещания продолжал Годунов вести себя не совсем обычно: не высказывал своего мнения первым ни по одному вопросу. Более слушал. И когда большинство одобряло, соглашался и он. Да и не чинился вовсе. Когда же обсуждение тактических приёмов закончилось, предложил:
— Разъедемся по полкам. Воодушевим воинов на битву. Она очень трудной будет. Смертельной.
Богдан Бельский занервничал. Пути от стана к стану в темноте могут принести любую случайность. А подготовленные лучники у него под рукой. Дай только условный сигнал.
Увы, ещё один щелчок по носу.
— Я с оружничим останусь здесь, — продолжил Годунов, словно прочитав его мысли, словно зная о тайной надежде Бельского. — Пройдём с ним по главному стану.
Почти до самого рассвета бодрствовал Годунов, вместе со всеми прислушиваясь, не долетит ли до стана конский топот разбойных крымцев, и только когда восток начал светлеть, велел Бельскому:
— Оставайся при князе Мстиславском. Твой опыт не станет обузным. Я же — к царю. Доложу о готовности к сече, затем поднимусь на звонницу Данилова монастыря и стану наблюдать за полем боя, чтобы при нужде любую оплошность воевод исправить. В самом монастыре придержу резерв. Тысячи три. В нужный момент либо по твоей просьбе, либо князя Мстиславского пущу свой резерв в дело.
Вот теперь Годунов как Годунов. Подальше от стрел и сабель, а вроде бы не в стороне.
Казы-Гирей не пустил с ходу свои тумены в атаку на русскую рать. Если бы она стояла, изготовясь к битве в поле, тогда иное дело, а то попряталась за толстыми и высокими досками, за которыми не посечёшь гяуров стрелами, да и через оплот просто не перескочишь. Хан принял решение осмотреться. Оставив основное войско против села Коломенского, сам со своим стягом и личной гвардией поднялся на Поклонную гору. Темников тоже взял с собой.
Стоят китай-города на вид пустые. Да и откуда взяться, если рассудить, много войска в Москве, если, как докладывали лазутчики, всё оно в Пскове и Новгороде, да ещё в Ярославле?
«Пустить передовые сотни, чтобы проверить, чем огрызнутся эти передвижные крепостицы, об одну из которых обломал зубы Девлет-Гирей, или ударить сразу всеми силами, быстрее решив исход битвы в свою пользу?»
И тут лашкаркаши с советом. Не таким, какие давал Дивей-мурза своему хану. Нынешний предводитель похода не столь хитёр, как тот в ратных делах, но вот в лизоблюдстве преуспел.
— Великий хан, вели своему войску навалиться на эти дощатые огороды, поставленные ради обмана. Где князь Фёдор, данник твой, раб твой, мог собрать столько войска, чтобы посадить его в стольких огородах? Твоя сила, мой хан, безмерно великая против русских.
— Верно. Туменов храбрых у меня много.
— Если, мой повелитель, упустим время, к Москве могут подойти полки из Пскова и Новгорода. По моим расчётам, дня через три-четыре. Нам этих дней хватит, чтобы взять в Москве всё, что мы собирались взять, и уйти за Оку.
— Принимаю твой совет мудрый. Определи темникам, кому какой огород брать. Да поможет нам Аллах. Великий. Всепобеждающий.
Темники под рукой. Определить каждому направление для удара не заняло много времени.
— Карнаи известят, когда на эти их огороды кинемся. Все тумены выступают одновременно. Пусть увидят гяуры, трусливо спрятавшиеся за досками, как велика наша сила. Велик Аллах!
— Велик Аллах! И Мухаммед его пророк!
А русские ратники все жданки съели, гадая, когда же начнётся атака нехристей? Недоумевали, чего ради татарва медлит? Не в их это правилах. Они атакуют сразу, без раскачки, а тут вдруг — идёт время тихо-мирно. Трудно сидеть, притулившись спинами к колёсам телег, подпирающих китаи, не смея носа высунуть. Это строжайше запрещено. Не спускают глаз с ратников, готовые остепенить тех, кто станет самовольничать, не только десятники, но и сотники. А так хочется поглядеть, что творится за китаями. Вдруг вороги татями подбираются под самые оплоты?
Нет. Такого не может быть. Наблюдатели на звонницах монастырей не спят.
А лашкаркаши не спешит приказывать карнаям, чтобы давали сигнал для начала атаки. Даёт время темникам доскакать до своих туменов, собрать тысяцких и сотников для объявления им ханской воли, справедливо посчитал, что спешка при подготовке к атаке может повредить успеху. Вот если бы рать русская стояла стеной, как обычно, тогда всем всё ясно: передовые тысячи крутят колесо перед вражеским строем, разрежая его, а следом, по команде темников — неудержимая лава:
— Ур! Ур! Ур-а-а-гш!
И дальше всё отработано: за первой лавой — следующая. Тумены второго удара охватывают строй с боков, рассекая его на части. И вот она — победа!
Теперь иное. Теперь нужно подумать, как ловчее одолеть высокие заплоты. Но ничего лучшего не придумаешь, как навалиться всеми силами, окружить китай-города, затем растащить китаи, отобрав для этого специальных джигитов на крепких и послушных лошадях. Они должны набросить на китаи крючки и тянуть их изо всех сил. Крючки для этого есть. Хотя они приготовлены для стен, но вполне пойдут и для этой цели. Есть и крепкие верёвки, плетённые из конских хвостов.
Русские же ратники серчать начали на долгое безделие татар.
— Иль не решаются?! Глядишь, не попрут, а поворотят морды коней своих в степь?
— Держи карман шире. За наживой пришли, разве остепенятся, не награбив добра и не захватив полона?
— Так видят же китаи. Вон их у нас сколько. Побоятся, что не смогут одолеть.
— Им китаи видятся пустыми. Даже пушки у нас упрятаны до времени. Вот и примут их за обманные.
— Оно, конечно, так, но всё же...
Прервался этот вялый разговор протяжным завыванием басовитых карнаев. Подхриповатым, но далеко слышным.
— Ишь ты? Встрепенулись!
Но продолжай сидеть до команды тихо, не смея даже размять ноги, распрямившись. И на подводы не моги взобраться, которые не только подпирают китаи, но и удобны для стрельбы рушницами из бойниц. Когда же татары полезут на сами китаи, стоя на телегах, ловчее рубить сплеча боевыми топорами, мечами, но особенно потчевать незваных гостей шестопёрами. Готовиться, однако, к этому рано. Вот когда ударит полковой набатный барабан, тогда в самый раз поплевать на ладони. А набат встрепенётся только тогда, как им объяснил сотник и подтвердили десятники, когда татарва, хотя и увидит вмиг ощетинившиеся стены китай-городов, остановить бешеный бег своих коней уже не сможет. Но прежде полкового зазвучит колокольный набат со звонницы Данилова монастыря.
Прошло немного времени, и тугой удар главного колокола разнёсся над полем и словно повис над цепью китай-городов. Запаливай, значит, пушкари факелы, сыпь порох на полки. Самопальщики готовь рушницы. Остальным — натягивай пружины самострелов, вставляя в направляющие гнезда калёные болты-стрелы, пока что не особенно шевелясь. Жди удара полкового набатного барабана.
Вот долгожданный басовитый удар набата. Готовься, стало быть, в полную меру. Чтобы по второму удару с залпом не замешкаться.
Хорошо бы ещё под копыта татарских коней триболы загодя разбросать, чтоб смешались бы передовые в кучу неразборную, а уж по ней — залп; но воеводы не решились на такое, ибо когда из китай-городов выскочит своя конница рубить сбившихся в толпу татарских ратников после встречных залпов, свои же кони могут наступить на триболы, и встречный удар ослабеет.
Резон, конечно, в этом есть, но можно было бы предусмотреть для своих проходы, обозначить их только вехами.
Жаль, умная мысля приходит, как часто бывает, опосля.
Гулкими басами ухают друг за другом полковые барабаны. И тут же — залпы. Тоже один за другим. И в грозный клич «Ур! Ур! Ура-а-агш!» вплелось истошное ржание раненых коней. Из скачущих в первых рядах добрая треть барахтается на земле, а дико несущуюся лаву не сдержать: кони более чем всадники охвачены неизъяснимым порывом, кажется, они даже не чувствуют раздирающего губы в кровь железа, несутся вперёд, перемахивая через упавших на землю коней и всадников. Только тогда скачущий конь может упасть, если наткнётся на пытающегося подняться подранка — тогда куча мала увеличивается и становится непреодолимой, образуется целый заслон из придавленных седоков и судорожно барахтающихся коней со сломанными шеями.
Ещё один удар набатов — ещё один залп; ещё удар — ещё залп. А в подмогу пушкам китай-городов бьют тяжёлые со стен монастырских, и ядра их, перелетая первые ряды, падают в середину атакующих, создавая и там завалы из коней и всадников.
— Что ж, пора, видно, обнажать мечи? — вроде бы сам у себя спрашивает князь Мстиславский и сам же отвечает: — Да, в самый раз. Пока не пришли в себя крымцы.
По сигналу взвизгнули игриво сопелки, весело подхватили их песню мелкие барабаны, рассыпались дробью, необычно звонко заиграли волынки — хоть в пляс пускайся.
И ведь верно: на кровавый пляс кличет музыка.
В один миг откинуты отвороты китай-города главного стана, и рванула русская конница, лихо врубаясь в смешавшиеся ряды врагов. Следом пешцы твёрдой поступью шагают на смертный бой.
Примеру Большого полка тут же последовали и другие полки. Сеча началась сразу перед каждым китай-городом.
Шло время, и сеча всё более распадалась на отдельные рваные куски, стало видно, что и русские, и татары заметно устают, рубятся вяло, но ни одна сторона не собирается уступать. Тут бы ввести в бой свежие силы, чтобы переломить ход рукопашки, но ни хан не решается отпустить от себя свою гвардию, ни Годунов — свою. А у Мстиславского резерва нет, да и откуда ему было бы взяться: наскребли по сусекам всё, что смогли.
Но вот, когда уже завечерело, распахнулись ворота Белого города, и несколько тысяч москвичей-добровольцев, получивших доспехи в царской Оружейной палате, вступили в сражение. Сразу же наметился перелом, хотя татары и не запаниковали, но боевой дух у них сник основательно, русские же мечебитцы взбодрились. Напор их стал более упрямым, и крымские тумены прорежались более, чем русские полки, к тому же татары во множестве начали сдаваться в плен. И не только простые нукеры, а знатные мурзы, сотники и даже тысяцкие.
Чуть было не захватили царевича Бахты-Гирея, тяжелораненого, но телохранители, окружив царевича плотным кольцом, всё же вынесли его с поля боя. Слух о ранении царевича стал стремительно распространяться среди крымцев, и они вовсе упали духом. Вот-вот должен был бы наступить желаемый перелом, но солнце уже закатывалось, и татары из последних сил рубились, уповая на неумолимо приближающуюся ночь.
Она действительно спасла крымцев от разгрома: враги отошли к своим станам организованно, хотя и уныло. Привыкли они к стремительным победам, к обогащению, которое следовало за победой, а тут такая тягучесть. Тут так много смертей. Так хитро расставили гяуры китай-города, а в них установили множество пушек, что диву даёшься. К тому же случись перевес со стороны нападающих, обороняющиеся могут укрыться за высокие, из толстых досок стены и снова отстреливаться из пушек, рушниц и самострелов, а ты снова как на голом пузе. Одно останется — лезть на смерть, если прикажут начальники. Не подчинишься — всё равно смерть. Со сломанным хребтом.
Крымские же военачальники мучались непонятным для них вопросом: откуда царь Фёдор набрал столько полков и изрядное число пушек? Жестоко пытали специально сдавшихся в плен детей боярских, чтобы выяснить у них, не псковско-новгородская ли рать подоспела к Москве, но готовые к смерти герои, корчась от боли и с трудом сдерживая истошные крики, твердили одно и то же:
— Мы ждём подхода полков из Пскова, из Новгорода и из Вологды. С рассветом должны подойти передовые отряды. Крайний срок — к вечеру. Отсидимся за китаями до их прихода, отбивая наскоки. Зелья, ядер и дробосечного железа у нас в достатке.
К полуночи Казы-Гирей собрал темников и объявил своё решение:
— Мы не верим тому, что говорят под пытками пленные гяуры. Они врут. Князь Фёдор успел привести полки из Ливонии потому, что король Швеции обманул нас, пообещав к лету осадить русские северные города, но не сделал этого. Ещё мы думаем, князь Фёдор выставил против нас не все свои силы. Держит он несколько полков в Кремле. Завтра он может бросить их в бой и решить сражение в свою пользу. Нужно ли нам дожидаться этого? Мы соберёмся с новой силой и придём сюда совсем неожиданно.
Никто из темников даже не попытался возразить. Только лашкаркаши предложил коварный план:
— Снявшись на рассвете, оставим в засаде пару туменов. Если гяуры погонятся за нами сломя голову, то окажутся в мешке, и победа будет в ваших руках, мой мудрый хан.
— Да будет так.
Отступление крымцев было сразу же замечено, и князь Мстиславский тут же самолично поспешил в Данилов монастырь на доклад к Годунову, который, как оказалось, спокойно почивал в покоях настоятеля. Князь добился, чтобы его разбудили. Доложил.
— Крымцы уходят.
— Я — к царю Фёдору Ивановичу, а ты — в погоню. Круши и круши. Пусть запомнят надолго, что прошло время разбоя безнаказанного!
— Я не выведу полки из китай-городов. Не исключаю коварного замысла: вытянет нас за собой Казы-Гирей и завяжет в мешок. У него хватит для этого сил.
— Не будет никакого мешка. Я повелеваю тебе: преследуй!
— Я посоветуюсь с первыми воеводами всех полков и Воинской думой.
— А я, сообщив радостную весть Фёдору Ивановичу, не умолчу о твоём упрямстве. Он, рассчитываю, скажет тебе своё слово.
Мстиславский, проводив Годунова, разослал лазутчиков окрест и велел собраться всем первым воеводам полков и членам Воинской думы в главной ставке. Доложив о приказе Годунова, поведал собравшимся, что он сам думает о сложившейся обстановке.
Опытные воеводы вполне согласились с тем, что крымцы не разбиты и могут, применив коварство, оказаться на щите, поэтому окончательное решение следует принять после того, как поступят известия от лазутных отрядов.
Тем временем Москву всколыхнул торжественно праздничный звон вначале колоколен кремлёвских храмов, затем и всех приходских церквей — столица одержимо в едином радостном порыве восклицала только одно слово:
— Победа!
Понеслись толпы к полковым станам, чтобы благодарить победителей, угостить их хмельным мёдом, но князь Мстиславский велел остановить ликующие толпы, объяснив им, что не подошла ещё пора для торжества, сам же продолжал, вместе с воеводами, ждать доклада лазутчиков.
Первый же вестник от отряда, лазутившего справа от дороги, подтвердил опасение Мстиславского и остальных воевод: лес буквально наводнён нукерами. Подобное же и слева от дороги.
А вскоре поступили более конкретные сведения: справа и слева от дороги на Серпухов укрылось по тумену крымцев. Явно для удара в спину, если русские ратники кинутся в погоню за основными силами.
Короткий обмен мнениями, и единодушное решение: полкам Передовому и Сторожевому, броском обойдя стороной засады, сопровождать по бокам отступающее войско Казы-Гирея, не давая возможности грабить лежавшие близ дороги сёла и малые города, остальным полкам подождать, пока засады снимутся и уйдут вслед за основным войском, тогда уже, основательно лазутя, идти вдогон. На переправе через Оку решили, собрав воедино все силы, побить как можно больше крымцев.
В Степь же, где русское войско может быть разбито, не идти.
И вот когда все нужные распоряжения были отданы, и полки приступили к их выполнению, князю Мстиславскому вестник передал волю царя Фёдора Ивановича:
— Преследовать не только до Оки, но и в Степи. Дабы окончательно завершить разгром разбойного войска.
— Оно не разгромлено, и мы его не в состоянии разгромить! — невольно вырвалось у князя Мстиславского, но он тут же спохватился. Не для гонца подобные слова. Попросил его: — Ты погоди чуток — я отпишу государю нашему решение Воинской думы и первых воевод всех полков.
К тому времени, как полки под командой князя Мстиславского основательно потеснили крымцев, пощипав знатно на переправах через Оку, и сопроводили их за засечные линии, не дозволяя грабить Заокские сёла и города, сами же не неся почти никаких потерь, москвичей уже успели убедить (усилиями наёмных крикунов), будто воеводы из-за упрямства Мстиславского, отказавшегося исполнить приказ не только главного воеводы Бориса Годунова, но и самого царя, упустили истинную победу. Произошло якобы непоправимое: разбойное войско ушло в Поле недобитым, жди, стало быть, его скорого возвращения.
Москва славила только Годунова, воеводский гений которого спас и стольный град и всю Россию.
Сам же Борис Годунов чувствовал себя на седьмом небе. Всё сложилось для него самым лучшим образом — теперь он не только мудрый советник государя и деятельный исполнитель его воли, теперь он ещё и прославленный воевода.
Кто теперь может сказать об его обузности?
Трон стал ещё ближе. Виден уже конец столь многотрудной борьбы. Осталась самая малость — всего три шага.
Первый шаг самый лёгкий, хотя вроде бы сомнительной нужности, однако Борис Годунов имел правило всегда заранее подстилать, на всякий случай, толстый слой соломы. Дело в том, что единственный в истории Ливонии король, хотя и мнимый, Магнус[61] скончался, и его жена, правнучка Ивана Грозного, Великого, Мария Владимировна и её двухлетняя дочь Евдокия остались без имения, без отечества, без друзей. Вроде бы какое дело Годунову до несчастной вдовы, но он предвидел возможное будущее: в случае кончины Фёдора Ивановича и Дмитрия Ивановича Мария может заявить своё законное право на российский престол. Угодно ли подобное Годунову?
Ответ однозначный: нет! И Годунов идёт на очередное коварство: заманивает Марию в Москву посулами о богатом женихе и добром имении, имея цель расправиться с ней.
Не подозревая ничего дурного, Мария Владимировна с дочерью приехала в столицу, и здесь её сразу же задержали. Борис Годунов предложил ей выбор: темница или монастырь.
Она соглашалась на любую участь, прося только об одном: чтобы её не разлучали с дочерью. Годунов, однако же, не сердобольничает: вскоре Мария Владимировна оплакала дочь, о неестественной смерти которой, как утверждал летописец, ходила молва. Через несколько лет отдала Богу безгрешную, горечью истерзанную душу и сама Мария.
Теперь на очереди — царевич Дмитрий.
Очень много имеется туманных и даже противоречивых суждений о гибели сына Ивана Грозного, но они разнятся только в малых деталях, проявляя полное единодушие в том, что смерть царевича — не случайное стечение обстоятельств, не результат неловкой игры в ножички — она творение коварного Годунова. И вопрос у многих на устах: царевич ли погиб?
Между вторым и третьим шагом — промежуточный. В шутку или всерьёз в своё время Иван Грозный посадил на российский престол вроде бы вместо себя великого князя Тверского Симеона. В дальнейшем, отстранённый от трона, он жил в своём удельном княжестве, пока и до него не дотянулась рука Бориса Годунова. Наступила и для Симеона пора: его Годунов лишил удельного княжества и определил место жительства в уединённом селе. Однако и этого Годунову показалось мало: Борис прислал ему на именины, вроде бы в знак своего уважения, вина, выпив которое Симеон ослеп. Сей коварный шаг подтверждали многие, даже сам Симеон в беседе с французом Маржеретом.
Вот теперь ничто не мешало завершить свой обильно политый кровью путь к трону, тем более что сам царь Фёдор Иванович, не отличавшийся здоровьем с детства, всё более и более сдавал. Многим это казалось вполне естественным, хотя злые языки перемалывали иное: с Фёдором происходит то же самое, что прежде было с его отцом Иваном Грозным и братом Иваном Ивановичем. Не случайно, дескать, на Аптекарский приказ Борис Годунов поставил своего родственника Семёна Годунова.
Слово, однако, к делу не пришьёшь, а не схваченный за руку — не вор.
Борис Годунов, ясное дело, спешил, но вместе с тем не желал грузно плюхнуться в лужу. Он с нетерпением ждал подходящего момента, и момент нужный предоставлен был ему вроде бы самим проведением — Печерский Нижегородский монастырь, в котором некогда возносили молитвы к Господу угодники Божьи Дионисий Суздальский и ученик его Макарий Желтоводский, вдруг сполз к Волге, развалившись и придавив множество иноков. Суеверный народ признал тот оползень за великое знамение того, что Россию ожидают лихие года. Царь же Фёдор, который совсем недавно посещал тот монастырь, воспринял это событие как знамение Господа для него лично. Он сник окончательно. Современники утверждают, что он смирился со скорой своей смертью. В подтверждение этого приводится один характерный факт: вскоре после крушения Печерского Нижегородского монастыря Фёдор Иванович принял участие в перекладывании мощей митрополита Алексия в новую серебряную раку, и государь будто бы велел Борису Годунову взять те мощи в руки, после чего с печалью в голосе молвил:
— Осязай святыню, правитель народа христианского! Управляй им и впредь с ревностью. Ты достигнешь желаемого; но всё суета и миг на земле.
Вещие слова, если даже они выдуманы лизоблюдами Бориса Годунова.
Царь Фёдор Иванович впал в тяжёлое беспамятство, и пошла гулять молва, что Годунов причастен к этому.
Вот как пишет о том событии историк Карамзин:
«Нет, не верим преданию ужасному, где Годунов будто бы ускорил сей час отравою. Летописцы достовернейшие молчат о том, с праведным омерзением изобличая все иные злодейства Борисовы. Признательность смягчает и льва яростного; но если ни святость венценосца, ни святость благотворителя не могли остановить изверга, то он ещё мог бы остановиться, видя в бренном Фёдоре явную жертву скорой естественной смерти и между тем властвуя, и ежедневно утверждая власть свою как неотъемлемое достояние... Но история не скрывает и клеветы, преступлениями заслуженной».
В духовной покойного Фёдора Ивановича царство было завещано вдове Ирине Годуновой, главными советниками при которой названы митрополит Иов, двоюродный брат покойного царя Фёдор Никитич Романов-Юрьев и царёв шурин Борис Годунов. Но Ирина (не без влияния Борисова) удалилась в Новодевичий монастырь, куда вслед за ней удалился и сам Годунов — держава осталась без кормчего. Вот тут и настало время для подкупленных крикунов и для тех, кого Годунов прежде ласкал, обретая своих сторонников. Вот так и получилось, что вроде бы по вселенской земской просьбе Годунов принял титул царя Российского, став родоначальником новой династии.
Но всё суета и миг на земле!
Если внимательно приглядеться к сегодняшним нашим правителям, можно сделать вывод, что они повторяют действия Годунова, коварством захватившего власть, но не знающего, что делать с этой властью: что ни решение, то — шлепок в лужу, то недовольство людское обнищанием и неуверенностью в завтрашнем дне.
Стремясь к поддержке дворян, а они были в основном мелкопоместными, от которых крестьяне охотно переходили в богатые боярские вотчины и монастырские владения, Борис Годунов законом запретил свободный переход крестьян из волости в волость, из села в село, навечно укрепил их за господами. Двойной совершил промах: великое возмущение крестьян, потерявших вольность, столь же великое недовольство бояр и иных богатых землевладельцев — они потеряли возможность заселять землепашцами свои пустующие угодья.
Одумавшись, Годунов внёс поправку: разрешил переход крестьян в определённый срок — на Юрьев день. Тогда возмутились мелкопоместные дворяне, крестьяне же и бояре тоже не были удовлетворены поправкой.
Общее недовольство.
Основательно возмутил царь Борис и такое уже очень сильное сословие, как вольное казачество. Вроде бы благое дело задумал — принять казачество под свою руку на царёву службу, однако, не очень подумав, перевёл в разряд государевых все земли, которые вольные казаки своим потом и кровью отвоевали у Поля. Мало того, Годунов вменил казакам пахать так называемую государеву десятину. А кому такое ляжет на душу? Земли лишили, паши ещё десятину для казны, в то же время неси охранную службу, бейся с разбойными сакмами. Не лучше ли подняться гуртом на алчного царя, невесть откуда взявшегося на троне?
Борисова политика так называемого «посадского строения» тоже не отвечала интересам посадского люда. В Москве, например, как грибы начали расти кабаки, дававшие баснословные прибыли в казну, в то же время спаивающие обывателя (сравните: засилие в нынешней Москве и кабаков, и игорных домов); но алчность не знает предела — увеличиваются торговые пошлины на русское купечество, с одновременным предоставлением привилегий иноземным купцам — всё это создавало благоприятную почву для разжигания ненависти к новой царской династии, захватившей трон.
В Москве начались волнения. По всей стране, особенно на юге, разгорались мятежи. Начиналась гражданская война, которую историки позже назовут Смутой.
Сегодня нам упорно (особенно активна невесть отчего церковь) пытаются навязать мысль, что российский народ, сплотившись, стеной встал против польских захватчиков. Верно, попытка агрессии имела место, но вторгшийся в пределы России ясновельможный пан Мнишек, как вроде бы лицо частное, был разбит в первом же сражении и улепетнул в свою Польшу.
Не вдаваясь в подробности, не злоупотребляя хронологией, скажу только о том, что в Кремле «засел» отряд слуг и телохранителей, посланный королевичем польским Владиславом[62], которому Москва присягнула на царство, готовить ему торжественную встречу. Сам же Владислав намеревался прибыть в свою новую резиденцию немного позже.
Поняв, однако, что в Москве разноголосая неразбериха, Владислав не торопился покинуть Смоленск, но не давал и приказа своим слугам покинуть Кремль. И они ждали, пока хватало у них сил. Вышли они из Кремля 7 ноября.
Никакого штурма Кремля не было. Происходили лишь стычки москвичей с наглыми ляхами, считавшими себя первыми среди славян, хранителями прославянской культуры и языка. По их мнению, они должны были править всем славянским миром, а москвичи кулаками, дубинами и даже при необходимости мечами объясняли им, как нужно уважать Россию. В конце концов ляхи, терпя притеснения от москвичей и потеряв надежду дождаться Владислава, попросили отпустить их с миром домой. Это произошло, повторяю, 7 ноября.
Во все эти дни в Москве не было ни одного ополчения. Ляпунов, глава дворянского ополчения, и атаман казачества Карела раскинули станы под Москвой, зорко следя друг за другом, ибо каждый из них хотел посадить на трон своего «хорошего царя». Что касается ополчения Минина и Пожарского, то оно стояло в Ярославле.
Некоторые историки, не приводя документальных свидетельств, утверждают, будто князь Пожарский приглашал на русский престол шведского королевича Карла-Филиппа. Это — сомнительно. Достоверен только один факт — Карлу-Филиппу присягнул на царство лишь Великий Новгород. Ярославль, что было бы логичным с учётом устремлений Пожарского, не присягал королевичу.
Более убедительна другая версия: князь Пожарский просил императора прислать в Россию на царство «цесаревского брата» Максимилиана. В ответ на это Пожарский получил похвальное слово императора с обещанием направить тут же посольство для переговоров. Посольство, однако, прибыло в Москву с опозданием, когда на царство уже был избран Михаил Романов. Императорское посольство проводили с таким письмом: «Мы этого не слышали и в мыслях не держали. Если же ваш посланник со слов князя Пожарского об этом вашему государю писал, то может посланник или переводчик сами это выдумали, чтобы выманить жалованье у своего государя».
Не слишком вразумительный ответ, поэтому он, как утверждает историк И.М. Василевский, сильно испортил отношение России с Западной Европой.
Вот так описывают предшествующие «Смуте» события летописи, так утверждает добрый десяток пытливых и честных историков, не соглашающихся с казёнными трактовками, озвученными в угоду правящей верхушке. Да и теперь в угоду какой-то группе официальная ложь о прошлом горячо поддерживается, напластывая новую ложь, запутывая обывателя совершенно противоречивыми разъяснениями, отчего так называемый день примирения назначен на 4 ноября.
Озлобившийся русский народ взялся за оружие особенно решительно, когда отборные головорезы Годунова потопили в крови южные волости, особенно Комарницкую.
Ощетинилось и боярство, которых насторожило очередное коварство Годунова: он обвинил Романова-Юрьева, определённого по царскому завещанию советником Ирины, в попытке отравить его.
Весь род Романовых оказался в опале. В ссылку были отправлены все дальние родственники Романова-Юрьева и даже его друзья.
Не великой знатности были Романовы, не из перворядных, даже не из второрядных, ради них вроде бы не стоило ломать копья, но именитые кланы увидели в сём коварстве угрозу себе. То, что они прощали Ивану Грозному, не желали прощать безродному выскочке.
О «Смуте» написано очень много, и каждый образованный человек знает о ней, а кто прошёл мимо столь трагической страницы в истории нашей страны, просто обязан со вниманием отнестись к ней, тем более что те события помогут лучше понять сегодняшний смутный день. Да и бессмысленно пытаться описать те грандиозные события в коротком очерке, поэтому я перейду к последним дням жизни Бориса Годунова, героя этого очерка.
Признаки дряхления у Бориса Годунова начали проявляться довольно рано. Заметно менялся и его характер. Прежде деятельный, Годунов стал только по великим праздникам появляться перед народом и всё более отдалялся от государственных дел. А вот подозрительности у него добавилось основательно, он уже не доверял самым ближним боярам и всё чаще обращался за советом к прорицателям и астрологам. Когда же он обратился к знаменитой в Москве юродивой Олене, она смело предсказала ему скорую кончину. Подтвердила это и ведунья Дарьица. Она, по собственному показанию, которое давала на допросах уже после смерти Борисовой, нагадала, что «Борису Фёдоровичу быти на троне немного времени».
От подобных предсказаний, да ещё под влиянием тяжёлой болезни и державных неудач Годунов всё чаще погружался в состояние апатии и уныния. Физические и духовные силы его быстро таяли, и 13 апреля 1605 года он скончался.
По одной версии, Годунов будто бы принял яд, ибо видел безысходность своего положения; по другой — он упал с трона и испустил дух во время посольского приёма.
Близкий к царскому двору английский наёмник Маржерет написал, что «Борис скончался от апоплексического удара».