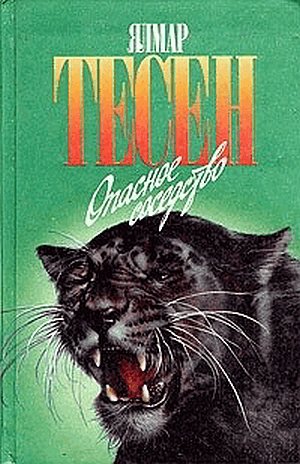
© Перевод, Тогоева И. А., 1997
Худож. Н. Бугославская
Узы моря
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Боль начиналась, если нечаянно заденешь изуродованную правую руку, и вместе с болью приходили воспоминания.
Иногда их сопровождали звуки, похожие на щелканье садовых ножниц — инструмента, с которым он больше управляться не мог, — или на клацанье собачьих зубов, когда пес прыгает, чтобы достать палку. Пасть акулы тогда промелькнула совсем рядом с его головой, и, пропарывая ему ладонь зубами, хищница тоже издала подобный негромкий звук, похожий на щелчок затвора хорошо смазанного дробовика; зубы акулы, утонув в его плоти, разорвали ее одним быстрым и удивительно точным движением — ни один механизм не сумел бы так, — и голова ее пронеслась так близко, что даже содрала ему кожу на скуле. Акула взлетела тогда над водой, точно стартовавшая ракета, и ударилась о задранную корму лодки, подняв фонтан брызг, а когда она шлепнулась плашмя у самой его груди, он успел выбросить вперед правую руку, чтобы как-то защитить себя. Острорылая акула, «Джек-прыгун», мако, голубой пойнтер, кусака — как ее ни называй, словно темно-голубая торпеда в два с половиной метра длиной легко отшвырнула Джеймса Ривера ударом хвоста и исчезла в лиловой глубине океана.
Потом говорили, что ему повезло, однако же весь обратный путь до двух мысов-близнецов, стерегущих вход в залив Книсны, он с тоской думал о том, что видит океан в последний раз и настоящим рыбаком ему больше не быть. Голова у него кружилась от потери крови, он баюкал промокший окровавленный сверток — свою израненную руку — и смотрел, как атлантические олуши то взлетают, то вновь садятся на воду вокруг лодки, прочерчивая пенные следы, как мелькают желтоперые тунцы под килем, и даже в эти моменты его не оставляла мечта о крепкой удочке и любимом поплавке с воланом из желтых перьев, скачущем по белому буруну за кормой моторки. И в который раз, задохнувшись от боли, не имевшей никакого отношения к истерзанной руке, он все пытался убедить себя, что никогда больше ему не придется ощутить знакомое подергиванье удочки и услышать, как шипит леса в катушке спиннинга, когда выходишь на простор открытого моря.
Что ж, по крайней мере улов у них тогда был немалый — больше тридцати штук горбылей-холо, каждый килограммов по пятнадцать, не меньше. Однако цена этого улова для него оказалась слишком высока. Его правая ладонь была рассечена наискось от основания указательного пальца до запястья самым мощным и острым ножом, какой сумела создать природа за миллионы лет своего развития.
Ожидая скорой помощи и все еще не ощущая в руке особой боли, он с огромным удовлетворением смотрел, как выгружают улов. Серебристо-бронзовые рыбины, каждая больше полутора метров длиной, поблескивали на солнце чешуей, хотя опаловые краски, столь характерные для всех горбылевых, когда рыба бьется на крючке и выскакивает из воды, а рыбаки вручную вытаскивают ее на борт, уже погасли; сиреневые, лиловые, розовые и голубые оттенки приобрели строгий металлический отблеск смерти, но Джеймсу пойманные горбыли казались прекрасными, идеально симметричными, как и лососи, с широкими могучими хвостами и огромными разинутыми пастями, где виднелись пожелтевшие от долгой жизни в морских глубинах зубы.
На досках пристани у ног Джеймса Ривера успела собраться лужица крови; его кровь смешивалась с рыбьей, а гора горбылей все росла. С легким головокружением, полностью поглощенный созерцанием ритмичной работы своих товарищей, он едва заметил, как чьи-то заботливые руки обняли его, приподняли и повели в машину «скорой помощи».
Затем последовали четыре дня странной и непривычной неги — он впервые вкусил больничной жизни за все свои пятьдесят девять лет, и она показалась ему совсем не такой уж неприятной, однако с довольно противным оттенком: по меркам больничного персонала он считался стариком, которому пора было строить свою жизнь иначе.
На пятый день он впервые рассмотрел то, что осталось от его руки, когда похожий на мальчишку доктор делал ему перевязку, и, хотя он старательно готовил себя к этому, вид этой заостренной «крабьей клешни» потряс его до глубины души.
— Ну, большой-то палец, по крайней мере, у вас функционирует отлично, — заметил врач, — да и от указательного кое-что осталось, так что вы сможете… да почти все сможете делать!
Они сидели в хирургическом отделении. Солнце освещало операционный стол, заливало весь кабинет золотистыми лучами. Джеймс был в чистой голубой рубашке и брюках цвета хаки, принесенных дочерью и зятем, а врач, кудрявый, светловолосый, в новом белоснежном халате, весь чистенький, казался сущим ангелочком. В горшке пышным цветом цвели гортензии, розовые и голубые, словно знаменуя вступление Джеймса в новый для него мир; они поблескивали серебром, точно елочная мишура, и покачивали своими огромными легкими шапками под дуновением теплого ветерка. Поскольку доктор и Джеймс хорошо и давно знали друг друга — в здешнем ограниченном обществе трудно совсем не сталкиваться друг с другом или, по крайней мере, не быть знакомыми хотя бы понаслышке, — беседа лилась легко и неторопливо. Джеймс подробно рассказал доктору о своей встрече с акулой, потому что и тот был заядлым рыболовом и большим любителем подводного плавания с аквалангом. Потом Джеймс пустился в воспоминания о том, как лет эдак пятьдесят назад, подростком, впервые пересек залив и вышел с отцом и другими рыбаками в открытое море на четырехвесельной клинкерной шлюпке — по двое на каждом из длинных весел. Они легко проплыли по спокойному эстуарию, поймали парочку осьминогов для наживки, а потом, когда первые волны прилива ласково лизнули бок длинной лодки, команда натянула неуклюжие, задубевшие от морской соли спасательные жилеты, добродушные шутливые разговоры смолкли и рыбаки с усилием налегли на весла, сопротивляясь сильному, пропитанному солью и запахами моря ветру с Индийского океана.
— Знаете, тогда мы обычно ловили очень крупную рыбу — горбылей-холо, трангов и натальских дагерадов; дагерады были такими огромными и круглыми, что их называли «вагонными колесами». И еще серебристых зубанов и капскую мерлузу, когда приходило холодное течение, и еще каменных зубанов, да здоровенных — только вдвоем и управишься. Теперь уж ничего этого нет, в прибрежных водах пусто!
Молодой доктор согласно кивнул. Он частенько нырял с самых дальних рифов прибрежной устричной отмели и всего несколько раз встречал дагерадов и крупных восьмилинейных парапристипом. Видел он и уловы отдыхающих «террористов», как их называл Джеймс, которые ловили в заливе со своих катеров и моторок: полкорзинки парапристипом-недомерков да несколько натальских пагелей и капских большеглазок, что, разумеется, никак не окупало денег, потраченных ими на семьдесят литров бензина для лодочного мотора.
— Эти японцы и тайванцы со своими «мадрага» — крупно-ячеистыми сетями для ловли тунца — уничтожают рыбу в заливе с той же скоростью, с какой траулеры подчищают запасы придонных обитателей, — сказал Джеймс, — А проклятущие «террористы» на моторках подбирают остатки у рифов. Если правительство хочет хоть как-то сохранить рыбье поголовье — рифовых рыб и придонных горбылей-холо и трангов, — следует просто запретить на несколько лет ловить рыбу с моторок кому попало, а там посмотрим.
— Так, может, и вам самое время расстаться с рыбной ловлей? — улыбаясь, спросил доктор.
Джеймс только пожал плечами:
— Знаете, это ведь как отрава — в кровь проникло!
— Ну что ж, я вам вот что скажу: если бы все мои пациенты были такими ловкими и сильными, как вы, я бы, пожалуй, без работы остался. Приходите-ка через неделю, посмотрим ваши швы.
…Ялик чуть покачивался на волне, удерживаемый якорем; здесь, на креветочной отмели, где глубина была около метра, Джеймс Ривер уже успел поймать двух пестрых ворчунов, каждый с руку длиной, и мог быть вполне собой доволен.
Приятно было и то, что он рыбачит один и вполне управляется и с мотором, и с якорной цепью, хотя все-таки умудрился поранить руку катушкой спиннинга. Да и такая знакомая операция насаживания креветки на крючок, обычно проделываемая им чуть ли не с хирургической точностью — чтобы острие прошло сквозь всю мясистую часть от хвоста до головы, — стала для него вдруг невероятно сложной. Бесконечные неудачные попытки привели к тому, что он поранил культю указательного пальца, и теперь под пластырем упорно расплывалось, темнея, кровавое пятно. Зять Джеймса приладил ему на транец шлюпки металлическую скобу с кольцом, чтобы удобнее было управлять кормовым веслом, и ему очень нравилось, стоя на корме, спиной к движению, сильными взмахами здоровой левой руки посылать лодку вперед. Это было старинное искусство, казавшееся замшелым пережитком тем, кто плавал по заливу на современных судах. Впрочем, и Джеймсу управление их быстроходными, летящими по воде катерами казалось удивительным мастерством. Однако же просто веслами он нормально грести уже не мог и, лишь вспомнив об этом, сразу мрачнел: неспособность грести казалась ему неким символом полученного увечья.
Еще до того, как по мере приближения вечера постепенно перестали быть видны норки креветок в песчаном дне под лодкой, ясно различимые днем сквозь прозрачную как стекло воду, Джеймс стал собираться домой; он понимал, что ему еще рано рисковать и оставаться в море одному на ночь.
Подняв легкую удочку, он заметил, как согнулся ее конец, и почувствовал трепет пойманной рыбы; ощутив знакомое возбуждение, он стал ждать, пока ворчун или белый каменный зубан, как всегда, попытаются уйти на глубину. Впрочем, вряд ли это они, скорее это будет небольшой речной тупорыл.
Однако, вращая колесико спиннинга, он передумал: все-таки больше похоже на морского петуха или даже на маленького горбыля-холо — рыба вела себя спокойно, не дергалась понапрасну, в отличие от суетливого и вездесущего тупорыла, так хорошо ему знакомого. Пусть даже рыба будет невелика, один лишь ее вид, ее опалово-серебристая чешуя способны вызвать у него довольную улыбку — ведь любая, даже самая миниатюрная копия тех огромных сверкающих рыбин, которых он ловил в открытом море всего месяц назад, — это своего рода символ, полный глубокого смысла, который пока что ему полностью недоступен; возможно, это означает, что здоровье эстуария несколько восстановилось, а также то, что его, Джеймса, связь с морем отнюдь не оборвалась, потому что он чувствует, что и большого горбыля все еще можно поймать в тихих глубинах залива и даже довольно близко от берега, где соленый морской прибой встречается с черной, пахнущей лесом речной водой.
Джеймс, поколебавшись немного, сунул искалеченную руку в воду и осторожно поднял рыбу на борт; потом срезал зубец крючка, застрявший у нее в нижней губе, и некоторое время с нежностью держал горбыля в руках, восхищаясь и думая, как такое маленькое существо, всего-то раза в два длиннее его здоровой ладони, в один прекрасный день достигнет полных двух метров в длину и семидесяти с лишним килограммов веса. «Интересно, — подумал он, — как долго проживет эта рыба? Наверное, лет пятнадцать, а может, и больше. Что с ней приключится за эти годы? Удастся ли ей прожить их до конца, в вечных скитаниях по темным загадочным глубинам подводного мира?» И, неожиданно для самого себя, повинуясь странному порыву, Джеймс положил рыбу на деревянный планшир и перочинным ножом сделал у нее на хвосте зарубку в виде буквы «V», в самом основании нижнего плавника. Потом он отпустил рыбку, и та в мгновение ока исчезла из виду, настолько сливалась окраска ее темной спины с цветом воды; и для полувзрослого луфаря, проплывавшего в этот миг над самым песчаным дном, она тоже видна не была: серебристо-белое ее брюшко казалось луфарю всего лишь сероватым отблеском позднего солнца или рябью на поверхности воды, поднятой ветром, прилетевшим из другого, верхнего и светлого мира.
Некоторое время Джеймс сидел неподвижно, глядя, как серебристо-свинцовые тона сменяют бронзу и золото дневных красок, прислушиваясь к крикам кроншнепов и куликов-сорок, совершавших акробатические кульбиты в воздухе, а гораздо выше кормораны уже плыли в небесах, медленно взмахивая крыльями, к берегу, по домам. Итак, он загадал пятнадцать лет? Что ж, достаточно долгий и спорный срок — как для него самого, так и для маленького горбыля. Он задумчиво раскурил трубку, однако эти мысли не вызвали грусти, мало того, глаза Джеймса весело поблескивали, словно он и рыба втайне ото всех заключили договор о дружбе и сотрудничестве.
А маленький горбыль, заметив креветку — это и была наживка на крючке Джеймса, — втянул ее в рот, выплюнул, потом снова втянул и только тогда с удовлетворением сокрушил ее панцирь, сдавив его языком и твердым верхним нёбом. Затем он лениво повернул прочь, и тут с ним начали происходить странные вещи. Сперва вдруг невесть откуда возникло сильное течение, которого он преодолеть не сумел; неведомая сила неуклонно тянула его куда-то вверх, к светящейся поверхности воды, где, как он инстинктивно чувствовал, таилась опасность.
Затем последовала быстрая смена температуры и ослепительная вспышка света, так что маленький горбыль старался лишь плыть как можно быстрее, попав неожиданно в среду, не оказывавшую ни малейшего сопротивления. Потом расположенные полосой вдоль тела горбыля нервные датчики перестали вдруг подавать сигналы; он понимал только, что бессильно лежит на боку и даже с помощью хвоста не способен более восстановить равновесие в незнакомой среде. Затем температура вокруг снова изменилась, постепенно восстановились и равновесие, и способность двигаться, и зрение, однако же чувствительные полосы на боках все еще посылали какие-то неясные сигналы тревоги, и он полежал немного на дне креветочной отмели среди извивавшихся водорослей, чувствуя себя совершенно беззащитным и судорожно втягивая воду, инстинктивно стараясь поглотить как можно больше столь необходимого ему в данный момент кислорода. Когда к горбылю-холо вернулось наконец нормальное восприятие окружающей среды, он вновь ощутил утраченное было «чувство стаи»: это чувство означало защиту, безопасность — горбыль был частью большой стаи, частью единого организма. В свои девять месяцев маленький горбыль остался единственным из нескольких тысяч мальков, вместе с которыми появился на свет и проделал путь в полсотни километров по теплым водам залива, поднимаясь с сорокаметровой глубины до двадцати метров, потом до десяти и наконец оказавшись на мелководье.
Выбившаяся из сил стая все больше редела — маленький горбыль со всех сторон разом ощущал опасные колебания воды, видел бесконечные серебристые вспышки чешуи более крупных рыб и их жадные пасти, однако ему удалось выжить, и он, подчиняясь спасительному инстинкту и древней памяти предков, держался не более чем в полуметре от песчаного дна, в благодатных сумеречных «яслях», где было полно пищи — крабов, креветок, которых он с аппетитом поедал.
Жизнь в теплых и спокойных водах эстуария была менее опасной, чем в море, однако же шансы выжить и достигнуть зрелости у этой маленькой рыбки с отметиной на хвосте равнялись примерно одному проценту. Хищники день и ночь вели охоту на глубине от двадцати метров до всего лишь одного. На отмелях водились гладкие, с раздвоенным хвостом лихии; некоторые из них достигали человеческого роста в длину и могли, разогнавшись в пылу охоты, поднять целый фонтан песка и брызг. А там, где поглубже, встречались луфари с зеленоватой спиной и острыми как бритва зубами, или взрослые горбыли-холо, или даже страшные зубастые акулы, которые порой были не меньше ялика Джеймса Ривера. Однако же из всех рыб лагуны лишь Меченый и прочие горбыли были оснащены неким особым механизмом, помогавшим им ориентироваться в любой ситуации и служившим как оружием, так и средством защиты, — цепочкой блестящих серебристых пятнышек, расположенных полосами на обоих боках вдоль спинного хребта. Это были сверхчувствительные рецепторы, воспринимавшие любые колебания воды и изменения давления и способные определить как местонахождение добычи, так и опасных врагов даже в мутной или илистой воде; а еще рецепторы улавливали особые электрические импульсы, испускаемые акулами и скатами. Меченый не способен был развивать такую скорость, какой обладали хищные проворные лихии с раздвоенным хвостом, и уж конечно не мог делать семьдесят километров в час, как тунцы и их ближайшие родственники, однако же он обладал достаточно гибким телом, как бы струившимся в воде, и мог выделять при необходимости толстый слой скользкой слизи, которая сводила трение о воду до минимума; к тому же он обладал мощным хвостом и здоровенной острозубой пастью, а также целой батареей дополнительных сверхчувствительных серебристых датчиков на боках, так что в целом был неплохо оснащен для охоты и подобен в своей основательности леопарду на суше — в противоположность тунцам, марлинам и лихиям, которые представляли собой океанический эквивалент быстроногих гепардов африканского вельда.
Будучи придонными рыбами, Меченый и прочие горбылевые старались держаться подальше от гладких, обтекаемой формы хищников, носившихся по поверхности моря. Меченый придерживался богатых креветками отмелей и заросших морскими водорослями русел рек, которые впадали в залив и были похожи на артерии в живой плоти эстуария.
Следуя указаниям своих чувствительных датчиков, свидетельствовавших о наличии большого количества ракообразных, Меченый неторопливо плыл вверх по течению, сопротивляясь волнам отлива, и все время поглощал пищу, пока не почувствовал, что вода стала менее соленой, а количество похожих на креветок существ значительно уменьшилось. Зато стало больше крабов с несколько иным вкусом. Организм Меченого без промедления начал приспосабливаться к осмотическому давлению все усиливающегося притока речной воды.
Когда дневной свет снова проник в его не знающий ни сна, ни покоя мир, он был уже во многих десятках километров от моря, как бы в естественном аквариуме, где собралось множество рифовых рыб и все они были мельче Меченого.
Покрытое камешками дно отражало солнечный свет, и в золотистом колышущемся сиянии, обладавшем привкусом торфа и гниющей листвы, мелькали стайки миниатюрных чернохвостых облад, сарп и капских корацинов, и даже отдельные морские караси выплывали порой из-за груды камней — остатков старой рухнувшей плотины. Здесь также охотились лихии, однако размером помельче, и было такое множество мальков лобана, что ничего не стоило наловить их. Маленький лобан стал первой добычей Меченого, и с тех пор он охотился на любых других рыб, лишь бы они были мельче его самого.
Рос он с такой скоростью, что вес его в течение трех последующих лет каждый год удваивался. Однако по-прежнему днем и ночью Меченому грозила опасность; впрочем, страх или стресс были ему неведомы, разве что порой, обнаружив внезапно присутствие, хотя бы вдалеке, более крупных, чем он, существ, он инстинктивно стремился скрыться, спастись, но при этом всего лишь откладывал отдых на потом и активнее потреблял кислород.
Однажды в пещере, на пологой песчаной отмели, к нему снова пришло то чувство безопасности, которое давало только ощущение стаи. Полсуток возле него кружили сотни две горбылей-холо — поменьше и почти таких же, как он. Он льнул к их стае, наслаждаясь аурой «стадности», блаженствуя, завороженный плавным ритмом и балетно-точными движениями своих собратьев. Стая горбылей оккупировала куда большую территорию, чем та, на которой он охотился один; горбыли то уплывали к самой границе с открытым морем на волнах отлива, то снова возвращались вместе с приливом, кормясь на песчаных и илистых отмелях эстуария, а порой и становясь объектом нападения других хищников. И все это время одно лишь мрачное чувство терзало Меченого: благодаря датчикам на боках и у основания головы он понимал, что даже большое количество собратьев более не служит ему настоящей защитой, поэтому теперь он старался держаться спокойных золотистых вод реки, и вместе с ним плавали еще шесть горбылей из основной стаи. Здесь было относительно спокойно, и свист, скрип и хрюканье морских обитателей доносились лишь слабым эхом той какофонии, что гремела на широкой рифовой гряде, отделявшей залив от моря. Корма было много, и небольшая стая горбылей отдыхала и кормилась, тратя очень мало сил на охоту и наращивая мясо; опаловые бока рыб переливались всеми цветами радуги, а приобретаемый опыт только усиливал инстинктивное желание выжить во что бы то ни стало. Иные существа, делившие с ними среду обитания, обозначали свое соседство различными запахами, звуками, выделением химических веществ и даже электрическими разрядами. Эта тихая заводь буквально кишела живыми существами и была для рыб не менее благоприятна, чем густой подлесок для лисиц или травянистая саванна для диких котов.
Меченый и остальные члены его маленькой стаи принадлежали к классу позвоночных, составлявшему более трех четвертей обитателей Земли, хотя подводные жители насчитывали куда больше различных видов, чем сухопутные, и были значительно ярче окрашены, чем, например, птицы, а встретить их можно было в любом водоеме: в реках, озерах и морях.
Они доминировали там на глубине в несколько сантиметров от поверхности до более десяти километров — в гигантских морских впадинах — и сохраняли жизнь как в вулканических горячих источниках, так и в полярных морях при температуре воды, близкой к нулю. Родным домом для Меченого и его друзей были моря на юге Африки; эти воды населяли также две с половиной тысячи различных видов рыб, обитавших и в поверхностных слоях, и на пятикилометровой глубине. Пища здесь была в изобилии, ведь берега Южной Африки омывали три огромных океана — теплый на востоке, холодный на западе и покрытый вечными льдами на юге. Этот широкий, полный опасностей мир ждал Меченого, которому пока что вовсе не хотелось покидать спокойные воды эстуария, где он был совершенно счастлив.
О теплокровных существах, особенно о тех, что обитали на суше, в жарком и светлом мире, он не знал ничего; он был знаком лишь с корморанами, и после нескольких встреч с ними стал избегать любого плавающего на поверхности предмета, особенно обладавшего лапами или ластами. Однажды стая горбылей оказалась окруженной птицами, которые с таким шумом гребли перепончатыми лапами и били по воде крыльями, что Меченый, совершенно утратив ориентацию, нырнул в глубину прямо сквозь стаю лобанов, а потом, спрятавшись в своей норе, среди спутанных, похожих на длинные волокна водорослей, смотрел, как мечется стая лобанов, похожая на взволнованный занавес, а черные птицы с белыми грудками, вытянув шеи, выхватывают их из воды одного за другим. В эти минуты вода была буквально пронизана электрическими разрядами и запахом страха, который не исчезал, пока его не унес отлив, и только тогда Меченый осмелился выплыть из норы. Вновь оказавшись в одиночестве, он двинулся навстречу потоку пресной воды, вверх по течению реки, и, несмотря на полную тьму, царившую ночью в черной речной воде, что струилась над более соленым придонным слоем, в котором плыл он сам, успешно ловил среди водорослей креветок и крабов, пока вокруг снова не посветлело.
Потом Меченый проплыл над песчаной отмелью следом за стаей серебристых полупрозрачных ящероголовов, глотая их целиком, пока вдруг не застыл от внезапно нахлынувшей волны страха — сигнал опасности пришел откуда-то сверху, слева, и мгновенно погас. Затаившись среди водорослей, Меченый с полминуты глубоко дышал, прежде чем вернуться к охоте на креветок, легко изгибая мускулистое тело и ловко руля сильным хвостом. И самке африканского коршуна-рыболова тоже понадобилось не более тридцати секунд, чтобы совершенно забыть о своем стремительном броске вниз, не принесшем никаких результатов, так что она преспокойно уселась чистить перышки на сухую ветку старого кладрастиса.
Эта ветка была исключительно удобна для наблюдения, однако же в данный момент служила скорее насестом, поскольку приближалась ночь. Самка коршуна-рыболова еще днем слопала килограмма три рыбы, поймав пестрого ворчуна над креветочной отмелью чуть ниже по течению реки. Посидев на засохшей ветке, птица с криком взлетела, высоко запрокинув голову, так что затылок почти касался пышного воротника вокруг шеи; широко открыв клюв, она призывала самца, который внимательно следил за действиями подруги с высоты примерно в километр. Самец тоже голоден не был; он видел, как самка охотилась на горбыля и промахнулась, а также мелькнувшую в воде тень крупной рыбы. Они полетели дальше вместе, по очереди испуская громкие кличи, точно звонили в колокол или трубили в рог; подобного клича не издает больше ни один орел в Африке; это поистине музыка дикой природы, способная оглушить и очаровать любого, даже если коршуны-рыболовы летят так высоко, что с земли кажутся едва различимыми пятнышками.
На земле же пятнистая генетта уже пировала под кладрастисом, лакомясь останками ворчуна. Рыбина эта весила не меньше, чем поймавший ее коршун-рыболов. Ворчун как раз кормился на отмели, покрытой норками креветок, когда самка коршуна-рыболова заметила стаю ворчунов, поглощавших пищу с таким энтузиазмом, что хвосты высовывались из воды, упала прямо в воду, пронизанную солнечными лучами, выпустила длинные цепкие когти и впилась в спину своей жертвы. Однако добыча оказалась тяжела, и, вместо того чтобы взлететь, птица забила широко раскрытыми крыльями, яростно раздирая спину рыбины когтями, и попыталась немного отдохнуть. В конце концов она хотя и не слишком изящно, но вполне ловко проволокла добычу по воде, гребя крыльями, точно веслами, и вытащила ее на берег.
Последние громкие крики птиц замерли вдали. Меченый лишь косвенно отметил появление коршунов-рыболовов — через запах мертвого ворчуна, распространившийся по течению от того места, где генетта окунула в воду морду, чтобы напиться. Теперь Меченый решил покинуть спокойные места; что-то влекло его вниз по течению реки, навстречу слабому отголоску музыки горбылевой стаи. Эта музыка звучала где-то далеко, однако не умолкала, и он упорно плыл ей навстречу, все ближе и ближе, пока не влился в тесную, двигавшуюся бок о бок стаю других горбылей-холо. Все они были примерно такого же размера, как и он сам, и плыли в зеленой воде открытого моря навстречу увлекательным, манящим приключениям. Когда стая прошла рифовый барьер, миновав покрытые мидиями крепостные стены подводных скал, и направилась на восток, в ней насчитывалось около тысячи рыб; они плыли тесными группами над самым дном на юго-восток со скоростью десять километров в час, несомые течением к мысу Игольному.
На глубине ста метров скрип, треск и ворчание морского оркестра превратились в оглушительный рев, который ничуть не испугал и не встревожил горбылей; они лишь еще торопливее и активнее устремились в ночное море, чувствуя где-то перед собой отдаленные еще признаки присутствия огромной стаи молодых кальмаров.
Континентальный шельф, над которым они плыли, на юге постепенно спускался все глубже и представлял собой песчаную равнину с пятнами плоских известняковых рифов, а порой и с выходами твердых горных пород. Это была как бы огромная скатерть-самобранка, уставленная различными яствами.
Земным существам, которым здесь помогали видеть мощные прожекторы, все обитатели этого подводного мира показались бы, видимо, какими-то загадочными гирляндами, или завитками дыма, или привидениями, вольготно резвящимися в мутном зеленом полумраке, легко перепархивающими с места на место и быстро уносящимися прочь, когда стеной надвигалась стая горбылей. Вода, казалось, стала тяжелее и плотнее от возбуждающих ароматов той добычи, к которой стремились горбыли; все убыстряя ход, они переставали обращать внимание даже на лучших съедобных рыб, трепетавших под ними над песчаным дном, — капскую мерлузу, морских языков, ворчунов, луфарей и капских конгрио. Впрочем, все они исчезли из виду, когда целая туча кальмаров закрыла свет солнца, и уж тогда горбыли поохотились всласть, только и успевая бросаться направо и налево и глотать добычу. На двадцать метров выше горбылей стаю кальмаров атаковали небольшие группы луфарей, и вскоре вниз уже сыпался целый дождь из мелких обрывков плоти, привлекая крупных африканских конгрио, похожих на толстых красновато-коричневых угрей, извивавшихся над самым дном.
В двух километрах от того места, где горбыли-холо впервые вволю полакомились своей любимой добычей, было довольно крупное скальное образование примерно километровой длины и в полкилометра шириной. Скалы поднимались со дна морского на добрую сотню метров, однако не достигали поверхности воды метров на сорок. Здесь паслось великое множество рыб, и поскольку место это находилось вдали от наиболее посещаемых рыболовами-любителями рифов, оно все еще напоминало тот первозданный подводный мир, который Джеймс Ривер так часто видел в юности. У скал, например, резвилась целая стая молодых суповых атлантических акул одинаковой двухметровой длины. Акул было не меньше тысячи, и количество их все увеличивалось: здесь хорошо было покормиться и передохнуть перед долгим плаваньем в более холодные воды у Западного побережья Африки. Коричневато-серые, с острыми полупрозрачными носами и обтекаемыми телами, акулы эти приплыли сюда с юго-западных окраин континентального шельфа, пройдя двести пятьдесят километров на север над плоской подводной равниной до мыса Игольный и целую неделю питаясь мерлузой и морскими языками. В сотне километров от берега глубина все еще была метров двести; здесь морская равнина продолжала полого спускаться в океанские глубины, однако уже и здесь дневной свет не проникал сквозь толщу воды, так что акулы охотились как и прежде — во тьме вечной ночи.
Чтобы найти добычу, зарывшуюся на мелководье в песок и часто невидимую глазу даже при относительно хорошем освещении, акулы использовали сверхчувствительные датчики — маленькие пятнышки под нижней челюстью. Эти рецепторы воспринимали даже самые слабые электрические разряды, испускаемые морскими языками и прочими придонными жителями, а также любые изменения давления и температуры.
Обладая, кроме того, отличным зрением и высоко развитым обонянием, акулы чувствовали себя как дома и в полной тьме, и при дневном свете и всюду были одинаково опасны. Умевшие успешно приспосабливаться в любом уголке своей морской вселенной, они, в отличие от более сложных костистых рыб, имели ряд особенностей: значительную массу, удельный вес меньше веса воды, жирную печень, а не плавательный пузырь, которая обеспечивала их жизненной энергией и способностью держаться на воде, зубы, способные к бесконечной регенерации. У некоторых акул были также особые челюсти, которые при атаке выдвигались вперед, и хищницы вырывали огромные куски плоти точно лапой с острыми когтями. Глаза у акул закрывались пленкой, похожей на веки, но она не опускалась, а поднималась, в отличие от млекопитающих и рептилий.
Возбужденные запахом, который принесло течение, акулы лениво развернулись, сперва двигаясь довольно неторопливо, но потом постоянно наращивая скорость. Среди скал запах добычи стал еще притягательнее, и акулы ворвались туда, точно стая волков или диких собак — хотя такой охоты никогда не увидишь на суше, — и обрушились на стаю молодых горбылей-холо с лихорадочной страстью уничтожения. Когда день на Земле сменился ночью, а потом вновь наступил рассвет, кальмары по-прежнему продолжали плыть на восток, и численность их миллионных рядов уменьшалась незаметно, а вот стая горбылей после атаки акул существовать практически перестала.
ГЛАВА ВТОРАЯ
За три года, последовавших после несчастного случая, Джеймс Ривер учился приспосабливаться к новому образу жизни, порой жестоко расплачиваясь за свое неосторожное поведение. Однажды, ведя по мокрой дороге грузовик своего зятя, Джеймс позабыл об искалеченной руке и при повороте не сумел сдержать руль. В итоге машина полетела в кювет, а сам он, потрясенный до глубины души, отделался многочисленными ссадинами. По натуре оптимист, Джеймс старался не придавать особого значения неприятностям такого рода.
Он даже извлекал из случившихся перемен какую-то пользу.
Так, он продал свою моторку и рыболовные снасти за хорошую цену и теперь, хотя и с некоторым чувством вины, наслаждался «роскошной» жизнью на суше, постепенно осознавая, что прежняя его жизнь, по сравнению с общепринятыми нормами, была полна невзгод и лишений, а тяжкий труд продолжался от зари до зари и результаты его — увы, слишком часто — зависели от погоды и удачи. Приходилось платить слишком высокую цену за это наиболее благодарное из тех атавистических занятий, которыми человек заниматься не бросил, даже переключившись на земледелие и оставив охоту и собирательство. Порой он задумывался о том, не правы ли, в конце концов, врачи в больнице, говоря, что и к нему тоже пришла старость.
С помощью дочери Делии Джеймс научился печатать двумя пальцами — большим на правой руке и указательным на левой — и открыл в городе магазинчик, торгующий различной рыболовной снастью. В основном благодаря участию Делии магазинчик стал процветать, и Джеймс с удовольствием приходил туда, ибо там в какой-то степени удовлетворял свой интерес и к рыболовам, и к рыбной ловле.
Подобно Рипу ван Винклю, для которого море было миром неизменным, он погрузился в обыденную жизнь Книсны и в ее торговые дела и обнаружил, что многое за эти годы успело измениться и продолжало меняться прямо на глазах. Город рос; различные приманки для туристов, поражавшие своим разнообразием, концентрировались вокруг некогда девственно чистого эстуария, и Джеймс торчал в своем магазинчике как острый обломок прошлого, выброшенный на берег; он был старым морским волком, на которого всегда можно положиться и который всегда даст нужный совет, а в придачу сможет рассказать множество таких историй, которые уже сами по себе достаточно хороши, хороши настолько, что, заслушавшись, можно купить даже что-нибудь совсем ненужное. Он и представления не имел, насколько настоящим и редким человеком в этом искусственном мире казался гостям из внутренних районов страны, и не сразу замечал, когда дочка незаметно подталкивала его локтем, чтобы привлечь внимание к покупателям: у нее-то был острый глаз на все, что касалось бизнеса. Джеймс одевался в выгоревшие темно-синие рубашки и куртки, что придавало ему исключительно «морской» вид, к тому же синий цвет очень шел к его голубым глазам. Он также отрастил небольшую бородку и стал походить на бывалого шкипера — худой, долговязый, с исхлестанным всеми ветрами лицом и широкими сильными плечами.
Днем в его магазинчике кипела жизнь, сюда заглядывали даже молодые люди, пахнувшие дорогими лосьонами, и прямо-таки невероятное количество изящно одетых, очаровательных женщин средних лет. Из дверей одного из соседних магазинов постоянно слышалась рок-музыка, а в другом торговали спортинвентарем, который явился для Джеймса поистине откровением; он даже воспринял его как некий вызов тому архаическому очарованию, которое окутывало его давнишних приятелей-рыбаков и их старую нехитрую снасть. Впрочем, он тоже стал нырять в защитных очках и с аквалангом, изучая подводный мир, который сперва показался ему чрезвычайно таинственным — ведь прежде он мог его только воображать, — так что первое время способен был говорить о нем без умолку.
Он подружился с молодыми сотрудниками Департамента по охране заповедников, чьи философские и юридические воззрения неустанно излагал туристам, а в департаменте в качестве взаимной услуги рекламировали его магазин.
Туристы, должно быть, находили его дом настоящим «автохтонным» жилищем, этаким отголоском былых времен. По сути дела, это была деревянная хижина, крытая гофрированным железом, — в таких жили когда-то старатели на золотых приисках Милвуда; хижину при необходимости легко можно было разобрать и погрузить на запряженную быками повозку, чтобы перевезти в другое место и снова собрать, когда будет нужно. Так случилось, например, с домами старателей, когда здешние лесные прииски в конце прошлого века перестали привлекать к себе людей. В хижине у Джеймса царил беспорядок с тех пор, как умерла его жена. Дом торчал на вершине холма, будто случайно залетев туда, в одной из долин Солтривер, заселенной мелкими арендаторами. Возле двух проржавевших насквозь остовов легковых автомобилей выросли целые рощи бананов; в ветхом сарае из рифленого железа обитали две коровы; в точно таком же хлеву — свиньи; рядом догнивал деревянный гараж и виднелся заросший сорняками огород и несколько плодовых деревьев. Джеймс начал было приводить огород в порядок, однако копать землю с такой рукой оказалось трудновато. Тогда он еще не проводил весь день в магазине, так что спасибо дочке — она первая заметила, как дом опускается, и ему удалось выкарабкаться прежде, чем заросли ежевики и бананов поглотили и дом, и его самого вместе с ним.
Дочь Джеймса Делия и ее муж Йохан жили по соседству, со всех сторон окруженные старыми автомобилями. Их дом, очень похожий на хижину Джеймса, претерпел, однако, значительные усовершенствования — он был больше и крепче, да и буйная растительность вокруг него была вырублена; и все же дом все равно казался карликом, которого вот-вот раздавят тяжелые лесовозы и трейлеры, явно пребывавшие в весьма плачевном состоянии. Йохан занимался перевозками различных грузов — весьма распространенное занятие в этом лесном краю; дела у него шли неплохо, а тылы в семье прикрывала терпеливая и умелая жена. Делия была, безусловно, и терпеливой, и умелой, но к тому же, в отличие от многих местных женщин, еще и весьма привлекательной — двадцать четыре года, высокая, стройная, даже, пожалуй, сексапильная, с черными, как у цыганки, волосами и голубыми отцовскими глазами. Они с Йоханом были весьма популярны среди членов рыболовного клуба. Делия заставила и отца присоединиться к ним, надеясь, что так ей будет легче следить, если Джеймс станет злоупотреблять своим любимым напитком — бренди с водой.
По уик-эндам, как зимой, так и летом, Джеймс ловил рыбу со своего ялика, а летом еще порой плавал в маске и с аквалангом, ловя рыбок для аквариума в своем магазинчике. Всем этим он мог заниматься без чьей-либо помощи и дать наконец-то волю своей природной склонности к одиночеству.
За целые сутки до начала соревнований по глубоководной рыбной ловле у слипа рыболовного клуба и вокруг поднялась необычайная суета, особенно среди тех, кто приехал издалека и привез с собой дорогое судно и снасть. Джеймса в качестве местного эксперта представили одному такому заезжему шкиперу и его команде, сообщив, что уж он-то знает самые богатые рыбой места. Таким образом и он оказался втянут в эти соревнования — мероприятие, с его точки зрения, легкомысленное, пустая трата времени и даже чуть ли не святотатство в том смысле, что любители посягали на территорию, где трудились профессионалы. В глубине души он был убежден, хотя и не говорил этого вслух, что соревнования в убийстве живых существ ради собственного тщеславия не соответствуют старинной охотничьей этике, тем более что для заезжих рыболовов море — всего лишь игровая площадка, которую они посещают не чаще раза в год.
Судно под названием «Скопа» было тем не менее самым красивым из всех, какие Джеймс когда-либо видел в жизни.
Очень дорогое, оно было оснащено двумя подвесными моторами, специальным вращающимся креслом для рыбной ловли, удобным командным мостиком и вообще буквально нашпиговано разными электронными штуковинами, какие только можно было найти на рынке. Осматривая судно вместе с капитаном, Джеймс высказал лишь одно предложение: пусть купят еще метров сто нейлоновой веревки с металлическим кольцом-цепочкой для якоря, — и один из членов команды тут же бросился исполнять его пожелание. Вечером накануне соревнований они вместе пили виски, сидя на корме и любуясь великолепным летним закатом и спокойными водами залива.
Джеймс чувствовал в сердце знакомое покалывание — его переживания сейчас были куда сильнее, чем у любого из этих «спортсменов», даже у юного сына владельца катера, буквально сгоравшего от нетерпения и мечтавшего поскорее добраться до рифовой гряды. Рифовый барьер отгораживал залив Книсны от открытого моря и внушал некий мистический ужас и восхищение тем, кому предстояло впервые в жизни посетить его. Спокойные и краткие комментарии Джеймса были для этих людей бальзамом, пролитым на раны, и они теснились вокруг старого рыбака, стараясь не упустить ни одного из редко срывавшихся с его уст слов. Джеймс очень удивился, узнав, что первой премией будет новенький однотонный грузовичок с четырьмя ведущими колесами.
— Значит, для вас рыбная ловля — это вроде как азартная игра, верно? — спрашивал он. — Что ж, при такой ставке нужно играть по-крупному.
Слушатели охотно кивали. Попыхтев трубкой, Джеймс продолжал:
— Можно пойти на устричную отмель, как все; а не то пойдем ловить горбылей-холо или трангов… если рыба придет… — Он пожал плечами. — Если плыть к устричным отмелям, придется поторапливаться и ловить на блесну желтохвостых луцианов или пятнистых тунцов; может, морских окуней наловим, а то и горбыля поймаем. — Он снова пожал плечами и выбил трубку о планшир. — Но если вам хочется почувствовать настоящий азарт, — он глянул на шкипера, который до сих пор не проронил ни слова, лишь улыбался, как бы прося извинения за энтузиазм и невоздержанность более молодых членов команды, — то можно поискать отмель подальше, в открытом море. Я там как-то бывал, правда, всего лишь раз, зато уж там-то рыбы полно и никто ее не ловит, ведь эту отмель еще и поискать придется. — Он протянул свой стакан, и ему тут же с готовностью налили еще.
— А это далеко, Джеймс? — спросил владелец катера.
— Километров двадцать.
Шкипер поскреб подбородок и пригладил курчавые седеющие волосы. Джеймс знал, что это весьма известный бизнесмен, однако в данный момент видел перед собой всего лишь обычного мужчину, довольно плотного, крепкого сложения, с загорелыми руками и ногами, в голубых шортах и босиком. Глаза шкипера, казалось, меняют оттенок вместе с постепенно меркнущим голубым небом над лагуной.
— Мне эта идея нравится, — помолчав, сказал шкипер с улыбкой. — И правда, что-то новое. Хорошо, идем на ту отмель, если погода позволит. Мое судно вполне может ходить и в открытом море. А там глубоко?
— Саженей пятьдесят, то есть метров сто будет. А над самой отмелью — что-нибудь около тридцати.
Шкипер повернулся к своей команде:
— Ну что, ребята? Идем? Терять-то нам, в общем, нечего.
Команда выразила свое согласие бурными воплями восторга.
— Если мы эту отмель не найдем, — заявил Джеймс в итоге, — можете кинуть меня акулам — и дело с концом.
В рассветной тиши залива затарахтели, загрохотали моторы.
Стоял полный штиль, лишь с океана доносился слабый запах озона. Океан ждал их за грядой рифов, и судно изящно сделало первый вираж. Ревущих валов впереди видно не было, лишь ощущалось течение приливных волн.
Джеймс коснулся плеча шкипера:
— Теперь пора; обогните рифы, держась к ним как можно ближе, и на всех парах вон к той ряби.
Застучали моторы, катер содрогнулся, чуть осел на корму и рванулся вперед. Когда они вышли за пределы гряды и позади остались мрачные, приземистые бастионы — два мыса-близнеца, сторожившие вход в залив, — на судне по-прежнему царило полное молчание, лишь снова зазвучал голос Джеймса:
— Вон там большой риф, видите? Тихий ход, иначе мы через него перелетим. Медленней, медленней!
Судно всползло на волну и изящно соскользнуло в наполненную ветром впадину в такт вздохнувшему морю. Наконец они миновали последние рифы и понеслись по маслянистой, залитой солнцем поверхности открытого моря, разбрызгивая воду, точно расплавленное золото.
Джеймс и капитан в двадцатый раз сверились с часами и компасом, и Джеймс удовлетворенно кивнул в ответ на вопросительно поднятую бровь шкипера. Он уже успел мельком заметить тюленей, однако ничего не сказал; да и птиц становилось все больше, и он ощущал, буквально кожей чувствовал, как меняется поверхность океана. Внутри у него все дрожало от нервного напряжения, даже руки не слушались, когда он раскуривал трубку, а судно, тяжело переваливаясь на волнах, плыло все дальше в полном безветрии, под неожиданно жарким солнцем. Здесь они были одни, берега исчезли в морской дали, над ними парил, то спускаясь к самой воде, то вновь взмывая в небеса, альбатрос — скиталец морей, да стаи капских уток и более крупных шоколадно-коричневых вилохвостых качурок качались вокруг на волнах. Эхолот чертил ровную черную линию — дно под ними было гладкое, глубина довольно большая; они продолжали плыть вперед, и тут вдруг качавшиеся на воде птицы неохотно взлетели, переругиваясь между собой, и снова опустились у них за кормой, совсем рядом. Губы Джеймса дрогнули в довольной улыбке, причина которой была известна лишь ему самому: он снова видел их, своих старинных друзей, и они сообщили ему именно то, что он хотел узнать. Эхолот что-то пробормотал, и черная кривая резко поползла вверх, вырисовывая извилистые пики, а люди с интересом смотрели на прибор и молча улыбались.
Бросив якорь над одной из особенно острых подводных скал, они немедленно принялись за рыбную ловлю. Попадались крупные парапристипомы и дагерады. Джеймс надел на искалеченную руку специально приспособленную перчатку, с помощью которой мог как-то управляться со спиннингом, но все же былой ловкости не хватало; только теперь он понял, какая сила и точность требовалась от его пальцев, когда он снимал с крючка крупную, все еще бьющуюся рыбину. Раньше это было как бы частью его натуры, теперь же он чувствовал себя неуклюжим новичком, взявшимся за слишком трудное и опасное дело. В итоге он бросил ловить спиннингом, удовлетворившись острогой, которую сжимал в левой руке, и стараясь даже в царившей вокруг суете сохранить чистоту на палубе. К тому же рыболовы тоже не давали ему скучать. В который раз тронула его красота только что пойманного натальского дагерада, когда по телу рыбины словно пробегают разноцветные волны, словно радужные пятна нефти, расплывающиеся на воде, или расцветающая пастельными тонами заря. Они поймали двух желтых каменных зубанов, настоящих чудовищ, сверкавших золотисто-красными блестками, и одного черного морского карася, который, по прикидке Джеймса, весил фунтов девяносто пять. Он никогда не мог заставить себя определять вес рыбы в килограммах. В данном случае он ошибся не намного: огромная черная, с шишковатым носом рыбина весила ровно сто фунтов. Из рифовых рыб они сперва ловили желтохвостых луцианов, а потом удочки перестало дергать так, что в глазах темнело, и кто-то сильный потянул лесу, заставив спиннинг верещать от напряжения. Последней рыбиной, которую они поймали и тут же, впрочем, упустили еще до того, как подоспели суповые акулы, был горбыль-холо килограммов на девять — Джеймс сказал: двадцать фунтов.
Рыба была длиной с ногу взрослого человека; стремительно вылетев из воды, она яростно мотнула головой, и крючок оборвался. Джеймс сверху видел, как горбыль ударил хвостом по воде — живое сокровище! — и ушел на глубину, навстречу свободе, в синий океан.
Могучие хвосты и обтекаемые тела акул, крутившихся вокруг судна, наглядно демонстрировали, каким образом они способны развивать такую огромную скорость даже на большой глубине; вряд ли они со своими хищными пастями были желанными гостями возле катера, но все равно пора было возвращаться. Судно на большой скорости двинулось к невидимому пока побережью, и рыболовы, до крайности возбужденные, старавшиеся перекричать друг друга и рев моторов, без конца вспоминали различные захватывающие моменты сегодняшней ловли.
Время близилось к полуночи; уже под ликующие крики был взвешен улов, и теперь вся компания наслаждалась одержанной победой. Джеймс вышел на задний двор, где на специальной площадке жарили целого быка. Ему хотелось посмотреть на рыбу. Она лежала, брошенная небрежно, кучами, никому не нужная и всеми позабытая на чуждой ей земной траве. Джеймс вернулся в бар и заказал двойную порцию бренди. И пообещал себе, что никогда больше не пойдет на ту безымянную отмель, чувствуя слабое удовлетворение оттого, что никому без его помощи эту отмель так просто не отыскать.
Тут решающую роль играло сильное восточное течение, а он и не подумал сообщить об этом капитану «Скопы».
На следующий день, в воскресенье, Джеймс снова пошел на берег к клубу рыболовов, чтобы выпить на прощанье с командой «Скопы». День был неожиданно жарким, влажным, барометр падал, предвещая перемену погоды. Джеймс заметил фургон торговца рыбой и поинтересовался, почему это ценный улов так долго валяется на берегу. Какая же злость, какое отвращение охватили его, когда торговец сообщил, что отказался от рыбы, потому что «она уже провоняла». А ведь Джеймс заставил этого мальчишку, сына владельца «Скопы», пообещать, что он непременно лично проверит, чтобы рыбу вычистили и выпотрошили сразу после взвешивания! Впрочем, легко можно себе представить, как все было на самом деле.
Выпив парочку банок пива и пребывая в эйфории после победы, да еще после такого утомительного и напряженного дня, мальчишка, едва услышав первые звуки музыки, сразу забыл обо всем на свете. И рыба — непривычная для него забота — так и осталась неухоженной, ведь она уже сослужила свою службу. В конце концов, разве могла какая-то рыба состязаться со стоимостью новенького грузовичка с четырьмя ведущими колесами?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
На глубине метров двести вода была холодная. Меченый плыл во тьме над самым каменистым дном. Здесь был совсем иной мир, сильно отличавшийся от шельфа, протянувшегося трехсотметровой полосой вдоль Южного побережья Африки, где он прожил более года; здесь он часто замечал странных, призрачно светившихся рыбок, которые как бы намекали на существование дальше к югу, за кромкой континентального шельфа, немыслимых глубин. Меченый достиг десяти килограммов веса и в длину был около полутора метров; теперь он превратился в настоящего охотника, почти перестав быть чьей-то добычей, однако всегда остерегался проплывавших мимо хищников вроде гребнезубой акулы или шестижаберника, которые порой достигали пятиметровой длины, а также акул-домовых с их странными, похожими на клювы челюстями — находившихся в вечном движении, вечно голодных призраков глубоководья.
Он провел месяц среди обросших кораллами скал, охотясь на снэпперов или рифовых окуней, африканских гимнапогонов и светящихся анчоусов в бесчисленных пещерах и трещинах старого лавового потока и постепенно продвигаясь к северу, к отвесному склону каменистого подводного плато, которое вызывало его любопытство, потому что весьма отличалось от всех прочих мест, которые он посещал до сих пор.
От крутых утесов исходило не только ощущение прочности и надежности, но и новые, неведомые звуки, а также множество электрических разрядов, испускаемых незнакомыми существами и предметами, так что Меченый приближался к плато осторожно; немного успокаивало его лишь присутствие небольшой стайки молодых горбылей-холо примерно того же размера, что и он сам; с ними Меченый почти материально ощущал родство — благодаря особого рода энергетическим сигналам, сплетавшимся будто в паутину.
Поднимаясь вверх, вдоль довольно крутых каменистых склонов, Меченый чувствовал, что неведомые электрические разряды становятся все сильнее; постепенно стал виден и сам их источник — некое существо, более крупное, чем он. Меченый замедлил ход. Вокруг были бесконечные своды пещер, коралловые арки, песчаные проспекты, по которым стремились потоки воды, нежно гладившие бока горбыля и сообщавшие ему не меньше разных тайн и секретов, чем может рассказать льву ветерок, дующий на суше. Существо над ним тоже остановилось, волнуя воду попеременными ударами своих семи мясистых плавников или ласт и, видимо, понимая, что тот, кто поднимается снизу, слишком велик, чтобы его съесть, не принадлежит к его собственному семейству и, возможно, опасен. Существо в высшей степени изящно перевернулось на спину и проплыло так несколько метров — в совершенно горизонтальном положении, животом к далекой поверхности воды, вслушиваясь в исходящие от Меченого звуки и надеясь получить побольше информации, потом заняло вертикальное положение головой вниз и выставило хвост, как радиоантенну, улавливающую сигналы с помощью маленького специального датчика на самом кончике хвоста. Это была самка целаканта; ей было двадцать пять лет, она снова готовилась произвести на свет потомство — возможно, в последний раз — и несла в себе восемнадцать икринок размером с апельсин и такого же цвета. Не ощущая в данный момент поблизости ничего съедобного, самка целаканта инстинктивно заботилась только о собственной безопасности и безопасности малышей, которых она в ближайшие месяцы родит живыми и совершенно жизнеспособными.
В проникавшем сквозь воду солнечном свете самка целаканта казалась аквамариновой; двухметровая, весом почти в десять раз превосходя Меченого, она плавно скользила в океанских глубинах и являла собой настоящее чудо живой природы — ведь она была живым ископаемым, чьи ближайшие родственники жили на Земле четыреста миллионов лет назад и приходились дальними предками как Меченому, так и Джеймсу Риверу. Самка целаканта обитала на склонах уединенного небольшого подводного вулкана в компании всего лишь двух сотен себе подобных и в четырех тысячах километров от всех прочих представителей своего древнего рода.
Внезапно в темной океанской ночи эхом разнеслись далекие крики китов, и Меченый с самкой целаканта поплыли в разные стороны, каждый навстречу собственной судьбе. Больше им не суждено было встретиться. Киты, проплывавшие над ними, своим происхождением тоже были обязаны целакантам, и их тоскливые крики звучали не то как приветствие, не то как прощание с этим древнейшим представителем позвоночных животных, существующим, кажется, вечно и как бы таившим в себе намек на возможность столь же невообразимо долгого будущего, в том числе и для человека.
Меченый пересекал падающий полосами весенний солнечный свет, пронизывающий воду на все большую глубину, по мере того как солнце поднималось к зениту. Он вместе со стаей горбылей проплыл сто пятьдесят километров над песчаным, слегка каменистым дном, точно следуя магнитной стрелке, указывающей на север, и влекомый страстной потребностью воспроизведения себе подобных. Тучи планктона служили пищей огромным стаям мелких серебристых сардин и различных сельдевых рыб, которые каждую ночь поднимались к поверхности вместе с планктоном, не опасаясь ночью птиц-ныряльщиков, однако же не в силах спастись от бесчисленных хищников, которые устремлялись к поверхности следом за ними. Некоторые из охотников были куда крупнее и быстрее Меченого: акулы, похожие на торпеды, с легкостью пересекавшие любой океан, бутылконосы, с плачем и восторженным писком проносившиеся мимо. Меченый успел отплыть подальше от них, нырнув на глубину, поближе к спасительному дну; однако же не всем из его стаи удалось спастись.
День за днем барабанный бой разраставшейся стаи горбылей-холо звучал все громче, все настойчивей; самки и самцы рвались вперед, забыв обо всем, кроме одного неистребимого желания. Места, где они метали икру, гремели от их брачных песен, и Меченый наконец содрогнулся над икрой самки в пароксизме наслаждения, позабыв обо всем на свете и почти лишившись чувств.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Джеймсу Риверу часто приходилось ездить по району, представлявшему собой примерно равносторонний треугольник, вершинами которого были Кейптаун на западе, Порт-Элизабет на востоке и Кимберли на севере. В центре основания этого треугольника была Книсна, являвшаяся для Джеймса опорным пунктом. В Кейптаун и Порт-Элизабет он ездил по делу — покупал товары для своего магазина, а Кимберли посещал раз в год вместе с зятем, чтобы поохотиться на южноафриканских газелей шпрингбоков. Семейным бизнесом в это время занималась Делия, она же присматривала и за магазином Джеймса. Делия вполне охотно соглашалась взять на себя эти заботы, поскольку целую неделю «отдыхала от мужчин»; к тому же она не слишком любила семейные сборища на ферме у отца Йохана: они всегда казались ей чересчур шумными.
Одного-единственного раза, когда она согласилась поучаствовать в них, ей хватило с избытком; эти три дня, как ей показалось, были целиком заполнены ловлей боопсов, охотой, стрельбой и бесконечной выпивкой. Делия только удивлялась, как это никто никого не подстрелил и не отравился алкоголем.
Йохан считал такое положение дел само собой разумеющимся и был даже несколько уязвлен отношением жены к забавам мужчин, упрекая ее в том, что она с пренебрежением воспринимает семейные традиции, зато Джеймс тогда заявил, что это лучшая поездка в его жизни. Делия в ответ буркнула лишь, что раньше он как-то не отличался склонностью к развлечениям и празднествам.
Гряда рифов, на которой обитал Меченый, как бы замыкала описанный выше треугольник, точнее, служила обратной стороной его основания по линии прибрежных вод. Территория Меченого тоже представляла собой треугольник, с высотой раза в два меньше, чем у первого, и центральной вершиной на юге; на востоке он плавал до бухты Алгоа, где охотился на кальмаров, на западе — до мыса Игольный, где в изобилии водилась капская ставрида, а на юге нападал снизу на огромные стаи сардин, совершавших свои зимние миграции в воды Наталя. На этой территории он и перемещался по кругу в течение последних двух лет, и всегда летом в его душе вновь раздавался магический барабанный бой — зов продолжения рода.
Между восточной и западной оконечностями его гряды побережье было изрезано множеством рек и речек и их эстуариев; некоторые из них он знал очень хорошо — каждый по особому вкусу воды; однако лишь огромный эстуарий Бридривер на западе и реки Книсны на юго-востоке наилучшим образом подходили для длительного проживания и метания икры. Существовало, конечно, и множество других, более мелких эстуариев с черной водой там, где устья рек во время прилива оказывались ниже уровня моря и соленая морская вода устремлялась по их руслам вверх, против течения, меж высокими, заросшими лесом берегами до тихих заводей, где водяные лилии, похожие на голубые фонарики, обильно цвели в тени старых кладрастисов. Лучше всего Меченый знал реку Гоукамму, глубина которой в устье во время отлива была менее метра, с песчаным дном и длинной, никем не разоренной устричной отмелью в нескольких километрах к западу от Книсны.
Меченый часто плавал здесь, за линией прибоя, вдали от огромных валов, однако ощущая их силу. Волны, откатываясь обратно в море, влекли за собой тучи взбаламученных песчинок и казались кремовыми, когда с грохотом падали в белоснежные простыни пены при полной луне. Даже вдали от этих океанских валов вода опьяняла кислородом, и в ней отлично были видны стаи серебристой кефали.
Здесь, на мелководье, приливы и отливы имели примерно такое же значение, как дорожные вехи на суше, маяки на море или — для Меченого — запахи различных рек. С приливной волной он за полчаса успевал проплыть от эстуария до устья реки, хотя приходилось отчаянно сопротивляться течению тепловатой речной воды, мчавшейся к морю полосой метров в сто и всего лишь в метр глубиной над песчаным дном. Наконец Меченый попадал, плавно изогнувшись в последний раз своим сильным телом, в тихую, спокойную заводь.
Там он лениво плавал над торфянистым, илистым дном, следуя за вялым течением солоноватой воды, пока из речного коридора не доносились вновь грозные звуки прилива. Это было удивительно мирное место, особенно после рева, бесконечных перемен давления, взбаламученных песчинок и пузырьков воздуха в мощных волнах прибоя. Меченый легко определял местонахождение крупной плоскоголовой кефали, которая, как и он, осмеливалась заплывать достаточно далеко на север по пресным водам рек, а также наполненные скрипом и щебетом ясли белых каменных зубанов, морских лещей и пятнистых пристипом.
Однажды на рассвете он набрел на колонию горбылей-холо, всласть поохотился на них, сперва погнав всю стаю к поверхности воды и ничуть не опасаясь других хищников, даже вездесущих африканских коршунов-рыболовов. Он сознавал свою силу, и ему больше не требовалось ощущать себя частью стаи. Некоторое время он был самой крупной рыбой во всей излучине реки — этакое золотистое чудовище, полностью подчинившее себе этот спокойный, пронизанный солнцем мирок, столь далекий от холодных, опасных глубин на юге его территории.
Если на дне был чистый песок или галька, то отражавшиеся от него лучи солнца создавали настолько яркое освещение, что Меченый старался держаться тенистых участков, пока его зрение не приспособилось к здешней светлой воде, столь непривычной после вечного мрака морских глубин, где горбыль-холо провел полжизни. Его большие, особо чувствительные глаза и при слабом освещении могли разглядеть на речном дне и под берегом любую мелочь; он видел даже то, что происходило над поверхностью воды. Хрусталики его глаз имели сферическую, а не чечевицеобразную форму, так что он был способен фокусировать зрение, поворачивая хрусталики. Мало кто из обитателей здешних вод мог от него увернуться; в реке, даже в самых глубоких местах, было не больше десяти метров, так что бушбок, пришедший напиться, казался Меченому странной, уродливой формой, неким живым источником света, пока морда антилопы не касалась воды, и тогда Меченый видел черный нос и чувствовал мощные электромагнитные сигналы — куда более мощные, чем от плескавшихся рядом бурых каменных окуней или палтусовидной камбалы; а плывущая через реку древесная змея, похожая своими плавными движениями на угря, обычно всегда ускользала в чуждый Меченому мир свисающих над водой ветвей и яркого света.
В течение двух суток Меченый держал под контролем всю извилистую реку до тех мест, куда достигал морской прилив, — от самого устья до плотины из булыжников высоко по течению; здесь лишь слабо ощущались тянущие в море волны отлива. Чаще он охотился один, но порой к нему присоединялись и несколько других горбылей-холо, его ровесников примерно того же размера, приплывших сюда тем же путем.
Уже целый месяц стояла жаркая сухая погода — настоящая засуха в это время года; к тому же дули сильные ветры, и прибой с необычайной силой обрушивался на берег, нанося груды песка, в итоге запечатавшего речное устье, точно плотина, оставив лишь один блестящий ручеек, в воде которого поблескивали бесчисленные взвешенные песчинки; остальное, сильно уменьшившееся количество речной воды впитывалось в песок на верхней границе пляжа. Теперь через устье реки можно было запросто перешагнуть, однако особо нахальные рыболовы на автомашинах, пытавшиеся без разрешения пробраться на устричные отмели, здесь увязали прочно и, несмотря на все лихорадочные усилия, глубоко тонули в песке, пока их не накрывало приливной волной.
Джеймсу Риверу очень нравились подобные представления, и он с удовольствием ходил во время отлива вокруг затонувших по крышу автомобилей, качая головой и дивясь слабости человеческой натуры.
Еще до того, как люди, поселившись здесь, приручили реку Гоукамму, еще до того, как отсюда исчезли слоны, африканские буйволы и гиппопотамы, естественные сезонные паводки регулярно заполняли и затопляли все низменности в долине; а потом приливы нанесли в устье реки песчаный барьер, в котором плененная река проделала лишь неширокий канал, где мощное течение несло различные отходы лесов и лугов, очищая всю систему водоснабжения, чтобы вырос новый жизнеспособный растительный покров. Этот поток уносил и попавших в ловушку мальков рыб, которые устремлялись затем навстречу новой судьбе в живительные воды огромного океана.
Тот факт, что устье реки оказалось закрытым, привнес в существование Меченого и его стаи мало изменений. Он приспособился ко все уменьшавшейся солености воды и ел теперь куда больше угрей, к тому же тысячи заплывших в реку кефалей и прочих некрупных рыб составляли внушительный запас пищи, которого должно было хватить по крайней мере на несколько месяцев. Засуха тянулась уже много недель, и выпадавшие порой ливневые дожди мало чем могли помочь, разве что более или менее удовлетворяли потребность во влаге деревьев и кустарников, и все-таки вода в реке неуклонно поднималась, что грозило наводнением, и стало ясно, что устье придется открыть механическим путем, как то делали уже не раз и прежде.
Мальчик, удивший рыбу на берегу реки километрах в двух от устья, слышал чавканье землечерпалки, однако не обратил на это внимания, неприятно было лишь то, что звук этот нарушал царившую вокруг тишину. Мальчик посмотрел на часы: восьмой час, через полчаса стемнеет. Он откинулся на спину в густой спутанной траве кикуйю в тени развесистого смородинового дерева с красными концами ветвей, держа в руках легкую удочку с небольшим крючком и наживкой в виде креветки; рядом лежала еще одна удочка, тоже тонкая, но потяжелее и оснащенная довольно крупным крючком с наживкой из мяса кальмара. Колесико спиннинга на второй удочке он легко мог достать рукой, а конец удилища для безопасности аккуратно воткнул в землю и закрепил легкой защелкой с трещоткой. Он уже поймал двух небольших морских лещей, но наживка на самой прочной удочке оставалась нетронутой весь день. Мальчик удил с этого места три дня подряд — после того, как его дружок Тимо Джонгилати показал ему пойманного здесь неделю назад горбыля-холо в девять с половиной килограммов весом. Лежа в тени на сочной и мягкой траве, которую пора было косить, и слушая болтовню попугаев над собой, он вспоминал, как утром сюда заглянул самец бушбока, и думал о том, что этой реке и ее берегам прекрасный, серебристый с золотым отливом горбыль-холо так же чужд, как леопард — коралловому рифу, если случайно окажется там при отливе, что было бы настоящим чудом для такого страстного рыболова и натуралиста, как этот мальчик.
Он внимательно следил за парочкой краснокрылых скворцов, пытавшихся защитить свое гнездо от стаи обезьян-грабителей, пикируя на них сверху и клюя в основания хвостов, что оказалось весьма эффективным и все же ни к чему не привело: гнездо было разграблено. Утро незаметно перешло в день, день — в вечер, и вот уже горлинки стали слетаться в свои гнезда, и мальчик вдруг очнулся, вспомнив, что сегодня — последний день в этих местах и скоро придется возвращаться с родителями в город. Нет, надо непременно постараться и поймать такую рыбу! Мальчик отрезал голову у одного из пойманных им маленьких зубанов, надел ее на крючок и забросил удочку на мелководье, под склонившимся над водой стволом сухого дерева. Наконец легкие подергивания лесы дали знать, что рыбка уже отыскала наживку, и тогда бывшим наготове сачком мальчик ловко подцепил свою добычу, опустив сачок под самую середину кружка, расплывшегося на воде, и вытащил сразу двух небольших белых круглоголовых саргов и еще, к своему огромному удовлетворению, крупную плоскоголовую кефаль. Он очистил кефаль от чешуи, нарезал филе кусочками, подтянул к себе крючок с наживкой из кальмара и заменил белые полоски кальмарьего мяса на мясо кефали, а потом забросил удочку снова.
То, что Меченый и другие горбыли-холо вдруг почувствовали себя несколько неуютно, отнюдь не было связано с уменьшением количества пищи: все они успели поднакопить изрядно жирку. Нет, горбылей волновала барабанная дробь у них в крови, примета скорого брачного сезона, когда их охватывала особая тревога, и Меченый возбужденно метался, порой развивая огромную скорость и распугивая кефаль, которая выпрыгивала из воды и сверкающей дугой пролетала над рекою. Мальчик с интересом следил за этими «фонтанами рыбы», зная, что где-то в глубине охотится крупный хищник.
Меченому конечно же было не угнаться за кефалью, особенно на свободном пространстве, ему даже и за молодыми лихиями было не угнаться, так что он вообще старался не обращать на лихий внимания, разве что порой использовал их в качестве загонных псов во время их же собственной охоты — точно так же, как и охотящихся корморанов: подплывал с того конца, где был выход из замкнутого круга, ловил пытавшуюся спастись рыбу, оглушая ее ударами мощного хвоста, и тут же втягивал в разинутую пасть. Когда он заметил в воде полоску кефальего мяса, то сразу определил, что это именно кефаль — по вкусу воды — и что кефаль эта неживая. Он осторожно взял ее в рот, выплюнул и, удовлетворившись первой пробой, решил все-таки съесть. Когда он повернулся, то практически не почувствовал укола крючка, пронзившего его нижнюю губу, однако же сразу понял, что мертвая добыча ожила и теперь тянет его за край рта. Он хотел было выплюнуть ее, промыв пасть мощной струей воды, однако это не помогло, и он принялся трясти головой, а потом всем телом рванулся вперед, сильно ударив по воде хвостом.
Мальчик уже собирал снасти, намереваясь уходить, когда вдруг заметил, что кончик удочки дернулся и леса натянулась.
Он тут же схватит удочку — как раз в этот момент рыба нырнула, стремясь освободиться, и дернулась с такой силой, что спиннинг запел, а сердце у мальчика бешено забилось. Широко раскрытые глаза сияли от возбуждения, губы что-то шептали, он закусывал их — то ли от боли, то ли от полного восторга — и бормотал что-то совершенно бессмысленное, даже промычал какую-то песенку, ибо легкая удочка в его руке превратилась в дрожащую дугу, а леса стала разматываться все быстрее, рывками, когда пойманная рыбина устремилась к излучине реки, где над водой низко склонились деревья.
Больше всего в данный момент Меченый хотел избавиться от противной тянущей боли во рту и обрести наконец контроль над собственным равновесием и свободой движения, однако единственное, что ему пока удавалось, — это яростно трясти головой и плыть все дальше, на глубину. Боль усилилась, и он обнаружил, что его странным образом сносит то в одну сторону, то в другую, однако же по-прежнему сопротивлялся неведомой силе и не желал поворачивать назад, упорно стремясь к морю.
Мальчик с беспокойством смотрел, как уменьшается количество лески на катушке спиннинга, потом немного притормозил вращение катушки и приподнял конец изящно изогнутой удочки; теперь он уже не бормотал восторженно себе под нос и не пел, а заметно помрачнел, ибо вокруг начинали сгущаться вечерние тени. Леса была практически не видна, но по углу, под которым наклонилось удилище, мальчик догадывался, что рыба уже вошла в излучину реки, и тогда, решив предпринять последнюю попытку выиграть в этой схватке, он сошел с берега в воду, точнее, плюхнулся, сразу провалившись чуть ли не пояс, и пошел по илистому дну.
Однако дно вдруг кончилось, и он с головой ушел под воду, понимая, что все-таки проиграл. Последнее, что он отчетливо запомнил и много раз явственно слышал потом, когда вспоминал об этом приключении, был звук лопнувшей лесы.
Меченый, будучи метров на триста впереди, заметил лишь, что сила, безжалостно тянувшая его назад, сопротивляясь которой он все больше слабел, вдруг исчезла. Какое-то время он просто свободно плыл по течению над самым дном, едва пошевеливая плавниками и сохраняя равновесие с помощью хвоста. Его жаберные крышки то поднимались, то опадали, а рот судорожно вдыхал извлеченный из воды кислород.
Землечерпалку увезли с берега под болтовню тонкой пока струйки воды, подмывавшей песчаные берега, нанесенные ею самой, вгрызавшейся все глубже, все шире разъедавшей насыпь на берегу, а рядом, сразу за наносами, в мелком заливчике собралась рыба, ожидавшая, когда прорытый выход в море станет глубже.
К рассвету пролив достиг уже метровой глубины, и вода шла полосой метров в сто; кружившие над водой чайки видели, как рыба сверкающим потоком изливалась обратно в море, спеша поскорее скрыться в ликующем грохоте и волнах прибоя. А когда снова взошло солнце, Меченый и его стая уже плыли неторопливо к югу, к тем благословенным местам, где должны были дать жизнь своему потомству, и даже внимания не обращали на полчища кальмаров, которые при их приближении уносились прочь, точно клубы дыма.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Далеко от тех мест, где целаканты исполняли медлительный, волшебный танец вокруг своего замка из лавы, река, включенная Меченым в хитросплетение знакомых ему сигналов-ориентиров, мощным потоком несла свои темные воды, сильно поднявшиеся после трехдневного ливня с грозой, накрывшей черными тучами леса и прибрежные заросли кустарников. То дерево, под которым два месяца назад сидел мальчик-рыболов, сияло под яркими солнечными лучами, точно вымытое, отбрасывая тень на воду, в которой резвились новые стаи рыбы, приплывшей из открытого моря, и среди них — старая индийская речная акула. Она заплыла далеко от родного дома и только теперь начинала поправляться от раны, предательски нанесенной ей каким-то рыбаком в устье реки Замбези на Восточном побережье Африканского континента. Именно там акула провела большую часть своей жизни, там она выросла, достигла почти трех метров в длину и лишь в состоянии полной ослабленности и растерянности умудрилась заплыть так далеко на юг, к самому мысу Игольный.
Все кругом боялись акулы, а она не боялась никого, ни сухопутных животных, ни людей, ни морских обитателей; У большинства из них были веские причины обойти акулу стороной, ибо она была действительно опасным созданием и чувствовала себя одинаково хорошо как в пресной речной воде, так и в океанских глубинах или на мелководье. Она нападала на любое существо и пожирала все, что было сколько-нибудь съедобно — и мертвое, и живое, — и ей было все равно, где охотиться: в илистой воде реки, в пяти километрах от ее устья или в открытом море.
Акула медленно поднималась вверх по течению, держась у самой поверхности, и речную гладь разрезал ее изящный спинной плавник треугольной формы. Она проникла в реку Гоукамму вместе с мощной приливной волной, погнавшись за стаей довольно крупных горбылей-холо, и теперь обследовала эту незнакомую водную артерию и оценивала ее возможности, отчетливо ощущая в воде слабый запах пота и мочи, стекавший ей навстречу вниз по течению от ватаги детей, плескавшихся голышом на мелководье у песчаного пляжика.
Детишки визжали и брызгались водой, и к их радостным воплям вполуха прислушивался взрослый мужчина, дремавший на травке поблизости и наслаждавшийся покоем мирного летнего дня; он старался не думать о предстоящей в понедельник тяжелой работе на ферме, что находилась у излучины реки. В поднебесье пробормотал что-то коршун-рыболов, соловьи продолжали свой бесконечный пересвист в кружевной листве мимузопса, радостно галдели дети да монотонно гудели пчелы.
Самая старшая, четырнадцатилетняя девочка в свободном, прилипающем к мокрому телу платье, казавшемся белоснежным в ярком солнечном свете, держала в руках половину арбуза и показывала, какой он спелый, младшим ребятишкам, которые никак не желали ее слушаться, однако теперь, заметив арбуз, один за другим начали вылезать из реки, надеясь получить вознаграждение. Голый малыш как раз зашел в воду по пояс, когда акула повернула к нему, однако карапуз, видно, решил не быть последним на пиру юных пожирателей арбузов и так поспешно бросился к берегу, что даже шлепнулся в мелкой янтарной воде. Акула тут же развернулась, мелькнув серо-голубым боком и белым брюхом, однако заметил хищницу только коршун-рыболов, который внимательно следил за разрезавшим воду треугольным плавником, потом он решил опуститься пониже и рассмотреть плавник повнимательнее.
Паря в теплом потоке воздуха, коршун проследовал за акулой до самого устья реки и только тогда повернул прочь, а хищница нырнула на глубину и поплыла на восток, хорошо помня путь в родные места и зная, что если идти вдоль берега, то в итоге непременно приплывешь в теплые тропические воды, находившиеся сейчас в трех тысячах километров от нее.
Три весенних месяца Меченый провел в заливчике неподалеку от устья Гоукаммы и практически не замечал, как толпы отдыхающих начали собираться в водах залива и на его берегу, вот только на мелководье он чувствовал порой какой-то странный запах. Однажды, подплыв совсем близко к берегу, Меченый попал в движущийся лес странных белых стволов почти такой же толщины, как и он сам; а потом два ствола пронеслись мимо него, подняв множество пузырьков воздуха.
Меченый видел, как мелькнули белые ступни, и даже подплыл поближе, чтобы проверить, не съедобные ли они, надеясь к тому же, что весь этот шум вспугнет со дна парочку морских языков, однако не выдержал и повернул назад, когда чужой запах и колебания воды стали чересчур сильными.
Проплывая мимо прибрежных скал, вся поверхность которых была усыпана телами крупных, похожих на черепах существ, Меченый схватил кусочек рыбьего мяса и снова ощутил, что странная, неестественная сила куда-то тянет его, причиняя боль в голове, точнее, во рту, однако на этот раз тянули его пугающе сильно, и он судорожно рвался на глубину, потом еще и еще, пока отчаянные попытки спастись совершенно не измотали его. Неведомая сила продолжала неумолимо тащить его назад, к берегу, откуда он только что приплыл. Волны, плескавшиеся у скал, поднимали облачка песка и заставляли морские водоросли колыхаться, а загадочная, хотя теперь уже знакомая Меченому сила все тащила его в мутной воде, заставляя терять равновесие и налетать на камни, пока он не оказался там, где ржавел разукрашенный мидиями и рачками старый дизельный мотор. Он невольно сделал круг возле непонятного предмета и, задыхаясь, лег с ним рядом на песок, однако же сразу почувствовал, что болезненные рывки во рту прекратились. Для Меченого здесь было слишком мелко, каждая волна неприятно толкала его, приподнимала, забивала песком жабры, так что, немного восстановив силы, он решительно повернулся, намереваясь уплыть на глубину, но оказалось, что та сила держит его, будто на привязи, у этой скалы. Тогда он в панике заметался и заметил, что над ним, на торчавших из воды камнях, что-то движется в нестерпимом сиянии. Сперва одна белая колонна погрузилась в море с ним рядом, потом вторая, и вместе с ними в воду проникло некоторое количество воздуха, тут же начавшего пузырьками подниматься вверх, соединяясь с морской пеной.
Меченый рванулся что было сил, и то, что привязывало его к этому месту, вдруг исчезло, возник странный звук, от которого у Меченого зазвенело в голове, и уже следующая волна помогла ему, свободному теперь, уплыть прочь, и он, несомый волной, вскоре оказался в безопасности, на глубине, и тогда уже поплыл в полную силу.
Акула уловила сигналы тревоги, исходившие от попавшегося на крючок горбыля, и повернула в его сторону. Плыла она очень быстро, ее гнал охотничий азарт. На глубине у того берега, где Меченый схватил наживку, хищницу обуяло нетерпение — она прямо-таки чувствовала в воде вкус страха, однако никого не обнаружила и тогда, желая во что бы то ни стало поймать добычу и свирепея от голода, быстро спустилась по реке к морю, где на мелководье было полно купающихся.
Глубина здесь была не более метра, а вода походила на лимонад из-за множества взбитых целым лесом человеческих ног пузырьков воздуха. Акула проскользнула между людьми и развернулась, готовая схватить добычу. Ее верхняя челюсть выдвинулась вперед, сравнявшись с нижней, треугольные зазубренные клыки щелкнули — причем с такой силой, что могли бы раздробить кость любой толщины, — и акула, схватив и проглотив добычу, совершила последний круг в кроваво-красном, все шире расплывавшемся в воде облаке, отрывая и глотая куски человеческой плоти.
Рыболов на скале с безутешным видом все еще смотрел в расселину меж скал; крепкая удочка с обрывком лесы все еще дрожала в его руке, а в другой руке он все еще держал снятую с головы шляпу. Одетый в шорты цвета хаки и тряпичные сандалии, он был типичным фермером из отдаленных северных районов — об этом свидетельствовали и белая, незагорелая полоса на лбу, вечно прикрытому от солнца шляпой, и темно-коричневый загар ровно до локтей, где кончались рукава закатанной рубашки, и остальное странно белое, совершенно незагорелое тело. Двое более молодых его спутников тоже во все глаза смотрели на воду, словно загипнотизированные, и молча отжимали промокшие штаны.
Наконец первый рыболов воскликнул:
— Черт побери, я ведь почти поймал его! Жаль, проклятая волна помешала!
— Да, еще бы чуть-чуть, и все, — откликнулся второй, — Говорил я, надо острогу было захватить!
— Отец считает, что если взять с собой острогу, то уж точно ничего не поймаешь. Вот чертова рыба! Только хвостом плеснула и ушла!
— Да, я тоже видел. Как ты думаешь, сколько в ней было?
— Фунтов сорок, а может, и все шестьдесят.
— Ну да! Значит, к вечеру все сто будет.
Оба вскинули головы и посмотрели в сторону пляжа — оттуда вдруг донеслись странные пронзительные вопли и стоны, словно в муке кричало некое многоголосое существо; так кричат порой стаи чаек над морем, только сейчас было куда страшнее. Купающиеся врассыпную лезли на берег, толкаясь локтями и стремясь поскорее оказаться на суше; они поднимали тучи брызг и были похожи на охваченное паникой стадо животных. А вдалеке, за полосой прибоя, по-прежнему мирно скользили, позванивая на ветру, ярко окрашенные паруса виндсерфинга да взлетали на гребнях пенных волн водные лыжники.
Загорающие один за другим сперва приподнялись, опираясь на локти, потом вскочили на ноги, однако продолжали стоять тесными группками и глядеть на выбегавших из моря людей, готовые присоединиться к их толпе, а из ресторанов и нагретых солнцем кемпингов в одиночку и парами на пляж уже стекались любопытные, желая выяснить, что происходит, и неожиданно став свидетелями ужасных событий.
А сама акула уже неторопливо плыла вдоль пляжа на восток; сил у нее заметно прибавилось, она отлично закусила и наконец избрала нужное ей направление. Хищница обогнула мыс в тридцати километрах от пляжа, где высились каменные утесы, похожие на башни неприступной крепости, и где каждая подводная скала представляла собой отдельный мирок пестрых рифовых рыб — серебристых, черных, красных, — которые при приближении акулы тут же спешили скрыться. Однако акула не обратила внимания на эту мелочь: она вся была сейчас во власти зова крови и стремилась на север, в родные края.
Меченый оказался в этих местах двумя неделями позже, когда акула уже наслаждалась тропическими водами близ берегов Наталя. Она опять была голодна и снова все чаще подплывала к пляжам, привлекавшим ее возможностью легкой поживы.
Меченый так и не заметил глубокой раны на губе, где крючок, прорвав кожу, вышел наружу; теперь рана уже зажила, о ней свидетельствовал лишь неровный шрам. А там, где в губу вонзился первый крючок, поменьше, осталось лишь маленькое коричневое пятнышко, похожее на татуировку; крючок в итоге заржавел и выпал из губы сам.
Этот полуостров был хорошо известен большей части морских скитальцев, что обитали в радиусе нескольких сотен километров. Его южная, далеко выдающаяся в море часть служила им отличным убежищем: здесь имелись и скалистые впадины, и песчаные отмели, и теплые мелкие лагуны близ рифов, и более глубокие места с каменистыми осыпями, где валуны были, точно кружевами, усыпаны съедобными моллюсками, ракообразными и морскими водорослями. Места и пищи хватало всем. На юге полуостров уходил в море отвесной стеной, где у поверхности порой плавали и такие крупные пелагические рыбы, как желтоперый тунец, державшие путь на северо-восток или на юго-запад. Над водой эта каменная стена напоминала древний бастион, поросший серо-зелеными пятнами лишайников, с высокими утесами, с дуплами пещер, с желтыми пляжами, окаймлявшими бухточки с теплой сапфировой водой. Вода здесь была настолько прозрачной, что можно было разглядеть каждую рыбку в стаях молодой кефали, обладавшей, казалось, прекрасными стеклянными крыльями.
На небольшом расстоянии от этих тихих бухточек рифы и скалы, торчавшие из воды, как пальцы, точно сами поднимались и опускались вместе с волнами моря, дышавшего полной грудью, а пена вздувалась и шипела, когда вода орошала колонии мидий, покрывавших скалы блестящей живой шкурой, в которой копошились стайки красноглазок. Здесь было глубже, и вода отличалась более темным, густо-синим цветом, беспокойная, вечно кипящая в проливах меж скалами, то на мгновенье обнажавшая белые и черные склоны, то вновь затоплявшая их целиком. Самый крупный из этих скалистых, изрезанных морем островков, фундамент которого покоился на невероятной глубине, был достаточно высок, и над контрфорсами, предмостными укреплениями и лестницами уступов там имелась песчаная, не заливаемая водой площадка, испещренная пятнами колючих кустарников и жесткой травы, а также гнездами чаек и куликов-сорок, чьи печальные напевные крики слышались на фоне непрерывного грохота морских валов.
К северной части полуострова примыкал одной своей стороной залив с песчаными пляжами, протянувшимися километров на тридцать во все стороны, кроме юго-востока. В центре желтой радуги пляжей находился курортный городок Плеттенберхбай, очень популярный среди отдыхающих, так что летом все побережье залива, включая полуостров Робберга, буквально кишело туристами; на скалах торчали бесчисленные рыболовы, яркие паруса порхали над спокойной синей водой.
Полуостров Робберга словно магнитом притягивал рыболовов и любителей пикников: здесь еще сохранилась дикая природа, почти такая же, как и в те времена, когда люди только учились ловить в море рыбу. И теперь рыболовы обоих полов, вооруженные современной снастью, останавливались передохнуть под сводами пещер, где после рыбной ловли отдыхали люди каменного века. И кажется, ничто не изменилось за эти тридцать тысяч лет: ни скалы, ни их подводные обитатели, ни мысли рыболовов, которые мечтали о том, какую большую рыбину они поймают сегодня.
Возможно, когда-то, в самом начале этого огромного временного отрезка, вид из пещер и был несколько иным; ведь тогда ледниковый период заковал большую часть океана во льды, и волны, теперь плескавшиеся чуть ли не у входов в пещеры, отступили километров на сто к югу, не оставив от моря и следа — разве что покрытую небольшими дюнами, поросшими травой, равнину, — и заставили здешних, кормившихся морем людей заняться охотой в лесах и саваннах и заниматься ею несколько тысячелетий. И все же океан вернулся, медленно, неотвратимо отвоевал свою территорию, а вместе с ним вернулись и бесчисленные морские обитатели, и снова у входов в пещеры стали белеть в полумраке груды костей, оставшихся от обильного улова.
Был летний день, суббота. Двое местных рыболовов стояли рядом и, позабыв о кофе, глядели, как на мелководье в зеленой воде две крупные рыбины кружат над самым песчаным дном метрах в семидесяти — восьмидесяти от них.
— Тот, что покрупнее, настоящий горбыль-холо, — сказал один из рыболовов, — а вот второй кто? Пожалуй, хитрюга луфарь.
Со своей скалы они давно уже заметили эту неразлучную парочку, мелькавшую в воде, точно сине-зеленые тени, и пытались отгадать, что же это за рыбы.
— Да что они, привязаны друг к другу, что ли? А ты что скажешь?
Второй только пожал плечами и потянулся за своей кружкой с кофе. Он был готов поверить всему, что бы ни рассказал ему приятель о рыбах и рыбной ловле, зато сам прекрасно разбирался в названиях и породах деревьев, обожал лес и мог к тому же порассказать немало, если речь заходила о «дартс» или регби. Ну и о том, как лучше готовить рыбу.
Меченый в одиночку охотился у самого дна на песчаного землероя, однако не сумел выманить его из пещерки и повернул к скалам, привлеченный суетой, которую учинили собравшиеся там молодые, однако уже вполне крупные морские караси, которые в отраженном свете и кипящих пузырьках пены казались серебристо-голубыми, точно голубоватые бриллианты. Все они имели одинаково массивные головы, широкие хвосты и очень крупную чешую — признаки, характерные для глубоководных придонных рыб, часто вынужденных бороться с сильным течением. Их разверстые пасти были полны мощных зубов, и они лениво кувыркались, точно демонстрируя собственную силу, над каменистым шельфом, потревоженные недавним штормом и поднявшиеся сюда из впадин с песчаным дном. Караси кружились, били хвостами, застывали неподвижно вниз головой, а потом вдруг бросались с удивительным проворством за лишившейся раковины мидией или оторванным от скалы куском красного коралла.
Крупные красные крабы выползали из темных норок, чтобы подобрать обломки кораллов и кусочки растерзанных мидий и красноглазок. Выползали они очень медленно, осторожно цепляясь заостренными на концах клешнями за камни, но потом жадность брала верх, и, устремившись к добыче, они сами становились жертвами морских карасей, и панцири их мгновенно сокрушали сильные зубы, способные перекусить достаточно толстый рыболовный крючок. Вслед за крабами выползали из убежищ и осьминоги, неторопливо ощупывавшие поверхность скал. Осьминоги, привлеченные всеобщей суетой, охотились на крабов, которых ценили больше прочей добычи. Стаи сарп — мелких серебристых рыбешек с желтыми полосками вдоль спинки — реяли, словно нежной расцветки кривоватые флаги, и сверкали как зеркало, накидываясь на сокрушенные напором волн раковины моллюсков и разодранные в клочья водоросли.
Привлеченный всеобщим пиршеством, однако интересуясь лишь нежным мясом сарп, явился и крупный луфарь более десяти килограммов весом, с серо-зеленой спинкой и свинцово-серый на боках и брюшке. Благодаря обтекаемой форме тела он мог развивать огромную скорость и легко ловил мелких рыбешек, раскусывая их пополам одним движением челюстей, усыпанных острыми как бритва, тесно смыкающимися зубами. Морские караси мало обращали внимания на бандитские выходки быстрого хищника, который загнал стаю сарп во впадину и пожирал их, однако все время помнили о его присутствии — память детства подсказывала им, как опасны были луфари для мальков карасей, — и продолжили охоту лишь после того, как луфарь убрался восвояси. Меченый проплыл мимо морских карасей и, привлеченный запахом крови растерзанных сарп, направился к тому месту, где только что охотился луфарь. Порой Меченый открывал пасть и подхватывал то голову, то хвост, то еще какой-нибудь кусок сарпы, медленно опускавшийся на дно. Стаи чернохвостой облады кружили рядом, ловя более мелкие кусочки, однако тут же бросались прочь, стоило Меченому с угрожающим видом повернуться в их сторону. Вскоре он догнал того луфаря и последовал за ним буквально по пятам, огибая полуостров, в тихие воды северной части залива. Здесь, в пронизанной солнцем воде, где глубина меж скалами не превышала пяти метров, Меченый левым глазом отчетливо видел каждую морскую уточку, каждого торопливого краба, а правым — дно, уходившее вниз примерно метров на сто и светившееся зеленоватым сиянием: там он различал даже таких мелких рыбешек, как капские бычки, поднимавшие облачка песка.
Меченый был в три раза тяжелее луфаря и значительно длиннее его; вместе они — видимо, под влиянием «чувства стаи» — ощущали себя в безопасности, сознавая, что оба слишком велики для нападения даже стаи обычных хищных рыб, но все же боялись крупных акул и бутылконосов, которые с завидным упорством патрулировали здешние скалы. Дважды за утро Меченый успел спасти своего нового приятеля, однако ни тот, ни другой так этого и не осознали. Горбыль почувствовал по колебаниям воды приближение крупных животных справа и бросился в сторону метров на сто — в спасительно узкую щель, полную пузырьков воздуха и пены, а перепуганный луфарь, следуя его примеру, прямо-таки влетел в укрытие.
Бутылконосы промчались мимо на огромной скорости; они еще издали заметили двух крупных рыб и готовы были схватить их, однако те вдруг куда-то скрылись. Луфарь вылез из щели после Меченого, и они оба продолжили свой путь, плавная траектория которого нарушалась порой лишь стремительными бросками луфаря в сторону; он мгновенно разрезал добычу на куски зубами, точно ножницами, а Меченый пристраивался ему в хвост и подбирал остатки.
Когда появилась большая белая акула, внимание Меченого полностью было поглощено проплывавшим над ними катером.
Акула была не меньше этого катера в длину и важно плыла вдоль скалистого берега, высматривая тюленей, ибо именно на них и она сама, и ее предки охотились многие тысячелетия.
Это, собственно, были даже не тюлени, а капские котики, которые когда-то и дали полуострову Робберга его название, однако сами котики давно исчезли из этих мест, когда люди начали пользоваться ружьями, а не дубинками и острогами.
Котики кормили и одевали многие поколения людей в далеком каменном веке, однако акулы начали охотиться на котиков у побережья еще раньше, чем люди, и вот котики их совместными усилиями были практически моментально истреблены — если смотреть с точки зрения эволюционного процесса. Однако же акулий инстинкт продолжал жить, и каждый год в то время, когда выжившие в этих местах котики должны были производить на свет потомство, огромные белые акулы словно по волшебству появлялись в заливе за полосой прибоя, то есть у самого берега, а потом вновь уплывали в открытое море и возвращались на запад, где в более холодных водах еще сохранились колонии котиков, или же уплывали к северу и востоку от залива Алгоа. Эта акула могла бы сразу проглотить Меченого, однако ей помешал схватить его слишком узкий вход в пещеру, куда успели спрятаться горбыль и луфарь, и она поплыла дальше, втянув свои зазубренные пятисантиметровые клыки, — чудовищных размеров неясная тень, черная, как окружавшие ее скалы, и похожая на движущийся островерхий риф; она испугала целую армию рыболовов, которые тут же полезли на берег, хотя удили, стоя в воде, у самого берега.
Меченый и его приятель продолжали свое «симбиотическое» существование, понимая лишь, что их союз полезен обоим. Они проплавали вместе почти два лунных месяца, а потом случилась беда: луфарь вдруг, дергаясь и извиваясь, полетел куда-то вверх, навстречу яркому свету, и исчез. Это событие лишний раз уверило Меченого, что к мертвой рыбе и прочим лакомым кусочкам, лежащим на дне и висящим в воде, следует всегда относиться с подозрением. Тот кусок рыбного филе он заметил значительно раньше луфаря и даже взял было его в рот, однако, припомнив, чем закончились две последние такие пробы, тут же выплюнул, успев заметить, как наживку схватил луфарь. Меченый некоторое время плыл следом за отчаянно извивавшимся луфарем, все время держась дна, а потом даже поднялся к поверхности возле одной из скал — там-то его приятель и взлетел вверх, навстречу свету солнца, подняв целый фонтан брызг.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Джеймс Ривер и Йохан заехали в Плеттенберхбай взвесить пойманного морского карася в лавочке знакомой Джеймса, которая торговала рыбой на центральной улице города. Больше, правда, им хотелось просто похвалиться добычей, поскольку Джеймс уже прикинул на глазок вес рыбины — тридцать фунтов плюс-минус два — и такой улов, безусловно, следовало отметить. Джеймс вообще любил «отмечать», Йохан знал это по собственному опыту, однако, поскольку именно Йохан был за рулем, он вполне справедливо полагал, что лучше бы им вернуться домой пораньше, иначе не миновать ссоры с Делией. Это был его крест, и он нес его с отрешенным стоицизмом, хотя именно Джеймс, а не он, всегда являлся зачинщиком всех попоек и эскапад, которые вызывали гнев Делии. Но больше всего Йохана огорчало, что Джеймс, с точки зрения Делии, почему-то никогда виноват не был! А ведь он вел себя в точности как мальчишка-проказник, который обожает «доводить» родителей. На самом деле Делия в душе посмеивалась над обоими своими мужчинами: Йохан напоминал ей великана-тугодума, неспособного ровным счетом никому причинить вреда, а Джеймс был настоящий хулиган-непоседа, хотя и куда старше Йохана. Наверное, Йохану еще и брюшко мешало, нажитое в результате чрезмерной любви к пиву, которую он, видимо, унаследовал от отца.
Правда, на этот раз Джеймс не предупредил Йохана об одной важной вещи: владелицей рыбной лавки оказалась его старинная приятельница, у которой — что было еще хуже — в ее квартирке над магазином вовсю шла подготовка к вечеринке по случаю дня рождения. Джеймс страшно этому обстоятельству обрадовался, особенно когда обнаружилось, что вечером решено отправиться к эстуарию и половить там боопсов с помощью фонарей и сачков. Если и были еще какие-то сомнения по поводу осмысленности подобной «экспедиции», для которой требовались, в частности, сильные фонари, топливо для костров и решетки для жаренья, то все эти сомнения полностью рассеял исполненный энтузиазма Джеймс. И даже мрачные предчувствия Йохана после нескольких бокалов пива полностью уступили место покорному веселью. Он, правда, вовремя вспомнил, что нужно позвонить Делии и предупредить ее, что они, скорее всего, запоздают, и уж совсем развеселился, когда Джеймс начал превозносить его умение печь в золе лепешки-скороспелки из муки и пива и по-особому готовить кефаль — запекать в фольге с луком, помидорами и перцем чили. После этого Йохана тут же увлекла за собой на кухню какая-то огромная женщина в просторной блузе, которая оказалась кузиной хозяйки и, собственно, «новорожденной». Он все-таки продолжал немного беспокоиться, а вечеринка тем временем набирала силу и становилась все более многолюдной и шумной, ибо хозяйка дома Адель оказалась прямо-таки его собственным тестем в юбке. Это была чуть мрачноватая застенчивая женщина неопределенного возраста, немолодая, дочерна загорелая и босая. Она явно обладала сильным характером, была молчаливой, точнее, немногословной и напоминала ветряную мельницу копной светлых волос и находившимися в постоянном движении длинными руками и ногами.
Когда Йохану удалось выбраться из кухни, он уже знал, что хозяйке дома шестьдесят два года, а самой «новорожденной» пятьдесят четыре, что обе они то ли вдовы, то ли разведенные — он забыл, какая кто. Хозяйку звали Адель, а ее кузину — Мэри, и эта Мэри полностью «прикарманила» Йохана, крепко обхватив его руками за талию. Джеймс и Адель, ничего не замечая, болтали, уютно устроившись в уголке.
Когда Йохан неверной походкой проследовал мимо них, влекомый надушенной и разгоряченной Мэри, то услышал, как Джеймс рассказывает своей подруге о только что закончившемся туристском сезоне и о тех, кого он — и в шутку и всерьез — называл «террористами»; впрочем, шутка эта практически не воспринималась, поскольку война с Родезией окончилась десять лет назад.
Вечер все тянулся, Йохану казалось, что гостиная, как гуттаперчевая, то сжимается, то расширяется в зависимости от уходящих или прибывающих гостей, и когда они наконец все-таки выбрались на берег, он, к своему большому удивлению, обнаружил, что откуда-то из недр этого вроде бы вечного хаоса возник даже некий порядок: костер в тихой безлунной ночи горел ярко, вокруг костра спокойно сидели люди, а рядом на волне качался ялик, залитый ровным белым светом керосино-калильной лампы, явно отлично отлаженной, так что черная вода вокруг сияла, точно серебряное зеркало. На корме ялика, не обращая ни малейшего внимания на людей, собравшихся у костра, сидела юная парочка — судя по голосам и блестящим волосам — и пела; точнее, юноша перебирал струны гитары и тихонько подпевал девушке, которая исполняла на мелодичном африкаанс какую-то лирическую балладу.
Йохан вдруг обнаружил, что темноволосая Мэри наконец-то отпустила его и отправилась искать свою дочь, у мужа которой сегодня, оказывается, тоже был день рождения, из-за чего, собственно, и собралось так много молодежи. Джеймс и Адель были заняты осмотром сачка для ловли рыбы и светили себе электрическим фонариком. Йохан знал, что Джеймс давно уже как-то приспособился к своему увечью за прошедшие после несчастного случая десять лет, но все-таки с сожалением, в задумчивом молчании смотрел, как неуклюже тесть держит сачок за длинную ручку и с нежностью смотрит на него, словно понимая, что ловля «лампаро» — одно из старинных его пристрастий — теперь ему недоступна, во всяком случае как самостоятельному рыболову, потому что для этого требуется крепкая хватка обеих рук. Однако самого Джеймса печальные мысли мучили явно недолго; он что-то шепнул на ухо своей подруге, и Адель вдруг с притворным гневом принялась дубасить его кулаком по спине, что-то сердито восклицая при этом. Во время этого небольшого представления, еще до того, как вернулась Мэри, тащившая на буксире дочь и зятя, крепкого светловолосого юношу, Йохан узнал, что Адель и Мэри выросли вместе на северном берегу Брид-ривер, в нескольких километрах от ее устья; обе сохранили самые теплые отношения с многочисленными родственниками, по-прежнему проживавшими на фермах. А Джеймс с некоторой гордостью объявил, что Адель несколько лет держала первое место среди здешних рыболовов, поймав горбыля-холо весом в сто двадцать два фунта. Ее даже сфотографировали с этой рыбиной прямо на речной отмели. Однако Джеймс, усмехаясь, предположил, что, видимо, горбыль просто грохнулся в обморок, стоило ему увидеть Адель, а потому и сдался без боя, и тут же получил новую порцию тумаков. Йохан узнал также, что ялик с подвесным мотором принадлежит Адель и что у нее есть сын, который приезжает домой в отпуск, а вообще служит в полиции Йоганнесбурга.
Аромат жарившегося на решетке мяса возбуждал аппетит, и Йохан обнаружил вдруг, что голоден. А еще ему захотелось, чтобы Делия тоже оказалась здесь: он знал, что никогда не сумеет описать ей этот волшебный вечер.
— Эх, парень! — конечно же скажет она. — Ну а теперь объясни мне как следует, кто такая эта Адель, черт возьми! Откуда у нее лодка и при чем здесь какая-то рыба? И вообще, какое отношение имеет Брид-ривер к вашей попойке? Нет, ты все-таки настоящий тупица! Мало мне моего драгоценного папочки с его вечными выдумками!
Он решил, что лучше совсем ничего не скажет ей о Мэри, — все равно ей этого не понять. Кстати, Мэри явилась именно в тот момент, когда Джеймс стал разливать спиртное, а потом отправилась с Йоханом печь в золе его знаменитые лепешки, и Йохан счел, что хватит ему беспокоиться насчет Делии, пора на время забыть о ней и просто веселиться вместе со всеми. Это, конечно, было не то, что охота на южноафриканских газелей, но все-таки тоже неплохо, особенно для тех, кто родом не с Большого Карру.
К полуночи, когда начался прилив, участники пирушки разделились. Молодежь в основном сосредоточилась у автоприцепа с навесом, откуда доносилась рок-музыка, нисколько не мешавшая остальным слушать у костра магнитофон Мэри.
Где-то среди ночи, когда, к счастью, вся еда была уже приготовлена, кончилось топливо для костра, и «фуражиры»-добровольцы стали группами уходить во тьму; вскоре одна из групп приволокла несколько вымазанных креозотом столбов, которые теперь ярко горели, создавая в ночи ощущение пожара и испуская ядовитый черный дым, который, правда, тут же словно растворялся на фоне темных небес. Мэри однажды побывала в Греции и теперь упорно желала обучить совершенно не сопротивлявшегося и удивительно неуклюжего Йохана греческому танцу «сиртаки». Йохан умел с трудом танцевать только вальс и еще один танец жителей Карру под названием «ваштрап», так что у них с Мэри ничего не получалось, и в итоге они, споткнувшись обо что-то в темноте, рухнули на землю, выпав из круга красного креозотового сияния и изрядно насмешив Джеймса.
«Лампаро», на которую они все-таки отправились потом, должна была осуществляться следующим образом: Адель была штурманом и механиком, а Джеймс и Йохан — основными специалистами по снастям: один держал фонарь, а второй управлялся с сачком. Мэри взяли с собой в качестве балласта и — заодно — барменши. Прилив становился все выше, что, впрочем, заметили только Джеймс и Адель. Йохан и Мэри к этому времени окончательно уверились, что вместе их голоса звучат просто неподражаемо, и в который раз затянули «Moon River». Они уже исполнили немало известных арий из опер, и их голоса над тихой водой доносились даже до тех, кто танцевал на берегу возле автоприцепа, порой заглушая даже лодочный мотор. А ведь с началом отлива нашим рыболовам ничего не стоило попасть в беду — их могло попросту унести в открытое море. Уж Джеймс-то должен был знать об этом прекрасно, как и о том, что ночью в эстуарии рыбачить небезопасно, тем более неосторожным или чересчур восторженным людям. К тому же они столько времени потратили на бесконечные сталкивания лодки с песчаных отмелей, незаметных во тьме, что на саму рыбную ловлю осталось совсем мало времени. И все-таки им неожиданно повезло. Река прямо-таки кишела кефалью; рыба выпрыгивала из воды рядом с ними, сверкая серебряной радугой брызг, и порой падала прямо в лодку под громкие радостные вопли Мэри. Когда они застревали на очередной отмели и Джеймс с Йоханом прыгали за борт, погружаясь по шею, и сталкивали лодку, Джеймс каждый раз настаивал на том, чтобы непременно «отметить» отличный улов; «освежившись», они снова плыли к берегу на свет костра, красный огонек которого служил им как бы путеводной звездой. Потом они, как и следовало ожидать, все-таки опрокинулись, правда, в этом месте было всего по пояс, так что Джеймс умудрился даже не утопить электрический фонарик, пока они добирались до берега. А произошло все потому, что Мэри вдруг решила встать и от души потянуться, однако столь существенное нарушение центра тяжести оказалось легкому ялику не под силу, и все кувырком посыпались в воду. В итоге Мэри нашла все это очень забавным и решила кстати искупаться и всласть поплавать, раз уж оказалась в воде. Надо сказать, потребовалось немало времени, чтобы перевернуть лодку и собрать ту рыбу, которая не успела ожить и исчезнуть в темной воде.
Когда они добрались до дому, уже достаточно рассвело и весь залив был как на ладони, видны были даже холмы на берегах Цицикаммы. Молодежь уже давно вернулась; кое-кто лениво танцевал, остальные пили кофе на балконе, и все они почти не обратили внимания на четверку рыболовов, хотя вид у тех был весьма плачевный. Адель и Мэри быстро поджарили яичницу с беконом, а Джеймс и Йохан, чтобы женщины не скучали, тоже уселись на кухне, вытянув ноги, и стекавшая с них вода лужицами собиралась на выложенном плиткой полу. Когда все переоделись и привели себя в порядок, было уже начало восьмого, и Йохан снова начал беспокоиться насчет того, какой прием ему окажет Делия. По крайней мере, было воскресенье и он рассчитывал, что просто проспит большую часть дня.
По дороге домой Джеймс спросил его:
— Ну что, поедешь еще?
— На Брид-ривер? — нахмурился Йохан. — Если там будет эта Мэри — ни за что!
— Так возьми с собой Делию, — хмыкнул Джеймс.
— Что я, спятил, что ли? — уставился на него Йохан.
Джеймс засмеялся. Потом предложил:
— Знаешь, ты всю рыбу забирай с собой. Будет что-то вроде мирной контрибуции. А мне столько все равно ни к чему. Может, как-нибудь вечерком пригласите меня на ужин.
Йохан пробормотал нечто невразумительное, но Джеймс не расслышал, хотя ему хотелось знать, что же у Йохана на уме. Сам он конечно же собирался снова через месяц поехать на Брид-ривер и знал, что Делия к этому времени сменит гнев на милость и согласится присмотреть за его магазином.
Через час, уже в постели, Джеймс вспоминал, как однажды его резиновая лодка качалась на волнах всего в метре от покрытой мидиями скалы; вдруг леска напряглась, удочка выгнулась дугой, хотя он уже отпустил лесу, и рыба принялась выписывать круги возле лодки. Один раз на волне подскочил поплавок, потом он исчез в морской пене, а когда Джеймс поднял свой конец удилища, оно задрожало от напряжения, а леса все продолжала разматываться рывками — рыба пыталась уйти за риф, в маленькую бухточку. Он на одно деление подтянул колесико спиннинга, но это не помогло, и наконец наступил сладостный миг: он понял, что на кусок чернохвостой облады попался морской карась. То ли во сне, то ли наяву карась вдруг медленно проплыл рядом с Джеймсом, чуть ли не касаясь его резиновой лодки, и леска в лучах заходящего солнца блестела, как шелковая. Широкий хвост рыбины бил по мелкой воде, морская пена золотилась, вспыхивала, а потом карась всплыл и перевернулся на бок, серебристо-голубой, шевеля острым спинным плавником и хвостом, а мелкие, кремового цвета волны подгоняли его все ближе и ближе к занесенной уже остроге. Неожиданно появился кулик-сорока с красным клювом и черным опереньем, влетел прямо в его сон, громко забормотал, закричал, крики его вдруг превратились в вопли Мэри — и Джеймс окончательно провалился в забытье.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Несколько дней шли проливные дожди, и вода в Брид-ривер поднялась даже в тех местах, где располагались фруктовые сады и виноградники, то есть в двух сотнях километров от побережья.
Кристально-чистые горные ручьи смешивались в едином потоке с темной торфянистой водой лесных рек и на плоской равнине среди фермерских полей приобретали сперва желтоватый оттенок, потом красноватый — когда в реку попадала смытая с полей почва. Эстуарий превратился в огромное, залитое водой и грязью пространство, куда морской прилив тщетно пытался добавить немного соленой воды, так что все ракообразные и моллюски, плохо переносившие пресную воду, либо погибали, либо устремлялись ближе к устью, либо закапывались в песок, надеясь переждать этот потоп, ибо, так или иначе, погода должна была когда-нибудь перемениться. Даже далеко в море течение реки выносило коричневую воду, и в ней кормилось множество самых различных рыб. Когда вода в реках стала спадать, соленая морская вода устремилась навстречу их течению, и менее чем через неделю сильные приливы вновь окрасили воды эстуария в бутылочно-зеленый цвет, и того же цвета стала вода в реках на многие километры вверх по течению. В жизни реки Книсны наводнения случались и раньше, случались тысячи раз, однако лишь после изобретения плуга такие потоки грязи стали попадать в море. Эстуарий отчаянно сопротивлялся загрязнению своих вод удобрениями и инсектицидами, попадавшими туда с расположенных выше полей, дышал мощно, словно огромное легкое, с каждым приливом вдыхая оздоравливавшую его соленую воду, а с отливом — выбрасывая все то, что наносило ему вред, и быстро восстанавливая экологическое равновесие.
— Эти эстуарии — сложнейшая комплексная система, особенно эстуарий Книсны. — Это были слова одного молодого знакомого Джеймса, занимавшегося биологией моря. — Возможно, именно эстуарии — самые продуктивные участки всех здешних прибрежных вод. Ведь именно здесь растет рыбий молодняк и размножаются многие другие морские организмы, так что об эстуариях следует заботиться особо. — Биолог, как и Адель с Джеймсом, только что вернулся после утренней рыбалки. — Я, правда, опасаюсь, что грязная вода, попавшая сюда на прошлой неделе в результате столь сильного паводка, j может наделать немало вреда, хотя пока что течение достаточно сильное и большая часть осадка уносится в море. Кроме того, смывается ценнейший слой почвы…
— А как вы заботитесь об эстуарии? — спросила Адель.
— Видите ли, — промолвил биолог, глядя в стакан с пивом так, будто надеялся найти в темной жидкости воспоминания о прочитанных ему некогда лекциях и услышать полузабытые голоса профессоров, — люди всегда стараются приручить природу; водные источники, например, для них — настоящее мучение. Люди воспринимают их как бессмысленную потерю воды, а также как природную силу, неподвластную их контролю, и перегораживают течение дамбами и плотинами, чтобы подчинить реки себе. А потом, когда плотин бывает понастроено слишком много, мы имеем дело уже не с рекой, а с цепью озер, откуда громадные массы воды обрушиваются вниз по течению порой бесконтрольно, хотя именно от них зависит жизнь эстуариев — ведь это они уносят пласты грязи, очищают воду, дают рыбам возможность растить молодняк и так далее.
К тому же плотины всегда означают возникновение интенсивного земледелия и городов, а в результате вполне возможны ненормированные сносы почвы при паводках или же, напротив, слишком большой перерасход воды в реках и сверхсильное загрязнение эстуариев, когда нечем смыть нанесенную грязь.
Адель понимающе кивнула и тяжело вздохнула:
— Все равно что струей воды уборную мыть.
— Да, очень похоже, — подтвердил биолог, — отличное сравнение.
Прошло уже несколько лет с того дня рождения, когда они ночью ловили рыбу в эстуарии. Все эти годы Джеймс и Адель в феврале выбирались на западный берег Брид-ривер и месяц жили в домишке, принадлежавшем ее брату-близнецу.
Ему же принадлежал и баркас, которым они пользовались.
Сегодня у них было на редкость удачное утро, к огромному удовольствию их молодого друга из Института ихтиологии.
Адель, как всегда, поймала самую большую рыбу — пятнистого ворчуна в четыре с половиной килограмма весом, а потом вместе они вытащили на берег еще шесть рыбин — пристипом, белых землероев и четырехкилограммового горбыля-холо.
Субботним утром в кафе было полно посетителей — местных жителей, которые если и не были одеты изысканно, то все же не в грязные, пахнущие рыбой шорты, так что наша троица решила перекусить в небольшом баре вместе со шкипером рыболовного катера и двумя членами его команды. Рыбаки тоже были довольны утренним уловом — тринадцать горбылей-холо килограммов по шестнадцать и стоимостью более пяти сотен рандов. Джеймс некоторое время задумчиво смотрел в стакан, прикидывая проценты инфляции и их соотношение с общим ростом цен, потом поднял голову и в широкое окно бара увидел море, раскинувшееся за кремовой полосой речной отмели в устье реки. Мысли его сразу же вернулись к рыбной ловле.
В эти мгновения он снова мог испытать или хотя бы вообразить то поразительное чувство уединения, отделенности ото всех проблем сухопутного мира, став истинно невинным в этой вошедшей в поговорку «колыбели жизни», когда человек не озабочен ничем и стремится лишь наслаждаться жизнью, ощущать атавистический азарт охоты. Его правая рука была все еще достаточно сильна, а изуродованные остатки пальцев позволяли ощутить даже слабые перемены в натяжении лесы, по которому он отлично чувствовал любую рыбу; потом порой вдруг следовал резкий рывок тяжелой крупной рыбины, и каждый нерв напрягался до предела, а обе руки становились упругими рычагами, сопротивлявшимися каждому новому рывку, пока выписывающая где-то в глубине бесконечные спирали серебристо-белая рыбина не поднимется медленно к поверхности, к свету, и не станет видна сквозь зеленую воду.
Когда после целого дня, проведенного в море в маленькой лодчонке всего лишь на расстоянии вытянутой руки от поверхности воды, вновь окажешься на суше, всегда возникает чувство некоторой отчужденности ото всех, и прежде всего от любопытных зрителей, наблюдающих за разгрузкой улова.
Всегда кажется, будто моряки, вернувшиеся из похода, побывали в неких таинственных краях и волшебным образом переменились. Некоторое время они кажутся совершенно чужими в том мире, который покинули лишь сегодня утром.
Вот и те рыбаки, с которыми Джеймс и Адель вместе сидели в баре, сперва были такими — молчаливыми, неразговорчивыми, — и Джеймс сразу все понял. Теперь они возвращались на берег в полном смысле слова и постепенно шумели все сильнее. Джеймсу стало неуютно в их компании и немного полегчало, лишь когда Адель тихонько толкнула его под столом ногой. Он бы с удовольствием еще поговорил с этим молодым биологом моря, но будут и другие возможности, раз этот человек приехал сюда надолго.
С первого взгляда казалось, что Джеймс и Адель внешне ужасно похожи, однако же главным образом потому, что оба причесывались совершенно одинаково — стягивали черной ленточкой собранные на затылке волосы в пучок. По крайней мере, Адель точно пользовалась ленточкой, ну а Джеймс обходился шнурком для ботинок, один из концов которого болтался у него между лопаток. Адель давно уже перестала красить волосы, и у обоих шевелюра была серо-стального цвета, правда, у Джеймса спереди волос осталось маловато, а голова Адели на солнце все еще вспыхивала порой золотом. Оба были худые, костистые, очень загорелые, с лучиками морщинок в уголках глаз от постоянной улыбки и привычки щуриться на солнце; и у обоих кожа на шее от солнца и ветра задубела и стала морщинистой. Хотя в определенном смысле оба выглядели вполне здоровыми и крепкими — такими часто бывают загорелые худощавые старики, и хотя в шортах ноги у них казались слишком тощими, обоим все же легко можно было дать лет на двадцать меньше.
Из бара они вышли часа в три и двинулись к маленькой бухточке, где у причала, покачиваясь среди множества других судов, их ждал баркас, выкрашенный синей и белой краской.
Юго-восточный ветер гнал волну в эстуарий, и баркас взлетал на гребни, вздымая веер брызг. Через десять минут они уже были у себя, в домике на берегу реки.
Меченый почувствовал вкус речной воды еще за пятьдесят километров, преодолевая четырехметровую песчаную отмель, отделявшую залив от открытого моря. В это время Джеймс и Адель доедали последние куски жареной пристипомы и пили вино из пятилитрового картонного пакета. Над эстуарием спустилась ночь, однако же при яркой луне им и во тьме были видны белые гребешки волн, вспыхивавшие и исчезавшие, словно тысячи ромашек в поле на ветру. Меченый величаво плыл по реке, войдя в нее по одному из боковых проливов.
Сперва он поймал маленького луфаря, потом — оливковую пристипому, покрытую черными пятнышками, буквально метрах в ста от домика, где ужинали Джеймс и Адель. Волны на поверхности реки — хотя плыл он на глубине, равной примерно длине весла, — бодрили Меченого и были даже приятны: их прикосновения как бы массировали, ласкали все его тело.
Он отмечал каждую мелочь вокруг, хотя не раз уже бывал в этих водах. Дно, которого он касался своим анальным плавником с отметиной, представляло собой довольно рассыпчатую смесь глины, песка и кусочков известняка с торчащими обломками ракушек; справа, у берега, пролегала широкая полоса ила — она полого спускалась к середине реки и служила жилищем множеству креветок. Слева от Меченого берег круто уходил вверх скалистым уступом. И далеко вокруг себя, точно на экране радара, он точно определял движение других рыб, которые старались не попадаться ему на пути, молнией пролетая над ним и мгновенно исчезая из его поля зрения. В отличие от отмелей открытого моря и особенно от глубоководных частей рифов, здесь было тихо и покойно, и Меченый отдыхал, неторопливо двигаясь по сужавшейся протоке, где вода становилась все менее соленой; он не боялся ничего и никого, ибо — по крайней мере, в ту ночь — явно был самым крупным из здешних обитателей. Он все еще рос, однако теперь уже значительно медленнее. Сейчас он был длиннее высокого взрослого мужчины и весил более семидесяти килограммов; он внимательно всматривался в темную ночную речную воду огромными глазами, ритмично открывал и закрывал пасть, достаточно большую, чтобы проглотить среднего размера собаку, и в целом вызывал у жителей этих тихих вод ужас и восторг.
Когда солнечные лучи вновь пронизали речную воду до самого дна, Меченый был уже в двадцати километрах от моря, в какой-то незнакомой заводи, где вода была лишь слегка солоноватой, однако все же испытывала воздействие далеких приливов и отливов, так что в этой заводи водилось множество рыбы, на которую Меченый привык охотиться: кефаль, бычки и даже пятнистые пристипомы, но больше всего Меченому нравилась эстуарная сельдь-круглобрюшка, ради которой, собственно, он и заплыл так далеко. Эти маленькие, в палец длиной, рыбки в феврале плавали громадными стаями; век у них был короткий, однако размножались они быстро; серебристые, с чуть желтоватым отливом, со сверкающими как зеркала полосками на боках, они разлетались во все стороны, точно капли ртути, когда Меченый бросался на них, втягивая добычу разинутой пастью.
Весь день он обследовал заросли тростника на мелководье у пологого берега, а также илистую отмель, как бы разделившую русло реки надвое, охотясь за пресноводными крабами.
Крабы были величиной примерно с мужскую ладонь, и Меченый всасывал их, а потом сокрушал челюстями одного за другим, словно решив для удовольствия переменить диету; он даже заглянул за небольшой валун, чтобы достать оттуда особенно крупного краба. У самого берега пили воду коровы, и Меченый заметил их широкие черные носы и облачко ила, поднятое их копытами, и ощутил легкие покалывания электрических разрядов, однако же силуэты этих существ, постоянно менявшие свои очертания и находившиеся где-то за пределами его мира, ближе к солнцу, были для него незнакомы и ничего не значили, как и силуэты людей. Людей, собственно, он и вообще не принимал во внимание, а их следы — дамбы, пристани, лодки и даже отвратительные насосы — воспринимал всего лишь как речной мусор, мешавший ему искать пищу. Впрочем, однажды взаимодействие с людьми, при всем его пренебрежении к ним, открыло тем не менее новый для него способ поймать добычу. Меченый как раз устроился отдохнуть на дне в тени мимузопса, когда двое мальчишек четырнадцати и двенадцати лет неторопливо спустились к реке вдоль небольшого ручейка, впадавшего в реку неподалеку от того места, где он лежал. Старший из мальчишек нес старое одноствольное ружье и две запасные гильзы в кармане. Больше им на день патронов не полагалось.
Отец, когда они уходили с фермы, поднял вверх палец и, чуть улыбаясь, сказал:
— И запомните: никаких куропаток. Только цесарки и голуби. — Потом, к радости ребятишек, прибавил чуть тише, словно заговорщик: — Все равно ведь не сезон, хотя птенцы уже летают, сами понимаете. А добыть парочку цесарок всегда очень неплохо. (У его жены имелся отличный рецепт приготовления цесарок, которых она тушила в чугунном котелке на медленном огне, залив густым коричневым соусом и добавив мелко нарезанный бекон, до тех пор, пока мясо не начинало отставать от костей. Это блюдо было у отца самым любимым.)
Следом за мальчиками тащился старый пойнтер, который лишь у реки начал проявлять какой-то интерес к жизни, заслышав впереди квохтанье и трескотню цесарок. Сперва над высокой травой показалась одна хохлатая голова, затем вторая, и собака пошла по следу, запетляла, а мальчики пустились рысью. Птицы, которым явно лень было взлетать, шли от реки вверх, к дереву, где устроили свои гнезда, так что мальчикам и собаке пришлось повернуть обратно, в густые заросли кустарника. Встревоженные цесарки звонко покрикивали от волнения, как колокольчики, хитря и надеясь, что, сделав петлю и добравшись до берега реки, взлетят и перемахнут на другой берег, а когда опасность минует, вернутся назад. Небольшое стадо косульих антилоп взметнулось над травой — вожак с черными, длинными и прямыми как палки рожками и такой же длины ушами вел за собой шесть самок, и, несмотря на охотничий азарт, мальчики остановились, чтобы полюбоваться, как серые, высоко подскакивающие изящные животные летят над склоном холма, помахивая пушистыми белыми хвостиками.
Когда ребята снова догнали пойнтера, тот уже застыл в охотничьей стойке у самой кромки воды, и дальше пришлось продвигаться крадучись. Как только с шумом взлетела первая цесарка, старший из братьев вскинул ружье, оттянул спусковой крючок, прицелившись так, как учил его отец, однако тут же потерял равновесие, потому что у самых его ног взлетела еще одна цесарка, потом еще и еще. Птицы, изо всех сил махая крыльями, набирали скорость и, вытянувшись дугой, полетели над водой. Однако последняя из двух десятков птиц вдруг застыла в воздухе, роняя перья, потом головка ее поникла, крылья опустились, и она, описав изящную кривую, с плеском упала в воду. Мальчики взвыли от восторга и рысью бросились к воде, пойнтер — за ними. Цесарка плавала метрах в десяти от берега — серый, в белых пятнышках комок перьев, — совсем рядом с наклонившимся над водой мимузопсом, и мальчишки поспешно, разрывая шнурки, скинули башмаки и шорты цвета хаки и полезли в воду, заходя все глубже. Они уже почти достали цесарку, когда вдруг произошло нечто ужасное, чему их отец потом так и отказался поверить, хотя происшедшее мучило мальчиков довольно долго, еще несколько месяцев, и они все пытались понять, что же все-таки случилось на самом деле. Убитая птица вдруг точно попала в воронку, созданную неведомой силой в совершенно спокойной воде, а потом исчезла в пасти какого-то чудовища, которое они увидели лишь мельком, однако тут же замерли на месте от ужаса с открытыми от удивления ртами, и радостный смех их затих. Они развернулись, стремглав бросились из воды и долго стояли, не говоря ни слова и позабыв одеться; точно зачарованные они глядели туда, где только что плавала подстреленная цесарка.
Меченый, когда появились мальчишки, лежал на песчаном дне под мимузопсом, неподвижный, точно затонувшее бревно.
Он покоился на распростертых грудных плавниках и, если не обращать внимания на его регулярно открывавшийся и закрывавшийся рот и слабое дрожание длинного спинного плавника, его вполне можно было принять за спящего. Однако же он вовсе не спал; цепочки серебристых пятнышек У него на боках и сами латеральные линии никогда не прекращали поставлять ему информацию об окружающей среде, так что даже тот камень, который мальчишка-пастух швырнул в воду значительно выше по реке, не остался незамеченным, как и влажное причмокиванье рыбы, проглотившей наживку и теперь отчаянно бившейся на крючке, испуская хотя и несильные, однако тревожные энергетические сигналы. Меченый лежал в пятне мягкого отраженного света, все еще сверкая своими роскошными морскими красками — фиолетовой, красно-коричневой, розовой и пурпурной, — которые постепенно меркли, приобретая бронзовый отлив на спине и белый на брюхе. И все равно этот сверкающий огромными, точно латы, пластинами чешуи исполин поражал речных обитателей своим видом. Упав и ударившись о воду, цесарка резко увеличила давление у Меченого над головой, и он сперва даже метнулся в сторону, на глубину, но быстро вернулся и сделал небольшой круг, наблюдая за плававшей на поверхности птицей. Из пробитой головы цесарки в воду пролилось несколько капель крови, и именно вкус крови привлек внимание Меченого и заставил его внимательнее отнестись к данному объекту; он видел и чувствовал, как слабо бьются над ним птичьи лапки, некоторое время разглядывал их, а потом, лениво извернувшись и частично высунув из воды спину и кончик хвоста, схватил птицу и снова скользнул на дно.
Проведя ночь и большую часть следующего дня на том же месте, он отдыхал, поджидая, когда в воду упадет еще одна такая же крупная птица. Но не дождался, поплыл вверх по течению и за излучиной реки наткнулся на парочку черных уток, круживших прямо над ним. Он бесшумно всплыл и схватил одну из птиц, так сдавив ее зубами, что несчастная успела лишь слабо пискнуть и забить по воде крылом — остальные звуки поглотила вода и разинутая зубастая пасть Меченого. Осмотревшись, он обнаружил, что находится в озерке глубиной примерно в две его длины, с уступчатыми скалистыми берегами. Он видел неясные силуэты деревьев, склонившихся над водой, и множество желтоклювых уток, похожих на огромных водяных жуков, — утки шлепали черными лапами по воде, поднимая серебристые пузырьки воздуха. Он слегка морщил воду под ними, поддерживая равновесие с помощью хвоста, и неотрывно смотрел вверх своими огромными глазами, то открывая, то закрывая пасть, уже готовый совершить рывок, однако птицы вдруг чего-то испугались, и там, где они только что были, осталась лишь серебристая рябь, сквозь которую просвечивали расплывающиеся желтоватые пятна — брюшки взлетевших уток — да изумрудные проблески зелени на берегу. Раздраженный неудачей, Меченый поспешил прочь, вспугнув толстую, килограмма на два, рыбу. Это был экзотический морской окунь с огромной пастью, который плавал вместе с несколькими другими представителями своего семейства в почти предельно допустимой для них слабосоленой воде реки. Меченый вернулся, взмахнув хвостом, разогнался и, точно нацелившись, схватил окуня прежде, чем тот успел скрыться в зарослях тростника.
Так началось пребывание Меченого в этих далеких от моря, мирных и безопасных местах. Пищи здесь было в изобилии, и добывалась она почти безо всяких усилий с его стороны.
Темный скалистый мир целакантов более для него не существовал, как и светлые, вечно взбаламученные, пенные воды прибрежной полосы. Единственным соперником Меченого в этой полукилометровой ширины лениво текущей реке был зелено-коричневый африканский пестрый угорь, который весил больше двенадцати килограммов и был его длиннее. Они прекрасно чувствовали присутствие друг друга — благодаря электрическому полю, растворенной в воде слизи и наконец просто зрению, — однако, словно по взаимной договоренности, не вступали в борьбу за территорию. Угорь держался своего темного убежища в скалах, а Меченый старался избегать тех мест, где электрические сигналы, испускаемые угрем, ощущались наиболее сильно.
Однажды Меченый схватил маленького красного пагра, плывшего у самой поверхности воды, однако почти сразу выплюнул его и то же самое сделал с африканской гадюкой.
Морские вши, присосавшиеся к его пасти и наиболее нежным участкам тела, в пресной воде погибли и отвалились.
С окончанием февраля на юге Африканского континента началась осень, а потом и зима, и Джеймс Ривер уехал из Книсны со своим зятем Йоханом, чтобы участвовать в ежегодной охоте на африканских газелей. Вода в реке стала холоднее, и еще до того, как начались зимние дожди, кислотность речной воды повысилась до такого уровня, что Меченый почувствовал себя хуже: стал неповоротливым, медлительным, не так легко, как прежде, ловил добычу, худел, радужные краски на спине и боках сменились зеленовато-бурыми, а белое брюхо приобрело желтоватый оттенок. Дожди, выпавшие в далеких от моря краях, изменили давление в реке, и Меченый решил, что пора возвращаться в море. И однажды ночью он двинулся вниз по неторопливой реке — мимо зарослей тростника, над креветочными отмелями — в более соленые воды. Проплыл над волнистым песчаным дном эстуария, миновал последнюю отмель и рифовый барьер, а потом, балансируя хвостом и отражая непрекращающиеся боковые удары волн, погрузился в грохот прибоя, в этот приветственный рев океана, в светящиеся серебряным лунным светом, фосфоресцирующие воды родного мира.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Достигнув глубины восемьдесят метров, Меченый вновь ощутил знакомое «чувство стаи», которого не испытывал уже довольно давно, и присоединился к группе молодых горбылей-холо, довольно крупных с точки зрения рыболовов-любителей, однако по крайней мере в два раза меньше самого Меченого. Стая преследовала быстро плывущий косяк капской мерлузы, занесенный сюда языком холодного течения и юго-восточным ветром, и Меченый изо всех сил старался не упустить свою долю добычи, однако охотиться ему стало явно труднее, и он наконец отстал и от стаи горбылей, и от косяка мерлузы, чувствуя себя слабым и больным, и поплыл вдоль берега, удовлетворяясь мелкими бычками да порой морскими языками, задержавшимися на мелководье, ибо с окончанием лета основная масса этих рыб уходит на глубину. Ослабевший Меченый инстинктивно держался у берега, подальше от тех опасных мест, куда часто заплывали крупные акулы, готовые схватить своими страшными челюстями кого угодно, любую движущуюся дичь, а на мелководье Меченого часто видели любители серфинга в мокрых облегающих костюмах, мгновенно поджимавшие ноги и выскакивавшие из воды, завидев у песчаного дна эту чудовищных размеров рыбину.
Меченый неторопливо продвигался на восток, следуя смутной памяти, унаследованной от предков, о неких благословенных местах, где было безопасно, где царили мир и покой — много-много лет назад, в другие времена, в другом мире. Встретив рыболова с гарпунным ружьем в одной из залитых зеленоватым светом подводных пещер, Меченый очень удивился, да и сам рыболов был поражен не меньше. Меченый понял, что это животное — по тем импульсам, которые исходили от незнакомца, и особенно по его испуганно бившим по воде ногам в ластах, — и, покопавшись в памяти, решил, что это очередная разновидность тюленя, а стало быть, зверь не слишком опасный. Хотя тюлени и котики порой несколько раздражали его, таская рыбу прямо у него из-под носа, однако же их щенячья игривость, когда они резвились поблизости, на нервы ему не действовала, и он обычно просто не обращал на них внимания. Вот и сейчас он не обратил особого внимания на этого тощего «тюленя» с длинным хвостом.
«Тюлень» тоже выпускал пузырьки воздуха, как и все подобные животные, однако всплывал к поверхности куда стремительнее и вел себя значительно нервознее, и Меченому стало интересно. Он держался на расстоянии от «тюленя», но все же наблюдал за его ужимками уголком своего огромного глаза. Потом они потеряли друг друга из виду в нагромождении рифов, когда Меченый нырнул, решив рассмотреть неуклюжего тощего «тюленя» более внимательно; сокращая путь, он выплыл из заросшей водорослями пещеры прямо навстречу «тюленю», огибавшему скалу, торчавшую над поверхностью моря, и последовал за ним. Между ними было всего около метра, когда «тюлень» вдруг оглянулся. Меченый тут же застыл, а незнакомец издал душераздирающий вопль (так кричат детеныши котиков, когда мать впервые относит их, сопротивляющихся, в воду), и от его плоской, очень светлой морды отделилось целое облако пузырьков. Меченый даже немного встревожился — его раздражало бесконечное мелькание ластов, лихорадочно бивших по воде, и он хотел было уже броситься наутек, когда послышался звон металла и какая-то блестящая штуковина пролетела мимо его головы и ударилась о камень. Он резко свернул в сторону и опустился на песчаное дно, где немного полежал, отдыхая и втягивая богатую кислородом воду. Он чувствовал усталость, однако не сознавал, что только что был на волоске от смерти. Он не был голоден, но подкрепиться стоило, и, отдохнув, он поплыл по течению дальше.
В понедельник, в восемь утра, Джеймс Ривер отвез Адель домой, в Плеттенберхбай, и поехал через полуостров Робберга, чтобы набрать песку для курятника на небольшом пляже у моря. Они проводили уик-энд поочередно то у него, то у нее.
Делия наняла для работы в магазине двух помощников. Детей у них с Йоханом по-прежнему не было, и Джеймс знал, что они очень по этому поводу печалятся. Сам же он особого волнения на сей счет не испытывал: внуки пока что не вписывались в установленную им для себя систему ценностей, а кроме того, он еще не представлял себя в роли деда, столь красноречиво указывающей на почтенный возраст. Да и вообще он не любил печалиться, будучи по натуре оптимистом.
Джеймс бродил среди скал и, насвистывая, собирал подходящие кусочки раковин и песчаника в прочную пластиковую сумку. Стояло ясное августовское утро, солнце светило вовсю, постепенно прогревая воздух после холодной дождливой ночи; облака развеялись, и в зарослях эрики, покрытых душистыми оранжево-красными цветами, на краю пляжа, за скалами, сильно пахло шалфеем и мускусом. Над цветами парили сами похожие на цветы нектарницы. Джеймс улыбнулся — теперь он хорошо различал их: малахитовая, с оранжевой грудкой, с двойным ожерельем, черная… Пока к нему не приехала Адель, он всех их звал просто «сластены» и ничего не знал о них, как не различал среди прочих птичек ни капского соловья, ни черноголовой иволги. Защищаясь от насмешек своей подруги, он оправдывался тем, что в детстве у него не было хорошего справочника по птицам.
Справа, с вершины небольшого, сверкавшего на солнце белого утеса, торчавшего над зеленым морем кустарников, на Джеймса с опаской поглядывали даманы. А он решил заодно проверить хорошо знакомое местечко в небольшой бухточке, где очень удобно было ловить рыбу, — скалы здесь полого спускались к воде, и даже с его рукой можно было ловить на удочку без особого риска и затруднений. Он давно уже дал Делии слово, что не будет рыбачить один на скалистом берегу, отлично понимая, что в одиночку заниматься этим опасно даже более молодому и сильному человеку. Однако, как известно, обещания даются, чтобы их нарушать.
Джеймс миновал несколько похожих на трещины глубоких проливов, обойдя их по берегу, и вышел к своему излюбленному месту. Солнце уже освещало весь темно-зеленый полуостров; море было ослепительно синим, цвета индиго, а не серо-зеленым, как ранним утром, когда еще не растаяли облака. Там, где синий цвет становился гуще, на гребнях волн сверкали белоснежные легкие кружева пены. Джеймс с удовольствием огляделся — людей нигде не было видно, как, собственно, и следовало ожидать в понедельник с утра, да еще после окончания курортного сезона. С его точки зрения, ловить в этом проливчике было совершенно безопасно, однако он знал, что и рыбы здесь давным-давно почти нет. В прежние времена проливчик вполне мог гордиться собой и имел собственное название, нанесенное на все местные карты. Тогда Джеймс часто ловил здесь даже таких рыб, как восьмилинейная пристипома, желтый каменный зубан и ставших теперь редкостью капских корацинов. Впрочем, и теперь — он был в этом уверен — с его отличной легкой снастью и сноровкой всегда можно наловить среди этих скал чернохвостых облад, из которых Адель умеет готовить удивительно вкусную уху.
«Интересно, — в который раз подумал он, — отчего все здесь настолько переменилось?» Кое-кто считал, что рыбу отпугивает паутина старых нейлоновых лесок, запутавшихся в скалах; говорили также, что во всем виноваты акулы, которые теперь подплывают слишком близко к берегу, чтобы прокормиться, ибо траулеры, волоча свои сети по песчаному дну, посягнули на привычную добычу акул. Некоторые были уверены, что наиболее редкие виды рыб просто «все переловили». Джеймсу порой даже казалось, что рыбы помнят и передают из поколения в поколение информацию об опасности, грозящей им в том или ином месте, которого следует избегать. Он даже остановился, припомнив разговор с двумя студентами из Кейптаунского университета, большими любителями подводного плавания. Они встретились на похожем на гигантский трон уступе среди песчаниковых скал — это место, очень популярное среди рыболовов, было удачно названо «Высокий берег».
Утес омывали глубокие воды небольшого залива, этакой естественной гавани, окруженной живописными скалами и пещерами, где кобальтово-синие, с кремовыми гребешками волны не затихали ни на минуту, следуя ритму дыхания открытого моря. Однако даже для самых сердитых волн утес был недоступен, к тому же бухту защищал рифовый барьер — россыпь скал, поросших черными мидиями, — так что здесь было совершенно безопасно и удобно ловить рыбу, и уже лет сто сюда стекались целые полчища рыболовов. Джеймс, помнится, тогда потрясенно смотрел на кучу свинцовых грузил, собранных студентами со дна. Грузила были самой различной формы и размера, большая часть из них побелела от старости.
— Да их там тысячи! — утверждали его молодые знакомые. — Вы просто представить себе не можете, сколько их там — в каждой ямке или пещере. Это целые залежи свинца. Мы из одной-единственной ямки как-то раз сотни две вытащили, а до дна так и не добрались. Такое ощущение, что там настоящая свинцовая шахта.
— М-да, свинец, — обронил Джеймс. — Отрава. — И пошел прочь, мрачно представляя себе, какой неестественно прозрачной станет вода в этой бухточке, когда скажутся последствия того, что описали ему студенты-ныряльщики, когда погибнут чувствительные к заражению свинцом морские растения и прочие организмы, живущие на здешних коралловых рифах. Он знал, как легко приспосабливаются к загрязнению устрицы и мидии, становясь затем смертельно опасными для всех тех, кто ими питается. А красноглазки? А морская трава?
Он подумал о превратившихся в безжизненные пустыни районах суши, где все грозит смертью, все отравлено радиацией или химией, и сделал в памяти зарубку: непременно поговорить об этом при случае с биологом Джоном Уильямсом (он познакомился с ним недавно на Брид-ривер).
— Смешно, — сказали ему тогда те ребята-студенты, — но всего в пятидесяти метрах отсюда, вон за тем рифом, полно рыбы: парапристипомы, готтентотские караси, капские корацины — все что хочешь!
Джеймс брел назад по берегу у самой кромки воды, а добравшись до первой расселины, мгновение поколебался и прыгнул, как много раз делал до того, но тут всегда прежде сильное и послушное тело почему-то подвело его, и он упал.
Ужас от падения причинил ему куда большую боль, чем удар о камни; он упал головой вниз в темную трещину и крепко застрял там почти у самой воды, плеск которой показался ему оглушительным хохотом; ноги же его торчали вверх совершенно беспомощно. Он не сразу оправился от шока и даже думал сперва, что все это просто дурной сон, который скоро кончится, и он снова встанет навстречу солнечным лучам и поймет, что получил всего лишь несколько царапин. Однако в его холодную каменную темницу света почти не проникало.
В каменную трубу расселины с шумом вливались волны, шурша галькой, и отступали, оставляя на поверхности воды пузырьки воздуха и клочья пены. Когда глаза Джеймса немного привыкли к темноте, он заставил себя пораскинуть мозгами и как-то осмыслить свое теперешнее положение. В итоге он пришел к выводу, что, отдохнув и выработав план действий, непременно сумеет выбраться из этой трещины. Левая рука его была плотно прижата к боку, а правая вытянута вперед и вниз, так что наполовину уже погрузилась в воду, с каждой волной погружаясь все глубже. Правой щекой он плотно прижимался к влажной поверхности скалы; грудь стиснуло так, что трудно было дышать. С расцарапанного кончика носа в воду падали капли крови. Ногами он двигать мог: разводить их в стороны, шевелить ступнями — вот и все. Он попал в ловушку, был совершенно беспомощен и, что еще хуже, понимал: начинается прилив и, вполне возможно, вода поднимется значительно выше того уровня, на котором находится сейчас его голова, потому что на каменной стене, к которой он прижимался сейчас щекой, обитали маленькие литорины.
Время тянулось невыносимо медленно; боль, возникшая первоначально в голове, разрасталась, точно похожая на темную морскую губку опухоль, и поднималась по телу вверх до правого бедра. Со временем кровь из ссадины на носу капать перестала, да и мысли странным образом постепенно утишили боль — в голове вертелись воспоминания о прошлом. Сперва он вспомнил мать, отца, их ферму в Малом Карру, детские счастливые дни у моря, пробудившуюся уже тогда любовь ко всему морскому; ежегодные каникулы на побережье, в самых его чистых и нетронутых уголках. Вспоминалась и борьба с заиканием, и то, как мать сумела вырвать его из мертвой хватки учителей, так что даже этот недостаток в итоге сыграл положительную роль. А потом — калейдоскоп военных лет, проведенных в Северной Африке и Италии, женитьба, рождение Делии, ловля рыбы с моторки, нападение акулы и образ Адели, как ни странно принявший прямо-таки угрожающие размеры и заслонивший всю его прежнюю жизнь… Одно вполне конкретное воспоминание было связано с тем местом, где он угодил в ловушку; это место находилось метрах в ста от этой трещины, на плоской скале, которую еще сегодня утром он так внимательно осматривал, хотя и не задумывался тогда, какое сегодня число. В тот раз ему исполнился двадцать один год, то есть было 3 января 1925 года; компания его родных и друзей собралась вокруг запряженной волами повозки, которая привезла их сюда, за два километра от его дома. Он тогда удил рыбу с утеса, нависшего над этой самой плоской скалой, пользуясь старой удочкой, сделанной из бамбука, росшего возле их дома; к удочке была приделана катушка с прочной зеленой леской. Тогда они пользовались тяжелой снастью, вспоминал он, а грузила он делал сам. Ему повезло: на крючок попалась большая рыба, и он догадался, что это желтый каменный зубан, когда его золотистый бок блеснул совсем близко от скалы. Это был, безусловно, лучший подарок ко дню рождения для такого заядлого рыболова, как он, и Джеймс с бешено бьющимся сердцем стал играть с рыбой, а потом выволок ее на камни, постаравшись сразу оттащить подальше, на сухое место. Не имея под рукой остроги и стараясь успеть прежде, чем следующая волна приподнимет рыбину и унесет ее прочь, вновь сделав невесомой и свободной, он упал на камни, прикрывая свою добычу от волны, которая уже протянула полуметровой высоты пенную руку над скалой, а потом, повинуясь какому-то отчаянному порыву, сел на огромного зубана верхом, лицом к наступающей волне. Он весь вымок; рыба, почувствовав холодный живительный поток, начала бить хвостом по скале и, подпрыгнув, так стукнула Джеймса по лбу, что у него звезды из глаз посыпались; но в конце концов он все-таки вытащил зубана на сушу! В нем было восемьдесят два фунта, и Джеймс, шатаясь и торжествуя, понес свою добычу к повозке. Вот бы сейчас вернулся тот сильный юноша, каким он был прежде, и спас его! Однако надежда в душе Джеймса угасала вместе с поднимавшейся водой; впервые в жизни он задумался о близости смерти.
Все его существо, казалось, растворилось в неумолчном реве моря — этот трубный глас отдавался в ушах, в голове, во всем теле и будто звал куда-то. Он был в сознании, но понимал, что на какое-то время сознание его отключается, однако никак не мог определить, сколько времени прошло с момента его падения. Теперь хранителем времени для него стало море, а время между приливом и отливом — мерилом его жизни; связь с сухопутным миром постепенно отдалялась, таяла, и море все настойчивее предъявляло свои права на него. Ласково, однако суля неотвратимую гибель, пенный гребень набежавшей волны лизнул ему макушку, брызнул в глаза, и он чисто рефлекторно зажмурился, пытаясь стряхнуть с ресниц соленую воду, вдруг будто пробудился ото сна и, снова напрягая мускулы, попытался вырваться из плена, из этих каменных стен, из рук неумолимо приближавшегося палача. Острый приступ клаустрофобии точно прибавил ему сил, однако же очень скоро усталость одержала победу, и он бессильно повис, испуская не то рыдания, не то стоны, когда его касалась новая волна. Потом шум волн стал постепенно стихать, и они отступили; теперь он слышал лишь собственное прерывистое от отчаяния дыхание да бешеный стук сердца; прямо у него над головой прокричала морская чайка, словно земные существа, к которым принадлежал и он сам, оплакивали его уход, а потом и крики чайки растворились в темноте и тишине.
Два рыбака замедлили шаг, молча вглядываясь в темный провал между скал.
— Господи! — вырвалось у того, что был поменьше ростом и с более темной кожей. — Умер он, что ли?
Второй, похудее и помоложе, положил на землю рыболовную снасть и улов, опустился на колени и, вытянув руку, схватил Джеймса за лодыжку. Его спутник отшатнулся, словно ожидая, что перед ним из трещины в скале возникнет мертвец или еще какое-нибудь страшное видение.
— По-моему, он пока жив, — сказал тот, что помоложе. — Надо нам его оттуда вытащить, а то утонет.
Коротышка некоторое время молчал, потом заявил:
— Ох уж нет, Питер! Тащи его потом, а с какой стати? Он же все равно умрет. Да и не успеем — смотри, уже прилив начался.
Питер, не обращая внимания на слова приятеля, широко расставил ноги, ухватил Джеймса за торчавшие вверх лодыжки и дернул. Перевел дыхание, поморщился и дернул снова.
— Уй, ну и тяжелый! — вырвалось у него. — А ну-ка, Джейкоб, помоги, тащи его за вторую ногу.
Джейкоб положил рыболовную снасть на камни и с явной неохотой стал помогать Питеру, однако их усилия успеха не имели. Но когда они отпустили свою «добычу», решив передохнуть, из трещины донесся глухой стон.
— Слышишь? — воскликнул Питер. — Он жив! Давай скорее! — И он полез куда-то вниз, на мгновение остановившись, лишь когда пенистые волны забились у самых его колен.
— Эй, Питер, ты куда это направился, парень? — громко крикнул Джейкоб, но звук его голоса растворился в шипении пены и плеске волн.
Питер, изогнувшись, скользнул в расселину, и с самого ее дна послышался его приглушенный голос:
— Тяни его вверх, Джейкоб! А я буду снизу толкать. Ну, давай! — Согнувшись, он подлез под Джеймса, подтолкнул, упершись ему в плечи, а когда волна плеснула прямо в лицо, выпрямился, с жадностью хватая воздух ртом, и крикнул: — Он почти свободно висит! Тяни!
Вытащив Джеймса, они положили его на плоскую горячую скалу на краю расселины. Питер опустился на колени и приложил ухо к его груди. Слушал он довольно долго, то в одном месте, то в другом, потом даже прикрыл второе ухо рукой, чтобы не мешал грохот моря. И был странно тронут, наконец услышав слабое биение сердца этого совершенно незнакомого ему человека.
…Домой Питер добрался поздно; однако, поскольку он принес не только крупного и толстого готтентотского карася, но и бутылку сладкого ликера, бананы и маслянистые сласти, дома ему обрадовались, хотя он явно успел пропустить где-то два-три стаканчика, а если судить по пятнам крови на рубашке, и подраться. Бронзового карася, пойманного во время утреннего отлива с одного довольно опасного рифа — он тогда только-только успел удочку забросить! — Питер продал какому-то туристу за пятнадцать рандов, а потом еще они с Джейкобом зашли в свой любимый бар, так что теперь он пребывал отличном настроении и, несмотря на усталость, был счастлив, чего с ним не бывало уже недели две. Да и с уловом сегодня особенно повезло — никогда так не везло после того, как он потерял работу в Плеттенберхбае.
Он довольно подробно рассказал своей жене Саре о событиях прошедшего дня, начиная с того момента, как он убедился, что спиннинг, которым пользовался его двоюродный брат Джейкоб, был именно тем, в краже которого подозревали Питера. Теперь он никак не мог решить, вывести Джейкоба на чистую воду, рискуя навлечь на себя его безудержный гнев, или же напрочь обо всем забыть. Жена считала, что он будет последним дураком, если не скажет об этом своему бывшему хозяину, однако Питер побоялся рассказывать ей, какую услугу ему в свое время оказал Джейкоб; к тому же он не решался признаться, что боится склонности Джейкоба по любому пустяку хвататься за нож, а трусом прослыть ему не хотелось. Так что, все рассказав жене о человеке, которого они вытащили из трещины в скалах, он не сказал ни слова о том, как Джейкоб стащил бумажник этого старика, выпавший у него из кармана, когда они в первый раз тянули его вверх. А через три дня, когда он вернулся с того самого берега один, хотя из дому они вышли вместе с Джейкобом, чувства его пребывали в еще большем смятении: выражаясь литературно, его мучила встревоженная совесть, а с его собственной точки зрения, случившееся было промыслом Господним — ведь Питер был человеком верующим.
— Из трещины торчали только ботинки этого старика да его тощие белые ноги, — рассказывал он Саре, — и они даже не шевелились, так что мы с Джейкобом решили: кто-то подшутил, надев пару старых ботинок на деревяшки, — но все же решили подойти поближе. Если честно, мы испугались; Джейкоб даже убежать хотел — боялся, что там мертвец. А я заглянул поглубже и слышу: стонет. Ну мы и стали его тащить. Вот уж работка, скажу я тебе! Правда, я скоро сообразил, что так мы ему только навредим: у него ведь одна рука напрочь застряла.
Тогда я и полез вниз, спрыгнул в воду и стал оттуда его подталкивать. Дело пошло, и мы его вытащили. Потом пришлось волочить его на дорогу, а он весь в крови, да еще удочки мешают и рыбу бросить жалко! Положили мы его на обочину и попытались поймать машину, но никто не останавливался. И вдруг едет Хендрик Десембер на своем грузовичке, песок на стройку везет — он и подвез нас в полицейский участок.
В бумажнике старика — он хорошо это помнил — были фотографии двух женщин, ключи, кредитная карточка и протершееся на сгибах письмо со вложенной в него выцветшей фотографией еще одной женщины, которая стояла, прислонившись к старомодному автомобилю. А еще там была фотография мужчины, державшего в руках большого горбыля-холо, и большой бронзовый крючок. Была там и некая сумма денег — он не знал сколько, потому что Джейкоб быстренько сунул деньги и крючок в карман, а сам бумажник бросил в трещину. Когда Питер сказал, что это нехорошо, он ответил, что старик, мол, должен им за свое спасение. А потом, в баре, он предложил Питеру десять рандов из украденных денег, но тот отказался.
Через три дня Питер и Джейкоб, добравшись до самой кромки воды, устроились как раз там, где накануне спасли старика. Вокруг шныряли даманы, а рыболовы сидели на утреннем солнышке и вспоминали, что три дня назад поймали здесь двух больших бронзовых морских лещей и одного готтентотского карася. Они выпили холодного сладкого кофе, налитого в бутылку из-под фруктовой воды, и съели по сандвичу, потом наладили снасти и, когда вода начала несколько спадать, спустились вниз за наживкой. Волны шлепали по ногам, не давая стоять на месте и заставляя все время отпрыгивать, накрывая как раз те места, где только что соблазнительно извивались в трещинах скал красноглазки, и обдавая Питера и Джейкоба брызгами и пеной. Однако им все-таки удалось запастись наживкой. Они вернулись на стоянку, устроились на плотней подстилке из водорослей между двумя скалами и разожгли костер, чтобы просушить одежду. Потом Джейкоб нашел пять штук крупных устриц и несколько первоклассных литорин, которых они испекли на огне, а моллюски шипели и пищали в своих раковинах; рядом с этим местом валялась целая куча обгорелых раковин — видно, немало подобных завтраков было съедено здесь и раньше. Высушив одежду и согревшись, они принялись за дело. Джейкоб очистил от кожицы щупальце осьминога и надел на крючок, украденный из бумажника Джеймса. Надо сказать, Джеймс хранил этот крючок исключительно из сентиментальных соображений со времен своего медового месяца: им пользовалась его молодая жена во время своей первой и единственной поездки с ним на рыбную ловлю. Больше она с ним ездить не захотела, а ее волю он уважал все годы их брака.
Начался прилив, подул юго-восточный ветер, поднялись высокие волны, обрушивавшие на них такие фонтаны воды, что пришлось отбежать за ближние скалы, разматывая лесу на ходу, и даже присесть на корточки. Брызги сыпались градом и, скатываясь с намокших волос, мешали видеть. Обоим было ясно, что придется отступать и перебираться в другое место.
Питер быстро вытащил свою удочку вместе с крючком и грузилом, однако глаза его расширились, он выплюнул окурок и удивленно заморгал, стряхивая с ресниц соленую воду, когда заметил, что Джейкоб и не думает уходить, а нетерпеливо дергает свою удочку, держа удилище за середину, а потом лезет в воду, чтобы достать крючок, видимо зацепившийся за раковины мидий. Джейкоб хорошо знал море и был осторожен.
Он выждал, пока пройдет седьмая волна, которую всегда считали самой высокой и оставляющей особенно сильную зыбь и шипящую пену, и, дождавшись этого момента, прыгнул на заросшую мидиями скалу. Питер видел, как поднималась следующая волна, закричал, но голос его потонул в грохоте моря, которое, точно собираясь с силами, сперва притворилось почти спокойным, так что Джейкоб, наклонившийся над скалой, не заметил вспухавшей волны, а потом зеленая морская вода вдруг поднялась стеной и сразу затопила его по пояс. Он вскочил, держа в одной руке крючок и грузило, а в другой — Удочку, но вода уже захлестнула его по грудь, потом приподняла, точно питон добычу, вздохнула и слизнула со скалы, перевернув вниз головой. Питер успел лишь заметить, как мелькнули в воздухе ступни Джейкоба, конец его удочки, который медленно согнулся дугой, а потом не стало видно ничего, только белый пенный след, который вода тут же с ревом унесла прочь, слепя Питера сверкавшими на солнце брызгами. Несколько часов он не сводил с моря глаз, а потом увидел в воде лицо Джейкоба. Волны подтаскивали тело все ближе к берегу, и Питер попытался зацепить его крючком, что ему вскоре удалось. Джейкоб медленно кружился в воде лицом вниз. Волны занесли его в расселину меж скал, совсем рядом с тем местом, где они только что ловили рыбу, и Питеру показалось, что как-то непристойно таскать человека на крючке.
Все равно ведь вытащить Джейкоба не было никакой возможности. Он порвал лесу и сел, размышляя, что же ему теперь делать. Плавать он не умел, да и спасать Джейкоба было поздно.
Однако он решился пойти домой только после наступления темноты, когда уже ничего невозможно было разглядеть.
Именно тогда Джеймс и начал всерьез свою игру со смертью. Заработав в той трещине пневмонию, он две недели пребывал между жизнью и смертью. Делия и Адель уже стали терять всякую надежду. «Он ведь старый человек, — говорил доктор, и обе понимали, что он имеет в виду, — и хотя старики тут крепкие и упрямые, но всему есть предел».
Однако Джеймс удивил их всех: он стал поправляться, перебрался домой, под присмотр Делии, и через два месяца вполне способен был прошагать километров пять по берегу.
И пусть он шел медленно, но достаточно бодро и, как всегда, с непокорно поднятой головой.
А Меченый все это время пролежал в пещере, недосягаемый для рыболовов. Это было отличное уединенное убежище близ небольшой рощицы морского бамбука, выросшего благодаря постоянно заходившему сюда холодному течению; среди этих водорослей жила целая колония лобстеров, на которых охотились осьминоги, тоже обитавшие здесь во множестве, этих осьминогов, соблюдая должное равновесие, Меченый ловил по ночам, когда те вылезали из своих темных нор. Он мгновенно проглатывал их, чтобы они не успели обхватить его голову своими щупальцами и повредить незащищенные глаза. Постепенно морская окраска Меченого восстанавливалась, заиграли опаловые и бронзовые тона, восстановились и утраченные силы, так что весной, когда горбылям-холо пришло время метать икру, он снова устремился в открытое море, без устали плывя вдоль поросших красными кораллами путей, проложенных природой на дне океана; и, если не считать крупных акул, тунцов и огромных пятнистых панцирных щук, обитавших в поверхностных слоях моря, он был самой большой рыбой в своем придонном царстве.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
В первую же неделю, когда Джеймс снова приступил к работе и стал ходить в город по понедельникам и пятницам, чтобы хоть немного разгрузить Делию, в магазин зашел Джон Уильямс, его приятель-биолог с Брид-ривер. Уильямс отрастил бороду, и сперва Джеймс узнал его с трудом. Впрочем, и сам Джеймс тоже сильно изменился — похудел, начисто сбрил бороду и показался Уильямсу как бы лишенным возраста: просоленный морем «пират» куда-то исчез, а вместо него возник бледный старик, на вид то ли ученый, то ли римский патриций.
— Я слышал, вы болели, — сказал Джон Уильямс, — подцепили что-то вроде краснухи?
Джеймс засмеялся.
— Ну да, что-то в этом роде. Они у меня пневмонию обнаружили, — сказал он, махнув рукой так, словно был не согласен с этим диагнозом, но не спорил, чтобы успокоить встревоженных близких.
Джон Уильямс приехал в отпуск и в тот день с утра устраивал в библиотеке лекцию для старшеклассников.
— О целакантах рассказывал, — сообщил он Джеймсу, — показал слайды и еще кое-что.
Джеймс вдруг очень заинтересовался и даже огорчился:
— Жаль, я не знал! Я бы и сам с удовольствием послушал.
Джон Уильямс купил несколько мелких крючков и грузил в унцию весом, и Джеймс сообщил ему:
— Сегодня Адель из Плеттенберхбая приезжает, ей нужно к зубному врачу. Может, выпьем вечерком вместе?
Адель улыбалась, видя Джеймса таким оживленным. Она все никак не могла привыкнуть к его изменившемуся лицу, хотя, с ее точки зрения, перемена оказалась довольно приятной, а сейчас она была очень довольна тем, что у Джеймса так поднялось настроение в компании молодого биолога. Они пили пиво местного производства; над заливом садилось солнце, окрашивая их уголок ресторанчика на пирсе в розовые и желтые, как дерево на срезе, тона отражавшимся от воды светом.
Мать и отец Джона Уильямса недавно вышли на пенсию и поселились в Книсне, чем он был страшно доволен. Разговор у них шел о защите прибрежных вод и о контроле над промышленным производством на побережье.
— Рано или поздно все начинают стремиться в здешние края, — говорил Джон, — где сохранились еще последние уголки дикой природы, столь необходимые человеку для восстановления душевного равновесия. Так что людям следует вести себя особенно осторожно, иначе вскоре побережье будет целиком затоптано и загажено и природа здесь утратит способность к нормальному развитию. В результате нашей же собственной жадности будет убита гусыня, несущая золотые яйца. — Он обернулся и тихо сказал: — Вы потом взгляните вон туда — там, у стойки бара, один тип с длинными волосами и плешью на макушке. Я его знаю, встречался с ним в Плеттенберхбае. Он занимается строительством подводных лодок и тому подобного. В общем-то, он довольно милый человек, и это его работа, конечно, однако фирма в целом ведет себя совершенно отвратительно, безжалостно. Хотя, по-моему, сам он кое-чему уже успел научиться. У всех ведь в конце концов начинают открываться глаза. Во всяком случае, хотелось бы надеяться, что это так.
— А может, его слегка «потрясти»? Вдруг он вам с этим судном поможет? — сказал Джеймс и, повернувшись к Адели, пояснил: — До твоего прихода Джон успел мне рассказать, что их группа получила субсидию для исследования колонии целакантов и их возможной охраны. Им нужно устроиться в этих местах и приобрести судно, достаточно большое, чтобы на корме поместился батискаф для подводных погружений.
Джон улыбнулся, показав ровные зубы, очень белые на загорелом лице, обрамленном черной бородой, и сказал:
— А что, неплохая мысль! Однако держу пари: этот тип потребует кое-каких уступок и с нашей стороны — как бы в уплату.
— Зато такие пожертвования придадут его компании солидности и повысят ее авторитет, — заявила Адель и с неожиданной теплотой спросила: — Значит, это вы выступали с лекцией в библиотеке? Ну разумеется, вы! Мне говорили, что лекция была очень хороша. (Уильямс видел, что Адель искренне заинтересована и хочет узнать о целакантах побольше.) А что это за «живые ископаемые»? Боюсь, я слишком мало об этом знаю.
— Ну, предположим, — начал Уильямс, — вы идете по лесу недалеко от Книсны и вдруг видите, что над деревьями торчит чья-то голова на длинной шее, очень похожая на змеиную. А потом из-за деревьев появляется и все животное, у которого, оказывается, ноги и тело гиппопотама. Кто это, по-вашему?
— Динозавр, наверное. Но они давно вымерли.
— Да, конечно. Но вы его узнали, хотя никогда в жизни не видели. И никто из людей не видел. Все его изображения, рисованные и объемные, основаны исключительно на данных палеонтологии и на правилах реконструкции тел животных по отдельным костям — ученые знают, как должно было выглядеть то или иное животное, если бы его скелет и живая плоть были восстановлены. Так вот, целаканты — это современные динозавры, только почему-то они не вызывают столь драматического интереса и не так популярны. И все же когда эту рыбу обнаружили живой в сетях тральщика недалеко от Ист-Лондона, хотя целаканты считались вымершими по крайней мере четыреста миллионов лет назад, а за последние семьдесят миллионов лет не встречалось даже их следов — то есть ученые считали целакантов ископаемыми, исчезнувшими на Земле семьдесят миллионов лет назад, а они вдруг оказались живы, — то в науке произошла целая революция, уверяю вас. К тому же был обнаружен не один целакант, а целая их колония близ островов Коморо к северо-западу от Мадагаскара.
Адель отпила пива и спросила:
— Значит, ученые считают, что у здешних берегов есть еще одна колония целакантов?
— Да, вполне возможно, — ответил Уильямс. — Скорее всего, и тот целакант, которого поймали близ Ист-Лондона, не был одиночкой, а просто отбился от стаи, обитающей у островов Коморо.
— А найти их здесь было бы важно для науки?
— Еще бы! К сожалению, эти редкие рыбы очень ценятся с коммерческой, так сказать, точки зрения. Рыбакам отваливают за каждого кучу денег. Целакантов становится все меньше, их трудно защитить, а размножаются они, похоже, очень медленно. Так что перед вами ситуация классическая. Ограниченная численность, ограниченная среда обитания, с одной стороны, и неограниченная потребность — с другой. Представьте себе, что будет, если их за ближайшие пятьдесят лет выловят окончательно! Существо, прожившее четыреста миллионов лет, то есть появившееся на свет задолго до первых динозавров, не говоря уж о млекопитающих, и дожившее до наших дней, будет в один миг уничтожено людьми, которые и появились-то на Земле всего каких-то два миллиона лет назад! Да эволюция снова вильнет неизвестно куда!
— Надо сказать, что людей это характеризует не с лучшей стороны, — мрачно заметила Адель.
— А еще вот по какой причине целаканты так важны для науки, — продолжал Уильямс. — Они совершенно отличны ото всех остальных рыб по большей части своих характеристик, это совершенно особые существа; анатомия, способ размножения, органы чувств — все у них иное, даже то, как они плавают. Да и выглядят они тоже, надо сказать, впечатляюще.
Представьте себе, Джеймс, рыбу синего цвета, значительно крупнее взрослого желтого каменного зубана, так хорошо вам знакомого, — то есть более полутора метров длиной и весом где-то килограммов семьдесят, с семью мясистыми плавниками, напоминающими конечности. Когда целакант всплывает, попавшись вам на крючок, он не только жив, но и пытается цапнуть вас, пока вы втаскиваете его в лодку. У целакантов нет плавательного пузыря, как, например, у горбылей-холо и других рыб, нахождение на воздухе — хотя обитают они на глубине примерно сто пятьдесят метров, — похоже, не наносит им особого вреда. — Уильямс умолк. Потом задумчиво проговорил: — Однако целаканты чрезвычайно чувствительны к переменам температуры. При восемнадцати градусах Цельсия они гибнут; в крови у них резко снижается количество гемоглобина, способного поглощать кислород, и они просто задыхаются.
— А вы сами собираетесь принять участие в этой экспедиции, если она состоится? — спросил Джеймс.
— Конечно. Если получится.
Джеймс поскреб выбритый подбородок.
— Я бы много дал, чтобы спуститься под воду на одной из этих ваших штуковин, — промолвил он.
Джон Уильямс вдруг оглянулся и тут же вскочил навстречу улыбавшейся девушке, которая подошла к их столику.
— Знакомьтесь, это Энн. Аспирантка из Университета Сесила Родса.
Девушка снова улыбнулась. Она была маленького роста, светловолосая, очень загорелая, с голубыми глазами. Джеймс пододвинул ей стул, сделал официанту новый заказ, а Уильямс предложил:
— Вот вы спросите Энн, что она думает о применении объячеивающих сетей, Джеймс. Она занимается кое-какими исследованиями, связанными с будущим здешних заливов, то есть с тем, что нам грозит лет через тридцать — сорок.
Девушка чуть нахмурилась, словно собираясь с мыслями, повертела в руках стакан с вином, потом улыбнулась Джеймсу и сказала:
— Вас интересуют те дрифтерные сети, которыми пользуются японцы и тайванцы?
Джеймс кивнул.
— Ну что ж, они главным образом ловят рыбу на большой глубине, вдали от обычных промысловых судов. Однако же вполне вписываются в общую картину. Их действия тоже в некотором роде ведут к полному физическому истреблению некоторых видов рыб; они словно соревнуются, кто из них скорее зацапает последние разрозненные стаи; каждое государство стремится выловить как можно больше рыбы, однако же в последнее время для этого требуется раз в пять больше усилий и различных новейших технологий. Эти японские сети бывают до двадцати километров в длину, а в ширину всего метров десять. Вот они и плавают у поверхности, как занавеска, и душат все, что в них попадет: марлинов, тунцов, дельфинов, черепах, акул и даже небольших китов.
— На суше, конечно, дела тоже обстоят неважно, — вставил Уильямс, — но там, по крайней мере, есть какой-то контроль за землепользованием. А в море все всем позволено, все бесплатно; трудно даже определить, что именно там происходит, пока не становится слишком поздно.
— Но ведь можно же хотя бы запретить глубоководное траление на шельфе? — спросил Джеймс. — Конечно, чересчур активный лов рыбы с помощью различных спиннингов — теперь ведь даже рыболовы эхолотами пользуются! — тоже никуда не годится, но траулеры попросту прикончат запасы шельфовых рыб.
— Я думаю, в данном случае соблюдаются прежде всего политические интересы, — сказала Энн, — всякие там взаимные соглашения, договоры и тому подобное. И все же людям прежде всего следует беспокоиться о состоянии окружающей среды, которая терпит бедствие. Ведь это человек виновен в тех переменах, которые произошли в некогда столь богатых прибрежных водах. Например, в истощении запасов озона, что чрезвычайно пагубно влияет на жизнь морских растений, или в засорении и заиливании впадающих в море рек, или в том, что пестициды с речной водой попадают в заливы, или в изменениях температуры в различных слоях воды из-за так называемого «парникового эффекта».
Джеймс что-то пробурчал себе под нос и глянул на Адель, однако та одобрительно смотрела на девушку, вертя в руках бокал с пивом.
— Похоже, в один прекрасный день, чтобы просто увидеть восьмилинейную пристипому, придется в аквариум идти, — сказала она.
— Вот именно, и вы даже себе не представляете, насколько это реально, правда, Джон? — воскликнула Энн. — Да, придется идти в аквариум или в заповедник для морских животных, вроде того, что устроен в устье Цицикаммы.
Делия уже вовсю жаловалась на осьминога по кличке Феликс, которого Джеймс Ривер держал в стеклянном садке с морской водой, предназначенном для рыбы. Его коллекция аквариумных рыб разрослась настолько, что теперь занимала огромный угол в магазине рядом с холодильником, где держали наживку, однако же Делии приходилось мириться с этим увлечением отца. Джеймс обычно сам тщательно заботился об обитателях аквариума, так что рыбки не доставляли Делии особого беспокойства. А вот осьминог, как ей казалось, нарочно пугал ее.
— Как это он кого-то может напугать? — удивился Джеймс. — Странно.
— Знаешь что, — возмутилась Делия, — я этой твари просто не нравлюсь, если хочешь знать! Как уставится на меня своими глазищами, сразу ясно, о чем думает. Да стоит мне подойти, как он сразу цвет меняет. Красным становится.
— Просто он хочет, чтоб его покормили. Он такой дружелюбный.
— Ага, когда кормишь. А когда я ему ничего не даю, так он вылезает из воды и так на меня смотрит, да еще щупальцами шевелит, словно схватить хочет!
Джеймс посмеялся, представив себе, как осьминог хватает Делию и тащит по магазину, потом угостил Феликса еще одним крабом-отшельником и стал вместе с Делией смотреть, как, деликатно взяв угощение кончиком одного из щупальцев, Феликс утащил его в свой сложенный из раковин домик.
Через некоторое время он снова вышел наружу, исторг неудобоваримые клешни и ножки краба в самом дальнем уголке, на «помойке», и аккуратно пристроил новую раковину, освободившуюся от краба, к стене своего жилища, сложенного из таких же раковин на манер сухой каменной кладки. Осьминог большую часть времени проводил возле «дома», если не был занят бесплодными попытками поймать креветку — их норки были хорошо видны в соседнем отсеке стеклянного садка.
Потом Феликс опустился на дно, но и из-под воды продолжал смотреть на Джеймса и Делию своими дьявольскими зеленовато-янтарными глазами.
— Ишь, смотрит, как кошка! Говорю тебе, он все понимает! — заявила отцу Делия. — А думает исключительно о том, как бы ему меня сцапать.
— Ничего подобного, его главная мечта — получить еще одного краба, — возразил Джеймс.
Осьминог как раз менял окраску — из кремового, с мраморными прожилочками цвета морских водорослей становился ярко-красным.
— Ну вот, сейчас снова будет плеваться! — И Делия отвернулась.
Словно услышав ее слова, осьминог быстро всплыл на поверхность и выпустил в них, причем очень точно, струю воды, обрызгавшую обоих. Делия взвизгнула.
— Пожалуй, великоват стал, — проговорил Джеймс, вытирая воду со щеки. — Придется, наверное, его в море выпустить..
Блеки Сварт беседовал с Делией, вручив ей заказ — замороженных сардинопсов и кальмаров, когда мимо прошел Джеймс, неся в ведре своего осьминога. Чтобы тот не вылез, он плотно накрыл ведро полиэтиленовой пленкой, однако осьминог все же умудрился высунуть серое щупальце, чтобы обследовать стенки ведра извне.
— Доброе утро, мистер Ривер, — поздоровался Блеки.
Джеймс улыбнулся и кивнул, потом остановился рядом, предоставляя осьминогу возможность обследовать заодно и голую ногу Блеки, который был в шортах. Щупальце тут же высунулось с явной заинтересованностью уже на полную длину, но Блеки даже не посмотрел вниз — настолько был поглощен разговором с Делией. Когда же он наконец обратил внимание на действия осьминога, то издал пронзительный вопль, отскочил подальше и сердито уставился на Джеймса, который как ни в чем не бывало направился к выходу. Делия хохотала от души, и Джеймс, помедлив в дверях, подмигнул ей. Он не любил Блеки Сварта. Он хорошо знал и его самого, и его отца еще по тем дням, когда они служили на траулерах в Кейптауне и Мосселбае, и ничуть не удивился, когда Блеки арестовали за браконьерскую ловлю лангустов и морских ушек.
Когда же Блеки объявился вновь, Джеймс сказал Делии: «Интересно, какую еще пакость этот тип замышляет?» Однако он не знал того, от чего пришел бы в ярость: Сварт по ночам ловил рыбу запрещенными сетями в заливе Книсны прямо под носом у сотрудников заповедника и совсем рядом с домом самого Джеймса на берегу Солт-ривер. Впрочем, ни Джеймсу, ни Сварту не было известно и о том, что егеря давно уже кое о чем подозревают и арест Сварта — лишь вопрос времени.
Сварта прозвали Блеки, что значит «Черныш», несмотря на то — а может, как раз именно потому, — что волосы у него были почти белые, лишь чуть-чуть желтоватые, как у альбиноса. Ловить рыбу сетями он начал с полгода назад, наняв в помощники нескольких безработных. Каждый вторник к утру, начиная лов с полуночи, он вытаскивал богатый улов, если все было достаточно спокойно в безлюдной верхней части эстуария. Старую прочную сеть он купил в Кейптауне; такие сети из толстых веревок были хорошо известны в Книсне в те дни, когда ловить рыбу сетями еще не запретили. В них было метров сто в длину и два в ширину. На нижнем краю укрепляли свинцовые грузила, а на верхнем — пробковые поплавки; по бокам имелись длинные веревки, с помощью которых сеть тащили вдоль берега вручную. Сварт выходил в залив еще днем на ялике с легким подвесным мотором, добирался до выбранного заранее места в устье реки, где было не слишком глубоко, и ставил ялик на якорь недалеко от берега. Когда с наступлением темноты берега пустели, его помощники подгоняли грузовик-рефрижератор к открытому месту на берегу, где часто останавливались на ночевку большие трайлеры и откуда было всего метров пятьдесят до покачивавшегося на воде ялика. Самым трудным было дотащить сеть до ялика, а самым опасным — снова доставить ее на грузовик вместе с уловом. Сеть, намокнув, становилась очень тяжелой, а чтобы переправить рыбу и как следует спрятать ее, требовалось немало времени, если улов был велик. Впрочем, у них в запасе имелась различная техника на всякий экстренный случай — например, если требовалось срочно утопить сеть, — и кроме того, они хорошо знали все объездные пути и дороги, а также множество безвестных ручейков, если нужно было скрыться самим и сохранить улов. Работали они молча, слаженно и практически в темноте; к выбранному месту плыли по широкой дуге, постепенно выбрасывая аккуратно свернутую сеть, а потом высаживались на берег и через некоторое время начинали тянуть сеть за канаты, выволакивая из воды все, что в нее попалось, и круг поплавков на воде все больше сужался.
Джеймс видел, как отчалил Блеки Сварт — он как раз собирался выпустить в воду осьминога Феликса со слипа Рыболовного клуба, — и еще обратил внимание, что в лодке вроде бы не видно ни одной удочки. Неужели Сварт решил просто покататься в одиночестве? Джеймс удивился, но вскоре забыл о Сварте и вернулся к главному на данный момент делу, с легким сожалением вспоминая, как этот осьминог из крошки размером с его ладонь превратился в увесистое животное, занимавшее своим телом полведра. Он часто рассказывал Делии, как Феликс любит, чтобы ему почесывали голову, но она не верила.
— Ничего он не чувствует — сидит себе неподвижно да цвет меняет…
Рассказы Джона Уильямса о рыбах и осьминогах и собственный многолетний опыт все больше убеждали Джеймса, что у этих морских животных сильное биомагнитное поле и они способны чувствовать поля других существ, причем значительно острее, чем сухопутные жители.
— Даже обычные ваши эмоции — гнев, радость, агрессия — могут значительно изменять электромагнитные колебания вашего биополя, и рыбы способны эти изменения улавливать, — говорил Джон Уильяме и в доказательство приводил яркие примеры из собственной практики общения с рыбами под водой, — Ведь когда вы режете под водой красноглазку для наживки, вокруг вас собираются самые разнообразные рыбы, подбирая кусочки, а то и норовя ущипнуть вас за палец. Но возьмите с собой под воду крючок с леской и насадите на него кусочек точно такой же красноглазки — сразу увидите, как все от вас шарахнутся. То есть они будут по-прежнему кружить поблизости, но подойти не решатся. Потом одна-две рыбки осмелятся, совершат бросок и быстренько куснут предложенную наживку, но будет заметно, что делают они это с опаской. То же самое происходит, стоит взять в руки гарпунное ружье. Рыбы, которые только что буквально сидели у вас на плечах, тут же бросаются наутек. Вот как, черт возьми, это объяснить?
Рассказ Уильямса вполне совпадал с теорией самого Джеймса о том, что рыбы избегают тех мест, где их до того из года в год особенно жестоко истребляли.
Осьминог Феликс, без конца меняя цвета, очутившись в море, стал ярко-красным, словно на прощанье, а потом растворился в зелени водорослей. Джеймс вытащил опустевшее ведро и глубоко задумался, не замечая косых взглядов прохожих.
Он вспомнил вдруг, как помощники Сварта грузили что-то очень похожее на корзины с рыбой в грузовик-рефрижератор с кейптаунским номером и делали это в весьма странном месте и в весьма необычный час. Тогда моросил мелкий дождичек, однако в свете фар Джеймс успел заметить, как сверкнула серебристым боком лихия, — он ни с чем не мог спутать этот блеск. Джеймс оказался в тот раз у моста лишь потому, что ночью они ловили рыбу на только что приобретенном катере, замерзли и решили сперва поехать домой и как следует позавтракать, а потом пообедать в городе попозже, когда рассеется пелена с ночи зарядившего дождя.
Из вечной тьмы океанских глубин Меченый постепенно поднимался все выше и уже проплыл двести пятьдесят километров к северу, возвращаясь к побережью. Как и всегда, он старался держаться дна, ощущая все его неровности, впадины и подъемы, но порой приходилось переплывать рифовые гряды поверху, однако же он никогда не осмеливался оставаться надолго в верхних слоях, где обитали крупные хищники. Зато к жизни на глубине горбыли-холо отлично приспособились за тысячи лет эволюции. Органы чувств Меченого служили ему великолепно.
Особо чувствительные сенсорные датчики у него на боках определяли любые колебания воды и изменения давления и давали ему столько информации, сколько не могло дать даже зрение, ведь они действовали и там, куда не проникал дневной свет; а на мелководье благодаря своим датчикам он мгновенно перестроился: изменил уровень давления в плавательном пузыре, сохранив прежнюю плавучесть, приспособил зрение к более сильному освещению, поменял окраску, настроился на запахи и сигналы иной добычи и иных охотников, способных напасть на него самого. Были у Меченого еще и другие датчики, постоянно следившие за любыми изменениями давления и связанные прежде всего с его слухом, так что он спокойно плыл по все более светлым просторам континентального шельфа.
На глубине шестидесяти метров ему встретились грохочущие траловые сети — их тащили по дну траулеры. У Меченого уже был опыт встречи с ними. Сильная волна, которую гонит траловая сеть, ощущается за много метров; любое живое существо воспринимает ее как совершенно неестественное силовое поле и пугается; ну а сама по себе сеть с разинутым зевом, ревя, тащится по дну, поднимая тучи ила и мусора, и за ней неизменно следуют акулы. Акул привлекают рыбы, попавшие в эту западню, и прочие морские существа, раненные или просто выбитые из колеи и лишившиеся своих убежищ.
Траловые сети и следовавшие за ними хищники то медленно продвигались и исчезали вдали, то снова появлялись будто бы ниоткуда, и Меченый, пугаясь, со скоростью шесть километров в час стремился к побережью, находившемуся теперь всего лишь километрах в пятнадцати, когда вдруг почувствовал, что все-таки попался в круг бренчавших сетей, и это настолько ошеломило его, что он поплыл прямо в жадную разверстую пасть сети, находившуюся всего метрах в пяти от него, вместе с небольшими желтыми каменными зубанами, трангами и капскими конгрио. Тяжелая сеть двигалась со скоростью четыре с половиной морских узла, в длину была метров тридцать, а в ширину — двенадцать и напоминала пасть вечно голодного монстра, который неторопливо, однако неумолимо продвигается вперед с рычанием и ревом, пугая свою добычу. Это чудовище не принадлежало миру рыб, и бороться с ним никому из них было не под силу. Одна за другой они пытались выскользнуть из того мощного потока, который загонял их в сеть, и, застревая в ячеях, становились их пленниками и вскоре погибали от удушья. Меченый тоже испытывал желание прорваться во что бы то ни стало, но ему, по крайней мере, повезло. Дело в том, что сеть, в любой момент готовая удушить его, была снабжена стальными валиками, очень тяжелыми и похожими на колеса, с помощью которых ее нижний край преодолевал различные препятствия на дне — возвышенности, камни и так далее, способные порвать или зацепить сеть.
Лишь некоторым рыбакам удалось получить лицензии на ловлю подобными сетями — они были практически запрещены, ибо могли вскоре полностью уничтожить запасы местных рифовых рыб, неспособных противостоять их безжалостному наступлению. Всесокрушающие валики катились по покрытым кораллами поверхностям рифов, оставляя на них глубокие борозды, когда Меченому пришло в голову спастись привычным для него способом — нырнуть на глубину. И он нырнул, и выбрался из-под сети, сумев пролезть в узкую, всего в несколько сантиметров щель, и сразу бросился наутек. Когда сеть исчезла в ею же самой поднятой туче мути, Меченый услышал, что кое-кому из рыб тоже удалось ускользнуть из этой чудовищной пасти, однако все прочие звуки вокруг, становившиеся все слабей, поскольку Меченый быстро плыл прочь, свидетельствовали о невероятном ужасе среди подводных обитателей.
Он достиг рифовых отмелей, где вода бурлила и пенилась над вершинами подводных скал, а затем очутился в эстуарии Книсны — мощный прилив доставил его сюда со скоростью шесть узлов в час. К трем часам утра он уже вовсю охотился на осьминогов в водорослях, похожих на лишайники, которыми заросло здесь все. Скользя над этими миниатюрными лесами, он отдался приливной волне, пользуясь плавниками и хвостом только для того, чтобы рулить и поддерживать равновесие. Он напрягал мускулы, лишь когда осьминог или краб выскакивал прямо на него. Меченый и осьминоги замечали друг друга одновременно, их органы чувств быстро передавали им соответствующую информацию, и осьминогу нужно было спасаться бегством, а Меченому — догонять, а для этого требовалось ударить по воде мощным хвостом, сделать рывок и, разинув пасть, схватить добычу. Таким образом он уже съел двух осьминогов по полкило весом, продолжая неторопливо плыть против течения реки к белому мосту, где река пересекала шоссе.
Блеки Сварт с помощниками — все в пятнистых гидрокостюмах — выбрали отличную ночку. Было полнолуние, и к пяти утра при полном штиле и ясном небе прилив был высокий. Они уже три раза закидывали сеть, и улов состоял из более чем пятидесяти белых каменных зубанов и пятнистых пристипом весом от одного до пяти килограммов, а также из множества морских карасей помельче. Вся рыба лежала на берегу сверкающей грудой, отливавшей в лунном свете серебром, и Блеки при цене три-четыре ранда за килограмм очень надеялся отхватить за нее в Кейптауне более тысячи рандов.
Меченый медленно плыл, почти касаясь дна, по неширокому речному рукаву, когда почувствовал, что прямо над ним возникла уже знакомая страшная волна, на мелководье еще более ощутимая и неодолимо влекущая его к берегу. Он рванулся было вперед, однако словно оказался в эпицентре источника колебаний — давление ощущалось со всех сторон — и тогда резко свернул в сторону, чувствуя рядом присутствие других рыб и животных и ударив могучим хвостом, который блеснул серебром среди поплавков на поверхности воды. Ялик был на берегу, рыбаки тащили тяжелую сеть, а Блеки, стоя по грудь в воде, возбужденно следил за несильными всплесками у ее края, отмеченного поплавками, загоняя пытавшуюся выскочить рыбу обратно. «Вот это улов!» — думал он. Сеть была полна, и там царило необычайное оживление; возможно, туда попалась целая стая лихий. Блеки даже позволил себе улыбнуться, когда прямо у него над головой пролетела выскочившая из воды кефаль и, блеснув, исчезла в свободных водах за его спиной. Да, действительно, в сети оказались лихии — целых двенадцать штук, все крупные, килограммов по десять, и верхние части их изогнутых хвостов уже стали видны над водой, в бурунах взбитой пены. И туг Меченый ударил в сеть всем своим восьмидесятикилограммовым весом.
Старые ячеи не выдержали, и он бросился в пробоину, лихии — за ним, и обезумевшие рыбы сбили Блеки Сварта с ног, окутав его плотным облаком слизи и заставив бултыхаться в воде. В итоге голова его запуталась в ячеях, а затягиваемая рыбаками сеть сжимала его тем сильнее, чем отчаяннее он сопротивлялся.
Внезапный шум над тихой гладью залива привлек внимание одного из любителей подниматься чуть свет, жившего на берегу; человек этот некоторое время прислушивался к диким крикам, а потом, решив, что, должно быть, перевернулась лодка с рыболовами, позвонил в полицию. Так что для Сварта конец наступил несколько неожиданно, и все же ему следовало благодарить судьбу за то, что не дала утонуть. Джеймс Ривер, узнав обо всем, был очень доволен и всласть попотчевал Делию и Йохана разными историями о рыбаках-браконьерах, варварской ловле раковин-жемчужниц и креветок, а также о морских пиратах.
— Господи, и как мы тут живем среди этих мошенников! — притворно ужаснулась Делия и подмигнула отцу, но тот в ответ только рассмеялся и подлил себе еще бренди.
Меченый прожил в эстуарии Книсны до начала весеннего цветения воды, когда планктон собирается тучами; одновременно с этим буйным размножением морского «бульона» у него вновь возникло «чувство стаи» и потребность плыть в более глубокие воды, туда, где горбыли-холо мечут икру, то есть за двести километров от эстуария Книсны на юго-восток.
Планктон, которого становилось все больше по мере прогревания воды теплыми солнечными лучами, был похож на зеленый луг, где паслись бесчисленные крохотные рыбешки.
Эти маленькие пожиратели планктона в свою очередь становились добычей хищников самой различной формы и размера, и в итоге заключенная в планктоне жизненная энергия достигала высшего уровня и начинала питать мускулы китов и десятиметровых белых акул, которые во всем своем великолепии бороздили воды Мирового океана.
Меченый без остановки проплыл шесть километров по основному руслу реки до рифового барьера и открытого моря, даже не думая о пище.
А ведь до этого плавания он вел самую обычную жизнь.
Охотился по ночам в заливе Книсны, становясь наиболее активным после полуночи и в первые предрассветные часы, а потом, когда в неглубоких водах делалось слишком светло, уплывал обратно на глубину, где и оставался до наступления следующей ночи. В заливе можно было хорошо поохотиться и днем, однако сенсорные датчики Меченого постоянно напоминали ему об опасности подобного занятия после восхода солнца. Стоявшие на якоре суда бывали порой настолько неподвижны, что их днища и якорные цепи успевали превратиться в небольшие колонии морских организмов, среди которых паслись рыбки, а сами суда казались всего лишь продолжением эстуария. Здесь, конечно, больше уже не встречались киты, выныривавшие на поверхность, однако суда представляли собой не меньшую опасность, и подводные обитатели воспринимали их как потенциальных хищников, огромных и странных. К тому же суда вызывали настолько мощные колебания воды, что это порождало у рыб постоянную тревогу, и если ворчуны или белые каменные зубаны просто шарахались в сторону и снова начинали охотиться, стоило острым лопастям винта исчезнуть вдали, то Меченый и другие горбыли-холо просто не способны были вынести такую акустическую и психическую нагрузку. Впрочем, горбыли-холо охотились главным образом на осьминогов, которые вели ночной образ жизни, а днем отсыпались на дне, если, конечно, их не соблазняла стая эстуарной сельди-круглобрюшки.
Очутившись на свободе, осьминог Феликс сразу стал подыскивать себе убежище, желательно готовое, чтобы можно было из безопасного места совершать непродолжительные вылазки и обследовать окрестности, прежде чем приступить к устройству настоящего гнезда. Феликсу исполнился всего лишь год, однако он был значительно крупнее своих сородичей, которые ему встречались. Его необычайная величина находилась в прямой пропорции к съеденному им количеству пищи, а Джеймс кормил его очень хорошо. Даже Делия, явно демонстрировавшая свое брезгливое отношение к осьминогу, все-таки неплохо с ним обращалась, ибо и она была очарована этим существом со странными глазами и способностью поразительно быстро менять цвет, схожей с умением говорить.
Зрачки Феликса казались черными, странно прямоугольными щелями, и Делия утверждала, что осьминог просто заставляет ее приносить ему еду, гипнотизируя своим взглядом, проникавшим «буквально в череп», даже если повернешься к нему спиной. В общем, привычка и умение Делии заботиться обо всех живых существах обеспечили Феликсу куда более богатый стол, чем он имел бы на воле, поэтому и рос он гораздо быстрее.
Его несколько сбила с толку агрессивность владельцев тех жилищ, которые он собирался приспособить для себя, но драться ему не хотелось, и он продвигался все дальше от слипа Рыболовного клуба, вдоль его мощного фундамента из каменных глыб, пока не очутился под старой корабельной верфью, то есть примерно в километре от того места, где его выпустили в воду. Однажды ночью Феликс, похожий в воде на плывущий по течению разноцветный шелковый саронг, проник в один из речных рукавов, где его и обнаружил Меченый, направлявшийся в открытое море. Сильные колебания воды, вызванные движением Меченого, его электрическое поле и растворившийся в воде вкус и запах слизи — все это вызвало у Феликса такую тревогу, что он ракетой вылетел из воды между опорами верфи, всего в трех метрах от Меченого, который неторопливо плыл, несомый приливом. Феликс успел выбросить чернильную жидкость, сделавшую его на время невидимым, что, однако, не устранило исходившие от него сигналы, и Меченый проглотил Феликса целиком — это была его последняя трапеза в эстуарии, перед тем как погрузиться в глубины совсем иного мира, который так же сильно отличался от прогретого солнцем эстуария, как обширный залив Книсны от аквариума в магазине Джеймса. Там, на глубине, было темно и холодно; там светились собственным светом лишь странные, поистине кошмарные существа, никогда не поднимавшиеся в поверхностные слои; там водились кальмары и осьминоги, размером и формой напоминавшие взрослые дубы, и у некоторых из них тело покрывала крупная чешуя, а щупальца с крючками на концах у основания были толщиной с тело взрослого мужчины.
Погружаясь в эти глубины, Меченый постепенно менял свой цвет, из серебристо-радужного становясь серо-черным, а почти на четырехсотметровой глубине превратился снова в одну из холодных звезд этого странного «небосвода» — далекого и таинственного мира. Он был полностью оснащен для жизни здесь, этот вечный путешественник по неведомым тропам внутреннего пространства Земли, но все же судьба повелевала ему к концу февраля вновь претерпеть обратную метаморфозу и предстать перед обитателями устья Брид-ривер, сверкая радужными красками, во всем своем великолепии.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Джеймс и Адель бодрствовали с четырех утра. Они ловили рыбу в устье Брид-ривер. Была последняя пятница февраля, и домой, то есть в рыбачью хижину, они вернулись около девяти. Поймать удалось сущую ерунду, из приличной рыбы — один небольшой белый каменный зубан. Однако же настроены они были как всегда философски и после душа решили как следует позавтракать в кафе на той стороне эстуария. Названия некоторых лодок были им хорошо знакомы — «Чертенок», «Каприз», «Бонито», — так что они смотрели в оба, чтобы вовремя поздороваться со старыми приятелями-рыболовами из Книсны и Плеттенберхбая. И еще нужно было купить бензин и кое-какие продукты: на их стороне эстуария ничего этого не было, а на машине пришлось бы больше часа ехать до парома и еще столько же обратно.
Они поставили свое суденышко у небольшого гостиничного причала, где в это время дня было относительно свободно, и пешком поднялись на несколько сотен метров к магазину Барри, где купили все необходимое и узнали местные новости.
В это время каждый год — вот уже пятнадцать лет подряд — проходили традиционные встречи рыболовов-любителей, проводивших вместе две недели отпуска; они съезжались со всей страны и привозили с собой свои лодки и катера, так что к вечеру у причала скапливалось множество ярких судов самой различной формы и размера.
Приезжали главным образом пенсионеры, как еще довольно крепкие, так и совсем дряхлые; они ловили рыбу неторопливо, спокойно, зная, что время у них есть, кое-кто ровно в двенадцать часов пил джин с тоником прямо в лодке, а потом все рыболовы как по команде, за исключением одного-двух самых заядлых, возвращались в гостиницу к ленчу. Затем они отдыхали и снова выходили в море часа в четыре, после чая, сознавая, что заслужили эту полуденную сиесту тяжким трудом, ибо, во-первых, считали делом чести вставать с рассветом, а во-вторых, потому что к вечеру наступало самое лучшее время для рыбной ловли.
Едва добравшись до бара, Джеймс и Адель уже знали, кто из рыболовов в этом году устраивал вечеринку, каков был у каждого улов и так далее. В том числе они узнали у Барри и о том, что завтра должны были состояться соревнования по ловле горбылей-холо. Это мероприятие спонсировала крупная рыботорговая и пищевая компания, которая выделяла денежные призы и устраивала танцы с угощением на территории гостиницы. Соревнования начинались в пять утра и заканчивались после взвешивания улова в пять вечера. На автостоянке уже собралось множество машин с прицепами, а у муниципальной пристани толпились моторные лодки и катера, своими размерами напоминавшие, что призы за победу в соревновании будут разные: один — за самую большую рыбу, пойманную в море, другой — за рыбу, пойманную в эстуарии.
— Ну, значит, снова всех рифовых рыб распугают, — заметил Джеймс.
— А горбылей? — спросила Адель, задумчиво глядя на простор эстуария.
— Ну, насчет горбылей особо беспокоиться нечего, — сказал Джеймс. — Они-то в море уйдут, вроде тех летучих мышей из сказки, которые изловчились даже из ада спастись. Стоит этим рыболовам свои моторы завести, как горбыли отсюда исчезнут. По крайней мере, взрослые.
Юго-западный ветер теребил воду в эстуарии, гнал невысокие волны с кремовыми гребешками. В баре становилось шумно. Большая компания рыболовов уселась за составленные в ряд столы под окном. Адель и Джеймс, сидевшие рядом, невольно оказались вовлечены в общий разговор. Рядом с ними сидели пожилые муж и жена, владельцы весьма дорогого катера с командой из двух юнцов из Плеттенберхбая, которых Адель хорошо знала. Супруги вообще-то жили в Англии, однако каждый год в январе — феврале приезжали в Книсну, где у них был свой дом на берегу моря.
— Развлечения миллионеров, — шепнула Адель.
Херберт Ратерфорд был важной шишкой в мире ценных бумаг, а из его рассказов о рыбной ловле — по вполне понятному негласному закону, единственной серьезной теме среди теперешних обитателей гостиницы — Джеймс и Адель поняли, что Ратерфорд с женой ловили рыбу во всех уголках земного шара: лососей в Канаде, форель в Новой Зеландии и так далее.
Ратерфорд был крупным мужчиной с приятными манерами, и его внешний вид, как показалось Джеймсу, ничего общего не имел ни с международными банковскими воротилами, ни с любителями путешествий и приключений: у него были очки с толстыми стеклами, розовое полное лицо, и он слегка прихрамывал. Люди такого типа были Джеймсу очень мало знакомы, однако он относился к Ратерфорду с той же доброжелательностью, что и к любому приятелю-рыбаку. Адель про себя решила, что причина тому — жена Ратерфорда, которой Джеймс явно восхищался. Выглядела эта женщина просто великолепно — гибкая, тонкая, с манерами нестареющей красавицы, всю жизнь прожившей в достатке. Звали ее Дафни, и большую часть своей жизни она провела в Кении, где и родилась в тридцатые годы в семье местных аристократов-землевладельцев. Она тоже была совсем не похожа ни на рыболова, ни на любительницу приключений, однако же слушала бесконечные истории Джеймса с явным интересом. Херберт Ратерфорд заметил, что Брид-ривер — едва ли не последнее место в мире, где еще можно поймать рыбу весом в сотню фунтов даже с маленького ялика, и Джеймс тут же поведал им, как после войны один его близкий товарищ, так и не нашедший себе лучшего применения после службы в армии, стал жить тем, что в одиночку ловил по ночам в эстуарии горбылей-холо.
— Он тогда часто стофунтовиков ловил, — рассказывал Джеймс, — а самый большой весил целых сто двадцать фунтов.
Позже ему снова вспомнились слова Ратерфорда. Он понимал: эстуарий Брид-ривер — место уникальное во многих отношениях, но явно недостаточно оцененное местными рыболовами. Замечание Ратерфорда как бы подчеркнуло важность этой проблемы и поставило ее в разряд международных.
И все же река стала значительно беднее: слишком интенсивной была в последнее время рыбная ловля. Ворчуны и зубаны попадались реже и значительно более мелкие; давно миновали те дни, когда легко можно было поймать двадцати — и даже двадцатипятифунтовых рыб.
Ветер внезапно улегся, и Джеймс предсказал на завтра отличную погоду, в самый раз для соревнований. Он уже весь был в завтрашнем дне, но отнюдь не из-за всеобщего ажиотажа: ни он, ни Адель к соревнованиям пристрастия не питали, как, впрочем, и многие другие рыболовы за столом. Например, один особо страстный рыболов, специалист по форели, громко порицал всяческие соревнования в этой области как с точки зрения сохранности окружающей среды, так и с этической точки зрения. Джеймс был с ним полностью согласен, однако заметил, какие злобные взгляды бросал на этого оратора другой рыболов, помоложе, мускулистый, в туфлях на босу ногу, и постарался переменить тему разговора, а потом и вовсе потихоньку вышел из зала, понимая, что разговорами этические нормы поведения не возродить.
Огонек у них на лодке одиноко светился в темноте, когда они отчалили от пристани. Ратерфорды пригласили их к себе на борт, чтобы вместе пораньше выйти в море, но не для того, чтобы участвовать в соревнованиях, а просто посмотреть, как остальные суда, которые, по мнению Джеймса, скопятся главным образом в четырех-пяти километрах от устья, станут сражаться за добычу. Адель была отнюдь не так рада этому приглашению, как Джеймс. Она вдруг рассмеялась чему-то в темноте и легонько толкнула Джеймса в плечо:
— Ну, старый черт, поступай как знаешь, а я иду спать.
Ратерфорды заехали за ними в шесть утра, причалив к деревянной пристани рядом с хижиной; к этому времени общая суета на реке уже почти прекратилась. Суденышки, словно огромная туча крупных шумливых насекомых, поднялись вверх по реке еще до рассвета, чтобы потом немного вздремнуть на воде, заняв место. Такого количества лодок и катеров они в жизни своей не видели. Как позже рассказывал кто-то, допуская вполне разумное преувеличение, через реку в этот час можно было перейти по лодкам, точно по мосту.
Они неторопливо проплыли вдоль берега, мимо леса удочек и паутины нейлоновых лесок, посверкивавших на солнце серебром, и бросили якорь значительно выше основного скопления судов, подыскав себе подходящее местечко. Ратерфорды никогда еще не заплывали так далеко в реку, и Дафни пришла в восторг от обилия птиц на ее крутых, покрытых лесом берегах. Порой с одного из суденышек доносилась веселая музыка — там явно чересчур развеселились рыболовы-любители, участвовавшие в соревнованиях целыми семьями, и разухабистые мелодии совершенно дисгармонировали с пересвистом птиц над водой, с их чистыми голосами. На их катере тишину этого серебристого росистого утра сперва нарушало лишь негромкое шипение газа, на котором один из юных матросов готовил кофе, звон упавшего крючка, шлепок по воде легкого, в одну унцию, грузила…
Потом на берегу отрывисто и нервно залаяла колли, подпрыгивая и виляя пушистым хвостом, но почему-то не сходя с места и топчась на зеленой полянке у самой кромки воды.
За поляной стеной поднимался лес, карабкаясь по крутым береговым утесам. Они с ленивым любопытством наблюдали за собакой, и Адель сказала:
— Этого пса зовут Висси. Его хозяйка — моя двоюродная сестра, хотя мне лично собака нравится больше. — Ратерфорд и Дафни с изумлением уставились на нее, однако Адель сделала вид, что ничего не замечает. — Я с этим псом когда-то сама и занималась, давно уже. Он караулит у воды, а лаять начинает, когда клюет.
Действительно, какой-то мужчина рысцой спускался по тропинке меж деревьями, и они услышали позвякиванье колокольчика спиннинга. Потом блеснуло удилище — прямо у передних лап собаки, — мужчина подбежал к воде, остановился, вытащил удочку, и колли перестала лаять и радостно запрыгала.
— Ничего себе! — воскликнул Ратерфорд, когда мужчина снял с крючка горбыля-холо среднего размера. — Вот уж действительно настоящая собака-рыболов! Теперь я, кажется, все чудеса на свете видел.
Джеймс наблюдал за происходящим, вежливо поддерживая разговор. Потом один из членов команды нацепил взятого из холодильника сардинопса на большой крючок — для Дафни.
Адель ловила, как всегда, на маленькие крючки, наживляя некрупных креветок, и сперва таскала одну за другой небольших полосатых зубаток, а потом все чаще вынимала из воды раскушенных почти надвое маленьких оливковых пристипом с четкими черными пятнами возле жаберных щелей. Джеймс тоже вытащил несколько пристипом, осторожно снял каждую с крючка и опустил в ведро с водой для наживки. Заметив очередную, точно ножом разрезанную рыбку, он пробормотал:
— Точно, луфарь, — и, посмотрев на аккуратный полукруг, оставленный зубами хищника, прибавил: — Вроде бы довольно крупный. Пожалуй, стоит и на живца попробовать.
Он предложил Дафни проверить свою наживку. Как он и предполагал, от ее сардинопса на крючке осталась одна голова.
— Ах, мне никогда с луфарями не везло, — томно проговорила Дафни. — Они у меня вечно наживку съедают, оставляют только тот кусок, где крючок.
Джеймс засмеялся.
— А мы их перехитрим, — сказал он. — Знаю я одну уловку…
Хотите, я вам наживлю?
Дафни с улыбкой кивнула, и Адель невольно подумала, что это действительно очень красивая женщина или, по крайней мере, была таковой. Дафни откинулась в шезлонге, закрыв глаза и подставив лицо теплому утреннему солнцу, а руки с длинными пальцами расслабленно уронила на подлокотники, словно сушила только что покрытые лаком ногти. Херберт Ратерфорд наблюдал, как Джеймс неторопливо и очень ловко наживляет снасть. На изгибе крючка он прикрепил короткую, длиной с мизинец, серебристую проволочку и к ней — еще один маленький крючок. Конец проволоки он накрепко зажал плоскогубцами, пристроив крючок на перила и подложив под него плоскую деревяшку. Потом прикрепил к леске легкое подвижное грузило и показал снасть Херберту.
— Большой крючок не так уж и хорош, но в данном случае именно он держит наживку, — пояснил он. — А луфаря мы поймаем с помощью этого, маленького. То ли эти луфари способны большой крючок разглядеть, то ли знают, что это такое, или просто что-то подозрительное чувствуют… — Он пожал плечами. — Кто их знает? С рыбами и прочими тварями морскими никогда ничего не поймешь.
Он продел острие большого крючка под спинной плавник живой пристипомы, а маленький крючок закрепил свободно ближе к ее хвосту.
— Отличный спиннинг, — похвалил он. — Нечасто доводится видеть такую прекрасную снасть.
Широкая бронзовая катушка спиннинга с толстой леской, по прикидкам Джеймса, должна была выдержать массу не менее семи килограммов.
— На этой катушке очень много лески помещается, — сказал Херберт, — ярдов четыреста.
Джеймс забросил удочку, проверил тормоз и вручил конец удилища Дафни. Он неторопливо пил кофе, когда удочка изогнулась дугой; Дафни приподняла свой конец, и леса стала разматываться рывками. Дафни водила рыбу умело, не говоря ни слова, и лишь приоткрытый рот выдавал ее волнение.
Джеймс ловко поддел рыбу сачком — это действительно оказался двухкилограммовый луфарь, попавшийся именно на маленький крючок. Джеймс радостно засмеялся, а Херберт даже в ладоши захлопал, сияя во весь рот и сунув собственную удочку под мышку. Дафни тоже стукнула в восторге костяшками стиснутых кулачков и быстренько, точно клюнула, поцеловала Джеймса в щеку.
Меченый спускался по течению реки вместе с отливом и замедлил ход, завидев впереди целую флотилию различных рыболовных судов. Он повернулся к течению боком, обследуя дно грудными плавниками и вздымая облака ила, смешанного с песком ударами мощного хвоста. Потом снова устремился к морю, проплыл под днищем первого катера, второго, третьего, но вокруг все было тихо, и тут он вдруг услышал отчаянный призыв раненой оливковой пристипомы, на который нельзя было не обратить внимания. Он схватил пристипому, пожевал и выплюнул, потом хотел снова схватить, но рядом заработал лодочный мотор, и он поскорее нырнул на глубину и быстро поплыл прочь, огибая якорные цепи и распугивая стайки рыбьей мелочи. Под правым глазом он чувствовал слабую дрожь, но ему хотелось поскорее уплыть подальше, и опомнился он, лишь очутившись в самом центре собравшихся для рыбной ловли судов.
В углу пасти Меченый чувствовал слабое жжение и какую-то странную тянущую боль, которая оживила почти забытые воспоминания, однако же он нырнул еще глубже, по-прежнему стремясь к морю и надеясь прорваться сквозь преграду из лесок и якорных цепей, не замедляя скорости и промчавшись еще по крайней мере метров четыреста, и тут вдруг странное жужжание в ушах и тянущая боль исчезли, и он еще быстрее поплыл вперед. Колесико спиннинга в руках Дафни взвизгнуло и продолжало пронзительно верещать, даже когда она подняла конец удилища, изогнувшегося изящной дугой, даже когда она подтянула тормоз, даже когда она, перепробовав все, пробормотала себе под нос: «Господи!.. А это еще что такое?» Леска на барабане неудержимо разматывалась, пока не обнажила металл бобины, и через несколько секунд лопнула с громким щелчком.
Какое-то мгновение на катере царила полная тишина, а потом все вдруг разом засуетились, хотя слов никто так и не находил. И на лодках тоже поднялась суматоха.
— Эй, привет! Вон там один парень тоже хорошую рыбу поймал, — сказал Херберт, — и вон там тоже.
Спиннинги скрежетали и щелкали по всему течению реки, и, куда ни глянь, всюду виднелись согнутые до предела удилища, стонущие под непосильной нагрузкой. Рыбаки напряженно подкручивали тормоза и орали друг на друга, желая пройти и судорожно поднимая якоря.
Когда Меченый миновал рифовый барьер, флотилия рыболовов на реке все еще путалась в собственных удилищах и лесках, мутила воду и продолжала шуметь. Шум становился особенно громким, если какая-нибудь лодка предпринимала попытку выбраться из этой толпы и прорвать паутину чужих лесок, аккуратно убрав свои, однако чужие лески, даже порванные, мощным канатом обвивались вокруг ее гребного винта.
Джеймс время от времени начинал смеяться и утверждал, когда они возвращались в Книсну на автомобиле, что соревнования по ловле горбылей-холо — самый лучший цирк в его жизни.
— Конечно, мы могли и акулу подцепить, — говорил он, — и даже тигровую. Один мой знакомый как-то раз поймал такую, выйдя в залив на маленьком ялике. Так эта тварь полночи таскала его за собой, пока не выкинула на песчаную отмель у самого берега во время отлива. Она была футов десять длиной почти как его лодка.
Ему было бы не до смеха, знай он, что на крючок Дафни попался самый большой горбыль-холо на свете.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Неприятное приключение в устье Брид-ривер заставило Меченого отправиться на восток раньше намеченного срока.
Крючок, застрявший в его плотной мясистой губе, был совсем крохотным и не причинял особых неудобств, а однажды, когда он случайно зацепился за камень, охотясь на красного краба среди рифов близ Мосселбая, и крючок выпал. Меченый приплыл в залив Книсны через неделю после того, как туда прибыли Джеймс и Адель, и двинулся дальше по старому маршруту.
Меченый знал залив как свои пять пальцев; он прожил здесь всю жизнь, и знакомство со многими его обитателями существенно облегчало ему жизнь; здесь легко было охотиться и хватало пищи, чтобы прокормить свое столь массивное тело.
Теперь он стал гораздо медлительнее и часто отдыхал. Скоростной бросок метров на десять уже утомлял его, так что он старался использовать главным образом всякие уловки, отточив свое мастерство охотника до совершенства, и неторопливо плавал, высматривая добычу. Он избегал прибрежных впадин, где волны вокруг скал создавали неприятные водовороты и поднимали со дна песок, раздражавший ему жабры, и предпочитал днем держаться песчаных отмелей, возвращаясь в залив по ночам.
И еще одну полезную привычку приобрел он: никогда не брать в рот ничего мертвого — ни рыбы, ни моллюска, ни креветок.
Лишь одно существо внушало ему ужас и грозило опасностью в этих изобилующих пищей местах — крупная тигровая акула, которая целую неделю охотилась здесь по ночам. Эта акула была более трех метров в длину, желтовато-песочного цвета с серовато-кремовым брюхом и темными пятнами различной формы и размера на спине и боках. Это чудовище имело отвратительную манеру красться над самым дном к берегу и залегать, будучи совершенно незаметной на фоне песка, примерно на метровой глубине возле людного пляжа или в эстуарии. Она была чрезвычайно хитра и осторожна, эта подводная мусорщица, и легко могла разорвать человека пополам своими страшными зубами, в последний момент ловко увернувшись от любого охотника. Зубы у нее были зазубренные, длинные, довольно тонкие, но необычайно острые; в отличие от мако, она не способна была мгновенно отрезать огромный кусок плоти от своей жертвы, как это произошло, когда Джеймс чуть не потерял всю руку, зато она могла, крепко сжимая добычу, рвать ее на куски (при этом анальные плавники служили ей своеобразным якорем, широкий хвост — тормозом), и все, что оказывалось для тигровой акулы слишком большим и не пролезало в глотку, в одну минуту бывало растерзано в клочья. Как и большинство крупных акул, которых называют еще «акулы-людоеды», тигровая акула за все восемнадцать лет своей жизни ни разу не видела живого человека и представления не имела о двуногих млекопитающих из верхнего мира, разве что различала их запах, который ассоциировался у нее с мелководьем, где она часто охотилась, особенно после сильных ливней и во время паводков, когда в илистой взбаламученной воде ей часто попадались мертвые сухопутные животные всех видов, включая людей, хотя она даже не представляла себе, кого, собственно, поедает. Прибрежные обитатели, песчаные тигровые акулы не зависят от крупных колоний млекопитающих вроде тюленей — основной пищи глубоководных акул; они способны собирать и втягивать в себя воздух с поверхности и сохранять в воде весьма удобную невесомость. Подобно всем акулам, они, теряя или ломая зубы, способны заменять их новыми много раз за свою достаточно продолжительную жизнь. Эта тигровая акула приплыла в залив следом за крупной стаей горбылей-холо, которых, в свою очередь, привлекли сюда стаи эстуарной сельди-круглобрюшки, кормившейся планктоном. Как только крупные, от пяти до десяти килограммов, горбыли оказались в заливе и рыболовы поймали первого из них, каждую ночь рыбная ловля все более оживлялась, и акула рвала одну лесу за другой, ломая катушки спиннингов и слыша вслед проклятия. Однако же и невинная ярко-зеленая водная гладь под освещенными по вечерам окнами яхт-клуба, и мощные волны прилива, накатывавшиеся на берег меж двумя мысами-близнецами, продолжали хранить свои тайны, так что истории о невероятном горбыле-холо, которого никто из рыболовов не мог удержать, все множились.
Джеймс тут у себя в магазинчике выслушивал подобные истории со своей обычной добродушной усмешкой; у него все чаще возникала острая боль в груди, но он все же собирался непременно как-нибудь ночью выйти на рыбалку, взяв с собой Адель. Как раз в это время тигровая акула нечаянно обнаружила себя, одновременно чуть не прикончив Меченого.
Заезжие любители пирушек на воде, устроившись в небольшой каюте своего катера, зажгли на борту сразу два керосиновых фонаря, разлили виски с содовой и праздновали отличный улов; четырех крупных ворчунов они опустили в сетке за борт на длинной нейлоновой веревке. Вокруг расцветал упоительный вечер. Солнце уже утонуло в светящихся красным и золотым водах океана, стаи кроншнепов, белых цапель и корморанов неторопливо, с музыкальным курлыканьем тянулись над головами рыболовов к своим гнездам. Сперва один за другим, а потом заревом вспыхнули на берегу огоньки, и цепочка их протянулась до железнодорожного моста в устье реки; дальше огней не было видно совсем. Зато в небесах ярко сияли звезды.
Вокруг катера замкнулся крошечный, очерченный сиюминутным светом фонарей мирок, да иногда по серо-зеленой воде пробегала рябь — всплескивали сарган или кефаль, привлеченные огнями.
Меченый поплыл на запах ворчунов, висевших в сетке за бортом. Он прекрасно знал о присутствии акулы, которая уже вспугнула его, — он понял, что она близко, по исключительно сильным колебаниям воды, и спрятался в относительно безопасном месте между опорами верфи, пока страшная хищница не проплыла мимо. Акула тоже крутилась неподалеку от катера, чуя сигналы тревоги, испускаемые пойманными ворчунами, и в итоге оба хищника встретились прямо под каютой, где веселились рыболовы. Меченый резко вильнул в сторону и сразу ушел на глубину, акула же, метнувшись за ним, задела киль судна, причем с такой силой, что сигнальные фонари с грохотом упали, а один из членов компании пролил выпивку. Акула не слишком старалась поймать Меченого и, когда тот удрал достаточно далеко, погоню прекратила. Меченый отдохнул и продолжил ночную охоту, выбрав теперь другой рукав реки — на самой дальней границе эстуария.
А вот акула вернулась к катеру и снова толкнула носом сетку с насмерть перепуганной — и недаром! — рыбой. Пленники были приговорены. Акула разинула пасть и одним движением оборвала сетку вместе с веревкой; еще раз как следует тряхнув добычу и подняв хвостом целый фонтан воды, она поплыла прочь. Судно закачалось так, что один из рыболовов не устоял на ногах, а второго обдало волной с головы до ног, и долго еще после того, как тигровой акулы и след простыл, а загадочная поверхность моря стала по-прежнему спокойной и безмятежной и по ней снова засновали в пятне света креветки, рыболовы обсуждали случившееся, всерьез решая, не лучше ли отправиться восвояси, оправдывая свои опасения тем, что палуба ни с того ни с сего была залита водой, а один человек даже упал и вывихнул руку в кисти, и в любой момент вполне дружелюбная с виду гладь морская могла снова стать грозной и опасной. Пятно света возле катера казалось им теперь ловушкой, вокруг которой сомкнулась страшная, темная, неведомая океанская бездна, и на несколько мгновений люди почувствовали непосредственную связь со своими далекими предками, ибо в жизнь их неожиданно вторглось существо, достигшее совершенства миллионы лет назад, задолго до того, как прародители человеческого рода успели выбраться из моря на сушу.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Джеймс не поехал охотиться на южноафриканских газелей, озадачив Йохана причиной своего отказа: он сказал, что просто больше не может убивать животных, разрешено это законом или нет. Он также продал свой катер, потому что Адель очень неудачно упала во время швартовки в ветреную погоду и разбила бедро, из-за чего они даже не поехали в свою хижину на берегу Брид-ривер.
Джеймс начинал тревожиться из-за все усиливавшихся болей в груди, однако откладывал разговор об этом с родными, не желая их беспокоить. Адель мучилась с переломом бедра, а Делию, как он считал, просто грешно было тревожить в ее теперешнем блаженно-счастливом состоянии: она наконец-то была беременна, успешно прибавляла в весе, однако оставалась все такой же активной и полной самых радужных надежд по поводу грядущего материнства. Что касается Йохана, то до него не сразу дошло, что скоро он действительно станет отцом, ну а Джеймс, хотя с виду довольно флегматично отреагировавший на эту новость, в душе все же обрадовался значительно больше, чем хотел показать. Теперь он иногда жалел, что продал свой катерок, воображая, как станет учить внука рыбацкому мастерству, и понимая одновременно, что для него самого прожить еще десять или хотя бы пять лет — вопрос не самый простой.
Каждое утро он пешком ходил в город, лениво слонялся по своему магазинчику и порой целыми неделями даже удочку в руки не брал, однако ялик все же сохранил и заходил навестить его, словно старого товарища, с удовольствием убеждаясь, что он в целости и сохранности и совершенно готов отправиться в море в любой момент, как только пожелает хозяин. В тот день, когда Йохан отвез Делию в больницу, Джеймс чувствовал себя каким-то удивительно свободным и неприкаянным, а к вечеру ему даже захотелось выйти в залив и немного порыбачить. После отлива он легко наловил наживки; стоял полный штиль, и было очень тепло — погода как раз для рыбалки, кроме того, Джеймс просто места себе не находил, даже не отдавая себе в этом отчета. Нет, явно не имело смысла сидеть дома! И он приготовил снасть и все необходимое: теплые вещи, термос, бутерброды, небольшую подушку, одеяло, электрический фонарик и полбутылки бренди.
Войдя в один из речных рукавов, он сразу почувствовал, как поднялось настроение, и подивился, отчего это рыбная ловля последние месяцы занимала столь ничтожное место в его жизни. Еще в заливе на отмели он наловил крупных креветок и встал на якорь у речного берега. Он пользовался маленькими крючками и легкой удочкой, ловя тупорылов над поросшим водорослями и полого уходившим на глубину речным берегом; тупорылы спрятались тут, понимая, что ночью выйдут на охоту их извечные опасные враги — горбыли-холо.
Джеймс поймал четырех небольших карасей-тупорылов, сунул их в ведерко с водой, поднял якорь и переставил ялик на свое любимое место, где было значительно глубже.
Отсюда хорошо была видна автостоянка возле яхт-клуба; Джеймс вполглаза следил за концом удилища, поглядывая на берег, где мчались домой автомобили, брели вверх по склону холма рабочие с фабрики, проезжали велосипедисты, ворчали автобусы. У причала на яхтах и моторках засуетились их владельцы, готовясь к наступлению ночи. Какой-то катер и два ялика только что вернулись; от причала доносились веселые голоса и добродушный смех, хорошо слышные над водой. Наконец стало тихо, берег опустел, один за другим вспыхивали огни, а потом все окутала тьма, заперев Джеймса в крошечном мирке, ограниченном светом сигнального фонаря.
Он думал о Делии, вспоминая ночь ее появления на свет, и будто снова ощутил ту страшную усталость, которую испытывал, стоя под дождем у окна родильного дома. Тогда впереди была целая жизнь, но теперь перспектива прожить еще одну жизнь вызывала лишь чувство утомления и безысходности. Некоторое время он размышлял о великой тайне жизни, о рождении и смерти человека, о волшебстве познания. Еще полгода назад он был уверен, что, по сравнению со многими другими, не просто доволен собственной жизнью, но считает ее замечательной, весело прожитой и интересной, но теперь, видно, праздник жизни подходил к концу; впрочем, он не испытывал особых сожалений по поводу того, что жизнь будет продолжаться и без него. Он никогда прежде не позволял себе долго размышлять о смерти и теперь, не желая, чтобы подобные мысли взяли над ним верх, решительно выбил трубку и занялся подготовкой лодки к ночевке. Зажег керосиновую лампу, налил себе немного бренди и плеснул туда воды из алюминиевой фляжки. Потом вытащил удочку и сменил наживку. Даже тот факт, что он забросил всего одну удочку, свидетельствовал о том, что прежнего азарта уже нет.
В девять он съел сандвич и налил себе чашечку кофе, запил этот легкий ужин бренди с водой и раскурил трубку.
Он не мог припомнить, обедал ли сегодня, однако после еды ему явно стало лучше, он повеселел и даже громко хмыкнул, вспомнив соревнования по ловле горбылей-холо, когда пойманная Дафни «акула» испортила всем праздничное настроение. Он уже подумывал, не отпустить ли ему пойманную для наживки рыбу в реку, ибо тоска и тревога, снедавшие его, достигли такой силы, что ему стало тошно при одной мысли о том, как он просидит полночи в надежде поймать какого-то несуществующего горбыля. Однако, взглянув на раскинувшийся во всем своем великолепии Млечный Путь, он решительно отложил в сторону легкую снасть и достал большой крючок, предназначенный для более тяжелого удилища. «Последний горбыль-холо, — подумал он, — для Делии и ее малыша. Пусть будет подарком — я ведь все равно должен ей что-то подарить, а такой подарок она оценит непременно».
Удовлетворившись вполне бодрым видом наживки, он перешел на корму и удобно уселся между распорами, откинувшись на подушку и вытянув ноги. Колесико спиннинга на полу рядом с ним тихонько постукивало; он подтянул тормоз и проверил натяжение лесы.
Полночь уже миновала, когда он проснулся, но не из-за неудобной позы, а просто так — легко, не торопя себя, давая всем чувствам возможность тоже пробудиться, — и, лишь окончательно придя в себя, тронул спиннинг правой изуродованной рукой. Все еще лежа на спине, лицом к звездам, левой рукой он потянулся за фонариком, потом медленно сел, посветил на якорную цепь, чтобы понять, какой высоты достиг прилив, скользнул лучом по серебристой леске и чуть тронул удилище. Леска натянулась, удилище выгнулось дугой по течению приливной волны, звякнуло колесико спиннинга. Он отпустил тормоз привычным легким движением большого пальца, прижал удилище к груди правым локтем, тремя пальцами придерживая моток нейлоновой лески на катушке спиннинга. Леска сперва разматывалась, потом замерла, потом снова начала разматываться. Джеймс чуть попятился, сел на корму, поставил катушку на тормоз, мягко опустил конец удилища, а потом резко дернул. Удилище согнулось, точно лук, и он даже решил сперва, что зацепился за что-то, например за старую якорную цепь, но конец удочки ожил, дважды резко дернулся, и леска снова начала разматываться с ровной скоростью. Джеймс поправил натяжение лесы, высоко подняв удилище, отрегулировал тормоз и через несколько секунд, поскольку рыба тянула с прежней силой, закрепил его, что-то бормоча себе под нос, ибо леска продолжала разматываться, исчезая в ночной тьме.
Катушка спиннинга, дрожавшая от напряжения в свете фонаря, казалась очень непрочной. Джеймс поудобнее оперся спиной о распорку и чуть нагнулся, крепко держа удочку.
Прилив почти достиг апогея — якорная цепь совершенно провисла, — и Джеймс снова тщательно подтянул тормоз на спиннинге, поднял удочку повыше и стал ждать, но тут леса натянулась с такой силой, что ялик тронулся с места и поплыл.
Джеймс сел на свой конец удилища, поднял якорь, снова взял удочку в руки и, переведя дыхание, улыбнулся: занятный, должно быть, вид он имел сейчас, стараясь удержать удочку, согнувшуюся до предела, и сам согнувшись в дугу, влекомый в ночную тьму неведомой силой!
Они поднимались вверх по течению реки с приливной волной, все больше удаляясь от причала, где стояли на якоре яхты и катера, а впереди было еще по меньшей мере два километра пути меж безлюдных берегов — до железнодорожного моста. Катушка спиннинга застыла. Джеймс даже умудрился раскурить трубку, отвернув голову с зажатой в зубах трубкой в сторону, чтобы искра нечаянно не попала на туго натянутую нейлоновую лесу, и прежде чем он успел понять, что происходит, увидел вдруг перед собой громоздкие опоры железнодорожного моста. Каким-то чудом они миновали их и снова нырнули во тьму. Та рыбина, что тащила лодку, сама выбирала путь по стремнине реки, и Джеймс даже засмеялся. Вот бы Адель была сейчас здесь! Он знал, какое огромное удовольствие это доставило бы ей, впрочем, и сам он никогда прежде не испытывал ничего подобного.
Убежденный, что лодку тащит акула, он стал решать, что делать дальше, когда пора будет вытаскивать добычу на берег. Он вспомнил, что забыл захватить острогу, но острога у него была слишком легкой, так что больше стоило надеяться на то, что когда-нибудь эта рыба все-таки устанет, даже если на крючке у него тигровая акула, и тогда, если повезет и если выдержит леса, он, по крайней мере, постарается подтащить ее поближе и полюбоваться своей добычей, прежде чем перерезать лесу. Странно только, что леса выдержала до сих пор, ведь она оказалась перекинутой через шершавую, как наждак, спину этой громадины и ее беспокойный хвост. Джеймс укрепил удилище на носу ялика, зажав между ногами, и поднял повыше фонарь, рассчитывая определить поточнее, где находится, однако почти ничего не разглядел в темноте. Он знал, что они идут не по основному руслу, а по лабиринту бесчисленных рукавов, где навигация затруднена даже в дневное время, но пока что им не встречалось никаких препятствий, и он улыбнулся при мысли, что плывет не вслепую, а под руководством идеального «лоцмана». Он опустил руку в воду и понял, что был прав: сейчас лодка плыла значительно медленнее, рыба явно устала. Джеймс поднялся на ноги и стал медленно сматывать лесу. Свою ошибку он понял, когда было уже поздно: в ответ на изменившееся натяжение лесы рыба повернула назад и оказалась под яликом прежде, чем он успел смотать провисшую лесу. У носа лодки плеснула и закипела вода, сверкнул серебром рыбий бок, невероятно широкий хвост — горбыль! — потом леса снова натянулась над водой ровной дугой, нос лодки как бы сам собой повернулся, и они поплыли обратно, вниз по течению.
Джеймс дышал тяжело и весь дрожал; вдруг грудь точно стянуло свивальником — он застонал и сел: сердце готово было выскочить из груди. Он пытался вздохнуть поглубже, хватая ртом воздух; сердце билось неровно, трепетало. Наконец он заставил себя дышать ровно, глубоко, неотрывно глядя вперед, во тьму. Боль понемногу проходила, таяла, но глаза его были все еще широко раскрыты, а искаженное лицо впервые стало похоже на лицо перепуганного старика, который, впрочем, исполнен был благоговения перед тем чудом, что вскоре должно было ему открыться. Руки дрожали так, что Джеймс даже трубку раскурить не мог; он вспомнил о бренди, оставшемся в сумке на корме, но понял, что пока ему туда не добраться.
«Ничего, потерпи еще немного, — сказал он себе, — а потом глотнешь как следует — и сразу станет легче». Нужно собраться с силами и непременно вытащить на берег этого громадного горбыля — такого крупного он ни разу в жизни не видел!
Дыхание постепенно успокоилось, лицо расслабилось и вновь помолодело.
— Господи, да это же просто фантастическая рыба! — Он и не заметил, что говорит вслух.
Лодка еле двигалась. Джеймс понимал, что если ему удастся Добраться до берега, то и рыбу эту он вытащить сумеет: постепенно подведет ее к лодке, а на мелководье, в илистой воде, она и совсем ослабеет, так что он с ней справится. С превеликой осторожностью он начал пробираться на корму, к рулевому веслу. Это оказалось совсем нетрудно. Джеймс прижал удилище к распорке коленями, а одну ступню поставил на его конец, потом вырулил к намеченной илистой отмели у берега, который, как он чувствовал по запаху, находился где-то— левее.
Под килем лодки послышалось шуршание морских водорослей, потом лодка мягко замедлила ход и стала. Джеймс шагнул прямо в илистую воду, богатую озоном и полную жизни, как всегда во время отлива на креветочных отмелях.
Удилище в его руках дрожало от напряжения; очень медленно, осторожно он начал сматывать леску. Еще пятьдесят метров — и рыба мотнула головой так, что удочка чуть не сломалась, а через минуту послышался мощный всплеск и мелькнул белый хвост, яростно бьющий по воде. Джеймс держал лесу туго натянутой, продолжая брести к берегу по колено в воде и неторопливо выводя рыбу на мелководье, и вот она стала видна вся — рулевой плавник, бронзовый бок, сверкающий в свете фонаря, круглый рубиновый глаз… Еще немного — и гигантская рыбина будет на суше совершенно беспомощна…
И тут его снова оглушила боль; он упал на колени прямо в жидкую грязь, стоя на четвереньках, но удочку не отпускал; потом боль наконец чуть утихла, он дополз до ялика, перевесился через борт, вытащил бутылку с бренди и хлебнул так, что перехватило дыхание. Тяжело дыша и держа в одной руке фонарь, а в другой нож, он на коленях пополз обратно к рыбе. Чтобы увидеть ее целиком, он встал, качаясь от слабости, но вскоре головокружение прошло, и он наконец осмотрел этого невероятного горбыля со всех сторон. Жабры исполина то приподнимались, то опадали, плавники слабо шевелились, хвост время от времени ударял по воде, обдавая Джеймса фонтаном брызг, вспыхивавших алмазами в свете фонаря. Опаловые, бирюзовые, сиреневые, золотистые и розовые тона сверкали и переливались на его боках. Джеймс брел к берегу точно очарованный, все время спотыкаясь и оскальзываясь; его обуревали столь противоречивые чувства, что он готов был разрыдаться. И вдруг, точно освободившись от всех прочих ненужных мыслей, он решил, что именно сделает и каково будет его последнее усилие в этой невероятной схватке, где победителем не стали ни человек, ни эта фантастическая рыба. Опустившись на колени над притихшей в мелкой воде рыбиной, он перерезал лесу, выронил нож и обнял горбыля одной рукой, а потом, двигаясь на коленях рывками и помогая себе второй рукой, стал поворачивать огромную рыбью голову в сторону устья реки. Бока гиганта были гладкими и скользкими, но все же под толстым слоем слизи он чувствовал, какая у него крупная чешуя. Как-то в юности, вспомнил Джеймс, на ярмарке он попытался взобраться по столбу, густо обмазанному жиром и установленному посреди рыночной площади; бока огромного горбыля напомнили ему тот столб — неподвижные и твердые, но скользкие, как масло.
Джеймс встал и зашлепал по воде дальше; ему было уже по пояс, он тяжело, со стоном дышал, с огромным трудом продвигаясь вперед; один раз он потерял равновесие, упал прямо на рыбу, хватая воздух ртом, и почувствовал, что та вся дрожит. Когда стало глубже, рыба наконец распрямилась, разминая мускулы, изящно плеснула хвостом, мягко выскользнула у него из рук и исчезла в глубине.
Джеймс сидел по грудь в теплой воде, потом на четвереньках дополз до лодки, медленно перевалился через борт и вытянулся на дне, подложив под голову сумку со снастью. Звезд на небе, казалось, стало еще больше; близился рассвет. Вдали раздавались крики куликов-сорок, потом смолкли, и Джеймс спокойно взлетел следом за ними ввысь, устремив взор в звездное небо. Казалось, он чему-то улыбается.
Меченый, ничего не видя перед собой от усталости, наконец оказался на глубине, далеко от рифов и отмелей. Он медленно плыл безо всякой цели, просто чтобы быть в движении, как делал это всегда, ибо движение и было его жизнью. Кусок нейлоновой лески в метр длиной тянулся за ним следом, прикрепленный к серебряному крючку, застрявшему у него в губе; однако крючка он не замечал — слишком устал и не сразу отреагировал даже на акул, привлеченных его запахом и круживших все ближе и ближе. Однако настигнуть Меченого акулы не успели: удары его хвоста степенно слабели, и вот он медленно заскользил в тем глубину, навстречу тем живым звездам, что горели на океана, храня все великие тайны жизни.
Опасное соседство
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Орлы медленно парили в вышине; оттуда хорошо был виден берег и раскинувшееся внизу плато, укрытое одеялом лесов и изрезанное речными ущельями. Виден был и город, и залив, и цепь холмов вокруг, с обеих сторон заканчивавшаяся скалистыми мысами, за которыми открывалось море, и волны его то набегали, то отступали в четкой последовательности день за днем — точно в такт дыханию огромного живого существа. Светло-зеленые поля, разбросанные среди них белые, с красными крышами домики и красноватые ленты дорог исчезали только там, где в небо поднималась синеватая горная гряда. Если бы орлы заинтересовались происходившим прямо под ними, на небольшой поляне у самого подножия гор, то смогли бы разглядеть двух мужчин возле невысокого куста, из которого торчало что-то белое.
У дальнего конца пастбища, где лес начинал спускаться по крутому склону в горную долину, лежала на спине овца, и это ее окоченевшие задние ноги виднелись среди засохших веток кустарника, который, казалось, расцвел белыми цветами — так много на нем было клочков овечьей шерсти. Если не обращать внимания на почерневшие уже кровавые пятна на шкуре, то мертвая овца больше всего походила на большого игрушечного медвежонка, который истрепался настолько, что его просто выбросили, чтобы не видеть, как из него вылезает начинка.
Сразу за поляной стеной поднимался лес, и уже на опушке, среди колючего кустарника, становилось значительно темнее.
Со стороны моря пастбище круто обрывалось в глубокое ущелье, где текла река с черной водой; заводи ее, безмолвные и спокойные, казались темными зеркалами в каменных рамах; в заводях отражались вершины больших деревьев, которые чуть покачивались, когда их легко касался летний ветерок, устремлявшийся к морю.
Сперва мужчины не заметили полуобглоданных останков овцы. Они какое-то время топтались вокруг, будто что-то прикидывая и измеряя, а потом один из них прислонил свою двустволку к ветке и небольшим топориком срубил верхушки двух уже достаточно крепких молодых деревьев. После этого он привязал ружье за ствол и приклад к оставшимся пенькам и принялся строить что-то вроде шалаша из веток и хвороста метрах в пятнадцати от привязанного ружья. Когда с этим было покончено, люди отвязали приклад ружья и тщательно нацелили стволы, то есть один целился, а второй лежал плашмя в шалаше лицом ко входу и следил за обоими стволами в щель, проделанную в густой листве.
— Так, повыше, — командовал он приятелю, — нет, чуть-чуть ниже, нет, слишком много! Да, вот так. Ну, теперь сам посмотри.
Он выбрался из шалаша, и они поменялись местами. Потом, убедившись, что все в порядке, вернулись к овце, подняли ее, перенесли к шалашу и засунули внутрь. Пока более высокий человек, тот, что срубил молодые деревца, упершись спиной в узловатый корень, ногой заталкивал тушу овцы поглубже, второй принялся разматывать нейлоновую леску. Потом высокий взял леску и начал хитрым образом устанавливать спуск: конец лески привязал на спусковых крючках ружья, затем набросил ее на маленький шкив, который прибил гвоздем к стволу соседнего дерева, затем протянул леску обратно и набросил на другой шкив; наконец он подвел ее к шалашу и закрепил поперек входа сантиметрах в двадцати от земли.
Потом они еще некоторое время повозились, подтягивая леску, чтобы не провисала, и поправляя всю получившуюся сеть.
Удовлетворившись проделанной работой, высокий сделал перочинным ножом насечки на коре обрубленных деревьев, отмечая положение стволов и приклада, затем отвязал ружье, защелкнул стволы, проверил, как закреплена леска на спусковых крючках, и осторожно спустил предохранитель. Тот, что поменьше, подошел к шалашу и заполз внутрь. Потом осторожно тронул пальцем туго натянутую леску.
— По-моему, должно сработать в любом случае: и если на нее навалится, и если вверх потянет, — сказал он.
Его приятель еще раз прицелился, щурясь поверх стволов.
— Если он заявится, — пробормотал он, — то проползет по земле вон под той веткой, а когда вцепится в овцу и станет тащить, то как раз должен задеть леску. Сам попробуй, нажми рукой. Потяни-ка леску вверх.
В напряженной тишине было слышно лишь, как где-то вдали переговаривается парочка попугаев; потом послышался резкий металлический щелчок бойка. Высокий держал приклад ружья, крепко прижимая его к обрубленному стволу дерева.
— Отлично, — сказал он. — Нажимать нужно сильно?
— Почти не нужно, — ответил его приятель, поднимаясь. — Только чуть-чуть.
Вместе они зарядили ружье, потом высокий привязал его, а тот, что поменьше, держал приклад прижатым к дереву точно там, где были сделаны насечки. Когда все было кончено и предохранитель снова спущен, приятели чуть отошли назад и осмотрелись, пытаясь представить себе, как это будет выглядеть, когда наступит ночь, а потом наконец пошли прочь — молча и как будто испытывая чувство вины или стыда за то, что сделали.
Овцы расступались, пропуская их к машине, стоявшей на дальнем конце поляны; потом хлопнули дверцы, и машина с ворчанием поползла по проселочной дороге, а овцы вернулись к своему вечному занятию — принялись щипать примятую траву на поляне.
Совсем неподалеку, на горячей от солнца скале, у излучины реки сидела обнаженная молодая женщина и сушила на солнце волосы. Вокруг стояла полная тишина, и даже дыхания ветерка, что играл в верхушках деревьев на противоположном крутом и обрывистом краю долины, сюда не доносилось; темная, почти черная поверхность заводи казалась зеркальной.
Горячий воздух был напоен ароматами смол и соков деревьев и трав, меда и цветов. Чуть ниже той скалы, на которой сидела женщина, пробивалась и падала вниз тонкая струйка воды, а в застывшей тишине слышалось лишь журчание родника да посвист и крики птиц, точно стрелы пронзавших порой нагретый воздух; птицы то парили в вышине, описывая широкую дугу над рекой, то так стремительно пролетали над самой водой, что молодая купальщица едва успевала их заметить.
Она сидела, опустив ноги в воду, и ее ступни казались бледно-золотыми, точно камешки и желтый песок на мелководье.
Торфянистая вода в глубоких местах была черной как деготь, а на отмелях — золотисто-желтой, янтарной; однако, если зачерпнуть ее стаканом, оказывалась почти прозрачной, не замутненной ни илом, ни осадком и лишь слегка подцвеченной практически безвкусными красителями, содержавшимися в многолетних слоях лесной почвы на склонах ущелья.
Сперва небольшая, но постепенно увеличивавшаяся стайка рыбьей мелюзги собралась у ее ступней и пощипывала пальцы; она улыбнулась, но ноги из воды все же вынула, не зная, чего больше боится: зря дразнить рыбок своими совершенно «несъедобными» ногами или того, что через минуту-две они все-таки сочтут ее пальцы съедобными.
Она уселась поудобнее, подобрав колени к подбородку и чуть раздвинув ступни, и принялась вытирать длинные густые волосы, подставляя их солнцу, лившему на землю свои теплые лучи; темные пряди водопадом струились по плечам, скрывая ее тело почти до пояса, виднелись лишь кончики грудей. Лицо купальщицы тоже было занавешено волосами, однако тонкие кисти рук и длинные изящные пальцы явно свидетельствовали о ее красоте. Лицо женщины действительно оказалось тонким и красивым, когда она подняла голову, ее светлая, довольно бледная кожа резко контрастировала с темной массой волос.
Она продолжала вытирать волосы голубым полотенцем, однако движения ее становились все более вялыми, а потом она совсем затихла, застыла и, предоставив солнцу возможность самому сделать эту работу, оперлась ладонями о покрытую лишайниками поверхность скалы, впитывая исходившие от нее тепло и жизненную силу.
Джин Мэннион сразу сумела приспособиться к жизни на ферме, находившейся на самой южной оконечности Африканского континента. Впрочем, ничего удивительного, особенно если вспомнить, что отец после смерти матери предоставил Джин полную возможность научиться вести хозяйство на почти такой же принадлежавшей ему ферме на реке Саби, в самом сердце охотничьих угодий Нижнего Вельда, куда он время от времени наезжал. Ее брат Джон, бывший на четыре года моложе, к его постоянному огорчению, почти ничего этого испытать не успел, ну а после смерти отца все поездки вообще прекратились. Через год она вышла замуж за Саймона.
Вспоминая о нем — вот как сейчас, у этой заводи, где они провели вместе столько счастливых минут, — Джин испытывала мучительную боль, сжимавшую горло так, что с уст срывался невольный стон, а на глазах выступали слезы. Она, как всегда сердито, смахнула их. Саймон умер, и она больше никогда его не увидит. Она вынуждена была все время напоминать себе об этом и стараться побыстрее переключиться на что-то другое. Ее муж погиб в результате несчастного случая: ехал на автомобиле и налетел на груженный лесом грузовик — именно в этот час, в этот день недели, ровно шесть месяцев назад, на шоссе, всего в нескольких километрах от их фермы.
Джин не знала, не потому ли она сегодня пришла к заводи, как бы в очередной раз проверяя себя, — ведь душевные ее страдания главным образом были связаны с тем, что время, вопреки всем ожиданиям, оказалось практически бессильно утешить ее боль. Она очень любила мужа, и теперь он всегда оставался рядом с нею, где бы она ни была.
Ферму он оставил ей. Джон Эвери, ее брат, вскоре после смерти Саймона тоже поселился здесь, и теперь сквозь его прежнее бесшабашное мальчишество проглядывала порой взрослость, пока что, впрочем, довольно комичная; но она помогла Джин преодолеть тот мрачный порог, что отделял ее от нормальной жизни, и постепенно вернуть прежний интерес к происходящему вокруг; вместе с этим постепенно вернулся и ее прежний, нечасто вспыхивавший легкий короткий смех.
Идея развести овец целиком принадлежала Джону, и, когда пять штук пропали, он страшно разгневался, решив, что животных просто украли. Но когда их цветной управляющий Генри Эппельс отыскал в кустах полуобглоданную ярку, Джон пригласил Япи Кампмюллера, владельца соседней фермы, тот сразу заявил, что это работа леопарда, и предложил поставить самострел.
Кампмюллер всегда заботился о них, точно добрый дядюшка. Именно он во время похорон Саймона нес покров для гроба. Его попросила об этом Джин, и Кампмюллер не забыл об оказанной ему чести, ибо Джин таким образом как бы публично признала его ближайшим другом покойного. С тех пор он взял на себя обязанность быть ей защитником, хотя и ничуть не изменил своей обычной грубовато-добродушной манере вести себя. Она раньше не была с ним близко знакома, воспринимая просто как соседа. Он вечно носил, казалось, одну и ту же рубашку цвета хаки и пропотевшую шляпу. Это был крупный мужчина с загорелым лицом, громким смехом и голосом. Даже для его роста руки, ноги и уши у него были слишком большие. Саймон уверял ее, что Кампмюллер далеко не так прост, как кажется на первый взгляд, однако их взаимное чуть ли не обожание все же оставалось тогда для Джин загадкой, хотя теперь она уже догадалась о причине этой любви. И еще она поняла, что Кампмюллер почти в два раза старше ее.
Их ферма в предгорьях Лангеберге занимала более шестисот гектаров и сменила уже немало владельцев. Почвы здесь были во всех отношениях бедные, и местные земледельцы любили перечислять, чего именно в них не хватает, часто споря друг с другом и восхищаясь, как это им удается все же с такой землей управляться, ибо большая часть фермеров в этом смысле оказывалась примерно в одинаковом положении.
Да, возделывать эту землю было трудно, но места здесь оказались красивые, а Джин вполне могла позволить себе заниматься фермой лишь с помощью чековой книжки.
Ее ферма, как и многие соседние, располагалась на равнине, протянувшейся с востока на запад между горами на севере и морем на юге. С гор сбегало множество речек и ручьев, которые прорыли узкие, с крутыми обрывистыми берегами овраги и ущелья, превратив равнину в этакие «американские горы», фантастическими изгибами тянувшиеся сквозь густые леса к побережью. Ручьи часто сливались друг с другом, и прорытые ими овраги тоже соединялись, перекрещивались и бежали дальше неровными зелеными волнами с проблесками пенноокрашенных скал в местах своих скрещений, а ручьи постепенно превращались в реки, лениво стекавшие в низменные эстуарии и впадавшие в море; порой они неторопливо несли свои воды над белым песчаным дном, а порой — неслись стремительным потоком и жадно лизали могучие контрфорсы скал. Густо заросшие деревьями расселины были похожи на разветвлявшиеся артерии, тянувшиеся от лесистого горного массива и снабжавшие равнину живительной силой, дабы дикие животные могли щипать траву, лакомиться молодыми побегами и рыться в земле на возделанных почвах по берегам рек.
На ферме Джин лишь с одного места можно было увидеть море, однако, когда дул западный ветер, рев океанских волн слышался постоянно и повсюду, подобно грохоту грома или далекой канонаде.
Побережье летом служило курортом для магнатов горнодобывающей промышленности и прочих богатеньких северян, и тогда десятки километров сверкающих песчаных пляжей усыпали купающиеся в бикини, ярких платках и халатах, купленных в Каннах или Сен-Тропе. Синие горы на горизонте и расстилавшиеся у их подножия леса служили для обитателей пляжей всего лишь театральным задником, на фоне которого покачивались в танце парочки и слышалось звяканье льда в стаканах. Стадный характер жизни курортников и стремление к комфорту мешали им проявить интерес к окрестным землям и их обитателям, особенно если это было связано хотя бы с малейшими неудобствами, а лес особого комфорта не сулил, как, впрочем, и горы, которые хороши были лишь в качестве декорации, как и большая часть мелких ферм с их небогатыми белыми или еще более бедными цветными хозяевами.
Когда обезьяны в первый раз вторглись в их старый фруктовый сад, Джин очень рассердилась и удивилась, но когда дикие свиньи и дикобразы вырыли у нее на грядках весь лук, она просто не сумела представить себе, что подобные дикие животные могут фыркать и рыться при лунном свете буквально у нее под окном. Ну а тот факт, что и обезьяны, и дикие свиньи могут служить добычей таким крупным и опасным зверям, как леопарды, она сочла вряд ли возможным в здешних местах; такое могло случиться разве что очень далеко, в северных районах огромного вельда, а потому Джин решила даже не задумываться на сей счет. Она, в общем-то, так и не поверила, что пять пропавших овец стали жертвой леопардов, и потихоньку, чуть ли не виновато, каждый раз проверяла, заперты ли на ночь собаки, чтобы их ненароком не подстрелили.
Солнце, казалось, уже утонуло на дне оврага, и птицы запели по-другому в ожидании сумерек. Где-то в подсознании Джин шевельнулась древняя память об опасностях, которые сулила близкая ночь; это был некий не совсем уснувший атавистический инстинкт, ибо, хотя солнце все еще горячо пригревало плечи, она чувствовала, что птицы уже зовут ее домой, а в кронах высоких деревьев затаились глубокие тени.
Джин резко вскинула голову и огляделась, как бы описав глазами полукруг слева направо. Потом одним грациозным движением вскочила, повернулась лицом к толпившимся у нее за спиной деревьям и принялась одеваться. А на другом берегу заводи, не более чем в тридцати метрах от Джин, самка леопарда, застывшая было при первых проявлениях жизни в неподвижной прежде человеческой фигуре на скале, снова припала к земле в зарослях колючего кустарника и не мигая глядела на молодую женщину, прижав уши и чуть покачивая хвостом.
Самка была озадачена поведением двуногого существа на скале. Его запах она помнила, однако этот запах перебивали какие-то другие, новые для нее ароматы, так что картина в целом не складывалась. К тому же со скалы не доносилось ни звука. Людские голоса были ей не в новинку, а за прожитые годы она научилась отлично распознавать те звуки, которые неизбежно следовали за резким запахом человека. Необычайно тонкий слух, свойственный леопардам, позволял ей расслышать любой шепот, или чирканье спички о коробок, или самое слабое звяканье металлического предмета, или легкий треск зацепившейся за колючку материи — такие звуки на расстоянии совершенно не способно воспринять человеческое ухо, — а потом она точно определяла источник звука и незаметно ускользала прочь. Удивительно ей было и то, что человек на скале был практически неподвижен. А теперь — как, впрочем, и всегда, если проявить должное терпение, — ее враг сам заявил о своем присутствии — начал двигаться и обрел конкретную форму. За спиной самка леопарда услышала тихое нервное шипение: это был ее двухлетний детеныш, который у нее из-за плеча тоже явно наблюдал за человеком, держась в двух шагах позади матери.
Девушка оделась, совершенно не подозревая о присутствии хищников, однако довольно поспешно, ибо солнце уже совсем ушло со скалы. Она перекинула полотенце через плечо, отбросила назад густые пряди влажных черных волос и двинулась вверх по тропе.
Самке леопарда недавно исполнилось семь лет, и если не считать шрама, срезавшего часть ее правого уха и заканчивавшегося небольшой лысинкой над правым глазом, то она была очень красива — мускулистая, с безупречно чистой, лоснящейся шкурой. Она была родом из старинного лесного племени, исключительно крупная. Почти черные пятна у нее на спине и на лапах ярко контрастировали с практически белоснежной шерстью на брюхе. Сейчас, когда последние солнечные лучи, проникая сквозь густую листву, светлыми зайчиками играли на земле под деревьями, среди черных теней и темно-зеленой листвы ее защитный окрас был поистине безупречен. Самка и ее совсем уже взрослый детеныш, ступавший за нею след в след, неторопливо и совершенно бесшумно поднялись вверх по склону, поросшему густым тенистым лесом. Зрачки их глаз теперь расширились и стали похожи на черные мраморные шарики; даже во мраке они способны были заметить мелькнувшую в сплетении корней под густым кустарником серую полевую мышь. Путь вел их все выше по крутому горному склону к одному из временных пристанищ. На вершине стало чуть светлее, меж стволами развесистых деревьев кое-где виднелось голубое небо. Здесь, среди валунов и скал, что скатились с нависших над головой утесов, еще сохранилось дневное тепло, да и торчавшие повсюду алоэ свидетельствовали о том, что сюда солнце заглядывает чаще и греет сильнее. Леопарды следовали друг за другом, точно одно странно-извилистое животное-призрак, и задержались лишь у подножия знакомого утеса. Здесь самка впервые подняла голову и настороженно посмотрела огромными глазами вверх — до этого она шла ленивой «прогулочной» походкой. Потом собралась, перестала нервно шевелить хвостом и без малейших усилий крупными прыжками двинулась вверх по неровной скалистой поверхности утеса. Вскоре она снова оказалась в тени нависшего каменного козырька на вершине, выше самых высоких деревьев. Через несколько мгновений к ней присоединился и сын. Какое-то время оба сидели рядом, глядя куда-то на тот берег оврага и прислушиваясь к звукам наступающей ночи.
Отношения самки с детенышем сохранились до сих пор скорее в силу привычки, а отнюдь не чрезмерной материнской привязанности. Он родился здесь, в этом самом логове, вместе с тремя прочими малышами — всего в помете было две самочки и два самца. В течение трех месяцев детеныши были совершенно беспомощными и лишь сосали материнское молоко, так что мать неутомимо охотилась то в верхнем, то в нижнем конце долины, а порой даже на самой вершине горного хребта, километрах в шестнадцати от логова. Однажды, когда пара черных орлов начала чересчур внимательно рассматривать детенышей сверху, она перетащила их в другое логово, находившееся на соседней горной гряде. Это оказалось нетрудно, однако заняло довольно много времени: нужно было дождаться темноты, чтобы орлы улетели прочь, в свои горы, а потом по одному перетащить детенышей, аккуратно держа их за шкирку, по узкой горловине — запасному выходу из логова наверх — через плоскую долину и темный лес внизу, а потом снова подняться высоко, к другому гнезду, которое она приготовила загодя. Каждый раз, когда она уносила очередного детеныша из своего все уменьшавшегося выводка, оставшиеся малыши продолжали счастливо играть, точно по каким-то неведомым часам определяя время до ее возвращения, когда знакомый силуэт матери внезапно заслонял собой вход в пещеру, принося долгожданный покой. Самка леопарда выбрала для этой «операции» ясную лунную ночь, зная, что враги ее, как правило, не слишком любят охотиться при луне; а уж ей-то хорошо были известны повадки тех, кого следовало считать врагом и ее детям, ведь кое-кто из них принадлежал к тому же племени, что и она сама.
Через две недели, после тщательной разведки, она перенесла свой выводок на прежнее место.
Чтобы малышам хватило молока, она охотилась, не зная жалости, и охота редко оказывалась неудачной. В тот год особенно расплодились дикобразы, и она стала чуть ли не специалистом по охоте на них, умудряясь уловить именно то мгновение, когда дикобраз наконец поворачивается спиной, чтобы послать в морду врагу заряд своих смертельно опасных игл; в этот миг она, извернувшись, и наносила дикобразу сокрушительный удар по голове. Дикобразы, любившие лакомиться нежнейшими корешками и луковицами диких растений, сами служили отличной пищей для маленьких леопардов, которые быстро росли. В последний раз самка убила для своего семейства крупного бушбока, и этой антилопой они питались целую неделю. Наконец, после сотен уроков, когда ее дети охотились на кузнечиков, лягушек, речных крабов, мышей и землероек, а порой — для отработки техники — даже на маленьких антилоп, воспитание молодых леопардов, которому она отдала столько времени, было завершено. Детеныши один за другим вдруг просто обнаруживали, погнавшись за мышью или куропаткой, что мать куда-то исчезла. В конце концов с нею остался лишь этот последний, с поразительным упорством продолжавший ходить за матерью по пятам. При желании она довольно легко могла бы удрать от него, однако прокормить одного детеныша ничего не стоило, а вскоре они уже охотились вместе и почти на равных.
По своему поведению молодой леопард ничуть не отличался от прочих представителей племени, однако кое-что в облике существенно выделяло его среди других леопардов: с головы до кончика хвоста он был черным как смоль. И казалось, что морда у него еще чернее, видимо, потому, что глаза особенно ярко выделялись на этом угольно-черном фоне.
Сейчас, когда закатные лучи просачивались сквозь листву, оставляя среди папоротников лужицы золотистого света, глаза его казались изумрудно-зелеными, но в ночной тьме, особенно при виде костра, они вспыхивали красным, точно угли. Итак, молодой леопард являл собой исключительно яркий образчик меланизма.
Встретившись теперь со своими детенышами, самка уже не признала бы их. Территория, где обитали они с сыном, принадлежала не только ей, однако благодаря сложному и взаимовыгодному расписанию проживавшие здесь леопарды, среди которых было и два совершенно взрослых самца, редко позволяли себе враждовать друг с другом, по крайней мере из-за охоты. Запах другого леопарда всегда позволял определить, когда именно и в каком направлении он прошел, и, подобно маякам в этом океане зеленых теней, сложная система своих и чужих запахов вспыхивала то красным, то зеленым огнем старинного языка предостережений.
Пока пищи было в достатке, охотничьи территории редко перекрывали одна другую; когда добычи стало меньше, пятнистые охотники стали совершать «радиальные» вылазки в разные концы своего района, и тонкую сложную систему взаимных ограничений и прав пришлось снова регулировать.
Успешно вырастить четверых детенышей сразу — случай редкий, большая удача; им очень повезло, ибо тот год оказался исключительно изобильным. В тяжелые времена удачей было бы сохранить и одного малыша. Однако даже этот единичный случай, когда в лесах у подножия гор одновременно подросли четыре молодых леопарда, неизбежно должен был нарушить здешнее равновесие, и если бы молодые самки впоследствии не ушли далеко от этих мест, в горы и даже дальше, их собственное потомство имело бы крайне мало шансов выжить.
Уже и сейчас чувствовалось, что дичи становится все меньше и меньше. Дикие свиньи давно уже исчезли из горных долин, расположенных между мысами-близнецами, и перебрались в более густые лесные массивы; бушбоки тоже стали чересчур осторожными, а мартышки и бабуины, казалось, пребывали в состоянии вечной сварливой ссоры.
Бурно увеличившееся людское население данного региона начало выходить за пределы, строго установленные нормами цивилизации, как то случалось уже множество раз во множестве других мест земного шара, и, как и всегда прежде, натиск цивилизации оказался не только решительным и безжалостным, но и еще более сократил старинные территории проживания диких животных.
Когда самка леопарда снова почувствовала тягу к самцу, ее отношение к сыну быстро переменилось. Она давно уже порыкивала на него и сердито замахивалась лапой, однако же лишь в тот полдень, когда огромный чужой леопард свирепо глянул на него и припал к земле на дальнем конце лесной прогалины, черный детеныш познал настоящий страх. Мать стояла в стороне, а взрослый самец пошел прямо на него с угрожающим раскатистым рыком, и черный бросился бежать.
Через некоторое время он, правда, снова отыскал мать в логове среди скал; она приветливо лизнула сына, и жизнь молодого леопарда вошла в привычную колею.
Никогда прежде самка леопарда не убивала овец. Она много раз оказывалась с ними рядом, и эти животные, пасшиеся на лугу у самой лесной опушки и не имевшие ни рогов, чтобы защитить себя, ни умения быстро бегать, при желании легко могли бы стать ее добычей. Но было в их запахе нечто, мешавшее ей на них охотиться, если хватало другой пищи. Молодой леопард убил первую из тех пяти овец, еще учась охотиться, а когда он оттащил тушку в заросли колючего кустарника, мать присоединилась к нему, и они за один присест съели почти целую овцу, не тронув лишь голову, копыта и шкуру. Мясо было вкусным, но вот шерсть, которую они сперва пытались как-то убрать с овечьего брюха с помощью языков, оказалась очень противной.
Сейчас, лежа рядом с сыном на устланном палой листвой полу пещеры, мать заботливо вылизывала его черную морду, и молодой леопард охотно ей подчинялся, зажмурившись и положив голову на лапы, как в детстве. Он весил уже почти шестьдесят пять килограммов натощак и, вместе с метровым хвостом, был два с половиной метра в длину, то есть по весу и величине почти догнал мать. Голова его с плотно прижатыми ушами, когда он с удовольствием подставлял морду ласковому шершавому материнскому языку, напоминала змеиную и с закрытыми глазами и расслабленной полуоткрытой пастью не казалась сейчас такой уж опасной и грозной.
В мягких лучах закатного солнца пещера, выходившая на запад, сияла розовым светом, отражавшимся от красного песчаника, и роскошная шкура самки выглядела великолепно.
На ее широкой спине, покрытой черными округлыми пятнами с сердцевинкой густого, рыжевато-желтого цвета, более темного, чем основной золотисто-коричневый фон, весь солнечный свет, казалось, собирался, а потом разлетался брызгами.
На плечах пятна были густо-черными и почти идеально круглыми, а сбегая вниз по лапам, приобретали сперва каплевидную форму, а потом превращались просто в продолговатые штрихи. Она лежала, приобняв одной передней лапой сына за плечи и уютно устроив его голову на второй своей передней лапе; рядом с ним длинная мягкая шерсть у нее на брюхе казалась удивительно светлой, почти белоснежной.
Последний солнечный луч, словно не желая никому уступать свою власть над царством красок, чуть задержался здесь, на высоком утесе, и вот в последний раз янтарным блеском вспыхнул в глазах самки леопарда, в последний раз высветил розовый лепесток ее языка, которым она вылизывала сына.
Сгущались сумерки, и самка встала, резко дернула хвостом и посмотрела вниз, в долину. Сын ее некоторое время полежал еще на спине, потом, желая снова привлечь внимание матери, несильно ударил ее лапой с убранными когтями по морде.
Однако негромкий трескучий рык самки заставил молодого леопарда тут же вскочить и встать с нею рядом в полной боевой готовности — уши торчком, — ожидая наступления ночи.
Они видели, как на том конце долины зажигались огни в окнах фермерского дома, слышали лай собак — все это было им хорошо знакомо. Вдали лаяла другая собака, чуть звенела гитара, гудели автомобили, но для леопардов эти звуки не имели особого смысла, разве что принадлежали они тоже миру высоких двуногих существ.
Долину давно уже затопило целое озеро тьмы; леопарды вместе поднялись по узкой горловине на вершину утеса и тут же растворились в лесном мраке. Теперь они испытывали настоящий голод, не зная, что ужин поджидает их под холодным недреманным оком ловушки-самострела. Ступая друг за другом след в след, они безошибочно продвигались по темному лесу к той большой поляне на вершине горы, где обычно паслись овцы. Не обращая внимания на рассыпавшуюся по лугу отару, они обошли пастбище по опушке леса и снова вошли в чащу чуть ниже небольшой плотины. Овцы на плотине белой волной шарахнулись прочь, только копытца застучали. Но тут проснулась парочка зуйков; птицы закружили над плотиной, громко протестуя скрипучими голосами, и тут же вдали залаяла, точно на что-то бесконечно и бессмысленно жалуясь, собака.
Леопарды не остановились и как будто бы даже ничего не заметили. Теперь они двигались быстро, низко припадая к земле, торчком стояли только их подрагивавшие уши, чутко отмечавшие любой, даже самый незначительный шорох, способный представить какой-то интерес. Потом хищники пошли медленнее, ступая совершенно беззвучно, и даже суетливый шепоток полевой мыши или шорох змеи, проползшей в сухой листве, тут же распознавался ими и соответствующим образом интерпретировался. Их мягкие передние лапы с чуть повернутыми внутрь подушечками сперва очень легко касались земли своей внешней стороной, а потом уже всей поверхностью.
Молодой леопард шел след в след за матерью, аккуратно ставя лапы так, чтобы на земле оставалась только одна цепочка следов. Едва ощутимый ветерок, чуть шевеливший тонкие шерстинки на ушах леопардов, сообщал им обо всех переменах в направлении основного, верхнего ветра, так что они могли подкрасться к добыче с подветренной стороны и совершенно незамеченными; усы на мордах, являвшие собой шевелящиеся пучки сверхчувствительных нервных окончаний, помогали с безошибочной точностью определить необходимую мощность прыжка и характер возможных препятствий. Будучи существами с необычайно острым зрением, слухом и фантастическим осязанием, леопарды весьма мало зависели от своего относительно слабого обоняния.
Они остановились там, где была оставлена убитая овца, озираясь и подозрительно нюхая воздух, но запах овечьей туши был знакомым, и он вел их прямо в ловушку, находившуюся в двадцати метрах от того места, где они стояли. Возле убитой овцы запах человека стал сильнее, но и в этом не было ничего нового. Самка много раз за свою жизнь посещала стоянки человека, не раз спокойно перешагивала через погасшие кострища и даже через совсем еще теплые угли и хорошо знала свойственные таким местам запахи — свежесрубленного дерева, табака, кофе. Случалось иногда, что там попадались и лакомые кусочки; однажды она нашла голову и ребра бушбока, а в другой раз — целую кучу вкусных косточек куропаток и цыплят.
Молодой леопард обогнул шалаш и зашел сбоку, почти волоча брюхо по земле и с отвращением подергивая хвостом, а его мать, припав к небольшому бугорку чуть выше по склону, наблюдала за ним и прислушивалась. Снова и снова выводил свою молитву козодой: «Помилуй нас, Господи!» — и скрипучий пронзительный голос его слышался в ночи далеко и отчетливо, доминировал над погруженной в молчание черной долиной, однако чуткий слух леопарда улавливал и множество иных звуков, каждый из которых нужно было определить и оценить. Самка почувствовала, как молодой леопард двинулся прочь, исчез за странной грудой веток, потом снова появился — очертания его головы едва заметны были на фоне ночного неба, потом осторожно проплыло длинное тело. Он подбирался к мертвой овце сбоку, спускаясь по склону холма, чтобы потом легче было тащить ношу вниз, к тому же здесь, возле странной кучи веток, торчало молоденькое деревце, которое удобно было использовать в качестве рычага, чтобы поддеть тушку.
Леопард уже почти достиг своей цели, когда ночь вдруг взорвалась. Незащищенные глаза его матери, резко сузившись, успели все же заметить слабый свет звезд над абсолютно черным колодцем тьмы в лесной долине, языки пламени, взметнувшиеся из этой тьмы и на мгновение высветившие каждый листок, каждую веточку вокруг, а потом она почувствовала в голове резкую боль. Прежде чем, повинуясь инстинкту, броситься огромными прыжками вверх по склону, она увидела, как ее детеныш перекувырнулся в воздухе и с треском упал куда-то в заросли. Она сломя голову мчалась прочь сквозь колючий кустарник, а эхо от выстрелов все еще плавало раскатами над долиной. Через полчаса самка была уже в безопасности, в пещере под скалой, и ее заботило только одно: она по-прежнему испытывала голод.
На том конце долины все еще светился желтый прямоугольник окна в фермерском доме, да та же собака продолжала лаять с подвывом где-то вдалеке. Самка леопарда улеглась и стала ждать сына. Шорох покатившегося вниз камешка в темноте заставил было ее напрячься, но она быстро расслабилась снова, поняв, что это молодой леопард поднимается по склону.
И все-таки что-то было не так: он двигался странной неуклюжей походкой, не похожей на прежнюю. Кроме того, она почувствовала запах крови и невольно вся напряглась, а губы сами собой обнажили клыки в безмолвном рычании. Молодой леопард с трудом поднялся на утес и тут же стал вылизывать раны. Мать наблюдала за ним из-за угла пещеры. Немного привыкнув к заглушавшему все остальное запаху крови и страха, она наконец приблизилась к сыну и принялась помогать ему зализывать зияющую рану, тянувшуюся от правой лопатки по ребрам до подбрюшья. Молодой леопард подчинился ей и осторожно лег, уронив голову на лапы и глядя во тьму удивленно моргавшими глазами, смущенный и ослабевший от потери крови.
Заряд картечи, с грохотом и пламенем взорвавшийся перед ним в ночи, пролетел не более чем в пятнадцати сантиметрах от его головы, лишь поранив плечо и бок. Ему здорово повезло, что он подбирался к заветной цели сбоку. В любом другом случае картечь угодила бы ему прямо между лопатками. И все-таки рана оказалась довольно глубокой и сильно кровоточила; собственно, это были даже несколько рваных ран, слившихся в одну. Но куда серьезнее была повреждена задняя лапа, хотя эту рану, по крайней мере, он мог достать языком.
Подобравшись к овце, он как раз поднял эту лапу, прижав ее к правому боку и собираясь опустить на деревце, выполнявшее роль рычага, когда прогремевший выстрел оторвал ему пальцы и чуть ли не половину ступни.
К рассвету самка стала беспокойной. Она мерила быстрыми нервными шагами площадку перед логовом, издавая пронзительные стонущие звуки, которые странно походили на мяуканье обычной домашней кошки, только куда более мощное.
Наконец она что-то коротко и ворчливо прохрипела, точно тупая пила, в последний раз оглянулась на логово и стала подниматься вверх по узкой каменистой горловине навстречу блекнувшим звездам, толпившимся над вершинами далеких гор. Самка уходила одна. Она торопилась. Вскоре ей предстояло произвести на свет малышей, и инстинкт гнал ее вперед, в безопасное место, со свирепой настойчивостью, не позволявшей вспоминать о прошлом. Даже память о ловушке почти погасла; наоборот, воспоминания об огненной вспышке во тьме, об ужасном грохоте, о кровавом следе, который вел к ее логову, и о раненом молодом леопарде теперь означали только одно: там опасность! А сейчас для нее не было ничего более важного, чем спасти и сохранить те новые жизни, которые она носила в себе.
Лишь один раз, решив передохнуть и прислушаться, черный леопард перестал вылизывать раны и услышал зов матери — далеко, на склоне соседней горы; ее глубокое, похожее на кашель рычание звучало как приказ застывшему от ужаса ночному лесу хранить абсолютное молчание, и лес подчинился.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Пробуждение от ленивого сна на свежем воздухе — одна из малых радостей жизни, которую слишком часто либо не замечают, либо считают просто недоступной в тех местах, где человек воображает себя чрезвычайно занятым «полезным трудом». Лежать на мягкой лесной траве, слушать негромкий рокот моря и видеть над собою густую зеленую листву, пронизанную солнечным светом, а потом позволить себе соскользнуть в легкий поверхностный сон и плыть в нем, подобно рыбе в теплой мелкой заводи… Такой сон никогда не напоминает погружение в холодные темные глубины вод, где тебя могут подстерегать всякие неведомые кошмары; после такого сна человек просыпается с улыбкой на устах.
Именно так и случилось; он улыбнулся и вытянулся на спине; ноги, раздвинутые в стороны, торчали наружу; сухие листья шуршали у самого лица. Он полежал так минутку, улыбаясь и щурясь от удовольствия, как кот, потом быстро сел, выбросив вперед руки, вскочил и бросился бежать вниз по тропинке, почти не разбирая пути, точно спасающееся от преследователя животное или опытный танцор, у которого рассчитан каждый прыжок. Последний отрезок тропы, где она, извиваясь, спускалась к желтому песчаному берегу маленькой, укрытой среди скал бухточки, был значительно круче, и здесь он шел осторожно, порой в поисках равновесия хватаясь за выступ скалы или за сучковатую кривую ветку, а один раз даже остановился, любуясь безбрежным океаном, простиравшимся до самых ледяных торосов Антарктики на многие тысячи миль к югу. Он смотрел на вспухавшие ряды волн, мчавшиеся к утесам, величественные громады, взрывавшиеся хлопьями белой пены и грохотом прибоя после финального броска на черные скалы. С наслаждением полюбовавшись морем, он спрыгнул вниз, прямо в последнее солнечное пятно на берегу, и быстро прошел по коридору речного ущелья, густо заросшего деревьями с темно-зеленой листвой, к своему лагерю.
Пещера, в которой он поселился, была отлично расположена и недаром выбрана в качестве жилища ее многочисленными предшествующими обитателями. Она была не слишком глубока, а потому довольно хорошо освещена солнцем даже в эти послеполуденные часы. У одной из ее стен бил небольшой родничок, и вода стекала по заросшему мхом и папоротником-адиантумом в естественный, выдолбленный в камне резервуар, а стена деревьев перед входом отлично загораживала от ветра. Было приятно, испытывая душевное волнение, отыскать где-нибудь в куче мусора старую косточку и думать, что когда-то давным-давно, может быть тысячу лет назад или больше, другой человек сидел на этом же самом месте и слушал тот же морской прибой и, возможно, то же тихое журчание родничка, даже не представляя себе, что в мире есть и другие народы, и безоговорочно считая лишь собственный народ хозяином и высшим смыслом мирозданья. Однако теперь внутренний вид пещеры стал иным. В углу, под выступом скалы, стояла раскладушка, аккуратно застланная серым одеялом с подвернутой простыней и подушкой в белой наволочке.
Выступ над нею занимали рюкзаки, керосиновая лампа, коробки с едой, котелки и сковородки, а на полу у выхода был устроен очаг, аккуратно обложенный камнями, возле него стоял походный столик, три складных матерчатых стула, керогаз и рашпер. Центральная часть пещеры почти вся, насколько это оказалось возможно, была выложена кусками плавника, подобранными на берегу; некоторые куски дерева явно сохранили еще остатки белой и синей краски и корабельного свинцового сурика.
На столе лежала аккуратная стопка страниц с отпечатанным текстом, прижатая сверху каким-то древним каменным орудием с дыркой посредине, теперь выполнявшим функцию пресс-папье, а рядом со стопкой бумаги виднелся буклет, на обложке которого было написано: «Клиффорд Тернер, бакалавр. Заметки о южноафриканском леопарде». У стола, на двух прямоугольных чурбачках, пристроилась портативная пишущая машинка, а рядом — портфель с именной табличкой:
«К. Б. Тернер». Клиф положил книгу на стол, присел на корточки и, насвистывая сквозь зубы, принялся укладывать растопку для очага. Он был высокий, худой, широкоплечий; впрочем, широкие плечи только подчеркивали его худобу, как и вылинявшие голубые джинсы, тяжелые ботинки и болтавшаяся на нем охотничья рубашка цвета хаки с расстегнутыми пуговицами. Когда дымок над кострищем стал завиваться кольцами, Клиф повернулся и посмотрел на заходящее солнце; в ярком свете трехдневная щетина на его довольно-таки крепком подбородке вспыхнула червонным золотом, как и рыжеватая шевелюра — длинная, роскошная грива до плеч. Однако из-за небритых щек и слишком густого загара он казался старше, чем был на самом деле.
Клиф Тернер никогда не отнес бы себя к «привилегированным» молодым людям, описывая свой жизненный путь, и все же однажды ему пришлось весьма серьезно задуматься над этой проблемой после спора с приятелями из Кейптаунского университета и постараться отыскать более четкое определение собственной жизненной позиции. Случилось так, что они, все шестеро, были англоязычными южноафриканцами в четвертом поколении. Они не раз уже обсуждали тот факт, что чисто случайно оказались белыми, имели неплохую материальную поддержку со стороны вполне обеспеченных родителей, и теперь у них возникло желание по мере возможностей оправдать возложенные на них надежды всего южноафриканского сообществ, то есть всех — чернокожих, цветных и белых — граждан ЮАР. Уже сам по себе этот факт, а также их потребность дать рационалистическое объяснение некоторым явлениям в жизни их страны были, видимо, результатом политики Южной Африки, а не просто обычным студенческим стремлением к равноправию. Это было конечно же проявлением горячего желания как-то восстановить равновесие в обществе и чувства вины за собственное благополучие перед лицом вечного бесправия и неприкрытой нищеты.
Во время срочной службы в армии он очень много читал — для чтения там были и время, и возможности — и при этом умудрялся не казаться другим ни чокнутым, ни букой. Отшельник по природе, он тем не менее пользовался среди солдат всеобщим расположением, потому что — по крайней мере внешне — производил впечатление всегда веселого и физически сильного человека и к тому же никогда не афишировал своего пристрастия к чтению и любимым авторам. Это были главным образом современные зоологи и философы. Клифа чрезвычайно занимали мысли о месте и ответственности человека как представителя животного мира перед прочими обитателями столь небольшой территории, как земной шар, и он во многих отношениях благодарил судьбу за то, что живет именно в Южной Африке: это было интересно как с географической точки зрения, так и с точки зрения зоолога, имеющего возможность изучать поведение редких животных и людей в «полевых условиях».
Ни на минуту не забывал он и о том, что является представителем «потерянной» группы населения ЮАР, подозреваемой во всех грехах, однако же совершенно бессильной и одной из самых малочисленных среди белого меньшинства — того англоязычного населения этой страны, чьи предки так много сделали для ее благополучия и когда-то пользовались безграничной властью над нею и своими соотечественниками, включая африканеров.
Когда огонь в очаге как следует разгорелся, Клиф сел на матерчатый походный стул и принялся протирать свой спиннинг промасленной тряпкой. Конечно, нельзя было оставлять снасти на берегу, да еще ниже уровня прилива, — теперь в спиннинге было полно песку!
Он прожил здесь уже больше года, и его знали — хотя бы понаслышке — очень многие местные жители. Он получил достаточно щедрую субсидию для своих исследований и сумел собрать поистине удивительный материал о жизни леопардов на самом юге Капской провинции, на территории площадью более пяти тысяч квадратных километров, где имелись в достатке и леса, и горы. Его деятельность имела довольно широкий резонанс, и далеко не все реагировали на нее положительно. Среди настоящих фермеров, не считая всякую мелочь и арендаторов, отношение к его исследованиям было исключительно разнообразным — от явной расположенности до удивления и даже враждебности. Члены местных клубов любителей птиц и животных воспринимали его с вежливым ужасом — ведь эти люди, по большей части уже пожилые, даже орла в небе рассматривали только в бинокль и расценивали как нечто чрезвычайно далекое от реальной действительности и способное лишь нарушить их давно застывшие представления о «дикой природе». Многие из них охотно поверили бы, что леопарды давным-давно перевелись в этой местности, как исчезли отсюда некоторые африканские антилопы и буйволы.
Тернер старался не показывать на людях пристрастного отношения к предмету своих исследований, однако в глубине души всегда испытывал особую симпатию ко всем крупным кошкам, особенно к леопардам. Он все больше склонялся к мысли о том, что именно здесь, в узкой полоске прибрежных лесов, зажатых между морем и горами, несмотря на бесчисленные паркинги, отели и чрезмерную «окультуренность» местных красот, давно облюбованных туристами, в государственном заповеднике еще сохранилось некоторое количество леопардов, которые чувствуют себя здесь по-прежнему дома и ведут так, как и должны вести себя эти крупные хищники.
Истрепанная карта мира, на которой были отмечены места распространения леопардов, гласила, что на сегодняшний день в данной местности сохранилось в лучшем случае всего несколько особей, а то и вообще ни одного животного, так что порой Тернер сам себе казался кем-то вроде исследователя земных недр, открывающего новые и неизведанные богатства.
Он предпочитал по возможности работать в одиночку и подальше от чужих глаз; очень немногие из его коллег в ЮАР — Да и, пожалуй, во всем мире — лучше него разбирались в тонкостях наблюдения за леопардами, этими искусными ночными охотниками, самыми загадочными из всех кошек, особенно в такой пересеченной местности со множеством оврагов и ущелий, склоны которых заросли густыми, непроходимыми лесами и кустарниками. Двое помощников Тернера — цветные, результат смешения африканских готтентотов и людей с белой кожей — порой ночевали в сарае на дальнем конце лесной дороги, прямо над его пещерой; там помещался также «лендровер», запасы бензина, инструменты и кладовая для фотооборудования.
Тернер мало-помалу отработал систему отслеживания ночной жизни леопарда с помощью фотосъемки. Каждый его фотокомплекс состоял из двух фотоаппаратов со вспышками, которые срабатывали от фотоэлемента с инфракрасным приводом. Батареи фотоэлемента могли действовать почти год, так что при помощи этой аппаратуры он накапливал поразительные материалы о поведении леопардов, а также целую портретную галерею этих животных. У него уже были четкие цветные снимки девятнадцати вполне легко отличимых друг от друга хищников, и все пять его фотокомплексов — каждый из двух дорогих спаренных фотоаппаратов — работали отлично. Он мог быть вполне доволен достигнутыми успехами в осуществлении своей исследовательской программы.
Когда возникали хоть какие-то сомнения в том, какое животное на сей раз попало в кадр — уже известное или новое, он всегда подходил к этому вопросу с осторожностью. Иногда получались фотографии, напоминавшие скорее увеличенный снимок странно длинного и даже как будто отдельно существующего хвоста; или сверкающих клыков в широко открытой пасти; или исчезающих в зарослях задних лап и крупа с давно уже зажившим двойным шрамом. В таких случаях второй аппарат, видимо, по большей части не срабатывал, но Тернер потихоньку отлаживал свою систему, а также шаг за шагом открывал для себя, что эти звери отличаются друг от друга, так же как и люди, — размерами, окрасом, особыми приметами и даже поведением.
Случайные срабатывания аппаратов происходили все реже, так что теперь другим животным, в том числе важным древесным соням, редко удавалось нечаянно включить приводной механизм и вызвать никому не нужную вспышку яркого света, но иногда все же случалось, что его камеры «щелкали» антилопу или барсука, кабана, виверру или рысь. Однажды он даже получил четкий, с хорошо видными подробностями снимок затылка человека, явно крадущегося и напряженного, и понял, что далеко не всех пропавших овец следует относить на счет леопардов или бродячих собак. Он не стал показывать эту фотографию своим помощникам, считая, что поведение людей — это не его епархия. Кроме того, он был уверен, что слепящая вспышка — вполне достаточный деморализующий фактор, который наверняка заставит ночного бродягу лишний раз подумать, прежде чем вновь отправиться воровать. Внимательно изучив этот снимок с помощью лупы, он был озадачен: человек тащил не только явно тяжелый рюкзак, но и чемодан! Весьма странное место и время для одинокого прохожего, да к тому же с громоздким чемоданом в руках! Рюкзак был из дорогих. Обе руки человека скрывала листва, и Тернер не был уверен, чернокожий это или белый.
В первую очередь с утра его команда проверяла фотоаппараты, переставляла и перезаряжала те, которые нужно было установить в другом месте в соответствии с заранее продуманным планом. Здесь, среди бесчисленных речных ущелий, сделать это было не так просто, и порой целый день уходил на установку лишь одного фотокомплекса. Приходилось с топором в руках расчищать тропу до нужного места — иногда более километра, — потом устанавливать и настраивать тонкое фотооборудование, потом готовить особым образом ароматизированную приманку, потом включать вспышку и фотоэлемент с инфракрасным приводом, и только после этого можно было вернуться к «лендроверу» — и все повторить сначала в другом месте. Однако полученные результаты превзошли самые оптимистические его надежды. Благодаря этой аппаратуре он не только вел полевые наблюдения за жизнью леопардов, но и составлял подробную перепись всех проживающих здесь особей. И больше всего его при этом радовало то, что ни одно животное ни разу не пострадало — уж в этом-то он был уверен.
Почти каждый день он заезжал в контору местного лесничества, находившуюся в десяти километрах от его «штаб-квартиры» в пещере. Благодаря имевшемуся телефону домик лесничего служил для Тернера и почтой, и местом сбора различных сообщений о леопардах с окрестных ферм. Вся эта система действовала отлично. В первое время фермеры, жившие на границе государственного лесного заповедника и горного массива, воспринимали телефон Тернера как передаточный пункт для собственных жалоб, надеясь, что так их скорее услышат в коридорах власти. Однако когда обнаружилось, что на самом деле Тернер леопардов любит или по крайней мере не желает им вреда, количество сообщений об этих хищниках стало уменьшаться. Впрочем, к этому времени он уже успел подружиться со многими здешними жителями; к тому же, что гораздо важнее, благодаря врожденной дипломатичности и владению английским и африкаанс он постепенно закладывал в их души представления об экологии и бережном отношении к ней, и это начинало доходить даже до самых невежественных и отсталых людей. И все же леопарды по-прежнему считались убийцами овец и — в какой-то степени — источником потенциальной опасности для людей — короче, проблемным животным для сотрудников Департамента по охране дикой природы. Но у Тернера страх вызывали только сообщения о тех случаях, когда леопард попадал в ловушку-самострел, ибо раненый леопард — один из самых опасных зверей на свете.
Тернер всегда испытывал странную смесь страха, жалости и долга, понимая, что не сможет не участвовать в поимке или убийстве такого зверя и будет внимательно следить за каждой неясной тенью своими слабыми глазами человека, ни в какое сравнение не идущими со зрением этого хищника, и готовить свое жалкое оружие для последнего неизбежного выстрела. За то время, что он прожил здесь, подобный случай был только один, но ему хватило с избытком. Тогда они с егерем обнаружили лужицу крови у самострела и пустили вперед собаку.
Дворняга пошла нехотя, шерсть у нее на загривке встала дыбом. Зеленые сумрачные коридоры густого леса тянулись во все концы и приводили в итоге в непроходимые заросли колючих кустов, в мешанину корней и веток. Вдруг собака бросилась назад, поджав хвост, а еще через мгновение по земле уже катался рычащий клубок из желтой и черной шерсти.
Выстрел Тернера оглушительно прогрохотал в замкнутом лесном пространстве. Они жизнью своей были обязаны собаке, но собака была уже мертва.
Клиф свернул на обсаженную дубами аллею, ведущую к лесничеству, и поставил «лендровер» возле дома.
Жена лесничего, женщина все еще привлекательная, с очень темными волосами и фиалкового цвета глазами, уже начинала седеть и располнела. Она весьма болезненно относилась к проблеме собственного веса, и Тернер, хотя и знал, что Полли конечно же не сбросит ни грамма, всегда уверял ее, что она немного похудела. Он как-то видел ее мать и сразу же понял, что сражение с весом явно уже проиграно, по крайней мере с точки зрения генетики.
Сейчас Полли стояла к нему спиной и причесывалась перед висевшим на стене зеркалом. Когда он резко распахнул дверь, со стола с шелестом разлетелись по комнате листки бумаги.
Она обернулась, гневно сверкнула глазами — особенно свирепый вид придавала ей большая заколка, зажатая в зубах, — и снова отвернулась к зеркалу, продолжая укладывать волосы в прическу.
— Ты меня испугал! — заявила она обвиняющим тоном.
Голос ее звучал глухо из-за заколки во рту.
— Извини, Полли. Я не хотел. Просто задумался. — Он помолчал, потом спросил: — А Майк где?
Она застыла, по-прежнему глядя в зеркало, потом молча пожала плечами; было заметно, что она чем-то расстроена, и все-таки Тернер удивился: обычно она разговаривала с ним очень доброжелательно, с материнской заботой.
— Эй, — мягко окликнул он ее, — в чем дело? — И легонько обнял за плечи, но она вывернулась.
Он принялся молча собирать бумаги.
— Звонил Джон Эвери, — помолчав, сказала Полли, не глядя на него. Потом прошла через комнату к маленькому столику, где на газовой плитке стоял голубой кофейник.
— Джон Эвери? Что ему было нужно?
— Он вроде бы ранил леопарда. Просил тебя позвонить.
Тернер резко вскинул голову и внимательно посмотрел на Полли, пытаясь понять, не шутит ли она.
— Черт! — вырвалось у него с неожиданной горячностью. — Вот идиот! — Глаза его сверкнули. — Неужели правда? Вот кретин! Ох уж этот Джон! Не знаешь, что там у него произошло?
— Ну вот что, — сухо заметила Полли, — меня всего лишь просили передать тебе, вот я и передала. И нечего тут орать, черт возьми!
Тернер вскочил и принялся мерить шагами небольшую комнату.
— Извини, Полли, это просто… Ну, не обращай внимания! — Пробегая мимо стула, на котором она сидела, он погладил ее по плечу. — Они конечно же поставили самострел! Что же мне раньше-то в голову не пришло! А его драгоценные овцы — просто баловство, дорогое хобби. Было бы куда выгоднее завтра же продать их всех — все равно они глистами заражены.
Хотя деньги-то ему, в общем, не очень нужны.
Полли ложечкой накладывала растворимый кофе в чашки.
Потом все-таки улыбнулась:
— Да не волнуйся ты так, Клиф. Выпей кофе.
Тернер, со свирепым видом крутивший диск телефона, кивком поблагодарил Полли и назвал невидимой телефонистке нужный номер. Потом повесил трубку и присел у краешка стола, прихлебывая кофе и хмурясь.
— Наверно, тебе придется пойти и посмотреть, в чем там дело? — спросила через некоторое время Полли.
Тернер вздохнул.
— Наверно, — ответил он. Потом прибавил чуть спокойнее и словно размышляя вслух: — Все-таки чистейшее свинство со стороны Джона! Клянусь, старый Кампмюллер тоже свою руку к этому приложил. Очередная забава! Так и знал, что Джон еще какую-нибудь глупость сотворит. А эти его овцы все равно подохнут: они прямо-таки начинены глистами.
— Об этом ты уже говорил, — ровным голосом перебила его Полли. — Но ведь раненый леопард очень опасен, правда?
А как же теперь тамошние жители?
— Да, уж теперь-то он точно станет опасным! — Клиф помолчал. — Впрочем, он мог и погибнуть.
Полли поставила чашку на столик.
— Слушай, с чего ты так помешан на этих леопардах? — спросила она с раздражением. — Что в них такого особенного?
Тернер некоторое время молча смотрел на нее, потом загадочно усмехнулся.
— Наверное, ты права. Я действительно на них помешан.
Можно мне еще кофе? — Он немного помолчал. — Знаешь, кругом все рушится, Полли, а я просто стою на страже всякой жизни, и больше ничего. В этой стране и без страха перед леопардами предрассудков хватает.
Она передала ему полную чашку.
— Ах ты rooinekke1 — сказала она. — Смешные вы, англичане, все-таки!
Он снова помолчал, глядя на нее, чуть наклонив голову и улыбаясь. Потом сказал:
— Давай не будем о политике, хорошо? У меня сегодня не то настроение.
Прямоугольник двора был залит солнцем; стена ближайшего строения казалась ослепительно белой. Клиф выглянул из распахнутой двери: в тишину офиса вдруг ворвались звуки добродушной беседы, смех и хруст гравия под ногами. Потом появились двое цветных мужчин с рюкзаками за спиной; их черные поношенные куртки были засунуты под лямки рюкзаков. Говор и смех слышались еще долго после того, как оба скрылись за домом. Вдали визжала циркулярная пила, потом, словно подражая ей, резко завопил попугай, подзывая подругу.
Оба помощника Тернера по-прежнему о чем-то беседовали, сидя в «лендровере».
— Когда Майк должен вернуться? — спросил Клиф.
Полли оторвала взгляд от чашки и, казалось, не сразу поняла его вопрос.
— Он тебе действительно нужен? Или ты просто из вежливости беседу поддерживаешь? Он большой дурак, этот твой Майк! Ушел на весь день, ну и пусть, так даже лучше!
Тернеру очень захотелось поскорее убраться отсюда, но телефон молчал. Полли по-прежнему сидела, уставившись в чашку, и терла лоб пальцами, так что глаз ее видно не было.
Потом он заметил, как рядом с носом по щеке у нее сбежала слезинка, осторожно выскользнул из-за стола, подошел к ней и нежно обнял за плечи.
— Ну, в чем дело? — сочувственно спросил он.
Она только головой помотала. Потом накрыла ладонью его руку и пробормотала глухо:
— Ни в чем. К тебе, во всяком случае, это никакого отношения не имеет.
В тишине звонок телефона прозвучал особенно резко, точно разорвав паутину солнечных лучей с повисшими в ней пылинками. Тернер с облегчением снял трубку.
— Это ты, Джон? Да, я здесь, в офисе.
Он слушал Джона, глядя, как Полли сморкается и вытирает глаза. Потом спросил:
— Что у вас за самострел? — И нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. — Я имею в виду ружье, парень, — что там у тебя: винтовка, дробовик — что? — Помолчав, он хмуро сказал: — Так, двенадцатый калибр. Ну ладно, иду. Ты уже сообщил Полу Стандеру? Да? Ну и где он? О, черт побери!
Когда же он вернется? — Снова помолчав, он сказал: — Ты лучше все равно оставь ему записку.
Он положил трубку и некоторое время неподвижно сидел на краешке стола, опершись руками о столешницу. В солнечных лучах его обнаженные до локтей руки будто светились золотистым светом. Он подождал, пока Полли, явно сгоравшая от любопытства, поднимет глаза и посмотрит на него. Ждать пришлось недолго. Она еще разок шмыгнула носом и вытерла слезы.
— Послушай, — попросил он, — передай, пожалуйста, Майку, как только он вернется: там недалеко от дороги есть сухой кладрастис, возле площадки для пикников. Он еще немного дымится — видно, сборщики меда подожгли. Майк сразу дым заметит. А может, ему записку послать? (Она кивнула.) Не забудешь?
Полли свирепо сверкнула глазами и негодующе поцокала языком.
— Да скажу я ему, скажу! — И с мрачным видом прибавила: — Мне и еще кое-что ему сказать нужно.
Клиф улыбнулся. Он много раз был свидетелем их семейных баталий и неизбежных примирений, так что относился к ее угрозам с юмором. Он встал и, минутку помедлив, сказал:
— Спасибо за кофе, Полли. Я, наверное, уже говорил, какие у тебя прелестные глаза?
Она снова поцокала языком, но теперь уже не так сердито, и даже чуть изогнула губы в усмешке, а потом вскинула на него свои огромные глаза, фиалково-синие, сверкавшие от только что пролитых слез.
— Совершенно прелестные! — подтвердил он. — Ты мне удачи пожелаешь?
— Удачи? С какой стати? — Она озадаченно нахмурилась. — Ах да, леопард… Ну хорошо, желаю удачи, если она тебе нужна.
Однако, садясь в «лендровер», он озабоченно и печально хмурился. Глянув на часы, он прикинул, сколько потребуется времени, чтобы сперва подбросить до дому своих помощников, потом взять ружье и заставить себя заниматься тем, что для него во всех отношениях было абсолютно противоестественно.
Не говоря уж о том, что охота предстояла очень опасная.
— Если она тебе нужна… — пробормотал Клиф. Он был зол на Джона Эвери, на Кампмюллера и даже на собственного приятеля егеря Пола Стандера — за то, что того не оказалось на месте.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Следуя друг за другом по пятам, Клиф Тернер и Джон Эвери вошли в лес, двигаясь максимально осторожно. На опушке деревья росли некрупные и редкие — так сказать, передовые отряды, выдвинутые для того, чтобы снова захватить те земли, которыми лес некогда владел; здесь повсюду виднелись пышные побеги экзотических растений, окружавших пни, оставшиеся после предыдущей борьбы за землю, ну и, разумеется, все заполонил вездесущий колючий кустарник.
Земля была сухой и пыльной, кое-где лежали кучки опавшей листвы. Чем дальше в лес, тем влажнее и темнее становилось вокруг, и вскоре деревья полностью заслонили от Клифа и Джона луг и овец, пасшихся на нем в дрожащем мареве полуденной жары. В лесу оказалось тише, чем на лугу, лишь изредка слышался крик птицы то дальше, то ближе, и Тернер, шедший позади, был рад, что даже ветерок не шуршит в ветвях деревьев над головой, а уж сильный верхний ветер обязательно вызвал бы их постоянное меланхоличное поскрипывание и постанывание, вполне способное заглушить все прочие звуки, не говоря уж о хриплом дыхании леопарда, готового к прыжку.
Когда они добрались наконец до ловушки, глаза их совсем привыкли к лесному полумраку. Здесь три дворняги, позаимствованные Эвери у работников с фермы, начали проявлять страх, и впервые Тернер окончательно поверил, что они на самом деле имеют дело с леопардом, а не просто со стаей одичавших и занимающихся разбоем собак. «М-да, — размышлял он, — видно, овцам на юге Африки просто не суждено оставаться в живых, ведь не только леопарды, но и прочие многочисленные здешние обитатели — барсуки, сервалы, рыси и даже бабуины и дикие свиньи — были не прочь полакомиться мясом этих слабосильных существ». Собаки приплясывали возле шалаша, точно земля здесь была слишком горяча и жгла им лапы. Они больше не виляли тощими хвостами, а, принюхиваясь к запаху палой листвы и отвратительного и одновременно притягательного следа зверя, вытягивали морды и шеи, точно пытаясь уберечь само тело от опасности.
Тернеру было ясно, что на этих собак надежды мало, разве что — и он очень на это рассчитывал — они отвлекут внимание леопарда, если тот вздумает напасть.
Заряд картечи превратил в лохмотья ветки и листья на крыше шалаша, в котором лежала приманка, и трудно было представить, как такой крупный зверь остался в живых, засунув голову и плечи прямо в ловушку. На земле перед входом в шалаш валялись клочки окровавленной шкуры с черной короткой шерстью, комья земли и два почти целых когтя.
Мужчины молча присели на корточки, разглядывая эти печальные свидетельства. Говорить, собственно, было не о чем.
Войлочная шляпа Джона Эвери зацепилась, когда он выпрямился, за колючую ветку и повисла у него над головой уже во второй раз за это время. Тернер посмотрел, как Эвери ловит свой несносный головной убор, однако даже не улыбнулся. Очень осторожно по едва заметной тропке, вьющейся среди колючего кустарника, он двинулся вниз по склону холма.
Эвери — за ним. В зарослях аронника они обнаружили новые следы: здесь явно лежал кто-то тяжелый, и вокруг было множество кровавых пятен. Капли крови остались и на зеленых листьях; они казались совсем свежими. Люди медленно пошли по кровавому следу дальше.
Примерно через час Тернер остановился и принялся разминать пальцы правой руки, лежавшие на спусковом крючке, — их буквально свело от напряжения. Джон Эвери тяжело дышал ему в затылок, а вот собаки куда-то исчезли. Кровавый след тянулся дальше, однако стал менее заметен. Клиф снова перебирал в уме возможные объяснения складывавшейся ситуации. В самом начале было совершенно ясно, что леопард или может лежать мертвым неподалеку от ловушки, или же, наоборот, успел отойти достаточно далеко, однако все равно умирает; или же он был ранен относительно легко и теперь поджидает своих преследователей. Тернер начинал склоняться в пользу последнего вывода, поскольку крови на земле и листве становилось все меньше. Кровавые следы на ветках и узловатых корнях деревьев указывали, скорее всего, на то, что зверь специально терся о них плечом или боком, пытаясь уменьшить боль от довольно глубокой, но, видимо, не слишком серьезной раны. Через некоторое время они обнаружили кровавый отпечаток лапы на широком листе лилии. Если вспомнить, под каким углом леопард проник в ловушку, то он никак не мог избежать попадания картечи, даже если ранение оказалось относительно легким, ибо при любом другом раскладе его просто убило бы на месте. Неужели, размышлял Клиф, ему оторвало лапу? Но тогда было бы куда больше крови, и ее трудно было бы остановить, даже если бы зверь часто и тщательно вылизывал рану. Тернер пытался представить себе, как раненый леопард бежал через темный лес, замечая, что его кровь крупными каплями падает на траву и листья подлеска. Клифу казалось, что он даже слышит тот легкий шорох, с которым капли крови падают на сухую листву.
Огромная кошка пробегала здесь, молча, не веря в спасение и все же пытаясь спастись, терзаемая ужасом и болью, и, думая об этом, Клиф с трудом сдерживал гнев и возмущение.
Джон Эвери запыхался, лицо его блестело от пота; он постоянно озирался, и глаза его сияли от возбуждения. Тернер понимал, что в душе Джона это возбуждение сейчас сильнее страха, хотя оба эти чувства, особенно в сочетании друг с другом, способны толкнуть человека на любую опасную авантюру. Сам же он по-прежнему надеялся, что зверь постарается избежать встречи с людьми и как-то залечить свои раны. И хотя эта прогулка по лесу была чрезвычайно напряженной, у Тернера не возникло ни малейшего желания увидеть в итоге мертвого леопарда. Он все-таки прежде всего оставался ученым и, естественно, был весьма опечален тем, что столь редкое животное могло быть опасно ранено. Он рассматривал каждый кровавый след с беспристрастностью исследователя и с холодной логикой оценивал опасность, таившуюся в каждом новом лабиринте колючих зарослей, однако мечтал лишь об одном: хоть бы все это поскорее кончилось! И все-таки он многое отдал бы за один только взгляд на этого леопарда, ибо из головы у него не выходили те клочки черной шерсти, которые они обнаружили у ловушки. Но если зверь все-таки промелькнет в этих зарослях, почти наверняка придется стрелять, чтобы защитить себя от нежелательного нападения.
След вел вниз, к реке, а потом снова наверх, по крутому склону, в сухой редкий лесок, полный скалистых выходов горных пород и обросших мхом огромных валунов. Здесь кровь выглядела более свежей, однако след стал беспорядочным.
Два валуна, лежавшие неподалеку один от другого, буквально покрывали кровавые мазки, но если на одном кровь уже запеклась в лучах горячего солнца, то на другом следы были еще влажные, оставленные от силы час назад. Итак, леопард прошел здесь совсем недавно, однако след был довольно неясным, а потом оказалось, что новый след идет дальше вместе со старым и оба ведут по крутому склону утеса к выступу, который виднелся высоко за деревьями. На опушке они остановились; на фоне ясного голубого неба отчетливо выделялся выступ на красно-серой стене утеса. Джон Эвери глубоко вздохнул, явно с облегчением. Тернер и сам испытывал облегчение. По крайней мере, здесь, на открытом и залитом солнцем пространстве, шансы у обеих сторон более или менее выровнялись, и на какое-то время можно было чуть-чуть расслабиться.
— По-моему, именно туда он и направился, — прошептал Тернер. — Видишь вон там, под нависшей скалой, пещеру? — Он перекинул ружье на левое плечо и принялся сгибать и разгибать в локте правую руку, потом показал Эвери пальцем на выступ.
Джон Эвери снова тяжело вздохнул, громко сглотнул слюну и кивнул:
— Очень похоже. Что будем делать теперь?
Тернер ответил не сразу.
— Понимаешь, этот свежий след несколько меняет ситуацию. Он пробыл там, наверху, всю ночь, однако все же снова спустился и поднялся, причем совсем недавно. Возможно, ходил пить. Так что, скорее всего, ранен он не настолько серьезно. Если мы сами туда полезем, то определенно нарвемся на неприятности. Хотя если он действительно не слишком сильно ранен, то вряд ли станет нас ждать и удерет еще до того, как мы успеем подняться. А может, уже и удрал.
— Значит, ты полагаешь, что в пещеру есть другой вход? — спросил Эвери.
— Да. Может быть, ведущий на вершину утеса. По-моему, стоит обойти эту скалу кругом, а потом подняться на вершину и как следует осмотреться.
Все это отняло немало времени и сил. Примерно через час они догадались, что было бы проще и быстрее вернуться к ловушке и обойти гору по относительно ровной поверхности плато. Впрочем, в ожесточенной и непрерывной борьбе с колючим кустарником было и свое преимущество: им удалось несколько успокоиться, и напряжение, не отпускавшее их, когда они шли по кровавому следу, улеглось. Да и непосредственной опасности они больше не чувствовали. Тернер — видимо, значительно лучше Джона Эвери — понимал, что их шансы встретиться с леопардом быстро падают и уже упали практически до нуля. В таком густом лесу этот зверь, если он физически не слишком пострадал, может просто исчезнуть, раствориться среди пятен и теней, и увидеть его хотя бы мельком будет настолько же невозможно для них, как голыми руками поймать птичку в небе. Разумеется, при наличии гончих собак и свежего следа существенный перевес оказался бы на стороне охотников. И тонкий нюх тренированных гончих в сочетании с огнестрельным оружием человека стал бы для зверя необоримой силой, так что дверца капкана все-таки захлопнулась бы. Услышав оглушительный лай своих извечных врагов, пятнистый хищник непременно скользнул бы под защиту своего тенистого таинственного мира трав и ветвей, однако этот мир теперь уже не смог бы укрыть его: слепые в его лесу и все же словно видящие все своими носами собаки стали бы безжалостно преследовать его, быстрые, громогласные, ненавистные для него, презирающего всякий бессмысленный шум, и в конце концов он выбрал бы дерево, взлетел наверх и свернулся бы клубком на одной из самых высоких и густых веток, в пятнистой тени листвы, все еще настолько хорошо скрывающей его, что люди снизу вполне могут ничего и не заметить, разве что свисающий кончик хвоста. Из своего последнего убежища леопард рычал бы на этих крутящихся на месте и громко тявкающих дьяволов внизу, обезумевших от страшного запаха хищника; рычал бы и огрызался, и глаза его налились бы яростью загнанного в угол зверя, засверкали бы клыки… Да, на дереве он может спастись от гончих, но не от людей. А люди все равно вскоре проломились бы сквозь заросли, вскинули ружья и завершили этот водоворот насилия.
Добравшись до вершины, Клиф и Джон пошли медленней и осторожней, отдыхая после подъема, но совсем останавливаться не желая. Алоэ и низкорослые деревца торчали здесь повсюду меж валунами, отмечавшими край утеса. Молодые люди приблизились к этому краю и осторожно посмотрели на раскинувшуюся внизу долину. Зеленые вершины плотно растущих деревьев казались мохнатым ковром, раскинутым на склонах холмов, и сам утес, возвышаясь над этим ковром, производил впечатление чрезвычайно высокого, неприступного, и было трудно определить, на какой высоте по отношению к логову леопарда они вынырнули из-под зеленого полога леса. Тернер, правда, еще до подъема приметил одинокое засохшее дерево и теперь пытался отыскать его, медленно и старательно огибая валуны на краю утеса и порой буквально повисая над пропастью. Когда они вышли на открытую площадку и то сухое дерево неожиданно оказалось прямо под ними, на них бросился леопард.
Тернер, услышав подозрительный шелест песка и легкий скрип камешков, успел вовремя обернуться и увидеть черную тень совсем рядом, на краю утеса. В течение нескольких мгновений его разум отказывался воспринимать очевидное, и когда он все-таки схватился за ружье, леопард уже прыгнул со свирепым утробным рычанием. И тут в поле зрения зверя попал Эвери, который, спотыкаясь, пятился в страхе назад. Великолепный черный зверь на фоне почти белых камней, не касаясь земли, изогнулся всем своим длинным телом, занес над упавшим Эвери лапу, выбил у него из рук ружье, загрохотавшее по камням, и исчез в густых зарослях у Эвери за спиной. Тернер так и застыл с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами, уставившись туда, где только что скрылся леопард, потом, медленно стряхивая оцепенение, поспешил к своему спутнику. Джон, скрипя зубами, пытался выбраться из щели между двумя валунами. Он ухватился за протянутую руку Тернера и воскликнул:
— Господи! Клиф! Что это было, черт побери?
— Ты как, Джон? Он тебя не задел? Да что с тобой?
— Нет, не задел. Но, Господи, этот зверь пролетел прямо у меня над головой! И он был совершенно черный!
— Да, черный, — подтвердил Тернер, и в голосе его послышался сдерживаемый восторг. — Это черный леопард, Джон!
Да какой огромный, черт возьми! Так значит, это правда!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Она повернулась к брату с выражением ласкового смирения и сказала:
— Господи, до чего же у тебя ужасный почерк, Джон! Ну вот что это такое, скажи мне, ради Бога? Вот здесь, пониже «батареек для радиоприемника»? — Она потыкала в список длинным тонким пальцем. — «Брит.», — прочитала она. — Это что, Бриттен?2 По всей вероятности, мне нужно зайти в аптеку и попросить у них что-нибудь Бриттена. — Она воздела глаза к небесам. — «Ну как же, мадам, вам пластинку или кассету?»
Джон Эвери рассмеялся, заглянул сестре через плечо, подумал, склонив голову набок, и пояснил:
— Это же бритвенные лезвия, глупая! Неужели не понятно?
Такие штучки, с помощью которых бреются. Вот уж выдумала: Бриттен!
— А вот это? Ага! Поняла: «Зубпаста». Ну теперь-то ясно, зачем нужно зайти в аптеку. А это что?
— Патроны, — сказал он. — Погоди, дай-ка мне ручку. Я это для себя записывал. Сейчас для тебя поподробней расшифрую; купи мне еще двенадцатого калибра. — Он принялся что-то писать, склонясь над столом; она терпеливо стояла рядом. — А вот мой охотничий билет. — Он полистал его. — Это им явно понадобится.
— Это ведь картечь, верно? — спросила Джин и погрозила брату пальцем. — Учти, больше ты никаких ловушек ставить не будешь!
— Хорошо-хорошо, — согласился он. — У меня вообще ни одного ружейного патрона не осталось. А тот заряд картечи в самостреле у меня был последний и единственный, — Он помолчал, размышляя о чем-то, потом сказал — Черт побери, надо было зарядить картечью оба ствола! Тогда совсем другое дело было бы, понимаешь?
— Все, больше ты никогда этого делать не будешь!
Джон посмотрел на сестру, понял, что она говорит абсолютно серьезно, и пообещал:
— Ну да, разумеется. Я же сказал.
— А ты проверил список, который принес Генри? — спросила Джин, не глядя на него. — Кстати, пишет он куда разборчивей, чем ты. — Помолчав, она снова спросила: — Неужели машинное масло уже кончилось? Знаешь, нам, наверное, действительно нужно следить за кладовой.
Джон присел на краешек стола, качая ногой и глядя на сестру с легкой усмешкой. Она была в синих джинсах и кремовой шелковой рубашке с закатанными рукавами, на ногах кожаные ботинки, голова повязана шарфом.
— У тебя вид, словно ты кататься верхом собралась, — сказал он.
Джин покачала головой:
— Нет, всего лишь в гончарную мастерскую, мы сегодня печь открываем.
— Ты Клифа случайно не увидишь?
Она вскинула глаза и быстро ответила:
— Не думаю. Вряд ли. А что?
— Да так, просто я вспомнил, как он что-то говорил… — Джон вдруг умолк.
На мгновение воцарилась тишина, потом Джин сунула список в сумочку и двинулась к дверям:
— Все, ушла. Не забудь о насосе.
— Не беспокойся, не забуду.
— Пока.
И она стремительно сбежала по ступенькам, а он с любовью и гордостью посмотрел ей вслед.
Будучи одновременно торговым центром и небольшим прибрежным курортом, Книсна в который уже раз со смешанными чувствами становилась свидетельницей приливов и отливов бесчисленных волн туристов. Микроавтобусы и легковые автомобили с лодками на прицепе и нагруженными багажниками на крышах каждый год стекались сюда, точно стаи перелетных птиц, и располагались в шумной пестрой толчее как можно ближе к воде, если удавалось, конечно, отыскать местечко. Из кемпингов, отелей и частных домов отдыхающие расползались во все стороны, заполняя пляжи и площадки для отдыха, и обширный залив с эстуариями превращался в сцену, где мелькали стайки ярких парусов, гудели катера и моторные лодки, летали по зеленым волнам водные лыжники, оставляя за собой пересекающиеся линии белых бурунов, торчали силуэты рыболовов. Но залив милостиво принимал всех, ничуть о них не заботясь и занимаясь лишь своими повседневными делами — приливами и отливами, уносившими в море мусор от сотен пикников и туристских костров, которые устраивались на длинной полосе пляжей под тенистыми деревьями. Залив поражал воображение непривычных к морю жителей центральных районов соленой волной, быстрыми течениями, тайной морской жизнью, спрятанной, казалось, у самой поверхности воды, и черной полосой широкой, впадавшей в море реки, в которой морские приливы чувствовались даже за много километров от побережья. Черная речная вода, постепенно меняя цвет, текла вдоль песчаных пляжей, пока не растворялась окончательно в сине-зеленой воде океана, попадая в него через рифовую гряду, где белой пеной вскипали высокие волны. По вечерам, когда солнце садилось за горы и в его последних жарких лучах плавились огненные облака, воды залива наконец успокаивались, и становились слышны только голоса чернокожих рыбаков; они, добродушно перекликаясь, выгребали на веслах в залив; их утлые лодчонки, точно черные водяные жуки, пересекали серебряную тишину, повисшую над заливом, скользя мимо элегантных океанских яхт, словно лебеди спавших, покачиваясь, на своих якорях.
Джин, припарковав «рейнджровер» в тени огромного дуба, вскоре оказалась на главной улице Книсны и довольно быстро двинулась дальше, хотя покупателей, как всегда в последнюю пятницу месяца, была тьма и среди них были не только спокойно фланирующие по улицам и разглядывающие витрины туристы, но и местные жители. Она догнала группу отдыхающих, которых было легко определить по ярким нарядам и фотоаппаратам, чуть замедлила движение, пытаясь обойти ее, и с удовольствием прислушалась к их разговору: похоже, это были аргентинцы. И Джин вдруг вспомнила их путешествие с Саймоном в июле на горнолыжный курорт Барилош.
Хотя она поселилась в этих местах относительно недавно, ей приходилось без конца останавливаться, чтобы с кем-то поздороваться или ответить на приветствие. Немного неудобно, когда спешишь и нужно побыстрее сделать покупки, однако все же приятно, да и дает возможность, как ни странно, не только узнать все местные новости, но и уладить массу дел, стоя, например, в очереди в кассу банка или столкнувшись с нужным человеком в магазине. В течение пятнадцати минут Джин успела попросить ветеринара сделать ее собакам прививку от нового и очень опасного парво-вируса, договорилась, чтобы прислали бульдозер для строительства новой плотины, условилась в складчину купить грузовик люцерны и получила приглашение на ленч в воскресенье. Потом с той стороны улицы ей крикнули, что их газонокосилка готова, можно забирать. Вся эта суета в итоге здорово экономила время и спасала от тоскливых телефонных разговоров, а поскольку светило солнышко и утро было теплым и безветренным, а воздух был чист и прозрачен после ночного дождя, то все голоса звучали особенно весело и шутливо, и мужчины не скрывали своего восхищения внешностью Джин и желания полюбезничать с нею. В последнюю пятницу прошлого месяца, вспоминала Джин, целый день шел ужасный дождь, начинались муссонные ливни, которым радовались все, кроме туристов; в дождливые дни обмен мнениями и информацией на улице происходил куда быстрее и значительно больше внимания уделялось именно дождю, который никого не оставлял равнодушным.
К концу дня, когда она вышла наконец из гончарной мастерской, растрепанная, но довольная, в городок вливался уже новый поток людей; теперь магазины заполнялись рабочими различных предприятий, мужчинами в джинсах и куртках, женщинами с маленькими детьми, стариками-пенсионерами и приехавшими прямо на грузовиках сотрудниками лесничества и заповедника. Главным образом это были довольно светлокожие цветные, впрочем, кое-где мелькали и более темные лица представителей народа коса, и Джин посматривала на этих людей в зеркальце заднего вида участливо, неторопливо стирая со щеки присохшую глину. Неожиданно обрушился ливень, и ей очень захотелось, чтобы дождь немедленно прекратился хотя бы часа на два — пусть эти люди успеют добраться до дому сухими. Словно отвечая ее желанию, дождь действительно перестал так же внезапно, как и начался; хлынувшие между тучами солнечные лучи тут же зажгли ослепительно яркую радугу, а на опустевших было улицах, где ливень, казалось, смыл все голоса, снова зазвучала громкая веселая речь, точно туда ворвалась толпа детей, выбежавших из школы после занятий.
Джин хотела уже включить зажигание, когда сквозь ветровое стекло, испещренное дорожками от дождевых капель, вдруг увидела Тернера, спешившего к ней, и сама непроизвольно двинулась ему навстречу.
Клиф подошел к машине и улыбнулся, когда она открыла окно. Он запыхался, волосы его были мокры.
— Привет, Джин. Я увидел, как ты садишься в машину, и решил, что сейчас разминусь с тобой. Пришлось пробежаться. — Он все еще тяжело дышал. — Отличная разминка. Я, собственно, шел в яхт-клуб что-нибудь выпить, — сообщил он. — Пойдешь со мной?
Она слегка нахмурилась.
— Я уже очень давно там не была… — Она не договорила, однако он понял: со времени гибели Саймона.
— Или, если хочешь, зайдем еще куда-нибудь и выпьем кофе, — быстро прибавил он.
Но она вдруг решилась:
— Нет, почему же, пойдем в яхт-клуб. Только не внутрь, там слишком шумно. Давай лучше сядем снаружи, хорошо?
И, кстати, я наконец расспрошу тебя о том леопарде, которого вы с Джоном видели.
Они уселись на небольшой крытой веранде яхт-клуба, обратив внимание на столпотворение внутри, от которого их отделяла стеклянная перегородка. Здесь, на веранде, было тихо; перед ними расстилался широкий голубой простор залива, где мелькали суденышки и разноцветные паруса любителей виндсерфинга, похожие на разбросанные по волнам яркие перья. Джин отпила глоток вина и стала слушать рассказ Тернера.
— Кажется, всем на свете известно о черных пантерах. Эти животные привлекли внимание людей давным-давно, еще в дни великих географических открытий. Однако в данном случае это название не совсем годится. Меланизм, то есть ярко выраженный черный окрас, — редкое, однако вполне нормальное явление как у ягуаров, так и у леопардов. В том-то все и дело; так называемая черная пантера — это обыкновенный ягуар или леопард с доминирующим «черным» геном. Ген меланизма обычно более слабый, так что у черного и пятнистого леопардов обычно родится пятнистое потомство, а вот двое черных — хотя для самих животных, по-моему, окрас не имеет ни малейшего значения — могут дать уже, скажем, одного черного детеныша и трех пятнистых.
— Так значит, черный окрас — большая редкость?
— Да. Ну а тот, которого видели мы, и вовсе необычный зверь — огромный, с абсолютно черной лоснящейся шкурой!
— Он необычен в смысле цвета или такие здесь вообще не водятся?
— Да, и то и другое. Черный леопард чаще всего встречается в Центральной Тропической Африке. А так далеко на юге — знаешь, здесь о них практически и не слышали; по-моему, абсолютно черная особь появилась в этих местах чуть ли не впервые. У него ведь даже намека на пятна нет, насколько я мог заметить!
— Ох уж мне эта чертова ловушка! — сокрушенно воскликнула Джин.
Клиф промолчал, отпил вина и только потом сказал:
— Ничего, не беспокойся, леопарды живучи, как все кошки, — девять жизней и тому подобное… Возможно, он еще совершенно поправится.
Джин быстро взглянула на него:
— Ты это не просто так говоришь?
— Вовсе нет! Они действительно славятся тем, что способны перенести тяжелейшие травмы и практически выздороветь.
Самое главное, сможет ли леопард после ранения охотиться.
Но если и нет, то они умеют приспосабливаться: могут, например, отлично продержаться какое-то время, питаясь исключительно жуками, лягушками и ящерицами.
— А на людей не нападают?
Он даже рассмеялся:
— Ты это серьезно?
— Ну да, пожалуй…
— Нет. Во всяком случае, вряд ли. Разве что в каких-то исключительных случаях. Я не специалист по хищникам-людоедам, и все же такое поведение животного всегда бывает вызвано определенными экстремальными обстоятельствами, самое главное из которых — неспособность охотиться. Ну и конечно, существенную роль играет успешное начало. Скажем, в Индии, где плотность населения чрезвычайно велика, а также часто попадаются непогребенные трупы людей, до которых хищник может легко добраться, он вполне может попробовать и человечье мясо, а потом войти во вкус. Понимаешь? В общем-то, конечно, никто ничего не знает наверняка.
Единственное, что я могу утверждать с полной ответственностью: в этих местах, насколько мне известно, никогда не встречались леопарды-людоеды.
Джин молчала, любуясь заливом. Тернер налил ей еще вина. Девушка сидела боком к стеклянной перегородке, отделявшей их от бара, и ее прямые черные волосы мягкой волной закрывали щеку до уголка рта, спускались на плечо и укутывали его, точно блестящая шаль. За перегородкой кто-то изо всех сил старался привлечь внимание Тернера, подавая ему всевозможные знаки и сияя во весь рот. Джин заправила за ухо спадавшую на щеку прядь волос, повернула голову в сторону бара, проследив за взглядом Клифа и пытаясь понять, на кого он смотрит, но ничего не разобрала в этом калейдоскопе ярких, по-летнему нестрогих одеяний, бород, длинных волос, темных и светлых, и оживленных лиц.
— По-моему, кому-то тебя очень не хватает, — сухо сказала она.
— Не меня — тебя. Хотя вообще-то здесь довольно спокойно, не правда ли?
— И все-таки мне пора.
— Я бы очень хотел, чтобы ты осталась. Мы могли бы где-нибудь поужинать, а?
— Я бы с удовольствием, Клиф. Правда. Но в другой раз, не сегодня, хорошо?
Он судорожно пытался придумать, как бы удержать ее, пока она собирала свои вещи — шарф, сумочку, — но понимал, что это не в его силах.
— Я действительно очень хотел бы, чтобы ты осталась, — повторил он.
Она улыбнулась, оценивающе глядя на него:
— Ну хорошо, еще немножко. Вот и вина еще выпью.
Она заметила, каким напряженным вдруг стало его лицо, почти печальным, очень серьезным. И ей вовсе не хотелось мучить его или играть с ним. Она догадывалась, что его раздражают многозначительно-шутливые гримасы за перегородкой — она их успела-таки заметить, — что эта суета и шум ужасно несвоевременны, что они как бы преуменьшают значение их беседы и угрожают нарушить хрупкое равновесие ее доверительного, но осторожного отношения к нему. А когда она согласилась остаться, он явно испытал облегчение, стал почти счастливым и с такой готовностью бросился наливать ей вина, что даже пролил немного ей на руку, и тут же, заботливо наклонившись над нею, стал вытирать руку носовым платком, держа ее в своей. И тут в дверь просочилась цепочка новых посетителей, восторженно талдычивших что-то по поводу необычайной красоты заката, который действительно заливал белые стены и решетки веранды победоносным, похожим на оперение фламинго розовым светом.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Второй раз в жизни черный леопард ощутил страх, и когда двуногие существа подошли слишком близко, ярость, охватившая его, быстро сменилась благодаря выброшенному в кровь адреналину инстинктивным желанием спастись, выжить, и желание это оказалось сильнее даже боли в раненой лапе. Жажда свободы была так велика, что он почти наверняка покалечил бы этих двуногих, которые подкрались к нему с явным намерением напасть, хотя двуногие были очень большими и он их опасался.
Сейчас он брел по тенистому прохладному лесу, неуклюже ковыляя на трех лапах, и время от времени останавливался, чтобы вылизать постоянно кровоточившую рану, и потом долго сидел неподвижно, задрав вверх изуродованную заднюю лапу и стараясь не касаться ею земли. Он прислушивался к непривычным звукам, теперь едва слышным, однако чуткие уши леопарда все же различали их в неразберихе прочих полуденных лесных звуков, и он двигал ушами, реагируя на малейшее изменение в этой привычной симфонии. Он страдал от голода и жажды и слабел от потери крови; те звуки становились все глуше, а другой непосредственной опасности он пока не ощущал, его терзала только боль в плече, мешавшая двигаться, да постоянно ныла изуродованная задняя лапа. Среди темно-зеленого подлеска и густых, почти черных теней его естественный камуфляж служил отлично, однако на залитых солнцем открытых участках, когда его черная как смоль шкура вспыхивала серебром и на ней становился отчетливо виден ярко-багровый рубец, леопард был заметен хорошо. Рана, пересекавшая его плечо и спину, была очень длинной и глубокой и все еще кровоточила. К тому же ему никак не удавалось достать ее языком, что было опасно, ибо жирные мухи роем вились над ним, отливая изумрудно-зеленым в солнечном свете, точно его собственные холодные глаза.
В зарослях папоротника-орляка буквально на расстоянии собственного вытянутого хвоста черный леопард заметил участок вскопанной земли — это искал себе пищу дикий кабан — и на ней отчетливый отпечаток лапы другого, взрослого леопарда.
Он бы никогда не признал этого следа, мельком увидев его, да он и не был бы ему особенно интересен, однако же теперь он обратил на него внимание, так как и сам след, и листья папоротников сохранили знакомый слабый запах, который, как подсказывал ему инстинкт, давал единственный шанс выжить, и он медленно пошел по этому следу в горы, надеясь отыскать мать.
К середине дня он поднялся на лесистое плато, где деревья были высокими и идти стало несколько легче, чем в каменистой долине, изрезанной бесконечными ущельями. Он был уже совершенно измучен, его постоянно терзала боль. Он еле брел, ибо рваная рана на спине причиняла ему непереносимые страдания, когда мышцы из-за неустойчивой походки на трех лапах чересчур напрягались, а ступить на правую заднюю лапу он не мог вообще — там из открытой раны торчали обломки кости. На фоне зеленых густых ветвей горного вяза, из которого главным образом и состоял подлесок, он казался черной тенью, двигавшейся бесшумно, хотя и странно-неровными толчками. Он ни разу не пожаловался и не зарычал, несмотря на терзавшую его боль. У ручейка он напился, обнюхав свисавшие над водой листья древовидных папоротников: здесь запах матери сохранился особенно хорошо. Сквозь деревья за ручьем виднелся просвет, и вскоре он вышел на старую, заросшую травой лесную дорогу. Глаза его сразу же приспособились к яркому солнечному свету, просачивавшемуся сквозь легкую листву эвкалиптов, росших вдоль дороги. Нефритово-зеленые радужки глаз леопарда сократились, зрачки стали похожи на вертикальные узкие щели, и, поскольку местность была открытой, а потому более опасной, он инстинктивно прищурился, делая блеск глаз менее заметным и защищая их от света. Двигаясь по лесистой обочине дороги, он у поворота увидел шестерых мужчин — лесников и рабочих лесничества.
Рядом резвились два риджбека. Лесники как раз сворачивали карту, собираясь идти дальше. Собаки, спущенные с поводков, убежали вперед. Черный леопард на мгновение застыл, охваченный ужасом и с бешено бьющимся сердцем, и собаки налетели прямо на него, так и не успев сообразить, стоит ли им нападать или лучше спастись бегством. Сука, бежавшая впереди, взвизгнув от страха, шарахнулась назад, налетела на кобеля, следовавшего за ней, и злобно его тяпнула, а потом решила проявить твердость, обнажила клыки и утробно зарычала с подвывом, припав к земле. Итак, у собак выбора не осталось; теперь они забыли о людях, оставшихся позади, об игре и знали лишь одно: они лицом к лицу столкнулись со своим вечным врагом, атаковать которого было практически равносильно смерти, а бежать означало спровоцировать нападение хищника. Убегающего леопарда стая собак могла бы загнать на дерево, но риджбеки прекрасно понимали, что вдвоем с ним не справиться, и помнили к тому же, что леопарды всегда охотились на собак пропитания ради.
Черный леопард тоже испугался, однако когда он, сжавшись от напряженного ожидания, увидел перед собой злобно рычавших собак, а дальше — двуногих, застывших с открытыми ртами, то совершенно потерял голову. Казалось, каждый листок, каждая ветка подают ему сигналы тревоги, но когда крикнул кто-то из двуногих, он мгновенно понял, что раны не дадут ему убежать от них и их собак. В его затуманенном мозгу будто щелкнул спусковой крючок; теперь он знал лишь одно: убивать. Он прижал уши; щелки прищуренных глаз вспыхнули, зрачки расширились, длинный хвост нервно дернулся туда-сюда, и не успел стоявший впереди человек броситься прочь, как леопард оттолкнулся задними лапами, несмотря на то что одна из них являла собой страшное месиво из окровавленной плоти, и, выпустив когти, прыгнул. Суку он убил одним мощным ударом когтистой лапы по голове, а кобелю, чуть тормознув и горя жаждой мести, вспорол брюхо прямо в воздухе и отшвырнул рыжеватую тушку вслед убегавшим людям. Опьяненный желанием убивать, леопард догнал двуногих и, нанося удары лапами направо и налево, расчистил себе путь, а потом метнулся в сторону, с треском ломясь сквозь знакомый подлесок, и замедлил бег, только когда налетел на молодое дерево, и в изнеможении упал на бок. Но даже и сейчас, задыхаясь, он чутко прислушивался к звукам, доносившимся сзади, глазами обшаривая ветви над головой и оценивая собственные силы перед последним прыжком, который ему, возможно, придется сделать, если все-таки появятся собаки. Однако двуногие затихли, как он и ожидал, да и лая собак слышно не было. Он дождался темноты и остался лежать там, где и упал, отдыхая на сухой мягкой листве.
Перед рассветом, задолго до того как проснулся лес, леопард очнулся и принялся вылизывать перепачканную землей раненую лапу. Довольно долго в подлеске не было слышно ни звука — только шлепанье языка зверя, счищавшего с шерсти по краям раны засохшую кровь и грязь. Потом запела малиновка, точно высвистывая на дудочке мелодию к какой-то веселой комедии. Она допела свою песенку до конца, потом повторила, только уже медленнее, и затихла, словно ожидая, когда ей ответит соловей. Но тот всего лишь щелкнул разок, и малиновка снова повторила свою партию и, умолкнув наконец, смогла уже с удовлетворением отметить, что разбудила всех птиц в лесу: попугаи, кукалы, черноголовые иволги и даже ленивые трогоны окутали долину паутиной своих голосов. И тогда леопард двинулся дальше.
Несколько часов глубокого сна, в который он провалился, сослужили ему отличную службу, и теперь у него нашлись силы для последнего рывка вверх по заросшему лесом крутому склону, к влажно блестевшим голым скалам на южной стороне горной гряды. На старой лесной дороге след матери все еще был различим, но стоило молодому леопарду перевалить через вершину, навстречу ослепительно сиявшему солнцу, как все запахи вместе с влажными испарениями поднялись в воздух и смешались с ароматами нагретых скал и колючего низкорослого кустарника. Леопард видел перед собой долину, шар солнца, освещавший скалы и безбрежное море зеленого вельда, а вдали — серебристые нити горных ручьев и рек, тянувшихся через долину к дальней горной гряде. Он решил пока прекратить поиски, тем более что след вел к каменистой осыпи вниз, и где-нибудь укрыться от солнца и отдохнуть. Тенистое место нашлось на выступе под нависающей скалой; напротив росло лишь одно дерево; земля была покрыта высохшей травой. Совершенно обессиленный, леопард лег, тяжело дыша и не испытывая ни малейшего желания идти дальше. Он пролежал там до самого вечера, а когда наконец сгустилась тьма, почувствовал, что не только восстановил силы, но и вполне способен интересоваться новым окружением. К тому же хотелось есть. Однако эта вполне естественная реакция была притуплена пронзительной болью, стоило ему ступить раненой лапой на острый камень, и тогда, впервые с тех пор как с ним случилось несчастье, молодой леопард дал себе волю, негромко застонав, и стон этот жутковатым образом перешел в глубокий хрип и закончился басовитым мяуканьем — так обычно детеныш зовет мать, но сейчас в этом детском зове слышалась печальная жалоба взрослого зверя, загнанного в угол и полного отчаяния. В нем был страх близкой смерти, и крик этот наполнил долину такой тревогой, какую знают теперь только такие вот дикие края, — тревогой и ощущением утраты чего-то поистине могучего и прекрасного. И в течение всей ночи раздавался зов молодого леопарда, в котором порой прорывались все же гневные, страшные ноты — когда голод заглушал все остальные его чувства.
Далеко, почти у самого подножия гор, лягушки в нежно журчавшем ручейке умолкли, заслышав шаги самки леопарда.
В наступившей тишине она услышала зов сына и остановилась.
Вставшие торчком уши ее подрагивали от любопытства: это был явно не любовный призыв самца, да и сама она не была готова к любовным играм. Самка стала подниматься по склону горы и через какое-то время оказалась рядом с источником звука.
Она тоже принялась звать, делая паузы, наклоняя голову и прислушиваясь. Вся напряженная, она осторожно подошла к тому месту, где прятался молодой леопард. Пасть ее была полуоткрыта, она нервно нюхала воздух, и наконец мать и сын коснулись носами друг друга, приветливо ворча, довольные встречей. Потом самка принялась вылизывать рану у сына на спине, а он распростерся возле нее, положив голову на лапы.
Рано утром она повела его вниз, в речное ущелье, и еще до восхода солнца оба леопарда уже достигли логова среди скал, перед которым открывалась заводь с черной водой, густо заросшая по берегам карликовыми пальмами; с тыла логово защищала крутая стена утеса. Молодой леопард, совершенно измученный даже после этого относительно короткого путешествия, рухнул на землю. Последние тридцать метров, которые пришлось идти по воде, по каменистому руслу реки, выпили у него последние силы. Здесь река пробивала себе путь меж высокими, почти вертикальными утесами, а узкие ее берега заросли почти непроходимой стеной светло-зеленых пальм. В густой зелени виднелись их переплетенные чешуйчатые стволы, сквозь которые, журча, пробиралась своей дорогой речка. Самка преодолела это препятствие в несколько мощных прыжков; она старалась не оступаться, но все-таки один раз оступилась и упала, погрузившись чуть ли не с головой в заросли, нависшие над водой, и тут же вновь выскочила на берег; с задних лап и хвоста у нее текла вода.
Молодой леопард пытался подражать ей, но это оказалось невозможно. Переплетенные точно змеи, стволы пышной растительности мешали двигаться и требовали максимального напряжения всех мышц и сухожилий. Он попробовал преодолеть это препятствие прыжком, но туг же потерпел неудачу — упал куда-то во тьму, с растопыренными, точно щупальца, когтями передних лап. Вода оказалась холодной, и он громко рявкнул от боли и страха; гулкое эхо словно выстрел разнеслось по ущелью, и он стал двигаться осторожнее, где вплавь, а где ползком, прокладывая себе путь в хитросплетенье ветвей и стволов. Теперь он лежал, вывалив язык, в полумраке логова, и глаза его влажно блестели; под лоснящейся шкурой все еще слабо дрожали и перекатывались напряженные мускулы; полоска белой пены застыла на верхней губе, над обнаженными зубами. Когда свет снаружи стал более ярким, в тенистом логове почти ничего невозможно было разглядеть, разве что мелькал порой белый клык да вспыхивала серебром влажная черная шкура там, где проникший в пещеру солнечный луч касался ее. И вдруг в пещеру точно влетел рой пчел или облачко мошкары — что-то пятнистое шевельнулось в полумраке, и тут же пятнышки на шкуре самки расплылись, исчезли, и она скользнула вниз, в заросли кустарника на каменистом склоне, и пропала из виду.
Она вернулась в сумерках, наевшись до отвала, с надутым брюхом и отрыгнула груду дымящегося мяса на травку у пещеры. Молодой леопард поднял голову и сел, по-щенячьи выставив заднюю лапу. Усы его подрагивали, он некоторое время принюхивался, а потом очень медленно, припадая брюхом к земле, подполз к мясу и начал есть. Он съел эту порцию и еще одну, а потом лег и заснул. Так продолжалось целую неделю: самка охотилась на склонах горы, пока вожак небольшого стада серых косульих антилоп не прихватил с собой трех оставшихся еще в живых самок и не ушел за горы, на более безопасный конец верескового вельда, граничивший с морем.
Однако молодой леопард уже успел набраться сил и быстро поправлялся. Даже израненная задняя лапа, которую он тщательно вылизывал и очищал зубами от болтавшихся по краям раны лохмотьев кожи, стала подживать, а рана на спине превратилась в длинный красновато-серый рубец. На десятый день самка перебралась в другое логово на дне оврага, в двухстах метрах отсюда, которое приготовила заранее. Там она произвела на свет троих детенышей. Один родился мертвым, и самка тут же его съела. Оставшихся двоих — оба они были пятнистые, хотя пока что больше напоминали просто серые пушистые комочки, — она перенесла в старое логово, и когда малыши, слепые и голодные, принялись жадно сосать, черный леопард присоединился к ним, и мать не протестовала.
Странная это была группа: пятнистая самка, с довольным видом лежавшая на боку, черный молодой леопард, почти такой же крупный, как мать, вытянувшийся перпендикулярно к ней, и рядом с ним два серых малыша. Но черный выпивал слишком много, и самка забеспокоилась. Она родилась в этой долине, здесь даже вкус речной воды казался ей особенно приятным. Для нее это было самое лучшее место в мире, благодатное и в это время года изобилующее косульими антилопами и клиппшпрингерами. Самка с упорством предпринимала все новые попытки добыть как можно больше дичи, до сумерек бродя по открытым горным склонам и замечая промелькнувшее ушко антилопы даже на расстоянии километра. А уж выследив жертву, дожидалась темноты, чтобы убить ее наверняка. Через четыре дня после рождения малышей она впервые взяла с собой на охоту и черного леопарда.
Тихим и нежным звуком она предупредила детенышей, что они должны терпеливо ждать и не выходить из укрытия.
Это было сказано почти неслышно, однако запрет матери словно приковывал их к гнезду. Для черного леопарда это был полузабытый звук, однако память его, видно, освежило материнское молоко, которое он пил второй раз в жизни, и он тоже заколебался, стоит ли ему выходить из пещеры, так что матери пришлось дать ему пинка, от которого ее старший сынок пролетел метра три по воздуху и приземлился весьма неловко. Выйдя следом за матерью на залитый солнцем склон горы, он все еще прихрамывал, но черная шкура уже блестела и лоснилась по-прежнему, а сам он сторожко и быстро реагировал на любой, даже самый незначительный звук, порожденный горой.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Они ехали в машине Джин Мэннион, и Клиф Тернер наслаждался своей ролью пассажира. Он откинулся на спинку сиденья, глядя на проплывавший за окнами лес и покуривая тонкие дорогие сигары Джона Эвери, которые окутывали его дымком благополучия. Его пещера и разбитый «лендровер» были, казалось, где-то далеко-далеко; и вдруг, окончательно осознав, что наслаждается мимолетным комфортом, он испытал приступ то ли тоски, то ли одиночества — он и сам не смог бы определить точнее — и тут же решил перебраться из своего первобытного убежища. «Хорошо бы устроить по случаю переезда вечеринку, — подумал он. — Да, вот именно! Непременно нужно устроить такую вечеринку!» Значительно повеселев, он наклонился вперед и спросил:
— Как вам понравилась бы вечеринка у меня на пляже?
В пещере? Вы бы пришли?
Джин повернула к нему голову:
— Спасибо, конечно! Как здорово ты это придумал, Клиф!
— И ты, разумеется, устроишь нам полнолуние? — поддел его Джон Эвери.
— Еще бы.
Некоторое время все молчали.
— Слушай, — спросил Эвери, — а сегодняшнее мероприятие — это что: затея местного лесничества или Департамента по охране дикой природы?
— И тех и других, по-моему, — ответил Клиф, — На симпозиуме в среду решили, что неплохо было бы собраться всем вместе: и сотрудникам департамента, и местным егерям и лесничим — ну, там, на предмет сотрудничества и тому подобного.
— А на этом симпозиуме, — спросила Джин, — отдельного вопроса о леопардах не поднималось? То есть ты себя там не чувствовал не в своей тарелке?
— Нет, мне просто пришлось делать доклад, вот и все; а докладчиков было много. — Он помолчал. — Вообще-то обсуждение было, конечно, несколько более острым, чем мне бы хотелось. Особенно после того, как этот зверь покалечил двоих лесников. И разумеется, газеты тут же подняли шум.
— Как Барнард себя чувствует? — спросила Джин.
— Он все еще в больнице. Раны, нанесенные когтями, вообще заживают плохо, к тому же такие глубокие, через всю спину. Зато Дик Баркер уже почти здоров. Ему только плечо задело, правое. Повезло. Впрочем, если честно, то и Барнарду тоже.
— А они о самостреле знают? — спросила девушка. — То есть о том, что его Джон поставил? — Она обернулась и посмотрела Тернеру прямо в глаза.
— Ну да, знают, что леопард был ранен, и знают, где стоял самострел. Но больше ничего.
— Ты уверен? — встревожился Джон Эвери.
— Совершенно уверен. Закон соблюдать сложно, если речь идет о нападении опасного хищника на стадо или даже на человека, однако теперь, хотя главная вина и падает на того, кто поставил ловушку, леопарды все-таки, видимо, будут под защитой закона, считаясь в данной местности редкими животными.
— Что ж, надеюсь, ты этим доволен, Клиф, — сказала Джин. — Я, например, очень довольна.
— Да, конечно, я доволен. Рад, что и ты тоже. Однако же это постановление, если его примут, прибавит головной боли сотрудникам департамента. Да и у меня тоже возникнут проблемы.
В голосе Джона Эвери слышалось раздражение:
— Это у нас, фермеров, непременно возникнут проблемы!
У Кампмюллера и у всех остальных.
Клиф Тернер только вздохнул в темноте и промолчал, не желая говорить в ответ колкости. Потом мягко пояснил:
— Ну, вас это, скорее всего, не так уж сильно коснется, Джон; ты же знаешь, леопарды здесь отнюдь не кишат. — Он хотел уже сказать, что эти хищники, как известно, убивают овец, только если не могут поймать другую дичь, но передумал: впереди еще слишком долгий вечер, а Джону и так давно не нравится, что его сестра «предательски» защищает леопардов.
Тернеру очень хотелось бы, чтобы этот черный леопард так и остался недосягаемым, скрылся бы в горах и лесных долинах здешнего малонаселенного края и дожил там до старости, потому что история с ним полностью изменила отношение окружающих к леопардам вообще, сделав его исключительно негативным, а вопрос об охране этих животных из-за черного зверя буквально за десять дней стал объектом настоящих политических баталий. Фракцию, выступавшую против закона об охране леопардов, возглавлял Кампмюллер, пользовавшийся немалым влиянием в местных церковных и политических кругах. Черный леопард пробудил первобытный ужас и среди жителей деревень, а вот это Тернер способен был понять хорошо, хотя кое для кого уже сам по себе черный цвет символизировал все дурное, опасное и злое на свете.
Они припарковали машину на забитой уже стоянке и пешком пошли по грязноватой дороге к зданию лесничества, стоявшему на широкой травянистой поляне, откуда хорошо была видна вся лесная долина. Джин, шагавшая рядом с братом, была почти одного с ним роста и опиралась на его плечо, перешагивая через лужи и одной рукой приподнимая свою длинную, до щиколоток, юбку осенних, красновато-коричневых тонов; ее перетянутый широким ремнем жакет был темно-зеленого, почти черного цвета, напоминавшего зелень леса; длинные прямые волосы повязаны зеленым шелковым шарфом. Тернер приспосабливал свою размашистую походку и замедлял шаг, стараясь идти с нею рядом. Джин Мэннион всегда привлекала к себе внимание, где бы ни появилась, а здесь, среди по крайней мере сотни гостей, она казалась особенно красивой и утонченной. Похоже, на нее приятно было смотреть даже могучим местным матронам, восседавшим во главе столов, заваленных снедью: жареными ребрышками и колбасками, бифштексами и грудами вареной кукурузы.
Тернер, стоя чуть поодаль, наблюдал за Джин поверх бокала с вином; когда она улыбалась, черные глубокие глаза ее, казалось, вспыхивали, и ему она представлялась просто прекрасной. Он с трудом заставил себя не смотреть на Джин, занявшись тем, что угадывал, к кому из присутствующих относится то или иное известное ему понаслышке имя. На поляне у дальнего края леса была установлена деревянная сцена, возле которой оживленно беседовали представители официальных кругов: одни с почтительным видом слушали, другие же явно наслаждались своей близостью к высшим эшелонам власти. Четверых из этой группы Клиф знал — это были представители Департамента по охране природы — и еще парочку несколько раз видел. Самого министра он прежде не видел никогда. В каком-то смысле собравшиеся являли собой отличную модель местного общества, разве что мужское население здесь явно преобладало. Когда зажглись огни, словно подчеркивая полную изолированность этих немногочисленных представителей мира людей от множества иных живых миров, существующих по своим законам в горах, полях и лесах, гости потянулись к сцене, усаживаясь на деревянные скамьи перед нею; все ждали в такой тишине, что неожиданно громко стали слышны голоса кузнечиков и лягушек, доносившиеся из долины.
Первым выступил начальник местного лесничества; сперва он говорил на африкаанс, потом на английском. Затем к присутствующим обратился министр, проговорив на африкаанс добрые пятнадцать минут, и под конец его речи Тернер уже не мог вспомнить, о чем, собственно, говорил докладчик, и в памяти его осталось только то, что о леопардах — о, счастье! — министр не упомянул вообще. Клиф обернулся и увидел Дика Баркера, который стоял в самом заднем ряду, под навесом. Рука у него была обмотана бинтами и все еще на перевязи. После министра выступили еще трое, однако же они, слава Богу, были достаточно кратки, а потом священник Голландской реформистской церкви прочитал молитву, и все разошлись; снова зазвенели бокалы и вереницы людей потянулись к накрытым столам.
Прием продолжался; красное и белое вино лилось неиссякаемым потоком, заливая громадные порции жаренного на решетке мяса, а группки людей, объединившихся согласно общности языка и обычаев, становились все шире, точно магнитом притягивая к себе одних и отталкивая других. Настроение у Тернера снова улучшилось; он ко многим здесь относился по-дружески: хорошо знал, например, сотрудников лесничества — это были действительно отличные ребята, занимавшиеся одним и тем же созидательным трудом, а потому не обращавшие ни малейшего внимания на языковые и культурные различия, хотя их жены, восседавшие за уставленными блюдами с едой столами, были в этом отношении куда более строги. Зоологи, сотрудники Госдепартамента, ботаники, немногочисленные ихтиологи, занимавшиеся главным образом пресноводными рыбами, — все эти люди выглядели немного смущенными, вели себя несколько чопорно и неловко; Ван дер Мервы и Смиты, Берги, Дю Плесси и О’Рейли — у этих тоже был свой общий язык. А учителя школ для цветных и вожди общин вообще почти не двинулись с места — так и стояли с застывшими, чуть подобострастными улыбками и всем своим видом изображали огромное удовольствие.
Япи Кампмюллер разговаривал с Диком Баркером, которого черный леопард задел своей когтистой лапой, и Тернер двинулся к ним сквозь толпу гостей: ему хотелось кое о чем расспросить Баркера, ведь теперь волей-неволей придется быть готовым к возможной встрече со зверем-людоедом. Кроме того, он желал лишний раз убедиться, что реакция Кампмюллера на последнее постановление об охране леопардов окажется именно такой, на какую он и рассчитывал. Несмотря на их вечные споры с Кампмюллером по большинству вопросов, Япи ему нравился; Клиф находил его остроумным и проницательным, и оба, не сговариваясь, старались поддерживать в отношении друг друга некий нейтралитет, когда все колкости смягчаются шуткой и основным оружием служит смех.
— Привет, Клиффи! — заорал Кампмюллер, обнимая Тернера за плечи своей массивной ручищей. — Ну что, видишь, что наделала твоя киска? — И он мотнул головой в сторону Баркера.
— Никудышная работа, — заявил Тернер, улыбаясь Баркеру и тоже обнимая Кампмюллера, так что теперь они стали похожи на двух борцов, готовых к схватке. — Придется снова тренировать этого черного: никак до яремной вены добраться не может!
Кампмюллер сперва затрясся и захрипел, а потом не выдержал: он так хохотал, что даже ослабил свои тяжелые объятья, а потом рука его и вовсе соскользнула с плеча Тернера, он согнулся пополам и закашлялся. Тернер искоса, с извиняющейся улыбкой быстро глянул на Дика Баркера и с облегчением заметил, что обескураженное выражение все же исчезло с его лица: он явно был слишком потрясен встречей с черным леопардом и еще не готов столь легкомысленно шутить на эту тему.
Кампмюллер наконец откашлялся и принялся вытирать глаза носовым платком цвета хаки. Потом сказал:
— Дик говорит, этот черный зверь сам напал на них. Опасная тварь! Тут, парень, и погибнуть недолго.
— Этот леопард серьезно ранен, ты же знаешь, — сказал Тернер. — И прекрасно знаешь, как опасны могут быть раненые леопарды. А Дику и его спутникам просто не повезло — они нечаянно ему дорогу перешли. Обычно леопард уходит первым.
— Да ведь ты и сам видел, как он на Джона Эвери бросился! — настаивал Кампмюллер.
— Знаешь, тогда мы шли по его кровавому следу, а это очень опасно, так что сами напросились.
— Почем тебе знать, а вдруг эта тварь вас поджидала? — поддел его Кампмюллер.
— Нет уж, Япи, — рассмеялся Тернер. — С какой стати ему было нас ждать? Ты еще скажи, что он нас съесть хотел!
— А что, вполне возможно, — с самым серьезным видом заявил Кампмюллер. — Очень даже возможно, что он людоед.
— Ну да! — Честно говоря, Тернер никогда серьезно не рассматривал даже возможности появления леопарда-людоеда здесь, на самом юге континента, однако вдруг поразился собственной горячности. Теперь предположение Кампмюллера уже не казалось ему абсолютно невероятным.
Баркер внимательно прислушивался к их разговору и с приоткрытым от ужаса ртом смотрел на Тернера, будто заново переживая собственное страшное приключение. От волнения он даже зашипел сквозь зубы.
— Знаешь, я когда-то работал в Северной Родезии, — начал было Кампмюллер.
— В Замбии, — с улыбкой поправил его Тернер.
— Ладно, пусть в Замбии, какая разница! Так вот, в долине реки Луангва — это левый приток Замбези, — где я жил, один леопард всего за год успел убить четырнадцать человек, а потом его застрелили.
— Послушай, — сказал Тернер, — я же не спорю: конечно, леопарды-людоеды встречались и, возможно, встречаются и теперь, но здесь-то с чего им вдруг появиться? По-моему, нет никаких оснований предполагать, что этот черный чем-то отличается от своих собратьев, а в этих местах людоедов никогда не бывало, насколько я знаю. Верно?
— А люди все равно исчезали в лесу бесследно, и не раз! — возразил Кампмюллер, многозначительно подмигнув. — Да и странно он ведет себя, этот черный. Ты же сам говорил, он огромный…
— Черт знает, какой здоровенный! — вдруг выпалил Баркер с удивительной горячностью. — Я вам вот что скажу: эта тварь точно нас убить хотела! По глазам было видно. Ох, не хотел бы я еще раз с ним встретиться!
Кампмюллер снова положил свою тяжелую ручищу Тернеру на плечо.
— Знаешь, Клиф, охраняют их или нет, — он медленно покачал головой, — но если он явится ко мне на ферму и у меня будет под рукой ружье…
Он не договорил: к ним подошел высокий худой человек и поздоровался с Тернером. На его костлявом носу сидели очки в стальной оправе; чуть тронутые сединой волосы торчали во все стороны, явно не желая поддаваться парикмахеру. Тернер представил его как доктора Уильямса из Кейптауна.
Обменявшись рукопожатием с Кампмюллером, доктор улыбнулся и сказал:
— Ваш черный леопард пользуется весьма скандальной известностью. По крайней мере, если верить прессе. — Он говорил нарочито медленно, четко выговаривая каждое слово. — Как-то непривычно: уж больно удачно он всем на глаза попадается. — Уильямс посмотрел на Баркера, снова погрузившегося в молчаливое самосозерцание. Поправив очки на носу, доктор поверх них уставился на раненую руку лесника. — Что у вас с рукой? А, значит, это на вас он напал? Значит, вы его видели достаточно близко?
Баркер так долго не отвечал, что Тернер решил ему помочь.
— Дик, — вмешался он, — доктор Уильямс — зоолог, а черные леопарды на юге Африки встречаются очень редко. — Он понимал, что Уильямс жаждет получить дополнительные подтверждения фактов со стороны очевидца — так сказать, научная перепроверка. Это вовсе не означало, что он не поверил самому Тернеру. К тому же тот наверняка уже поговорил со всеми спутниками Баркера.
Баркер застенчиво улыбнулся:
— Да, точно, я его совсем близко видел, доктор. Он мне чуть на плечи не прыгнул.
— Должно быть, вы очень испугались! — посочувствовал ему Уильямс. Снова повисло молчание. Потом ученый мягко спросил: — А что вас особенно поразило в этом леопарде?
— Знаете, сэр… глаза и зубы, наверное. Пасть-то у него была открыта, — неуклюже закончил Баркер.
Тернер вдруг развеселился, однако постарался подавить веселье, ибо тут же почувствовал и тонкий укол тревоги. Эвери тоже тогда был так потрясен, что, собственно, и внимания особого не обратил на окрас зверя, да и вообще все произошло слишком быстро. Цветные рабочие лесничества рассказывали странно разноречивые истории — они были уверены, что такого зверя в лесу быть не может, и боялись, что их сочтут обманщиками. Они тоже явно не поверили собственным глазам.
— И еще хвост, — сказал вдруг Баркер.
— Хвост? — Уильямс чуть наклонил голову набок.
— Да, доктор, хвост! Знаете, он был ужасно длинный и хлестнул меня прямо по щеке, когда эта тварь прыгнула, — может, это было даже хуже всего. А как он меня когтями задел, я и не почувствовал сразу. А хвост у него — как змея!
Здоровенная такая черная змея!
— Так вы говорите, хвост был черный? — переспросил Уильямс.
— Черный, доктор, черный! — горячо подтвердил Баркер, исступленно кивая — Он и весь был черный как смоль и блестящий.
Уильямс поскреб подбородок.
— Очень необычно, Клиф, — пробормотал он.
— Я знаю, сэр.
— Очень необычно для таких широт! В тропиках — да! В тропических лесах, в горах… Но здесь, в этой климатической зоне?.. Очень, очень необычно!
— Что ж, сэр, горы и леса ведь и здесь имеются. К тому же тут единственный действительно крупный лесной массив.
И горы недалеко.
Уильямс некоторое время молчал, глядя куда-то мимо Тернера в темноту аллеи.
— Господи, как бы мне хотелось его увидеть! Какое, должно быть, прекрасное животное! Вы, конечно, постараетесь сфотографировать его?
Тернер кивнул:
— Я уже переставил оборудование, но придется подождать.
— Я понимаю. Но все-таки… хотя бы намек на пятна должен был остаться! — никак не мог успокоиться Уильямс. — Я просто не могу принять тот факт, что у здешнего леопарда оказалась угольно-черная шкура.
— Мои наблюдения были весьма мимолетны, сэр, так что поклясться я тоже не могу, однако уверен: мы сумеем это выяснить.
— Уверен, что сумеете! — с готовностью подхватил Уильямс и посмотрел вокруг с таким видом, словно после длительного отсутствия не совсем понимал, где находится. — Уверен! Завтра мы еще поговорим об этом. Я просто мечтаю вместе с вами пройти по следу этого зверя! Знаете, давайте выпьем еще немного вина, оно здесь просто замечательное!
Клиф Тернер переходил от одной группы гостей к другой, будто что-то искал и не находил. Ничто не могло задержать его внимания надолго. Настроение у него постепенно портилось, вино только усугубляло этот процесс. К тому же он чувствовал, что смертельно устал. Мероприятие явно имело успех, хотя разговоры с гостями и были утомительны, так как общество оказалось весьма пестрым как по национальному признаку, так и по интересам. Теперь, когда ушли некоторые важные официальные лица, голоса оставшихся зазвучали громче.
Среди языков явно преобладал африкаанс. Разговоры велись преимущественно на бытовые темы. До Тернера долетали отдельные реплики:
— Тридцатилетний стаж для этой машины — сущая чепуха…
— Да ты все местные виды вытеснишь, ты это понимаешь?
Южноафриканские красноплавниковые усачи — это же не рыба, а мусор! Да тебе, скорее всего, просто не разрешат…
— Ja, nee man, alles is klop disselboom3.
Тернер улыбнулся. Это его, пожалуй, даже развеселило.
— Эй, Клиф, послушай-ка. Вот тут Ян Бота утверждает, что систематическое обследование содержимого желудков шакалов ни разу не свидетельствовало о наличии в них шерсти рысят…
— …а я и говорю ему: жри до отвала!..
— Nou raak die politiek wragtig nie lekker nie4.
Перевести было нетрудно; эти слова снова напомнили Тернеру, насколько разговоры о политике опасны на подобных сборищах и при подобной атмосфере, когда политика удивительно близко, у самой поверхности любых чувств и отношений, когда каждый постоянно вынужден совершать самые разнообразные уступки, кривляться, проявлять какую-то сверхвежливость, чуть ли не раболепствовать порой. Ну в точности католики и протестанты на совместном чаепитии!
Когда он наконец снова увидел Джин, то некоторое время смотрел на нее с удивлением, словно знал ее в лицо и понаслышке, но все же никогда не был с нею знаком лично.
Свет лампы мягко освещал ее лицо с высокими скулами, под которыми сейчас затаились тени; черные как смоль волосы, казалось, вообще света не отражали и не вспыхивали огоньками, как в солнечных лучах. Он закурил, стоя в тени; рука его дрожала, когда он поднес к сигарете спичку. Вдруг она подняла голову и посмотрела прямо на него, и во взгляде ее — он мог бы в этом поклясться — промелькнул гнев. Потом она приветливо махнула ему рукой, он ответил тем же, медленно повернулся и ушел.
Настроение, начавшее портиться уже давно, испортилось окончательно. Тернер постоял в темноте, подальше от шумных гостей, прислушиваясь к монотонному звону лягушек и сверчков, и двинулся к костру, где кружком собрались черные и цветные рабочие. Их явно тоже хорошо угостили — голоса у костра звучали громко и весело. Но подойти к рабочим Клиф не успел: его окликнул Джон Эвери. Пора было возвращаться домой.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Черный леопард расстался с матерью и малышами, только когда она ясно дала ему понять, что он ест больше, чем добывает на охоте, а потому его присутствие долее не желательно. Уже три дня шел дождь; равномерный неумолчный шорох дождя принесли с востока черные тучи. Все эти дни молодой леопард ел очень мало, не удовлетворившись тем, что удалось найти на обглоданном скелете маленькой косульей антилопы, даже закусил навозными жуками и ящерицами.
Чтобы убить на этих открытых каменистых склонах косулью антилопу, или клиппшпрингера, или бабуина, или хотя бы дамана, ему был необходим последний стремительный и точный бросок, но мешала раненая лапа, и три раза из четырех он промахивался. Сейчас поджившая было рана снова начала кровоточить; цепочка кровавых следов тянулась за ним по старой лесной дороге, как и месяц назад, и он ступал все более напряженно, точно за ним по пятам следовала сама смерть, готовая вскоре уничтожить блеск черной шерсти, истощить его так, чтобы ребра выступили под шкурой, как погнутые обручи, однако пока еще даже близкая смерть не способна была погасить свет его изумрудно-зеленых глаз, когда он в поисках добычи обходил дальние леса на склонах гор и знакомую долину внизу.
Возле фермы Кампмюллера на него накатила волна запахов, свойственных двуногим существам. В ночной темноте он вынюхивал главным образом собак, которые лаяли и гремели цепями возле хижин, где жили цветные рабочие. По поведению собак было ясно, что все это просто перепуганные одиночки, а никакая не охотничья стая, и леопард медленно, кругами подходил все ближе и ближе, пока на фоне звездного неба отчетливо не проступили очертания крыш и труб над ними. Хищник бесшумно перемахнул через открытый вытоптанный дворик перед крайним домиком, и собака, забившись в угол насколько позволяла цепь, визгливо, истерически залаяла. Он убил ее одним быстрым движением — так домашняя кошка убивает загнанную в угол мышь, — но еще целых пять секунд не выпускал из сжатых зубов. Плотно прижатые к голове уши его чуть подрагивали: лай собак теперь слышался со всех сторон и становился все громче. Он разжал челюсти, уронил собаку на землю между передними лапами и огляделся; потом почти нежно взял свою жертву за плечо и повернул в сторону более темного участка земли, где рос маис. Он сделал несколько быстрых шагов, и собачья цепь, сперва просто гремевшая сзади, вдруг натянулась и заставила его остановиться, поскольку добычу вырвали у него из пасти. Пошатнувшись от неожиданности, леопард выронил оставшийся в зубах кусок шкуры и переднюю лапу своей жертвы и обернулся, чтобы снова схватить ее. Теперь из домика доносились какие-то новые звуки, и вместе с ними леопарду в глаза ударил яркий желтый свет. Прижавшись к земле, он был буквально ошеломлен незнакомыми запахами, хлынувшими из распахнутой двери дома: запахами пота, мочи, керосина, золы и мяса; все это было связано с теми двуногими существами, у которых блестящие глаза и которые опаснее всех прочих зверей в лесу. Губы леопарда приподнялись, в напряженной ухмылке обнажая зубы, когда один из двуногих вдруг двинулся прямо к нему.
Сперва, укрывшись в темной тени, он с раздраженным шипением выжидал, а потом одним прыжком обрушился человеку на плечи, ломая шею.
Черный леопард, подобно всем своим сородичам, живущим в лесах и в горах, знал, что лишь немногие из крупных животных, на которых он охотился, не проявляют при нападении на них никаких неприятных и неожиданных свойств. Даже самые маленькие антилопы могут причинить неприятности.
Самец косульей антилопы, например, очень редко использует свои прямые и тонкие как иглы, но очень острые рога для защиты, особенно если имеет дело с таким могучим хищником, однако же сам леопард, совершив неудачный прыжок или проявив неосторожность, мог очень серьезно пораниться и даже погибнуть, напоровшись на торчащие рожки своей мертвой или умирающей жертвы. Правда, это случалось редко, ибо в течение сотен лет природа производила тщательный отбор, вырабатывая у леопардов инстинкт осторожности путем бесчисленных проб и ошибок, благодаря чему они стали убийцами исключительно искусными. Так вот, с этим странным, отчасти знакомым двуногим зверем, скрючившимся на земле, черный леопард вел себя так, как повелевал ему инстинкт, соблюдая все необходимые предосторожности, остерегаясь того, что в ход может быть пущено что угодно — рога, клыки, когти или острые копыта. Когтистыми лапами он крепко держал человека за плечи, вонзив огромные, выпущенные до отказа когти в его плоть, а разверстая пасть сомкнулась на горле жертвы. И хотя он уже убил человека, еще во время первого прыжка сломав ему шею, но все-таки лег рядом с ним на землю, не разжимая челюстей и на всякий случай под прямым углом к его телу во избежание непроизвольного удара копытами или чего-либо в этом роде, когда двуногое существо будет биться в предсмертных судорогах. Вокруг по-прежнему лаяли собаки, однако же тот новый, громкий звук, эхо которого все еще стояло у леопарда в ушах, затих. Он медленно разжал челюсти на безволосой теплой шее, ибо чувствовал, что жертва его абсолютно недвижима, потом прихватил добычу зубами за плечо и поволок прочь, в заросшую лесом долину.
Нырнув в черную тьму подлеска, леопард снова услыхал крики двуногих где-то далеко позади, причем они становились все громче и громче. Тогда он поспешил вперед, то сбрасывая свою жертву со скалистого обрыва у реки и быстро настигая ее одним прыжком, то снова подхватывая и волоча мертвого человека вверх по склону сильными рывками могучих шейных и плечевых мускулов. Несмотря на мучивший его голод, он остановился, только когда первые проблески рассвета забрезжили над вершинами деревьев. Сперва он полосами содрал со своей жертвы остатки одежды, пустив в ход и зубы и когти, а потом принялся тщательно вылизывать обнажившуюся плоть, все сильнее нажимая языком, пока не попробовал крови, чуть присоленной высохшим потом убитого. Он основательно обгрыз ягодицы и бедра, потом грудь и лег отдыхать, пока лесные птицы проводили свою первую утреннюю спевку.
Через некоторое время леопард снова поел. Весь день он проспал на тенистом уступе довольно далеко от этого места, а ночью снова вернулся и продолжил пиршество. К утру следующего дня, когда проснулись и принялись хрипло перекликаться попугаи, он съел килограммов пятнадцать и, усевшись рядом с остатками, стал умываться, тщательно вылизывая черную шкуру, мощные лапы, когти, морду и даже хвост.
Он был полностью поглощен этой процедурой, лишь изредка прерывая ее довольным хрипловатым урчанием. Наевшись до отвала, он спустился к реке, напился, а потом поднялся на скалистый утес в той стороне долины, которую они с матерью раньше видели из своей пещеры. Там, в дрожащем над раскаленными скалами полуденном мареве, среди крохотных белых цветочков с запахом жасмина он и уснул.
Ближе к вечеру его разбудил звон металла и грохот камней; почти мгновенно зрачки-щелочки отметили какое-то движение среди скал примерно в полукилометре от утеса.
Клиф Тернер понимал, что так называемая охотничья группа не имеет ни малейшей надежды хотя бы мельком увидеть черного леопарда, однако выйти в лес было в данном случае просто необходимо, ибо человека убил, разумеется, тот самый леопард и кровавый след был отчетливо виден там, где он волок свою жертву по земле. Отчетливо были видны и отпечатки лап зверя, по ним они легко отыскали то место, где лежал обезображенный труп. Это событие потрясло местных жителей и весьма неприятно переменило их размеренную жизнь.
Оно коснулось и тех семерых, что стояли в солнечный полдень на скалистой гряде именно там, где Тернер и Эвери впервые повстречались с черным леопардом. Единственным человеком в группе, не скрывавшим своего энтузиазма, был раскрасневшийся от возбуждения репортер местной газеты. Двое полицейских, поскрипывая портупеей и потея на жаре, имели безнадежно-покорный вид людей, которых насильно заставляют заниматься всякой ерундой вроде спасения кошек, забравшихся слишком высоко на дерево и боящихся слезть, или сбором любителей пляжных пирушек, уснувших прямо на мокрой гальке. Согласно их представлениям, они должны были защищать человеческие жизни и предотвращать преступления, а не исполнять обязанности сиделок, гробовщиков или даже, как вот теперь, охотников на леопардов. Однако полицейские стоически, без жалоб обследовали тело погибшего и отправились с «охотничьей группой» дальше, понимая, что до некоторой степени репутация всей полиции в целом может оказаться подмоченной, если они откажутся. У обоих в кобурах было табельное оружие, а что касается прочих вооруженных охотников, то Тернер, ежели что, наибольшие надежды возлагал на девятимиллиметровый «вальтер» Боты. Бота был необычайным силачом с рублеными чертами лица. Тернер хорошо знал и любил его. Некогда черные волосы Боты были сильно пересыпаны сединой, однако кустистые брови ничуть не поседели, словно подчеркивая неиссякаемое жизнелюбие своего хозяина, издавна не дававшее покоя местным, не слишком изощренным в своем ремесле преступникам: мелким воришкам, торговцам даггой, «королевам» притонов, незаконно торговавшим спиртным, любителям поножовщины, которую устраивали обычно в пятницу вечерком, после трудовой недели, пьянчугам, избивавшим жен, и наглым хулиганам. Все они хорошо знали Боту, уважали его и боялись. Вне службы это был печальный, мягкий человек, большой любитель орхидей. Кроме того, он великолепно стрелял и с «вальтером» в руках был совершенно беспощаден. Цветные с фермы Кампмюллера особенно обрадовались появлению сержанта Боты, тем более что все они были столь же неповинны в случившемся, как и их тощие куры, копавшиеся в пыли среди выброшенных остовов старых мотоциклов. В кои-то веки цветным казалось, что сержант Бота на их стороне, и когда «охотники» двинулись в лес, следом за ними устремилось по крайней мере десятка два мальчишек и девчонок всех возрастов и еще какой-то пьяный в стельку старик. Все они радостно галдели, однако хватило одного-единственного жеста Боты, чтобы «сопровождающие лица» кинулись назад, пронзительно вопя от восторга и страха.
Кампмюллер был вооружен винтовкой «магнум» 0,375 калибра; на голове у него красовалась охотничья шапочка, украшенная полоской из шкуры леопарда, что весьма раздражало Тернера; он находил этот наряд наглым и агрессивным и уже успел почувствовать холодок на спине, когда шляпа Кампмюллера мелькнула перед ним в листве. Сам Кампмюллер уже пережил первоначальный бурный восторг оттого, что его мрачные предсказания все-таки оправдались, и теперь притих, сознавая, что ему-то в этой истории придется поволноваться больше других: он как раз собирался убирать урожай картофеля, посаженного на десяти гектарах, и для этого ему нужны были все его работники, включая женщин и детей, так что было бы весьма некстати, если бы цветные решили сейчас покинуть его ферму. К тому же он был очень огорчен гибелью Чарлза Уитбуи — отличного тракториста, давно жившего на ферме.
Джон Эвери тоже был в охотничьей шляпе, с дорогим английским ружьем Саймона Мэнниона на плече; он раскраснелся на жаре и явно играл роль беспечно-смелого и опытного охотника. Последним шел Хендрик Уитбуи, брат покойного. Через десять минут после того, как леопард со своей добычей исчез в ночи, Хендрик уже утешал свою истерично рыдавшую невестку; она вышла тогда из дому, окликнула мужа и обнаружила мертвую собаку и лужу крови на земле.
С шумом собрались проснувшиеся соседи, увидели страшные следы преступления, и над толпой тут же повисло облако извечного, основанного на суевериях ужаса перед тем, кто вышел из тьмы, разорвал на клочки собаку и похитил человека, оставив лишь кровавую полосу на серой, пыльной земле. Светя вокруг керосиновыми лампами и электрическими фонариками, они боялись отходить далеко и так ничего и не нашли, так что Хендрику Уитбуи в конце концов пришлось сбегать по темной лесной тропе к дому Кампмюллера и разбудить его. Машина Кампмюллера своими яркими фарами сразу разогнала тьму над местом трагического события, и все увидели отпечатки лап леопарда.
Было воскресенье. Тернер, успевший рассмотреть следы зверя и отметивший круглый отпечаток культи, возможно лишенной даже пальцев, теперь окончательно убедился, что черному леопарду тогда почти целиком отстрелило лапу.
За день их группа, во-первых, выяснила, что основное логово пустует уже довольно давно, а во-вторых, выполнила весьма неприятную задачу — привезла в деревню труп погибшего и передала его горюющим родственникам и друзьям.
Даже Бота был потрясен, увидев полуобглоданное тело.
Тернер, подняв голову и глядя на верхушки деревьев, сказал ему:
— Знаешь, можно только одним способом добраться до него. Нужно провести ночь прямо здесь, на дереве, и дождаться его прихода. Я уверен, сегодня он придет снова.
Бота поскреб в затылке, попыхтел трубкой и наконец изрек:
— Ох, Клиф, не нравится мне твоя затея!
Особенно неприятно ему было то, что Тернер хотел использовать в качестве приманки человеческое тело. Разве можно разрешить такое? А какую шумиху поднимут газеты! Да и кто, в конце концов, согласится просидеть целую ночь на дереве над останками погибшего, поджидая леопарда-людоеда, который бродит где-то поблизости?
— Не беспокойся, Мартин, — сказал Тернер, словно в ответ на его мысли, — я принесу сюда убитую им собаку. Если он вернется, собака на некоторое время его отвлечет. А еще я попрошу Пола Стандера посидеть со мной за компанию. Это ведь все-таки его участок.
Джин Мэннион послали за Полом Стандером, местным егерем, и ей удалось успешно решить эту трудную задачу после многочисленных звонков по телефону, когда она отловила Пола у приятеля, с которым он проводил воскресный вечер, и привезла в деревню. Все уже были в сборе, и вытоптанная площадка у деревенских ворот напоминала автомобильную стоянку, где в беспорядке были разбросаны машины любых размеров и образцов. Там же стоял и белый фургон «скорой помощи» с красным крестом, и только когда медики в сопровождении полицейского микроавтобуса увезли труп, толпа начала расходиться. Тернер испытал огромное облегчение, когда подъехала Джин и с ней одетый в егерскую форму Стандер. То, что он тогда пообещал сержанту Боте, имело целью всего лишь успокоить полицейского. Бота — хороший полицейский и хороший друг, однако леопард-людоед был явно не по его части; и тем не менее он бы ни за что не оставил Тернера в одиночку охотиться на страшного зверя.
Теперь же, когда объявился Стандер, ситуация вновь оказалась под контролем, и Бота вздохнул с облегчением, хотя и по иной причине, чем Тернер. Джон Эвери давно уже требовал, чтобы и его включили в труппу ночного наблюдения; того же требовал и Кампмюллер, но Тернер проявил удивительное упрямство, заявив, что на дереве едва хватит места для двоих, а о четверых и говорить нечего. И он и Стандер отлично понимали, что четыре человека — это просто смешно: слишком много шума и слишком мало толку, и все-таки с благодарностью отнеслись к предложению Эвери и Кампмюллера. Мужчины вместе в поте лица трудились над устройством некоего подобия помоста на ветвях дерева; Джин дважды ездила — один раз к себе домой и один раз в дом Кампмюллера — за фонариками, за белой тесьмой, за синтетической лентой, за новыми батарейками, за термосом с кофе, за бутербродами, за плоской фляжкой с бренди.
— Будь осторожен, Клиф, — сказала она на прощанье, — и приходи утром завтракать.
Наконец они остались вдвоем среди длинных лесных теней, отбрасываемых закатным солнцем, слушая вечернюю песенку ткачика, нежную и рассыпавшуюся в зарослях тихим смехом.
По уговору оба работали молча, объясняясь знаками. Тернер прикрепил полоску белой тесьмы к прицельной планке своего дробовика, а под ружьем — маленький электрический фонарик. Стандер повесил второй фонарик на ветку у себя над головой и, несколько раз перевесив его, наконец остался доволен: теперь луч света должен был падать примерно в центр того участка, где лежала мертвая собака. Через некоторое время все было сделано, оставалось только вертеться на жестких досках с криво вбитыми в спешке гвоздями, надеясь все-таки отыскать такое положение, в котором можно было бы сносно скоротать ночь. Вечерние сумерки сомкнулись вокруг них, точно дымное облако, задолго до того, как солнце окончательно село. Наступило такое безветрие, что на деревьях не шевелился ни один листок. Винтовка 0,308 калибра, принадлежавшая Стандеру, была заряжена; дробовик Тернера тоже; предохранители спущены, ибо даже самый слабый металлический щелчок мог оказаться чересчур громким. Тернер вдруг принялся дышать широко открытым ртом — ему казалось, что так удастся заглушить бешено бьющееся сердце и лучше слышать; потом он высунул язык и скорчил рожу Стандеру, желая пояснить, что его идиотический вид отнюдь не случаен. Тот буквально скис от смеха и какое-то время беззвучно корчился, так что на глазах у него выступили слезы. Боясь упустить успех своего клоунского представления, Клиф хотел уже снова скорчить Полу рожу, но тут неподалеку от них коротко взревел бушбок.
После этого секунд на десять воцарилась полная тишина, а потом обычные ночные шумы и шорохи возникли снова, точно напоминая, как много вокруг иных живых существ, занятых своими делами. Оба дышали тяжело, хотя Стандер — значительно тише. Тернер чувствовал, как дрожит от напряжения его палец на спусковом крючке. Медленно, куда медленнее, чем все остальное в их прежней жизни, текли минуты, отмечаемые светящимися стрелками наручных часов. Такое нервное напряжение нельзя было выдержать более четверти часа, тем более что они замерли, застыли как статуи на своем помосте. У обоих это был первый подобный случай, и им все еще не верилось, что они имеют дело с кем-то более опасным, чем обычный расхулиганившийся хищник, который непременно упадет мертвым на землю вслед за вспышкой огня и грохотом выстрела, стоит ему коснуться приманки. Когда натянутые до предела нервы немного успокоились, Тернер в который уж раз принялся мысленно сортировать известные ему события на вполне реальные, возможные и непременно связанные с последствиями. Этот леопард-калека был достаточно голоден, чтобы схватить собаку чуть ли не посреди деревни; к тому же собака сидела на цепи рядом с домом.
Возможно, человека он убил просто случайно, от страха, оказавшись во власти инстинкта, а потом, обнаружив это, уволок свою жертву прочь и сожрал. Очень и очень похоже, что в итоге это окажется всего лишь единичным случаем людоедства, хотя чисто формально этого зверя теперь следовало действительно считать людоедом. С другой стороны, была вероятность, что леопард, обнаружив другой, относительно легкий объект охоты, непременно нападет снова при первой же возможности, а пока будет придерживаться обычной диеты. Тернер понимал, что это может привести к весьма сложной ситуации — как в плане выслеживания опасного зверя, так и в плане кровавой мести со стороны людей всем леопардам вообще, обитающим в данном регионе. Возможно также, что черный леопард болен бешенством, хотя Тернер хорошо знал: зверь, обнаруживающий явные признаки водобоязни, непременно умирает в течение недели, а со времени первого нападения на лесников прошло уже больше полутора месяцев.
В быстро сгущавшейся тьме лицо Пола Стандера было едва различимо и казалось бледным, расплывшимся пятном в завесе густой листвы, разделявшей их. С поляны, где лежала мертвая собака, не доносилось ни звука, а значит, леопард еще не приступил к трапезе, ибо те звуки нельзя было бы спутать ни с чем. Тернер почувствовал, как по спине пробежал холодок страха; душа застыла от суеверного ужаса, когда он подумал, как гибкий черный зверь, прижав к змеиной голове уши, крадется безмолвно в ночи — зрачки глаз предельно расширены, когти спрятаны в подушечки огромных лап, ступающих чуть косолапо и удивительно мягко, совершенно неслышно. Будучи зоологом, Тернер понимал, что черный леопард ни в чем не отличается от прочих представителей своего семейства, за исключением случайно проявившегося гена меланизма, и тем не менее даже он не мог полностью освободиться от ощущения, что черный цвет всегда связан с особой опасностью, со способностью вести себя иначе, чем другие, со сверхъестественной храбростью и силой, с колдовством, со Злом. Однако не только от этого пробегали у него по спине мурашки: мысль о реально существующем леопарде-людоеде, о хищнике, который любой другой добыче предпочитает людей и для того тщательно изучает их повадки, отлично понимая, сколь беззащитен перед ним человек и какой страшной может стать людская месть, не давала ему покоя. Он, так или иначе, остался всего лишь обычным хищником, однако изменившим своей привычке питаться четвероногой дичью, предпочитая дичь более крупную и двуногую, и теперь представлявшим собой смертельную опасность для людей, способным поселить в душе любого из них атавистический ужас. Занимаясь леопардами, Тернер прочитал практически всю доступную ему литературу, посвященную им. Не таким ли был леопард-людоед из Северной Индии, убивший четыреста человек? А в Африке, значительно ближе к его родному дому, хотя и на две с лишним тысячи километров севернее, на реке Замбези, леопард за один лишь год убил тридцать семь человек. Но здесь-то, на самом юге, этого просто не могло быть, уверял он себя. И снова спрашивал: а почему, собственно, нет?
Оба мужчины, словно соревнуясь друг с другом в неподвижности и молчании, оборачивались друг к другу только для того, чтобы кивнуть или показать взглядом, что слышат каждый шорох внизу на поляне, слева от их дерева. Впрочем, это могли быть, например, генетты, привлеченные запахом приманки, или мангусты. А ведь ночь еще только началась! Тернер вздохнул: придется все же переменить положение — его мочевой пузырь вот-вот лопнет. Вдруг Стандер каким-то странно задушенным голосом вскрикнул и стал резко заваливаться назад, потом схватился за ветку, дерево и настил сильно встряхнуло, оглушительно выстрелило заряженное ружье, и Тернер, чуть не слетев со своего помоста, уставился прямо в глаза черному леопарду. Он успел увидеть перед собой лишь сверкающие глаза, белые клыки и почувствовать смрадное дыхание зверя, когда понял, что леопард взобрался на дерево и уже вцепился одной лапой в спину Стандера, а другую занес для удара. Тернер изо всех сил ударил хищника прикладом.
Приклад скользнул по треугольной голове, послышался треск, Стандер качнулся вперед, и леопард с глухим стуком спрыгнул вниз и исчез во тьме. Снова воцарилась тишина. Стандер воскликнул: «Господи, помилуй!» — и оба тут же вскочили на настил и встали, держась за центральную ветку. Тернер посветил фонариком вниз, одновременно целясь из ружья; луч фонарика высвечивал проходы в зелени подлеска, отдельные ветки с пятнистой листвой и стволы деревьев, которые, казалось, готовы были прыгнуть на людей — так напоминали в темноте зверя с пестрой, покрытой коричневыми и белыми пятнышками шкурой. Клиф поставил ружье на предохранитель и направил свет Стандеру в лицо, встревоженно его осматривая.
— Пол, с тобой все в порядке? А ну-ка повернись, дай посмотреть.
— Господи, это ведь тот самый чертов леопард, Клиф! И он охотился именно на нас! — Голос Стандера звучал как-то странно.
— Повернись-ка, Пол, дай я посмотрю, — повторил Тернер, и Стандер, ощупывая спину левой рукой, медленно повернулся.
Толстый вязаный свитер, который он повязал вокруг пояса, оказался разодранным в клочья, как и рубаха на спине; его кожаный ремень был точно аккуратно разрезан надвое, концы его болтались по бокам. Однако на самом Стандере не было ни царапины, хотя он был уверен, что зверь все-таки задел его своими когтями, и успокоился, только когда Тернер с помощью второго фонарика еще раз тщательно осмотрел его спину.
— Нет, ничего, Пол, ни единой отметины, я уверен. Он вцепился в твой ремень — это тебя и спасло, но берегись, парень, он может еще вернуться. — И Тернер снова осветил фонариком подлесок и долго осматривал поляну. Вдруг он воскликнул: — Господи, да ведь этот гад собаку стащил!
Они долго молча вглядывались в то место, где лежала приманка, однако собака действительно исчезла.
Через некоторое время Стандер сказал:
— Черт, я, кажется, плечо потянул, ведь эта тварь меня чуть пополам не разорвала. Просто сумасшедший какой-то зверь! Ну что теперь будем делать, Клиф? Вот еще проклятье!
Ничего им не оставалось делать — только ждать утра. Даже и разговора быть не могло о том, чтобы слезть с дерева и вернуться в деревню. В течение последующих трех часов они пили бренди, курили и разговаривали, надеясь, что света двух фонариков хватит, чтобы пережить эту долгую ночь. Они уже больше не были охотниками: теперь охотились на них, а до рассвета было еще далеко.
Тернер продолжал бесконечный разговор с самим собой — именно в этот самый темный час ночи в душу закрадывались куда более ужасные, чем ночные кошмары, мысли. Он изо всех сил пытался отогнать их, однако перед ним снова и снова возникал образ вполне реального существа из плоти и крови, очень опасного, бывшего заодно с ночью и явившегося из черного леса, точно призрак, которому не место в нормальной системе вещей. Он готов был не верить собственным глазам, ибо тот факт, что леопард специально подкрался к ним, сидевшим высоко на дереве и, как они предполагали, в относительной безопасности, противоречил здравому смыслу, так что мысли Тернера, как заколдованные, не желая подчиняться логике, снова открылись навстречу образам старинных преданий и мифов.
Ему представлялся зверь-людоед и обреченный на вечные страдания дух последней жертвы этого зверя, сидящий на нем верхом и не имеющий иной возможности спастись, кроме как заменив себя таким же «седоком». Согласно этому восточному преданию, припомнил Тернер, трепеща от иррационального ужаса, тот страшный всадник обречен вечно скитаться без приюта, если зверь под ним будет убит, так что он сам с готовностью и превеликим мастерством направляет своего «коня» не только навстречу очередной жертве, но и помогает ему в борьбе против тех, кто жаждет людоеда уничтожить.
А еще на Востоке считают, что если усы убитого зверя-людоеда не оборвать сразу, то волшебная сила, заключенная в убитом, станет давить на охотника-убийцу, пока не раздавит совсем. Необъяснимый ужас, испытываемый людьми перед дьявольски умным людоедом из Рудепурта, выразился в том, что когда того наконец убили, то усов у него вообще не обнаружили! Тернера пробрал озноб.
«Ликантропия» и «териоантропия» — эти термины выползли откуда-то из подсознания, мешая нормально мыслить.
Ликаон, превращенный в волка Юпитером; вервольфы и оборотни, один ужаснее другого, люди в обличье хищников, хитрые и жестокие, безжалостно убивающие и питающиеся только человеческой плотью… Тернер закурил и в свете спички увидел лицо Стандера: чуть выступающие вперед зубы, очень белые, похожие на клыки хищника; заросший черной щетиной подбородок; прислоненная к стволу дерева и чуть откинутая назад тяжелая голова… Лицо это менялось у него на глазах, вроде бы на нем даже появилась злобная усмешка… Не владея собой, Тернер вдруг лягнул Стандера ногой. Глаза «чудовища» открылись, «демонические» черты его лица сразу смягчились, и снова перед ним возник Пол, испуганно фыркавший из-за слишком резкого пробуждения.
— Извини, Пол, я тебя испугал, наверно, — хрипло проговорил Клиф.
— Господи, — пробормотал Стандер, — а я уж решил, что это снова тот чертов леопард.
Помолчали. Потом Тернер сказал:
— Ты бы лучше все-таки не спал, Пол. Еще с дерева свалишься.
— Да, верно, не стоит. — И с неожиданной горячностью он прибавил: — Да если б и свалился, так, черт побери, птицей на помост бы взвился, до земли долететь не успел!
Ни один из них даже не усмехнулся этой шутке. Тернера мучила совесть, однако он решил, что не стоит сейчас что-то объяснять Полу — все равно не поможет, да и смысла не имеет.
В темноте красные огоньки их сигарет мелькали, точно огненные мухи, порой освещая красноватым светом ближние ветки, выхватывая из черноты лица.
Тернер спросил:
— Ты знаешь, кто такой Ван Вик Лоу?
— Нет, а кто это?
— Один поэт. Писал на африкаанс, умер году в семидесятом.
— А, понятно. Я думал, это кто-то из сотрудников заповедника. Нет, такого поэта я не знаю. — Последовало длительное молчание, потом Стандер сказал: — Я все пытался представить себе, о чем ты думаешь, но — сдаюсь. Честно говоря, мне и самому-то в голову черт знает что лезет!
Оба наконец рассмеялись с облегчением, снова почувствовав общность мыслей и устремлений, словно каждый из них только что проделал долгое путешествие в одиночку сквозь непроницаемую ночную тьму.
— А я все пытался вспомнить одно довольно длинное стихотворение, только ничего не вышло, зато название в голове почему-то застряло. К тому же я не настолько хорошо знаю африкаанс, чтобы полностью понять этого поэта. А стихотворение называлось «Черный леопард». Символично, верно?
По-моему, он написал это под впечатлением Дантова «Ада», однако у него самого «зверь черный, но все ж прекрасный», что в африканском контексте, насколько я знаю, является воплощением идеи недостижимого совершенства — не то чтобы законом благородства для «дикарей», но неким идеалом чистоты, свободы от любых условностей и предрассудков. Некий усложненный вариант повторного оплодотворения матери-земли; этакий молодой побег интеллектуальной честности, когда, например, прекрасная чернокожая женщина становится предметом вожделения, естественно, без учета разных кальвинистических соображений на сей счет. Наверное, мне тоже кто-то растолковал смысл этого стихотворения — кто-то из знающих и африкаанс, и поэзию лучше меня. Очень неясная вещь. И, по-моему, неоконченная, словно в конце поэт так и не смог, будучи уроженцем Южной Африки, вырваться за рамки определенных условий, хотя и очень этого хотел. Словно это был некий преждевременный протест против того, что его душило; и он понимал, что его губит, но даже в виденьях и снах не сумел спастись — от себя.
Стандер хмыкнул:
— Да уж, от собственных мыслей порой действительно не спасешься! Вот кому такое стихотворение бы понравилось, так это Кампмюллеру! (Оба засмеялись.) Значит, «Черный леопард»? Надо обязательно прочитать. Наверное, не вредно и нам знать, что наших поэтов тревожило.
Голос его звучал насмешливо, но Тернеру вдруг показалось, что Пол как бы отказывает ему, аутсайдеру, в способности понять мистическую душу настоящего африканера.
Во фляжке осталось всего несколько глотков бренди, и они разделили их в дружелюбном молчании.
— Чтобы чувствовать себя совершенно свободным в интеллектуальном плане, — проговорил вдруг Стандер, — приходится идти на большие жертвы.
— Я знаю.
— Отсекать свои корни, при этом, возможно, теряя саму способность выжить. Завидую я вашей английской либеральной свободе!
— А я, пожалуй, завидую вам, африканерам. Не так это просто — чувствовать себя свободным. Быть свободным по-английски хорошо и естественно в самом Соединенном Королевстве, в Европе, но в современной Африке у свободного мышления другая задача. Здесь оно… в определенном смысле превращается в бремя из-за враждебной ему атмосферы, бесчисленных предрассудков, из-за различий в цвете кожи, в языке, в культуре… Нет, я имею в виду не только различия между черными и белыми. Здесь важно понимание всех точек зрения, всех мотиваций, и по мере осознания собственного бессилия человек становится как бы отрицательно заряженным, что ли…
Они снова долго молчали, потом Стандер сказал:
— То, что описываешь ты, недуг международный. Всякие там недопонимания и исторически сложившиеся фобии…
— Возможно, ты прав, — откликнулся Тернер, — но здесь недуг этот проявляется в острой форме и затрагивает практически всех, точно в замкнутом микрокосме.
— И всей этой красоты он тоже касается? И всего хорошего?
— Да, и этого. Ты совершенно прав, Пол.
Устроившись поудобнее, они погрузились в молчание; и негромкое биение сердца ночного леса доносилось до них, точно шепот множества существ. Тернер представлял себе, что видит этот лес глазами совы, летящей на мягких крыльях, скользящей бесшумно под таинственным, бескрайним, мрачным сводом небес, опускающейся к темным ручьям, берега которых светятся ночными цветами, прекрасными среди разлившихся озер их собственного аромата. Порой он на какие-то мгновения погружался в сон и тут же резко просыпался; ему снилось, что впереди него бежит Джин Мэннион и зовет его тоже бежать с нею вместе. Однако во сне она была иная, похожая на темного духа, воплотившего в себе все прекрасное и недостижимое, и наготу ее прикрывала лишь шкура черного леопарда. Во сне Джин насмешливо улыбалась ему и все бежала и бежала, легко, широкими прыжками, и черные волосы ее волной летели за нею вслед.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Лишь через три недели газеты оставили наконец тему нападения леопарда на человека и тему черных леопардов вообще, и, надо сказать, сделали это неохотно. Они успели раскопать множество старых историй о бесследном исчезновении людей в данной местности и даже опубликовали один несколько истерический материал о том, как некий странный след был обследован Тернером (вместе с корреспондентом местной газеты) исключительно для того, чтобы в итоге выяснить, что следы эти принадлежат огромному датскому догу, хозяином которого являлся ближайший сосед того самого корреспондента. Тернер переставил свои фотоловушки в те долины, что граничили с фермами Джин и Кампмюллера, но за последнее время ему удалось получить только фотографии двух генетт, одной рыси и одного барсука. Джин даже обрадовалась тому, что зверья возле ее дома так мало, и леопарды были забыты всеми, кроме Тернера и Стандера.
В первую ночь февраля, в полнолуние, Тернер устроил-таки вечеринку в своей пещере. Он вместе со своими двумя помощниками целый день таскал в пещеру стаканы, рашперы, ящики с мясом, ящики с пивом и вином, керосин, дополнительные светильники и дрова. Они, насколько это было возможно, привели пещеру в порядок и так постарались уложить пол из плавника, что даже получилось нечто вроде шаткой, но все же сносной танцевальной площадки. Тернер позаимствовал даже магнитофон. Сияющее полуденное небо подтверждало, что вечер будет тихим и теплым, а у Тернера в такие замечательные вечера всегда возникало некое чувство вины за собственный эгоизм и грустная ностальгия из-за того, что не с кем разделить такую красоту: сверкающие огромные волны, сверкающий песок на пляже, серебристые шали пены у кромки прибоя на пологом берегу и продолговатая полоска пляжа, залитая водой и похожая на огромное зеркало, в котором любуется собой сама луна, созерцая окружающую ее девственную прелесть ночной тиши. Маленькая бухта и песчаный берег были окружены точно такими же высокими крутыми утесами красноватого цвета, как и те, что украшали всю гористую часть южного побережья. Сама пещера находилась не более чем в тридцати метрах от пляжа, чуть выше, а добраться туда можно было по старой расселине, некогда пробитой в этих скалах рекой. Однако если бы не полузаброшенная дорога, ведущая на лесоразработки и находившаяся еще метров на сто выше, то ни до пляжа, ни до пещеры, отделенных от основного шоссе широкой полосой непроходимых колючих зарослей, никто бы вообще не добрался, разве что самые большие энтузиасты из местного лесничества. Впрочем, так или иначе, окрестные леса были недоступны широкому кругу посетителей — для этого требовалось особое разрешение, — и рыболовы-авантюристы, пытавшиеся пробраться в бухту прямо по скалистому берегу со своими спальными мешками и рюкзаками, в итоге упирались в непреодолимую преграду из неприступных утесов. На одном из открытых участков пляжа, где валялась теперь целая коллекция плавника, некогда стояла хижина одного бродяги, жившего тем, что он собирал на берегу, — полукровки по имени Синклаар, что, по всей видимости, означало искаженное Сен-Клер, и Тернер частенько удивлялся раньше, как это человеку могло прийти в голову поселиться в столь пустынном месте. Давным-давно заброшенная, полуразрушенная хижина лично его устраивала главным образом потому, что местное лесничество не требовало за нее платы, а кроме того, здесь были практически дикие края с почти идеальными условиями для жизни леопардов, ибо во все стороны от этого места раскинулся огромный лесной массив. Надо сказать, что жить в пещере он решил по собственной инициативе — исключительно из любопытства и жажды приключений.
Казалось, три десятка гостей заполнили пещеру до отказа, и все-таки в ней хватило бы места и для сотни человек.
Тщательнейшим образом расставленные свечи и керосиновые лампы мягко освещали каменные высокие своды пещеры, делая ее похожей на главный зал средневекового замка, где горит камин. Вино в стаканах поблескивало рубиновыми искорками, точно было полно огненных мух. В общем, удивительный эффект придуманного Тернером освещения явился неожиданностью даже для него самого, ведь до того он просто немного поэкспериментировал с тремя керосиновыми лампами и пятью свечами, а потом увеличил это количество втрое, однако же особую прелесть и освещению и вечеру придавало море, светившееся само по себе; каждая волна, то набегая, то вновь отступая, вспыхивала волшебными зеленоватыми огоньками. Вода была ласковой и теплой, словно сама луна и увлекшееся пиротехническими эффектами море излучали не только свет, но и жар. Казалось, единственными из гостей, кто не стал купаться, были Майк Превальски и Кампмюллер — их фигуры темнели у костра на берегу. Пол Стандер и Джон Эвери, высоко подскакивая на волнах, о чем-то поспорили на бутылку вина; рядом с ними слышался девичий смех. Тернеру было удивительно приятно плескаться на мелководье и думать, что Джин где-то поблизости, словно соединенная с ним этой водой; он медленно плыл вдоль пляжа, едва шевеля ногами и вертя головой в водовороте голосов и пенных брызг, чтобы увидеть Джин, — он смотрел на нее с тех пор, как все его гости точно безумные бросились купаться. На фоне темных скал маленькой бухты, покрытых раковинами мидий, ее голова, облепленная мокрыми волосами, казалась черной и гладкой, как у тюленя.
Когда Клиф окликнул ее, она обернулась и застыла, чуть приподнимаясь на пенных гребнях волн и подняв руку то ли в испуге, то ли в приветствии. Порой ему был виден темный треугольник внизу ее живота и все ее стройное тело — плечи, грудь, тонкая талия, изящные бедра, — объятое зеленым сиянием. Кольца зеленого огня колыхались у его ног, когда он шел к ней по воде; она стояла неподвижно, лишь касаясь кончиками пальцев фосфоресцирующих волн, и явно не собиралась нырнуть и уплыть, как русалка, плеснув на прощанье хвостом, хотя сперва ему показалось, что она вполне может это сделать. И именно потому, что она так доверчиво стояла перед ним, не делая ни малейшей попытки нырнуть в спасительные морские глубины и уплыть с плеском прочь, он исполнился чувства восхищения и восторга, вполне созвучного этой великолепной светлой ночи, плывшей в шуме морских валов, похожем на биение огромного сердца какого-то первобытного гиганта. Они стояли, почти касаясь друг друга; рука Тернера так и застыла в приветственном жесте. Был полный штиль. Клиф смотрел Джин в лицо, и его легкое дыхание чуть шевелило тонкую прядку волос, прилипшую к ее щеке, пока она нетерпеливым движением головы не отбросила волосы назад и не убрала рукой щекочущую прядку Потом подняла к нему лицо, и он губами нежно обвел контур ее губ, ощущая вкус соленой воды, клубники и аромат ее дыхания; руки его поднялись, встретились на полпути с ее руками, а потом обе пары рук принялись гладить теплые плечи, обнимать, ласкать…
Она отстранилась, но очень медленно, не резко, стараясь не смутить его.
— Когда-нибудь, хорошо? Обещай мне, пожалуйста, — сказал он.
— Может быть, когда-нибудь, — прошептала Джин. — А теперь пора на берег, дай я пойду первой. — Она разомкнула его руки, нырнула во тьму и через секунду исчезла в пенных брызгах.
Тернер поплыл за нею следом, взбивая ногами белый бурун; у берега его с головой накрыла волна, и его радостный крик утонул в пляшущих пузырьках и кипении пены.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Когда леопард вернулся туда, где оставил свою последнюю добычу, то слегка встревожился произошедшими там переменами. Сперва ему показалось, что убитый двуногий каким-то образом переместился на дерево, хотя раньше лежал на том месте, где теперь оказалась собака, которую леопард тоже признал своей собственностью. На дереве, как он ни напрягал раненую заднюю лапу, лишенную цепких когтей, он потерял равновесие и упал, когда какой-то живой двуногий чем-то ударил его сверху по голове. Потом раздался оглушительный выстрел и такие же крики, какие он уже слышал однажды, и среди листвы над ним замелькали огоньки, что вполне соответствовало тем звукам, которые леопард привык соотносить с появлением более чем одного двуногого существа. Бросившись обратно через поляну, он по пути прихватил с собой свою собаку и сожрал ее не более чем в ста метрах от этих чрезвычайно шумных, однако довольно безвредных существ, сидевших на дереве, про себя отметив, что они удивительно похожи на бабуинов и макак. Леопард не мог не сознавать и того, что двуногие оказались значительно вкуснее обезьян, вытеснив тех на второе место, и все-таки он предпочел бы никогда больше не иметь дела более чем с одним двуногим.
В самый темный час ночи, перед рассветом, черный леопард снова подошел ближе к почти затихшим существам на дереве и стал рассматривать внимательно и жадно их застывшие силуэты. Скорчившиеся на ветвях дерева и поразительно похожие на бабуинов, эти двуногие были соблазнительно легкой добычей, и леопард уже начал внутренне готовиться к прыжку, напрягая мышцы и сухожилия, когда на голову ему вдруг обрушилась струя теплой вонючей мочи; он пригнулся и бросился прочь, отряхивая уши. До рассвета он шел на восток от поляны. Весь следующий день провалялся, прячась от дождя и подремывая, в пещере под нависшей скалой, на высоком утесе в речном ущелье. Через двое суток, однако, леопард забеспокоился: его мучил голод. Он спустился в ущелье и решительно двинулся в сторону возделанных полей и плантаций на склоне холма. Отыскивая в лесу тропинки, протоптанные теми, на кого он собирался охотиться, он вел себя как обычно, когда преследовал дичь.
Бигбой Мапанья уже много раз успел прокрутить деньги, полученные за даггу, хотя с тех пор, как он ушел с лесопилки, где работал водителем гидравлического подъемника, прошло всего три года. Доходы от его деятельности волка-одиночки весьма радовали: он купил новый «форд» и хорошую одежду, пил свое любимое виски, а теперь появилась еще и хорошенькая цветная бабенка Рози, которая любила его и особенно те подарки, которые он ей непременно приносил. Остановка «Прелестная долина» была последней в его маршруте, и он всегда старался заехать туда вечером в пятницу. Бигбой был чистокровным коса, так что родственники и друзья Рози из ее лесной деревушки сперва относились к нему подозрительно, однако регулярность его визитов и щедрость — он не скупился ни на даггу, ни на спиртное — вскоре рассеяли все их опасения. На самом деле то, что у Рози появился богатый, весьма неглупый и ловкий чернокожий ухажер из города, снискало ей даже некоторую славу среди соседей и — что было куда важнее — уважение отчима, который теперь частенько интересовался, хорошо ли она заботится о своем поклоннике и доволен ли тот ею. Бигбой был очень осторожен и дисциплинирован, занявшись новым делом, в отличие от многих других, весьма глупо попавшихся стражам закона из-за собственной беспечности. Он, например, никогда не курил даггу, хотя наркотики у него были первоклассные, не пил, особенно за рулем, и старался всегда вовремя платить страховку и регистрировать водительские права. Задние огни и фары у его автомобиля были всегда в полном порядке — он проверял их перед каждой поездкой, — а чтобы не слишком бросаться в глаза, носил синий комбинезон и кепку с козырьком, какие носят рабочие из гаража. Последний поворот на извилистой грунтовой дороге — все. Здесь ездили редко, кругом был лес.
Бигбой посмотрел на часы и, хотя он нисколько не опаздывал, обычного подъема настроения почему-то не испытал.
Все началось еще в Порт-Элизабет, когда холуи Мазайяни пригласили его на деловую встречу. Там присутствовал и сам шеф — в темных очках и в шляпе с широкими полями; при электрическом свете он выглядел особенно зловеще. Мазайяни отметил, что Бигбой толстеет, а стало быть, есть надежда, что дела у него идут успешно и пойдут еще лучше, если Бигбой окажет ему одну небольшую услугу, суть которой разъяснит Бигбою «товарищ», что сидит слева от него. Несмотря на поползшие по всему телу мурашки и холодок в животе, Бигбой улыбнулся, продемонстрировав все свои распрекрасные зубы и прямо-таки лучась от восторга по поводу грядущего сотрудничества с Мазайяни и «товарищем» слева, который оказался маленьким, очень темнокожим человечком с абсолютно равнодушным взглядом, без малейшего проблеска улыбки. Щеки у него были удивительно пухлые, из-за чего он походил на круглолицего и щекастого мальчишку, а белки глаз чуть желтоватые.
Бигбой в душе прямо-таки вздрогнул, услышав слово «товарищ», такое близкое и родное для африканца, однако неожиданно плаксивый тон и весьма странный акцент — «товарищ» говорил на ломаном коса — разочаровали Бигбоя и заставили насторожиться. Когда этот тип добрался до сути дела, Бигбой испытал облегчение: он всего лишь должен был отвезти довольно увесистый конверт одному человеку, жившему в поселке недалеко от Книсны. Конечно, это лишние двадцать пять километров в сторону, что может нарушить весь его график или, по крайней мере, помешает провести вечерок с Рози, однако Бигбой всем своим видом демонстрировал полную готовность и проявил достаточно благоразумия, чтобы не задавать вопросов и даже не намекать, во что ему обойдется бензин. Возможно, потом ему заплатят, однако сердце у него упало при мысли о тех заданиях, которые неизбежно последуют за первым. Бигбой отнюдь не был ни борцом за свободу, ни саботажником: оба эти занятия он считал весьма опасными, малоэффективными и приносящими одни неприятности. Кроме того, слишком тяжело, когда требуют, чтобы человек сжег за собой те мосты, от которых, собственно, и зависит все его благополучие. В том конверте, как ему объяснили, весьма важные документы, так что он должен хранить его как зеницу ока. Ему совершенно ясно дали понять, что золотистый поток дагги из Транскеи тут же прекратится, если он сделает хотя бы один шаг не в «интересах дела», однако напоследок, показывая доброе к нему отношение, темнокожий коротышка вручил ему банкноту в десять рандов на бензин, а потом они прикончили бутылку бренди.
Бигбой снова посмотрел на часы, поднеся их к самым глазам, ибо уже сгущались сумерки. Несколько окошек светились в том поселке, где жила Рози, и он неторопливо поехал дальше, размышляя, как бы ему поудобней передать это письмо. На знакомом перекрестке он свернул с основной дороги и проехал еще километра три по узенькой, но хорошо укатанной грейдером боковой дорожке, окруженной темными стенами лесных деревьев. Остановился он у заброшенного склада под большим дубом, выключил двигатель и со вздохом вылез из машины. Потом закурил сигарету и прислонился к освещенному изнутри кузову. Времени у него было более чем достаточно — отсюда до места встречи с последним из заказчиков дагги минут пять ходьбы. Однако ему никогда не нравились эти прогулки пешком по мрачному, враждебному лесу.
Он часто жаловался своим клиентам, но сочувствия не дождался. Однажды, вспоминал он, из-за проливного дождя лесная тропа стала ужасно скользкой… Он вздохнул, потянулся, негромко хлопнул дверцей, залез в багажник и вытащил оттуда грубую сумку из мешковины, на три четверти наполненную даггой. На это потребовалось некоторое время: сумка лежала на самом дне, под старыми автомобильными покрышками, что было вполне разумно на случай неожиданного обыска.
Чтобы окончательно подавить в себе страх перед лесом, Бигбой несколько раз как следует глотнул из плоской фляжки, которую достал из заднего кармана брюк, затем взял в руки электрический фонарик и двинулся по тропе.
В глубине леса, среди особенно высоких и темных деревьев, верхушек которых свет его фонарика даже не достигал, Бигбой испытал странное ощущение, будто кто-то его преследует. Он остановился у маленького ручейка, журчавшего меж поросшими мхом камнями, и немного постоял, прислушиваясь, потом осветил фонариком уходящую в лес тропу сзади и перед собой, где она вскоре сворачивала, так что луч фонарика наткнулся на темную стену леса. Как всегда, больше всего его угнетала именно эта абсолютная тишина, царившая здесь, и слабое журчание крохотного ручейка у него под ногами только подчеркивало эту тишину. Светя фонариком перед собой, он вдруг ощутил страшный удар, на спину ему обрушилась невероятная тяжесть, швырнула на землю, и почти в тот же миг горло сдавило так, что невозможно стало ни вздохнуть, ни крикнуть. Угасающее сознание его еще отметило холодные влажные камни под щекой и страшное рычание, от которого он вздрогнул всем телом, а потом горло сжало еще сильнее, и, прежде чем окончательно уйти в беспамятство, он на мгновение почувствовал острую боль.
Черный леопард не отпускал свою жертву, пока та не перестала дергаться. Потом он выпрямился и облизал окровавленную пасть. Сжав плечо человека своими мощными челюстями, он потащил добычу в заросли на берегу ручья.
Рози отнеслась к тому, что Бигбой так и не пришел, философски, однако в следующую пятницу ждала его уже со все возрастающим нетерпением. Когда же миновало второе воскресенье, а ее благодетель так и не появился, она сперва сильно огорчилась, а потом пришла в ярость, когда отчим стал обвинять ее в том, что накануне она плохо разложила карты, из-за чего удача от нее и отвернулась.
Бигбой Мапанья бесследно исчез. Его фонарик нашли на тропинке дети и захватили с собой. Его автомобиль две недели простоял под дождем и под солнцем, и в конце концов полицейские перегнали его в Книсну и тщательнейшим образом обыскали: в багажнике была обнаружена дагга. Мазайяни в тревоге ждал возвращения Бигбоя, а «товарищ» поглядывал на него при каждой встрече все более холодно, а потом тоже исчез, накануне разразившись гневной тирадой в адрес Мазайяни. Мазайяни осталось лишь ждать, когда за ним придут из полиции, и он столько раз репетировал свою легенду, что под конец уже и сам почти поверил в нее. При необходимости он мог бы даже описать своего низкорослого дружка и заявить, что тот его шантажировал, угрожая убийством, однако он все же надеялся, что до этого не дойдет.
В самый разгар лета, когда на всех пляжах и дорогах буквально кишели люди, черный леопард убил еще троих. Одним из них был старый пастух, живший одиноко, так что его никто всерьез не искал дней десять, когда леопард утащил свою жертву в ночную тьму. Хозяин фермы хватился старика в пятницу, когда тот не пришел в маленький магазинчик, чтобы забрать жалованье и купить, как обычно, продуктов и курева.
Фермер сам заехал к нему днем в понедельник и обнаружил лишь тощих цыплят, рывшихся в золе остывшего очага. Имущество нищего пастуха все было цело. Тогда фермер поехал в деревню, надеясь там узнать о старике, однако пастух жил отшельником и никто из работников не знал, куда он подевался. Решили, что он, возможно, отправился в гости к дочери и там приболел, но его дочь, как раз случайно заглянувшая в магазин, сообщила, что в последний раз видела отца недели две назад. Фермер любил старого пастуха, знал его всю жизнь и даже платил ему пенсию, когда тот утратил способность работать; мысль о том, что старик мог умереть где-нибудь в горах и все еще лежит там, непогребенный и всеми забытый среди скал и камней, была ему невыносима, и он организовал поиски, взяв пятерых помощников. В конце концов они нашли старика. Страшно взволнованный, потрясенный видом его истерзанных останков, фермер позвонил в полицию.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Леопард шел за небольшой группкой цветных детишек уже с полкилометра, порой останавливаясь и нюхая следы, оставленные их босыми ногами, порой присаживаясь и наблюдая за тем, как они швыряют камнями в указательный столб. Его больше разбирало любопытство, чем голод, а эта стайка маленьких двуногих вела себя очень забавно. Они болтали и пели, а когда один стукнул другого кулаком, то возник совершенно новый звук, который леопарду следовало запомнить, — обиженное нытье. Услышав плач маленького двуногого, леопард нырнул в кусты возле тропинки и напряженно ждал, ибо инстинкт подсказывал ему, что на жалобные крики молодняка обычно являются взрослые особи. Он следом за детьми пересек пыльную лужайку на опушке и повернул назад, лишь заметив резкий блеск оконного стекла и услышав громкий лай собаки. Ночь он провел рядом с деревней, в лесном ущелье, а рано утром вернулся к тропе и залег под дикой оливой, положив морду на лапы, на теплой подстилке из листьев и подальше от влажной травы. Дети всегда первыми проходили утром по этой тропе, потому что занятия в школе начинались рано.
Сегодня они вели себя тише, чем вчера, занятые мыслями о предстоящих уроках и еще не совсем проснувшиеся, а один из них шел особенно медленно, отставая от остальных и еле волоча ноги по песку. Свой коричневый портфель он тащил рядом с собой, воображая, что это пароход, плывущий по траве и песчаным дюнам, как по волнам. Леопард услышал детей задолго до того, как те поравнялись с ним, хотя шли они очень тихо, и когда первые пятеро прошли мимо, зверь припал к земле, напрягся, выпрямил хвост и приготовился к прыжку. Глаза его выжидающе вспыхнули зеленым светом, зрачки расширились. Мальчик, что шел последним, не слышал, как мягкие лапы, ступая чуть вразвалку, пробежали по песку, и не успел почувствовать тот единственный удар сзади, который мгновенно его убил, однако остальные дети обернулись на крик его сестры и увидели огромного черного зверя, возвышавшегося над поверженной жертвой. Девочка как раз хотела отругать братишку и поторопить его, когда увидела неясную черную тень, мелькнувшую в воздухе, лапу с белыми когтями, нанесшую удар, взметнувшийся фонтаном песок…
Потом черная тень застыла, подняла голову и вдруг посмотрела на девочку ярко-зелеными глазами.
Дети с плачем и криками влетели на школьный двор. Учитель сердито вскочил, заслышав этот шум, и выбежал из класса, а за ним и остальные школьники.
— Stilte! — закричал он. — Stilte, was it dit met julle?5
Однако же прошло немало времени, прежде чем он начал хоть что-то понимать, чувствуя трагичность происшедшего и принялся расспрашивать плачущих детей.
— N’ swart ding? — снова рассердился он. — Watter soort swart ding; was it dit met julle?6
Они пошли с учителем назад по тропе, но близко ни за что подходить не желали. Потом двое из старших мальчиков осторожно двинулись за ним следом. Когда учитель подошел к тому месту и оглянулся через плечо, дети закричали и замахали руками:
— Daar, meneer, daar, net daar!7
Но никаких следов мальчика там уже не было, только лужа крови; в животе у учителя свернулся тугой комок.
— N’ swart ding, — выдохнул он неслышно. — Может, бабуин или собака?
Но ни бабуин, ни собака не смогли бы утащить такого большого ребенка. На влажном песке отчетливо был виден след леопарда, но учитель никогда прежде не видел следов леопарда и принял его за отпечатки лап большой собаки.
— Нет, это невозможно! — сказал он вслух, потом обернулся к детям, теперь стоявшим тесной группкой на тропе метрах в пятидесяти от него.
Внезапно учитель почувствовал, как зашатались все его жизненные устои. Он совершенно не представлял, что делать дальше, и стоял, уставившись на лужу крови, которая постепенно впитывалась в песок, на странные следы, на вмятину, которую могла оставить, например, нога, волочившаяся по земле… Медленно, словно загипнотизированный, не в силах оторвать глаз от следа, он пошел дальше, к кустам. Здесь след, возможно оставленный ногой погибшего, кончался. И была еще одна лужа крови.
Секунд десять он постоял там, не смея пошевелиться, а дети молча смотрели на него; их плотная толпа, этот конгломерат лиц, платьев и босых ног, имела как бы одни глаза на всех, точно злое сказочное существо, поймавшее его в ловушку и торжествующе выжидавшее, пока вернется чудовище и сожрет свою жертву. Учитель быстро вернулся к детям и погнал их перед собой, точно выводок цыплят, назад, в класс. Он заставил их сесть за парты, и они сразу притихли и подчинились. Потом он велел им писать сочинение по-английски, предусмотрительно вывел название на доске — «Чем я обычно занимаюсь на пляже», — а для порядка еще и пристукнул по столу линейкой, хотя дети и так сидели не шевелясь и смотрели на него как на сумасшедшего. Сестра исчезнувшего мальчика и двое его друзей по-прежнему громко плакали, и учитель, когда все остальные наконец принялись выводить в тетрадях название, подошел к девочке и сел рядом, пытаясь успокоить ее и решить, как же ему быть дальше. Что это был за черный зверь? По крайней мере, пятеро детей точно видели его. Мальчик на задней парте был, например, совершенно уверен:
— Piskswart, meneer, dit was groot8.
— Насколько большой? Больше собаки.
— Так это была собака или бабуин?
— Нет, он был больше собаки, а на бабуина совсем не похож. Скорее, на большую черную кошку.
— Может, леопард? А tier?
— Нет, у него не было пятен и он был черный.
Учитель, конечно, читал о черных пантерах. Но вот существуют ли они в действительности, да еще здесь, на самом юге Африки? Ясно одно: какой-то зверь убил мальчика и уволок прочь. Мысли его постепенно прояснялись; он с облегчением понял, что его первоначальная реакция была правильной. Теперь дети, по крайней мере, как-то успокоились в привычной обстановке; некоторые даже начали писать сочинение. Теперь учителю нужна была помощь кого-то из взрослых.
Он взял за руки девочку и мальчика с задней парты и повел к двери; на пороге обернулся и призвал остальных детей оставаться на своих местах. Он не смог заставить себя припугнуть их, воспользоваться детским страхом перед неведомым черным зверем, чтобы всего лишь сохранить собственную власть в классе на время своего отсутствия, да в этом и не было необходимости. Он закрыл за собой дверь, и никто ее даже не приоткрыл. Он спокойно посадил детей в свою машину, завел мотор, и только тогда в каждом окошке маленького школьного здания появились детские физиономии. Мать погибшего мальчика сейчас должна быть на работе, в придорожной лавке в Неке, но туда он ни за что не поедет, а поедет он вот куда — в лесничество, что в восьми километрах отсюда.
Господи, на лесной тропе была целая лужа крови! Этот мальчик просто не мог остаться в живых! Учитель помнил мальчика очень хорошо, и девочка так тихо плакала на сиденье рядом, и утреннее солнце так сияло, заливая золотистым светом застывшую в утренней тиши природу, что он не смог сдержать слез и едва видел дорогу впереди.
После той ночи, когда черный леопард убил человека на ферме Кампмюллера, плановые исследования Тернеру пришлось приостановить. Он понимал, что пора бы уже выбросить это загадочное животное из головы и переставить фотокамеры куда-нибудь в другое место, подальше от дома Джин, но это оказалось неожиданно трудно: ведь теперь он часто видел ее, и хотя ему редко предоставлялась возможность поговорить с нею наедине, уже сама по себе близость к ней, ее запах, звук ее голоса стали для него главной ценностью в жизни, единственной потребностью. Она была не из тех женщин, что легко позволяют себе кем-то увлечься. Тернер это знал; знал он и то, как сильно она любила Саймона и каким страшным ударом была для нее его смерть. Все в его жизни вдруг совершенно перепуталось, потеряло свой смысл, и даже отсылка ежемесячных отчетов о проделанной работе стала для него обузой. Он уже целых два дня не приезжал в лесничество, чтобы забрать почту, а когда наконец к полудню в четверг явился туда, то Полли с мужем вышли ему навстречу, не успел он припарковаться.
— Этот проклятый леопард цветного мальчика убил! — выпалила Полли. — И еще, говорят, какого-то старика.
— Не может быть!
— Да, к сожалению, это правда, Клиф, — подтвердил муж Полли, глядя на него из-за ее плеча. Они чуть отступили, давая ему вылезти из машины.
— Когда вы об этом узнали?
— Позвонили из полиции, и еще Пол Стандер. Мальчик шел в школу, когда эта тварь на него напала. Все дети его видели. Знаешь, он их преследовал.
— Преследовал?
— Да, бежал за ними следом, так что им пришлось запереть двери школы.
Тернер нахмурился:
— Где это случилось?
— Там, неподалеку от Нека, радом со школой. Ну, ты знаешь.
— А со стариком что случилось?
Полли с широко раскрытыми от возбуждения глазами повернулась к мужу, и тот пояснил:
— Это был старый пастух Билла Пейна. Он просто пропал, и его с неделю найти не могли. Говорят, от него немного осталось.
— А мальчика нашли?
— Это только сегодня утром случилось, они еще просто не успели как следует поискать.
Тернер поскреб подбородок; в неожиданно воцарившейся тишине Полли и Майк не сводили с него глаз, и он подумал:
«Интересно, они заметили, как мне страшно?»
— Ты должен непременно позвонить сержанту Боте, — спохватилась Полли. — И еще Полу Стандеру: он очень просил и номер телефона оставил.
Майк чуть зашел вперед и с изящным легким поклоном пригласил Клифа в свой кабинет. Рядом с Тернером он казался маленьким, похожим на тощего мальчишку, а шорты цвета хаки еще больше подчеркивали это сходство, хотя лицо Майка было испещрено морщинами и покрыто густым загаром — старое, печальное и по-своему мудрое лицо.
Мачек Превальски был поляком. У них с Тернером бывали периоды странно-формальных отношений, какой-то скованности, которую, впрочем, легко удавалось смыть сливовицей или водкой. Тогда Мачек начинал громко петь непонятные песни и называть Тернера «доктор». Похоже, он знавал куда лучшие времена, пользовался почетом и славой и теперь, казалось, всего лишь ждал некоего вызова, нового назначения, которое отлично будет соответствовать его природной изобретательности.
Он усадил Тернера за свой стол, в рабочее кресло, и, сияя улыбкой, вручил ему клочок бумаги с написанным телефоном. Сержанта Боты на месте не оказалось. Тернер позвонил Полу Стандеру по номеру, написанному на бумажке, и попал в лесничество Боснека. Ему сказали, что Стандера нет, однако он оставил записку и просил, чтобы Тернер отыскал его в начальной школе для цветных.
Тернер положил трубку и сказал:
— Спасибо, Майк. Между прочим, у этого леопарда весьма своеобразный след — правая задняя лапа сильно покалечена, а может, и вообще все пальцы отсутствуют. На влажной земле это видно особенно хорошо. Ты, наверное, получишь позже и официальное предупреждение насчет этого опасного зверя, но я подумал, что лучше мне сразу предупредить тебя.
— Спасибо, можешь на меня положиться. У меня есть ружье, к тому же я поставлю свою клетку. — Звучало это так, словно Майк считал поимку леопарда делом свершенным.
— Эй, — заявила вдруг Полли, — только пусть эта тварь сюда не является! Здесь слишком много людей живет!
Тернер улыбнулся: по ее воинственному тону было ясно, что появление черного леопарда она связывает прежде всего с его «дурацкими увлечениями», которые «всем давно надоели», а теперь к тому же могли доставить серьезные неприятности. Он уже собирался ответить: «Между прочим, это куда серьезнее, чем кажется, хотя многие этого не понимают, и никто тут ни в чем не виноват, разве что Джон Эвери и Кампмюллер. А поскольку вы живете всего в десятке километров от Боснека, то уж придется вам остерегаться», однако так ничего и не сказал. Он вдруг подумал о Джин и о ее любимой заводи в лесу, но никак не мог вспомнить, давала ли она ему обещание никогда больше туда не ходить и восприняла ли его предупреждения серьезно? Встревожившись, он вскочил и бросился к машине.
Пол Стандер, сержант Бота и еще один полицейский, цветной, склонились над открытым капотом машины Стандера, когда к ним подъехал Тернер. Возле школы стояла полицейская машина, окруженная взрослыми и детьми самых различных возрастов, а какой-то человек торчал, будто на часах, на тропе, возле огромной колючей ветки. Тернер поздоровался и закурил.
— Мы решили подождать тебя, Клиф, — сказал Пол Стандер. — Мистер Абрахамс — учитель, вон там, на тропе, — пытается по возможности сохранить след, хотя его, конечно, уже могли затоптать, пока я сюда добрался.
Тернер прислонился к дверце машины и выдохнул в небо струю дыма, чувствуя на лице ласковое тепло солнечных лучей.
— Ну а с твоей точки зрения, Мартин, что именно произошло?
Сознательно или случайно, Тернер сам отводил себе роль младшего или, по крайней мере, неофициального помощника Боты, и тот оказался к этому не готов. Он неторопливо выколотил трубку о бампер, почесал в затылке и нахмурился:
— Знаешь, парень, похоже, это тот самый леопард. Дети вроде бы его видели, да и учитель, что там стоит, утверждает, что дети безусловно видели какого-то зверя.
— Да точно он, Клиф, — проговорил Стандер. — След виден отчетливо. Пойдем посмотрим?
Они остановились возле ставшего бурым пятна на тропе и молча ждали, когда уберут колючую ветку. Перед ними расстилалась долина. Отсюда, с холма, она казалась рекой, состоявшей из низкорослых деревьев и густого кустарника, и эта река текла все дальше и дальше, впадая в целый океан зелени. Там, где полуденное солнце касалось вершин его зеленых волн, они приобретали желтовато-серый оттенок, и можно было различить даже отдельные кроны кладрастисов, тянувшихся к свету и напоминавших о том, что кажущиеся отсюда мягкими, как мох, зеленые валы, уходящие за горизонт, — это отнюдь не трава на лугу, а лишь небольшая часть огромного лесного массива. С другой стороны, далеко, у самого горизонта, был виден скалистый берег настоящего океана.
— Я все думаю, не привезти ли сюда свору гончих из Управления? — задумчиво проговорил Пол Стандер. — След, конечно, к этому времени остынет, но и такой след все же лучше, чем ничего. При сложившихся обстоятельствах мне разрешат держать собак здесь хоть несколько недель.
— Чтобы дождаться очередного нападения этой твари? — спросил Тернер.
— Ну, в общем-то, да. Может, его хотя бы увидеть удастся.
— Ну это вряд ли.
— Пожалуй.
Тернер зачем-то очень долго тушил окурок, потом сказал:
— Ну что ж, пошли. Нет, Мартин, ты иди первым — у тебя ведь ружье! — Он хлопнул Боту по плечу и улыбнулся, увидев замешательство полицейского. — Да я шучу, Мартин! Но принять определенные меры предосторожности все же придется.
Да и ты во главе отряда будешь выглядеть куда эффектнее — посмотри, сколько зрителей!
Бота рассмеялся:
— Ты, может, и шутишь, Клиф, но я-то оружие из рук выпускать не намерен. — И он потянулся к висевшей на бедре кобуре.
Через неделю после гибели мальчика Клиф Тернер окончательно перенес свою штаб-квартиру в лесничество Боснека.
Здесь у него был даже свой офис с телефоном и весьма милое жилище: три комнатки, камин в гостиной, крохотная кухонька и даже ванная с газовой колонкой. После жизни в пещере это действительно казалось роскошью. На переезд Тернера повлияли и мягкие, но настойчивые упреки кейптаунского начальства, которое считало, что жизнь в пещере не к лицу представителю их департамента; к тому же внутреннее убранство пещеры, к сожалению, подробнейшим образом описала одна из городских газет. Заезжий репортер оказался исключительно добросовестным и под конец даже стал раздражать Тернера своим присутствием, но его визит имел результатом взрыв общественного интереса как к черному леопарду-людоеду, так и к леопардам вообще. Однако же поднятый прессой шум имел и потенциально опасные и отнюдь не продуктивные результаты. Кампмюллер не раз высказывался еще по поводу первого нападения черного леопарда на человека; его выступления отмечены были справедливым возмущением в адрес тех лиц, которые тратят общественные средства на защиту подобных чудовищ. К несчастью, Кампмюллер оказался также автором письма в местную газету, где возражал против избрания девушки со смешанной кровью королевой красоты данного района. Газетчики вспомнили об этом его письме и умело преподнесли его читателям, к большому удовольствию Тернера, поместив рядом огромную фотографию Кампмюллера и его многочисленные заявления относительно того, что все леопарды — потенциальные убийцы, а цветная женщина просто не может быть красивее белой. Что же до черного леопарда, то, как утверждал Кампмюллер, этот зверь опасен уже хотя бы потому, что он черный.
Спокойные, строго научные рассуждения Тернера были помещены на той же полосе вместе с его фотографией, где хорошо видна была и пещера. Материалы эти, при всей своей контрастности, явились, можно сказать, образцом дипломатичной объективности. Тернер постарался, чтобы репортер как следует понял все аспекты данной проблемы, и постоянно кормил его легко усваиваемой, но обширной информацией с легким привкусом бережного отношения к экологии вообще и данной экосистеме в частности. Они подолгу сидели у очага в пещере Тернера, пили вино, вели беседы о политике и совершали длительные прогулки по окрестностям.
Первым, кто позвонил Тернеру после этой публикации, оказался сам Кампмюллер, обрадованный своим новым статусом знаменитости и спешивший поздравить Тернера с тем же. Тернер был не слишком разговорчив и отвечал сдержанно, тем более что телефон все время потрескивал. В итоге он пообещал Кампмюллеру как-нибудь заехать и выпить вместе и распрощался. Положив трубку, он некоторое время озадаченно смотрел на нее, потом улыбнулся и медленно покачал головой. Вторым позвонил Пол Стандер, который сообщил, что прибыли гончие — свора из шести биглей-полукровок, натасканных на лисиц, а также на каракалов и шакалов, но желательно их использовать на открытой местности. Тернер спросил, как эти коротконогие собаки будут управляться в лесу, и Стандер ответил, что не знает. Третьим в тот день позвонил сам директор департамента. Тернер слегка растерялся и занервничал, когда услышал голос директорской секретарши, однако, понимая, что дело тонкое, быстренько растолковал суть опубликованной статьи заместителю директора, чтобы не думать больше о грядущих неприятностях, и принялся неискренне флиртовать по телефону с секретаршей, находившейся от него на расстоянии пятисот километров. Он легко мог представить себе выражение ее лица, особенно когда она спросила насчет пещеры, и постарался изобразить свое романтическое жилище как настоящий языческий храм.
— Ну, ты у нас становишься прямо настоящим чиновником, Клиф. Что ж, за все приходится платить. — Барри Мейсон, главный лесничий Боснека, прислонившись к дверному косяку, выбил свою трубку и вошел в комнату. — Извини, я вовсе не собирался подслушивать. Просто зашел спросить, не хочешь ли ты кофе. У тебя что, неприятности?
— Привет, Барри, садись. — Тернер закурил. (Лесничий присел на краешек письменного стола, качая в воздухе ногой в тяжелом ботинке.) — В какой-то степени ты прав. Во всяком случае, одна из «шишек» департамента скоро на нашу голову свалится. Возможно, даже поживет у меня какое-то время, — Он улыбнулся и покачал головой. — Но главная неприятность — этот леопард, черт бы его побрал!
— Ну, я-то всего-навсего за деревьями приглядываю, они У меня не кусаются. Да ты не волнуйся, парень, я тебя в беде не брошу. Пойдем-ка выпьем кофе, а может, Сьюзи нас и еще чем-нибудь вкусным угостит.
Расставшись с лесничим, Тернер присел за маленький сосновый стол и принялся тупо водить ручкой по листку из записной книжки: обвел кружком телефонный номер, потом на месте кружка изобразил покрытую листьями лиану, а оба нуля превратил в стволы двустволки. Из одного ствола у него торчал цветок подсолнечника, а из другого вылетал зигзаг молнии. Он обвел эту картинку рамочкой, потом изобразил — довольно похоже — голову леопарда, закрасил ее черной шариковой ручкой и под этой головой написал: «Джин Джин Джин Джин Джин».
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Мачек Превальски был страстным, но, к сожалению, совершенно не реализовавшим себя охотником. За свои без малого шестьдесят лет жизни в каких только уголках земного шара он не пытался охотиться, а теперь служил в лесничестве, сублимируя свой охотничий инстинкт выслеживанием диких зверей и наблюдением за их жизнью. Почти всю ночь в пятницу лил дождь, однако он весьма кстати прекратился утром в субботу, когда они с Полли, позавтракав, выехали из дому на своем «фольксвагене». Родители Полли жили в Мосселбае, примерно в ста километрах от них, на побережье. Он пообедал с ними вместе, полюбовался розами, которые выращивал тесть, а потом, оставив Полли у родителей, поехал назад.
Вокруг сиял солнечный, промытый дождем полдень. По дубовой аллее он подъехал к почти пустынной сегодня станции лесничества, припарковал машину под навесом и прошел по протоптанной мулами дорожке к ряду ульев в дальнем конце участка. За ульями стеной высился темно-зеленый лес. На черной земле Мачек заметил свежий след бушбока. По чуть скошенным наружу копытцам он догадался, что это тот самый крупный самец, которого он видел несколько дней назад.
Мачек собрался уже идти дальше, когда в глаза ему бросился другой след, очень странный, похожий на след крупной собаки. Отпечатки лап зверя — а их на подсыхающей глинистой дорожке оказалось всего четыре — были отлично видны: две передние лапы, каждая с пятью округлыми пальцами, и две задние — одна, как и полагается, с четырьмя пальцами, а вторая — всего с одним, остальная стопа отпечаталась как неясных очертаний впадинка. Следы были не меньше его ладони, и Мачек присел на корточки, чтобы рассмотреть их повнимательнее. Ни один отпечатавшийся палец не заканчивался отпечатком когтя, да и вообще нигде не было видно следов когтей. Три следа от здоровых лап были округлыми, как у большой кошки; солнце уже начало подсушивать их, значит, зверь прошел здесь не более шести часов назад. Мачек склонился над последним отпечатком, и в уголке его губ задрожал маленький мускул; он улыбнулся, поднял голову и неторопливо огляделся. Потом заправил прядь седеющих волос за ухо.
Его ярко-голубые глаза горели от возбуждения, лицо стало совсем мальчишеским. Да, это были следы того самого леопарда! Черного людоеда! Визит страшного зверя казался Мачеку наградой, заслуженно врученной именно ему. Не все ли равно, как на это посмотрят другие? Он сам имел теперь право выбрать: то ли позвонить Тернеру и всего лишь передать важную информацию, выполнив долг внимательного лесничего, то ли промолчать и действовать по своему усмотрению.
Он медленно поднялся и задумчиво погрыз сломанный ноготь. Старая клетка-ловушка, с которой он уже экспериментировал, по-прежнему стояла в сарае. В разобранном состоянии ее пять секций легко было перевезти в любое место и быстро собрать вновь, укрепив легкими цепями. Разборной клетка была задумана изначально, иначе она оказывалась слишком громоздкой при транспортировке. Мачек лихорадочно соображал: до наступления темноты еще достаточно времени, и с помощью всего двух рабочих, даже если они будут сонными и ленивыми в этот субботний день, ловушку установить нетрудно. Ее хорошо бы отвезти на «лендровере» да не забыть захватить ружье и запас крупной дроби, термос с крепким кофе и бутерброды. Нужно также взять фонарик, запасные батарейки, фляжку с бренди или сливовицей — что найдется. Собрать все это не составит труда. Если же у него ничего не получится, он завтра с утра позвонит и всем сообщит о следе черного леопарда, и ничего плохого в этом нет. Он прошел до самой опушки леса, но больше ни одного заметного отпечатка лап не обнаружил: поляна заросла спутанной травой кикуйю. Мачек решительно повернул назад и зашагал к поселку рабочих.
С двумя помощниками он легко извлек проволочные секции клетки из-под сваленной в кучу упряжи для мулов, клетей из-под люцерны, листов рифленого железа и разнообразных запчастей. Сетка везде оказалась цела, вот только спусковой механизм на двери-ловушке не работал. Мачек довольно легкомысленно отреагировал на эту неисправность, потому что в его планы не входило использование ловушки как таковой.
Он рассчитывал в качестве живой приманки предложить зверю себя, находясь в безопасности внутри клетки и держа наготове ружье и электрический фонарь.
Они подъехали к той поляне, которую он выбрал, — когда-то здесь складывали бревна. Тот след вроде бы вел именно сюда. Поляна находилась примерно в километре от лесничества. Мачек и его помощники установили клетку, скрепив ее стенки друг с другом и с крышей цепями, а местами еще и дополнительно связав толстой проволокой, и только когда он принялся устраиваться в клетке, на лицах рабочих появились признаки сомнения и удивления.
— Nee God baas kannie die hele nag hier alleen sit nie9.
Это сказал Том Уиндвааи, тракторист. Мачек обычно разговаривал со своей женой на африкаанс, но, несмотря на долгие годы, прожитые среди буров, все еще говорил на этом языке с акцентом и так строил предложения, что вызывал веселье у своих цветных подчиненных. Он был достаточно умен, чтобы относиться к этому с юмором, к тому же рабочие любили его, хоть и считали, что он чуточку не в своем уме.
Сейчас Том Уиндвааи был искренне обеспокоен. Конечно, он-то уже слышал об этом tier, однако никак не мог поверить, что леопард может быть черным, как не мог поверить и тому старику, который рассказывал, что видел в цирке полосатого tier. Он так и сказал Мачеку: а вдруг этот tier его самого поймает? Но Мачек, размахивая своей знаменитой серебряной фляжкой с крестом, заявил, что если он выпьет побольше бренди, то и двух таких зверей изловить сумеет. Рабочие еще постояли там, глядя, как Мачек вносит в клетку свои пожитки, заряжает ружье, проверяет, хорошо ли работает фонарик, и устраивает себе подстилку из листьев папоротника. Он сам нарушил затянувшееся молчание, скорчив страшную рожу и притворившись, будто хочет достать своих помощников когтями. Рабочие, нервно смеясь, отшатнулись и тут же обрушили на него град вопросов: «Почему этот леопард должен обязательно сюда явиться?», «А вдруг он сумеет пролезть сквозь решетку или снизу?». Они искренне беспокоились за Мачека, восхищались его смелостью, и он велел им еще раз проверить крепления и самим убедиться, как тяжела клетка и прочна сетка, а когда их доверие к его убежищу несколько возросло, то и у него полегчало на душе, однако он так и не сказал им о следе на тропе около дома. Когда они уехали, он вспомнил, что следовало попросить их утром заехать за ним, но звук мотора уже еле слышался в лесной тишине. Ничего, когда снова станет светло, на дороге будет вполне безопасно; а он, разумеется, выйдет из клетки, только когда солнце поднимется достаточно высоко.
Он уселся на походный стульчик, слушая затихающий птичий хор, надел толстую армейскую куртку и налил в пластиковый стаканчик первую щедрую порцию бренди. С этого момента именно содержимое фляжки поддерживало в нем охотничий азарт. Лесная сова проплыла над ним в непроницаемой тьме, пробудила его от дремоты своим похоронным:
«Кто ты? Ху-гу», а один раз он услышал встревоженный рев бушбока, треск ветвей и шорох листьев, когда вспугнутая антилопа умчалась прочь. Нервы его были напряжены до предела, руки дрожали; в одной руке он сжимал фонарик, а в другой — холодный ствол ружья. Время от времени он обводил ярким лучом света окружавшие его предметы, особенно если слышал хотя бы малейший шорох, и чуть не выстрелил, когда в зарослях вспыхнули золотистые глаза генетты, однако кошка, испуганная его резким движением, тут же стремительно ретировалась, хотя он все же успел заметить, что это был за зверь. В четыре утра какое-то мертвящее чувство охватило всю его душу, однако, борясь с собой, он выпил оставшийся кофе, съел последний из бутербродов и налил себе еще бренди из почти опустевшей фляжки. Потом он то задремывал, то вдруг пробуждался, как от толчка, особенно когда рядом по-собачьи пролаял павиан, предупреждая стаю об опасности.
Сердце у Мачека забилось где-то в горле, рот пересох, и он стал слушать, как стая павианов с треском продирается сквозь заросли; потом сумасшедшая толпа лающих и вопящих от страха обезьян исчезла вдали, а он, напрягая зрение, вглядывался в медленно редеющий ночной мрак и глубоко вдыхал воздух, стараясь унять охватившую его дрожь — от холода, от страха и от чрезмерного напряжения. Он понимал, что леопард где-то поблизости, и при этой мысли волосы у него на голове вставали дыбом, а по спине пробегали мурашки. По крайней мере полчаса он сидел совершенно неподвижно, крепко сжимая ружье со спущенным предохранителем, так что в конце концов у него свело обе руки, согнутые в локтях. Когда же наконец сквозь деревья проглянуло солнце и запели птицы — малиновки, серые синицы, соловьи, — точно благодаря судьбу за еще одну успешно пережитую ночь и за новый рассвет, Мачек положил ружье на землю и вытянулся с ним рядом, зевая и улыбаясь от облегчения, ибо впервые за всю ночь как следует расправил онемевшее тело. Он решил сперва немного поспать, а потом, когда утро будет уже в самом разгаре, пойти пешком в лесничество и оттуда позвонить Тернеру.
Храп человека не то чтобы разбудил черного леопарда, но все же снова заставил прислушаться и обратить на спящего внимание. Хищник недовольно дернул ухом, точно храп был ему неприятен, и широко открыл глаза. Потом пересек поляну, покружил возле клетки — уже в четвертый раз за эту ночь — и вернулся в густые заросли, где еще не остыло его лежбище на подстилке из сухих листьев.
Когда же наконец двуногий проснулся и задвигался, леопард напрягся и, глядя на выпрямившегося в полный рост человека, так сузил глаза, что они превратились в едва заметные щелки; он напряженно фиксировал каждое движение своей потенциальной жертвы: звяканье металла, кашель, возню с какими-то неясными и неживыми предметами… И только когда двуногий пошел прочь от ловушки, леопард наконец приподнялся, прыгнул и, припадая к земле, двинулся следом.
Вытянув в одну линию голову и тело, прижав уши и чуть приоткрыв пасть, он плыл, точно длинная черная тень, сквозь подлесок, рассекая это зеленое море все быстрее, но почти совершенно бесшумно.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Том Уиндвааи слез со скрипучей кровати, где спал вместе с женой, и вышел на двор помочиться. Он с удовлетворением отметил, что погодка будет отличной: в бледном предрассветном небе стояла полная тишина и на западе не было видно ни облачка. Том потянулся, зевнул и стал умываться под краном, вставленным в бак с дождевой водой; он даже вымыл голову и вычистил зубы, потому что во рту стоял противный сладковато-кислый вкус после вчерашней бутылки «джерепиго», которую они распили с его приятелем Хендриком Новембером. Он на минутку вспомнил о Превальски, оставшемся в клетке, и даже подумал, не сходить ли в лесничество за «лендровером», однако это конечно же сильно задержит его, а отлив ждать не будет. И в конце концов, сегодня ведь воскресенье, а для того чтобы забрать босса, потребуется никак не меньше часа, даже если они оставят клетку пока в лесу.
На кухне черная железная плита, которую топили дровами, была еще теплой; на ней стоял кофейник. Тому ужасно хотелось поскорее выпить кофе, так что он не стал возиться с плитой и разжег примус, потом под его уютное ворчание надел штаны, носки и ботинки. Он вчера завалился спать прямо в рубашке и трусам, а уж бриться сегодня не собирался ни под каким видом. Ожидая, пока согреется кофе, он вытащил из кладовой сумку с рыболовной снастью и лениво проверил ее содержимое. У него явно было маловато грузил, как и всегда, но если ловить аккуратно, то на день хватит, а вот крючков было вполне достаточно. Когда кофе согрелся, он налил полную эмалированную кружку, а остальное слил в бутылку и сунул ее в сумку вместе с двумя жаренными на жире лепешками. Кофе был крепкий и сладкий; он макал в него лепешку и медленно жевал, обильно запивая каждый кусок. Когда он выключил примус, в домике снова стало тихо; из спальни, где по-прежнему спала жена, доносилось тихое похрапывание, и он с удовольствием сидел и курил сигарету, окруженный покоем дома, знакомыми уютными кухонными запахами, а в приоткрытую дверь кухни падали косые лучи солнца, и куры под предводительством важного петуха с кудахтаньем расправляли ноги и заходили внутрь, чтобы поискать на полу крошек. Хижина была крыта почти новым рифленым железом, так что, подняв голову, он сумел разглядеть только две малюсенькие круглые дырочки от гвоздей, сквозь которые просачивались солнечные лучики, но вряд ли такие дырочки могли дать сильную течь по время дождя. Том гордился своими ребятишками, спавшими в соседней комнатушке: их у него было трое, и Томми очень хорошо успевал в школе. Когда в апреле родится еще ребенок, стоит подумать о пристройке новой комнаты, хотя лесничество вроде бы собиралось строить пять новых коттеджей и, может быть, ему удастся получить один из них. Что ж, отложим все дела на завтра, решил он, а сегодня беспокоиться решительно не о чем.
Том встал, отодвинул драную занавеску, служившую дверью в их спальню, и поднял с пола свою куртку. Потом снял шляпу с одной из шишек, украшавших железную спинку кровати, потрепал жену по плечу и, когда она наконец шевельнулась, сказал: «Ну, я пошел», услышал ее невнятный утвердительный ответ, взял на кухне свой спиннинг и, минутку помедлив и хлопая себя по карманам в поисках спичек, вышел на двор, освещенный неяркими пока солнечными лучами. По отлично утоптанной тропинке он километров пять шел через лес и, минуя прибрежные утесы, вышел к морю. Высокие мощные деревья в лесу постепенно сменялись более хилыми и низкорослыми, которые, в свою очередь, уступали место похожим на газон зарослям вереска и мелианта, резко обрывавшимся у самого края каменистых утесов. Здесь виднелись следы автомобильных шин, но сейчас было еще рано, и старого разбитого «форда-универсала» он не заметил. Он выбрал себе местечко поудобнее и, пристроив удочку и рюкзак, уселся и раскурил трубочку. Парочка нектарниц с озабоченным видом сновала в зарослях эрики метрах в двух от того места, где он сидел, — самец с блестящим черным и изумрудно-зеленым оперением красиво выделялся на голубом фоне безбрежного морского простора и кроваво-красных цветов. Том отметил все это с тихим удовлетворением, однако без особого интереса.
Сейчас весь мир для него был заполнен лишь ароматами моря, и, как и всегда, когда ждал здесь, он думал о том, какой будет предстоящая рыбная ловля, и вспоминал прошлое.
Уже больше пяти лет он рыбачил вместе с Каннингемом.
Где-то раза два в месяц в лесничество привозили от него записку, и Том всегда приходил на это самое место. Порой, если погода резко менялась, он, прождав около часа напрасно, либо все же спускался к морю один, либо возвращался домой тем же путем, каким пришел сюда. У него никогда не было собственных часов, да он особенно и не стремился ими обзавестись, ибо ко времени и назначенным встречам относился философски. Он услышал грохот старого «форда» задолго до того, как тот показался из лесу, и очень обрадовался, увидев, что Каннингем приехал один. Стоило появиться здесь хотя бы одному новичку — и прощай рыбалка: Том превращался тогда всего лишь в подмастерье, в мальчика на побегушках, то есть без конца насаживал наживку, забрасывал удочки и проверял снасти. Вдвоем с Каннингемом он удил рыбу на равных, они даже перекусывали вместе, и он радовался не меньше Каннингема, когда тому удавалось поймать хорошую рыбу, если не считать того, что парочка жирных капских корацинов могла бы стать весьма существенной добавкой к рациону его семьи. Об остальной жизни своего белого приятеля Том знал очень мало. Он не сомневался в том, что Каннингем богат: тот владел огромным домом и на своей земле ничего не выращивал, только держал скаковых лошадей, которых Том считал совершенно бесполезными животными с точки зрения земледельца.
Прыжками спустившись к машине, Том снова в душе восхитился тем, как легко этот огромный мужчина с седеющей черной бородой преодолевает крутую каменистую тропу почти в полкилометра длиной, ведущего к морю, потом целый день с неизменным энтузиазмом удит рыбу, что обычно не свойственно пожилым белым, а потом снова легко взбирается по тропе вверх, пьет виски и еще по крайней мере полчаса разговаривает только о рыбной ловле, когда они едут обратно.
Если с Каннингемом приезжал кто-нибудь из приятелей, то он обычно очень много говорил и смеялся, а потом купался в удобной бухточке, а потом стоял и загорал на солнце, стряхивая воду с белых мускулистых плеч и с черных волос, покрывавших почти все его тело. Когда же они с Томом были одни, он говорил совсем мало, негромким хрипловатым голосом, но часто просто сидел и смотрел на океан, выставив подбородок и погрузившись в глубокое раздумье. Сейчас же, обернувшись к Тому, Каннингем улыбнулся, показав ряд некрупных белых, чуть выступающих вперед зубов, и громко поздоровался с ним по-английски.
Берег, расстилавшийся у подножия высоких утесов, которые повсюду опоясывали южную оконечность континента подобно замковым стенам, был пустынным и неровным. То тут, то там океан намывал маленькие песчаные пляжики, которые застенчиво прятались меж черными скалами за валами пенистых волн, и зачастую было большой неожиданностью увидеть здесь отпечатки ног другого человека. Отлив оставил на песке достаточно красноглазок для наживки, а еще они нашли несколько мидий и трех красных крабов, одного почти с ладонь Тома величиной. Выбрав местечко, они уселись на камнях, как и все рыболовы, разбросав вокруг одежду, сумки со снастью, разложив крючки, поплавки и ножи, приготовив длинную острогу и сунув в тень коробки с едой и ведро с наживкой.
Каннингем аккуратно прицепил краба к большому крючку для ловли морских карасей и предоставил Тому полную возможность ловить в боковом проливчике более легкой снастью, а сам, убедившись, что краб сидит на крючке крепко, забросил спиннинг далеко от берега, в сторону полоски более светлой, зеленоватой воды, что свидетельствовало о песчаном дне, и стал ждать. Ждать, пока клюнет морской карась, всегда приходилось долго, но Каннингем никогда не отступался, и время шло, пролетало высоко в небесах, точно кормораны над их головами, прерываемое лишь воплями куликов-сорок, и набегало на берег в бесконечном гуле приливов и отливов.
К четырем часам Том уже поймал хорошего бронзового морского леща и трех чернохвостых облад, вполне пригодных для жарки. У Каннингема два раза съели наживку, так что он насадил своего последнего краба, и долгожданный миг наконец наступил. Леса задрожала, точно нерв, когда по нему проходят неведомые токи жизненной энергии. Том сразу встряхнулся, сердце у него сильно забилось, и рыба рванула лесу так, что чуть не сломала удилище. А в следующий момент спиннинг изогнулся дугой, и колесико стремительно, со свистом начало вращаться. Каннингем издал торжествующий рев, и Том тут же бросился к нему, путаясь в собственной леске.
В течение следующих пятнадцати минут они стояли бок о бок в состоянии того редкостного возбужденного ожидания, какое ведомо только истинным рыболовам, а в глубине под ними рыба била широким, могучим хвостом, трясла огромной головой и все норовила забраться в темное местечко под скалы, но нейлоновая леса звенела у нее в пасти, и этот звук, отдаваясь эхом у рыбы в голове, преследовал ее повсюду — у рифов, на вершинах подводных скал — и никуда не давал уйти, потому что проклятая леса не рвалась, как бы рыба ее ни дергала. И вот наступил еще один редкий миг, воспоминание о котором всегда светло и бессмертно в душе рыболова: еще не погасло напряженное ожидание, но оно уже соединяется с восхищением, трепетом и, пожалуй, жалостью, ибо впервые живое голубоватое серебро рыбьей чешуи блестит под толщей зеленоватой воды. Побежденный морской карась будет теперь медленно описывать круги, все еще пытаясь сопротивляться, мечтая вырваться и вновь уплыть в темную глубину, и его бока будут сверкать, точно бриллиант светло-голубой воды, а У берега, в пене прибоя, среди колючих от черных мидий скал, станут скорее серебряными. Теперь поскорее — ведь волны дают лишь кратковременную передышку — следует воспользоваться острогой; рыба взлетает в воздух, бьется, ярко блестит на солнце, и явственно видно, как отлетают чешуйки на прибрежные скалы. Битва окончена.
Забравшись повыше, чтобы не достали волны, они долго и оживленно беседовали, пока пятнадцатикилограммовая рыбина выбивала хвостом предсмертную дробь на раскаленной скале с ними рядом.
Вдруг Том поднял руку и сказал:
— Послушайте, что это?
Несколько секунд они не слышали ни звука, кроме шума морского прибоя и методичного постукивания рыбьего хвоста, но потом до них донеслись громкие визгливые вопли гончих, идущих по следу зверя, а еще через мгновение все шесть собак вылетели на освещенный солнцем берег; уши у них обвисли от усталости, розовые языки свисали до земли, черно-бело-рыжие пятна шкур ярко выделялись на фоне монотонного галечного пляжа, а потом собаки одна за другой исчезли на опушке леса неподалеку от утеса, где сидели рыболовы.
— Dis die tier hinde, — сказал Том. — Hulle jag die tier10.— И он поведал Каннингему о затее Превальски.
Они все время посматривали на опушку леса и на пляж, заваленный плавником, но ни один охотник следом за собаками так и не появился. Снова отчаянно залаяли гончие, но теперь уже значительно дальше; их голоса сопровождало глубокое эхо, словно на дне ущелья.
Когда рыболовы добрались до лесничества, то уже по невероятному количеству собравшихся на стоянке машин можно было сказать: что-то случилось. Целая коллекция — восемь или девять различных джипов и легковушек пристроились на посыпанном гравием дворе и в закатном свете воскресного вечера уже сами по себе являли довольно необычное зрелище, однако полицейский микроавтобус с синей «мигалкой» на крыше и выставленной антенной, а также белая застывшая глыба «скорой помощи» наполняли сердце Тома все усиливающимся ужасом.
— Случилось какое-то несчастье, Том, — с растерянным видом констатировал Каннингем, а потом спохватился: — Да, спасибо тебе огромное! Отличная рыба! В следующий раз мы еще такую поймаем. — Он улыбнулся и протянул Тому банкноту в два ранда.
С этого момента их жизни вновь потекли по разным руслам: Том направился к группе рабочих, собравшихся под дубами, а Каннингем вошел в освещенную и распахнутую настежь дверь офиса.
Грэм Каннингем приходился Тернеру дальним родственником, и Клифу было приятно увидеть его, хотя на мгновение он растерялся от столь неожиданного появления этого огромного бородатого пожилого мужчины в длинных, до колен, вылинявших шортах цвета хаки, подпоясанных ремнем и с заутюженными складками, — все в старом колониальном стиле. Каннингем не так уж и выделялся в этой комнате, полной самого разношерстного народу, однако же его присутствия просто нельзя было не заметить, и Тернер рад был, что появился хоть один человек, чье мнение в чем-то отличалось от мнения большинства в этой комнате, где царила на редкость мрачная, давящая атмосфера. Собственно, и предпринять уже было ничего нельзя. Тернер поздоровался с Каннингемом и отошел от Полли, плакавшей в углу, где над ней заботливо склонились ее родители.
— Теперь это старина Майк, — сказал Тернер. — Проклятый леопард! Он убил его.
— Нет! Господи, Клиф, как же это? — Каннингем явно был потрясен.
— Видите ли, бедняга Майк всю ночь просидел в старой клетке-ловушке, надеясь дождаться зверя, а леопард, скорее всего, караулил его самого и напал на него именно в тот момент, когда он утром вышел из клетки и направился к дому.
— Боже мой! Том Уиндвааи кое-что мне, правда, рассказывал… Мы с ним рыбу ловили… Между прочим, мы видели ваших гончих.
— Гончих? Правда? Где же?
— На Берегу Виллемзе. Знаете такое местечко? Километрах в пяти отсюда, там есть такой маленький пляжик…
— Неужели так далеко?
— Да, собаки пробежали по пляжу и снова исчезли в лесу.
— То есть они все время придерживались русла Саби, так?
— Совершенно верно.
В комнате вдруг воцарилась полнейшая тишина, ибо все присутствующие, как оказалось, прислушиваются к их беседе.
— Познакомьтесь, это Пол Стандер, — сказал Тернер. — О, да вы знакомы! А с сержантом Ботой? Тоже? Отлично. А с Япи Кампмюллером? Япи, это полковник Каннингем. Ты слышишь, Пол? Гончие пошли к морю! Я предполагал, что он попытается уйти по ущелью… — Тернер выглянул на двор, потом посмотрел на часы. — Ну теперь им ни за что его не поймать. Даже если он заберется на дерево. Нет, не придется пока Ван Ренсбургу на него взглянуть.
— Так это гончие Ван Ренсбурга?
— Да, и сам он как гончая. Однако у него могут быть неприятности, если он поскорее не выберется из леса, — заметил Пол Стандер. — Там ночью сейчас черт знает как опасно!
Тернер закурил. А Каннингем спросил:
— Кто его нашел? Майка, я имею в виду.
— Вон тот парень. — Тернер показал на высокого цветного мужчину в рубашке с голубыми полосками, который терпеливо ждал в сторонке. — Говорит, искал кого-то из родственников.
Шел пешком. Возможно, заблудился. Испытал самое большое потрясение в жизни. Он из Кейптауна. На Майка наткнулся часов в одиннадцать утра. А к тому времени, как мы обо всем узнали и доставили гончих, было уже больше двух, так что леопард мог убежать куда угодно.
— Сам он леопарда, разумеется, не видел?
— Нет, конечно же нет. Он о нем даже не слышал никогда.
Даже представить себе не мог, что случилось, когда Майка нашел. Да вы поговорите с ним. Мне кажется, мы ему очень обязаны, а старина Мартин прямо допрос с пристрастием ему устроил, словно это он Майка убил.
Каннингем кивнул и сказал:
— Хорошо, но сперва я должен… — И он подбородком указал в сторону Полли.
Она лишь на мгновение приподняла лицо, когда Каннингем наклонился к ней. Он погладил ее по руке, но она медленно покачала головой и накрыла его руку своей. Каннингем осторожно отнял руку и буквально на цыпочках отошел прочь, раскланявшись с родителями Полли, стоявшими рядом. Ничем помочь он не мог, и делать ему в лесничестве больше было нечего.
Каннингем пригласил Тернера с приятелями по дороге домой заехать к нему и выпить чего-нибудь. Тернеру эта идея понравилась, особенно когда он вспомнил дом Каннингема — отделанную деревянными панелями гостиную, огромные камины. У него не было большого желания провести очередной вечер за шахматами в обществе Барри Мейсона и ужинать кое-как приготовленной яичницей с беконом. Особенно сегодня, после гибели Майка, когда у него из головы не выходил этот леопард, а весь тщательно подготовленный план создания заповедника для этих животных полетел кувырком, стал совершенно нереальным. Он представил себе бесконечные телефонные звонки: директор департамента, газетчики… Ну нет!
Действительно лучше всего отправиться к Каннингему и просидеть у него так долго, как позволит хозяин дома. И Пол Стандер с Кампмюллером пусть тоже поедут, даже если это не очень удобно. Сам он по глупости предоставил свой «лендровер» Ван Ренсбургу, так что, если признаться честно, ему здорово повезло, что Кампмюллер приехал вовремя, хотя и в своей дурацкой шляпе, украшенной лентой из леопардовой шкуры, с ружьем и совершенно уверенный, что ему будут не только рады, но и сочтут его присутствие абсолютно необходимым.
Тернер просто сказал Стандеру и Кампмюллеру:
— Заедем ненадолго к полковнику Каннингему выпить, хорошо? — И больше ничего не прибавил.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Леопард слышал, как хлопнула дверца «лендровера», до него донеслись знакомые звуки людских голосов и металлический звон цепей, но он пошел прочь, лишь услышав, как слабо взвизгнула собака — то ли от боли, то ли от возбуждения.
Инстинкт повелевал ему идти на север, к большому лесу, к горам, однако путь туда вел мимо того места, откуда все громче доносились голоса двуногих, и он чувствовал нависшую опасность. Он неторопливо брел по тропе, над которой еще витал слабый запах двуногого, когда ставшая зловещей тишина позади него вдруг взорвалась лаем гончих псов, и тогда одним длинным прыжком он нырнул в густой подлесок. Метров сто или даже больше он бежал быстрой рысью, прижимаясь к земле; лопатки его под черной шкурой ходили как поршни, уши были плотно прижаты, голова опущена, глаза быстро адаптировались и отмечали в полумраке малейший проход среди листвы и колючих ветвей, и он просачивался туда — сперва голова, а потом и все тело. У перекрестка двух дорог, ведших когда-то к лесоразработкам, на поляне, где раньше складывали бревна, леопард перешел на легкий галоп, и его плавная поступь исчезла, теперь он напоминал скачущую лошадь, на бегу так высоко вскидывая задние ноги, что казалось, вот-вот перекувырнется через голову. И все-таки любому человеку всего лишь показалось бы, что перед ним мелькает неясная тень.
Вскоре после перекрестка и поляны лес вокруг стал иным.
Влажная, заросшая зеленью земля сменилась плотной подстилкой из коричневых опавших листьев; начали появляться заросли вечнозеленой маккии, а затем вдруг лес кончился и превратился в густой лабиринт искривленных, растущих на солончаках кустов эрики и других вересковых, тут и там пересыпанных чахлыми алоэ. Здесь леопард продвигался медленнее, и поскольку гончие снова залаяли, но уже значительно ближе и громче, несмотря на ветерок, шумевший впереди над прибрежными утесами, ему вдруг стало страшно. В поисках хотя бы одного спасительного высокого дерева он все дальше уходил по этой скалистой местности, по нагретым на солнце камням, видя над головой яркий солнечный свет, но вряд ли сознавая, что море рядом, внизу, шарахаясь от рассыпавшихся во все стороны перепуганных капских даманов и недовольно ворча, ибо каждый прыжок, особенно вниз, заставлял усталые мышцы мучительно напрягаться. Наконец он добрался до последней рощицы на скалистом берегу. Исхлестанные ветрами мимузопсы были такими кривыми и низкорослыми, что, слыша гончих прямо над собой, леопард стремительно миновал эту жалкую рощицу и в паническом страхе вылетел на песчаный пляж. Поскольку инстинкт велел ему двигаться направо, он резко свернул, взметнув в воздух целый веер песка, и стал снова подниматься по извилистому каменистому речному ущелью, пока в последнем завершающем прыжке не преодолел трехметровую расселину и не рухнул, свесив язык до земли и испытывая головокружение, на узкий выступ высоко над вершинами зеленых деревьев и покрытых белой пеной прибрежных скал.
Он дышал тяжело, и с каждым вздохом голова его опускалась все ниже и ниже, пока наконец не наступил благословенный миг и подбородок не коснулся мускулистой передней лапы. Глаза его постепенно превратились в щелки.
Солнце все еще пригревало довольно сильно, и сюда, на узкий, обращенный к западу выступ, со всех сторон окруженный вогнутыми стенами скал, в неподвижно застывшем воздухе все звуки стекались, точно притянутые магнитом. Внизу, вдалеке, слышались крики куликов-сорок, которым вторил глухой постоянный рев моря; один, два, три раза крикнул африканский коршун-рыболов; а рядом, но чуть ниже, на каменистой осыпи, где были норы капских даманов, слышалось сердитое попискиванье даманьего семейства. Уши леопарда, стоявшие торчком, все время подрагивали, и лишь по ним можно было догадаться, что он не спит; однако он на все эти звуки внимания не обращал, даже на легкий шорох когтистых лапок ящерицы, и лишь заслышав где-то высоко над собой звуки, свойственные двуногим, леопард поднял голову и широко раскрыл глаза, ибо солнце уже садилось и его выступ оказался в тени.
Теперь он чутко прислушивался к лаю гончих, к царапанью их когтей по камням, к их возбужденному повизгиванью и прерывистому от усталости дыханию, к похрустыванию веток и постукиванию тощих хвостов по камням, к шлепкам срывающейся с высунутых языков слюны, и при этих последних звуках он особенно встревожился, а они, кстати, почти сразу смолкли, утонув в бешеном лае прямо под тем выступом, где он лежал. Леопард непроизвольно оскалился и зарычал; потом, захлебнувшись утробным ворчанием, услышал, что голоса собак звучат иначе: старый кобель истерически лаял, сука умолкла совсем, а два молодых кобеля буквально зашлись испуганно-возбужденным визгом. Однако весь этот шум к нему не приблизился, остался где-то примерно на том же месте, у основания утеса. Прошло довольно много времени, и послышались новые звуки — фырканье, сопение и тонкий свист сперва с одной стороны, потом с другой — это вожак стаи искал путь наверх; затем дождем посыпался гравий и мелкие камни откуда-то сверху, и одновременно до леопарда донесся звук неумолкающей возбужденной болтовни двуногих; и эти звуки слышались совсем рядом. Окрашенные розовым и охрой лишайники на скалах быстро серели, и, когда вокруг утеса стала разливаться прохлада, леопард смог различить, откуда идет запах холодной пресной воды: из лесного ущелья. Вода была торфянистая, насыщенная кислотами, которые попали в нее из корней деревьев и папоротников, из гниющей листвы.
Зрачки леопарда все расширялись, поскольку освещение слабело с каждой секундой, так что в мозаичном переплетении серых и черных пятен вокруг — скал, трещин, выходов горной породы — он разбирался так же отчетливо, как и при солнечном свете. Теперь, когда его вены постепенно очистились от растворенного в крови яда усталости, он сперва потянулся обеими передними лапами, достав до единственной трещины в дальнем углу выступа, потом, удовлетворенный, вернулся в прежнее положение, затем встал на задние лапы, секунду помедлил и, подпрыгнув, стал взбираться по скале, прижимаясь к ней брюхом и передвигаясь какими-то пульсирующими толчками. Стоило камню сорваться из-под одной его лапы, как он успевал перенести вес на другую, а потом черным нечетким пятном мелькнул перед носом у нелепо столпившихся на его пути двуногих, и те не успели ничего предпринять, разве что кто-то испуганно вскрикнул, но леопард уже оказался на ровной площадке и снова полетел вперед и вниз, но на этот раз чуть наискосок, навстречу тому запаху, что был ему хорошо знаком, — аромату быстрой речной воды.
Он уже наполовину спустился по крутому склону сильно заросшего лесом ущелья, но все еще слышал порой тявканье гончих; впрочем, звук этот как бы застыл без движения: погони не было. Он стал спускаться медленнее, почти сливаясь с чернотой ночи, потом пошел против течения реки вверх, к горам, продираясь сквозь заросли карликовой пальмы, посуху, поскольку река здесь больше напоминала извилистый ручей.
Старательно огибая скользкие валуны, он упорно стремился к вершинам горного хребта, где скалы поблескивали во тьме выходами кристаллических горных пород, а гигантские свечи мелиантов выделялись на фоне серо-зеленого горного вельда и огромной безлюдной долины внизу. До полуночи было еще далеко, а ужас, вызванный встречей с гончими, уже почти исчез из его памяти, и он постепенно стал забирать к западу по освещенным неярким светом звезд коридорам, образованным высокими лесными деревьями, к двум долинам-близнецам, которые отмечали западную границу его территории. Он шел и чувствовал, как все живое вокруг твердит о приближении дождей.
В «мерседесе» Кампмюллера Тернер откинулся на пахнувшую кожей спинку сиденья и стал думать о Майке Превальски, о том, как он провел ту долгую ночь. Он не сомневался, что Майк нашел свежие следы леопарда рядом с домом. Рабочий лесничества Хендрик Новембер ничего не мог сообщить кроме того, что и так было ясно при одном взгляде на клетку-ловушку. Тернер был совершенно уверен, что Майк никому так и не сказал об обнаруженных им следах, а может, и о том, что видел леопарда собственными глазами, и все-таки никак не мог поверить, что Превальски решился пойти на такой риск, имея один шанс из тысячи. Майк должен был понимать, что леопард где-то поблизости. Но если он это понимал, то почему не договорился, чтобы его забрали утром?
Еще слишком мало времени прошло, и Тернер не успел осознать до конца, что его друг погиб, но уже начинал понимать это; не хотелось даже думать о том, что придется снова поехать к Полли, которой непременно нужно будет кого-то обвинить в гибели мужа и постараться побольнее ударить избранную ею жертву, и Тернер понимал, что именно он-то и станет для нее легкой «добычей». Из головы у него не шла примятая трава в клетке, разбросанные вещи Майка метрах в тридцати от нее, где на него напал зверь, — теплая куртка цвета хаки, пустая серебряная фляжка, фонарик, рюкзак и, что особенно потрясло Тернера, все еще заряженное ружье, из которого Майк так и не выстрелил, у которого даже предохранитель не был спущен. Нетрудно было догадаться, что леопард просто подождал, пока человек выйдет наружу, и, застав его врасплох, напал сзади. На правом плече Майка были глубокие отметины от страшных когтей и на голове тоже, а горло было просто растерзано; тело леопард оттащил всего на несколько метров и устроил пир: все ребра были обглоданы, живот вспорот, рубашка и штаны сорваны, ягодицы и обе ляжки тоже частично объедены. Тернер содрогнулся: он слишком хорошо помнил это пустое мертвящее время перед рассветом, с трудом подавляемую панику, из-за которой человека прошибает холодный пот. И слишком хорошо знал по собственному опыту, с какой легкостью в этот час суеверные представления о злобных и хитрых чудовищах путают мысли даже у самого разумного человека. Все-таки человек — не ночное животное, и для того чтобы охотиться ночью и самому не стать добычей, да еще в таком диком краю, нужно было обладать недюжинным мужеством и способностью подавить атавистический страх перед лицом извечного своего врага. Однако же он не верил, что Майк мог выскочить из клетки, поддавшись панике. Нет, Превальски навсегда останется в его памяти как человек безусловно храбрый, пусть порой бесшабашный, беспечный, пусть даже легкомысленный — ведь его действия помешали им использовать один верный шанс из ста и попытаться поймать этого зверя.
И все же Тернер не мог винить его. Майк был одиночкой по натуре, а это свойство Клиф знал достаточно хорошо. Майк недооценил преследуемого им зверя, но, по крайней мере, доказал, что они имеют дело с ситуацией, совершенно неподвластной контролю, сколько бы рассерженных директив ни присылали им бюрократы из департамента. Зверь-людоед — это понятие казалось настолько несоответствующим нормальной действительности, что его трудно было воспринять в этот век супертехнологий, и все же факт оставался фактом: более никто в этом обширном лесном районе, среди холмов и возделанных полей, не был в безопасности и решительно никакие позитивные меры предосторожности не могли предотвратить следующего нападения черного леопарда там и тогда, когда он захочет сам. Теперь это, вполне возможно, будет происходить примерно раз в неделю.
Тернер встревоженно поерзал на сиденье и повернулся к Полу Стандеру, сидевшему сзади:
— Надеюсь, Ван Ренсбург все-таки справится; да и чем мы-то могли бы ему помочь?
Ответом было долгое молчание, из чего следовало, что и Стандера обуревали сомнения насчет того, стоило ли им отправляться в гости при сложившейся ситуации.
— Да ничем, — проговорил он наконец, — ничем мы бы ему не помогли. У него и так помощников полно; они еще одну машину послали в устье Саби со стороны Книсны. Ван Ренсбург скоро должен вернуться в лесничество, так что нам в любом случае сообщат или мы сами повидаемся с ним.
— Просто невмоготу стало торчать там! — вырвалось у Тернера. — Ты ведь не против, Япи?
— Не против чего? — изумленно спросил Кампмюллер, тоже явно глубоко задумавшийся.
— Не против того, чтобы развезти нас сегодня по домам?
— Нет, ну что ты! Я с удовольствием. — Снова воцарилась тишина. Потом Кампмюллер сказал: — Heu, maar daardie tier is nou wragtig’n duiwelse probleem11.— По всей вероятности, это должно было означать, что ему очень жаль Майка Превальски.
Дом Каннингема был таким же старым, как и роща огромных дубов вокруг него, однако же само здание тщательно восстановили и модернизировали. Освещенные окна и абсолютно белый фронтон, казалось, излучали гостеприимство.
Кампмюллер поставил машину возле похожего на колонну огромного дуба, ствол которого был освещен падавшим от крыльца лучом света, и они втроем вылезли из «мерседеса» и подошли к «лендроверу» Каннингема. Тот вместе с чернокожим слугой склонился над багажником. В руках у Каннингема была большая рыбина. Они повосхищались пойманным морским карасем, чешуя которого теперь сверкала, точно расплавленный свинец; рыба все еще хватала воздух раскрытой пастью, демонстрируя ряды округлых зубов. Потом Каннингем повел гостей в дом — странное зрелище они собой представляли, осторожно передвигаясь гуськом, чуть ли не на цыпочках, в своих грубых ботинках по отличному полированному паркету из кладрастиса и персидским коврам в нарядных комнатах с высокими потолками. Наконец они очутились в той самой гостиной с деревянными панелями, которую Тернер так хорошо помнил. Каннингем подошел к столику, где стоял большой серебряный поднос со стаканами и разнообразными бутылками и графинами, попросил Тернера налить кому чего хочется и исчез вместе с рыбиной. Вскоре они услышали его голос, приглушенный расстоянием, но все же достаточно громкий, куда громче всех остальных голосов, которые, как понял Тернер, принадлежали прислуге и доносились из кухни.
— Тебе чего, Пол?
Стандер изучал фотографии на стенах.
— Мне бренди с водой, пожалуйста. Ты видел эту голову леопарда? Наверное, старый зверюга был, если судить по клыкам.
Кампмюллер тоже бродил по гостиной, привлеченный в первую очередь развешанным на стене у большого камина антикварным огнестрельным оружием; сунув руку в карман шортов и откинув голову с видом знатока, он критически разглядывал коллекцию Каннингема.
Появился и сам Каннингем; он успел переодеться в синие джинсы и отлично сшитую куртку-сафари; на шее красовался платок в голубой горошек, на ногах были легкие сандалии.
Волосы его были еще влажны и тщательно причесаны, отчего казались темнее. Он налил себе изрядную порцию виски с содовой, не переставая что-то говорить, и жестом пригласил гостей располагаться в креслах. Он рассказывал им истории о рыбной ловле до тех пор, пока из гостиной не улетучилось даже малейшее напряжение и совершенно перестал быть слышен хор кузнечиков и лягушек, звон которого доносился со стороны заболоченного пруда, скрытого деревьями.
На третий раз Полу Стандеру удалось наконец поговорить по телефону с Ван Ренсбургом, который минут за десять до его звонка вернулся совершенно измученный, но не потеряв ни одной собаки. Когда Пол снова присоединился к компании, они немного поговорили о черном леопарде и очень тихо вспомнили Майка Превальски, а потом принялись пить ускоренными темпами. От Каннингема они отбыли непристойно шумно, орали «До свиданья!», а потом пели в машине, особенно когда ехали через лес. Тернеру раньше и в голову не могло прийти, что они способны так орать, и он решил, что их истерическая веселость связана с гибелью Превальски.
Каннингем некоторое время постоял на крыльце после того, как звук Кампмюллерова «мерседеса» затих вдали. Лягушки на заболоченном пруду орали с такой страстной настойчивостью, что становилось ясно: вскоре начнутся их брачные путешествия по лугам, которые жаждут небесной влаги.
Он уже чувствовал в воздухе запах дождя; влажный ветерок, точно вздох, доносился из леса и улетал прочь, шурша ковром опавших листьев. Тьма стояла стеной, которую прорезала лишь полоса света из распахнутой двери, не было видно ничего — ни единой звездочки в небе, ни даже белых свежепокрашенных деревянных перил крыльца, ни лужайки за подъездной аллеей.
Каннингем почти физически ощущал тяжесть грозовых туч над головой, гонимых каким-то высоким небесным течением в зловещей тишине. Он вошел в дом и, захлопнув дверь, глянул на часы. Было уже полдесятого. Его буйные гости, эти любители дикой природы, явно получили удовольствие, и он улыбнулся, вспоминая их удавшуюся вечеринку. Потом принялся возиться на кухне, вдруг почувствовав, что проголодался.
Он с удовольствием слушал возмущенное шипение бифштекса на раскаленном рашпере, потом разбил и вылил на сковородку два яйца, подумал и разбил третье, открыл бутылку красного вина и налил себе полный стакан. Это его последний одинокий вечер. Завтра должна вернуться из Англии его жена Дафни.
Разумеется, она в полном восторге от своей новой роли бабушки. Каннингем с волнением предвкушал встречу с нею и новости, которые она привезет о дочери и внуке. Вот было бы хорошо, если б серая кобыла родила именно сегодня, подумал он, прямо подарок для Дафни, она бы страшно обрадовалась. Грэм поел на кухне, вспоминая события сегодняшнего дня, вновь с удовольствием переживая все детали поимки большой рыбы и стараясь как можно меньше думать о гибели Превальски. Он давно знал Майка, хотя и не так близко, как его жену Полли: Полли когда-то занималась дополнительно, во время каникул, с его младшей дочерью Мег.
Нет, это просто ужасно, до сих пор не верится!
Каннингем поел и небрежно сунул грязные тарелки в раковину, зная, что повар вымоет их завтра утром. Потом прошел в кабинет, надел старую куртку, взял электрический фонарик и увесистую трость. Эта трость стала его обычной спутницей во время ночных визитов в конюшню: там на крыс охотилось слишком много африканских гадюк. Их в это лето развелось видимо-невидимо, и хотя Каннингем не принадлежал к числу тех, кто не задумываясь убивает любую змею, и понимал, что гадюки — непревзойденные охотники на крыс и спасают его кладовые, но отлично знал, как эти змеи опасны.
Он включил свет на крыльце — стали видны ступеньки и стволы трех ближних дубов, похожие на серые колонны; потом прошел через лужайку к конюшне, едва различимой в слабом луче его фонарика.
Серая кобыла терпеливо стояла в своем деннике и слабо заржала, вздыхая при виде Каннингема. Он погладил ее по морде, нежно поговорил с ней и снова вышел наружу, прикрыв воротца денника. Потом обвел лучом фонарика остальные стойла, перелез через деревянную ограду и пошел к дому напрямки, через лужок. А в это время черный леопард не сводил с него глаз.
Свернув на запад по неширокой, утоптанной дикими свиньями тропинке, леопард миновал густые заросли маккии и вынырнул из лесу на краю распаханного поля. Он пересек поле, пролез под двойной оградой примерно в полукилометре от опушки леса и направился к спасительной стене деревьев, высившейся впереди, но тут его встревожил движущийся глаз фонарика Каннингема. Он спрятался в густой и высокой траве кикуйю возле конюшен и смотрел, как свет фонарика просачивается изнутри сквозь щели и дырки от выпавших сучков в дощатых стенах, оставляя на земле полосы и пятна; потом ясно стали видны ноги и трость Каннингема, отбрасывавшего длинную тень на стену конюшни. Один раз луч резанул его прямо по глазам, а стукнувшая дверь конюшни заставила напряженно припасть к земле. Двуногий медленно удалялся, и леопард пошел за ним, скрываясь в тени деревянной ограды, неслышно ступая по мягкой траве.
Налетевший ветер швырнул на лужайку первые капли дождя — откуда-то из тьмы; годовалые жеребята, играя, выбежали было на свет фонарика, взбрыкивая и подбрасывая копытами комья земли, но вдруг испуганно бросились врассыпную и метнулись назад, в загон, нервно всхрапывая и лягаясь. Каннингема охватила тревога; он внимательно смотрел на лошадей, озадаченный их поведением. Что-то их явно испугало, и явно не свет его фонарика, потому что чуть раньше они мирно стояли за оградой, когда он шел в конюшню. Он еще раз обвел лучом света лужайку, лошадей, и тут ему показалось, что какая-то темная тень мелькнула в воздухе и исчезла за деревянной оградой, перед которой лошади остановились как вкопанные, беспокойно вглядываясь в непроницаемую тьму — уши торчком, хвосты нервно подрагивают. Каннингем смотрел на них, пока они не успокоились и не начали снова беззаботно пастись. Он еще раз посветил фонариком вокруг и быстро пошел к дому. Оказавшись наконец в ярко освещенном холле, обнаружил, что запыхался и руки у него дрожат. Он быстро приготовил кофе и плеснул в стакан немного чистого виски, потом включил транзисторный приемник, чтобы послушать сводку погоды. Его беспокоил самолет Дафни. «Да это просто какая-то собака! — громко сказал он себе самому. — Ну конечно, это собака Миллера, черт бы ее побрал!» И решил утешить себя, представляя, как эта проклятая собака удирала от его рассерженных лошадей.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Будильник разбудил Тернера в пять утра, и он услышал стук дождя по рифленой железной крыше. С наслаждением пришлепнув ладонью трезвонивший будильник, он немного полежал на спине, прислушиваясь к тихой пульсирующей боли в тяжелой голове и испытывая облегчение оттого, что нет необходимости вылезать из постели. Ветра не было, и дождь падал с небес ровными мощными струями, которые конечно же уничтожат все оставшиеся следы и гончим придется тяжко.
Он глянул на часы и со вздохом сел. Потом включил электрический чайник и снова присел на краешек кровати, зажав виски большим и средним пальцами. Потом все-таки встал и полюбовался на себя в зеркальце для бритья. Он даже губы поджал, когда его голубые, налитые кровью глаза глянули на него из зеркала. Нос показался ему слишком длинным, а подбородок зарос отвратительной щетиной.
Что ж, пока этот черный людоед жив, идею заповедника для леопардов можно похоронить. Однако же у людей память короткая, и если проявить разумную осторожность, то в будущем идея эта, возможно, обретет новую жизнь. Жаль, что на этих гончих надежда плохая! Впрочем, их все равно не позволят держать здесь до бесконечности в ожидании единственного шанса. Отравить леопарда тоже вряд ли удастся, это совершенно очевидно, как и заманить в ловушку. Какую-то пользу могут принести его фотоустановки; битва будет наполовину выиграна, если удастся достаточно четко определить наиболее часто посещаемые этим зверем места в огромном, занимающем сотни квадратных километров лесном массиве, изрезанном ущельями и оврагами. Но чем больше он размышлял на сей счет, тем определеннее приходил к выводу, что вся эта затея почти наверняка будет просто потерей времени, тогда как история с леопардом быстро развивается и поимка зверя стала уже поистине «истерической необходимостью». Мартин Бота сообщал, что необычайно увеличился приток местных жителей, желающих заявить об исчезновении родственников или друзей. Сколько из них в действительности погибло из-за нападения хищников, догадаться невозможно — всем известно, как беспечно ведет себя большинство людей, — однако у Тернера больше не осталось сомнений: соседство черного леопарда смертельно опасно, куда опаснее, чем казалось ему прежде. Проанализировать собственное отношение к этому зверю ему было гораздо труднее. Спасая собственную жизнь или жизнь другого человека, он конечно же застрелил бы леопарда не задумываясь. Ну а если бы он увидел его с расстояния, скажем, метров в пятьдесят и находясь в безопасном укрытии? Что ж, возможно, тогда он не справился бы с искушением и помедлил еще секунду-другую, чтобы хоть немного полюбоваться столь редким животным. Интересно, а этот черный уже спаривался? Здорово, если да, ведь тогда есть надежда, что хотя бы один детеныш из помета тоже будет черным! А лично для Тернера лес без столь редкостного зверя безусловно стал бы беднее. А не сочувствует ли он часом этому черному людоеду? Да, это так, к чему лукавить. Ведь не по собственной злобе леопард убивает людей: во всем виновата цивилизация, в очередной раз пришедшая в столкновение с дикой природой, — ведь это человек, защищая свое имущество и благосостояние, и выдуманная человеком техника сделали леопарда калекой.
Тернер пил дымящийся кофе, по-прежнему сидя на краешке кровати. Он думал об ужасном конце Майка Превальски.
В конце концов, это же не просто дурной сон. Рано или поздно пришлось бы повернуться к случившемуся лицом. Но единственное, что он пока мог сделать, — это оплакивать Майка от всей души, вспоминая его таким, каким он был в те дни, когда Тернер еще только поселился в своей пещере: живым, подвижным и всегда готовым помочь. При мысли о пещере ему тут же вспомнился пляж рядом с нею, та ночь, фосфоресцирующее море, теплое тело Джин, мягко прижавшееся к его груди… Он надеялся, что эти воспоминания принесут пусть мимолетное, но забвение, однако они принесли лишь тоску и ощущение одиночества, тщетности всех его усилий. Казалось бы, та ночь обещала столь многое, однако же обещания обернулись ничем, чередой мягких, но решительных отказов. Впервые ему пришло в голову, что у Джин есть кто-то другой. Невидящими глазами он уставился за окно, на толпившиеся вокруг деревья, забыв о чашке в руке, поднесенной к губам. Он изо всех сил пытался найти ключ к загадке поведения Джин и не находил его.
Спать больше не хотелось. Тернер оделся; в голове у него несколько прояснилось, мысли крутились вокруг огромной клетки-ловушки, которой хотел воспользоваться Майк Превальски. В целом это была отличная идея, которую подпортила всего лишь одна ошибка Майка, стоившая ему жизни. Но ведь повторять чужую ошибку совсем не обязательно; более того, если четко следовать тому плану, который уже начал складываться у Тернера в голове, можно, видимо, поймать черного леопарда живым.
Клиф приготовил себе завтрак — тарелку кукурузных хлопьев и яичницу, — налил еще кофе и позвонил Полу Стандеру, как только стрелки часов сошлись на цифре семь. Дождь сперва стал тише, потом совсем прекратился, оставив после себя полосы тумана, рваными клочьями проплывавшие над верхушками лесных деревьев внизу, в долине, и стоило дождю перестать, как сразу грянул утренний хор птиц — запели и заорали соловьи, иволги, попугаи и где-то вдали журчанием ручейка откликнулась шпорцевая кукушка-кукаль.
С помощью рабочих лесничества Пол Стандер разобрал клетку и еще до полудня перевез ее в небольшую мастерскую на окраине Книсны, а ближе к вечеру усовершенствованная клетка была готова. В принципе она выглядела почти так же, как и прежде, разве что стала чуть длиннее и внутри у нее была устроена еще одна маленькая клетка из проволочной сетки, в которой как раз хватало места для сидящего человека.
Они обсудили идею соскальзывающей двери в малой клетке, которую можно было бы захлопнуть одновременно с большой дверцей-ловушкой в тот критический момент, когда леопард войдет в клетку, однако эту мысль они отвергли на том основании, что вторая автоматически захлопывающаяся дверца лишь увеличит возможность того, что все устройство может не сработать, — Тернер сам должен дернуть за проволоку, когда нужно будет привести в действие спусковой механизм дверцы в большой клетке.
— А если ты заснешь? — спросил Пол Стандер.
— Ну уж нет, спать я не собираюсь.
— Ведь если ты заснешь, тебе конец, — не унимался Пол. — Если, конечно, этот леопард вообще явится, когда мы установим эту штуковину.
— Да придет он, придет! Но боюсь, ему сперва понадобится заполучить еще одну жертву.
— Знаешь, ты ведь можешь потерять сознание или просто окаменеть — ну шок, понимаешь, или еще что-нибудь такое…
— Страх, ты хочешь сказать, — ухмыльнулся Тернер. — Ладно, согласен, установим дополнительный надзор. Но спусковым механизмом я буду управлять сам, вручную. Нельзя рисковать; он не должен уйти, даже если почует что-нибудь не то.
— Но ведь тебе будет довольно трудно определить, когда именно следует дернуть за проволоку, — продолжал размышлять вслух Пол. — Если дверца упадет, когда он еще не совсем войдет в клетку, и заденет ему хотя бы задние ноги, он ведь непременно вывернется и молнией выскочит наружу.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Когда ливень наконец прекратился и деревья стряхнули с листьев плащи из водяных струй, потревоженные налетевшим ветром, леопард вылез из своего теплого логова, устланного палой листвой, и потянулся. И в черной тишине промокшего леса, под спутанными зарослями, в которых леопард залег накануне, послышался звук, напоминавший шуршание жесткой материи — это хищник неторопливо начал вылизывать себя от плеч до хвоста шершавым, как терка, языком. Потом он перебрался через странную голую возвышенность — здешнее основное шоссе — и бежал рысью только потому, что там не было спасительного подлеска; он вовсе не боялся тех ревущих чудовищ, которые там водились. Снова войдя в лес, он легкой походкой двинулся по старой, заросшей травой Дороге под деревьями, освещенными косыми лучами встающего у него за спиной солнца, которое было похоже на золотисто-медовый шар. На одном из каменистых уступов в речном ущелье, на нагретой солнцем скале, он постоял, понюхал воздух и землю вокруг, а потом повернул назад, чтобы спуститься к реке в другом месте: здесь была метка, оставленная другим самцом-леопардом. Прямо внизу временами просвечивала водная гладь — это была главная река равнины, простиравшейся между мысами-близнецами, где она казалась узкой черной лентой; река, извиваясь, спускалась с гор и в верховьях была похожа на ожерелье из черных или янтарных заводей, соединенных узкими протоками, а на самом верху представляла собой просто ручеек с высокими, крутыми, заросшими лесом берегами и почти исчезала в глубине собственного русла. Добравшись до верхних границ плато к полудню, леопард начал спуск к реке. Ближе к воде стали попадаться большие деревья и древовидные папоротники; донесся запах влажной земли и реки, а потом показалась и сама река.
Он напился в пятнистой тени от нависших над водой ветвей, стоя на узкой полоске белого речного песка, намытого течением. На этом бережке после бурного дождя еще остались хлопья пены, хотя вода уже спала. Потом он уселся на скале, освещенной солнцем, и снова старательно вылизал себя. Когда он изгибался, чтобы достать до плеча и бока, становился виден старый шрам — узкий, серый, неровный, ручейком стекавший со спины, единственный изъян на его безупречной блестящей шкуре. Леопард весь лоснился, и мех его отсвечивал серебром в солнечном свете, когда он напрягал или расслаблял мускулы массивных передних лап. Некоторое время он посидел неподвижно, расслабившись и с весьма рассеянным видом; глаза его от удовольствия превратились в зеленоватые щелки; он незаметно покачивался, убаюканный солнечным теплом и ласковым журчанием реки.
Где-то на склоне ущелья вожак стаи бабуинов, спускавшихся к реке, уловил острый запах леопарда — тот специально оставил отметку на стволе сухого дерева, — издал тройной резкий лающий крик, и ему откликнулось эхо. Глаза леопарда тут же раскрылись, уши дрогнули, а длинный черный хвост нервно заметался по скале; он встал, выгнул спину и выпустил длинные белые когти, так что пальцы на передних лапах раскрылись веером. Он один раз лениво лизнул лапу у самого основания когтей, а потом, словно ему надоело прихорашиваться, уставился вниз, на реку, так и забыв опустить лапу, но все же неторопливо втянув острые как бритва когти. Потом он резко повернулся и, чуть прихрамывая, пошел по течению реки вверх, вместе с ней сворачивая то вправо, то влево, в зависимости от преграждавших ему путь валунов и кустов, и больше уже не останавливался, пока не добрался до любимой заводи Джин Мэннион, которая давно уже сюда не приходила.
Отсюда было километров восемь до того места, где леопард спустился к реке; родной скалистый выступ с пещерой был теперь всего в трехстах метрах, на вздымавшемся в небо утесе, а усадьба Мэннионов — чуть дальше, за округлым холмом, на другом берегу реки.
Леопард три или четыре раза принимался лакать черную речную воду, но делал это как-то лениво, словно всего лишь пробуя ее. Голова его коротко подрагивала, когда он обнюхивал пахнувший мятой подлесок вокруг. Изящно переступая с одного камня на другой, он миновал полоску влажного песка, потом, топорща усы и чуть приоткрыв пасть, обследовал ствол ближайшего дерева. Он выглядел совершенно спокойным, а легкие повороты головы и чуть подрагивавшие, стоявшие торчком уши свидетельствовали о миролюбивом интересе к окружающему. Он медленно поднимался по лесистому склону, на ходу все пробуя и обнюхивая, и наконец остановился у дерева с гладкой белой корой, на которой видны были глубокие длинные борозды коричневато-зеленого цвета, медленно зараставшие молодой корой после нанесенных ранений.
Здесь леопард поднялся на задние лапы, вытянулся во весь рост, выпустил когти и стал царапать передними лапами ствол, вытягиваясь в струнку и стараясь достать как можно выше, напрягая каждый мускул под лоснящейся шкурой. Потом он лениво съехал по стволу вниз, оставив на коре свежие зеленые борозды, веером сходившиеся у корней дерева, и сонно поморгал глазами, ибо в морду ему вдруг ударил пробившийся сквозь листву луч солнца, а потом спокойно уселся и вылизал основания когтей и пальцы на передних лапах.
В лесу слышалось то смолкавшее, то возобновлявшееся пение какой-то одной птицы, солнце было в зените, и леопард, более не останавливаясь, двинулся вверх, перебрался через каменистую осыпь у знакомого утеса, с деланным равнодушием слушая пронзительный писк рассыпавшихся в разные стороны даманов, и поднял голову, лишь оказавшись прямо под нависшим выступом, где чуть выше, среди распластавшихся на скалах алоэ, был вход в его старое убежище. Леопард весь подобрался, перестал помахивать хвостом, поднял его трубой, потом вдруг резко опустил и, словно хвост подтолкнул его, одним прыжком взлетел метра на три вверх. В пещере образовалась подстилка из бурых опавших листьев, занесенных сюда ветром; еще леопард обнаружил высохший помет генетты, а в самом дальнем углу, у холодной песчаной стены, — норки муравьиных львов. Он тщательно обследовал свое логово, убедился, что опасности нет — ни следов другого леопарда, ни порывистого шипения африканской гадюки, ни изогнувшего хвост скорпиона, — и лишь тогда рухнул с довольным ворчанием на бок.
Весь день черный леопард проспал и проснулся, отдохнувший и полный сил, когда нестройный хор из лесных долин — голоса птиц, насекомых, лягушек — возвестил приближение ночи, черными волнами, точно прилив, быстро затоплявшей ущелья и склоны гор, стараясь успеть поглотить даже последние отблески света на вершинах.
При слабом голубоватом свете луны, которая была в последней четверти, леопард поднялся по каменистой горловине позади своего логова и, пройдя по самому краю пастбища, приблизился к поселку, где жили рабочие с фермы Кампмюллера. На лающих собак он внимания не обращал, однако держался в тени, приглядываясь к каждой хижине; зрачки его зеленых глаз сильно расширились. Лишь в одном домишке светились окна, и он повернул именно к этому дому, отчасти потому, что со светом у него ассоциировалось присутствие двуногих существ, а также потому, что именно оттуда доносилось больше всего звуков, свойственных тем, на кого он сейчас охотился. Были, впрочем, и другие звуки, знакомые, но для леопарда бессмысленные: бренчание гитар, пиликанье губных гармошек и жестяной перезвон маленьких металлических барабанов. Их все приносил дувший с запада ветерок от дома Джин Мэннион, находившегося примерно в километре отсюда. Леопард обошел хижину кругом; все его чувства были напряжены до предела; припадая к твердой, вытоптанной земле, он принюхивался к двери и окнам. Сделав три круга, он разочарованно потянулся и попытался лапой поймать полосу света, вместе с запахами лившегося сквозь щели в закрытых ставнях. Никакой перемены в количестве звуков не произошло, и, в последний раз обследовав территорию, а заодно и курятник с сараем, леопард повернул прочь и двинулся по ветру на восток, сосредоточиваясь теперь на новых звуках, раздававшихся впереди, на незнакомой дороге. Теперь он активно расширял свою территорию, на ходу помечая ее на протяжении всех одиннадцати километров пройденного пути: на тропах и проселочных дорогах, у фермерских домов и амбаров, у рабочих поселков и хлевов, где отдыхал скот, начинавший догадываться о его присутствии, лишь когда он уже прошел мимо. Он не обнаружил никаких следов других леопардов — ни самца, ни самки. Вскоре после полуночи, вновь спустившись сквозь густой лес к реке, он пошел по тому следу, который должен был вывести его к морю. К этому времени он прибавил еще сотню квадратных километров к своей территории; это была ничья территория, и на ней в изобилии водилась та особая дичь, на которую он теперь охотился.
Из небольшого горного ручейка, зажатого крутыми скалистыми берегами, река, соединившись с другими ручейками, превращалась в неторопливо извивавшуюся по плоской зеленой равнине, покрытой возделанными полями, ленту, а потом, миновав невысокие песчаные дюны, впадала в море. Вдоль ее берегов, у основания старых, заросших кустарником дюн, росли ивы и дубки, а дальше, по мере того как речная вода из-за морских приливов становилась солоноватой, появлялись рощицы местных белых африканских орехов, огромные стволы которых бледно светились в лунном свете, точно волшебные.
Попадались и мимузопсы, искривленные, с темными ветвями, растущие над самой водой. Это была незнакомая леопарду местность, обладавшая особым, буйным нравом и весьма отличная ото всего, что ему до сих пор доводилось видеть. Он шел по песку и легко мог определить, как много суетится вокруг всяких мелких и крупных зверьков, в том числе и таких, которые были известны ему только на слух. В этой суете и смешении запахов он различал острый запах дикобраза и диких свиней в зарослях темно-зеленых мимузопсов и слышал короткое блеяние бушбоков, явно учуявших леопарда.
Потом он поднырнул под ограду из колючей проволоки и оказался на лугу, заросшем сочной травой, где в одном углу стояло неглубокое озерцо — точно сверкающее серебряное зеркало в раме из тростника. Здесь он прилег на брюхо и как следует напился. Воздух был влажный, трава насквозь пропитана водой после недавнего мощного ливня. Леопард понюхал перья, оброненные филином, и потревожил парочку желтоклювых уток, которые, хлопая крыльями, поднялись в воздух и исчезли во тьме. Он тщательно обследовал все озерцо по периметру, и в каждом заливчике при приближении зверя тут же смолкал хор лягушек, а за его спиной раздавался снова, и в нем сливались хриплые голоса жаб и звенящие, оглушительные вопли квакш, переходящие в ультразвук. Завершив обход, леопард двинулся назад тем же путем, каким пришел сюда, — снова пролез под колючую проволоку и потрусил вдоль дороги, на развилке свернув налево. Вся его повадка свидетельствовала об осторожности и любопытстве одновременно: места были новые, и он то и дело поднимал голову и посматривал вверх и по сторонам. Дорогу быстро застилал голубой предрассветный туман, и все звуки вокруг постепенно меняли свой характер. Высоко над головой перекликалась, пересмеивалась стая древесных ибисов, потом они улетели; один раз пронзительно крикнул африканский воинственный орел; и вдруг закукарекал петух, словно разбуженный и встревоженный этим криком. Услышав петуха, леопард остановился и зашипел, прерывисто нюхая воздух. Теперь он шел очень осторожно, все время принюхиваясь; жилье двуногих оказалось именно там, где он и предположил по петушиному крику, — сразу за поворотом: три домика, окутанных облаком знакомых запахов. Один из двуногих как раз шел по дороге прямо к нему, босые ноги неслышно ступали по песчаной колее, а следом вился слабый запах табака. Леопард, притаившись в тени и припав к земле, наблюдал за человеком расширившимися глазами; возбуждение в нем росло, и, совершив прыжок, он приземлился среди росших прямо над дорогой колючих кустов. С дороги его заметно не было, однако же сам он отлично видел белевший на ней в предрассветных сумерках песок и приближавшегося человека. У поворота, где обрыв над дорогой был наиболее крутым, леопард прыгнул, и жертва его лишь захрипела, рухнув на землю под тяжестью огромного зверя. Не прошло и минуты, как глаза двуногого вылезли из орбит и безжизненно остекленели. Леопард почувствовал последние судороги жертвы, чуть ослабил хватку, проглотил слюну и облизнулся. Потом встал во весь рост, постоял над неподвижным двуногим, озираясь по сторонам, моргая глазами и брезгливо слизывая с морды следы крови, и, удовлетворенный тем, что добычу его никто не оспаривает, еще раз обнюхал жертву с головы до ног, аккуратно взял зубами за плечо, приподнял, тряхнул и понес в лес, высоко подняв голову и напрягая мощную шею, чтобы обвисшее тело почти не касалось земли — слегка волочились лишь ноги и одна рука.
Первую трапезу он устроил у корней огромного мимузопса; потом большую часть дня отдыхал, забравшись высоко на дерево, среди хитросплетения ветвей, под темно-зеленым пологом листвы. Здесь он, по крайней мере, был абсолютно не заметен снизу; листва, в тени казавшаяся почти черной, черные ветви и кое-где на этом фоне пятнышки солнечного света — со всем этим его лоснившаяся, отливавшая серебром шкура почти сливалась. Он три дня не уходил далеко, пока не съел добычу почти целиком, разве что спускался порой к реке напиться; и ничто не тревожило его, пока не появилась пара барсуков-медоедов; болтая, шипя друг на друга и хихикая, они закружили возле объедков, готовые драться, и леопард, зная, что это соперники серьезные, уступил, хотя и задал им небольшую трепку на прощанье, в результате которой самка полетела кувырком и вернулась не сразу, однако же осталась совершенно невредимой благодаря своей толстой, свободно болтающейся на костях шкуре. Черный леопард отправился назад тем же путем, каким пришел сюда. Темное, затянутое тучами небо, без конца брызгавшее дождем, осталось равнодушным к его возвращению, вот только в каждом доме по очереди начинали лаять собаки, когда он проходил мимо, и лай долго не смолкал вдали. Еще до восхода он снова оказался в долине между мысами-близнецами и нырнул мимо пахнувшей выдрами скалы в гущу древовидных папоротников, дикой фуксии и диких гранатов, в знакомую тишину, нарушаемую лишь журчанием воды и еще кое-какими слабыми звуками, служившими ему отличным указателем направления.
За лесом пастбище на склоне холма, заросшее густой травой, было чуть окрашено желтым светом восходящего солнца и пахло овцами. Леопард подлез под ограду, практически не коснувшись проволоки, и тут же почуял запах собаки; особенно сильный во влажном воздухе, он был смешан с ароматами сада. Здесь земля была мягкой, и, бесшумно ступая по ней, он направился прямо к дому, который молчаливо застыл на вершине холма, точно выход горной породы. Он прошел по траве хорошо знакомой лужайки, ощутил чуть затхлый запах плавательного бассейна и на всякий случай попробовал воду. Потом немного задержался, обнюхивая полотенце, забытое на спинке стула, и пару сандалий на траве рядом, а потом медленно обошел вокруг дома, погладывая на окна и двери. Однако же по виду его — высоко поднятой голове, стоявшим торчком ушам и неторопливой беспечной походке — сразу можно было догадаться, что в данный момент он охотиться не собирается. Почувствовав запах собак на псарне, он обошел их стороной и неторопливо тем же путем двинулся назад; и только снова войдя в лес, он услышал истерический лай собак, в котором слышалась смертельная тоска и неуверенность в себе.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Джин стояла на балконе аэропорта не столько для того, чтобы помахать на прощанье брату, сколько за тем, чтобы посмотреть, как с пронзительным звуком самолет разбежится по взлетной полосе и грациозно подпрыгнет в небо, оставив позади серо-коричневый шлейф дыма. Она уже очень давно не была в новом здании аэропорта, так что, проехав для этого шестьдесят километров, решила и остаток дня провести по возможности приятно.
Главная улица в Джордже была шире, чем в Книсне, и выглядела более городской; вдоль тротуаров нескончаемой вереницей тянулись магазины и фешенебельные бутики. Она купила узкие, кремового цвета штаны в обтяжку, зашла в роскошный цветочный магазин, а потом выпила чаю со сдобными булочками, сливками и медом.
Джин быстро шла по тротуару чуть покачивающейся размашистой походкой — длинноногая, широкобедрая — и, заметив, с каким восхищением на нее смотрят мужчины, вдруг подумала о том, чего все это время сознательно избегала даже в мыслях. Она не сразу сумела отпереть машину — никто никогда не запирал свои автомобили в Книсне — и, все-таки наконец сладив с ключом, посмотрела на часы. Джон должен был уже прилететь в Кейптаун. Его не будет четыре дня, и два из них он проведет в Стелленбосе, на ферме их двоюродного брата. Ну и, без сомнения, повидается с той девушкой, у которой волосы цвета меда, — как ее там, Бренда? или Барбара? нет, Белинда! А сама Джин на четыре дня полностью предоставлена себе. Она оттягивала поездку брата, сколько могла, воспринимая ее как особо сильное средство для собственного исцеления, но не слишком все же уверенная, что и это средство поможет. В предвкушении своего недолгого одиночества она волновалась заранее, и сердце у нее билось сильнее, чем обычно. За последние две недели она почти не видела Клифа Тернера, однако же он звонил по крайней мере раза четыре — дважды он разговаривал с Джоном и дважды с нею, когда Джона дома не оказалось. Однако она всегда была совершенно уверена, что именно ее голос он и надеялся услышать. Во время их довольно бессвязных и длинных разговоров оба очень осторожно обходили любую тему, способную намекнуть на то, что произошло во время вечеринки в пещере.
Джин даже испытывала угрызения совести по поводу собственных тогдашних лживых обещаний; она прекрасно понимала, что даже если сбросить со счетов все остальное, включая ночное купанье в светящихся волнах под полной луной, то их отношения с Клифом — это огромный бутон прекрасного цветка, который только и ждет, чтобы распуститься, но расцвести он должен исключительно по ее воле!
В машине она думала о Саймоне, и то ли потому, что она была далеко от фермы и связанных с ней воспоминаний, то ли потому, что давно уже подсознательно отвела ему совсем иной, хотя и не менее важный участок в своей душе, она обнаружила: впервые эти мысли не причиняют ей боли. Вряд ли Саймон мог бы захотеть, чтобы она в память о нем дала обет безбрачия и навеки осталась одна. Она понимала, что настоящих причин винить себя у нее нет. И все-таки чувство вины не проходило.
Она ехала медленно, пытаясь смотреть на побережье как бы чужими глазами, и видела, что красота этих мест не нуждается в преувеличенно громких похвалах. Эти края точно специально были созданы для свадебных путешествий, для каникул, для отпуска. Первый же длинный песчаный пляж, обрамленный отвесными скалами, вспыхнул перед ней желтым, точно крыло бабочки, песком. Дорога в очередной раз спустилась к морю. Бесконечные волны прибоя, синие с белыми гребнями, окутанные дымкой зеленоватого тумана, набегали на берег, где толпились, словно обнимая изгибы песчаных пляжей, дома с черными и красными крышами, сейчас постепенно пустевшие, поскольку лето подходило к концу. За дюнами, на лесистых берегах солоноватых озер, было полно кемпингов, на черной, отливающей голубым в вечернем свете воде виднелись мачты яхт, множество желтоклювых уток и лысух, розовыми всплесками мелькали стаи фламинго. Вот и еще одна черная река, текущая к морю через леса и горы, и огромный открытый эстуарий самой Книсны. Через двадцать минут она будет дома! В воротах фермы Джин поговорила с Генри, их управляющим, удостоверилась, что все в порядке, и решила встретиться с ним завтра с самого утра и осмотреть всю ферму.
Она медленно ехала по красной грунтовой дороге, что вилась среди пастбищ, и смотрела по сторонам, но не с удовлетворением, какое испытывает фермер, оглядывая свои угодья и отмечая, что земля покорна воле хозяина и дает прекрасные плоды, а хмурясь, печалясь, отчего лицо ее с высокими скулами, решительным подбородком и слабо золотившейся в закатных лучах кожей казалось особенно прелестным. Она закусила губу и остановила машину у дороги, где в загоне среди уже высокой, по колено, юной ржи было несколько молодых кастрированных шотландских бычков. Джин выскочила из машины и встала, чуть расставив ноги и держась руками за верхний слой проволочной ограды.
Черные безрогие бычки выглядели тучными, шкуры у них лоснились, и Джин порадовалась, что ни на шаг не отступила от установленного Саймоном графика их кормления. Он всегда говорил, что это слишком важное дело, чтобы доверять его интуиции Генри и его весьма неопределенному календарю. И все же она страшилась будущего, своей неспособности стать действительно безупречным фермером, чего всегда хотела раньше. Она понимала, что упрямые кислые почвы вельда, сейчас скрытые под своим зеленым экзотическим покровом, будут день заднем, безостановочно восстанавливать свои права и владения, а гусеницы и жуки будут продолжать свои бесконечные нашествия; а Генри, того и гляди, опять напьется невесть с чего и надолго исчезнет — разбираться с домашними неурядицами; Саймон же никогда больше не вернется. И Джон уже отслужил свои два года в армии и теперь должен поступать в университет, уж об этом-то она непременно позаботится, хотя бы во имя покойного отца; но вот даже ради Саймона она вряд ли сможет всегда жить на ферме одна и заниматься сельским хозяйством, фермерством, как это сделал бы он сам.
Она не ощущала в этой земле неподвижности, как и окончательной точки в своей жизни.
На фоне закатного неба медленно проплывала бесцветная и беззвучная вереница птиц. На дамбе у запруды отчетливо вырисовывались силуэты гусей, вспыхивая белым в последних солнечных лучах. В небе постепенно гасли багровые краски, и Джин понимала: в этот вечер она прощается с Саймоном.
Снаружи дом казался темным и тихим. Она постояла на крыльце, прислушиваясь к хору лягушек и сверчков, грянувшему с новой силой, и ощущая тоскливое одиночество. Потом выключила свет на крыльце, вошла в дом и заперла за собой дверь. На мгновение задержалась у телефона, решительно отвернулась и пошла на кухню, твердо намереваясь приготовить себе ужин повкуснее — омлет с петрушкой и, может быть, со спаржей. Потом налила себе вина и включила приемник.
Посмотрев телевизор, Джин долго плескалась под горячим душем и наконец отправилась в спальню, забралась в постель и доставила себе редкое удовольствие — почитала лежа, прихлебывая горячее молоко, и выкурила сигарету. Потом она отложила недочитанный триллер — ей хотелось почитать еще, но почему-то было немножко страшно, совсем чуть-чуть, и почему-то казалось, что этот черный леопард ходит поблизости, рядом с домом, и тогда она выложила на столик у кровати электрический фонарик и старый кольт Саймона, автоматический, 38-го калибра. Такие пистолеты она помнила по старым фильмам о чикагских гангстерах: длинный ствол, вороненый затвор, тупой курок и магазин, полный блестящих патронов, отсвечивающих бронзой. Впрочем, кольт был в отличном состоянии и вполне мог ей пригодиться. Было уже около двенадцати, когда она наконец выключила свет. Некоторое время она полежала в темноте, потом заставила себя снова включить свет у кровати, встать и запереть дверь в спальню, а также закрыла и заперла оба окна, выходившие на лужайку перед домом, откуда видна была долина, похожая сейчас на черную пропасть. На единственном незакрытом окне справа она защелкнула ограничитель, оставив щель сантиметров пятнадцать, через которую лился ночной воздух, пахнувший влажной землей и травой; луны не было, стояла полная тишь, только вдали плыли, затихая, крики чем-то потревоженных хохлатых ржанок.
Поток холодного воздуха медленно стекал по склону холма, над истоптанным овцами пастбищем, неся с собой росу, способную с первыми лучами солнца превратить паутину в бриллиантовое ожерелье. Эта воздушная река была насыщена различными ароматами: в ней чувствовался легкий запах грибов, характерный для ранней осени, и резкий аромат зреющих апельсинов, и запах псины, смешанный с теплой прелой вонью собачьих подстилок. Вода в бассейне, пахнувшая химией, и кисловатый запах дыма говорили леопарду только о том, что здесь определенно живут двуногие существа, в этом мрачном приземистом доме на вершине холма, выкрашенном пепельно-серой краской, с белыми оконными проемами. Дом был виден издали. Однако лишь один-единственный запах доминировал для леопарда надо всем остальным, точно запах крови: так пахла одежда, волосы, руки человека, и лишь этот запах вызывал у него желание приоткрыть пасть, лизнуть, попробовать языком и зажмуриться от восторга. Черной тенью, более густой, чем окружавший его предрассветный мрак, он плыл, точно переливаясь в иную форму, когда подныривал под проволочную ограду или пересекал распаханное поле.
Вскоре он ступил на поросший короткой травой двор, но, поскольку собачий запах все усиливался, помедлил и сменил направление, как бы унося собственный запах с собой. Теперь он двинулся вокруг дома, чтобы умолкнувшие было собаки не учуяли его снова. Потом остановился у одного из окон, приподнялся, положив лапы на подоконник, и поднял уши, прислушиваясь к звукам внутри затихшего дома; он слышал ритмичное металлическое позвякиванье, означавшее стук часов, достаточно громкое и похожее на биение сердца, мурлыканье холодильника и тихое — таким может быть только дыхание живого существа — дыхание его спящей жертвы. Угол приоткрытой кухонной двери как бы выступал из темноты, и оттуда проистекал ручеек теплого воздуха. Леопард вошел в дом очень осторожно, нервно подрагивая усами, припадая к полу каждый раз, когда нерешительно опускал лапу на непривычно холодные плитки пола. Зрачки его в полной темноте кухни расширились до предела, и он внимательно разглядывал окружавшие его предметы, воспринимая их, однако, как некие единообразные выступы и формы. Главными же для него были показания усов и языка, которые отмечали все: различие в температуре у пола и потолка, мягкость ковров и, наконец, то, что его добыча находится в данный момент менее чем в двух метрах от него, за дверью.
Обычно спавшая очень крепко, Джин немного удивилась тому, что проснулась еще до рассвета; в спальне стоял серый полумрак. Часы со светящимся циферблатом показывали чуть больше половины пятого, и сердце у Джин почему-то стучало как бешеное. Она понимала, что ее, должно быть, разбудило что-то необычное, но не осмеливалась даже подумать, что в дом мог залезть грабитель — ничего страшнее она и вообразить себе не могла, — и лежала неподвижно в темноте, с широко открытыми глазами. Когда она снова услыхала этот осторожный шорох, даже не шум, а просто нечто, свидетельствовавшее о том, что в доме кто-то есть, то прислушалась и услышала отчетливо глухой удар по полу, очень похожий на то, как стучит хвостом ее сиамский кот, когда он с важным видом, мурлыча, призывает обратить на него внимание, прохаживаясь возле кресла или стула и постукивая подрагивающим хвостом по ножкам. Однако сейчас кот крепко спал у нее в ногах, а все остальные здешние кошки обычно ночевали в амбаре с люцерной, если не было слишком холодно. Она припомнила, что, как всегда, оставила кухонную дверь незапертой, так что, может быть, это просто кто-то снял обувь и стукнул башмаками по полу. Теперь голова у нее работала абсолютно четко; не зажигая света, она нащупала на столике у кровати свои часы, зажигалку, будильник и, наконец, рукоять пистолета, медленно подтянула пистолет к себе и села в кровати, прижимая оружие к груди вместе с одеялом.
Вдруг совсем рядом раздался низкий, переходящий в утробное рычание вой; она вздрогнула от неожиданности и леденящего страха; пистолет в ее руках задрожал, сердце бешено забилось. Сиамский кот, соскочив с постели, тоже выл дурным голосом где-то под кроватью — это был жуткий звук, но его, по крайней мере, можно было легко определить. Джин дышала с трудом, сердце билось так, словно выталкивало воздух из легких короткими мучительными толчками. Перепуганный насмерть кот тихо стонал под кроватью на одной и той же пронзительной ноте, потом его стон перешел в негромкое сиплое рычание, потом стал громче, и эти дикие звуки невыносимо действовали ей на нервы. Когда вой кота несколько стихал, Джин изо всех сил напрягала слух, стараясь понять, что происходит в доме, однако ничего расслышать не могла, и через некоторое время, казавшееся в темноте бесконечно долгим, дыхание ее немного успокоилось, она разжала пальцы и выпустила теплую рукоять пистолета, стараясь хоть немного размять затекшую кисть руки. Она слышала легкое шуршание собственных ногтей по простыне, и где-то далеко голоса ржанок, и тиканье будильника рядом, и даже слегка удивилась, что слышит все это, такое знакомое. А потом снова эти успокаивающие звуки неожиданно смолкли, и опять она ощутила рядом угрожающее присутствие кого-то страшного и живого в темноте. В ней словно вдруг пробудилось некое давным-давно уснувшее чувство, способное приоткрыть ее душе дверцу, за которой прячутся ужасные духи из далекого прошлого, смертоносные ветры ледникового периода, фырканье пещерного медведя у заваленного каменными глыбами входа в жилище человека или дыхание самого страшного из кошачьих — саблезубого тигра. Все эти кошмары теперь оказались рядом. От страха у нее пересохло во рту, по спине и по плечам побежали мурашки; теперь она отчетливо понимала, что может стать чьей-то добычей, жертвой, загнанной в угол и одинокой перед лицом смерти, как и все прочие жертвы, чьи кости еще сто тысяч лет назад обратились в прах.
Однако сопение за дверью было вполне реальным, как и тихое царапанье мягкой лапы. Кот под кроватью снова хрипло завыл, вой его перешел в пронзительный вопль; дверь заскрипела, зашаталась, а затем вдруг все стихло и довольно долго в бесконечно продолжавшейся ночи, которая начинала уже сменяться серым рассветом, не было слышно ни звука, лишь присутствовало не имеющее названия ощущение разделенной с кем-то судьбы в последние мгновения перед смертью. Джин была в полуобморочном состоянии, когда ручка двери вдруг резко опустилась, поднялась, и в дверь ударили с такой силой, что казалось, вот-вот сорвут ее с петель. Дверь загрохотала, и дом откликнулся на этот стук мертвящей тишиной страха.
Тошнотворно-пустое серое время тянулось для Джин невыносимо долго. Хотя теперь она, по крайней мере, знала, что это конечно же не человек и, разумеется, не генетта, не Дикобраз и не удравшая из загона собака, которые могли забраться через открытую дверь в кухню в поисках объедков.
Разум отказывался принимать то, что говорили ей чувства, хотя из головы не шла страшная картина: огромное черное чудовище стоит на задних лапах у двери в ее спальню и пытается достать ее, словно она всего лишь загнанная в угол мышь.
В тишине комнаты, постепенно отмечая, что серые сумерки сменяются неярким рассветом, Джин вдруг вспомнила о пистолете и что было силы оттянула назад затвор. Хорошо смазанный кольт громко щелкнул, и, кажется, щелчок этот разом пробудил всех собак — вся свора истерически залаяла в тридцати метрах от дома, на противоположной стороне вымощенного плитами двора. Джин чувствовала под пальцами тяжесть и холод стали, однако левой рукой еще раз проверила, взведен ли курок. Все ее внимание теперь было сосредоточено на приоткрытом окне, на его ощутимо светлеющем во мраке прямоугольнике, похожем на театральную сцену, однако пустую, пока еще без актеров.
Она уже не чувствовала опасности слева от себя, у двери.
Опасность переместилась куда-то, но все еще была ощутима, притягивала к себе мысли Джин, ее зрение и слух, и она, казалось, выходит через кухонную дверь наружу, медленно обходит дом, пересекает лужайку и приближается к окну, приоткрытому навстречу дыханию свежего воздуха. И тут поставленное на ограничитель окно зазвенело, в щель целиком протиснулась огромная, могучая передняя лапа и повисла, словно ощупывая мрак спальни крючковатыми когтями, белесо поблескивавшими в темноте, точно ночные бабочки. Лапа казалась совершенно отдельной от самого тела хищника; потом Джин увидела голову леопарда — округлую, черную, плавные линии которой нарушали лишь стоявшие торчком уши, — и нажала на спусковой крючок. Пистолет неловко подпрыгнул у нее в руке, в застывшей тишине комнаты оглушительно прогремел выстрел, и, слыша сквозь этот грохот собственные жалобные рыдания, она выстрелила снова, крепче сжав кольт обеими руками, и, как следует прицелившись, стреляла до тех пор, пока голова в окне не исчезла и не стало видно лишь белое небо. Услышав наконец, что отчаянно и жалобно плачет, она заставила себя замолчать, почувствовала в воздухе запах кордита, и ее чуть не стошнило. Собаки по-прежнему истерически лаяли, но теперь уже не выли; а потом, как всегда на заре, тихонько запела малиновка, и тогда Джин снова тихо заплакала, с такой силой вдохнув наконец воздух полной грудью, что стало больно. Заря все разгоралась, и вот желтый солнечный луч коснулся угла платяного шкафа, а она все продолжала сидеть с пистолетом на коленях и старалась не дышать.
Глаза ее довольно долго ничего не различали в полумраке комнаты: столько времени они были прикованы к светлому прямоугольнику окна. Наконец она сумела разглядеть, что уже седьмой час. Ее служанки, Дина и Сьюзен, скоро должны, как всегда впопыхах, влететь на кухню и начать обмениваться сплетнями за кофе. Голова у Джин все еще отказывалась работать как следует. А что, если леопард притаился где-нибудь возле дома и ждет? Девушек непременно нужно предупредить, но это означает, что она подвергнет страшной опасности себя.
Телефон за запертой дверью спальни, в гостиной. Нужно побыстрее связаться либо с Клифом Тернером, либо с Полом Стандером. Теперь-то она понимала: они ничуть не преувеличивали опасность! Джин, сжавшись от страха, вспомнила, как этот леопард поджидал Майка Превальски и как убил его среди бела дня, тот не успел даже ружье схватить, не то что выстрелить. Она вспомнила, как ее раздражали постоянные предупреждения Клифа о том, что купаться в лесной заводи опасно… Солнце начинало заливать своими лучами спальню; вдалеке послышался визг циркулярной пилы. Джин вдруг подумала, что вполне могла и попасть в леопарда хотя бы один раз. А вдруг он лежит мертвый за окном и пуля прошила ему голову? Нет, придется все-таки вылезти из постели! И причина нашлась важная: она сгорала от любопытства и даже чуточку забыла о страхе. Джин медленно подошла к окну, крепко зажав в обеих руках пистолет со взведенным курком. В своей прозрачной ночной рубашке она казалась почти нагой и совершенно беззащитной, однако была исполнена решимости целиться как можно точнее и по возможности убить зверя.
Свет солнца и утренняя бодрость быстро рассеивали парализующий ужас ночных видений, порожденных ее воображением, а далекое, неумолчное и в высшей степени прозаическое гудение пилы лишь способствовало восстановлению привычного мироощущения.
Она подошла к окну вплотную и наклонилась, привстав на цыпочки; ей стала видна стена до самой земли, однако за окном ничего страшного не было, и она, не почувствовав ни разочарования, ни облегчения, открыла окно и, высунувшись наружу до предела, внимательно осмотрела двор и лужайку перед домом, а также раскинувшийся на склоне холма розарий, стараясь заметить малейшее движение притаившейся там черной тени. Ничего не обнаружив, Джин решила пока прервать наблюдение за окрестностями и сделать следующее: отпереть дверь спальни, пройти на кухню и запереть дверь на улицу, потом позвонить и выйти на улицу, чтобы предупредить слуг.
К этому времени, собственно, предупреждать уже вряд ли будет нужно: она сумеет практически убедиться, что зверь ушел.
Джин быстро натянула узкие штаны, надела рубашку и сандалии, а потом, вспомнив о собаках, все еще беспокойно подвывавших, решила, что они смогут помочь ей, да и освещенный солнцем двор за окном, казалось, не сулил опасностей. Сердце колотилось так, что пистолет у нее в руках вздрагивал в такт его ударам. Джин перемахнула через подоконник, спрыгнула в траву и побежала к собачьему загону. Собаки со всех ног с лаем бросились наружу, обежали дом, влетели, утробно рыча, в гостиную и снова вылетели во двор. Джин позволила им бегать туда-сюда по крайней мере минуту, а потом снова позвала их и заперла. Потом медленно прошла в кухню, оттуда — в темную гостиную со спущенными шторами, положила пистолет рядом с телефоном на столик и позвонила на коммутатор. Связь была плохая, и она еле слышала голос Клифа, однако ей сразу стало намного легче, хотя по-настоящему она разобрала лишь несколько слов: «Стой где стоишь, закрой все окна и двери, запрись, я сейчас приеду».
Вскоре она услышала за спиной голоса своих цветных служанок, которые страшно удивились, когда она сперва втащила их в дом, а потом бросилась запирать окна и двери.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Тернер и Стандер в своих штанах и куртках цвета хаки и в грубых башмаках выглядели не к месту в роскошной спальне с пуфиками, коврами и позолоченной мебелью. В оконном стекле было аккуратное отверстие от пули, причем стекло вокруг даже не потрескалось.
— Ты промахнулась всего на ширину ладони, — объявил Тернер. — И вот здесь тоже чуть в него не попала. — Он указал на расщепленную выстрелом оконную раму. Потом глянул на потолок и улыбнулся: — Ладно, об этом мы просто помолчим.
Она показала ему язык и шутливо толкнула в плечо.
У крыльца стоял грузовичок, нагруженный какими-то металлическими и проволочными конструкциями; рядом трое помощников Тернера в голубых форменных куртках пялили глаза на страшно возбужденных служанок.
— Это что, какая-нибудь ловушка? — спросила Джин.
— Да, — ответил Стандер. — И мы думаем, что она сработает. Очень надеемся.
— Да, тебе здорово повезло, — проговорил Тернер и положил руку Джин на плечо. — Я отлично понимаю, чего это стоило, но ты молодец, вела себя мужественно и очень смело!
Хотя вообще-то это был один шанс из миллиона.
— Ну да, смело! — Джин покачала головой. — Видел бы ты!
Да меня чуть не стошнило от страха!
За кофе они рассказывали, как будут ставить клетку, какова будет «приманка» и как должна сработать дверь-ловушка, и очень старались, чтобы звучало все это как можно легкомысленнее.
Но Джин была в ужасе:
— Клиф, ты не можешь! Нет, это невозможно!
— Но он же меня не достанет! Даже если очень захочет.
Так что это совсем не опасно. И я вовсе не собираюсь корчить из себя героя, уверяю тебя. Но пока никому не говори о нашей затее. Мы действуем по собственной инициативе, и, если ничего не получится, нам могут здорово намылить шею за то, что мы сразу не позвонили и не заказали гончих с провожатым.
Но нам кажется, эти гончие снова его упустят, уж больно здесь много оврагов. В общем, завтра все будет ясно. Сегодня Пол на ночь останется здесь и будет поддерживать со мной связь, а утром тебе, возможно, захочется пригласить нас позавтракать.
Клетка была слишком громоздкой, чтобы нести ее в глубь лесной долины, так что они установили ее на прогалине, неподалеку от того места, где Джон Эвери и Кампмюллер некогда поставили свой самострел. К полудню все было готово.
В половине шестого Клиффорд и Джин на полчаса остались вдвоем: Стандер повез троих рабочих домой, в Книсну. Они смотрели вслед грузовичку, пока тот не скрылся за отрогом холма, потом молча вернулись в дом.
В прохладной затененной гостиной Джин подошла к окну, Клиффорд последовал за ней, обнял за плечи и ласково сказал:
— Ужасно тебе досталось! Ты уж прости меня, ладно?
Когда она обернулась к нему, он наклонился и губы их встретились — сперва нерешительно, словно пробуя друг друга на вкус, словно продлевая миг первого поцелуя при ярком свете дня, с ясными головами, а потом все настойчивее, пока сдерживавшие их преграды не рухнули; теперь помеха была только одна: те полчаса, за которые успел вернуться Пол.
Птицы в лесах на побережье четко соблюдают свой график, пением отмечая рассвет и угасание дня. Люди воспринимают их пение как проявление некоего абсолютного порядка, безмятежности, но все же есть в нем и нотка грусти: ведь долго еще после того, как умрут и будут похоронены бесчисленные слушатели этих песен, сами песни будут звучать по-прежнему, равнодушные к жизни людей, точно голос живого единства, вечного, бессмертного, а потому способного смеяться даже над собственным бессмертием. По утрам первыми просыпаются попугаи; словно шумные дети, они будят всю лесную страну. После них раздается хор певчих птиц — малиновок и капских дроздов, а потом вступают кукушки, сорокопуты, пеночки, бородатки и райские птички — мухоловки — голос каждой вступает в свою очередь, — и все это мелодично венчает ария соловья, искусного чревовещателя, радующегося встающему солнцу. Вечером птичий концерт происходит более торжественно и звучит иначе, чем возбужденное и суетливое приветствие утренней заре: ведь грядущая ночь всегда таит неведомые опасности. Вечером первыми поют кукушки — три-четыре застенчивых родственницы с похожими голосами, однако же каждая на свой лад; потом вступают сорокопуты и самые нежные из певчих птиц — малиновки; короткий этот концерт вскоре смолкает, и наступает тишина, в которой слышны только крики сов.
Клиф в своей тесной клетке прослушал птичьи выступления с начала и до конца; кроме того, где-то рядом слышался крик маленькой антилопы дикдика, звавшего подругу, а еще ближе встревоженно вопили хохлатые ржанки, потом с шумом унесшиеся прочь. Клиф встревожился, сразу представив себе хищную черную тень, теперь едва различимую в сгустившейся тьме.
Совы мрачно гукали вокруг; он снова и снова вспоминал Майка Превальски, так что пришлось даже заставить себя думать о чем-то другом, абсолютно несущественном. Пистолет Саймона Мэнниона лежал, полностью заряженный и со взведенным курком, рядом с белевшим во тьме термосом. Кольт — отличное оружие в таком тесном пространстве, однако же нужен он скорее для моральной поддержки, ибо выстрел грозил сорвать весь их план; в своих расчетах Клиф даже не принимал пистолет во внимание, но тем не менее отчетливо сознавал, как хорошо, когда в темноте он лежит рядом. Радиопередатчик был гениальной идеей Пола; работал он отлично. Клиф надеялся, что эти звуки не отпугнут зверя; напротив, они, видимо, даже послужат дополнительной приманкой.
— Значит, слышите меня хорошо? — спросил Тернер. Потом вдруг попросил приглушенным голосом: — Отключись-ка, Пол. — Наступила тишина; Джин с Полом выжидающе посмотрели друг на друга. Стандер даже вздернул бровь, но тут голос Клифа возник снова: — Все нормально, это пока только дикобразы. — Однако они слышали, как тяжело и взволнованно он дышит. Потом он сказал: — Ну все, я отключаюсь. Вы по-прежнему хорошо меня слышите? Прием.
— Отлично, Клиф! И с интересом слушаем твои комментарии. Тебе следует как-нибудь попробовать прокомментировать игру в крикет. Прием.
— Похоже на настоящий оркестр, — сказал Клиффорд. — Тут по крайней мере миллион лягушек проснулся. Может, даже и вам слышно? И еще зуйки орут… Вот послушайте. И подтвердите, что слышите меня, когда я говорю так тихо.
Прием.
— Мы слышим тебя отлично, и зуйков тоже. Тут вот Джин хочет что-то тебе сказать.
Джин наклонилась к микрофону, и Пол передал ей наушники.
— Привет, — сказала она. — Мы по тебе уже соскучились.
Пол очень заботливый, только пьет ужасно много кофе. Все двери и окна в доме закрыты; надеюсь, и ты свои не забыл закрыть? Прием.
— Спасибо. Очень мило с твоей стороны, — поблагодарил Клиф. Помолчали, потом он сказал: — Ага кто-то тут еще рядом зашевелился… Эти дикобразы куда-то спешат… — Он снова помолчал, потом тихо сказал: — Знаете, у меня такое чувство, что он тут, неподалеку… Фонариком пользоваться пока не хочу. Ладно, буду держать с вами связь каждые полчаса, если ничего не случится. Прием.
Пол вздохнул и посмотрел на часы.
— Наверное, это будет долгая ночь, — пробормотал он. — Можешь чуточку поспать, Клиф, если хочешь. Я тебя разбужу.
Обещаю.
Джин потянулась и посмотрела на стоявшие на каминной полке часы. Потом подошла к окну и постояла там некоторое время, скрестив руки на груди и глядя во тьму. На всем широком пространстве долины не видно было ни огонька, и на дальней горной гряде тоже: там никто не жил, это уже начиналась территория государственного заказника. Джин представила себя в клетке, рядом с которой бродит черный людоед, и вздрогнула всем телом.
— Я посижу с тобой, Пол, хорошо? Мне так спокойнее.
Я тут с книжкой на кушетке устроюсь.
В половине пятого голос Клифа звучал устало:
— Я немного беспокоюсь насчет вспышки, Пол. Когда вспыхнет яркий свет, я могу на секунду зажмуриться и не увидеть его. — Он помолчал. — Как глупо, что я ружье не взял!
С него станется — будет лежать рядышком и поджидать, когда я из клетки выйду. Но ты все-таки не приезжай, пока я сам тебе не скажу, а когда приедешь, не выходи из кабины сразу да не забудь захватить с собой свой «магнум», а не дробовик, хотя он, возможно, и не понадобится. Как там Джин? Прием.
Предрассветные часы — время отлива в человеческой жизни. А что, если их постигнет неудача? Посыплются обвинения.
Особенно если и на этот раз гончие потеряют след зверя. Да и нужно же будет кого-то обвинять, в конце концов. Пол, как и Клиф, тоже понимал это, однако постарался изгнать из голоса даже малейшие отголоски подобных сомнений.
— Джин спит. С ней все в порядке. Она тут рядом, на кушетке. По правде сказать, похрапывает, но совсем тихонько.
Можешь не беспокоиться насчет вспышки, даже если закроешь глаза; ты его и сквозь зажмуренные веки отлично увидишь, уверен. Прием.
Голос Клифа вдруг превратился в едва различимый свистящий шепот:
— Он здесь! Точно! Бродит вокруг клетки. Оставляю приемник включенным.
— Джин, — требовательно, однако тоже шепотом позвал Пол, забыв, где находится; потом окликнул ее громче. Она мгновенно проснулась и тут же оказалась с ним рядом. — Слышишь? Он оставил приемник включенным. Нет, ты слышишь, как там орут зуйки? Мечутся, наверное, прямо у Клифа над головой. Он говорит, что леопард совсем рядом. Не понял, правда, с чего он это взял; возможно, просто игра воображения, но я все-таки решил тебя разбудить.
— И правильно сделал!
— Знаешь, он беспокоился, что зажмурится и ничего не увидит, если сработает вспышка.
— Какая вспышка?
— Разве я тебе не говорил? Мы прикрепили светочувствительный элемент прямо на клетку. И сантиметров на семьдесят ниже — одну из его фотокамер. Если при появлении леопарда вспышка сработает, то это будет означать, что зверь практически уже вошел в клетку и Клифу нужно немедля опустить дверцу.
И, как если бы слово «дверца» послужило магическим заклинанием, в радиоприемнике послышался оглушительный треск, потом голос Клифа — точнее, невнятные вопли — и громче всего ужасное рычание крупного зверя, который с грохотом бился о металлическую решетку.
— Есть! Попался! — задыхающийся голос Тернера срывался. — Господи, ну и зверь! — Это прозвучало с восторгом и ужасом одновременно. — Ну и красавец, черт побери!
Голос его снова потонул в рычании, от которого, казалось, дрожит даже трубка в руках Пола, и громком лязге железной клетки.
— Все в порядке! Стенки достаточно крепкие! — Тернер уже орал, не то испытывая облегчение, не то чуть истерически. — Теперь можешь приезжать, Пол, только держись от него подальше и направь на клетку фары.
Джин и Пол молча уставились друг на друга, готовые тут же бежать на помощь Клифу. Снова послышался более тихий, но по-прежнему остервенелый рык, потом Клиф совсем тихо сказал:
— Ах ты бедняга! — Голос его сорвался от волнения, и он отключил связь.
Джин и Пол обнялись. Джин смахнула с ресниц слезы.
Потом они вместе бросились к грузовику. Ехали в полном молчании, напряженно ожидая, что предстанет их взору. Пол лишь один раз обронил:
— Да, он явно переволновался.
Фары выхватывали из темноты неровные извилистые колеи, и наконец перед ними открылась поляна, такая знакомая Джин, но теперь выглядевшая совершенно иначе в предрассветном полумраке и лучах фар, скользящих по траве. Клетка была отчетливо видна на дальнем конце прогалины. И хотя она поблескивала металлом, но все же отчего-то казалась удивительно хрупкой, ненадежной, особенно когда они, раньше чем ожидали, увидели яркие зеленые огни широко раскрытых глаз леопарда, которые тут же погасли, стоило зверю шевельнуться.
Когда Стандер выключил мотор, они посидели молча и совершенно неподвижно, потом он тихо сказал:
— Клиф был прав. Это самый прекрасный зверь, какого я когда-либо видел.
Леопард тоже молчал; он метался по клетке, низко опустив голову, плотно прижав уши, и его огромные мускулистые лапы, завораживающе поблескивая, мелькали за прутьями и железной сеткой ловушки.
— Ты лучше останься здесь, — сказал Пол. Джин только кивнула.
Стандер медленно вылез из кабины и осторожно обошел машину кругом, потом, избегая попадать в луч света, двинулся на помощь Клифу Тернеру, который начал потихоньку, на четвереньках, выбираться из ловушки через дверцу малой клетки. Леопард взвыл, зарычал и снова всем телом ударился о клетку, а потом лег на землю, тяжело и хрипло дыша — такого звука Джин никогда прежде слышать не приходилось. Она глубоко вздохнула и наконец расцепила стиснутые пальцы.
Оба мужчины уже подошли к машине с ее стороны. Слов ни у кого не было. Она посмотрела на Клифа Тернера, особенно худого и измученного в этом сумеречном свете, и он показался ей далеким, незнакомым и почти прекрасным со своим узким продолговатым лицом и прямым крупным носом.
— Ну, Пол, — спросил он, — что мы будем с ним делать?
Что с ним теперь станется?
Пол поскреб подбородок и сказал медленно, тихо, словно вынужденный сообщить неприятное известие:
— Отпустить мы его не можем, верно? Но, по-моему, они захотят его убить.
Клиф помолчал, потом возмутился:
— Но ведь существуют и другие способы? Эх, голова у меня совсем не работает, черт побери! — Он снова помолчал. — Тебе, наверно, в такой темноте не видно — у него ведь одной ступни почти целиком нету.
— Ну передо мной-то можешь его не оправдывать, Клиф.
Впрочем, так или иначе, на исход дела это не повлияет. Никто не захочет рисковать и везти его в такую даль — в заповедник то есть. Кто здесь на это пойдет? Нет, это слишком опасно.
К тому же еще хотя бы одно нападение леопарда на человека где бы то ни было — и из принявшего решение о его перевозке сделают отбивную котлету.
— А если в зоопарк? — предложила Джин.
— Это возможно, — согласился Пол. — Тут, по-моему, ничего предосудительного нет.
Оба посмотрели на Клифа, и Пол сказал:
— Да ладно, старик, выше нос. Пошли, надо бы отпраздновать это событие; ведь нам просто фантастически повезло!
Слушай, а ну-ка вспомни: кем там был тот старый профессор?
Уильямс, кажется? Уж он-то, конечно, не откажется взглянуть на этого зверя. Вот вам и отсрочка.
Клиф вдруг заговорил:
— Да, ты прав. Это можно попробовать. Только придется не спускать с него глаз: здесь скоро соберется добрая половина местных жителей. И не сомневаюсь, как взвоет старина Япи, требуя немедленного суда Линча или чего-нибудь в этом роде.
Тернер позвонил директору департамента прямо домой в Кейптаун в семь утра и даже слегка удивился тому, с каким облегчением и восторгом было принято его сообщение; он передал трубку Полу Стандеру, и тому тоже досталась значительная доля похвал. Затем Тернер позвонил домой доктору Уильямсу, застав того практически в дверях, и с облегчением положил трубку, услышав, что его предложение принято и представляется Уильямсу вполне понятным. Теперь он мог надеяться, что при посредничестве директора департамента и доктора Уильямса будут наведены нужные мосты. Потом они связались с начальником лесничества, с полицией и наконец уселись завтракать, уплетая яичницу с беконом, поджаренный хлеб, варенье и кофе.
Они не успели еще встать из-за стола, как начали подъезжать машины. Первым на сцене появился Кампмюллер.
Когда они повели его к ловушке, Тернер прошептал: «Пари держу, он скажет: „Какая отвратительная тварь!“», и когда Кампмюллер действительно сказал эти слова, добавив: «Swart duive!»12, то никак не мог поверить, что широкие улыбки мужчин и смех Джин никак не связаны с удачной охотой. Все утро без конца подъезжали новые машины — чиновники из департамента, полицейские во главе с Мартином Ботой, довольно ухмылявшимся и не выпускавшим изо рта трубку, представители окружного административного совета, мэр Книсны, ветеринар из Книсны, местные фермеры, два репортера, просто любопытствующие представители многочисленных цветных семейств… Всем было очень важно собственными глазами увидеть зверя-убийцу, однако Клиф и Пол вздохнули с облегчением, когда наконец прибыл большой, специально оборудованный грузовик из заповедника и на нем трое мужчин в форме. Де Вильерс, руководитель прибывших и приятель Клифа, был явно потрясен видом огромной черной кошки.
Теперь сотрудники заповедника в зеленовато-бурой форме смогли образовать уже нечто вроде барьера вокруг клетки и дать зверю немного отдохнуть от любопытных зрителей и собственных сердитых бросков на неподатливую сетку; он без конца рычал, вся морда у него была окровавлена, и передние лапы тоже.
Де Вильерс присел у своей черной сумки с медикаментами, быстро приготовился, подошел к самой клетке и, опустившись на колени, выстрелил жидкостью из шприца прямо в широко разинутую рычащую пасть, находившуюся всего сантиметрах в пятнадцати от его лица. Леопард с такой силой всем телом ударился о стенку, что клетка затряслась, а Де Вильерс вздрогнул и опустил голову. Однако выпущенная из шприца жидкость попала в цель, и теперь оставалось только ждать. Некоторое время наркотик, казалось, не действовал совершенно: леопард по-прежнему беспокойно метался по клетке, затем движения его стали более вялыми, неуверенными, будто у него под ногами колебалась земля, он начал пошатываться и спотыкаться, как пьяный, голова странно подергивалась, глаза упорно смотрели в одну точку, словно пытались разглядеть кого-то, однако не видели ничего, кроме страшных и неотвратимых призраков. Когда леопард медленно соскользнул на землю у одной из стенок клетки, люди были уже наготове и, схватив слабо и беспорядочно размахивавшего лапами зверя за хвост, высунувшийся наружу, подтащили зверя поближе и удерживали его за этот толстенный черный «канат» ровно столько, сколько Де Вильерсу потребовалось, чтобы всадить шприц в тело леопарда.
Когда подняли дверцу ловушки, по толпе пролетел громкий стон ужаса, и люди поспешно отступили, толкаясь и спотыкаясь, хотя возникшая было легкая тревога быстро сменилась добродушными шутками и смехом, когда из клетки вылезли наружу четверо мужчин, пошатывавшихся под тяжестью зверя.
Передние лапы леопарда все еще подрагивали, разгребая воздух, словно он медленно плыл куда-то. Потом его опустили на пластиковую простыню, прикрыв от яркого солнца широко открытые немигающие глаза. Теперь наконец можно было спокойно его измерить, ощупать и осмотреть. Затем леопарда поместили в деревянный контейнер, заперли, попрощались, и грузовик, подняв облако пыли, пустился в обратный путь, оставив позади последних зрителей, которые тоже потихоньку потянулись по домам. А Клиф Тернер и Джин, исполненные сознания выполненного долга, вместе с Полом Стандером вернулись на ферму.
Клиф, совершенно одетый, однако босиком, крепко спал на постели Джин и проснулся, разбуженный резким звоном будильника, не в силах сразу понять, где находится. Он выключил будильник и заметил рядом с ним чашку чая и записку, написанную рукой Джин: «Ушла к заводи; если хочешь, приходи туда тоже», и в самом низу голубого листочка стоял один маленький крестик.
Клиф сел, одним глотком выпил чуть теплый чай и обулся.
Интересно, а где Пол? На улице было жарко, стояла та самая жара, какая довольно часто наступает в марте, точно в последний раз напоминая о прошедшем лете, но во влажном воздухе чувствовалось приближение грозы, над горами висели черные тучи. С каждым шагом, спускаясь по склону холма к реке, он чувствовал себя все бодрее, точно не просто отдохнул, хорошенько выспавшись, но и сбросил давившую на него огромную физическую и моральную тяжесть.
Джин лежала на поросшей лишайниками, залитой солнцем скале посреди заводи, казавшейся светлым светящимся пятном на фоне почти черной воды. Клиф разделся и вошел в воду; ноги и бедра сразу стали золотисто-желтыми, потом янтарными, а потом совсем пропали из виду в темной речной глубине, и когда вода мягко коснулась своей прохладной рукой его шеи, он молча поплыл к Джин. Она смотрела на него, опустив подбородок на руки и улыбаясь, а когда он метрах в десяти от скалы развернулся и поплыл назад, встала, длинноногая, грациозная, и сама бросилась в воду, догоняя его.
Для пары черных орлов-яйцеедов, круживших в воздушном потоке высоко над землей, эта заводь казалась крохотным черным окошком в зеленом море растительности, однако же движения пловцов встревожили птиц, они развернулись на своих огромных, похожих на широкие весла крыльях и пронеслись по широкой нисходящей дуге над заводью, так что величественная тишина вокруг на мгновение наполнилась свистом ветра в дрожащих перьях. Орлы разглядели внизу соединившиеся головы двух людей и полетели прочь, отведя от них свой взор и внимательно обследуя дальние склоны горы. Их тени быстро промелькнули, никем не замеченные, по огромной, полной извечных тайн лесной стране, раскинувшейся внизу.
Возвращение
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПУТЬ ДОМОЙ
Анна пробиралась по проходу; прилетевшие вместе с ней из Кейптауна японские туристы гомонили вокруг. Один из них, все время изысканно кланяясь, помог Анне пройти вперед, несмотря на ее явное нежелание нарушать сплоченные ряды японцев. Честно говоря, неприятно было возвышаться над ними как каланча. Такая же черноволосая и черноглазая, как и они, Анна на голову была выше любого из них.
Она почувствовала облегчение, нырнув в освещенный солнцем дверной проем, улыбнулась выстроившемуся на прощание экипажу самолета, машинально попрощалась с японцами, рассеянно глянула под ноги и ступила наконец на асфальтированную дорожку.
Она была рада яркому солнцу, приветливо улыбавшемуся ей, хотя до ее любимых мест на самом юге Капской провинции, до ее родной фермы в окрестностях Книсны было семьдесят километров пути. И все-таки она была уже почти дома!
Сразу за зданием аэропорта вздымались черные склоны гор, окружавших Джордж, и раньше она конечно же поинтересовалась бы, какое впечатление все это произвело на туристов, но сейчас сделать это не решилась и зашагала к дверям зала ожидания, чувствуя, что мать уже высматривает ее сквозь прозрачную пластиковую стену, стоя в толпе встречающих.
Женщина, шедшая на полшага впереди нее, почмокала губами, растирая торопливо нанесенную помаду, на ходу глянула в зеркальце и сунула его обратно в сумочку. Анна на мгновение пожалела, что так и не подкрасилась хотя бы чуть-чуть. Она ведь знала, что после перелета выглядит всегда паршиво; следовало бы попудриться и немного подрумянить высокие скулы — даже из милосердия, чтобы мать не так волновалась по поводу ее душевного и физического здоровья.
Анна прекрасно понимала, что мать все равно сразу же догадается о ее плачевном состоянии, однако никак этого не проявит, и в ее умных ярко-голубых глазах, как и всегда, будут светиться лишь доброта и любовь.
Анна чувствовала свою вину: впервые, насколько ей помнится, матери придется действительно серьезно тревожиться на ее счет. Ведь она, признанная королева Кейптаунского университета, одна из самых способных среди студентов-медиков, с трудом справлялась в этом году с занятиями, хотя именно этот год был для нее особенно важен. Понимая, что у нее нелады со здоровьем, Анна, пожалуй, даже слишком легко согласилась с поставленным диагнозом, чуть ли не подтолкнула к нему врачей, так и не поняв до конца, что же послужило причиной этого.
Женщина, минуту назад обеспокоенно разглядывавшая себя в зеркальце, еле тащила бесчисленные свертки и пакеты и была явно чем-то очень взволнована, и Анна решилась предложить ей свою помощь — стало вдруг жаль, если муж или возлюбленный не оценит усилий этой бедняжки. Женщина поблагодарила ее так горячо и таким трагическим тоном, что глаза у Анны снова ни с того ни с сего наполнились слезами. Она попыталась улыбнуться, но не сумела; хотела сказать женщине, что та помадой испачкала себе зубы, но почему-то и этого сделать не смогла. Однако ей вдруг пришла в голову мысль о том, что она сама ни за что не стала бы так волноваться из-за собственной внешности: это не было принято в их компании, как и особое увлечение косметикой.
Матери за окнами зала ожидания она пока не видела, и последние пятьдесят метров до дверей превратились для нее в настоящую пытку. Она постаралась держать себя в руках, дышать ровно и глубоко, но воздух застревал в горле и вырывался оттуда, точно рыдания, — в памяти ее вновь возникли два неотвязных кошмара: отец, очень высокий, темноволосый, ставший вдруг ужасно хрупким — такой, как в тот последний раз, всего шесть месяцев назад, когда она прилетела в Джордж и он встречал ее у этих самых дверей; и те насильники, с которыми она решила сразиться в одиночку всего неделю назад, о чем еще напоминала незажившая ссадина у нее на бедре.
Химиотерапия результатов никаких не дала, и вскоре после этого отец умер.
Войдя в здание аэропорта, Анна вручила свертки и пакеты их хозяйке, быстро попрощалась с ней и обернулась, чтобы обнять мать, которая уже спешила к ней, раскинув руки.
Минуту они постояли молча, крепко обнявшись, и на какое-то время преследовавшие Анну кошмары оставили ее в покое.
Когда Мэри, мать Анны, улыбалась, в уголках ее ярких глаз появлялись лучики морщинок, странно выделявшиеся на молодой еще и очень здоровой коже, покрытой светлым пушком, с медового цвета загаром и нежным румянцем. Кудрявые золотистые волосы Мэри были, как всегда, подстрижены коротким каре с челкой.
В машине, на пути в Книсну, они сперва говорили о том, как идут дела на молочной ферме, где теперь хозяйничала сама Мэри со свойственной ей энергией и деловитостью.
— А как дедушка? — спросила наконец Анна о том, что волновало ее больше всего.
— Да в общем, неплохо, детка. — Мать левой рукой погладила Анну по колену. — Он бы, конечно, не хотел, чтобы ты о нем беспокоилась. Он так ждет твоего приезда! — Они помолчали. — Ему ведь девяносто шесть, ты же знаешь. — Мать обернулась к Анне, в глазах ее едва заметно промелькнула боль.
— Да, конечно, — сказала Анна, и снова обе умолкли. — Тебе тоже не стоит так беспокоиться обо мне, мама, — выговорила наконец Анна, твердо зная, что эта тема рано или поздно все равно возникнет. — Все дело в том, что я не могу ни на чем сосредоточиться. И еще мне почему-то все время хочется плакать, причем по самым пустячным, дурацким поводам. — Она судорожно, по-детски, вздохнула и усмехнулась. — Тут на днях какой-то мультфильм по телевизору показывали, — сказала она, — так у меня слезы прямо-таки ручьем лились. — Она пыталась говорить весело, но голос у нее все же дрогнул. — Слава Богу, я была одна… — Она вдруг выпрямилась и высунула голову в окошко. — Господи, как дивно пахнут эти травы! Такой чистый, прекрасный аромат! Здесь, на этом склоне холма, всегда пахнет домом.
— Это все вон та трава, на шалфей похожа, такая сероватая, видишь? На опушке!
Они поднялись по извилистой дороге на высокий холм, откуда видны стали волны прибоя с очень белыми на фоне синих небес гребешками.
— Господи, а дождя-то вылилось! — сказала Мэри. — Для пастбищ очень хорошо, конечно. Ну и тебе от этих дождей тоже досталось в твоем Кейптауне, насколько я знаю. — И тем же голосом продолжала как ни в чем не бывало: — Мне звонили с медицинского факультета. Мужчина с таким приятным голосом… Профессор, у него еще такая двойная фамилия…
— Блер-Хоскинс, — подсказала Анна.
— Да-да, именно так.
— Полагаю, с моей стороны довольно глупо было в это ввязываться, — помолчав, сказала Анна, — но, честное слово, я так разозлилась! Единственное, о чем я могла тогда думать, так это о том, как помочь той несчастной девчонке. А поблизости никого больше не было. Ну а когда она убежала, эти гады набросились на меня… — Она умолкла.
Мэри положила руку ей на колено:
— Тебе совсем не обязательно сейчас об этом говорить, детка. Ты пока постарайся об этом даже не думать. А мне расскажешь, когда захочешь. И если захочешь.
За окном проплывал знакомый пейзаж, но широко раскрытые и неподвижные глаза Анны смотрели в одну точку, она даже отвернулась от матери: оба ставших привычными кошмара вновь завладели ее душой. Перед глазами то возникал образ недавно умершего отца — отец для нее был воплощением доброты, благородства, тонкого ума и юмора, — то вспоминался тот ужасный вечер и две зловещие тени, их зловонное дыхание, холодные жесткие руки, грязные ругательства, которые вырывались у них, уставших от борьбы с нею…
— …А старина Бен все еще на удивление крепок, — долетел до девушки голос Мэри, возвращая ее к действительности. — Пойнтеры ведь редко живут больше десяти-одиннадцати лет, а Бену скоро двенадцать. Я тут недавно вспоминала — тебе ведь тогда лет десять было, верно? Ты помнишь, каким он был щенком? — И Мэри, не дожидаясь ответа, продолжила: — И Пятница тоже в порядке. Уверена, он уже давно знает, что ты приедешь. Все последние ночи спит на твоей постели да еще приносит туда пойманных птичек, противный кот!
— Надеюсь, хоть не нектарниц? — спросила, улыбаясь, Анна.
— Нет, в основном белоглазок. По-моему, их здесь прямо-таки бесчисленное множество.
Разговор о пойнтере Бене растревожил обеих: хозяином собаки был покойный отец Анны. Женщины умолкли, вспоминая, как Бен обшаривал заросли в поисках куропатки, а за ним следом широко шагал Роберт Андерсон, длинноногий, полный жизни, так любивший свой родной вельд.
Дорога, спускаясь с холма, вела в царство буйной растительности — в долину реки Гоукаммы.
— Несколько дней назад, — заговорила наконец Анна, — я встретилась на Эддерли-стрит с Барбарой Коллинз. Ты, наверное, помнишь ее? Она в ветеринарной лечебнице работает, у старого Клода Хобгуда и Джека. Она там у них главная по собакам.
Мэри, явно задумавшаяся о чем-то другом, рассеянно кивнула.
— Ну, это неважно, — продолжала Анна. — Так вот, Барбара предложила мне ее подменить на время отпуска. Она уезжает на следующей неделе, так что я им позвонила, и меня пригласили зайти в понедельник.
— Что ж, дорогая, это совсем неплохо! Очень хорошая мысль, — сказала Мэри. — Ты ведь собираешься продолжать учиться, правда? Можно ведь и здесь заниматься понемногу.
— Да, конечно. Я захватила с собой большую часть нужных книг и материалов. — И быстро прибавила: — Наверное, ты права, мама… насчет места, я хочу сказать. А с фермой ты справляешься?
Мать с улыбкой посмотрела на нее:
— Ну разумеется, детка. Все хорошо, и тебе не о чем беспокоиться. После того как заменили старого Мариана, — стало значительно лучше. Как ни странно, но доходы у нас вполне приличные.
— Я очень рада, мама. — Поддавшись внезапному порыву, Анна склонилась к матери и нежно провела кончиками пальцев по ее щеке.
Мэри поглядывала на нее украдкой; ничто не ускользнуло от ее внимания. Она заметила, как изменилось лицо Анны, когда они въехали в ворота фермы и медленно покатились по раскисшей от дождей дороге мимо пастбищ и хозяйственных построек, пока наконец не выехали на широкую подъездную аллею, ведущую к дому.
Гладкая смуглая кожа Анны чуть порозовела на скулах; холмы вокруг, покрытые диким виноградом, сияли красками осени, как и стены дома, и глаза Анны тоже сияли, она вертела головой из стороны в сторону, стараясь разглядеть все, что встречало ее на пороге дома.
Остановив машину, Мэри сказала:
— Ну конечно, вот и он! Ты посмотри, как тебя встречают!
Я же говорила, он прекрасно знал, что ты приедешь!
Сидя в машине и положив руки на руль, она с улыбкой смотрела, как Анна, соскользнув с сиденья, молча бросилась по дорожке к серому в черную полоску коту, который, виляя хвостом, поджидал хозяйку как раз посреди солнечного пятна под деревом, в ажурной тени, и казался необычайно красивым со своими яркими черными полосками и пятнышками на безупречно сером фоне. Когда Анна подошла ближе, он с самым безмятежным видом двинулся ей навстречу, и она подхватила его на руки, перевернув вверх ногами, но кот в ее объятиях лежал совершенно спокойно, вытянув лапы, сунув голову ей под подбородок и прижавшись к ее щеке. Она закружилась с ним в вальсе, закончив танец таким стремительным пируэтом, что длинные волосы ее укрыли кота, точно черным блестящим покрывалом.
По-прежнему сидящая в машине Мэри постепенно перестала улыбаться и озабоченно нахмурилась. Мало того что дочь была одета довольно неряшливо — потрепанные джинсы, давно потерявший форму свитер, — под глазами у нее были черные круги, явно свидетельствующие о нездоровье, что беспокоило Мэри куда больше. И в целом Анна казалась какой-то пришибленной, рассеянной, точно чего-то стеснялась, точно ее заставляли играть какую-то несвойственную ей роль, не желая оставить в покое.
Кот Анны, прозванный за необычайную любознательность Пятницей, обследовал колеса машины, чтобы понять, откуда Анна приехала, а потом помчался следом за женщинами в дом.
Когда Анна, переодевшись, вышла из своей комнаты, Мэри посмотрела на часы и предложила:
— Сейчас для дедушки время пить чай. Может, отнесешь ему сама? Я его предупрежу.
— Хорошо, — согласилась Анна— Заодно и сама чайку выпью. Умираю, так чаю хочется! — Она налила себе и матери. — Тебе сахару как всегда — один кусочек?
Мэри кивнула.
В коридоре, который вел к комнате деда, Анна помедлила: только что мать, окликнув ее, назвала «Анна», а не «детка», и сказала именно то, чего Анна давно ждала. Вздохнув, она осторожно постучалась и вошла в темную с первого взгляда комнату деда, заставив себя забыть о собственных проблемах.
Раскинувшись на подушках, прислоненных к спинке огромной кровати, дед казался совсем маленьким, хотя на самом деле он был очень высоким, как и отец, с такими же резкими чертами лица. Да, он сильно изменился с тех пор, как Анна видела его в последний раз. Когда он обнял ее, она заметила, какими тонкими и слабыми стали его руки. Она присела на краешек кровати, когда он похлопал рукой по одеялу, но он молчал и только улыбался да откашливался. Так что говорить пришлось ей, и она, как могла, старалась развлечь его, а под конец в деталях описала свой поход в кейптаунский планетарий.
Она видела по глазам деда, что ему это интересно, и старалась вовсю, припоминая мельчайшие подробности — деревья в парке, белок и крупных ленивых золотых рыбок в круглом пруду, — а дед серьезно кивал, слушая ее рассказ. Она заметила у него на столике номер журнала «Нью Сайнтист». Пятница, вспрыгнув на кровать старика, умывался, но когда Анна наконец решила ретироваться, кот, мягко стукнув лапками об пол, тут же спрыгнул с кровати и последовал за ней.
В тот вечер за ужином Анну не покидало какое-то нереальное ощущение всеобщей любви и, к сожалению, полное отсутствие аппетита. Она заметила, как мужественно ведет себя мать, весело беседуя с нею и умело скрывая свою тревогу.
Посмотрев вместе с Мэри какую-то телевизионную передачу, Анна, по предложению матери, рано легла спать; кот, разумеется, отправился с нею.
Ночью Анна просыпалась каждые два часа, едва успевая заснуть. В первый раз ее разбудил кот, игравший с собственным хвостом и ее волосами, разметавшимися по подушке; чуть позже дождь и ветер застучали в окно; и, наконец, под утро она проснулась после знакомого кошмара, вновь пережив безумную схватку с насильниками в полутьме, возле старой, заросшей бурьяном изгороди, где пахло цветами и бренди.
После этого она просто уселась у окна, поскольку ветер уже улегся, и стала ждать рассвета.
Даже в знакомой с детства комнате Анна чувствовала себя неспокойно. Жизнь для нее, словно по спирали, совершила обратный виток и вернулась к исходной точке; ее жизнелюбие и веселый нрав обернулись холодной настороженностью; все было брошено, ничто не завершено. Анна посмотрела на стопку книг на столе — наука точно бросала ей вызов, которого она не в силах была принять сейчас и, видимо, не сможет уже никогда; ее охватил озноб, хотя сидела она, закутавшись в теплое одеяло. Едва задремав, она вновь очнулась, заслышав пение малиновок под самым окном, и решила снова лечь в постель. Пятница тут же свернулся клубком у самого ее лица и замурлыкал сладко и громко — это успокоило ее, и она наконец крепко заснула.
Уже в полдень мать, зайдя разбудить Анну, сперва постояла над ней, хмуря брови, потом наклонилась, нежно тронула дочь за плечо и поцеловала в щеку.
Анна дала согласие по утрам работать в ветеринарной лечебнице и каждый день проезжала на стареньком пикапе пятнадцать километров до города и обратно. Работала она настолько умело и охотно, что пожилой спокойный Хобгуд и его молодой коллега Джек Нортиер были в восторге. Анна не знала, что им давно хотелось кем-то заменить ленивую и забывчивую Барбару. Анну Хобгуд именовал не иначе как «сокровище».
— Эта девушка — настоящее сокровище, — повторял он, и бородатый Джек немедленно передал это Анне, поддразнивал ее, а потом все настолько привыкли к этому прозвищу, что только так и звали, и Анне нравилось: это прозвище как бы отделяло ее от прежней Анны, которая, как ей казалось, с каждым днем все более уходила в прошлое, становилась чужой, уплывала в тот мир, где сейчас жить совсем не хотелось.
Поздно вечером в субботу, накануне того дня, как Барбара Коллинз должна была снова приступать к работе, она позвонила Анне и невероятно возбужденным тоном сообщила, что помолвлена и собирается выходить замуж — за того самого биржевого маклера Джейка, о котором она в последнее время только и говорила. Анна пригласила ее приехать к ним в воскресенье утром к чаю и рассказать обо всем подробно, что Барбаре явно не терпелось сделать.
Повесив трубку, Анна с удивлением отметила, насколько мучительны для нее мысли о каких-то переменах в жизни, какими дурными предчувствиями они наполняют ее душу, к тому же было стыдно, что она так равнодушно восприняла искреннюю радость подруги. Она понимала: необходимо напрячься и с должным энтузиазмом побеседовать с Барбарой — ведь та ожидает от нее именно этого. Однако ни сил, ни желания совершать над собой подобное насилие у нее не было.
Барбара Коллинз была на два года старше Анны и всю жизнь соперничала с нею, порой делая и говоря такие вещи, которые весьма раздражали Анну, особенно в детстве, когда они считались подругами. Правда, по-настоящему ни один из поступков Барбары злым не был, скорее глупым и бессмысленным, так что Анна всегда ее в итоге прощала — она не питала склонности к предательству или мелочным обидам.
Джейка она видела лишь однажды, на какой-то вечеринке.
Их роман с Барбарой был тогда в самом разгаре. Джейка Барбара находила чрезвычайно привлекательным: у него была белая спортивная машина и отлично сшитые рубашки в голубую полосочку. Однако он так непристойно и грубо «клеился» к Анне во время танцев, стоило Барбаре отвернуться, что она с тех пор относилась к нему с неприязнью.
Когда явилась Барбара, Анна как раз размышляла, как все это мелко и прагматично, особенно когда увидела свою приятельницу за рулем отцовского «ягуара», увешанную драгоценностями, сверкавшими на солнце. У Барбары были ярко накрашенные губы и пламенно-рыжие волосы. Анна только вздохнула и, лучезарно улыбнувшись, решительно двинулась ей навстречу.
После отъезда Барбары Анна почувствовала себя бесконечно усталой и встревоженной тем, что, как ей казалось, она сама никогда ни за кого не выйдет замуж. Ее прямо-таки в ужас приводили мысли о грядущей шумной свадьбе Барбары, которая должна была состояться в Йоганнесбурге в конце августа. Ехать туда и изображать верную подругу — да еще играть роль «подружки невесты»! — было выше ее сил. Она даже вообразить себе этого не могла и решила, что ни за что никуда не поедет, — только тогда возникшее было страшное напряжение на время оставило ее, но вскоре вернулось снова и более уже не исчезало в течение всего дня и еще нескольких дней после встречи с Барбарой, усугубляясь тревогой, вызванной нарушениями в ее женских делах. Недомогания Анна воспринимала теперь тем более остро, что ей казалось, будто она постоянно борется с невидимым противником за собственную судьбу и ей необходимо доказать самой себе, что она такая же, как и все, и непременно найдет способ избавиться от преследующих ее кошмаров и состояния непреходящей тревоги. Анна была борцом по натуре, однако она вела борьбу чересчур долго, и душевные силы ее истощились перед бешеным и неумолимым натиском недуга, вызвавшего серьезные изменения в метаболических процессах организма.
ГЛАВА ВТОРАЯ
НА ФЕРМЕ
Анна рада была расстаться со своей временной работой в ветеринарной лечебнице, хотя до последнего дня работала по-прежнему с высокой отдачей. Ей все труднее было сосредоточиться на чем-то конкретном, казаться веселой и жизнерадостной. Теперь она вставала по утрам поздно, порой валяясь в постели до середины дня, и Мэри тревожилась все сильнее; а вскоре случилось неизбежное: умер дед Анны, умер мирно, во сне, однако всем в доме потребовалась по крайней мере неделя, чтобы как-то свыкнуться с мыслью об этом и приспособиться к новой жизни.
Анна с дедом всегда были очень близки, так что Мэри даже слегка удивилась и одновременно испытала облегчение, когда девушка довольно спокойно отнеслась к самому факту его смерти. Гораздо больше Мэри беспокоили молчаливая отстраненность Анны и отсутствие у нее интереса почти ко всему. Хотя она довольно много гуляла, избегая, правда, контактов с другими людьми, но ничьих приглашений не принимала и начала сторониться даже Билла Уиндема, старинного друга их семьи и ближайшего соседа. В прошлом нейрохирург, он первым отметил болезненную замкнутость Анны и поделился с Мэри своими соображениями на этот счет, как-то зайдя к ней. Нисколько не уменьшилась лишь привязанность Анны к коту, и хотя бы за это Мэри уже была благодарна судьбе. Она и сама мучительно переживала отстраненность дочери, ей не хватало общения с Анной и ее любви, однако она постаралась забыть о собственных переживаниях, хотя и была разочарована тем, что планам, которые она надеялась осуществить вместе с дочерью, не суждено было сбыться.
На следующий день после похорон деда и службы в церкви Мэри увидела, как ее дочь в сопровождении кота медленно бредет в сторону реки. Господи, хоть бы заплакала, думала она, ей сразу стало бы легче! Но слез у Анны не было, лишь глаза подернулись печальным туманом, сменившимся затем холодным безразличием, точно она безнадежно замкнулась в темной глубине собственного «я». Мэри смотрела, как идет ее дочь — обычной походкой, чуть враскачку, широко шагая длинными, как у отца, ногами в синих джинсах. Черные прямые волосы, рассыпавшиеся по зеленой рубашке, блестели на солнце. Анна была не просто хорошенькой. «Поразительная» — так сказал кто-то про нее однажды, и вот что-то в ней сломалось, нарушилось. Оставалось надеяться лишь на то, что Господь дарует ей мудрость и не оставит своей милостью.
Вскоре Анна скрылась за деревьями, продолжая идти по знакомой тропе к реке. Кот остановился на минутку, чтобы обследовать пучок травы, и теперь вприпрыжку догонял свою хозяйку. Мэри улыбнулась — точнее, задумчиво приподняла уголок рта — и продолжала смотреть на опустевшую тропу невидящим взглядом.
С находившейся неподалеку, за холмом, автостоянки донеслись звуки громкой музыки и так же внезапно смолкли, и она представила себе, как кто-то из родителей вырвал из рук расшалившегося ребенка радиоприемник.
За деревьями послышался крик африканского коршуна-рыболова, ему откликнулся второй, и Мэри догадалась, что птицы сели где-то у реки. Хорошо бы, Анне удалось их увидеть!
Нужно непременно спросить, видела ли девочка этих орланов, — не потому, что ей так уж это интересно, просто она надеялась, что Анна сможет снова вернуть своим рассказам хотя бы частицу прежнего воодушевления.
У реки Анна свернула и пошла по боковой тропинке к пастбищу, где паслась кобыла с жеребенком; кот Пятница следовал за нею. Стоило его серой с черным шкурке исчезнуть в ажурной тени мимузопсов на краю пастбища, как Анна, встревожившись, тут же позвала его тонким, переходящим в ультразвук свистом и громко крикнула: «Пять-пять-пять!» — точно подражая какой-то птице. Кот вприпрыжку примчался к ней из-за деревьев и, выгнув хвост, потерся о ее колени, потом сел и принялся умываться с равнодушным видом, словно удивляясь, к чему было поднимать весь этот шум. Он все время старался успокоить Анну, которая, видимо, боялась заблудиться — так ему, во всяком случае, казалось, — и давал понять, что не спускает с нее глаз.
Кобыла, которую Анна пришла навестить, паслась на дальнем конце пастбища, где сочная густая трава уступала место кустарнику, карабкавшемуся вверх по склону. Она уже хотела окликнуть кобылу, но вдруг остановилась и затаила дыхание, почувствовав, как сильно забилось сердце: не более чем в десяти метрах от нее стоял взрослый бушбок и жевал лиану; голова у него была поднята, и он не сводил глаз с жеребенка, который упорно приближался к нему, помахивая хвостом и проявляя самый живой интерес.
Анна смотрела на антилопу со смешанным чувством восхищения и тоски по детству; она помнила, как впервые бушбока показал ей отец, — это было одно из тех животных, которых он на своей ферме по мере возможностей охранял. Кот перестал умываться, чтобы выяснить, что так встревожило его хозяйку, но отнюдь не стал смотреть на Анну прямо, а лишь скользнул по ней взглядом, запечатлев в зрительной памяти ее лицо и даже не зажмурившись на ярком солнце, так что зрачки его мгновенно превратились в узкие щелки на ярко-зеленом фоне радужек.
Заметив бушбока, Пятница насторожился, поднял уши торчком и три раза быстро дернул шеей и головой в его сторону, будто нырнул, — так он обычно примерялся к прыжку во время охоты на мышь-полевку.
Не сводя глаз с антилопы и приближавшегося к нему жеребенка, Анна легонько пихнула кота ногой, и тот сперва хотел было уйти, но потом вернулся и стал тереться о ее ноги в синих джинсах, словно прощая ей этот необидный пинок.
Она, похоже, была совершенно очарована происходившим на поляне. Бушбок, не замечая ее, продолжал смотреть только на жеребенка, и Анна старалась буквально не дышать, зато Пятница с полным равнодушием продолжал умываться у ее ног.
Все крупные животные были для него примерно одинаковы — лошади, собаки, коровы; всех их он считал бессловесными неуклюжими тварями, однако довольно безвредными. Собак он ставил несколько выше по разуму; они, с его точки зрения, уступали в этом отношении только людям — единственным животным, которых кошки стали бы держать в качестве домашних питомцев. Некоторых людей Пятница считал даже — хотя это случалось крайне редко — почти такими же умными, как и представители его собственного племени. С таким человеком связь была полной, нерушимой и вечной. Вот как, например, у него с Анной, и Пятница был рад, что хозяйка — по крайней мере, в данный момент — освободилась наконец от той темной ауры, которая окружала ее так долго.
Шкура у антилопы была темно-коричневой и казалась почти черной, хотя на самом деле на ней были и пятнышки, и даже белые островки, как и полагалось настоящему взрослому самцу; и рога у него были длинные, лировидные, с острыми концами, цвета потемневшей от старости слоновой кости.
Анна думала о том, с каким удовольствием рассказывала бы об этой сцене отцу — о бушбоке и жеребенке, проявивших такое взаимное любопытство и дружелюбие и так радостно помахивавших друг другу хвостами. Она прямо-таки видела перед собой живое веселое лицо отца, ласковые морщинки в уголках глаз, загорелую шею и крупные зубы, чуть выступающие вперед, как и у нее самой.
Жеребенок в конце концов потерял интерес к лесному зверю и повернул назад, а бушбок легкими прыжками скрылся в лесу и лишь один раз оглянулся, точно пританцовывая на цыпочках и потряхивая гривой.
Свернув снова на лесную тропу, Анна сильно ударилась головой о ветку, которой не заметила, и отлетела назад, схватившись за ушибленное место рукой; потом бессильно опустилась на землю, держась за ствол дерева, и заплакала. Но тихонько и совсем не пытаясь сдерживаться.
Подходя к дому, она, как всегда, замедлила шаг, а заметив стоявшую на подъездной дорожке машину доктора Уиндема, повернула обратно, к реке, и уселась на берегу, под деревьями, наклонившимися над черной водой, в которой, казалось, не отражалось более ничего, кроме ее собственной меланхолии, — река была тиха, точно гладь озера, потому что в это время года устье ее перекрывали песчаные наносы.
Кот некоторое время посидел рядом, словно составляя хозяйке компанию, однако, заметив, что темная аура вновь окутала ее голову, прыгнул в сторону и стал охотиться на кузнечиков и мышей-полевок.
Коршуны-рыболовы пролетали низко над водой, потом, набирая высоту, совершали большие круги над тем местом, где сидела Анна, и с высоты все предметы на земле казались им как бы съежившимися, уменьшившимися в размерах, ставшими ближе друг к другу: ферма, жилой дом, зеленые пастбища, обрамленные сероватыми кустарниками, хозяйственные постройки, белые столбики изгородей и черная лента реки, извивавшаяся в зарослях мимузопса и текущая к морю.
Крики коршунов-рыболовов звучали как колокол, навевая грусть и чувство утраты. Птицы кружили над холмами на западном берегу Книсны, все замечая и храня узнанное в тайне, однако же оставаясь ко всему равнодушными: и к разноцветным крышам домов, и к сложной геометрии полей, и к прямоугольникам зданий, и к суете совсем иной жизни там, внизу.
Когда Анна наконец решилась сходить к врачу, у нее на некоторое время даже поднялось настроение — немного, правда, но теперь она цеплялась и за соломинку, надеялась на чудо. Она старалась не обсуждать свои проблемы с матерью, пыталась избавить ее от излишних переживаний, однако это оказалось ошибкой. Неправа она была и в отношении доктора Уиндема. Старый нейрохирург давно уже вышел на пенсию, и Анне просто не приходило в голову, что он-то, возможно, и укажет ей скорейший путь к исцелению. Но все же она сделала первый шаг, выиграла первый раунд в бесконечно долгом и сложном сражении за собственное здоровье!
В то утро, спускаясь с последнего холма перед Книсной, она чувствовала себя так, будто попала в западню, из которой ей уже не выбраться. Это было как бы физическим проявлением давней клинической депрессии, источившей ей душу, и она мечтала лишь о том, чтобы просто исчезнуть — раствориться в окружающей среде, как та антилопа в лесной чаще.
Сама процедура поисков нужного телефона и выбор дня для визита к врачу уже были для нее чрезвычайно трудны. Ей пришлось потратить немало сил, чтобы преодолеть собственную инертность, которая все крепче стискивала ее и не имела, казалось, предела. Физическую боль она бы выдержала непременно — такая боль была понятна, ее можно было чем-то смягчить. Она, безусловно, смирилась бы даже, скажем, с потерей руки или ноги — если бы подобная сделка с судьбой была возможна, — однако ее теперешнее состояние стало поистине непереносимым, она даже представить себе не могла, что такое бывает. Она чувствовала себя так, словно все ее физическое тело — спасительная раковина, то физическое «я», которое называлось Анной, — разодрано на куски и ее внутреннее «я» осталось совершенно беззащитным, казалось, ему вреден даже воздух вокруг. Чтобы хоть как-то защитить себя, ей оставалось лишь отползти в сторонку, отыскать чужое убежище, подобно крабу-отшельнику, и там переждать до конца своих дней и страданий. Окружающий мир и все в нем казались враждебными, грозили опасностью, и укрыться можно было лишь в собственной спальне.
Суденышки у берегов залива, автомобили, пешеходы — все это казалось ей нереальным, существующим лишь для того, чтобы подчеркнуть ее непричастность к этому миру нормальных и понятных каждому вещей и явлений. Она словно смотрела на себя со стороны — вот та Анна едет куда-то в царство смертельных опасностей и не понимает этого.
Она напрасно надеялась, что не встретит в приемной врача никого из знакомых. Людям всегда нравилось беседовать с ней, а старики прямо-таки влюблялись и, вспомнив молодость, начинали любезничать с ней и потом уходили, выпрямившись и похрустывая старыми костями.
В последнее время Анне представлялось, что друзья чрезмерно пекутся о ней, а с какой стати — не понятно. Теперь стало ясно: они, должно быть, почувствовали смертельное дыхание того, что таилось у нее внутри, однако слишком поздно: ничто из внешней жизни не могло уже спасти ее, как не могло и повредить ей; и бороться с этим ей приходилось в одиночку, помочь не мог никто, и для этой борьбы требовалась вся жизненная сила до последней капли.
Ну а в приемной клиники ее ожидал сущий кошмар — сплошь знакомые лица, так что пришлось прибегнуть к обычным вежливым «ужимкам и прыжкам», хотя все это она делала, ощущая, что отгорожена ото всех непроницаемой стеклянной стеной. «И что вы теперь собираетесь делать?», «А вы сюда надолго приехали?» и так далее. Она чуть ли не с благодарностью нырнула наконец в кабинет врача, которого так боялась. Она была уверена: это пустая трата времени, ей уже невозможно помочь — и все-таки, подобно тому как утопающий хватается за соломинку, увидев перед собой водопад, предприняла этот последний шаг, стоивший ей стольких тяжких усилий.
Она быстро и с несвойственной ей резкостью прервала первоначально шутливые расспросы врача и стала рассказывать. Он внимательно ее слушал, ни разу не прервав. Впрочем, через полчаса он снял с руки часы и положил перед собой, но больше не сделал ни одного движения, свидетельствовавшего о том, что он выбивается из графика. Анна была измучена своим повествованием, однако новая искра надежды все же вспыхнула в ней, и она сидела довольно спокойно, пока говорил врач, однако лишь покачала головой в ответ на предложение принимать транквилизаторы. Впрочем, листок с именем, адресом и телефоном кейптаунского психиатра взяла.
— Я могу сам предварительно позвонить ему, — предложил врач. — Прошу вас, Анна, непременно постарайтесь увидеться с ним.
Она не ответила, понимая, что он прав, но понимая и то, что поездка в Кейптаун ей не по силам. Домой она ехала медленно, ничего не замечая вокруг, отрешенно ведя машину, и единственной мыслью, которая не оставляла ее, было: если она умрет, то наконец станет свободной.
Было всего одиннадцать часов утра. Впереди — целый день, долгий, безжалостный. И все-таки время неумолимо двигалось к вечеру, когда становится темно и можно снова укрыться в спальне, а если удастся уснуть, то и обрести хотя бы кратковременное облегчение.
Осень и зима в озерном крае на юге Капской провинции каждый год напоминают о том, что здесь совсем не та Африка, популярный образ которой был создан отнюдь не африканцами.
Отсюда не только полторы тысячи километров до мест обитания львов, до колючих акаций Калахари, до ядовитых мамб, крокодилов и пальмовых рощ Наталя, здесь многие деревья точно так же меняют листву, как и в Северном полушарии.
С началом зимних дождей дубы, привезенные сюда первыми поселенцами из Европы, становятся черными и голыми, а местные капские смородиновые деревья и африканские орехи, или стинк-деревья, тонут среди вечнозеленых кустарников, чтобы весной возродиться вновь, и тогда у смородинового дерева на концах веток отрастают тонкие красные побеги, словно яркие ленточки, а белоствольные африканские орехи одеваются в молодую листву, похожую на облака зеленовато-лимонной пены.
Даже менее прекрасные представители здешней флоры меняют свой облик в зависимости от времени года: густые кустарники на равнине и на холмах становятся красно-лиловыми — это цветет вереск и эрика, а море, простирающееся за этими равнинами до самой Антарктики, сияет синими и зелеными тонами — и все цвета будто промыты и очень сочны.
В центре этого района с умеренным климатом и находилась ферма, где отец Анны столько лет приручал бушбоков. На самом деле это была всего лишь довольно узкая полоса земли, километров двести в длину и тридцать в ширину, зажатая между морем с юга и цепью гор Утеника с севера.
Анна равнодушно, лишь мельком отмечала признаки наступающей осени, возвращаясь домой после очередной бесцельной прогулки. Однажды, сделав порядочный крюк по окрестностям, она и предприняла попытку проанализировать свое состояние как медик.
Она понимала всю серьезность своего недуга и из последних сил сопротивлялась ему, однако недуг не сдавался и, словно хитрый враг, пытался усыпить ее бдительность, заставить отступить, сдаться, спрятаться в спальне и уснуть с надеждой, что со временем все непременно будет хорошо.
Размышляя об этом, она незаметно для себя оказалась на задворках дома и здесь обнаружила отцова пойнтера Бена, который спал в одном из своих любимых укромных местечек. Она окликнула собаку, приглашая составить ей компанию. Ради Бена она совершала более длительные прогулки и более быстрым шагом; всегда с ними ходил и кот Пятница, вечно норовивший забраться псу на спину, когда Анна останавливалась, чтобы старый пойнтер отдохнул. Пес считал кошек существами вообще непредсказуемыми, а Пятница, хотя и был его другом и членом одной с ним семьи, обладал не только чрезвычайно живым и переменчивым нравом, но и острыми когтями, а также очень любил с угрожающим видом медленно подкрадываться к Бену, явно испытывая садистское удовольствие при виде растерянной морды пса. Бен пришел на зов Анны, махая длинным тощим хвостом и искоса поглядывая на кота старческими слезящимися глазами в красных веках.
Когда их маленький отряд — третий член команды был, правда, невидим в густом кустарнике, разве что орел способен был разглядеть его с высоты, — достиг той поляны, где Анна видела бушбока, они услышали лай собак, гулко отдающийся эхом в речной долине. Анна сразу поняла, что это стая гончих: визгливо и пронзительно лаяли фокстерьеры, более глухо вторила им по крайней мере одна легавая, и время от времени они начинали лаять все вместе, заходясь от возбуждения. Она тщетно надеялась, что собаки повернут назад, и ужас охватил ее, когда их лай после нескольких мгновений обманчивой тишины раздался снова и значительно ближе.
Она даже вздрогнула: поразительно, как такой крупный бушбок сумел совершенно незаметно выйти из леса и остановиться совсем рядом с нею! Это явно был тот самый старый самец, которого она видела тогда. Бушбок помчался огромными скачками по открытому склону холма, забыв и об Анне, и обо всем на свете, кроме преследовавших его собак. Он пробежал так близко от нее, что она хорошо разглядела расширенные от ужаса глаза и клочья пены, свисавшие с серо-голубого высунутого языка, и остолбенела от ужаса, когда прямо посреди могучего прыжка старый самец ударился грудью о колючую проволоку, которой не заметил. Анна тоже не видела ее. Бушбок с глухим стуком упал на землю, покатился по ней, и вслед ему громко лязгнула проволока.
Ее настолько потрясло постигшее красавца бушбока несчастье, что сперва она не заметила ни догнавшей его своры собак, ни того, что Бен убежал от нее и присоединился к гончим. Ее пронзительный вопль «Бен!» заглушил бешеный лай сомкнувшейся вокруг своей жертвы стаи псов.
За бешено мечущимися собаками было видно, как бушбок поднял рогатую голову и переднюю часть туловища, однако встать не смог и бился, стоя на коленях и нанося удары рогами и передними копытами, когда собаки, настроенные чрезвычайно решительно, стали одолевать его. Анна услышала, как взвизгнула одна собака, а потом вдруг очень быстро все кончилось: бушбок уронил голову, и видны стали только горделиво кружившие вокруг поверженной жертвы собаки. Бен выбрался из их кольца и, прихрамывая, направился к ней.
Анна с безумным видом огляделась, пытаясь обнаружить Пятницу, и со стоном облегчения вытащила его из густой травы позади себя, куда он забился со страху, подхватила на руки и побежала прочь, подальше от собак, к рощице мимузопсов, к дому, все время окликая Бена и подгоняя его.
Коту совсем не нравилась такая тряска и скорость, он даже попытался вырваться, но Анна держала его крепко и выпустила только на лужайке перед домом, не сразу заметив, что старый пес где-то отстал.
Позже они вдвоем с Мэри отправились к тому месту, где лежал мертвый бушбок, на поиски Бена. Беспокойство их все возрастало. Наконец они нашли его и сразу поняли, что жить старому пойнтеру осталось недолго. Своими рогами антилопа проткнула ему грудь прямо под правым плечом; они не сразу обнаружили эту совсем не кровоточившую ранку, однако дышал он уже с трудом.
Анна сама выкопала псу могилу в мягкой земле за рядами канн, где он так любил лежать, а Мэри, кусавшая губы, и Пятница, сидевший совершенно неподвижно, если не считать чуть подрагивавшего хвоста, наблюдали за ней.
Мэри уже привыкла, что Анна за столом предпочитает молчать, так что в этот вечер все было как всегда, разве что девушка совсем ничего не ела. У них ужинал Билл Уиндем, и Мэри пришлось повозиться чуть больше обычного: накрыть стол парадной скатертью, поставить самые лучшие бокалы для вина, положить красивые салфетки и серебряные приборы.
Анна любила Билла Уиндема и знала его с детства, так что, потактичнее извинившись и пожелав всем спокойной ночи, вскоре удалилась к себе. Кот, разумеется, пошел за нею, однако как бы нехотя, словно полагал, что ложиться спать еще слишком рано.
— Красивый у вас кот, — заметил Уиндем, — и, по-моему, очень любит Анну.
— Да, он ей прямо-таки предан, — улыбнулась Мэри. — Честное слово, это что-то необычайное. Я уже просто привыкла видеть их всегда вместе. И они отлично чувствуют присутствие и настроение друг друга, точно близнецы.
Она явно хотела сказать что-то еще, но передумала, и они некоторое время молчали. Уиндем понимал, что Мэри хочется поговорить о дочери, и протянул ей пустой бокал:
— Можно мне еще?
— Ну конечно! Пожалуйста, наливайте, Билл, а заодно и мне тоже.
Движения Уиндема были нарочито замедленными и точными.
— Старого Бена жаль, — сказал он.
Мэри тяжело вздохнула.
— Очень! — вырвалось у нее. — И как нарочно, это случилось именно сейчас!
Рука Уиндема дрогнула, и он, пролив несколько капель на скатерть, сердито поцокал языком. Потом спросил:
— Вы, наверно, очень обеспокоены состоянием Анны? — И, не ожидая ответа, продолжил: — Она стала прелестной девушкой! Хороший характер, очаровательная внешность… И совершенно очевидно, что ей крайне неприятно быть такой угрюмой. Она сознает, что с ней что-то неладно, и это еще хуже… Хотите, чтобы я продолжал?
Мэри кивнула; она сидела потупившись, и Уиндем накрыл ее руку обеими своими ладонями и подождал, пока она поднимет голову. Наконец Мэри посмотрела на него и беспомощно пожала плечами.
— Уверяю вас, еще не все потеряно! — воскликнул он. — Вы знаете, что я давно не практикую, но мой сын Джеймс присылает мне все новинки медицинской литературы, и кое-что я внимательно прочитываю. Теперь появилось много новых средств, главным образом лекарственных…
Мэри высморкалась и глубоко вздохнула.
— Наверное, мне давно нужно было поговорить с вами, — сказала она. — Ведь Анне становится все хуже.
— Я знаю. — Уиндем сделал глоток вина, помолчал и заговорил снова: — Возможно, вы знаете про нее больше меня, однако полезно порой посмотреть на что-то чужими глазами, выслушать еще чье-то мнение. Сперва это, конечно, очень неприятно, человек даже может испытать некоторый стресс так много возникает болезненных проблем, и количество их растет с невероятной и совершенно необъяснимой быстротой.
У людей разные интеллекты, разное здоровье, разные причины заболевания, разные последствия, хотя все это, в общем, имеет второстепенное значение. По-моему, теперь уже слишком поздно для всякого рода консилиумов, это следовало делать раньше; хотя она могла, разумеется, вообще не ответить ни на один вопрос врачей, кто знает. Проблемы в школе, проблемы в университете… умная девочка, слишком много переживаний, и мы никогда не узнаем, сколько еще было причин… Совершенно очевидно, смерть отца повлияла наиболее сильно. Наступает некий предел душевной прочности, а потом вполне возможны изменения уже на физиологическом уровне — в мозгу, во всей системе метаболизма… И вот тогда, как я уже сказал, слишком поздно оказывать только психологическую поддержку.
— А тут еще и старый Бен погиб, — тихо вставила Мэри. — Последнее, что связывало ее с отцом.
Уиндем кивнул:
— И она, скорее всего, обвиняет в его гибели себя. — Он помолчал. — Видите ли, человеческий мозг вырабатывает различные сложные вещества, например особые, так называемые естественные, наркотики эндорфины; все эти процессы у здоровых людей сбалансированы. Когда же баланс нарушается — либо этих веществ не хватает, потому что организм использует их слишком быстро, либо по той или иной причине нарушена деятельность продуцирующего их механизма и обычными способами с этим не справиться, — начинается ментальное разрушение личности, ее распад. Это имеет множество самых различных причин: смерть близкого человека, потеря работы или денег, утрата общественного статуса, развод, даже просто переезд на другую квартиру, — и неприятности начинают громоздиться одна на другую. Без помощи естественных наркотиков-транквилизаторов жизнь человека становится поистине невыносимой, его охватывает чувство непреходящей тревоги, часто надуманной, мучают нескончаемые кошмары, и кажется, что прекратить это можно лишь одним способом — совершив самоубийство. Ну и прочие, чисто физические «радости», разумеется, тоже тут как тут: утрата аппетита и полового влечения, бессонница… Однако при адекватном лечении — с помощью новых лекарственных препаратов — баланс в организме больного восстановить можно. Самое главное — убедить пациента в необходимости лечения и постараться как можно дольше беречь его от любых волнений и неприятностей, порой несколько месяцев — пока лекарства не начнут оказывать свое воздействие.
Жаль, что такое лечение было недоступно в мое время. Надеюсь, теперь врачам оно хорошо известно, ведь жизнь так ускорила свой бег, и случаи подобных заболеваний встречаются все чаще, становятся чуть ли не обычным делом, по-моему.
Мэри слушала очень внимательно. Потом спросила:
— Так вы думаете, что мне следует начать действовать… прямо сейчас?
— Да. И для начала позвоните Джеймсу, пожалуйста. Или я сам с ним свяжусь, если хотите.
После ухода старого доктора — Мэри с удивлением отметила, что уже около полуночи, — она на цыпочках прошла в комнату дочери. У ее постели горел свет, приемник был включен, слышалась тихая музыка, но девушка спала, и Пятница тоже свернулся калачиком у нее на груди. Узнав Мэри, кот приподнял голову, и, та, погрозив ему пальцем, торопливо вышла из комнаты.
Теперь она еще более была обеспокоена состоянием Анны и считала дни до приезда Джеймса Уиндема. Она стала плохо спать и в тот день тоже поднялась на рассвете, вышла на кухню и приготовила себе чай. И с удивлением заметила в дверях Анну.
— Ты что так рано встала? Господи, да ведь еще только светает! Чаю хочешь?
Анна покачала головой и слабо улыбнулась.
— Надеюсь, ты не на прогулку собралась?
— Я только до кемпинга дойду, мама.
— Только недолго, дорогая. Мы ведь с тобой собирались в город после завтрака, верно?
Анна кивнула. Кот сидел на кухонном столе, двигая ушами и прислушиваясь к их голосам, словно пытался понять, о чем они говорят. Мэри наблюдала за ним.
— Он очень похорошел, — заметила она. — Нарисовала бы ты его для меня, а? Чтобы все эти черные полоски и пятнышки видны были. И два «ожерелья» на шее тоже. — Она почесала кота за ушком, и он выгнул шею от удовольствия.
Потом Анна и Пятница ушли, но Мэри так и не смогла заставить себя посмотреть им вслед — слишком разителен был контраст: бодрый кот с задранным хвостом и с равнодушным видом бредущая Анна — голова опущена, словно ей тяжело нести ее.
Должно быть, Анна проснулась часа в три, подумала Мэри, и задержалась у окна, чтобы убедиться, что дочь не свернула к реке. Ее ярко-красный свитер сверкнул на фоне темно-зеленого кустарника, в котором прятался кот.
Мэри вышла из кухни и присела у телефонного столика, чтобы отменить приглашение на ленч: она понимала, что любой поход в гости — еще одно тяжкое испытание для Анны.
Потом она перелистала свою записную книжку. Так, Джеймс Уиндем должен приехать к отцу, скорее всего, в понедельник, то есть через пять дней. Мэри держалась этой даты, как рулевой в бурном море держится огня маяка.
Положив телефонную трубку, она еще долго сидела, думая о Джеймсе Уиндеме и удивляясь, как хорошо его помнит.
Еще школьником — а он был значительно старше Анны — Джеймс любил качать ее на колене (Анне тогда было года два) и всегда смотрел на нее с нежным любопытством, довольно странным, как Мэри тогда считала, для двенадцатилетнего мальчика, но отнюдь не притворным, как часто делают другие подростки в присутствии любящих родителей малыша.
Поглядывая на них, Мэри всегда бывала тронута нежным отношением Джеймса к ее девочке.
Она знала о его успехах в медицине: о них охотно рассказывал его отец, хотя и напускал на себя равнодушный вид.
Знала и о том, что Джейме женился, но жена его вскоре погибла в автокатастрофе. Последний раз она видела его в декабре, три месяца назад. Невысокий, но широкоплечий и крепкий, с сильными стройными ногами — хотя, когда он был в шортах, они казались чуточку кривоватыми, — светловолосый. На солнце казалось, что вокруг его головы разливается сияние. Наверно, и отец его когда-то был блондином, думала Мэри. Тогда у Джеймса были длинные волосы, а лицо сильно загорело за время жизни на побережье, когда он целыми днями ловил рыбу в реке рядом с домом Андерсонов. Однажды он принес свой улов Мэри, а Анне подарил огромную бабочку с черно-красными крыльями, которую пришпилил к бежевому, похожему на пергамент лепестку поблекшей огненной лилии. Лепесток он вырезал по форме бабочки, но чуть больше, и все это вместе прикрепил к подкрашенному черной краской кусочку коры, тоже вырезанному в форме бабочки с раскрытыми крыльями. Этот изящный коллаж до сих пор висел на леске — чуть поблекший, но совершенно целый — в комнате Анны. Мэри труднее всего оказалось представить себе Джеймса в роли удачливого столичного врача-психиатра, однако она отмела прочь все сомнения.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
АВТОПРИЦЕП
Кот Пятница следовал за хозяйкой, то догоняя ее энергичными прыжками, то делая вид, что ее присутствие ему совершенно безразлично, а сам он бесконечно занят — слушает и анализирует разные звуки и шорохи, соотнося их с образами мышей, ящериц и прочих знакомых и незнакомых существ.
Он давно уже расстался с надеждой на то, что Анна когда-либо научится воспринимать мир, как он, то есть с бесконечным терпением, которое необходимо, например, для того, чтобы поймать мышь. Анна, безусловно, была сродни кошкам и принадлежала ему одному, в чем, разумеется, ему очень повезло. Однако были и у нее определенные недостатки.
Даже такие замечательные люди были слишком велики и неуклюжи. Они производили слишком много шума, так что охотиться в их компании было все равно что без конца бубнить надоевшие уроки, которые так никогда и не бывали ими выучены. Впрочем, охотиться днем всерьез вряд ли было вообще возможно, так что можно было считать такую охоту просто развлечением, прыгать и скакать, тем более что таким людям-кошкам, как Анна, физические упражнения нужны были не меньше, чем настоящим котам.
Когда Анна на какое-то время останавливалась, Пятница тут же заново метил хозяйку — терся о ее ноги подбородком, крупом и выгнутым хвостом: это означало одновременно и обладание ею, и уверенность в том, что он никогда не потеряет ее след. Если поблизости оказывался песок, которого здесь хватало, поскольку недалеко было морское побережье, то Пятница обязательно начинал кататься по земле, приглашая Анну поиграть и позволяя щекотать ему живот носком туфли, желая подбодрить ее и развеселить. С близкого расстояния ее пальцы или ступня казались ему всего лишь расплывчатым пятном, то есть он скорее воспринимал сами движения, а не зрительный образ, и если его не чесали и не щекотали, то сам начинал валяться на песке, извиваясь всем телом, чтобы она все-таки непременно обратила на него внимание, а потом принимался энергично вылизывать мягкую взлохмаченную шерсть на брюшке. Умывшись, отходил на некоторое расстояние, равное примерно двум-трем прыжкам, пока глаза не начинали видеть достаточно отчетливо, и оттуда непременно внимательно вглядывался Анне в глаза и нежно мурлыкал, очень тихо, однако так, чтобы она могла расслышать. Насколько ей было известно, он вообще никогда не мурлыкал громко, и она часто засыпала, положив ладошку ему на теплый бок и чувствуя дрожание ребер.
Упитанный полосатый кот с лоснящейся шерстью в залитом солнцем, точно умытом пространстве, среди сияющей листвы казался сгустком энергии и ярко выделялся на монотонно-зеленом фоне. Черные полосы покрывали все его тело от макушки до хвоста, у основания которого превращались в почти сплошное пятно. Полосатыми были и его бока, лапы, хвост, а на груди, между передними лапами, полосы превращались в черные пятна; на брюхе и под хвостом пятен не было совсем, там шерсть была светлой, чуть рыжеватой, пушистой. В остальных местах шерсть у Пятницы была довольно короткой — подшерсток серый, а кончики волосков черные или белые, словно специально окрашенные, чтобы создавать то более светлый, то более темный оттенок.
Когда кот бодрствовал, главное место на его морде занимали глаза — большие, зеленые, чарующе яркие, точно подсвеченные обрамлявшими их пятнами белой шерсти, отражавшей свет и ярко контрастировавшей с черными пятнышками и полосками, которые расходились веером от углов глаз и спускались к нижней челюсти. Эти яркие полоски, точно специально прорисованные на рыжевато-белой шерсти, прекрасно гармонировали с почти правильными черными кружками, из которых росли пышные усы, и с кольцами черной шерсти вокруг ушей, пребывавших в вечном движении. Пятница был прекрасным примером миллионов лет эволюции и отбора — от спрятанных сейчас когтей до зубов, ушей, глаз и усов; это был живой образец успешного создания некоего особого африканского животного, чуть видоизмененного влажным климатом юга континента.
Ничего удивительного, что Пятница выглядел как дома среди серо-зеленых кустарников. Его предки жили в этих местах и когда море оказалось в пятидесяти километрах от теперешнего побережья, и когда воды его были заперты ледяными торосами — много тысяч лет назад, но уже и тогда они были известны людям и частенько, особенно в юном возрасте, становились их друзьями. Однако современные люди верили лишь конкретным свидетельствам того, что они называли «одомашниванием» диких животных, которое имело место примерно на десять тысячелетий позднее и о котором стало известно благодаря устным преданиям древних народов Северной Африки.
Происхождение современной домашней кошки издавна интересовало ученых; они пришли к выводу, что та кошка, которую приручили древние египтяне, и была африканской дикой кошкой Felislybica. Ревностно охраняемая, кошка эта тем не менее была в свое время увезена за моря и океаны, чтобы затем расселиться и процветать во всех уголках земного шара.
Ученые также полагали, что эта кошка позднее была скрещена с европейской Felissilvestris, однако silvestris отнюдь не отличалась привязчивостью к людям, так что домашние кошки с ярко выраженными признаками silvestris долго в семьях людей не задерживались. Удивительным оказалось и то, что молекулы ДНК, взятые у Felislybica и домашних кошек по всему свету, были идентичны, однако сильно отличались от молекул ДНК европейской дикой кошки.
Считалось, что, хотя внешние данные кошек, особенно окрас, часто разнились (это связано лишь с их региональными отличиями, приспособленностью к местным условиям — климату, пище, окружающей среде — или же с мутационными процессами), все это, как выяснилось, оказывает весьма сильное влияние, и европейские кошки отличаются от кошек, живущих в африканском вельде, или саванне.
Был сделан вывод о том, что хотя различные мутации, сказывающиеся на окрасе, случаются и в дикой природе, однако действительно удачные варианты, например серо-черные кошки, встречаются главным образом в низменных влажных районах Южной Африки, а более светлые, песочные — в ее сухих полупустынях.
Пятница родился недалеко от фермы, в вельде, и по окрасу очень напоминал свою мать. Анна взяла его еще котенком, и теперь, когда вырос, он стал великолепным образцом первой из категорий, приведенных выше.
Анна окликнула Пятницу откуда-то из чащи мимузопсов, и он оглянулся. Он давно ждал ее странного, похожего на крик птицы призыва, столь характерного для таких, как Анна, людей-кошек; вряд ли он желал услышать именно свою кличку — ни один уважающий себя кот не соблаговолит откликнуться на какое-то примитивное, придуманное людьми имя.
Услышав над рекой похожие на мерный звон колокола крики африканского коршуна-рыболова, Пятница сразу припустил галопом, взлетая почти параллельно земле с вытянутыми задними лапами и стремясь поскорее укрыться в тени деревьев. Чуть запыхавшись и нарочито изображая усталость, он наконец нагнал Анну, однако все же постарался скрыть свою «позорную» торопливость — уселся и с самым безмятежным видом принялся тщательно вылизывать внутреннюю сторону задних лап.
Орлы — не только африканские коршуны-рыболовы — вообще-то нечасто встречались Пятнице в его родном ночном мире в ту пору, когда он охотился, так что он в них не особенно разбирался; все они казались ему просто огромными грозными тенями, проносившимися порой в опасной близости от земли. А в вышине небес, когда слышны были только их голоса, они казались ему нестрашными и бесплотными. Их крики он слышал за много километров, но лишь однажды действительно испугался, когда орел спикировал на него, причем вряд ли это было сознательным нападением. Скорее всего, пернатый хищник просто решил посмотреть, что это такое, из чистого любопытства, что называется. Пятница услышал шум воздушных струй, свист дрожащих маховых перьев и успел заметить лишь мгновенно промелькнувшую тень над головой, однако этот опыт оказался не бесполезным, пробудив в нем некую древнюю память об опасности, падающей с небес.
Единственным пернатым ночным охотником, которого он хорошо знал, был пятнистый филин. У кошек и сов были две общие черты: они охотились на одной и той же территории, на одну и ту же дичь и обладали приспособленным именно для ночной охоты зрением. Однако Пятница никогда не ощущал угрозы со стороны этих крупных, с бесшумными, точно у бабочек, крыльями ночных птиц, несмотря на их здоровенные когти и крючковатые клювы. Возможно, совы тоже опасались кошачьих когтистых лап. Пятница всегда чувствовал их присутствие в ночи и замечал, когда они пролетали мимо и когда таскали мышей прямо из-под носа, — ощущал движение воздуха, потревоженного широкими мягкими крыльями у себя над головой; он терпеливо преследовал добычу, потом слышал пронзительный писк мыши, так хорошо ему знакомый, — и добыча исчезала.
Он отлично слышал и крики летучих мышей во время охоты, однако для него все это были лишь составляющие общего ночного звукового фона, создаваемого голосами неуловимых, загадочных и совсем ему не нужных существ, суетившихся во тьме.
Глаза Пятницы отличались от глаз Анны во многом. Во-первых, они были значительно крупнее по отношению к другим частям тела и весу. Глазные яблоки у кошек также более круглые, чем у людей, роговица и хрусталик расположены ближе к центру, что дает более широкий угол обзора, но меньшую фокусную длину. Зрачки глаз Пятницы могли расширяться и сужаться значительно сильнее, чем у Анны, и поглощать даже самое малое количество света, например лунного или света звезд; однако же в полной темноте, когда не было ни проблеска, ни лучика света, кот был так же слеп, как и его хозяйка. С другой стороны, при чрезвычайно ярком дневном освещении его зрачки способны были превращаться в почти неразличимые щелки, пропуская самое ничтожное количество света — ровно столько, сколько было необходимо коту, чтобы хорошо видеть.
Что касается глаз более крупных кошек, например пантер, то они были устроены по тому же принципу, разве что у самых больших зрачки просто уменьшались, оставаясь круглыми, как и у людей. Пятница видел по крайней мере раз в шесть лучше Анны при луне и звездах, однако они никогда не гуляли по ночам, к большому сожалению кота. Главная причина его замечательного умения видеть ночью крылась в особой структуре сетчатки глаза. Эта особенность, свойственная и другим ночным животным, заключалась в наличии слоя клеток, образующих дополнительную отражающую поверхность, стимулирующую деятельность всех светочувствительных клеток сетчатки, благодаря чему Пятница и его родственники, охотясь в ночное время, могли удовлетвориться как минимум в два раза меньшим освещением, чем Анна, — к тому же ее глаза во тьме ничуть не светились! Зато у Пятницы в свете электрического фонарика вспыхивали особенно ярко.
Связано это было с тем, что отраженный свет фонаря улавливался сетчаткой глаза, отражался от нее, как от зеркала, и, как бы на обратном пути, становился отчетливо виден Анне.
И в завершение столь замечательной коллекции светочувствительных и светоулавливающих приспособлений следует отметить изящные белые кольца у глаз Пятницы — особенность, которой обладают и некоторые из крупных представителей семейства кошачьих.
Анна сидела за столом в парке, когда Пятница отыскал ее и тут же вскочил на стол, чтобы выяснить, чем она занята.
Анна рассеянно, даже не взглянув на него, протянула руку и постучала пальцами по столешнице, давая ему понять, что его появление было замечено. Она смотрела куда-то вдаль, за реку, туда, где белые гребни волн обозначали линию морского прибоя. Для кота она была единственным человеком на всем обширном, покрытом зеленой травой пространстве в несколько квадратных километров, где сейчас пустовали столы для пикников и выложенные камнями кострища, ибо уже наступила поздняя осень, а туристы, точно перелетные птицы, собирались здесь лишь в летние месяцы.
В кемпинге осталась только одна семья — мужчина, женщина и двое детей; как и Анна, они были одеты в красное, красной была и их машина с прицепом, готовая отправиться в путь.
Людей возле машины в данный момент видно не было — они занимались последними сборами. Анна равнодушно глянула в их сторону, отвернулась и снова стала смотреть на море.
Когда на обратном пути она, сокращая путь, перелезала через изгородь, то заметила, что семья на красной машине уже уехала и стоянка абсолютно пуста. По дороге Анна лениво обдумывала вопрос о том, какие цвета различают кошки: она заметила, как внимательно смотрел Пятница на красный автомобиль с прицепом.
Как-то раз она задала этот вопрос деду (тогда она была значительно младше) и он ответил, что, по мнению его приятеля-окулиста, кошки вряд ли вообще способны различать цвета — во всяком случае, они различают не столько цветов, сколько люди. К тому же, сказал дед, кошкам, видимо, не так уж и важно различать цвета во время своих главных занятий — охоты и спаривания, ведь они ночные животные, а ночью, как известно, все цвета сливаются. Это показалось Анне убедительным.
— Здесь все зависит от количества и соотношения палочек и колбочек, — пояснил дед, и она вспомнила, что уже где-то читала или слышала об этом.
Сетчатка кошачьего глаза содержит два вида световых рецепторов: палочки, которые реагируют на яркость света, и колбочки, с помощью которых, собственно, глаз и различает цвета. В кошачьем глазу, говорил дед Анне, соотношение палочек и колбочек примерно двадцать пять к одному, тогда как в человеческом глазу их соотношение — четыре к одному.
По мнению деда, именно эта особенность кошек указывает на их практическую неспособность различать цвета.
А через несколько дней он снова вернулся к этой теме:
— Между прочим, Анна, насчет способности кошачьих глаз различать цвета… Я тут прочитал одну статейку, так вот ее автор утверждает: есть все основания полагать, что ночные животные гораздо лучше воспринимают высокочастотные длинноволновые фотоны, чем низкочастотные, находящиеся на красном конце спектра, и, по мнению этого ученого, кошки способны различать, например, темно-голубые и красно-коричневые тона, а также, возможно, некоторые оттенки зеленого. Я же лично считаю, что они различают лишь серый, черный и белый цвета — примерно как люди в сумерках, когда освещение слабеет и колбочки становятся менее чувствительными. А для кота мышь есть мышь, и ему совершенно безразлично, какого она цвета.
Анна печально улыбнулась этим воспоминаниям и стала звать кота, однако тот уже не мог ее услышать.
Пятница давно знал всю семью последних постояльцев кемпинга, хотя сами они понятия о нем не имели. От мужчины часто пахло рыбой, а от женщины — жареным мясом и молоком; дети же пахли в точности как щенки.
Сперва Пятницу привлек именно запах рыбы: обезьяны вытащили из мусорного бачка, разорвав пластиковый пакет, целую рыбью голову и кусочки ее внутренностей.
Потом он попытался ловить крыс, и именно крыса завлекла его в то утро в прицеп, а потом дверца прицепа неожиданно захлопнулась — все это произошло как раз во время прогулки с Анной. По-настоящему Пятница встревожился, только когда почувствовал движение, и сразу отыскал узкое окно, в которое проникал свежий воздух и лились знакомые запахи, однако окно оказалось затянуто прочной сеткой. Устав от попыток подковырнуть сетку и выбраться на свободу, он в итоге сдался и стал обследовать прицеп. Два часа — по времени людей — он провел в тщетных поисках выхода, потом лег на пол и стал ждать. Порой он ненадолго задремывал, открывая глаза, только когда ритм движения менялся или прицеп начинало сильно качать. Качало довольно часто, и Пятница быстро понял, что лучше не забираться на высокие предметы, где труднее удержаться и приходится что было сил цепляться когтями.
Порой всякое движение прекращалось и звуки снаружи тоже характерным образом менялись — слышались людские голоса, и Пятница поднимал уши торчком и посматривал в ту сторону, откуда голоса звучали громче.
Громкое, звучное, чуть хрипловатое его мяуканье теперь сменилось слабым, как у котенка, жалобным и беспомощным писком. Он редко издавал подобные звуки — только в состоянии стресса или серьезных неудобств, а ему обычно удавалось избегать и того и другого, — однако сейчас его совершенно измучила жажда, а с наступлением темноты и ночной тишины она стала нестерпимой.
Шло время; свет сменялся тьмой, снаружи по-прежнему доносились голоса людей. Пятница урывками спал в течение долгих холодных ночей, а также всегда ложился, стоило возобновиться привычному движению. Температура снаружи то значительно повышалась, то резко падала, и кот часто задыхался в своем прицепе.
Однажды, когда внутри прицепа все еще было очень жарко и душно, движение вдруг прекратилось, послышался громкий скрежет, дверцу отперли, и внутрь проникли яркий свет и раскаленный, точно из духовки, воздух. Кот молнией вылетел наружу, прыгнув прямо на горячий песок, и мгновенно спрятался под автоприцепом, не решаясь пока выйти и осмотреть окрестности. Ему страшно хотелось напиться, однако, пока суета вокруг не прекратилась и не смолкли пронзительные голоса людей и лязг каких-то предметов внутри прицепа, он на открытое пространство не выходил.
Когда же наконец шум почти смолк и Пятница несколько пришел в себя, то с достоинством вышел из своего убежища, твердо намереваясь направиться домой, к Анне, где ждал его ужин и, самое главное, вода. Никогда еще в жизни ему так не хотелось пить!
Воздух постепенно становился прохладнее; спустились голубые сумерки; вокруг мелькали знакомые силуэты, огни, запахи — все это принадлежало людям, однако чуткими своими ушами Пятница улавливал и новые, очень странные звуки, а потом ветерок стал доносить незнакомые запахи дикой природы, и главное, впервые в жизни он почувствовал царственный, мускусный и очень опасный запах льва.
И не было здесь, на севере, дома Анны за деревьями, не вела к нему короткая тропинка в знакомых зарослях кустарника; их с Анной дом был далеко отсюда, на юге Капской провинции, а этот совсем чужой кемпинг находился в самом сердце пустыни. Место это называлось Носсоб, а вокруг расстилались просторы Национального парка Калахари, и до Анны было полторы тысячи километров.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В ПУСТЫНЕ КАЛАХАРИ
Анна вернулась домой и села с матерью завтракать; за столом они обменивались краткими, ничего не значащими фразами, а потом Анна — по предложению матери — прилегла и крепко уснула. Проснулась она только к двум часам, но до самого вечера, то есть до «кошачьего ужина», и не подумала искать Пятницу. Она долго звала его, стоя на освещенном крыльце, что прежде приходилось делать крайне редко, и через час окончательно встревожилась. Ночью она спала плохо, а утром чуть свет побежала в кемпинг. Там уже никого не было: красный «рейнджровер» с прицепом так и не вернулся.
Мэри чуть позже тоже начала поиски: для начала она позвонила управляющему кемпингом и проверила у него список постояльцев. Наконец им удалось установить номер красной машины: эта семья была из города Ситрусдал, что на западе Капской провинции. Мэри позвонила в полицию Ситрусдала, и там нашелся отзывчивый полицейский, который позже перезвонил ей и сообщил, что владельцы автомобиля в настоящее время путешествуют и никакой возможности связаться с ними не будет еще по крайней мере дней десять.
На следующий день, с раннего утра, Анна начала трехдневный марафон поисков, который был прерван лишь по настоянию матери: к концу третьего дня девушка была совершенно измучена.
Мэри все-таки сомневалась, что кот уехал именно на красной машине, тогда как Анна была абсолютно в этом уверена.
Позже Мэри предприняла ряд поездок на несколько десятков километров в ту и в другую сторону от фермы, время от времени останавливаясь и осматривая подозрительного вида предметы на обочине.
Один раз она уже решила, внутренне содрогнувшись, что отыскала пропажу, однако недавно погибший под колесами серо-черный зверек оказался генеттой с полосатым хвостом, почти такого же окраса, как и Пятница. Мэри даже не поняла, испытала ли она облегчение или, напротив, разочарование.
Если бы Пятница погиб, это, возможно, было бы даже лучше. По крайней мере, вся история обрела хоть какой-то конец. Она поехала назад, убежденная, что вряд ли сумеет сделать что-то еще для Анны, для Пятницы и для себя самой.
В отчаянии она даже позвонила Джеймсу Уиндему, которого на месте не оказалось, однако он через час перезвонил ей и сообщил, что вскоре выезжает и будет у них сегодня к вечеру.
Заглянув в комнату Анны, она заметила разметавшиеся по белой подушке черные блестящие волосы и тут же вышла на цыпочках в коридор, сходила за очками и книгой и уселась возле постели дочери в кресло, решив, что не спустит с нее глаз, пока не приедет Джеймс Уиндем.
Пятницу разбудили знакомые звуки, доносившиеся из домика, возле которого стояла машина, и во-первых, звук текущей воды, который сопровождался запахом рыбы. Пятница уже установил, что люди внутри домика — двое взрослых и двое детей — неразрывно связаны с автомобилем, а сам автомобиль и прицеп — с тем кемпингом, куда он ходил с Анной и где ловил среди бела дня крыс. Кот вошел в открытую дверь, надеясь обнаружить там Анну, прыгнул в раковину на кухне и стал принюхиваться. В раковине, у самого стока, собралась небольшая лужица воды — в лучшем случае, несколько раз лизнуть; он выпил ее и уселся, терпеливо поджидая, пока капли, набухавшие в кране, упадут в раковину.
— Эй, посмотри-ка, — раздался голос мальчика, — а в раковине кот сидит!
Сестра была на два года старше и слегка надулась — ведь не она первой заметила кота; она очень гордилась своими вечными победами в спортивных играх и, чтобы восстановить прежний авторитет, тут же подошла к коту, который поднял голову и, глядя на нее, тихо, придушенно мяукнул.
— Эта кошечка хочет пить! — уверенно заявила девочка и, налив в блюдце воды, поставила его в раковину.
Пятница вылакал все до капли.
— Дай ей молока, — сказал мальчик.
— Нет, нельзя, у нас его и так мало. Мама заругается.
Дети рассматривали кота, пока тот пил. Потом в дверь сунула голову мать:
— Чем это вы заняты?
— Тут такая хорошенькая кошечка! — сообщил мальчик — И очень пить хочет, мы ей водички дали.
Мать вошла в кухню и, склонив голову набок, стала смотреть, как Пятница пьет; ей было приятно, что дети проявили такую заботу о бедном животном.
— И все-таки я бы на вашем месте эту кошку не трогала, — сказала мать. — Вдруг поцарапает.
В дверь заглянул отец:
— Эй, что у вас тут такое? О, да это кот! Откуда он взялся?
— Мы его прямо тут нашли, папочка, — заторопился мальчик. — Он ужасно пить хотел, и мы его напоили.
— Ее, — поправила брата девочка.
Отец внимательно посмотрел коту под задранный хвост, улыбнулся и сказал:
— Это — «он».
Мальчик показал сестрице язык.
— Только он кастрирован, — продолжал отец. — Возможно, он принадлежит кому-то из сотрудников. Так или иначе, не стоит его приваживать и уж тем более брать в руки.
— Почему?
— Ну хотя бы потому, что он, скорее всего, станет царапаться. А кроме того, может оказаться разносчиком бешенства или еще какой-нибудь болезни.
— Вот и я так считаю, — подхватила мать.
— Очень упитанный котик, — заметил отец. — Он, наверное, рыбу почуял. Хотя в этих местах с рыбой-то не очень.
Ну все, дети, хватит, пошли костер разжигать! — Он хлопнул в ладоши. — Завтра чуть свет мы уезжаем — постараемся добраться до границы с Ботсваной и Намибией.
— Эй, пошли скорей! — Девочка потянула брата за рукав. — У меня и спички есть.
— А что, если это дикий кот? — спросила женщина, когда дети выбежали на улицу.
Пятница не мигая смотрел на нее. Муж в ответ только насмешливо хмыкнул, и она торопливо пояснила:
— А если он болен бешенством… и просто притворяется домашним?
— Ты это серьезно?
— Но он ведь в точности такой, как в книжке!
Пятница утолил жажду, понял, что Анны в домике нет, и начал ощущать несколько агрессивное настроение взрослых, тем более что дети уже ушли. Он стремительно выпрыгнул из раковины и сердито зашипел, поскольку мужчина хлопнул в ладоши, подгоняя его.
Он вернулся было в свое логово под прицепом, но потом снова вылез оттуда, ибо семья уселась ужинать на свежем воздухе у костра. Кота сводили с ума запахи пищи, и он, забыв об осторожности, пробежал в тени какого-то колючего дерева и уселся, незамеченный, между детьми на песок.
Он выбрал голую ногу девочки, ласково коснулся ее выгнутым хвостом и тут же был вознагражден: девочка глянула на него, потом на брата и, приложив палец к губам и призывая Пятницу хранить молчание, наклонилась к нему. Потом дела пошли совсем хорошо. Кусочки самой вкусной еды то и дело перепадали Пятнице, а едва люди ушли в дом и зажгли свет, он снова спрятался под прицеп.
Когда все стихло и на улице не осталось никого, а от деревьев на остывающем песке пролегли странные лиловато-красные тени, Пятница вылез из своего убежища и принялся обследовать окрестности.
Ветра не было; кот медленно переходил от одной норы к другой, и незнакомые запахи были столь разнообразны и сильны, что он даже раздраженно приподнял верхнюю губу и оскалил зубы. Это он делал для того, чтобы пришел в действие особый обонятельный орган — железа Якобсона, находящаяся между носом и нёбом; языком он улавливал мельчайшие материальные частички, содержавшиеся в воздухе, и благодаря этой железе получал дополнительную информацию, которая в данном случае не только будоражила его, но и озадачивала.
Подобную демонстрацию своих способностей Пятница устраивал отнюдь не часто. После кастрации ему стали почти безразличны кошки в период течки, и он не так остро реагировал на феромоны вообще.
Для успешного зачатия — этой могучей движущей силы во всех областях жизни домашних кошек, как и их более крупных диких родственников, — необходимо совершенно точно знать, с точностью до нескольких часов, когда самка готова принять самца. Ошибка во времени или неверное толкование соответствующего «сигнала» могут кончиться либо знакомством с когтями разъяренного соперника, либо просто неудачным зачатием и неспособностью произвести на свет потомство.
Однако Пятнице не были свойственны подобные ошибки, и он никогда не позволил бы себе — тем более в совершенно незнакомой обстановке, в мире, где среди хищников правит сильнейший, — хотя бы в малейшей степени потакать собственным слабостям и интересоваться самками. Так что по крайней мере в этом смысле ему повезло: кошки совершенно его не волновали, однако запахи льва, леопарда, гепарда, гиены, шакала и лисицы — одни старые, а другие вызывающе свежие, но все же очень мало знакомые — невольно тревожили его.
Травоядные животные, фыркавшие и шуршавшие в темноте, не вызывали у него особого беспокойства; все они были похожи на лошадей, то есть довольно неуклюжие и совершенно неопасные, и он мгновенно приободрился и обратил внимание на более приятные и довольно сильные запахи — мышей, песчанок и земляных белок.
На участке, где было особенно много земляных белок, он помедлил и с аппетитом втянул воздух носом. Белки, чувствуя себя под землей в безопасности, отнюдь не собирались выходить наружу до следующего утра, однако их все равно выдавали пронзительный писк и болтовня — во всяком случае, кот слышал их отлично. Он осторожно обошел участок по периметру; земля здесь, точно оспинами, была изрыта выходами из норок. Впрочем, Пятница тут же сам стал объектом пристального внимания со стороны парочки капских сов, сидевших неподалеку на колючем кусте.
Глаза сов, огромные, желтые, окруженные широкими кругами белых перьев, отражавших свет, время от времени мигали, точно лежа на белом блюде. Хищники внимательно следили за движениями кота, который переходил от одной норки грызунов к другой, и даже привстали со своих мест, растопырив крылья, когда встревоженная мышь скользнула в зарослях, но Пятница оказался проворнее и, точно прыгнув, так стиснул добычу когтями, что та только пискнула. Совы вновь сложили крылья, что-то раздраженно пророкотав.
Пятница охотился и играл до зари, обойдя всю ограду кемпинга по периметру и даже получив кое-какое представление об окрестностях, однако, несмотря на обилие мышей, далеко не все было хорошо в этом новом мире. Ему очень не хватало того, чего он теперь лишился и что ему было совершенно необходимо — своей собственной, хорошо знакомой территории и того родного существа, дороже и ближе которого у него не было на свете: Анны, всегда принадлежавшей только ему одному.
Больше всего ему хотелось найти ее, вернуться домой, туда, где она сейчас, но ее рядом не было, и он предпочел укрыться в прицепе и на рассвете заснул.
А проснулся, когда красный автомобиль куда-то уехал; потом снова — когда он вернулся; и в третий раз — когда прицеп опять пришел в движение. Теперь уже пришлось окончательно проститься со сном. Пятница видел, как автомобиль с прицепом миновал ворота, проехал вдоль изгороди и вскоре исчез из виду.
Поскольку он не мог придумать ничего лучшего, то, как всегда в затруднительной ситуации, принялся умываться.
Дед всегда считал Анну своей лучшей ученицей; в этом смысле ему повезло: других у него, собственно, и не было.
Он вечно выуживал в книгах и журналах потрясающе интересную информацию по естественной истории — с его точки зрения, только этой наукой и следовало заниматься. Каждый раз он поражал внучку невероятными чудесами, которые открыла эта наука о жизни вселенной.
То, что он излагал ей свои собственные, весьма замысловатые научные выкладки, если ученые отступались от той или иной проблемы, не имея конкретных аргументов «за» или «против», безусловно, лишь разжигало ее интерес к прежде сухим научным фактам; к тому же она училась самостоятельно мыслить. Такова была, например, тема «зеленых» млекопитающих. Дед явно уже давно размышлял об устройстве кошачьих глаз и способности кошек различать цвета.
— Если плотоядные на это способны, — рассуждал он, — вот, например, наш кот, — и он с улыбкой указывал пальцем на Пятницу, — то природа должна была бы создать зеленых мышей или зеленых кошек, множество зеленых змей, хамелеонов и птиц, чтобы их вечные враги — барсуки, мангусты, птицы секретари и так далее — могли их тоже видеть… ты, наверно, понимаешь почему? Чтобы одним прятаться, а другим охотиться.
В общем, хищники и их добыча… ну и так далее…
Анна понимала, что раз дед заканчивал предложение словами «ну и так далее», значит, он пока сам забрел в тупик, и в таких случаях она почти никогда с ним не спорила. Впрочем, чаще всего он сразу же забывал о предыдущих рассуждениях, немедленно погружаясь в новые, так что любой ее ответ обычно не совпадал с тем, чем он был озабочен в данный момент.
Как-то раз, глядя на умывавшегося на солнышке Пятницу, дед спросил у нее:
— А ты знаешь, что он делает?
Она хитро прищурила один глаз, ожидая подвоха:
— Умывается, по-моему, — только и всего.
Однако насмешливый тон на деда не действовал.
— Sebum! — воскликнул он. — Это вещество вырабатывают сальные железы, а кот как бы размазывает его по шерсти, одновременно слизывая старую смазку, а заодно и получает определенную дозу витамина D.
Анна, подняв одну бровь, открыв рот и скосив глаза, смотрела на деда.
— На солнышке, — продолжал дед, делая вид, что не замечает ее идиотской гримасы и прекрасно зная, что девочка все равно будет внимательно его слушать, — ультрафиолетовые лучи воздействуют на холестерол, содержащийся в жидкости сальных желез, и там вырабатывается витамин D. Этот витамин необходим для лучшего усвоения фосфора и кальция, то есть, как тебе известно, для укрепления костей. Нельзя заводить кошку, больную рахитом: не выживет. У кошек очень гибкий позвоночник… — Дед задумался. — В Северном полушарии кошки, особенно черные, из-за обилия пасмурных дней и частых смогов не могут получать дополнительные дозы витамина D благодаря солнечному свету, так что им приходится вылизываться раза в два чаще, чем диким кошкам в Африке.
По-моему, привычка к чрезмерно продолжительному вылизыванию, или «умыванию», как ты это называешь, унаследована ими от предков из Центральной Европы, где кошки живут уже много столетий. Недостаток солнечных лучей… ну и так далее.
«То-есть кошки умываются тогда, — вполне мог бы еще прибавить он, — когда у них возникают различные трудности».
Именно это и происходило сейчас с Пятницей: он сидел на песке посреди опустевшего кемпинга, смотрел вслед удалявшемуся красному автомобилю и понятия не имел о том, что дети машут ему на прощание. Остаток дня он проспал в тенистом уголке.
Через пять дней семейство благополучно прибыло в Ситрусдал, и среди огромного количества прочих новостей услышало забавную историю о пропавшем коте, которого разыскивала полиция. Женщина повернулась к мужу и задумчиво проговорила:
— Э, да не тот ли это кот, что нам в Носсобе попался? И в прицепе у нас кошкой пахнет… Ну конечно, тот! Все вполне совпадает.
Последовала вторая серия телефонных звонков — в полицию Ситрусдала, той женщине, что живет на самом юге Капской провинции, то есть Мэри, потом Мэри позвонила в Тви-Рифирен, и наконец по радиосвязи главный лесничий Тви-Рифирен связался с Носсобом. Тамошний лесничий внимательнейшим образом осмотрел территорию кемпинга, но ничего особенного не обнаружил, что и было передано Мэри по цепочке обратной связи.
— Анна была права, — сказала она Джеймсу Уиндему, — это был Пятница, теперь я в этом уверена. Господи, что же нам делать?
Джеймс сперва удивился, когда позвонил отец, и очень обрадовался, когда позвонила сама Мэри. Он сразу понял, как будет проводить лечение, и, уже едучи на машине в Книсну, был уверен, что решение это правильное. Сунув в магнитофон свою любимую кассету, он даже стал громко подпевать, и голос его звучал все громче и спокойнее, по мере того как Кейптаун оставался позади.
Он был очень близок с отцом, будучи в семье поздним ребенком, и они очень давно не виделись. Кроме того, его с нетерпением ждала Мэри, о которой он с детства сохранил самые теплые воспоминания. И еще там была Анна.
Зайдя утром к Мэри, Джеймс Уиндем с отцом прогулялись по берегу реки, потом снова вернулись в дом, и Джеймс сказал ей:
— Папа никогда не бывал в Национальном парке Калахари, и я тоже с удовольствием съездил бы туда.
— Вы ведь решили это из-за кота, правда? — спросила Мэри.
— Да нет, но мы могли бы захватить с собой Анну. Ей это, наверно, пошло бы на пользу. А вы бы немного отдохнули, а? Если, конечно, вам самой не хочется с нами поехать.
Мэри закусила губу:
— Ну, это, пожалуй, было бы слишком. А вам не кажется, что рискованно давать ей надежду?
— Нет, по-моему, ей в любом случае полезно уехать отсюда ненадолго, — сказал Джеймс. — А в поездке я смогу присматривать за ней как врач. Ведь все равно ей рано или поздно придется посмотреть правде в глаза. Да и вдруг мы там его найдем?
В течение трех дней после отъезда красного автомобиля Пятница неторопливо обследовал кемпинг. Каждое утро на заре он ловил воробьев, ставших почти ручными: туристы приучили множество мелких птиц слетаться к крыльцу кухни и подбирать там крошки и прочие съедобные остатки.
Самой же большой удачей для него была поимка земляной белки, жившей на территории кемпинга и прирученной туристами. Он съел ее целиком, оставив только хвост, голову и когтистые пальцы. В последнюю ночь, проведенную в кемпинге, он вылез за проволочную ограду через дыру и неторопливо обошел свою теперешнюю территорию по несколько более широкому кругу, стараясь держаться тени и низко припадая к земле.
Он не охотился и даже не обследовал местность — просто гулял, как это делают все кошки, и точно спал на ходу, погруженный в мечты, и грезилась ему Анна, которая находилась не просто за пределами той земной жизни, что протекала на юге Африки, или того звездного мира с солнцем посредине, известного всем земным обитателям, или вне времени, всех тех миллионов лет, память о которых хранилась у кота в коре головного мозга, но была с ним рядом, в самом центре его собственной вселенной, и ему теперь нужно было всего лишь отправиться прямо к ней, ибо ее магнитное поле представлялось ему ярким мигающим маяком, свет которого заставлял его сердце бешено биться. Он знал, что оно будет биться все сильнее, когда он станет приближаться к ней, а потом найдет — и все сразу кончится, все будет хорошо. Именно после этого Пятница и начал свой долгий путь домой.
Сперва он шел по дороге, по следам красного автомобиля, поскольку в неподвижном сухом воздухе пустыни все еще витал слабый запах рыбы. Кроме того, на одном колесе была новая покрышка — этот запах он тоже различал хорошо, а с внутреннего обода колеса сыпались остатки помета южноафриканской мартышки и рыбные чешуйки, так что Пятница шел по этой прохладной горной дороге уверенно, несмотря на отвратительный запах львов, и проходил в час километра два.
У львицы, шедшей чуть впереди, была течка, так что за ней день и ночь тащились следом четыре льва. Один из них однажды уже спаривался с нею — это был старый лев, хорошо ей знакомый; вся эта компания направлялась на территорию двух других, более молодых львов. Львица лежала на дороге, когда Пятница случайно набрел на нее в темноте, и не успела даже зарычать, как он перемахнул через ее хвост и исчез. Коту она показалась горой гладкой, обтекаемой формы, а купол огромной головы — холмом с округлой верхушкой, увенчанной, точно рожками, двумя небольшими холмиками ушей.
Сперва он решил, что это спящая корова, но потом хвост, лежавший на земле, вдруг резко дернулся, как змея, и Пятница взлетел в воздух, оторвав от земли все четыре лапы разом, и скатился за песчаную насыпь на обочине дороги.
Там он залег в тени, распластавшись, прижимаясь к земле, пока львы с ревом осуществляли сложный ритуал ухаживания и выбора партнера. Он совершенно ошалел от их рева, казалось сотрясавшего саму землю; к тому же львы подняли целые тучи пыли, из-за которых ничего нельзя было разобрать. Затем стал потихоньку отползать в сторону, подальше от этой неприятной компании, выбрав для отступления устланную листьями дынного дерева тропу, по которой прополз на брюхе, скрытый росшей пучками редкой травой.
Через некоторое время его уши, до того плотно прижатые к голове, встали торчком, он выпрямил шею и огляделся.
Деревья слева от него были черные, неподвижные на фоне начинавшего розоветь неба; высокие звезды сверкали бриллиантами, далекие созвездия казались алмазной пылью. Уши Пятницы подергивались, улавливая каждый из бесчисленного множества звуков вокруг. Где-то далеко стонали гиены, а еще дальше, за красноватыми песчаными барханами, визжали и хохотали шакалы, визгливый лай которых был ему куда более понятен, чем рычание львов.
Порой все замолкало, и однажды в наступившей тишине он вдруг услышал топот копыт: это стадо антилоп ломилось сквозь деревья — белые вспышки «фартучков» под хвостами, блестящие рога; потом антилопы с дробным топотом исчезли в ночи, и совсем рядом Пятница ощутил в тишине какую-то неведомую опасность.
Не зная, как быть дальше, он принялся энергично вылизывать плечо и лапу, и раздумье его продолжалось не менее часа, а когда мышь, обнадеженная его неподвижностью, прошуршала рядом в сухих листьях папайи, он решил не обращать внимания ни на что, даже на хриплое дыхание и рыканье львов, и поспешил прочь, вновь превратившись в маленького ночного охотника, быстрого, бесстрашного, энергичного и, как казалось ему самому, вполне владевшего собой и способного противостоять судьбе, тем более светила знакомая луна и в небесах успокаивающе мигали звезды.
Он перебегал от одной тени до другой, держась ближе к деревьям и не выпуская из зубов бессильно обвисшую, но еще теплую полузадушенную полосатую мышь, чей тонкий хвост волочился по песку, оставляя чуть заметный след.
В пересохшем русле реки кое-где еще сохранилась влага — он чувствовал ее запах в воздухе, — и наконец впереди показалась вода: пруд, огромная цистерна и ветряная мельница — невиданное прежде сооружение высотой с дерево, которое у Пятницы потом, в течение всех его дальнейших странствий, всегда ассоциировалось с присутствием воды.
При первых проблесках зари он спрятался в кустах, недалеко от высокого дерева, и теперь изучал белый известняковый берег и блестевшую серебром воду меж влажных камней.
Однако у водоема он был не один. Его буквально окружали звери, собравшиеся на водопой: несколько гемсбоков, один рыжий олень, парочка белобородых или голубых гну, компания страусов, державшихся чуть поодаль, и единственные знакомые Пятнице животные — два шакала с черными спинами.
Он попытался как-то оценить сложившуюся ситуацию, как всегда с интересом наблюдая за поведением других животных.
Гну все время держались рядышком; гемсбоки махали своими длинными пышными черными хвостами; страусы важно прохаживались туда-сюда по верхушкам прибрежных дюн; а одинокая африканская газель то и дело подбегала совсем близко к воде.
Вдруг промелькнула быстрая тень — это был длинноногий гепард; светлая шкура его была вся покрыта черными пятнышками. Газель поспешно, опустив уши и как бы вытянувшись в одну линию, метнулась в сторону, подняв копытами облачко пыли. Пятница взлетел на дерево, добрался до развилки довольно высоко от земли, потом полез еще выше.
Однако вскоре все успокоились. Шакалы, правда, умчались прочь, но олень легкой походкой вернулся на прежнее место, а дрофа с важным видом прошествовала через высохшую реку к противоположному берегу.
На востоке солнечные лучи высветили целый лес рогов гемсбоков и заблестели на их гладких шкурах, когда антилопы показались на вершинах барханов. Они застыли как статуи — этакий неподвижный фриз, — за ними Пятница наблюдал с особым интересом, потом остыл и принялся прилежно вылизывать второе плечо, решив, что пить, в конце концов, не так уж и хочется. Вода на всем огромном пространстве пустыни — на шестидесяти пяти тысячах квадратных километров, от красноватых барханов на юго-западе до саванн Ботсваны на севере, — была редкой роскошью. Река Носсоб, вдоль которой Пятница шел всю вторую половину ночи и на берегу которой сидел сейчас, почти везде пересохла настолько, что ил на ее дне превратился в пыль, как и в реке Ауоб, южном притоке Носсоб, соединявшемся с ней близ Тви-Рифирен. В их сухих руслах грунтовые воды, просачиваясь на поверхность, образовывали небольшие бочажки, так что русла были, как пунктиром, отмечены цепочкой маленьких озер, возле которых не только росли деревья, но и высились ветряные мельницы.
Примерно раз в пятьдесят лет река Носсоб становилась действительно полноводной. Река Ауоб — гораздо чаще, раз в три-четыре года, однако в ее северной части, на территории Намибии, даже в искусственных водоемах вода не сохранялась и ее не было нигде на многие сотни квадратных километров.
И все же задолго до того, как люди научились собирать воду в искусственных водоемах и цистернах, так и теперь сотни тысяч копытных и тысячи хищников, от льва и леопарда до каракала и капских лисиц, каким-то чудом не только выживали, но и размножались в этой безводной пустыне. Большая часть растений Калахари — однолетники или луковичные, и из них по меньшей мере восемьдесят пять видов умеют накапливать влагу, и благодаря им утоляют жажду многие изнывающие от зноя живые существа.
Травоядные, из которых в Калахари самой крупной антилопой является канна, а самой маленькой — стинбок, щиплют напоенные росой травы, выкапывают сочные корни растений, а то и сбивают копытами с дынного дерева его плоды и таким образом утоляют жажду. А хищники удовлетворяют свою потребность в воде, лакая кровь и поедая сочную плоть своих жертв.
Эти поистине дикие края, где не дай Бог человеку заблудиться, протянулись на сотни километров к северу, и там есть такие места, в которых до сих пор могли выжить только бушмены.
Когда солнце поднялось достаточно высоко и голая белесая земля по берегам водоема стала напоминать сверкающее зеркало, Пятница спустился с дерева и стал играть с пойманной мышкой. Он подбрасывал ее в воздух, кружился, набрасывался на нее, якобы намереваясь немедленно откусить ей голову; и по меньшей мере три орла наблюдали за его игрой и видели, как поблескивает в солнечных лучах шелковистая мышиная шерстка. Тот, что был ближе остальных, орел-скоморох, легко поднялся со своей ветки, паря на широко раскрытых крыльях, захлопал ими и камнем упал вниз. Только ветерок просвистел у Пятницы над головой, и мышь исчезла в крошечном смерчике пыли. Кот кубарем откатился в сторону, ошеломленный случившимся, и на всякий случай снова забрался на дерево, растянулся на ветке и лишь тогда перевел дыхание и решился пошевелить плотно прижатыми к голове ушами.
Охотиться в таких суровых условиях всем и всегда было трудно, так что приходилось идти на определенные уступки другим; даже львы вынуждены были подчиняться этому правилу. Во время одного из множества научных исследований, для которых будто специально приспособлены эти дикие края, было установлено, что львы в Калахари убивают во время охоты всего раза в три больше животных, чем их родственники из кустарникового вельда восточного Трансвааля. Причем это отнюдь не значит, что здешние львы охотятся исключительно на крупную дичь — голубых гну, оленей или гемсбоков, которых особенно трудно поймать на открытом пространстве пустыни; напротив, их основная добыча — мелкие животные: зайцы, ушастые лисицы и дикобразы, даже котом львы здесь не побрезговали бы. Зайцы, лисицы и дикобразы — животные ночные, так что львы охотятся главным образом ночью, как и леопарды, да и сам Пятница тоже; в дневное время гепарды и орлы пытаются наверстать упущенное, и они тоже с удовольствием слопали бы такого упитанного зверька, как Пятница.
Однако же и он постепенно набирался опыта, и каждый новый, преподанный ему пустыней урок пробуждал в его голове давно уснувшую память предков; он снова становился похож на идеально приспособленного для жизни среди дикой природы первобытного кота, только главная его цель оставалась прежней и потребность достигнуть ее была столь же сильна, как потребность в пище или в сне; он был связан с миром людей узами более прочными, чем самый прочный аркан, причем сами люди даже не подозревали об этом; кроме того, он искал свою Анну. И знал, что в этих незнакомых местах ее не найдет. Он еще не понял, где она сейчас, но был уверен, что в конце концов непременно ее отыщет.
Анна, Джеймс и старый доктор переночевали в маленькой провинциальной гостинице одного из городков на берегу реки Оранжевой. Отсюда рукой подать было до Национального парка Калахари, куда они заранее заказали пропуск на следующие два дня. Семья, с которой уехал Пятница, тоже останавливалась здесь во время своего путешествия на север и несколько дней наслаждалась относительным комфортом гостиничного быта, казавшимся роскошью после тесных домиков в кемпингах.
Анна всю дорогу провела на заднем сиденье, чтобы не было особой необходимости участвовать в общем разговоре.
Это ей предложил Джеймс еще до отъезда. Теперь же она стояла в своей комнате у окна и предавалась отчаянию: мало того что она сама была виновата в том, что ее дорогой Пятница пропал, так еще и Джеймсу с отцом пришлось предпринять ради нее эту трудную и, видимо, бессмысленную поездку.
Душа ее была полна тревоги; все казалось ей преувеличенно сложным, и даже самая пустячная работа — написание письма, простой телефонный разговор, попытка принять ванну — требовала от нее значительных усилий над собой. Странный, похожий на летаргию сон превращал даже процесс утреннего вставания в тяжкий труд и испытание воли.
Ей постоянно казалось, что мать вскоре умрет, погибнет в автомобильной катастрофе, и эти мысли не давали ей покоя.
Во всем, разумеется, виновен был ее недуг, ибо страхи Анны не имели никаких оснований — мать ее была абсолютно здорова и вполне благополучна, — хотя она действительно очень любила мать и боялась потерять ее. Скорее, они были связаны с тем, что ей было страшно предстать в одиночку перед враждебным окружающим миром, самостоятельно вести хозяйство на ферме, общаться с людьми, принимать решения. Вторая мучившая ее тревожная мысль была связана с тем, что у матери, как казалось Анне, медленно, но верно иссякают последние средства, оставленные отцом, и ей, Анне, непременно придется пойти работать, чтобы они не умерли с голоду, хотя уже сама мысль о работе была невыносима. Кроме того, Анна подозревала, что стала бесплодной и никогда уже не сможет жить нормальной жизнью; она чувствовала себя нелюбимой, брошенной женщиной. Впрочем, мысль о том, что у нее никогда не будет детей, особой роли не играла; у Анны почти не осталось сил, чтобы позаботиться хотя бы о любимой кобыле, не говоря уж о ребенке, и она бы, пожалуй, готова была даже продать свою лошадку, если бы нашла силы принять такое решение.
И хотя ни одна из этих постоянных ее тревог никакого отношения к реальной действительности не имела, логические доводы не помогали. Даже утрата кота на фоне этих мрачных мыслей не воспринималась ею столь же трагически. Тревога буквально изгрызла ей душу; это была какая-то бесконечная череда безжалостных пыток, после которых ни на что не оставалось сил.
Если бы Анна хоть раз обмолвилась о своих страхах Джеймсу или матери, те непременно постарались бы как-то успокоить ее, привести какие-то убедительные аргументы, однако все их старания все равно оказались бы напрасны, ибо такова уж была природа ее болезни.
Она смотрела на мир вокруг словно через окошко темницы — того страха, в котором жила постоянно и из которого не было выхода. Все это Джеймс Уиндем понимал отлично и сразу начал лечить Анну новейшими лекарственными препаратами.
Ни один мозг не может выдержать пытки постоянной недостаточностью эндорфинов, и теперь требовалось лишь время.
Анна хорошо помнила, когда именно возникли эти бесконечные тревоги и кошмары, — скорее всего, как казалось ей, в тот период, когда она стала принимать противозачаточные пилюли, сильно испугавшись однажды, что могла забеременеть. Она тогда как раз готовилась к весенней сессии, а кроме того, почти завершила свой затянувшийся роман с Грегом; вскоре Грег вылетел из университета, а потом она и вовсе потеряла его из виду.
Она ничего не говорила тогда матери, но потом рассказала все Джеймсу. Даже о том, как сперва ей показалось, что она буквально травит себя этими пилюлями, а потом у нее действительно что-то разладилось во всем организме.
Она вступила в бой с недугом как всегда мужественно: совершала длительные прогулки, точно наказывая себя за что-то, хотя именно прогулки вроде бы на какое-то время приостановили тот ползучий паралич, что постепенно охватывал ее ум и волю; писала письма Грегу, объясняя, почему не желает больше иметь с ним какие бы то ни было отношения; с мрачной, даже какой-то яростной решимостью погрузилась в учебу, однако мрак неотвратимо, подобно раковой опухоли, окутывал сознание, и в итоге все пути к спасению оказались отрезанными.
Мысль, порой казавшаяся соблазнительной, о том, чтобы лишить себя жизни, покончить с этим кошмаром, теперь не давала ей покоя, хотя раньше такое даже в голову ей не могло прийти. День за днем ее существование все более напоминало бесконечный спуск вниз, в какой-то бездонный колодец, некое перерождение, граничащее с самоуничтожением. Она словно наблюдала за собой издалека, однако все же убежать от себя не могла; и тоскливая тревога той Анны, которую поразил страшный недуг, передавалась и другой Анне, которая была связана с первой как бы прочной пуповиной, порвать которую можно было лишь с помощью самоубийства. И она ждала, надеялась и продолжала терпеть это бесконечное странствование по кругам ада, ибо была достаточно сильна, чтобы понимать: она вполне может победить, изгнать разрушительный яд тревоги из своей души; и все же каждый новый день начинался с тяжких сомнений, и день за днем эта бесконечная, бессмысленная пытка все больше истощала ее волю. Так что любое соприкосновение с жизнью заставляло ее израненную душу вздрагивать и съеживаться вне зависимости от того, сколь благожелательны были окружавшие люди. Она жила, точно лишенная кожи, совершенно незащищенная, чрезвычайно уязвимая. Физически это проявлялось в том, что у нее постоянно, хотя и не очень заметно, дрожали руки, и она ничего не могла с этим поделать.
Джеймс не стал призывать на помощь психотерапию, ибо Анна давно уже миновала ту стадию, когда подобные сеансы еще способны как-то помочь. Ее состояние было результатом многочисленных стрессов, которые настигли ее в таком сочетании, что сумели нарушить даже метаболические процессы в организме, и теперь ее же собственный мозг отравлял ей жизнь — не ядами, а, напротив, тем, что отказывался вырабатывать естественное противоядие, транквилизатор, без которого нормальная жизнь попросту невозможна. Это был жестокий и страшный недуг. Те лекарства, которые Джеймс прописывал Анне, должны были, конечно, со временем исправить нарушение мозговой деятельности. Но только со временем, и чтобы выиграть это время, схватка предстояла не на жизнь, а на смерть.
Спускаясь по старой, скрипучей лестнице, Анна свернула не там и случайно оказалась в баре, залитом ярким неоновым светом. Лампы отражались в натертом паркетном полу, не застланном коврами, и в сверкавшей зеркальной стойке, где виднелись ряды бутылок. Посреди бара за игорным столом двое молодых мужчин в шортах играли в какую-то явно увлекательную и сложную игру, а все остальные посетители, выстроившись у стойки бара и облокотясь на нее или сидя к ней спиной на табуретах, следили за игрой. Большинство зрителей тоже были в шортах. До Анны долетали непонятные восклицания, явно имевшие целью подбодрить, игроков, и громкий смех. Бородатый мужчина, сидевший лицом к Анне, которая так и замерла в дверях, вглядываясь в лица мужчин у стойки, окутанных пеленой табачного дыма, подтянул отвисший животик и выпятил грудь. Потом поднялся, оперся загорелым коленом о край стола и перестал играть, с открытым ртом уставившись на девушку. Второй игрок, сидевший к ней спиной, так что виден был хвост вылезшей из шортов рубашки, тоже обернулся.
Анна была в светло-зеленой хлопчатобумажной блузке-безрукавке, в юбке из той же материи и кожаных сандалиях; никаких украшений — ни сережек, ни кольца, ни даже часов на руке — и ни малейших следов косметики. Кожа на руках и ногах девушки была гладкой, загорелой, хотя лицо казалось болезненным, чуть желтоватым, под глазами залегли темные круги. Зато волосы, густые, прямые, черные, красиво блестели.
В баре воцарилось молчание, слышно было лишь шуршание вентилятора под потолком да позвякиванье стаканов в раковине за стойкой. Вдруг в дверях появился управляющий гостиницей, и Анна, мгновенно почувствовав спиной его присутствие, повернулась к нему и, точно во сне, послушно пошла за ним к выходу, мимо дежурного, в небольшую, темноватую гостиную. За их спинами снова послышались, ставшие странно громкими, даже пронзительными, голоса и смех.
В гостиной она обнаружила только отца и сына Уиндемов; оба они встали ей навстречу. Лица обоих были покрыты здоровым загаром, казавшимся розоватым в свете лампы с розовым абажуром, стоявшей в углу; Анна разглядела еще мягкие коричневые кресла, три черных чайных столика и небольшую, ярко освещенную стойку, а возле нее — несколько черных табуретов. И заказала бокал вина.
Управляющий сновал туда-сюда, стараясь угодить им, и в конце концов даже принес в гостиную меню. Он, похоже, сам был и владельцем этой гостиницы, но самое главное — большим любителем сельскохозяйственных растений: то ли профессионалом-ботаником на пенсии, то ли просто просвещенным дилетантом. Особенно он интересовался различными заболеваниями культурных растений и сообщил, что безумно разочарован равнодушием местных фермеров к его научным изысканиям. Джеймс всегда проявлял интерес к различным типам людей, причем не только с профессиональной точки зрения, и люди с удовольствием изливали на него целые потоки собственных проблем. И правда, легко было поддаться почти гипнотическому очарованию его внимательных, поразительно синих глаз.
По приглашению Джеймса управляющий подсел к ним, пока они обедали. Это был маленький, темноволосый, энергичный мужчина, еще не старый. Он ревниво следил, с аппетитом ли они едят приготовленный им собственноручно фирменный бифштекс с грибами и помидорами, и частенько поглядывал на Анну, сперва даже пытаясь о чем-то с ней заговорить. Однако Джеймс умело направил разговор в нужное русло, и от Анны требовалось лишь улыбаться порой да кивать.
Ела девушка очень мало. Иногда она поднимала глаза на ботаника, ставшего владельцем гостиницы, но глаза ее ровным счетом ничего не выражали, из-за чего тому явно становилось не по себе, и в конце концов он куда-то удалился, извинившись, и более не показывался, пока они пили специально для Джеймса разысканное каберне.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ
Далеко на севере, где красные барханы Калахари затихли под лиловым пологом ночи, под яркими звездами, похожими на кошачьи глаза, Пятница вступил в жестокий поединок, намереваясь во что бы то ни стало отстоять свой ужин, и совсем позабыл на время и о доме, и об Анне, которая вообще запретила себе думать о любимом коте.
Сознательно, с безжалостной решимостью она пыталась избавить себя от всех раздражителей, которые способны были пробудить в ней беспокойство, — раздражителей как вымышленных, так и реальных, однако чудовищно преувеличенных ее больным воображением. Она уже потеряла таким образом Грега, возненавидела свой прежний мир и утратила всякую надежду отыскать Пятницу.
А Пятница, припав передними лапами к земле и высоко подняв заднюю часть туловища, злобно прижал уши и громко ворчал. Его соперником, претендующим на то, что осталось от короткоухой песчанки, ставшей добычей предыдущего охотника, был небольшой дикий пятнистый кот, сидевший от него метрах в трех. Пятнистый был раза в четыре легче шестикилограммового Пятницы, так что Пятница бесстрашно бросил ему вызов.
Ни тот ни другой никогда не встречались друг с другом: в родной маленькому коту пустыне Калахари не было домашних кошек, а в южной части Капской провинции, где жил Пятница, не водились дикие коты; однако оба сразу же признали по запаху, голосу и внешности, что являются родственниками, и реагировали соответственно. Маленький пятнистый кот — самый маленький из африканских диких кошек, редко встречающихся в Калахари, — явно не страдал от недостатка свирепости. Несмотря на малый рост, он не слишком отличался от Пятницы даже по повадкам, но скалил зубы и плевался с такой взрывоопасной злобой, что Пятница заколебался. Большие округлые уши дикого кота были, как и у Пятницы, прижаты к голове, и даже рисунок на шкуре был у них очень похож, только у Пятницы черными были полоски, а у дикого кота — пятнышки, которые на хвосте и на лапах почти сливались, образуя яркие полосы. Основным фоном им служила золотисто-рыжая шерсть, и только на груди было белое пятно да на морде, вокруг глаз, два белых круга. Глаза дикого кота были золотисто-янтарными, и он яростно сверкал ими в сторону Пятницы.
Пятница перенес тяжесть тела на задние лапы и разгневанно дернул хвостом; дикому пришлось уступить. Раны от кошачьих когтей — даже у победителя — слишком высокая цена за какую-то полосатую мышь или даже за песчанку, так что дикий кот попятился и исчез в траве, а Пятница принялся поедать свой ужин, довольно урча.
Пятнистый кот тоже отлично сумел приспособиться к суровым условиям пустыни: ему почти не требовалась вода, а необходимое количество жидкости он получал, поедая добычу.
Будучи по природе бродягой, он искал и находил убежище в норах других животных. Он занимал вполне определенное место в классификации кошачьих — после льва, леопарда, гепарда, каракала и большого дикого кота.
С точки зрения мыши-полевки, вряд ли можно было воспринимать как нечто живое, например, взрослых львов, разве что живой казалась тяжелая мягкая лапа, вдруг опускавшаяся откуда-то с небес и способная в мгновение ока превратить любого мелкого зверька в пыль; однако эти лапы, вполне возможно, существовали совершенно самостоятельно и не имели ни малейшего отношения к тем теплым огромным холмам, которыми казались мышам спящие львы. Самыми могущественными наземными хищниками, по мнению мышей, являлись дикие коты, и мыши их очень боялись. Глаза котов горели ярким огнем; они замечали малейшее движение, на большом расстоянии слышали слабейший треск или писк.
Их глазищи, огромные, как луна в небе, светились между двумя бугорками вечно шевелившихся чутких ушей — именно это обычно запоминала мышь перед тем, как острые когти и зубы обрушившегося на нее кота отнимали жизнь.
Если бы на месте мыши был человек, то таким же страшным ему должен был бы представляться, скажем, саблезубый тигр, причем несколько более крупный, чем известные науке особи, — высотой минимум с дерево и с глазищами величиной с человеческую голову, а любой шорох он должен был бы слышать на расстоянии по крайней мере футбольного поля.
Покинув кемпинг на реке Носсоб, Пятница прошел уже более ста семидесяти километров и теперь с высоких холмов, окаймлявших русло реки, мог видеть огни кемпинга близ Тви-Рифирен на самой южной границе Национального парка Калахари.
Всю эту неделю он передвигался только по ночам, а днем спал на берегу высохшей реки всегда поблизости от деревьев, что давало возможность избежать нападения бурых и пятнистых гиен, шакалов, гепардов, а дважды даже львов. Один раз, правда, он спасся от леопарда, нырнув в заячью нору.
Земляные норы, где он частенько отсыпался днем, и деревья он примечал всегда. В тот раз леопард загнал его на колючую акацию, и в конце концов Пятница еле умостился на тонкой веточке, куда леопард, будучи слишком тяжелым, добраться не мог, а оттуда спрыгнул в нескольких метрах от заячьей норы. И чудом успел спастись — песок так и летел во все стороны, когда леопард пытался мощными лапами разрыть нору и все-таки настигнуть ускользнувшую добычу.
Среди многих странных свойств кошек есть одно даже не странное, а волшебное свойство. Существует множество свидетельств необычайной способности этих животных находить путь домой практически из любого места земного шара. Не раз ученые, желая получить конкретные тому подтверждения, ставили различные опыты, и результаты всегда оказывались просто поразительными.
Причем проблема особого отношения кошек к своему дому становилась еще более запутанной и сложной, ибо эти зверьки умудрялись определить не только местонахождение географических пунктов, но и людей, с которыми некогда были как-то связаны, и даже отдельных предметов, к которым питали особое пристрастие, причем все это могло находиться очень далеко от мест обитания кошки или ее родного дома, где кошка никогда не была, за сотни и даже за тысячи километров от знакомых мест, — согласитесь, здесь требуется нечто большее, чем просто острый нюх или ощущение чужого биополя, что уже отчасти относится к явлениям паранормальным. Способность к предчувствиям и телепатии у животных, особенно у кошек, — явление весьма часто наблюдаемое и не раз отмеченное в письменных источниках, не говоря уже о не слишком достоверных историях о том, как крысы покидают тонущие корабли, и о странностях поведения различных животных перед тем или иным стихийным бедствием. И кошки более других млекопитающих склонны проявлять все перечисленные качества, что пробуждает у людей самые различные сильные чувства — от любви до отвращения, — однако, независимо от этого, не восхищаться способностями этих зверьков невозможно.
Выявив у кошек особую чувствительность, один ученый сумел достаточно убедительно доказать, что они, испытывая трогательную привязанность к определенному человеку, способны на невероятные подвиги в плане розыска объекта своей любви, причем выслеживание его кошка ведет на основании особых психических или нейросигналов, словно ощущая некую ауру. Чтобы дать этому феномену название, ученый выдумал несколько новых слов с приставкой «пси» и назвал подобное поведение кошек «пси-выслеживанием».
С каждым днем Пятница все более отчетливо осознавал, что движется по направлению к Анне, но поскольку время как бы не существовало для него (в рамках человеческих представлений), то не слишком спешил, считая, что впереди у него целая вечность. Отсрочки для него значения не имели — в его миропорядке Анна существовала всегда и там, где он ее непременно найдет. Однако же его «пси-видение» — вот вам, если угодно, и еще новый термин! — значительно усилилось, и его все больше тянуло к тому кемпингу, который он видел вдали. Возможно, именно из-за этого он в какой-то момент и потерял бдительность.
Стайка куропаток с реки Оранжевой явилась к водопою из поросших травой красных барханов, где водились стинбоки, и пролетела прямо над головой у Пятницы. Слышно было, как куропатки перекликаются в холодном предрассветном полумраке. Они полукругом уселись на песок совсем недалеко от Пятницы, и он начал подкрадываться к ним — от колючего кустарника по высокой траве к корням большого дерева. А в небесах все ярче разгоралась заря.
Это было опасное время суток: дневные и ночные охотники как бы пересекались, и одни использовали последнюю возможность поймать дичь, другие, голодные, еще только начинали охотиться, так что за полетом куропаток следила не одна пара глаз.
Каракал, рыже-коричневый, с пушистыми черными ушами, точно корона стоявшими надо лбом, тоже весьма заинтересовался куропатками и подобрался поближе, готовясь к последнему прыжку. Каракал рассчитал точно. Птицы успели взлететь, судорожно хлопая крыльями, но кот, вылетев на них, точно камень из пращи, одну все же схватил всего в двадцати сантиметрах от земли, а вторую поймал уже в воздухе, подпрыгнув почти на два метра. Однако Пятница не сводил глаз с трех оставшихся в живых куропаток, с шумом пролетевших прямо над ним, и тоже прыгнул, хотя достать птиц уже не мог, лишь несколько перьев застряли в когтях. А едва приземлившись, он столкнулся с каракалом, державшим в зубах куропатку. Каракал был значительно крупнее и тяжелее, желтоглазый, возбужденный охотой, и он тут же молнией бросился на Пятницу.
С этим врагом Пятница уже был знаком. Каракалы встречались ему в прежней жизни среди заросших эрикой дюн его родного морского побережья. Но лишь однажды этот зверь по-настоящему угрожал ему; это случилось на берегу речной протоки, где Пятница любил охотиться. С тех пор запах каракала он запомнил очень хорошо и всегда выбирал такой путь, чтобы не встречаться с ним более. Тогда, как и в этот раз, каракал застиг его врасплох, причем среди бела дня. В тот день капский гризбок стрелой пролетел мимо Пятницы и скрылся в кустах за шоссе, с металлическим лязгом поднырнув под ограду из колючей проволоки и оставив на ней клочки рыжей шерсти. Каракалы, охотившиеся на гризбока — а их было двое, — вышли из зарослей с разных сторон и остановились, вытягивая шеи и подрагивая усами; пасти у них были открыты, как у собак; они с изумлением искали свою исчезнувшую добычу, смущенные близостью шоссе, так что Пятница бросился именно туда; проезжавшая мимо машина спугнула крупных рыжих кошек, и они скрылись в лесу.
На этот раз Пятница удрать сразу не успел и почувствовал, как когти каракала вонзаются ему в правый бок. Он зашипел, распушил шерсть и превратился в серый шар, что несколько смутило его противника и заставило секунду помедлить. Этой секунды для Пятницы оказалось достаточно. Он взлетел на ближайшее дерево, стараясь залезть как можно выше и судорожно цепляясь лапами, а когда наконец поглядел вниз, то увидел каракала, который сидел на земле и смотрел на него с разинутой пастью и тяжело дышал. Пятница еще долго торчал на верхушке дерева, пока каракал не сходил за убитой им куропаткой и не принялся пожирать ее под колючей акацией с черной корой.
Застыв на верхней ветке, Пятница не знал, что за ним внимательно наблюдает степной орел — огромная бурая куча перьев на соседнем дереве, росшем чуть дальше у реки, — а когда заметил орла, то осторожно спустился на нижние ветви, где листва была гуще, и стал вылизывать раненый бок.
Анна лежала на постели в Тви-Рифирен, сбросив сандалии и расстегнув блузку. Широко открытыми глазами она смотрела на балки под потолком. Она очень плохо спала ночью и теперь, после позднего завтрака, отдыхала по предложению Джеймса.
Часом позже он постучался к ней, приоткрыл дверь и возник в полосе белого света, лившегося снаружи.
— Анна, ты спишь?
Она шевельнулась.
— Хочешь поехать покататься? Вверх по течению Носсоб или чуть дальше, если хватит времени? Но если не хочешь, то и не стоит.
Долгое время ответа не было, но он ждал, застыв в дверях.
Потом зашел в комнату, присел на краешек кровати и положил руку Анне на лоб. Помолчал и сказал:
— Нет. Пожалуй, тебе лучше остаться. Становится жарковато. Лучше поспи. Сейчас для тебя это важнее.
Он нежно погладил ее по руке и тихонько сжал пальцы.
Она еле ощутимо ответила на это пожатие, и глаза ее тут же наполнились слезами; он это почувствовал, хотя слез видеть в полумраке не мог. Потом дверь за ним закрылась, и она снова осталась одна, чихнула и потянулась за бумажной салфеткой. Ей было приятно, что Джеймс зашел к ней; приятно было и это пожатие. Она полежала еще немного, поднялась с постели, налила в стакан воды и приняла одну из таблеток, которые он ей прописал.
Рана на боку Пятницы болела, но кровь больше не шла.
Пить ему не хотелось; он напился у искусственного водоема еще ночью, после того как съел целых две полевки, однако ему совершенно необходимо было отыскать какое-то убежище и отдохнуть. Орел по-прежнему сидел на верхушке дерева менее чем в ста метрах от него, когда Пятница спустился на землю и осторожно заглянул в чью-то нору. Нора когда-то принадлежала земляному волку, насколько Пятница смог определить по запаху — а он тщательнейшим образом обнюхал все вокруг, — и кот, довольный, нырнул туда, ощущая страшную усталость. Инстинктивно он понимал, что ему потребуется время, чтобы зажила рана. И был готов ждать.
Джеймс вышел на улицу к отцу, который сидел неподалеку и изучал в бинокль кустарник напротив. Не отрываясь от бинокля, старик спросил:
— Поедет?
— Нет. — Джеймс присел рядом. — Ей, пожалуй, действительно лучше остаться и полежать.
Билл Уиндем опустил бинокль и вытянул ноги, доставая из кармана брюк носовой платок, которым тщательно протер глаза.
— Слепит здорово, — пояснил он и тут же принялся что-то снова рассматривать в бинокль. — Значит, не хочется ей ехать? — Они помолчали. Старик не сводил глаз с куста. — Ага, вот и он! Смотри, какой сорокопут с алой грудкой! Красавец! Очень хорош на фоне песка и этой тусклой зелени.
Джеймс взял у него бинокль, но сорокопут тут же взлетел, лишь в воздухе мелькнуло что-то ярко-алое, в реальность которого действительно трудно было поверить среди столь бедной растительности.
— Черт возьми, улетел! — пробормотал он.
— По-моему, тебе не хочется оставлять ее здесь одну, — сказал старший Уиндем. — Знаешь, ты поезжай, а я останусь и присмотрю за ней. А когда вернешься, мы, может, еще разок прокатимся; кстати, и попрохладнее будет.
— Не то чтобы я рассчитывал все-таки отыскать этого кота… — задумчиво проговорил Джеймс, — но, раз уж мы здесь, нужно, по крайней мере, попытаться.
— Разумеется. Так что поезжай. Возьми с собой сумку-холодильник и пива. Да бараньи ребрышки захвати, если хочешь.
Ты же наверняка будешь привал делать. — Он потрепал сына по колену. — Она ведь паршиво себя чувствует, верно?
Джеймс кивнул:
— Хуже некуда. Хочу предложить Мэри отправить девочку со мной — в нашу клинику. По крайней мере, там мы сможем обеспечить ей постоянную медицинскую помощь.
Уиндем-старший медленно покивал:
— Да-да, ты прав. А ведь она ни разу даже не упомянула о своем коте, ты заметил?
— Ни разу; она пытается выбросить это из головы, спастись от излишней тревоги, что при ее недуге совершенно нормально.
Старик глубоко вздохнул:
— Что за чудесный сухой воздух — особенно после наших зимних дождей!
Когда Джеймс снова спустился с крыльца, то в руках тащил голубую сумку-холодильник, а на груди у него висел бинокль.
Отец, казалось, задремал, однако тут же открыл глаза и улыбнулся Джеймсу.
— Должно быть, вздремнул немножко, — сказал он, потягиваясь. — А знаешь, ты ведь, пожалуй, вполне можешь и отыскать этого кота. Конечно, плохо, что егерь ни разу его не видел, но с тех пор он мог и случайно забежать в тот кемпинг — поохотиться или воды напиться.
— Возможно, — согласился Джеймс, — но я не очень-то на это рассчитываю. Ты у меня всегда был оптимистом, папа. — Он с улыбкой погладил отца по плечу и глянул на часы. — Посмотришь потом, как там Анна?
Отец кивнул:
— Не беспокойся. Поезжай и немного развлекись. Надеюсь, тебе удастся увидеть львов.
Главного егеря Носсоба поймать было довольно, трудно, однако Джеймс все-таки отыскал его и предложил выпить пива.
Егерь сообщил, что помнит семью на красной машине с прицепом, однако в самом кемпинге, насколько ему известно, нет и никогда не было ни одного кота. Джеймс не стал мучить его расспросами, и в конце концов егерь даже провел его по всему лагерю, спрашивая про ручного пестрого кота у каждого встречного. Джеймс явно ему понравился, и он, видимо, хотел как-то извиниться за свою первоначальную недоброжелательность, когда сказал:
— Да, люблю я эти места. У пустыни ведь тоже есть свое очарование. Но вот вся эта публика… — Он только головой покачал и усмехнулся. — Вы не поверите, что могут вытворять люди! Хотя с пропавшим котом я дело имею впервые.
Они вернулись на прежнее место и уселись за стол для пикников. После того как Джеймс выказал явный интерес к жизни и карьере егеря, выяснилось, что тот написал целое исследование об африканском диком коте и прежде работал совсем в другом месте. Он питал слабость ко всем представителям семейства кошачьих и все пытался прикинуть, сколь велики шансы обычного домашнего кота на выживание, если тот окажется в центре огромной территории Национального парка.
— Скорее всего, он будет слоняться где-нибудь поблизости, причем так долго, как сможет добывать себе пропитание; конечно, известны случаи — и немало, — когда кошки находили дорогу домой, но это, что называется, совсем другая история. Скажем, у черно-белой кошки, окажись она вдали от человеческого жилья, шансов выжить почти нет, по-моему.
Слишком легкая добыча — окрас выдает. Всюду будет видна — даже орлы небось заинтересуются. — Егерь отхлебнул пива. — А у пестрой кошки, похожей на дикого кота, шансов, конечно, значительно больше. Мелкие представители кошачьих вообще не слишком заботились о том, чтобы переменить свой облик, даже более пяти тысяч лет прожив бок о бок с людьми. Люди, разумеется, для них — просто удобство; в их домах хорошо отсыпаться днем, а ночью можно вернуться к прежнему, естественному образу жизни.
Егерь оказался примерно ровесником Джеймса и явно наслаждался его обществом. Глядя, как Джеймс жарит на костре бараньи ребрышки, он спросил:
— Значит, вы медик?
— Да, психиатр, — кивнул Джеймс.
— Черт возьми, ну и работка, должно быть! После такой, верно, то и дело передохнуть тянет?
— Это уж точно.
Егерь скрестил длинные загорелые ноги:
— Так вы специально проехали столько километров, чтобы кота отыскать?
— Да нет, не совсем. Просто немного передохнуть захотелось.
— Это ваш кот?
— Нет, одной девушки. Мы надеялись, может, где-нибудь здесь его встретим.
— А сама-то она где?
— Осталась в Тви-Рифирен. — Оба умолкли, поскольку один из кусочков мяса вспыхнул, когда Джеймс сбрызнул жаркое пивом из бутылки. Предваряя вопрос егеря, он пояснил: — Она нездорова.
— Ваша пациентка?
— Вроде того.
— Понятно. — Егерь, кажется, полностью удовлетворил свое любопытство и распрямил ноги. — Что ж, можете передать ей, что если этот кот действительно здесь, то при достаточном везении у него есть все шансы выжить. В этих местах полно диких котов. Так что ему нужно всего лишь поскорее приспособиться к тем условиям, в которых жили его предки. Хотя отыскать его будет трудновато… Тут я, пожалуй, ничего посоветовать не могу.
К вечеру Уиндемы вместе с Анной поехали немного покататься, но, несмотря на все ее мужество, она ничего не могла с собой поделать и оставалась вялой и равнодушной.
Миновав один из искусственных водоемов, они проехали всего в двухстах метрах от того места, где отдыхал Пятница.
Анна уснула, когда они въехали в лагерь; проспала она и все то время, пока Уиндемы готовили ужин — жарили на костре колбасу и оставшиеся бараньи ребрышки. К ночи стало весьма прохладно, и Джеймс перед ужином заглянул в комнату Анны — проверить, как она там. Позже он позвонил Мэри:
— Мэри, здравствуйте.
— Ох, это вы, Джеймс! У вас все в порядке?
— Да, все хорошо.
— Пятницу не нашли?
— Нет. Хотя здешний егерь очень помог нам. Анна в целом неплохо. В настоящий момент она спит.
Некоторое время оба молчали. Потом Джеймс спокойно предложил:
— По-моему, ее следует отвезти в Монтагью. И домой лучше не заезжать. Так будет проще. Отсюда завтра мы могли бы поехать прямо в клинику — здесь есть поворот, через двадцать километров после реки Тауз.
Мэри долго молчала.
— Вы считаете, так будет лучше?
— Да, считаю. Она будет под постоянным наблюдением врачей, да и сам я глаз с нее не спущу.
Он слышал, как звякнуло кольцо у Мэри на пальце, когда она перекладывала трубку из одной руки в другую.
— Я просто искала, чем записать, — сказала она, точно оправдываясь. — Я смогу позвонить ей? У нее будет в палате телефон?
— Да, телефон ей поставят; а я свяжусь с вами, как только мы туда доберемся. Телефонный номер клиники 2419, код 0234. Между прочим, мне очень хотелось бы помочь ей… и вам. И себе самому, если уж честно. Так что по крайней мере платить вам будет не нужно.
— Это очень мило с вашей стороны, Джеймс. Ну, там посмотрим. Спасибо, что позвонили, мне как-то сразу полегчало, даже дышать стало легче. Я ведь сразу начала беспокоиться, стоило вам уехать.
— Уверяю вас, Мэри, не стоит так волноваться. Это совершенно классический случай, и она непременно поправится!
Стопроцентная гарантия! Просто нужно время.
— А как же Билл доберется назад? Ах да, он ведь может прилететь на самолете. Передайте ему, пожалуйста, что я непременно приеду в Джордж и встречу его в аэропорту, пусть только заранее предупредит. Могу я послать Анне одежду и кое-что из вещей?
— Ну разумеется! Я попробую выяснить, что ей нужно, но она конечно же захочет сама с вами поговорить. Когда устроится.
— Да, конечно… Львов-то вы видели?
— О да! Огромный прайд — целых восемь львов, которые загнали в угол каракала и так уставились на него — можно было подумать, их разбирало любопытство, а не голод. А каракал прижался спиной, шею вытянул, словно пытался всех разом рассмотреть. Хотя поза у него была совершенно смиренная — наверно, до смерти испугался, бедняга.
— Господи! А потом?
— А потом ничего. Нам даже как-то легче стало, когда львам надоело на него смотреть и двое просто взяли и отошли в сторонку, неторопливо так, ну и старина каракал тут же этой брешью в кольце врагов воспользовался и на дерево взлетел.
— Повезло вам!
— Еще бы! Даже тамошний егерь заинтересовался.
Снова возникла пауза.
— Значит, вы приедете в Монтагью — во вторник к вечеру?
— Да, и сразу вам позвоню.
— Хорошо, буду ждать вашего звонка.
— Вот и договорились. И не волнуйтесь, пожалуйста.
— Постараюсь. Спасибо, Джеймс. А вы расскажете Анне, куда ее везете, перед отъездом из Тви-Рифирен?
— Ну разумеется. По-моему, она возражать не станет.
Мэри только вздохнула:
— Передайте ей, что я ее люблю.
— Обязательно передам.
— Как это все-таки мило с вашей стороны, Джеймс! Да, мне, безусловно, стало легче! До свидания.
— До свидания, Мэри.
Пятница, лежа в своем убежище, чувствовал все более явственно, что конец его странствий близок. Его точно магнитом тянуло в тот лагерь, который виднелся вдали и казался ему конечной точкой этого бесконечного путешествия. Однако инстинктивная осторожность не давала ему выйти в путь, пока не зажила отлично вылизанная и ухоженная рана. Он три дня не вылезал из норы, дремал, свернувшись в клубок, и даже пить не ходил.
Один раз к нему заглянули было две капские лисицы и два раза — генетты, однако он грозно зарычал, и лезть дальше никто не решился; зверьки почти вежливо удалились, шурша травой, серебрившейся в лунном свете. Вскоре беспокойство вновь овладело им, и он решил походить, пробуя, зажила ли рана.
Вокруг норы росли сплошные колючие кустарники, так что можно было не только тренировать лапу, но и отлично кормиться. Как показали два последующих дня, охотиться здесь даже днем было совершенно безопасно. Сквозь спутанные ветки и листву Пятница рассматривал таивший неведомые опасности светлый мир вокруг, и вскоре его терпение принесло свои плоды. Сперва, скользнув по прохладному песку, мимо него пробежала ящерица, и потребовался всего один удар, чтобы убить ее; потом проползла неядовитая коричневато-зеленая с желтыми полосками змея, для поимки которой потребовался довольно резвый прыжок и быстрый сильный укус в спину у самой ее головы.
Третьей его жертвой стал сорокопут с алой грудкой, тоже обманутый камуфляжным окрасом Пятницы, который был совершенно неразличим в паутине черных сухих ветвей, пронизанных пятнышками солнечного света.
Он съел всю добычу сразу, разделав ее с хирургической тщательностью и оставив лишь головы, лапки с когтями и перья, а еще на земле остались комки окровавленной пыли, пока кровь не впиталась в песок и не превратилась в темно-коричневые пятна, которыми всегда украшен песок в пустыне после ночной охоты сильных и крупных кошек, устраивающих шумные кровавые пирушки под покровом темноты. Наевшись, Пятница отправился на водопой.
На рассвете он подлез под изгородь кемпинга в Тви-Рифирен, с северной его стороны, стараясь держаться подальше от проезжей дороги, вдоль которой тянулась лента опасного львиного запаха. Он сворачивал с одной тропки, вьющейся среди дынных деревьев по мягкому песку барханов, на другую, и вскоре ветерок донес до него запах жареного мяса и человеческого жилья. Лагерь был совсем близко, и Пятница даже замурлыкал от удовольствия, уловив среди всех этих ароматов слабый запах Анны.
Он почти не замечал перепадов в дневной и ночной температуре, хотя в пустыне перепады эти были весьма существенны. Свернувшись под кустом, он наблюдал за дверью домика, ожидая, когда она отворится.
Воздух уже не был таким ледяным, едва забелел казавшийся ночью серым песок, защебетали малиновки, и лагерь медленно стал пробуждаться. Детей в том домике, где, по мнению Пятницы, находилась Анна, не было, и он подождал, пока оттуда вышли двое взрослых и направились к административному зданию, проскользнул в открытую дверь и прыгнул на постель, где действительно раньше спала Анна. Он обнюхал постель от изголовья до изножья, шевеля носом, слегка озадаченный, потом прошелся по всем комнатам и наконец совсем убедился, что ее больше здесь нет.
Пятница обошел весь кемпинг и его окрестности, надолго задержавшись у помойного бака, где отыскал кусочек мяса и съел его, наклонив голову и ворча.
Закусив, он напился из неглубокой лужицы возле подтекавшего крана, а когда солнце накалило песок, улегся спать в тени, среди пучков высокой травы на вершине красного бархана, откуда хорошо был виден весь лагерь. Ожидая наступления ночи — своего излюбленного времени суток, — Пятница погрузился в мир полусна-полубодрствования и порой непроизвольно подрагивал лапами и всем телом. Он снова как бы очутился в родном и благословенном краю, среди знакомых цветущих кустарников, где вдали негромко рокотало море и, самое главное, рядом была Анна. Молекулы ее запаха все еще витали в воздухе над кемпингом и прилетали с тем ветерком, который дул с юга, куда она теперь уехала и куда Пятница должен был отправиться, как только наступит ночь.
Ближе к полуночи он проскользнул в южные ворота и при свете полной луны покинул уснувший кемпинг.
С тех пор как он отправился в это путешествие, его ни разу не встречал ни один человек — отчасти случайно, а отчасти потому, что он старательно избегал контактов с людьми, ибо инстинкты диких предков все сильнее повелевали им, не позволяя хоть в малейшей степени отождествлять себя с людьми. Древние инстинкты помогали Пятнице, оттачивая его ум и готовя к тому, что ждало впереди.
А впереди его ждало неведомое, невообразимое, и все же пройденная в пустыне инициация сыграла свою положительную роль. У Пятницы была лишь одна цель: найти Анну. Он не ощущал быстротечного времени, не ведал страха. Он спешил на юг вдоль дороги, серебрившейся среди песков в лунном свете, и песок под его лапами был еще теплым, а на шоссе не видно было ни людей, ни машин и, что еще важнее, не чувствовалось запаха львов.
Калахари на языке бушменов означает «великая жажда» или «великая сушь». Бушмены — единственный народ, который когда-либо считал эту пустыню своим домом, а для белых людей эта страна, раскинувшаяся далеко к югу, по-прежнему оставалась краем диким, непереносимо жарким, безводным, и они решались селиться лишь в тех местах, где всегда можно было добыть из-под земли воду. Сухие русла рек протянулись, пересекаясь, на запад и на юг; вдоль них росли цепочки деревьев, кустарники, и песок казался более темным, точно пропитанным водой, и здесь действительно когда-то текла вода. В таких местах Пятница чувствовал себя почти в безопасности.
Скопления колючих акаций и верблюжьей колючки не только предоставляли ему убежище от врагов, но и отбрасывали в лунном свете пятнистые тени, отлично скрывавшие его во время ночных эскапад. А самое замечательное — обилие на берегах сухих рек различных семян, а стало быть, и грызунов — мышей и короткоухих песчанок. Кроме того, здесь было много помета животных, как домашних, так и диких, также искавших спасения от жары в тени деревьев, и кишели различные насекомые, за которыми, естественно, охотились ящерицы и птицы.
Отсыпаясь днем и приберегая силы для решительного ночного маршброска по холодку, под яркими звездами, Пятница сводил потери жидкости до минимума, и ему, как и прочим здешним хищникам, в общем хватало той влаги, что содержалась в пойманной дичи.
До первого центра цивилизации, не представлявшей для Пятницы ни малейшего интереса, отсюда было более двухсот пятидесяти километров. Это был первый крупный город на юге Калахари под названием Упингтон, способный пробудить интерес только тем, что находился на берегу реки Оранжевой, по-настоящему крупной реки с неисчерпаемыми запасами воды, а потому здесь процветало сельскохозяйственное производство. А там, где выращивают и перерабатывают злаки, где производят и хранят различные продукты, всегда во множестве водятся крысы и мыши. Но пока что Пятнице до города было не менее двух недель пути. И когда полная луна превратилась в тонюсенький серебряный серпик, Пятница наконец нырнул в сушильню для изюма на одной из ферм, расположенных на реке Оранжевой.
Один из уроков, преподанных ему Калахари, заключался в том, что всякую ветряную мельницу он ассоциировал с водой. Эти высокие неподвижные штуковины, которые не были деревьями, хотя все же порой шевелились, скрипели и стонали, всегда указывали на то, что где-то возле них есть вода. Он мог разглядеть их издалека и услышать их скрип на ветру, так что они стали для него своеобразными путевыми вехами.
В его волшебном ночном мире всегда случалось что-нибудь неожиданное; и когда его глаза ярко вспыхивали, отражая свет и определяя местонахождение мыши, а лапы напружинивались так, что сами собой высовывались когти, неожиданный для жертвы и единственный для него самого прыжок был уже как бы просто необязательным ритуалом вроде пения птиц на рассвете, когда мыши как раз ищут спасения в своих норках. Птицы тоже часто превращались в горячие, покрытые перьями комочки, вздрагивая перед смертью в пасти кота.
Но порой страх преследовал и его. Он спал в пустующих норах и логовах других зверей, когда мог их отыскать, но всегда старался устроиться на ночлег поближе к дереву. И хотя никаких крупных кошек в этих местах вроде бы не было, все-таки сон его всегда был легок и тонкие волоски на кончиках ушей всегда стояли торчком, чтобы даже с закрытыми глазами он мог слышать, что творится вокруг. И даже во сне различал он запахи, приносимые ветерком.
Шакалы с должным уважением относились к шестикилограммовому коту с острыми когтями, чрезвычайно гибкому и сильному, однако, если они проявляли чрезмерное любопытство — а это часто случалось, когда днем они охотились парами, — Пятница всегда забирался на дерево и шипел на них оттуда, пока они не убирались прочь, свесив языки до земли, словно были очень довольны своей игрой с ним.
Они, впрочем, тоже были приспособленцами, как и все хищники, и знали, что если где-то есть кошка, то там могут быть и котята, которых ничего не стоит украсть.
Ушастые лисицы и генетты сами избегали Пятницы, однако он всегда испытывал тревогу, лишь только почуяв каракала.
Он стал хорошо разбираться в звуках машин — они появлялись после нарастающего рева и ярких вспышек света, проносились мимо, мигая огнями, и исчезали в ночи; он и не догадывался, что машины на шоссе представляют для него смертельную опасность, как не знали этого и многие другие животные, погибавшие под колесами.
Именно трупы зверьков на шоссе и привлекли Пятницу, когда он избрал южное направление для своих дальнейших поисков, а все реки с удобными берегами свернули на запад, к покрытым корками соли солончакам. Днем небольшие пыльные смерчи вились над блестевшими на солнце и слепившими глаза огромными пространствами засоленной почвы, совершенно лишенной растительности. Вдоль шоссе хотя бы иногда росли деревья, попадался кое-какой кустарник, а на асфальте Пятница находил трупы сбитых машинами животных. Все это привлекало сюда и других хищников: лисиц, хорьков, генетт, желтых мангуст — и множество птиц, которые зачастую сами становились жертвами мчавшихся по дороге машин, хотя движение здесь было не слишком оживленным.
Однажды, после того как мимо него промчалась машина — всего одна за всю вторую половину ночи, — Пятница обнаружил на шоссе смертельно раненного стинбока, у которого из головы текла кровь, собираясь в лужицу. Он долго лакал ее, когда вдруг появился соперник — барсук-медоед. Медоед был по крайней мере в два раза тяжелее Пятницы, который хорошо знал этих зверей по своей прошлой жизни на юге и понимал, что шутить с ними опасно; бесстрашный боец, медоед не уступал в схватке никому, так что Пятница поспешно ретировался и спрятался в тени на обочине дороги.
К ферме Пятница подошел по дну ирригационной канавы, где еще сохранились лужицы воды. Он миновал поле, засаженное люцерной, затем виноградник и персиковый сад. Теперь перед ним высился черный прямоугольник огромного амбара, закрывая собой полнеба.
Пятница один раз обошел вокруг амбара, отметив множество странных новых запахов, и вскоре почуял других домашних кошек, а также крыс, что побудило его вспрыгнуть на подоконник, а оттуда на верхний край пустующей цистерны для воды. Отсюда ему удалось заглянуть в разбитое окошко амбара, и густой, сложный аромат, исходивший оттуда, известил его, что внутри других котов нет. Зато он почуял запах молока и свежего крысиного помета, легко прыгнул в окно и спустился на пол по куче коробок, ящиков и мешков.
Уже через секунду, когда зрачки его полностью приспособились к слабому освещению — свет падал только из разбитого окошка и отдушин под крышей, — Пятница отыскал блюдечко с молоком. Молоко прокисло, но он вылакал все до последней капли. Амбар снаружи был заперт на замок; им временно не пользовались, однако Пятница этого не знал и продолжал обследовать территорию — груду ящиков и мешков, которая доставала местами до потолочных балок, покрытых паутиной. Он установил также, что здесь жила другая кошка, самка, однако куда-то ушла несколько дней назад, и крысы безбоязненно сновали повсюду.
Он как раз затаился возле крысиной дорожки, наставив уши и чуть пошевеливая хвостом, когда появился соперник — африканская гадюка, прервавшая зимнюю спячку, потому что в амбаре было относительно тепло. Гадюка уверенно проползла меж ящиками и исчезла в куче картонных коробок. На мордочке Пятницы появилось выражение крайней заинтересованности — он все время вертел головой, вытягивал шею, уши у него стояли торчком. Даже усы, казалось, распушились сильнее. Еще бы, отличный обед! За один раз, пожалуй, не съесть.
И он стал вынюхивать на пыльном полу след змеи.
На следующее утро, когда в окна амбара проник солнечный свет, он снова увидел гадюку. На сей раз опасная змея свернулась желто-черно-серым клубком возле крысиной дорожки, а Пятница наблюдал за ней со своего поста наверху. Он видел ее плоскую ромбовидную голову над кольцеобразным телом, и следил за тем, как по полу крадется солнечный луч.
Из груды ящиков появилась крупная крыса и замерла в тридцати сантиметрах от мелькнувшего в воздухе языка змеи.
Крыса пошевелила носом, даже усы задергались, и вдруг словно взвился солнечный луч — гадюка желтой молнией бросилась на свою жертву, разинув пасть. Она несколько мгновений сжимала крысу ядовитыми клыками, потом аккуратно убрала их в специальные мешочки в челюстях и вернулась к исходной позиции, наблюдая за крысой, бегавшей по кругу, который вскоре превратился в неровный эллипс, а затем в зигзаг; потом у крысы подкосились задние лапки, и она утратила способность двигаться. Крыса неподвижно лежала на брюхе, однако гадюка не спешила; она неторопливо распрямилась и стала пробовать языком воздух возле своей поверженной жертвы.
Когда язык коснулся крысиной головы, гадюка разинула пасть до отказа и стала заглатывать добычу, сильно работая челюстями и клыками, проталкивая крысу все глубже в глотку.
Сперва исчезла крысиная голова, потом передние лапки…
Больше ждать Пятница не мог — прыгнул, выпустив когти, и вцепился обеими передними лапами и зубами в спину гадюки возле самой головы, вгрызаясь все глубже, пока голова не отделилась от туловища.
Он перенес слабо вздрагивающее безголовое тело змеи — совершенно желтое снизу — на самый верх груды, состоявшей из пустых ящиков и мешков, и приступил к трапезе. А наевшись, выспался наконец всласть в одной из картонных коробок.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПОЕЗДКА В МОНТАГЬЮ
Мэри отправилась в Монтагью ранним утром во вторник.
В зеркальце заднего вида маячила все уменьшавшаяся фигурка Билла Уиндема, который махал Мэри рукой, стоя на дороге; она тоже помахала ему на прощанье, свернула за угол сарая и выехала на шоссе.
Миновав Албертинию, она ехала среди зеленеющих пшеничных полей, удаляясь от моря, и постепенно почувствовала себя бодрее, включила радио и даже стала подпевать тихонько.
Бесконечные поля тянулись с обеих сторон шоссе по пологим склонам холмов. Она приехала в Монтагью вовремя и успела, как было условлено, встретиться с Джеймсом, чтобы он показал ей дорогу к санаторию, находившемуся в предгорьях, километрах в десяти от города.
Мэри была потрясена пейзажем и самим особняком в георгианском стиле, рядом с которым были выстроены новенькие, соединенные крытым переходом домики, расположенные по периметру старого сада. Возле дубов, высившихся на дальнем краю лужайки, виднелась заросшая вьюнками беседка, и Мэри сразу узнала Анну в ее любимой широкополой соломенной шляпе. Сидя в пятнистой тени беседки, Анна читала книгу. Несколько мгновений они молча сжимали друг друга в объятиях, пока Джеймс, остановившись посреди лужайки на солнце, о чем-то беседовал с медсестрой в белом халате.
Когда он подошел к ним, вид у него был привычно приветливый и веселый — «врач у постели больного».
— Ну, — спросил он, — она отлично выглядит, не правда ли? Знаете, она здесь стала прямо-таки популярной личностью!
По-моему, мои здешние коллеги будут только рады, если она задержится в санатории: уж больно хорошо она действует на пациентов. — Он посмотрел на часы и встал: — Я просил принести мне в кабинет чай — еще нужно кое с кем поговорить; надеюсь, это не займет много времени. Вернусь сразу же, как только освобожусь.
Они долго смотрели ему вслед. Мэри что-то рассказывала — но не о доме. Анна же спросила только о любимой кобыле и ее жеребенке, больше ни о чем, но слушала мать довольно внимательно или делала вид, что рассказы Мэри ей интересны, и все время пыталась спрятать от нее свои трясущиеся руки, что, впрочем, ей плохо удавалось. К тому времени как вернулся Джеймс, Мэри уже немного освоилась и испытывала облегчение оттого, что они тогда приняли правильное решение.
— Возможно, процесс будет долгим, — сказал ей Джеймс на обратном пути, — но она уже поправляется. Она молодая, сильная, хотя это не так уж важно при подобных заболеваниях.
Самое главное — никаких стрессов, никакой спешки.
— Я понимаю. Эти лекарства… у нее от них голова немножко туманная, верно? — спросила Мэри. — Вы меня предупреждали… Но я все равно очень рада, действительно рада, Джеймс! И очень вам благодарна.
— Ну что ж, вы поступили тогда весьма мудро.
— На самом деле идея принадлежала вашему отцу, — возразила Мэри.
— Это все равно, — пожал он плечами, — вы ведь рассказали ему. А это нелегко было сделать.
На прощанье он сказал ей:
— Совершенно очевидно, что ей чрезвычайно полезно было увидеть именно вас; знаете, ей ведь далеко не всех хочется видеть. Приезжайте к ней в любое время, так часто, как захотите, — там нет специальных часов для посещения.
Теперь вы дорогу знаете?
Мэри кивнула:
— Мне очень понравилась ее комната… такой вид!.. Ей она тоже нравится. Я бы и сама не возражала немножко отдохнуть в таком месте. Может быть, примете к сведению?
Джеймс засмеялся:
— Такая энергичная, здоровая женщина, как вы? Да вас там заставят часами заниматься физкультурой на лужайке!
Расставшись с Мэри, он думал об Анне — искал и находил ее очевидное сходство с матерью: то, как она наклоняла голову, заинтересованно слушая кого-то, ямочку на щеке, тембр голоса…
Всю неделю Мэри ездила из санатория в Кейптаун и обратно, часто вместе с Анной, или сидела рядом с дочерью, когда та дремала в своем кресле на солнышке, или, если шел дождь, они проводили время в ее комнате, откуда открывался замечательный вид на горы. Разговаривать было необязательно. Когда Мэри пришло время уезжать, она снова забеспокоилась и вызвала Джеймса на разговор.
— По-моему, вам беспокоиться не о чем, — заявил он. — Ваше пребывание здесь явно пошло Анне на пользу, она просто не всегда отдает себе отчет в собственном поведении и в том, что происходит вокруг. Я хочу сказать, она даже вряд ли сразу поймет, что вы уехали. И когда поправится, тоже мало что будет помнить об этих днях.
Мэри удивленно приподняла бровь, и Джеймс улыбнулся:
— Я знаю, в это трудно поверить. Давайте договоримся так: ваше пребывание здесь для нее полезно, однако ваше отсутствие тоже никакого вреда ей не принесет. Хорошо? Ей теперь все здесь знакомо, и она чувствует себя в безопасности.
Но даже обыкновенное письмо может вызвать у нее сильнейший стресс. А ей сейчас нужна каждая капля жизненной силы, и она действительно пытается набраться сил — чтобы выжить.
Мэри кивнула:
— Хорошо. Я понимаю. Хотя это довольно трудно.
— Всегда тяжелее всего близким людям; нормальный мозг просто не в состоянии воспринять — и принять! — все это. К счастью, не в состоянии.
— Господи, когда же конец этому? — вырвалось у Мэри. — Простите, просто я хотела бы знать: сколько еще?
Джеймс покачал головой и сказал:
— Еще минимум месяц-два. А там посмотрим. Между прочим, я в конце следующего месяца беру на неделю отпуск. У меня есть один старый друг, бывший медик, теперь он стал фермером — знаете, у него одна из этих огромных овцеводческих ферм в Карру. После смерти отца он бросил службу и занялся семейным бизнесом, счастливчик! Он очень звал меня к себе, и я, возможно, поеду. Он холостяк, так что в доме полно места. Ферма действительно огромная — ну, вы знаете Карру — что-то тысяч двенадцать гектаров, в общем, совершенно астрономическое число. Вам бы там очень понравилось. Вы по-прежнему любите птиц?
Мэри кивнула. Некоторое время оба молчали.
— Мне кажется, — закончил свою мысль Джеймс, — что Анна к этому времени смогла бы поехать — с вами вместе, конечно, — на эту ферму. Для нее это, видимо, было бы очень полезно.
Мэри помолчала и без особого энтузиазма уронила:
— Хорошо, я подумаю. — Потом спросила: — Ну так можно мне ей звонить?
— Если вам станет совсем уж невтерпеж, то лучше, конечно, позвонить. Подождите, скоро она сама захочет звонить вам — это непременно произойдет, вот увидите.
— Хорошо, я потерплю. Я же в ваших руках, Джеймс.
Они шли через лужайку, и Анна, заметив их, помахала им рукой.
— Господи, у меня просто сердце разрывается! — сказала Мэри и отвернулась.
Примостившись в уголке беседки, Анна казалась маленькой и какой-то сутулой под своей огромной соломенной шляпой.
— Было бы замечательно, если б, помимо вас, нашелся кто-то из ее недавнего прошлого, кто был бы ей дорог и необходим, — сказал Джеймс. — Лекарства, которые она принимает, способны делать настоящие чудеса, сами увидите, но это вопрос времени. А подобная встреча с живым существом могла бы здорово ускорить процесс. — Они миновали ворота. — Произошло бы, разумеется, настоящее чудо, если бы этот ее кот вернулся…
— Знаете, — сказала Мэри, — наша кошка, мать Пятницы, снова беременна, и я уже подумывала, не оставить ли котеночка. Мне, конечно, давно следовало ее стерилизовать, но каждый раз, как я на это решаюсь, хитрая бестия куда-то исчезает!
— Да, насчет котенка вы хорошо придумали, — согласился Джеймс, — хотя не делайте на это большой ставки: Анна вполне может счесть это как неверность по отношению к… как его звали?
— Пятница. Я понимаю вас. Нужно, чтобы ей самой захотелось нового котенка. Я думаю, так и будет. Ведь это просто удивительно, но порой старое животное будто бы возрождается в своем молодом сородиче.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ЧЕРЕЗ РЕКУ ОРАНЖЕВУЮ
Пятница провел три дня в амбаре и поблизости от него, пока им снова не овладела тревога. Он с удовольствием остался бы здесь еще, ибо жизнь в этих местах была легка и изобильна. Возможно, именно бессознательное желание выжить, сберечь силы и задержало его здесь. Он даже успел немного поправиться — ведь довольно сильно исхудал с тех пор, как покинул Носсоб. Однако вернулась здешняя кошка и привела с собой здоровенного и злобного кота.
Одной встречи с этим котом оказалось для Пятницы достаточно, и однажды ночью он выскользнул из амбара и по дну ирригационной канавы добрался до реки. Река потрясла его — если кота вообще чем-то можно потрясти. Из рек до сих пор он знал только Гоукамму с солоноватой водой, на берегах которой родился. Он нюхал вполне свежую речную воду, стоя на крутом песчаном, поросшем травой берегу, кишевшем крысами и мышами-полевками.
На берегу, над обрывом, было устроено место для пикника; сейчас там было пусто, однако повсюду валялись пакеты из-под сандвичей, вяленого мяса, картофельных чипсов и молока — настоящий рай для грызунов.
Пятница уже несколько часов шел вдоль берега; начинало светать, и зрачки его глаз сразу же сократились. Пора было искать место для отдыха. Здесь встречались деревья, была густая трава на удобном обрывистом берегу, однако стали появляться и собаки. Для Пятницы они были не менее опасны, чем львы: как-то утром он просидел на дереве несколько часов, а четыре пса бешено лаяли внизу под ним.
Подобные приключения Пятницу никак не устраивали, и он постарался убедиться, что собаки точно убежали вниз по течению реки, и только тогда снова двинулся вдоль ее берега. Здесь легко было найти и воду, и пищу, и убежище, однако чем дальше он уходил, тем больше убеждался, что идет не туда: река текла с северо-востока, и он, поднимаясь против течения, возвращался в те места, откуда пришел. И его снова стала терзать тревога.
К ночи он очень уставал и спал глубоким сном, но часто просыпался и устраивался на ночлег всегда возле дерева, зная, что собаки непременно еще издали разбудят его своим лаем и он успеет вскарабкаться по спасительному стволу, а до того оцарапает двум-трем мерзавцам носы, пусть повизжат. Собак он и раньше знал достаточно хорошо, а теперь познакомился еще с шакалами и лисицами. Смертельную опасность для него представляли лишь леопарды и каракалы. У этих молчаливых убийц никогда не было и намека на шумливую игривость, так что Пятница всю вторую половину ночи вечно принюхивался, стараясь заранее обнаружить их присутствие.
К мосту он вышел через три дня, и теперь ему предстояло решить серьезную проблему. Днем опоры моста служили ему отличным убежищем; кроме того, там водилось множество птиц и ящериц, и он всю ночь охотился. Еще два дня назад он понял, что пора повернуть на юг, но река стала для него непреодолимой преградой. По мосту можно было перебраться на другой берег, однако же Пятница инстинктивно опасался открытого пространства: на мосту он стал бы чрезвычайно уязвим.
Его совсем не беспокоил монотонный шум проезжавших машин, он даже осмеливался днем переходить с места на место, чтобы залечь в сухой траве и понаблюдать. Он видел, как по мосту пробежала собака. Прямо перед носом у автомобиля маленькая черно-белая шавка с высунутым до земли языком бросилась через шоссе, пробежала по боковой дорожке для пешеходов и исчезла вдали. Он это запомнил и, когда стемнело, проделал то же самое, едва успев увернуться от проезжавшей машины. Машина пронеслась мимо, он благополучно достиг своей цели, а женщина, сидевшая рядом с водителем, спросила:
— Ты этого кота видел?
— Да, но я ничего сделать не мог. Даже на тормоза нажать не успел.
— Думаешь, мы его сбили?
— Вряд ли. Я бы удар услышал.
— Позор! Столько животных гибнет под колесами машин! — воскликнула женщина. — И почему они вечно бросаются через дорогу, стоит им свет фар заметить? И та маленькая газель тоже…
— Один мой родственник чуть не погиб из-за этого, — сказал мужчина. — Огромный самец куду разбил ему ветровое стекло и грохнулся прямо на крышу. Недалеко от Янсенвилла.
Женщина не ответила. Она была дочерью фермера-овцевода и давно уже обдумывала идею — хотя считала ее практически неосуществимой — создания переходов для животных под высокоскоростными автомагистралями; а сами дороги с обеих сторон следовало обнести прочной сеткой, непреодолимой для шакалов…
Словно читая ее мысли, мужчина сказал:
— Пока что тут особенно ничего и не сделаешь. Слава Богу, газели еще не догадываются, как легко могли бы перепрыгнуть через все эти ограды, если б захотели.
«Калахари» и «Куру» — койсанские слова, обозначающие примерно одно и то же: засушливые места. Неподалеку от того амбара, где некоторое время прожил Пятница, на северной оконечности Большого Карру был город — одно из первых поселений у брода на реке Оранжевой, когда европейцы продвигались на север с побережья Капской провинции. В те времена полупустыни Карру занимали такую огромную площадь, что объехать их кругом было очень непросто: они покрывали почти две трети всей территории страны, всю центральную часть, и это был чрезвычайно негостеприимный край.
Если бы не проводники-бушмены, которые умело вели караваны от одного водного источника до другого, то и лошади, и быки, и люди непременно погибли бы от жажды. Но даже там, где была вода, особенно по ночам, путникам угрожала смерть — огромные черногривые львы, правившие своими прайдами среди красных барханов и миражей. Миллионы африканских газелей, рыжих оленей, белобородых гну, квагг, канн и страусов населяли ее просторы; газели передвигались порой такими гигантскими стадами, что их количество исчислялось не по головам, а по площади, занимаемой стадом — столько-то миль в длину и ширину, — или по времени прохождения, в часах или даже днях. Сами по себе подобные переселения животных — явление уже выдающееся, однако вызваны они были в том числе и тем, что богатые полезными веществами суккуленты, которыми кормились все эти полчища копытных, были в значительной степени истреблены и вытоптаны стадами мериносных овец, доставленных из Испании, и диким стадам пришлось потесниться, уступая лучшие пастбища и водные источники хозяевам ранчо.
Теперь Пятнице часто попадались огороженные участки земли; кругом высились пурпурные холмы с плоскими вершинами, шуршала желтая бушменская трава, торчали ветряные мельницы и виднелись одинокие жилища людей, отстоявшие друг от друга так далеко, что даже орлу в поднебесье было не охватить взглядом территории этих ферм, а кот все бежал вдоль шоссе, пересекавшего самое сердце этой серо-зеленой страны, на юго-восток.
Рядом снова появились похожие на собак существа — длинноухие лисицы, земляные волки и черноспинные шакалы. Пятница старался по мере возможности избегать их, но не особенно опасался. Земляные волки, серебристо-серые и кремово-желтые, с черными полосами и длинными черными гривками вдоль хребта, были примерно с собаку, однако питались почти исключительно термитами. Впрочем, Пятнице это было неизвестно.
Парочка земляных волков на вершине холма была отчетливо видна в лунном свете; небо уже начинало розоветь на востоке и постепенно затягивалось предрассветной дымкой; ветерок колыхал травы вокруг, и длинные гривы земляных волков развевались, как боевые знамена. Мгновение — и они исчезли, эти ночные создания: подобно самому Пятнице, отправились отсыпаться, пока еще не встало солнце и не превратило песок, ставший за ночь ледяным, в раскаленную сковородку, по которой больно было ступать.
Каждую ночь Пятница слышал, как выли и хохотали шакалы, перекликаясь над просторами покрытого тьмой вельда.
Очень донимали его лисицы, чрезвычайно ловко охотившиеся на мышей, хотя и совершавшие, с точки зрения Пятницы, слишком много ненужных прыжков, мешавших ему, привыкшему охотиться тихо и терпеливо. Лисицы вечно оказывались где-то поблизости и, как он чувствовал, были попросту вездесущи. Он сразу догадывался, что они успели потревожить тот или иной выводок мышей, прятавшихся в траве, потому что после лисиц всегда оставался сильный запах измятых и истоптанных ими стеблей.
С каменистой вершины холма, где остро пахло даманами, прятавшимися в своих норках под землей, Пятница увидел дом и полоску ведущей к нему дороги — точно ручеек света под звездным небом. Еще там высилась ветряная мельница, окруженная колючими кустарниками, точно серебристыми призраками зимы, и высокими черноствольными эвкалиптами. И он устремился вперед, чувствуя в воздухе запах воды.
Луна превращала красноватые барханы в какое-то волшебное, застывшее море, по которому и сам Пятница, и другие животные будто плыли; море это, подобно настоящим морям, было связано с другими морями-пустынями Земли, так что здесь запросто можно было встретить, например, гремучую змею из Аризоны, или капскую кобру, или койота, или самого обыкновенного здешнего шакала.
Пятница пролез под высокой изгородью, и крупные копытные в загоне забеспокоились, заскрипели гравием; они были крупнее коров, но дыхание у них точно так же пахло сладким молоком, как и у всех травоядных. Это были канны, и Пятница старательно обошел это скопление огромных рогатых голов и даже спрятался за камень, когда одна из антилоп, испугавшись чего-то, вдруг встала на дыбы, похожая на фоне чистого неба на скаковую лошадь, а потом умчалась куда-то.
Когда стук ее копыт затих вдали, стадо успокоилось.
Он добрался до водоема, когда солнечные лучи уже осветили крылья ветряной мельницы. Круглая цистерна с очень высокими бортами была полна воды. Прохладный ветерок даже гнал по поверхности воды небольшие волны, и вода выплескивалась через край, образовывая на красной земле небольшие лужи.
Вокруг цистерны буйно разрослись кусты и желтоватая трава, а неподалеку торчало скрученное ветрами дерево с голым белым стволом и редкими ветвями на самом верху.
Пятница обследовал дерево, сперва как следует напившись из лужицы, и раздраженно затряс головой, когда стая рябков прилетела к цистерне попить и искупаться. Птицы распушили перья и громко хлопали крыльями, приветствуя друг друга.
Пятница поймал одну из них прямо на земле, а остальные с шумом и криками, похожими на звон колокольчиков, умчались прочь, пролетев прямо у него над головой — лишь мелькнули длинные пятнистые хвосты и рыжеватые грудки.
Становилось все светлее; солнце выжигало остатки холодной ночи, и далекий дом словно вырастал над землей со своими белыми-пребелыми стенами, хозяйственными постройками и старой башней для колокола, ослепительно сияя в солнечных лучах. Вокруг него был островок зелени, где доминировали четыре пальмы, куда более высокие, чем ветряные мельницы, а дальше расстилался безбрежный серо-зеленый вельд.
Места, где обитали люди, были очень важны для Пятницы в его скитаниях, однако же и отсутствие их не было для него трагическим. В таких местах всегда была вода — обычно в виде естественного источника — и довольно много пищи, хотя из-за крыс, которых он как-то наловил в одном из амбаров, вряд ли стоило подвергать себя риску быть съеденным проклятыми псами, да и другие, более крупные представители семейства кошачьих встречались здесь куда чаще — их привлекала вода, а заодно они и охотились на собравшихся к водопою более мелких зверьков. От одной ветряной мельницы до другой было примерно километров двадцать, и в подобном месте Пятница попал в скверную историю.
Сперва он нашел свежий помет каракала и сразу насторожился, но довольно быстро успокоился, потому что больше никаких следов не встретил. Потом ему попалась клетка-ловушка с наживкой из падали. Ловушка имела вид куба со стенками из металлической сетки и открывалась только с одной стороны. Пятница дважды обошел ее кругом, привлеченный столь «замечательным» ароматом, потом все же шагнул внутрь и осторожно стал красться по направлению к белой коробке у дальней стенки. Делая последний шаг по сухой траве, он вдруг ощутил легкий толчок, что-то сдвинулось под его лапой, и дверца ловушки у него за спиной с металлическим лязгом захлопнулась, преградив путь назад.
Кот от неожиданности подпрыгнул — так громко в царившей вокруг тишине прогремела упавшая дверца, — и ему потребовалось некоторое время, чтобы окончательно убедиться: выбраться из этой проволочной коробки невозможно. Парочка крошечных дикдиков шарахнулась было в сторону, потом снова принялась пастись. Пятница снова обошел всю клетку, пытаясь найти выход; сквозь проволоку на него смотрели ко всему равнодушные яркие звезды; вокруг было только небо, а путь на волю преграждала невидимая в темноте, однако совершенно непреодолимая стальная сетка.
Леопард, попав в такую ловушку и понимая, сколь она прочна, стал бы, наверное, в сильнейшем страхе и ярости кусать и рвать когтями стальную сетку, пока не истощил бы все силы и не поранил до крови морду. А в конце концов лег бы неподвижно и стал ждать, затаив злобу, смертельно опасный. Животные, более похожие на собак, использовали бы свои норные качества, роя землю когтями и пытаясь устроить подкоп; при определенном везении они смогли бы, наверное, даже выбраться на свободу. Медоед, обладающий редкостной сообразительностью, при наличии достаточного времени прогрыз бы в сетке дыру мощными зубами и расширил ее когтями, и потом охотники-трапперы стояли бы с озадаченным видом у запертой, однако пустой ловушки, удивляясь, как это зверь, сделавший такую маленькую дыру, сумел разгрызть стальную сетку, которая поддавалась только специальным кусачкам.
А вот более мелкие представители семейства кошачьих, в том числе пятнадцатикилограммовый каракал, для ловли которого подобные ловушки использовались особенно часто, смирились бы со своим пленением — на время, конечно, — и стали бы ждать развития событий с поистине кошачьим стоицизмом.
Пятница лежал, глядя, как разгоралась в небе заря, и внимательно прислушиваясь ко всем звукам вокруг; беспокойство охватило его только к полудню, когда солнце было в зените.
Такая ловушка — изобретение не только более гуманное, чем капканы со стальными челюстями, но и весьма часто применяемое зоологами для исследовательской работы, поскольку позволяет поймать зверя живым и даже, если угодно, как-то пометить его или надеть на него радиоошейник, а потом снова отпустить на волю. Хищников стараются после поимки перевезти куда-нибудь в заповедник, подальше от сельскохозяйственных угодий и от тех мест, где тот или иной зверь считается «больным» или «крайне опасным».
Последний этап — транспортировка и выпуск животного на волю — прост, ибо требуются всего два человека, чтобы поднять клетку и поставить ее в кузов грузовика, или, может быть, три — если в ловушку попался леопард. Осторожность требуется и при обращении с каракалом, а уж с барсуком и подавно. Ну а дикий кот, стоит открыть дверцу клетки, просто исчезнет — глазом моргнуть не успеешь.
Достаточно просвещенный человек, занимающийся разведением овец или ангорских коз, вполне способен сразу выпустить попавшегося в ловушку дикого кота или барсука, но даже он ни за что не выпустит леопарда или каракала и не повезет этих животных в ближайший заповедник — испугается недовольства соседей или того, что хищник вернется и снова начнет резать его скот.
Поскольку леопарды уже крайне редки на Большом Карру и к тому же находятся под охраной закона по всей стране, клетки-ловушки используют теперь почти исключительно для охоты на каракалов, которых в живых оставляют крайне редко.
Причины такой жестокости понять нетрудно даже сотрудникам заповедников.
Численность каракалов угрожающе увеличилась в последние двадцать лет; эти хищники сильно вредят отарам овец и коз, хотя оба эти фактора связаны прежде всего с деятельностью самого человека и являются результатом интенсивного развития животноводческого фермерства. В ловушки попадаются порой и другие животные, привлеченные запахом приманки, и среди них даже мелкие антилопы и дикобразы.
Каракалы — эта «чума», как их называют фермеры, — невероятно размножились из-за вторжения человека в естественный распорядок жизни хищников, существовавший в доисторическом Карру; с тех пор львы были в значительной степени истреблены, леопардов отогнали к самым горам, в результате чего стремительно размножились шакалы и орлы.
Война с шакалами набирала обороты, совершенствовалась техника борьбы с ними, и в один прекрасный день (ведь двадцать лет, с точки зрения эволюции, — всего лишь мгновение) каракалы из редких животных, хотя и встречавшихся по всей Африке и Ближнему Востоку повсеместно, вплоть до Индии, как бы вырвались из своей естественной и довольно узкой ниши и распространились чрезвычайно широко, заняв в природе то место, которое раньше принадлежало черноспинным шакалам и орлам.
С уменьшением численности шакалов — их истребляли по непроверенным данным тысячами — и орлов, которые гибли сотнями, угрожающе размножились даманы, как на то способны только грызуны.
Пара черных африканских орлов, или орлов-яйцеедов, способна съесть примерно триста даманов в год; у каракалов примерно тот же показатель, но существует несколько факторов, свидетельствующих о более благоприятных для каракалов условиях жизни. Благополучие любого дикого животного зависит от трех обстоятельств, составляющих основу его выживания, — логова для воспроизведения потомства, пищи, необходимой для роста и продолжения рода, и количества соперников.
Котята каракалов, после того как мать предоставит их самим себе, весьма уязвимы и вполне могут стать добычей шакалов и орлов. Но поскольку львы и леопарды на Карру практически отсутствуют и даже шакалов и орлов стало значительно меньше, прежней опасности для молодых каракалов не существует; освободилось множество удобных мест для устройства логова, и к тому же невероятно размножились даманы — отличная пища для каракалов. И вот красивые рыжие кошки с мощными и острыми зубами и когтями стали размножаться с угрожающей быстротой, буквально уничтожая мелкую дичь и скот в тех местах, где раньше никогда в сколько-нибудь опасных количествах не встречались.
Естественные законы природы, связанные со «спросом и предложением», постепенно, конечно, исправили бы подобное положение вещей: мелкой дичи стало бы меньше, и рождаемость хищников, а также уровень их выживания сразу упали бы. Но в тех краях, где естественный ход вещей нарушен человеком — существуют посевы зерновых, где кормятся мелкие животные вроде мышей, песчанок, пустынных слепышей и цесарок, а овцы и козы заменили собой газелей и дикдиков, — так и не возникнет, видимо, возможности для мелких антилоп как-то восстановить свою численность или хотя бы получить передышку для пополнения поголовья.
Таково было положение вещей и близ фермы, принадлежавшей деду Анны, на самом юге Капской провинции, то есть достаточно далеко от более диких, полупустынных районов обитания каракалов, и дед не раз сокрушался по поводу падения численности уникального капского гризбока, к которому питал особую слабость. С другой стороны, Анна не раз слышала, как дед утверждал, что и человек имеет законное право на определенное место в данном миропорядке, даже если именно человек и есть самый страшный хищник из всех и бесконтрольно размножается за счет других живых существ; в конце концов, и человек тоже подчиняется естественным законам выживания, а среда его обитания, хотя и довольно обширная и вроде бы находящаяся у него под контролем, в итоге тоже оказывается столь же уязвимой, как, например, у кроликов, живущих по берегам рек.
Люди, как ни парадоксально, являются хищниками, обладающими чувствительной душой. Владелец той фермы, неподалеку от которой сидел запертый в проволочной ловушке Пятница, был именно таким человеком. Это он устроил для канн специальный загон, через территорию которого ночью пробегал Пятница. Таких людей здесь было не так уж и мало.
Все вместе они владели довольно большой территорией — горами, пастбищами, пустыней, лесами и саваннами, — так что состояние дикой природы в значительной степени зависело именно от них. В частности, они весьма ревностно относились к сохранению диких зверей, водившихся в окрестностях их ферм.
Тот каракал, для которого, собственно, эта ловушка и была поставлена, посетил Пятницу на вторую ночь. Это был крупный самец, и Пятница, забившись в самый дальний угол, отчаянно шипел с видом загнанной жертвы — уши плотно прижаты, глаза сверкают, шерсть дыбом. Через некоторое время каракал перестал ходить кругами возле клетки и прилег, глядя на Пятницу всего лишь с любопытством.
За три ночи до этого каракал за десять минут убил шесть молодых козочек, а съел всего лишь полкило мяса с бедра одной из них. Когда он убил свою первую жертву, перерезав ей нервы с обеих сторон шеи и крупную вену на горле, то долго стоял над мертвой козой и смотрел на собравшихся полукругом и теснивших его любопытных ее товарок; его раздражение и беспокойство все нарастали, а козы обступали его все теснее, так что вторую козу он убил, подчиняясь оборонительному инстинкту, однако стадо перестроилось и, сомкнув ряды, снова стало наступать на него, и убийство пришлось повторять еще несколько раз.
На рассвете каракал убрался прочь, а когда взошло солнце, послышался рев грузовика, который медленно полз по каменистому вельду.
Сам фермер, обычно сразу и тщательно проверявший свои ловушки, чтобы не причинять попавшим в них животным лишних страданий, уехал на выходные, четко разъяснив перед отъездом одному из своих наиболее ответственных помощников, что следует сделать. Однако — и в том был явно перст судьбы — помощник его, сидевший сейчас за рулем грузовика, не смог выполнить поручение хозяина, ибо в тот самый день умер его отец, которому уже перевалило за сто лет. Старик мирно почил на своей лежанке, сделанной из африканского ореха и застланной звериными шкурами. Лежанку привезли сюда в своем фургоне еще первые переселенцы более ста пятидесяти лет тому назад, так что и она, и сам старик были частью истории Большого Карру.
Водитель грузовика, сам уже успевший поседеть, родился на этой ферме, играл когда-то в песке возле домишек рабочих вместе с другими такими же смуглыми скуластыми ребятишками и хорошо знал, какие животные населяют вельд. С детства знал он и отношение своего молодого хозяина к этим диким животным, которое тот унаследовал от своего отца, и все же атавистический страх порой пробуждался в нем, если речь заходила о снятом когтистой лапой скальпе или тяжком ранении.
Он остановил грузовик и некоторое время внимательно вглядывался, не выходя из кабины, в темное нутро клетки, сильно озадаченный тем, что никак не может разглядеть попавшегося туда зверя. Потом он открыл дверцу, перегнулся через спинку сиденья, достал ружье и, спрыгнув на землю, обошел ловушку кругом. Пятница поворачивал голову ему вслед, съежившись в углу. Он больше не рычал, не выл и не плевался, а лишь отчаянно смотрел сверкающими зелеными глазищами, плотно прижав уши.
Когда человек присел на корточки, положив на колени ружье, и стал рассматривать кота, тот разинул пасть, с задушенным шипением продемонстрировал зубы, да так и оставил пасть полуоткрытой. Дышал он тяжело — видно, мучила жажда.
Ружье было старым, однозарядным, без предохранителя, которого лишилось много лет назад, однако же особой нужды в нем и не было: стреляли из него крайне редко. Так что жизнь Пятницы висела на волоске. Человек сидел на корточках, шаря рукой в кармане в поисках патрона, нагревшегося там. Ствол ружья был ледяным. В металлической сетке посвистывал ветер, несший холодные, похожие на красный перец, песчинки. Песок запорошил Пятнице глаза, ветром усы ему прижало к морде, и он смешно моргал глазами. Человек думал об отце, о похоронах, о хозяине, о том, как мало у него времени и он не успеет содрать с этого дикого кота шкуру, а больше всего — о том, как ему холодно и тоскливо. И тут вдруг ему стало жалко попавшегося в ловушку зверька. Он положил ружье на землю, выпрямился и, стоя сбоку от дверцы, поднял ее.
Пятница, стараясь не смотреть на светлое пятно человеческого лица и слепящее солнце прямо за ним, за черными округлыми полями его шляпы, медленно приподнялся, попробовал, может ли двигаться на затекших лапах, и серо-черным клубком вылетел из клетки, мгновенно исчезнув в зарослях.
Человек чуть изогнул губы в усмешке.
— Беги, котик, беги, — сказал он, — спеши к своей семье.
Да и я тоже домой пойду.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ФЕРМА В КАРРУ
В самом конце июля Джеймс Уиндем взял неделю отпуска.
Мэри очень не хотелось ехать на ферму в северное Карру, даже вместе с Анной и Биллом Уиндемом. Она всегда чувствовала себя стесненно в чужом доме, даже у своих хороших друзей, и предпочитала, чтобы гости приезжали к ней. А Робин Хьюго был не только человеком, совершенно ей не знакомым, но еще и холостяком. Она поехала только из-за Анны.
В жилом доме, просторном, одноэтажном, построенном в форме буквы «Н», было четыре спальни; при доме имелся флигель с ванной и удобной комнатой для двоих. Существенным, особенно для Мэри, оказалось и то, что Робин пригласил свою приятельницу, а может быть, согласно утверждениям Джеймса, даже и невесту, сочтя, что приезд гостей предоставит ему больше возможностей в плане ухаживания. Мэри с Анной поселились во флигеле, и это обеих вполне устроило.
До фермы они добрались уже к вечеру и, миновав сторожа У въездных ворот, еще по крайней мере четверть часа ехали по территории фермы до дома. Кирпичная беленая сторожка У въездных ворот стала совершенно красной от пыли среди здешних красноземов и стояла как одинокий часовой цивилизации в этом море суккулентных растений. Джеймс поставил машину под деревом в уголке обширного двора.
Дом, как бы замыкавший двор с трех сторон своими крыльями, напоминал крепость, сложенную из известняка. В нем имелись мастерские, кладовая, гаражи, не считая жилых помещений более ранней постройки. Все было ослепительно белым в лучах заходящего солнца. Двор был устлан слоем окаменевшего овечьего помета, утоптанного животными и людьми чуть ли не до зеркального блеска за время более чем векового существования фермы; отовсюду слышался гогот огромного количества белых гусей и хлопанье крыльев: птицы заметили приехавших гостей.
В отдалении, на пологом склоне холма, виднелся колокол, подвешенный между двумя белоснежными столбами, а рядом — четыре высокие пальмы. Дом, скрываясь среди густых деревьев, фасадом выходил на открытое пространство; как и во всех оазисах, рядом слышался неумолчный шум струящейся воды — самый выразительный звук здесь, постоянно напоминавший о том, почему место для фермы выбрали именно в этих далеких от цивилизации местах.
Они прошли по небольшому мостику над желобом, по которому в тени деревьев бежала вода, и очутились в обнесенном стеной саду; потом миновали еще один мостик, арки шпалер, усыпанных цветущими розами, и оказались среди аккуратных апельсиновых деревьев с побеленными стволами, окруженных ровными кругами краснозема. Воздух, казалось, стал более плотным из-за насыщенности эфирными маслами.
Поздоровавшись с хозяином дома и представив ему Мэри и Анну, Джеймс проводил их во флигель, переоделся в шорты и кроссовки и выбежал во двор. По его прикидкам, у него впереди был еще целый час, прежде чем здешнее общество соберется выпить аперитив перед ужином.
Во дворе он вспугнул гусей и возле гаража чуть не столкнулся с грузовиком Робина. В притворном ужасе он всплеснул руками и высоко подпрыгнул. Робин помахал ему из кабины могучей загорелой ручищей и широко улыбнулся:
— Беги, беги. Встретимся в нижнем краале, хорошо? Там тебя будет ждать пиво. Причем первоклассное.
Джеймс тоже помахал ему, стараясь не прерывать бега и высоко поднимая колени.
Через двадцать минут, запыхавшись, он добежал до деревни внизу, окутанной клубами пыли. Отовсюду доносилось блеяние овец.
— Быстро ты, — похвалил его Робин. — Не бросаешь?
— Если уж честно, еле ползаю. — И Джеймс скорчил рожу, изображая старца с трясущимися конечностями, взял протянутую банку пива и открыл ее. — Ну а ты, старый ленивый барон-богатей? Все небось на колесах? И пивком балуешься, конечно?
Он никогда не стал бы так шутить, если бы Робин не был таким мускулистым и крепким, чем-то похожим на своих жеребцов, пасшихся в вельде.
Робин встал в стойку, притворно разгневанный, и Джеймс кинулся на него; они немножко побоксировали, доставив огромное удовольствие двум сидевшим рядом работникам, которые сперва просто громко смеялись, а потом стали разрабатывать собственную версию поединка карате.
Когда Робин, снова подняв тучу пыли, завел свой грузовик, Джеймс поехал с ним, не выпуская из рук банку с пивом.
Они постояли в маслянистом тумане над морем серых шерстистых овечьих спин, и Джеймс, воздев руки в позе Крестителя, высоко поднял голову и торжественно произнес, глядя в небеса:
— Не оставь паству свою! А вы, овечки, вернитесь в целости и сохранности к доброму своему пастырю Робину. Да не унесет вас ни рысь, ни шакал, ни волк в овечьей шкуре.
Робин слегка толкнул его под коленки, и он чуть не упал, расплескав пиво. Загорелое лицо Робина с белоснежными зубами виднелось перед ним сквозь завесу пыли.
Однако близился зимний вечер, тени стали длиннее, в воздухе чувствовалась прохлада. В кабине грузовика на обратном пути Джеймс даже завернулся в старенький плед. Они ехали не торопясь и всю дорогу оживленно беседовали.
Робин Хьюго оказался очень спокойным, нисколько не надоедал своим гостям, и Мэри вскоре почувствовала себя с ним совершенно свободно, особенно когда поняла, что он искренне рад их приезду — главным образом, правда, потому, что это нравилось его девушке. Робин был огромного роста, худощавый, мускулистый, с продолговатым, очень загорелым лицом и медлительной речью, хотя и несколько излишне громогласной. Изо рта у него вечно торчала трубка, которую он, похоже, почти никогда и не раскуривал, а когда это все же случалось, то сперва два-три раза глубоко затягивался, долго не выпуская дым из легких. Мэри считала, что трубка помогает Робину преодолевать природную застенчивость — многие ведь любят, например, крутить что-нибудь в руках, — вот и Робин любил чистить или набивать свою трубку, которая появлялась точно по волшебству у него из кармана при виде любого собеседника — так у иных людей сразу же появляется в руках визитная карточка.
Его девушка Коринна была такой же темноволосой, как Анна, довольно плотной и, пожалуй, даже несколько тяжеловатой, на вкус Мэри. Ниже Анны ростом, коренастая, лет тридцати, она работала ветеринарным врачом и была настолько же немногословной, насколько разговорчивым — хотя и в несколько своеобразной, неуверенной манере — был Робин, любитель рассказывать всякие истории. У него было хорошо развито чувство юмора, и его аудитория без конца хохотала, слушая полные самоиронии рассказы.
Билл Уиндем был прямо-таки восхищен тем, что Коринна, как оказалось, тоже коллекционирует суккуленты, и буквально, узурпировал ее внимание, когда все собрались в гостиной перед ужином. Не было только Анны. Когда старого доктора наконец отогнали от Коринны, он вцепился мертвой хваткой в Робина. Голос у Билла Уиндема был очень громкий и совершенно не соответствовал его росту и комплекции; забавно было смотреть на них с Робином, когда старику приходилось откидывать голову назад, чтобы заглянуть своему собеседнику в лицо. Рядом с Робином он казался еще меньше, а голос его — еще громче. Своей копной абсолютно белых волос и длинным выбритым лицом он напоминал силихамского терьера, который «служит» перед хозяином. Зато благодаря Робину и Уиндему ни одной неловкой паузы в разговоре не возникло.
На улице стало холодно, и в просторной гостиной гуляли сквозняки из-за этого — вход в нее был напротив наружной двери. В камине горел огонь, однако тепла явно не хватало, и все в итоге собрались возле масляного нагревателя в центре комнаты, похожего на потрепанного жизнью, усталого робота.
Мэри чувствовала себя неуютно в этой огромной комнате, заставленной допотопной мебелью, где на одной стене висели головы антилоп, а на другой — львиная шкура. Робин явно ничего не менял здесь после смерти родителей — разве что нагреватель завел, — ну а его родители, видимо, тоже оставили все, как было при жизни деда Робина. Слишком грубая и слишком яркая люстра в центре потолка вызывала у Мэри ощущение, какое бывает, если слишком долго пробудешь в ветреный день на солнце.
Джеймс, видно, тоже несколько неловко себя чувствовал здесь, однако же храбро улыбался, хотя Мэри все-таки заметила, что в глазах его все чаще светилась тревога, когда он поглядывал в сторону двери — а делал он это очень часто.
Когда же Анна наконец появилась, лицо Джеймса мгновенно переменилось, и у Мэри больше не осталось сомнений на его счет.
Анна была в темно-зеленом платье до щиколоток, с высокой, под горло, застежкой и скроенным по косой воротничком. В черных вечерних туфельках на высоком каблуке она казалась воплощением элегантности и изящества. По пути на ферму она безжизненным комочком свернулась на заднем сиденье машины — ее ужасно укачивало, — и теперешняя метаморфоза удивила даже Мэри. Губы Анны были подкрашены, высокие скулы чуть припудрены — она явно хотела выглядеть хорошо. Судя по выражению лица Коринны, Мэри поняла, что та ошеломлена превращением в настоящую красавицу той жалкой больной, которая днем еле выползла из автомобиля, а потом стояла молча в сторонке ото всех, не принимая участия в обмене обычными любезностями. Впрочем, как выяснилось чуть позже, Коринна не только была восхищена «новым обликом» Анны, но и с удовольствием первой заговорила с нею.
Столовая приятно удивила Мэри, у нее даже настроение поднялось. Это была уютная комната с темными деревянными панелями на стенах; на огромном столе из кладрастиса горели свечи и лежали красивые салфетки. Робин сам без конца хлопотал, угощая гостей, и ему лишь слегка помогали две смешливые и ничего не умевшие молоденькие служанки.
Было подано седло африканской газели со сливовым желе, жареной картошкой и тыквой; они пили вино, которое привез с собой Джеймс. Анна больше молчала, но казалась спокойной и довольной; своей сдержанностью она словно провоцировала Коринну болтать без умолку, а сама лишь задумчиво улыбалась своей собеседнице. Мэри заметила, как Джеймс под столом коснулся руки Анны, и по его вспыхнувшему лицу догадалась, что она в ответ тоже пожала ему руку.
Надежда, что эта поездка исцелит ее дочь, чуть было не угасла совсем, когда она в очередной раз заметила, как дрожат у Анны руки. Коринна по-прежнему что-то ей рассказывала, а Джеймс настолько внимательно прислушивался к их беседе, что в итоге не расслышал обращенного к нему вопроса Робина.
Мэри с облегчением вздохнула, когда Анна, не дождавшись конца ужина и вежливо извинившись, встала из-за стола и почти незаметно выскользнула из столовой, успев, однако, ласково погладить Коринну по плечу.
В коридоре Анна немного подождала Мэри, догадавшись по глазам матери, что та непременно выйдет из-за стола за нею следом. Ей хотелось объяснить Мэри, что сегодня вовсе не обязательно провожать ее и укладывать в постель. Мэри действительно скоро вышла в коридор и участливо спросила:
— Ну, как ты, милая?
— Все хорошо, мама. И я совсем не хочу есть.
— Лучше бы ты ела хоть чуточку больше, — вздохнула Мэри, погладив дочь по щеке. (Анна слабо улыбнулась.) — Сумеешь включить во флигеле нагреватель? (Анна кивнула.) — Мэри поежилась. — Пожалуй, я лучше вернусь в столовую, там так тепло! Я еще немножко посижу и приду, хорошо?
Анна проводила мать взглядом и вышла на крыльцо. Темное небо было усыпано звездами. Она подождала, пока глаза привыкнут к темноте, казавшейся фиолетовой; дыхание вылетало изо рта легким облачком, светившимся в падавшем из бокового окна луче.
В ночной тиши уснувшего Карру до Анны донесся взрыв смеха из столовой, приглушенный говор, снова взрыв смеха — это закончил рассказывать одну из своих историй Робин Хьюго; потом вдали прозвучал не слишком хорошо знакомый Анне крик шакала. Тьма казалась ей другом, который, по крайней мере, ничего от нее не требовал.
Она подумала вдруг, что выпитый ею бокал вина оказал какое-то странное волшебное воздействие на нее, впервые растопив мертвящий холод в душе, улучшив настроение и подарив крохотную надежду на выздоровление — когда она снова станет самой собой, сумеет рационально оценивать свои страхи и разочарования. Анна пошла к светящемуся в ночи, точно маяк, флигелю, вошла внутрь и закрыла за собой дверь.
Она была уверена: тень в освещенном окне большого дома принадлежит Джеймсу, который о ней беспокоится.
Сперва она довольно долго сидела в нерешительной позе у туалетного столика, раздумывая, то ли сразу раздеться и нырнуть в постель, то ли посидеть у включенного газового нагревателя и немного почитать; покусывая ноготь большого пальца и грея на груди дрожавшие руки, она смотрела перед собой и старалась не думать о том, что ждет ее завтра. Может быть, ей удастся пойти на прогулку одной? Хорошо бы. И она стала планировать, как бы получше это осуществить. Совместные трапезы конечно же чрезвычайно утомительны, и она надеялась, что хотя бы отчасти сможет избежать этого напряжения; ей все равно сложно было принимать участие в общих разговорах за столом. Все, что в прошлом составляло ее личность — ум, чувство юмора, интерес к другим людям, веселость, сообразительность и живая реакция, — куда-то делось, словно энергию, требуемую для нормального поведения, в приказном порядке отправили по другой дороге, чтобы затем использовать в борьбе за выживание, а ей не оставили ничего, кроме пустой оболочки. Это было несправедливо по отношению к ней и несправедливо по отношению к ее друзьям; она чувствовала, что снова попалась в ловушку, ощущая собственную вину и бесполезность, куда более сильные, чем ее обычные страхи.
Любовная история с Грегом осталась в прошлом. Что ж, одной проблемой меньше. Странно, что его чувственность так надолго захватила и ее. С другой стороны, весьма волновал вопрос, сможет ли она полюбить по-настоящему. И вдруг перед ее мысленным взором возникла странно большая фигура Джеймса. В последнее время она смотрела на него иными глазами и вдруг поймала себя на том, что прикидывает, какое платье ей надеть завтра. Да, это уже что-то конкретное, и она впервые легко может это осуществить, что особенно приятно в том вечном мире тревог и тоскливой пустоты, которые заморозили ее душу. Она даже почувствовала некоторое радостное возбуждение перед наступающим днем — вместо обычного страха.
На следующее утро Анна вместе со всеми поехала осматривать ферму. Они с Коринной и Джеймсом стояли в кузове пикапа, крепко держась за железные поручни, чтобы не вылететь на ухабистой, каменистой дороге. На вершине небольшого известнякового холма им встретилось стадо африканских газелей. Робин выключил двигатель, и машина остановилась, хрустя колесами по песку.
Антилопы насторожили уши, завидев подозрительный автомобиль, и хвостики у них затрепетали, точно белые лоскутки на ветру. Рыжая шерсть пламенем горела в холодных, по-зимнему ярких солнечных лучах, и глаз невозможно было отвести от удивительного богатства оттенков — светло-коричневого, густо-шоколадного, охряного и снежно-белого на брюшках.
— Вот, помнишь, я тебе говорила, что у них шерсть цвета здешней земли? — шепнула Анне Коринна. — А белый какой — точно пена или снег!
— Да, очень красивые! — согласилась Анна.
Девушки друг на друга не смотрели, не сводя глаз со встревоженных животных, стоявших так близко, что было ясно: вот-вот они не выдержат и исчезнут.
— Посмотри, какой красавец! — снова шепнула Коринна. — Сразу видно, самец: у него и рога больше и шея толще.
Отличный экземпляр!
Анна кивнула. Антилопы начинали осторожно отходить в сторону, опустив белые морды к земле и словно нюхая ее, чтобы убедиться, что все вокруг по-прежнему, как и много веков назад, и им не угрожает никакая опасность. Потом побежали — неспешно, словно понимая условия игры, и в конце концов стали разгоняться и пролетать несколько метров в прыжке, дугой выгнув спины на фоне синего неба. Шерсть у них на крупах вставала дыбом, они, казалось, зависали в воздухе, легко опускались на совершенно прямые ножки, едва касались земли и снова взлетали.
Крупный самец убежал последним; сперва он двигался неторопливо, низко опустив голову к земле, выставив вперед рога и покачивая ими, словно отпугивая возможных врагов.
Потом тоже пустился галопом, прижав уши и разбрасывая копытами мелкие камешки. Он взлетал в воздух, подобрав под брюхо совершенно прямые ноги, и казалось, что они связаны за бабки. Зависнув, он легко касался земли и снова зависал в воздухе; белая гривка его развевалась. Вскоре он пустился стрелой через вельд вдогонку стаду, и антилопы скрылись за холмом и снова мелькнули на дальнем склоне рыже-красной волной с проблесками белой пены.
Позже, когда они снова двинулись в путь, Джеймс сказал, обращаясь к Коринне:
— А вы заметили, у того рыже-коричневого самца, о котором вы говорили, полосы точно такого же цвета, как у Анны глаза?
Анна обернулась.
— Вот посмотрите — в точности! — удовлетворенно подтвердил он.
Девушки рассмеялись.
— Ах, у меня глаза оленихи, — нарочито томно заявила Анна. — Это что же, комплимент?
Коринна, казалось, не решила еще, на чьей она стороне.
— По-моему, это всегда было комплиментом, — задумчиво проговорила она. — Как и сравнение глаз с фиалками. Или зубов — с жемчугом. С другой стороны, ведь Джеймс — медик, так что, вполне возможно, он отметил это с чисто профессиональной точки зрения.
Джеймс подмигнул Анне и отвернулся, чтобы скрыть улыбку.
Холодный ветер с юга покалывал щеки и гнал по волнам красных барханов сухие, лишенные корней комки перекати-поля. Когда на пикап обрушился маленький песчаный смерч, пассажиры в кузове пригнули головы и зажмурились. Джеймс обхватил обеих девушек руками, крепко держась за перила, так что все трое оказались притиснутыми друг к другу, очень неуклюжие в своих теплых куртках с капюшонами.
— Вы сейчас похожи на эскимосок, — сказал Джеймс.
— Ну знаете ли! Ведь холодно! — возмутилась Коринна, но Анна лишь плотнее прижалась к нему; ее волосы нежно пахли весенними цветами на лугу после дождя.
Робин приостановил машину и высунулся из кабины:
— Как у вас там в кузове? Не замерзли?
— Ничего! — крикнули в ответ Джеймс и Коринна. Голоса относил ветер, однако, судя по выражению их лиц, Робин решил, что у них все в порядке. Они так весело махали руками, что он даже засмеялся.
Но прежде чем отправиться дальше, Робин в бинокль осмотрел ту ловушку, в которой всего неделю назад томился Пятница. Он хотел сперва рассказать своим гостям о пойманном коте, но передумал и ничего не сказал даже Мэри и Биллу Уиндему, сидевшим рядом, решив, что слишком сложно объяснить, почему он ставит ловушки, а упоминать о коте просто бессмысленно за давностью события.
Робин никогда не испытывал особого удовольствия, ловя каракалов и уж тем более убивая их. Загнанный в ловушку каракал со сверкающими глазами и оскаленной пастью всегда казался ему воплощением дикой красоты, и он виновато сознавал, что ведь на самом деле именно люди агрессивно вторглись на их законную территорию. Более того, согласно современным исследованиям, каракал, постоянно живущий в определенной местности, на своей собственной, четко обозначенной территории, куда менее опасен для овец и коз и приносит значительно меньше беспокойства, чем несколько новичков, поочередно пытающихся установить свое владычество на опустевшей после изгнания ее первоначального владельца территории. Спорным представлялось также мнение, что новички порой даже голодают, поскольку не знают расположения местных колоний грызунов, в частности даманов, и потому обращают свое внимание на более доступных овец и коз. У Робина был богатый личный опыт в этом отношении.
Когда-то в детстве он гостил на ферме у дяди в горах Аутениква, и охотники наконец выследили и застрелили леопарда, издавна жившего в дикой части долины, и именно с этих пор мелкие хищники стали особенно упорно истреблять овец.
Вокруг расстилалась иссушенная ветрами, безводная страна, покрытая по-зимнему желтой травой и пятнами оливково-зеленых колючих кустарников; за черными валунами виднелась цепочка холмов с плоскими вершинами, окаймлявших бескрайнюю равнину. Дальние холмы казались красно-коричневыми грязноватыми пятнами и все время как бы отступали по мере приближения к ним.
В каждой долине была своя особая растительность: трава цвета львиной шкуры, густые заросли акации с белыми колючками, а здесь вот — ярко-зеленые эвкалипты, красиво выделявшиеся на фоне красных песков. Какой-то стинбок бросился удирать от них; белый фартучек под хвостом, белое брюшко и красно-коричневая спинка мелькали среди ржавого цвета кустов, то сливаясь с ними, то вновь появляясь на прогалинах, — в точности как те маленькие антилопы с прямыми ножками и длинными ушами, которые так часто становились героями наскальной живописи бушменов.
Впереди, становясь все выше и величественнее по мере приближения к ней, высилась одинокая гора-монолит, у самой вершины опоясанная ожерельем отвесных скал. Пара орлов кружила высоко над этим скалистым образованием, то спускаясь по крутой спирали, то паря на неподвижных крыльях, если круг, описываемый одним, вдруг пересекал путь второго.
Робин остановил пикап, когда ехать дальше не было уже никакой возможности. Отсюда были хорошо видны каменистые, поросшие кустарником склоны горы — она вздымалась перед ними до неба, — и пространство вокруг, казалось, лишено было горизонта, серо-голубое, сливавшееся с куполом небес.
Они гуськом, медленно поднялись по едва различимой тропке на утес, оставив Билла Уиндема где-то позади; старый доктор с энтузиазмом шнырял по кустам в поисках каких-то особых суккулентов, которые чрезвычайно его восхищали.
Относительно ровная площадка, на которой они оказались, была покрыта слоем мягкой черной земли и помета летучих мышей и птиц, и по краям ее рос ползучий шалфей. Отвесный склон горы загораживал ее от ветра, пахло влажной землей и даманами. Над ними и под ними зияли черные пасти пещер; за изломами скал виднелись куски ярко-синего неба. В трещинах и складках зеленели ползучие растения, точно прожилки малахита; в вышине парили голуби, то появляясь, то исчезая и едва заметно шевеля крыльями.
— Ну и как? — торжествующе спросил Робин. Его спутники потрясенно молчали.
— Боже мой! — вырвалось у Анны. Она разрумянилась после крутого подъема, и Джеймс смотрел на нее точно завороженный; Пятница тоже сразу бы понял, что темное облако, окутывавшее Анну, сейчас растаяло, улетело куда-то.
— А вон тот холм с плоской верхушкой видите? Он отсюда примерно в сотне километров. В давние времена он служил переселенцам чем-то вроде маяка. Там рядом есть вода. Эти черные орлы как раз там и гнездятся. К счастью, местные фермеры там их достать не могут. Не у всех ведь благородства хватает, — сказал Робин.
— Неужели на орлов все еще охотятся? — недоверчиво спросил Джеймс.
Робин сердито повернулся к нему:
— Еще бы! — Он, видно, хотел прибавить что-то еще, но почему-то не стал и отвернулся. Решил, что сейчас не время для подобных лекций, да и Коринна все это уже не раз слышала. Робин обнял Коринну за талию и вытащил из кармана трубку. Потом, ухмыляясь, сказал Джеймсу: — Если хочешь, тебе Коринна вечерком сколько угодно случаев расскажет.
— А сам ты не можешь? — высвободилась из его рук Коринна.
Он рассмеялся:
— Мне уже немного надоел собственный голос.
Но она знала, как глубоко его волнует тема сохранения дикой природы. Однажды знакомый фермер даже обвинил Робина в том, что у него на этой природе «пунктик», и теперь он сдерживался.
— А вон там, если дойдете, есть кое-какие рисунки бушменов, — сообщил он. — Ну как, пойдем?
Орлы давно улетели к водоему возле того холма-маяка, о котором рассказывал Робин. Пятница упорно пробирался к тростникам, росшим на берегу. Он уже второй раз приходил сюда за последние три дня, прошедшие с момента неожиданной перемены его «пси-чувства», которое теперь вело его не на юго-запад, а на северо-восток. Тростники на берегу водоема были очень удобным местом, особенно после чрезвычайно суровых условий пустыни, в которых он провел столько времени. Он бы с удовольствием задержался здесь еще, если бы его необъяснимым образом не тянуло снова на север. И еще из-за кошки.
Сперва он обнаружил ее свежий след — маленькие круглые отпечатки лап на мягкой земле. Он даже не увидел их, а просто почуял и пошел на этот запах и в конце своего пути обнаружил кучку перьев и отгрызенную голову ткачика; и в этот момент прямо перед ним появился кот.
Кот был не намного крупнее Пятницы, однако же, судя по его свирепому виду, не испытывал ни малейшего восторга от появления Пятницы и готов был защищать свою территорию. Он уже не раз дрался с непрошеными гостями и всегда побеждал. Последнее сражение, правда, оставило на память порванное ухо и медленно заживающий нарыв на щеке, еще больше подчеркивавший сейчас злобное, агрессивное выражение его физиономии.
Пятница был застигнут врасплох, когда разъяренный соперник, обойдя его с фланга, возник прямо у него перед носом. Здешний кот давно уже шел по следу Пятницы, все более распаляясь, потому что след того смешивался со следом кошки. Он так грозно выл и ворчал, что умолкли лягушки у берега, а куропатки с шумом перелетели в более безопасное место.
Парочка уток с кряканьем прошумела крыльями прямо над ними, и Пятница, прижимаясь к земле в оборонительной позиции, огляделся, пытаясь найти путь к спасению, но ни на секунду не упуская из виду злобно дергающего хвостом и прижавшего уши соперника.
Он тоже завыл — пронзительным, высоким голосом — то громче, то тише, словно ветер среди камней на вершине горы.
Собственно, Пятница давал понять, что готов сдаться; он чувствовал, что оказался в невыгодном положении, но тем не менее хотел обеспечить себе относительно безопасное отступление.
Справа от него была вода, а слева — мордой к нему — этот кот, и когда враг бросился на него, выбора не осталось: Пятница плюхнулся в воду и сперва погрузился в жидкую грязь, а потом запутался в водорослях. Шок, который он испытал, с головой уйдя под воду, заставил его высоко подпрыгнуть, а потом он поплыл, бешено шлепая лапами, прямо к звездам, тоже плывшим по своему серебряному пути и растворявшимся у него перед глазами в каплях воды. Он выбрался на небольшой островок — коснулся его лапами еще до того, как увидел; под ним все качалось и прогибалось, но вскоре успокоилось, и здесь, в старом гнезде лысухи, он наконец смог передохнуть.
Он задыхался, весь дрожал и не мог уснуть до самого рассвета.
Лишь как следует удостоверившись, что враг ушел, он, собрав все свое мужество, снова вошел в воду и поплыл обратно, к илистому берегу, быстро пробрался сквозь заросли тростника, пригибаясь и мечтая поскорее найти сухой кусок земли и там дождаться согревающих лучей солнца.
Довольно долго он пролежал в траве меж двумя валунами; камни, казалось, источали накопленное за вчерашний день тепло, скрытое под замерзшей внешней оболочкой. Он ужасно замерз, но на рассвете умудрился поймать мышь, а потом, поскольку адреналина в кровь было выброшено слишком много, отхватил еще и пухленькую горлинку; все это Пятница сожрал с урчанием, и только когда тепло стало разливаться по телу, он смог уснуть.
Весь день он отдыхал там и всю следующую ночь тоже провел в этом месте, спускаясь к воде только по проделанным им самим проходам в тростнике, где не ощущалось ни малейшего запаха того кота. Он все делал медленно и осторожно, словно проверяя, все ли органы чувств снова работают как следует. Теперь он снова понял, что его тянет на юг.
Когда не ощущается быстротечность времени, когда времени для тебя вообще не существует, то не возникает и острой необходимости куда-то спешить, и Пятница слонялся неподалеку от водоема, даже, пожалуй, получая удовольствие от того, что дразнит своего врага, однако же держался все время на безопасном расстоянии.
Завершив серьезное дело — закапывание собственных экскрементов мощными ударами правой лапы, с оттяжкой, — он затем тщательно обнюхал это место, проверяя, насколько силен запах, и возвратился на прежнее место меж двух валунов.
За ночь ветер улегся; утро было ярким, солнечным, полным невнятных звуков. Пятница сидел неподвижно, шевелились только его уши, а потом даже и уши, казалось, решили отдохнуть. Глаза его то закрывались, то лениво приоткрывались, и сам он чуть покачивался, словно приподнимаясь на цыпочки. Через некоторое время, как если бы у него вдруг все зачесалось, он принялся энергично умываться и вылизываться, сопровождая это занятие короткими довольными всхрапываниями и взмахами длинного розового язычка.
Уже собираясь свернуться калачиком и уснуть, он вдруг резко открыл глаза, услышав подозрительный шум, и был вознагражден за бдительность: рядом появилась очень толстая мышь-полевка, которая, дергая носом и усами, обнюхивала оставленные котом невидимые следы. Застыв как изваяние, Пятница уставился на мышь с привычным чувством легкого раздражения и удовольствия одновременно, что предвещало успех в охоте; мышь двигалась чуть наискосок через открытое пространство так близко от него, что ее ничего не стоило достать лапой.
Он незаметно приподнял зад, перенеся весь свой вес на задние лапы, и прыгнул. Мышь умерла мгновенно — Пятница перекусил ей шею, однако он снова вонзил зубы в жертву, ибо избыток адреналина у него в крови все еще сказывался.
Потом возбуждение наконец улеглось, и он уронил еще теплое тельце мыши на землю, испытывая настоятельную потребность немедленно снова вылизаться. Умывшись, он вдруг взвился в воздух, перекувырнулся и высоко подбросил свою безжизненную жертву, поймал ее, снова перекувырнулся и швырнул убитую мышь подальше в траву.
Столь же внезапно он закончил игру, уселся, еще раз вылизал правое плечо и лапу — три длинных мазка языком, — потом отыскал в траве свою добычу, принес ее в логово меж валунами и наконец съел. Затем свернулся клубком, уткнувшись носом в пушистую шерсть, накрыл нос лапой и крепко уснул.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ЧЕРЕЗ ВЕЛИКУЮ ПУСТЫНЮ
Джеймс стоял у себя в кабинете у окна и ждал Мэри.
Самое яркое впечатление от его поездки в Карру — Анна в тот момент, когда она смотрела с того утеса на противоположный край долины. Именно тогда он почувствовал, что Анна вернулась. Правда, еще не совсем, но губы немного порозовели, на щеках появился слабый румянец, сердце забилось чаще… Джеймс чувствовал, что мучительный душевный недуг, так долго терзавший ее, начинает сдавать позиции. Ее улыбка тогда была не просто данью вежливости. Другим людям такая улыбка не стоила бы ничего, ей же — очень дорого, но так улыбаются люди, которых наконец оставили бесконечные тревоги, пусть хотя бы ненадолго.
Теперь ее перевели в другое отделение санатория, где больше внимания уделялось физическим упражнениям, причем рядом с пациентом всегда находилась медсестра. Анна занималась физкультурой с таким удовольствием и рвением, что Медсестре часто приходилось вмешиваться и не позволять ей изнурять себя. Девушка, видимо, считала, что только так сможет наконец одолеть свой недуг. Физкультура помогала ей, облегчая душевные страдания, и она накинулась на нее, точно больное животное, которое ищет природный болеутолитель.
— Она хочет, чтобы я продала ее кобылу, — сообщила Мэри Джеймсу за чаем каким-тот деревянным голосом.
— Но вы ведь не сделаете этого, верно? — спросил он ее.
Мэри только плечами пожала.
— Я бы ни за что не стал. Отошлите эту кобылу временно к кому-нибудь из ваших друзей. У вас есть такой человек?
Мэри задумалась:
— Да, пожалуй.
— Она даже ни о чем не спросит, уверяю вас; даже и врать не придется. Это весьма типичный и, в общем, хороший признак: она активно борется с болезнью и пытается как-то расчистить свой мир от бесконечных тревог и волнений, которые, как она считает, лишь усугубляют ее состояние.
Мэри понимающе кивнула.
Джеймс взял в руки чайник:
— Вам налить еще чаю? — Он наполнил обе чашки и продолжал: — Первый совет в таких случаях — не принимать никаких поспешных и необратимых решений. Однако внушить эту мысль пациенту очень сложно. И прежде всего больной человек ни в коем случае не должен считать, что жизнь его более не стоит ни гроша. А поводы для таких мыслей действительно лучше устранить. В конце концов, окончательное выздоровление как раз и заключается в том, что к чему-то человек относится более пристрастно, особенно когда поймет, как прекрасна и увлекательна жизнь, как бессмысленно портить ее сожалениями о прошлом или страхами перед будущим.
Это так просто и — одновременно — так сложно!
— Вы говорите, точно столетний, утомленный жизнью философ, — сказала Мэри и улыбнулась.
Он тоже улыбнулся и коснулся ее руки:
— Вы-то ведь постараетесь, чтобы у вас все было в порядке?
— Постараюсь. — Она встала, собираясь уходить. — А все-таки интересно, почему начинаешь особенно ценить жизнь, лишь когда смерть коснется тебя своим крылом? — Голос ее звучал горько. — Впрочем, людям свойственно быстро обо всем забывать.
— Нельзя забыть страшные путы клинической депрессии, — твердо сказал Джеймс. — Разумеется, люди помнят о своем состоянии не очень отчетливо — мозг человеческий просто не в силах сохранить память о столь неестественном постоянном страхе, — однако, когда впоследствии больной обнаруживает, что продал или отдал то, что было ему дорого, что до болезни составляло для него смысл жизни, у него непременно возникают тяжкие сожаления. И всегда находятся бессовестные люди, готовые воспользоваться чужим несчастьем. У меня был один пациент, которому до болезни не хватало разве что птичьего молока; он продал чрезвычайно перспективный бизнес, созданием которого занимался много лет. А потом имел весьма серьезные проблемы, которые, разумеется, легко бы уладил, если бы был здоров. То ли он деньги растратил, подписав фальшивую накладную, то ли еще что-то в этом роде, но, так или иначе, любимое дело он продал, а потом чуть с ума не сошел, пытаясь его вернуть.
— И удалось?
Джеймс некоторое время молчал. Потом улыбнулся:
— Удалось. Скажем так: у данной истории конец счастливый. — Он открыл дверь, пропуская Мэри, и пошел ее провожать. — У таких больных ведь все пропорции абсолютно нарушены. Ими овладевают навязчивые и неосуществимые идеи. Ирония — и трагедия! — подобной ситуации в том, что, когда больные выздоравливают, вылезают из ямы, они и могут совершить последний, роковой шаг. До выздоровления у них нет на это ни сил, ни достаточного интереса к жизни — они просто не в состоянии раздобыть пистолет и зарядить его, купить снотворное или еще какую-нибудь гадость. Здесь нет ничего удивительного: химические процессы в мозгу способны превратить жизнь человека в ад или в рай.
— Ах, бедненькая моя Анна! — вздохнула Мэри. Потом выпрямилась, перевела дыхание и попыталась улыбнуться.
Джеймс погладил ее по плечу:
— Вы же знаете: ей уже лучше. Руки, правда, все еще чуть-чуть дрожат, но дайте ей еще месяц — сами увидите! — И весело продолжал: — Везет вам, Мэри! Вы едете домой, в наши родные, милые края! (Мэри удивленно подняла бровь.)
Между прочим, — и он протянул ей какую-то брошюру, — когда сегодня будете читать ей на ночь, прочтите ту главу, которую я здесь отметил. По-моему, она не останется безучастной.
Мэри глянула на титульный лист, склонив голову набок.
— О, так это вы написали! Обязательно прочитаю. — Она взяла у него брошюру.
Джеймс вдруг снова нахмурился и, словно желая, чтобы Мэри задержалась еще, сказал:
— Один мой пациент отказался от своей охотничьей фермы — огромной, обнесенной изгородью территории в Трансваале. Он много лет строил ее, но антилопы размножались слишком быстро. (Мэри смотрела на него озадаченно.) У него просто оказалось слишком много забот в Йоганнесбурге — и бизнес, и семья, и семейные дрязги, — так что его больной мозг воспринимал самые естественные процессы неадекватно; с его точки зрения, антилопы размножались, как кролики, пожирая предоставленное им пастбище, и его неотступно терзала мысль, что животные погибнут от голода, а виноват, разумеется, будет он, и никакого выхода он, конечно, не находил.
Полный умственный и психический паралич. Если вы с трудом можете заставить себя снять трубку зазвонившего телефона, одна лишь мысль об ответственности за живое существо, лежащая на вас лично, в ваших глазах смерти подобна!
— Значит, с людьми случалось такое, когда они уже успевали стать вашими пациентами? — спросила Мэри.
— Обычно да. И потом к недугу прибавлялось еще и понимание того, что совершена ужасная ошибка, словно обновленный, но еще не совсем выздоровевший мозг пытался любым способом повредить себе. И это ему часто удавалось, знаете ли. И вот тогда, разумеется, больные ко мне уже не приходили — как к врачу, я хочу сказать. — Мэри как-то тупо смотрела на него, но он продолжал: — Как пишут в газетах, «состава преступления нет». Изучая мозг самоубийц, ученые обнаружили отчетливое увеличение в нем количества эндорфинов — по сравнению с мозгом тех, кто умер обычной смертью. Словно мозг самоубийцы пытается предпринять последнюю отчаянную попытку спасти себя, что лишь свидетельствует об опасности подобной недостачи… (Мэри беззвучно округлила губы в горестном «О!», но промолчала, кивнув согласно головой.) Под конец люди испытывают нечто вроде бесконечного, безжалостного стресса; и приходится уступать.
Стресс наступает после страшной для них потери — настоящей или мнимой, — потери здоровья, денег, любви, положения в обществе, ответственной службы… Но если мозг подвергся необратимому воздействию стресса, даже мнимые утраты часто воспринимаются как реальные, хотя истинное положение вещей совершенно этому не соответствует, а порой является и совершенно противоположным. Просто удивительно, сколько богатых, благополучных людей убеждены, что потерпели полный крах, обанкротились, когда у них на счету денег более чем достаточно. У них возникает ужасная боязнь того, что будет необходимо зарабатывать на жизнь тяжким трудом, а у них уже нет сил встать с постели. Мозг человеческий — штука очень сложная. Взять хотя бы его поведение в том случае, когда он не вырабатывает достаточного количества нейротрансмиттеров. Случаи эти, впрочем, довольно стандартны; но можно и по наследству приобрести некую генетическую предрасположенность к чрезмерной возбудимости нервной системы, что сказывается как на умственной, так и на физической деятельности человека. Точно так же, как унаследованная артистичность, например. Или — эндорфинная недостаточность.
Он проводил Мэри до дверей веранды, выходившей в сад, однако она не торопилась уходить, чувствуя, что ему необходимо выговориться.
— Должно быть, очень тяжело… Я хочу сказать, что это требует огромного напряжения — выслушивать таких больных с их неразрешимыми проблемами, находящихся на пороге личной трагедии, — сочувственно сказала она.
Джеймс поскреб подбородок, глядя куда-то вдаль.
— Да, это действительно нелегко. Люди бросают работу, предприниматели закрывают дело или влачат жалкое существование, начинаются проблемы с закладными, увольнение высокопрофессиональных сотрудников, закрытие счетов в банках, что влечет за собой новые и новые проблемы… И самое главное — жизнь больше не кажется им безопасной, по крайней мере в данный момент… Люди, точно пьяницы, не понимают, кому и чему можно верить. Их постоянно мучит чувство собственной вины… А вы знаете, что очень многие фермеры страдают от умственного истощения? — Он посмотрел на нее в упор, глаза его горели.
— Фермеры? — изумилась Мэри. — Вот странно! Всегда ведь считалось, что фермерство — очень здоровый образ жизни.
— Физически так, видимо, и есть, — кивнул Джеймс и улыбнулся. — Но поскольку вы тоже хозяйка фермы, вам следует знать о подобной опасности.
— Ну, разумеется! — весело подхватила Мэри. — Впрочем, я и так знаю, какая с этим связана огромная личная ответственность, — ведь последнее решение всегда принимает хозяин фермы, сколько бы у него управляющих ни было.
— В том-то и дело! Личная ответственность. И это при том, что фермеру приходится бороться с такими природными бедствиями, как ливни, саранча и тому подобное, и порой он в этой схватке проигрывает. Если вы слишком часто проигрываете, это может стоить слишком дорого, и винить будет некого, кроме самого себя.
— Да, фермерство, безусловно, требует очень большой отдачи, — задумчиво проговорила Мэри. — Бывает, испытываешь огромное удовлетворение, а бывает и совсем наоборот. И жестокие разочарования тоже случаются, даже небольшие трагедии, насколько мне известно по собственному, не слишком богатому опыту. Но у меня-то молочная ферма. Однако я хорошо могу себе представить, какая это трагедия, если, например, выращиваешь какую-нибудь монокультуру на огромной площади, она вот-вот созреет, но вдруг налетает ливень с градом и ураганом — и ты полный банкрот.
— И страховки у тебя нет! — подхватил Джеймс.
Мэри заметила его улыбку и предложила свой вариант:
— Или еще и ногу сломаешь.
— И дом у тебя сгорит дотла, — не растерялся Джеймс.
— Ну и еще, по-моему, для «полного счастья» не хватает, чтобы жена, прихватив детей, сбежала с любовником, — завершила Мэри этот список несчастий, и оба рассмеялись.
— Ну что ж, основную мою мысль вы поняли, — сказал Джеймс уже более спокойно. — Некоторых своих пациентов мы передаем психологам, однако подобное состояние грозит соскальзыванием в клиническую депрессию, а это очень опасно. И никакого проку нет от благожелательных друзей и родных, которые твердят больному, что беспокоиться ему не о чем, — хотя они искренне сочувствуют ему. Такие больные отлично понимают, что с ними происходит нечто ужасное, и, возможно, убеждены, что подобное ощущение свойственно только им одним, что это кара Господня и не поддается лечению; в таких случаях начало выздоровления для них — вера в то, что они излечимы, что их жалкому существованию непременно придет конец. Продолжайте твердить это Анне, но не ждите от нее ответа. Просто без конца повторяйте, что она поправится, вот и все.
— Хорошо, буду повторять! — Мэри было приятно увидеть его улыбку.
— У нас и без того жизнь сложная и тяжелая, но тем, кто лечит душевнобольных, порой приходится совсем туго. Стереотип безумного психиатра с его кушеткой — просто злая шутка вроде мрачного косаря с его косой, однако же шутки эти создает здоровый мозг, невольно высвечивая две основные вещи, с которыми не так-тот легко примириться: смерть и утрату контроля над собой. Есть, разумеется, крайние случаи, но безумие у психиатров встречается крайне редко, особенно по сравнению с количеством случаев тяжелой депрессии у людей всех мыслимых типов и профессий. И люди, разумеется, вовсе не должны сперва почувствовать себя сумасшедшими, а уж потом идти к психиатру.
Мэри похлопала его по руке и сказала:
— Звучит чрезвычайно оптимистично, Джеймс! Жаль, что вы как специалист не можете являться экспертом в области «паблик релейшнз». У вас бы отлично получилось. — Она сказала это совершенно по-матерински, чуть снисходительно, но Джеймсу все равно было приятно.
— Ну что ж, до встречи?
Мэри улыбнулась и кивнула. Он смотрел, как она идет через лужайку — маленькая, изящная, очень прямая. Восхитительная женщина!
У него был чрезвычайно трудный день, полный чужих несчастий. Слишком много равнодушных или бесконечно печальных лиц, давно и хорошо знакомых. Невозможно вспомнить, сколько раз за сегодняшний день он заставлял себя изображать на лице беззаботность и здоровое жизнелюбие.
Нет, лучше вспоминать лицо Мэри — живое, мужественное лицо человека, на которого можно положиться. Но перед глазами почему-то все время возникало лицо Анны, нет, ее теперешняя маска, прекрасная маска среди прочих подобных лиц-масок, продолжавших медленное кружение в тенетах вечного страха.
…Пятница услышал выстрелы задолго до появления всадников. С вершины холма всадники казались какой-то особой разновидностью животных; один рыжий и два черных, длинноногие эти звери мчались по пологому склону, а перед ними летела покрытая белыми бурунами рыжая волна африканских газелей. Вокруг стояла странная тишина, нарушаемая лишь редкими хлопками выстрелов.
Ветряная мельница, к которой направлялся Пятница, точно магнит притягивала к себе и всадников — теперь он уже отчетливо видел их; туда же устремились два пикапа и большой грузовик, до того поджидавший их в тенистой рощице.
Пятница, как всегда, внимательно и сосредоточенно наблюдал за всеми этими передвижениями, а когда в его сторону еще и подул ветерок, стал принюхиваться с возросшим любопытством. Сперва он почуял запах дыма, очень слабый, лишь указывавший, где горит костер; потом — запах свежей крови и только что съеденной, полупереваренной зелени, исторгнутой убитыми газелями; чуть позже — невыносимо соблазнительный аромат жареного мяса. Пятница облизнулся и поудобнее устроился мордой на передних лапах, коротко мурлыкнул и тут же закрыл пасть.
Владелец фермы сидел на складном походном стуле и лучезарно улыбался всем вокруг. Это был его день! В этот день, раз в году, к нему на ежегодную охоту съезжалось множество гостей; эта традиция была учреждена его отцом еще шестьдесят пять лет тому назад, и теперь собственный, почти взрослый внук в легкой кружевной тени дерева, опершись о капот пикапа и прихлебывая пиво, беседовал со своим приятелем в стороне от остальной компании. Возле хозяина фермы, посверкивая новенькими мощными ружьями с оптическими прицелами, синеватой сталью стволов и полированным деревом прикладов, кружком устроились старики — его закадычные друзья — целый польский стрелковый батальон, все родом с Карпат, в куртках, отделанных мехом, и в охотничьих шляпах.
Тут же стоял и его старый управляющий, краснолицый, рыжеволосый, в шляпе с круглой плоской тульей и загнутыми полями, надвинутой на уши и точно намертво приделанной к металлической оправе очков.
Холодный ветер, что дул весь предыдущий день, давно улегся. Две сотни убитых газелей, сваленных в кучу, были в отличном состоянии, и хозяин фермы налил себе еще виски.
Бутылка сверкнула янтарно-золотистыми искрами в солнечных лучах; в воздухе чувствовался аромат жарившегося мяса — бараньих ребрышек, колбасок и, что было вкуснее всего, печени и почек только что подстреленных антилоп. Стреноженные лошади дремали под деревом, а слуги сгрудились у разожженного неподалеку костра. Как и все его старинные друзья, хозяин фермы был в галстуке, в любимой коричневой шляпе и старом твидовом пиджаке — это тоже являлось частью давным-давно установленного распорядка вещей.
Его внук и приятель внука были в охотничьих сапогах и расстегнутых рубашках цвета хаки, а беседовали они о своих будущих карьерах и содержании заповедников. Оба недавно прослушали лекцию, и им наглядно продемонстрировали типичную ситуацию сверхинтенсивного использования пастбищ, когда загнанные в загоны отборные животные, например овцы, превращают первоначально богатую серебристыми травами и сочными суккулентами равнину сперва в полупустыню, а потом и в бесплодную, эрозированную пустыню.
Совсем другой разговор шел среди тех, кто собрался вокруг хозяина фермы; здесь говорили о стрельбе, рассказывали истории о давным-давно исчезнувших с лица земли государствах, о диких кабанах и оленях, на которых охотились в заснеженных лесах.
Эти рассказы были исполнены ностальгии, но отнюдь не пустого хвастовства; в них всегда ощущалось уважение к древнему мастерству охотника, будь то или в далекой северной стране среди Карпатских гор, или под жарким солнцем Африки, где так много различной дичи, даже в пустынях. Все это были некие «реликтовые экспонаты», представители старой европейской аристократии, знававшие времена, когда охота была чистым спортом и секретарь любого охотничьего общества знал каждый ствол и каждому давал возможность проявить себя, а убитые животные считались по головам и непременно велась запись в охотничьей книге владельца данного края.
Возле костра, на котором жарилось мясо, разговор был громче и оживленнее, а порой слышались даже взрывы смеха, отчего Пятница вздрагивал, дергал ушами и крутил головой.
Одного из загонщиков во время охоты сбросила лошадь, и теперь он оправдывался, объясняя, как все это случилось.
Оказывается, чья-то пуля пролетела буквально в двадцати сантиметрах от его лица, ее-то свист и испугал лошадь. К сожалению — однако к полному восторгу слушателей, — рассказчик был заикой, и его эмоциональный рассказ, сопровождавшийся бесконечным раздраженным тыканьем пальцем в сторону явного виновника происшествия, старика в куртке с меховым воротником и охотничьей шляпе, чрезвычайно всех веселил.
Внук хозяина фермы Джордж взял бинокль и, искоса глянув на собравшихся вокруг деда гостей, попытался что-то рассмотреть вдали. Тут же трое дедовых приятелей тоже вскинули свои бинокли.
— Ты что там высматриваешь? — спросил Джорджа его приятель.
— Еще не понял; а вот старцы, похоже, весьма заинтересовались. — Вдруг он воскликнул: — Э, да это дикий кот! Его отлично видно. Вот, посмотри-ка. — Он протянул приятелю бинокль, а сам, склонившись над его плечом, давал указания: — Видишь два белых камня? На самой вершине холма? Теперь возьми метра на два вправо — там такой маленький зеленый кустик, чуть левее…
— Да… я его вижу! Господи, да я впервые в жизни встречаю дикого кота!
Он все еще не отрывал бинокля от глаз, когда Джордж хлопнул его по плечу и злобно прошипел:
— Черт побери! Вон тот старый урод уже за ружьем тянется.
Видно, собрался в кота стрелять.
— Да неужели? И что же теперь?
— Погоди-ка, дай мне винтовку.
— Что это ты задумал?
— Да ничего особенного, просто хочу кота спугнуть.
Юноша взял теплую куртку с переднего сиденья пикапа и устроился на земле за капотом машины, где его не было видно гостям. Он быстро перезарядил ружье, настроил оптический прицел, лег плашмя и выждал несколько секунд.
Треска спущенного курка Пятница не услышал, но услышал, как просвистела пуля и что-то взорвалось возле самой его головы; каменные осколки и засохший помет разлетелись во все стороны, что было очень странно в окружавшем его море тишины и терпеливого ожидания; он подпрыгнул и сломя голову бросился в кустарник чуть ниже по склону холма.
— Отличный выстрел, Джордж! Кота как ветром сдуло! — восторженно прошипел приятель у Джорджа за спиной, опуская бинокль и похрюкивая от сдерживаемого смеха. Он плюхнулся на землю рядом с Джорджем и еле выговорил: — Жаль, ты не видел, какая у этого старца была физиономия.
Джордж высунул голову, точно боец из окопа, и осторожно посмотрел сквозь стекло кабины в сторону стариков. Потом осторожно извлек пустую гильзу, которая слабо звякнула, ударившись о дверцу пикапа, а потом они некоторое время просто катались по траве, ослабев от сдерживаемого хохота.
— Ну конечно, теперь он рассказывает, что стрелять вовсе и не собирался! Вон, кладет ружье… А теперь сюда смотрит.
— Мы невинны, как новорожденные младенцы! — заявил его друг. — Мы и понятия не имели, что он собирался делать, верно?
Они снова затряслись от смеха, так что задребезжала дверца пикапа.
А старики вновь сплотили свои ряды и возобновили неспешный разговор, попивая виски и щурясь на солнце.
Когда спустилась ночь, Пятница пробрался к опустевшей наконец ветряной мельнице. Он слегка касался земли носом, старательно принюхиваясь, и вскоре наткнулся на остывшую золу кострища — чуть теплое беловатое пятно — и заворчал, готовый драться за свою добычу. Ему откликнулись две генетты, да мелькнул неподалеку похожий на серую змею мангуст, уносящий в пасти свою добычу.
В разное время ночи это место посетили разные существа — шакал, дикобраз, дикий кот с черными лапками и две длинноухие лисицы, однако Пятница уже успел урвать свою долю, и ему досталось даже больше, чем всем остальным: охотники оставили недалеко от костра внутренности двух десятков южноафриканских газелей, так что хватило всем собравшимся здесь ночным хищникам, и, кроме оскаленных зубов, негромкого ворчания или резкого пугающего броска в сторону соперника, никаких особых инцидентов между ними не было.
Пятница провел возле мельницы двое суток, и к концу второй ночи там не осталось ничего, кроме кострища, что напоминало бы о той многолюдной охотничьей компании.
Полузатоптанные пятна засохшей крови, несколько седых волосков и блестящие бронзовые гильзы, которые со временем потемнеют, как и те, что лежали здесь прежде, — вот и все следы отвратительной бойни.
Были здесь и другие следы: сношенные лошадиные подковы, медленно ржавевшие в сухом воздухе пустыни, и свинцовые кругляшки, которыми стреляют из гладкоствольных старых ружей. Пятница равнодушно обследовал неизвестные предметы, прошел мимо пещер, некогда служивших жилищами бушменам, нарисовавшим на их стенах антилоп и людей с похожими на палочки руками и ногами, — эти художники жили здесь за много веков до появления тех, кто стреляет из ружей и ездит верхом на лошадях. Пятница не обратил внимания и на те древние каменные орудия труда, которые принадлежали еще более древним обитателям этих пещер, жившим за тысячи лет до появления бушменских художников. А еще на этих равнинах ему не раз попадались окаменевшие кости рептилий, которые некогда жили здесь, в теплом море, за миллионы лет до создателей каменных орудий.
Современный наблюдательный человек, возможно, задумался бы над символическим значением всех этих следов, оставленных охотниками, переселенцами из Европы и первобытными художниками-бушменами, создателями прекрасной наскальной живописи. Первые занимались тем, что уничтожали природу с помощью пуль, а позже — с помощью бесчисленного количества скота; последние существовали в нерасторжимой связи с природой, словно растворяясь в ней, и в мире животных считались просто хищниками, способными, впрочем, соперничать со львами, леопардами и гепардами.
Возможно, защищаясь от природы, те, кто совсем недавно оккупировал эти земли, не признали в ней первобытного рая, который царил вокруг и который они видели постоянно, поскольку им внушили, что в раю непременно должна быть пышная растительность, журчащие ручьи и благодать; и в полном соответствии со своей человеческой природой — а людям свойственно обладать тем, что они любят, и стремиться узнать все об излюбленном предмете, чтобы обрести власть над ним, — эти люди поймали духов этой дикой земли, воплощенных в те прекрасные существа, что жили здесь. Однако же руководствовались они не любовью, а ненавистью: ненавидели здешние суровые безводные зимы, львов и отравленные стрелы. Для бушменов рай был там, где жизнь легка, где есть пища, а пищей им служили животные, миллионы диких животных, на которых могли охотиться. Но европейцы, давно забывшие, что некогда эта аксиома была верна и для них, жаждали лишь власти над тем, что теперь стало им недоступно, и сходили с ума от этой кровавой жажды разрушения.
Много, очень много поколений тому назад койсанские народы поняли эту простую истину. А более поздние представители этих народов, понимая ее, еще и яростно стремились защитить свои любимые края от белых варваров.
Пятница сидел на плоском камне, еще хранившем дневное тепло, и наблюдал за медленно подкрадывающейся темнотой.
Зрачки его расширились, чувства были напряжены до предела; ожидая, когда уляжется ветер, он пару раз зевнул и стал вылизывать прежде всего пах и живот. День был холодный, ветреный; в воздухе чувствовалось леденящее дыхание снегов с далеких гор на юге. Порывы ветра своими холодными пальцами ворошили шерсть кота, раздували усы, но особого впечатления, впрочем, на него не производили — спасал густой пушистый подшерсток. Пятница поморгал, и молочного цвета защитные пленки, прикрывавшие глазные яблоки, извлекли крохотные песчинки, попавшие в глаза, когда он неотрывно смотрел на юг, как и всегда перед очередным долгим переходом. У него за спиной, уже отчасти стершиеся в памяти, были четыре с половиной месяца осенних и зимних странствований, более тысячи километров пустыни.
Вперед он продвигался медленно, однако же для него это особого значения не имело и совершенно не меняло ровного ощущения взятого ранее следа. Безжизненные днем, как это могло показаться, равнины, монотонно сменявшие одна другую, ночью кишели жизнью: здесь было полно шакалов, лисиц, мангустов, земляных волков, хорьков, генетт, барсуков, дикобразов и мелких чернолапых диких кошек — ближайших родственников Пятницы. Всех этих зверей он не особенно опасался, но порой обстоятельства заставляли его пересекать охотничьи территории больших диких котов, а встречи с этими тварями всегда были очень неприятны.
Линия его пути неизменно имела форму зигзага, поскольку шел он по руслам высохших рек. Реки отыскать было нетрудно — зеленые полосы колючей растительности среди почти голой пустыни; деревья, как и всегда, давали Пятнице и тень в лунные ночи, в которой ему легко было укрыться, и убежище, и пищу; возле них он часто находил и случайно сохранившиеся водоемы. Все это было не менее важно и для всех прочих хищников, так что Пятница редко оставался в одиночестве: вечно поблизости оказывался совершенно нежелательный сосед. Пищей некоторым животным служили такие, казалось бы, совершенно несъедобные вещи, как древесные грибы, росшие на колючих акациях, и смолы, которые выделялись сквозь трещины в коре; однако Пятница всегда мог поймать ночью песчанку или водяную крысу, а днем — полосатую мышь-полевку. А как-то раз на каменистой тропке, укрытой травой и низкорослым кустарником, поймал даже молодого рыжего капского дамана и пообедал на славу.
Днем эти суровые края, словно забытые всеми, кроме солнца, казались пустынными, заброшенными, и жизнь здесь проявлялась лишь в виде парящего в небесах чернокрылого коршуна или орла, озиравшего вельд в поисках стинбока.
Когда одно из этих наполнявшихся водой лишь в период дождей русел рек поворачивало слишком сильно на запад, Пятнице приходилось пробираться по открытой местности до другой пересохшей речки, и лишь луна видела, как с каждой неделей он все ближе подходил к горам, к возделанным полям в долинах, окруженным более мощными и густыми деревьями. Зима вела свои последние жестокие бои перед отступлением. Однако самый холодный период путешествия Пятницы был еще впереди.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
РОХХЕФЕЛЬДБЕРГЕ
Почти незаметно для Пятницы — разве что здесь была чуть иная растительность и обитатели — местность начала постепенно повышаться. С каждым днем плоская равнина на севере, откуда он пришел, казалась все более далекой. Широкое голубовато-серое пространство, покрытое бесчисленными пятнами корявых, с мясистыми листьями суккулентов, где паслось бесчисленное множество овец и африканских газелей, куда-то отступало, деревья стали попадаться все реже, потом исчезли совсем, только возле цистерн с водой и ферм порой торчало одинокое дерево да возле площадок для пикников у шоссе сохранилась какая-то растительность. Это была суровая, каменистая местность, богатая сланцами, особенно в предгорьях.
Единственным способом как-то определить продолжительность пути, как бы бесконечной лентой скручивавшегося у Пятницы за спиной, были его потери в весе; или еще можно было попытаться пересчитать следы, оставленные им на этой недоброй земле, или внимательно рассмотреть, на сколько более пушистой стала его шкурка — теперь ему в такой шубе не страшен был любой холод. Когти у него стали крепче, мощнее и длиннее, а чувства обострились до предела. Он уже начал подъем в горы, находившиеся на юго-западе Капской провинции, и теперь всего триста километров отделяли его от Анны.
Ветряные мельницы по-прежнему притягивали его как магниты, и он медленно продвигался зигзагом от одной из них до другой по заросшей несколько иным, низкорослым кустарником местности, и точно так же, зигзагом, тянулось рядом с ним в горы шоссе. Ветряные мельницы были как-то связаны с этим шоссе, и наоборот, само шоссе тоже связано было с руслами пересохших рек, с многочисленными тропами, промоинами и оврагами в несколько километров длиной, выходившими в широкие долины, где виднелись фермы и опять же торчали все те же ветряные мельницы; кое-где возле мельниц были возделанные поля и даже небольшие селения. Населенных мест он избегал, как и прежде, однако же теперь ему не требовалось обходить их слишком далеко; так или иначе, вскоре он снова оказывался на черной ленте шоссе, тоже отмеченном, насколько хватало глаз, сверкавшими на солнце незнакомыми строениями на четырех опорах, но уже не мельницами. Это были столбы высоковольтной линии, и они не представляли для Пятницы ни малейшего интереса, разве что служили ему указателями направления, как и металлические ограждения вдоль шоссе, которые, изгибаясь, тянулись порой на десятки километров по крутым склонам оврагов или горловинам рек, где гуляли ветры.
Разметка шоссе и ограничительные столбики по обочинам в таких местах были выкрашены разными красками — светящейся в темноте красной, серой и охряной, — и повсюду торчали высокие белые бордюрные камни, которыми были выложены и границы чуть покатых стоянок на склонах, так что Пятница порой срезал путь и перебирался с одной такой площадки на другую по прямой, поскольку белые камни были видны издалека. От него с пронзительными криками удирали даманы, нырявшие в свои норки среди камней, однако же он не часто бывал настолько голоден, чтобы тратить драгоценное ночное время на довольно трудную охоту за ними.
Однажды его пребольно укусил крупный сердитый даман-самец, на которого он прыгнул сверху, а в другой раз, когда даманы по случаю его появления подняли дикий переполох, он оказался объектом внимания черного орла. Даманы очень любили погреться на солнышке, и тогда поймать их было относительно легко, но Пятница не мог позволить себе ждать, пока солнце осветит все утесы, рассеется тьма и небо засияет разноцветьем тонов, ибо только тогда даманы наконец вылезали из своих нор.
В ночные часы, когда он находился в пути, его соперниками, как и всегда, становились серые мангусты и шакалы. Изгороди, защищавшие шоссе от шакалов, встречались здесь везде, как и на протяжении уже пройденной Пятницей тысячи километров; изгороди карабкались по немыслимым каменистым кручам и отвесным утесам, но для Пятницы препятствием не служили, и если проволочная сетка оказывалась специально загнута и вкопана в землю, то он легко перелезал через изгородь по деревянным столбикам, служившим опорами.
Если его заставала в пути и первая половина утра, то он предпочитал вообще не показываться и уж тем более не влезать на столбики ограды, а старался отыскать в сетке дыру — и почти всегда находил ее — и проскальзывал в нее, не тратя лишних сил. В этой каменистой стране ему угрожали отнюдь не леопарды, которых на юге Африки осталось совсем мало, и даже не орлы, а бабуины, царившие здесь повсюду: они висели на скалах, оглядывая окрестности внимательными карими глазами.
Их отряды редко насчитывали менее двух десятков обезьян, а порой даже более сотни, и ничье движение не могло ускользнуть от их внимания. Прочесывая вельд, они выстраивались в ряд, длиннорукие, неопрятные, похожие на огромных, скачущих по равнине пауков, сметающих на своем пути все, что оказывалось слабее их, все, до чего они могли дотянуться, отодрать от скал или достать из-под камней. Даже стинбоки и серые рибоки в страхе бежали при их приближении: стинбоки старались укрыться в густом кустарнике, если он был поблизости, а рибоки, точно скаковые лошади, устремлялись к скалам и забирались на немыслимую высоту, один за другим, такие же серые, как растущие на этих скалах кусты и лишайники, и сливавшиеся с ними; выдавали их лишь пушистые белые кисточки на кончике хвоста, которые мелькали точно пушистые шарики, поднятые с земли ветром.
Бабуинов тоже привлекали ветряные мельницы и находившиеся возле них огромные круглые открытые цистерны с водой, которые казались как бы маленькими озерами, когда по их поверхности пробегали небольшие волны, а «на берегах» собиралось множество мелких животных. По ободу таких цистерн тянулась кирпичная кладка, и Пятница часто прогуливался по ней, хотя порой и вовсе не мог подойти к цистерне, и приходилось лакать где-нибудь в укромном уголке, низко опустив голову, из лужицы. Стенки цистерн были иногда слишком высокими и крутыми, чтобы он мог просто вспрыгнуть на них, и становились недоступными, если поблизости он не обнаруживал какой-нибудь удобной ветки или кучки камней. Посетив за время своего путешествия по меньшей мере сотню таких цистерн, Пятница отлично был с ними знаком и совсем уж редко не мог добраться до воды. Впрочем, несколько раз его постигло разочарование. Например, встречались ветряные мельницы со сломанными крыльями, а возле них — совершенно пустые цистерны, потрескавшиеся и ожидавшие ремонта; а порой цистерны с водой охраняло целое стадо бабуинов, не желавшее уходить оттуда в течение всего жаркого дня, а Пятнице, который обычно всю ночь находился в пути, к утру страшно хотелось пить — теперь ему особенно нужна была вода, и ее наличие сильно сказывалось на скорости его продвижения на юг.
Однажды среди холмов и долин Роххефельдберге и Комсберге он целый день проторчал на самых верхних и тонких ветвях огромного дерева, а его мучители, павианы, играли и искали друг у друга блох, время от времени поглядывая на него снизу и скаля клыки.
В другой раз он поиграл с ними в смертельно опасную игру, спрятавшись в остове старого брошенного мотоцикла.
Карие глазищи бабуинов посверкивали вокруг, высматривая кота сквозь проржавевший до дыр металл, он слышал топот их лап у себя над головой и страдал от страха и отвращения.
Бабуинов он ненавидел даже больше, чем каракалов и леопардов, и уж конечно больше загадочных львов.
Продвигаясь среди здешних низкорослых кустарников — человеку они были по колено, но коту все же казались настоящим лесом из спутанных черных стволов и ветвей, — он крался, как маленький леопард, и местным мелким крысам казался, должно быть, чуть ли не великаном.
На склонах похожих на американские горы холмов порой встречались целые участки, заросшие дикой рожью, от которой эта горная гряда и получила свое название; здесь всегда было полно крыс и полосатых полевок. Пятница здорово наловчился охотиться на них, всегда стараясь залечь возле проложенной ими тропки, а потом одним ударом сразить жертву. Впрочем, на рассвете ему частенько приходилось оставаться с носом и потом долго моргать глазами среди пыльной листвы, если вспугнутая им капская куропатка, серая и жирная, похожая на обыкновенную курицу, вдруг взлетала совсем рядом, громко хлопая сильными крыльями.
Однажды он поймал взрослого зайца и весьма удачно избежал удара его когтистой задней лапы, промелькнувшей на волосок от его глаза; зайцу он тут же перекусил шейные позвонки. Такое получилось у него впервые, и после удачной охоты он позволил себе вдоволь попрыгать и покувыркаться, помурлыкать и помяукать. Но заяц оказался слишком тяжел, и в воздух его подбросить не удалось, хотя Пятница попытался сделать это и сам неуклюже повис головой вниз, перекувырнулся, смущенный таким оборотом дела, и еще три раза проделал тот же самый трюк, притворяясь, что именно этого и хотел с самого начала. Это был небольшой капский заяц, примерно в два раза легче Пятницы, с красновато-рыжей шерстью, хотя ни шерсть, ни мягкий пух на брюхе Пятницу не интересовали, и он легко ободрал с зайца шкуру когтями.
Его самоуверенность и беспечность после поимки второго зайца, что произошло тремя днями позже, чуть было не стоили ему глаза; это случилось среди пшеничных полей к востоку от Матрусберге. Этого длинноухого зверька он схватил, как и предыдущих, за горло, однако это оказался совсем другой заяц и весил он столько же, сколько и сам Пятница. Кот вцепился в его мягкую шерсть и совершенно неожиданно оказался на скачущем зайце верхом, но тут же получил удар сбоку по голове и полетел на землю, оглушенный и совершенно потерявший ориентацию.
На шоссе всегда можно было найти падаль, хотя сам Пятница пользовался этим не часто. Днем пестрые вороны, парившие над дорогой на своих широких крыльях, камнем падали вниз, и их чрезмерно близкое соседство ему не слишком-то нравилось, как и соседство ястреба-тетеревятника или пустельги. Вряд ли имело смысл штурмовать черные отвесные утесы, хотя вперед он продвигался очень медленно, но и обходные пути стали трудны, и все реже удавалось поймать какого-нибудь грызуна, которого он теперь хорошо приспособился определять по запаху. Исчезли и бесконечные отары пасущихся овец, порой причинявшие ему столько беспокойства, особенно когда пастух перегонял их с одного места на другое и как раз там, где Пятница улегся вздремнуть в дневные часы. Отары овец сопровождали не только пастухи, но и собаки, хотя и сами пастухи не могли устоять перед соблазном швырнуть палку в любого, даже самого маленького и удирающего от них зверька.
Здесь, в теперешней его жизни, встречались порой лишь черноголовые высокогорные овцы со всей своей «свитой», и их отар следовало избегать точно также, как и отар мериносов.
Было и кое-что совершенно новое: появилось ощущение «конца туннеля». Присев на камень и глядя на раскинувшуюся внизу обширную долину, перегороженную рядами холмов, Пятница понимал, что здесь совсем иные края и все здесь иначе. Когда вставало солнце, он видел не только ту черную дорогу, которой держался, но и другую, еще более широкую, пересекавшуюся с первой. Здесь гораздо чаще попадались предметы, которые он привык ассоциировать с людьми: похожие на стальную паутину линии высоковольтных электропередач, серебрившиеся в утреннем свете, телефонные столбы, движущиеся по шоссе автомобили, поезда на железной дороге, дома и амбары.
Ощущение места, где сейчас находилась Анна, было чрезвычайно сильным, и Пятница ждал, сидя на вершине холма, пока солнце взойдет достаточно высоко, чтобы получить ясное представление о раскинувшейся впереди горной гряде.
В ту ночь он обошел кругом конечную железнодорожную станцию, широкими прыжками перемахнул через шоссе и некоторое время отдыхал, восстанавливая дыхание, прежде чем начать очередной подъем. Когда он снова отыскал нужную дорогу, то она вела прямо на юг, и он все время держался ее обочины, видя, как мимо проносятся машины, и ощущая под лапами теплый асфальт.
Однажды — и это был последний урок осторожности, который преподнесли ему дороги, — он присел перед останками огромного филина, ставшего жертвой собственной неосторожности, и с любопытством их разглядывал, когда его задело колесо мчавшейся на большой скорости машины.
Вот и теперь, крадясь по обочине дороги, он вдруг услышал стук металла по кости и увидел очередного мертвого зверька — ушастую лисицу прямо у него перед носом бесформенной грудой отшвырнул в кусты налетевший на нее автомобиль. Пятница не растерялся и вдоволь набил брюхо.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
В ЧЕРНЫХ ГОРАХ
Потребовалось немало времени, чтобы преодолеть бесконечные горные долины и подняться по заросшим густым кустарником склонам, — от новолуния до полнолуния, — однако же Пятнице эти полмесяца особенно долгими не показались.
Для него это был просто очередной короткий отрезок пути и жизни, к которой приходилось приспосабливаться. В густых зарослях он довольно быстро вспомнил кое-какие приемы охоты, которыми пользовался в прежней своей жизни на самом юге Африканского континента, только здесь было холоднее и гораздо реже светило солнце. Мыши и слепыши далеко от своих нор не отходили, зато ему удавалось гораздо чаще, чем в пустыне, ловить птиц, например нектарниц, очень теплых и вкусных, хотя и крошечных, на один глоток каждая.
Это случилось на дне оврага, наполненного грохотом горного потока и вздохами ветра: Пятница почуял свежий запах леопардов, которые, видимо, как и он сам, заинтересовались большой стаей куропаток, копавшихся в песке на обнесенном изгородью участке пашни рядом с проселочной дорогой, вдоль которой и следовал Пятница. Леопарды один за другим спускались к реке, когда он увидел их: желто-черные в свете зари, яркие на фоне сероватой зелени. Пятница тут же свернул в сторону, решив отказаться от посещения той рощи, к которой направлялся, и поспешно стал подниматься по склону, далеко обходя и дорогу, и тот овраг, где, скорее всего, леопарды и обитали.
Пробираясь сквозь заросли вечнозеленой маккии на северных склонах гор, Пятница был не видим ни для кого, кроме самых маленьких существ, обитавших или охотившихся здесь. Но постепенно растительность поредела, крутизна склонов уменьшилась, холмы стали более округлыми, и он оказался совсем высоко в горах.
На юге он видел бесконечные холмы и вершины гор, а также огромную долину, край которой тонул за горизонтом в голубоватой дымке; раннее солнце, просвечивая сквозь облака и туман, превращало местность в подобие яркого лоскутного одеяла. И где-то там, вдали, была конечная точка его путешествия, теперь манившая еще сильнее, чем прежде. Седловина между двумя округлыми вершинами, покрытыми редкой растительностью, на несколько дней стала для Пятницы охотничьей территорией, и он бродил от одной поросшей лишайниками скалы до другой в радиусе примерно двух километров, порой заходя и в более густые заросли на севере, в той стороне, откуда пришел, и охотился на ту мелкую дичь, которая была ему так хорошо знакома, но никогда не отваживался пересекать южную границу своей территории.
Здесь не было других крупных хищников, которые могли бы угрожать ему, не было и орлов, но стоял ужасный холод.
Пятница отыскал себе удобное логово с единственным входом между двумя касавшимися друг друга валунами и скалистой стеной, закрывавшей пещерку от ветра. Скала поросла пятнами серых лишайников; здесь почти постоянно была тень — от соседней, более высокой вершины, и даже утром солнце не могло нарушить умиротворяющую тьму, царившую в его убежище.
Поскольку в синих небесах орлы так и не появлялись, Пятница позволял себе понежиться на солнце, несколько переменив привычный распорядок охоты, но, как всегда, внимательно осматривал территорию, постепенно раскрывая ее маленькие тайны. Согласно кошачьей логике (то есть когда часы равны минутам или секундам), это было очень полезное и интересное занятие. Однажды за целый день не случилось ровным счетом ничего, и Пятница весь день продремал; не спали только его уши, и — как всегда! — терпение кота было вознаграждено.
Сокол-сапсан, высматривая что-то на земле и то снижаясь и замедляя полет, то вновь взмывая ввысь, тенью мелькнул в небесах, и обычно плаксивый крик его превратился в громкое стаккато, разнесшееся по всему ущелью. Когда сапсан в очередной раз резко взмыл ввысь, стая серокрылых кекликов, вспугнутых им, пролетела невысоко над землей и опустилась на другом конце пропасти. Заметив хищно кружившего над ними и готового спикировать сапсана, кеклики бросились спасаться, а одна птичка побежала вниз по северному склону, вторая же спряталась за ту скалу, где притаился Пятница.
Кот приподнял голову, следя за полетом куропаток, и дернул хвостом, а сапсан, спикировав прямо против солнца, схватил одного кеклика — только перья полетели, — вонзил когти ему в основание черепа и снова стремительно взмыл в вышину.
Кеклик, роняя пух и перья, вздрогнул в последний раз и обмяк в страшных когтях хищника; его голова, оторванная сапсаном от тела, откатилась в сторону, ударившись о камень, за которым притаился Пятница. При этом на землю пролилась одна-единственная капля крови.
Уши кота подергивались; он был чрезвычайно возбужден и заинтересован; приподнявшись, он медленно пополз к пролитой кекликом крови, понюхал ее, потом прыгнул, мягко приземлившись рядом с головой мертвой птицы, и, откусив ненужный клюв, захрустел с довольным урчанием хрупкими косточками. А метрах в пятидесяти от него терзал обезглавленную тушку куропатки сапсан, время от времени посматривая желтым глазом на Пятницу.
Ночью стало еще холоднее, и утреннее солнце с трудом пробилось сквозь белые облака, за пеленой которых оно казалось лишь слабо светившимся пятном. Сильный ветер мешал Пятнице охотиться, но голод и холод не позволяли оставаться на месте, и он все время бродил вокруг, а если и засыпал, то ненадолго и вскоре снова просыпался и караулил у трещин в скалах ящериц и гекконов.
Когда же ветер улегся — столь же внезапно, как и начался, — совсем потемнело; облака больше не светились, а стали почти черными, страшными. Стадо серых рибоков пересекло седловину, мелькая длинными, как у скаковых лошадок, ногами, — антилопы одна за другой исчезли в тумане, точно серые призраки, лишь белые «флажки» бегущих впереди указывали остальным направление. Вскоре Пятница услышал, как они на своем пути, где-то уже на другом склоне горы, вспугнули стаю кекликов, взлетевших с мелодичными криками.
Сапсаны тоже больше не появлялись; тишина и всеобъемлющая отрешенность воцарились над вершинами гор; и в этой тишине начали падать первые хлопья снега.
И тут появились бабуины, покидавшие горы в поисках теплой долины внизу, в предгорьях. Хрустальная тишина вдруг вдребезги разлетелась от лая вожака павианьего стада. Эхо прокатилось до самой далекой пропасти, до тех мест, где в долине виднелась тополевая роща и зеленеющие дубы на границе уединенной фермы. Пятница и раньше видел такие деревья — их-то он и наметил в качестве следующей цели, — однако бесконечные трещины и крутые утесы замедляли его продвижение к ним. И потом, он считал, что лучше всего спускаться вдоль ручья, извивавшегося в ущелье.
Резкий лай бабуинов встревожил его — он дернул ушами и прижал их: неприятный шум был совсем близко. Бабуины заорали так, что чуть не оглушили кота; они разместились на вершине скалы у него за спиной. О, эти голоса он слишком хорошо знал! Еще вчера он слышал их — тогда они воспринимались всего лишь как невнятный шум где-то за дальней горой.
Появление из тумана этой неопрятной, шаркающей ногами орды черных и отвратительных существ с задранными крючком хвостами, неуклюжих и огромных, вызвало у Пятницы бешеный выброс адреналина. А обезьяны уже окружили его со всех сторон, и негде было от них спрятаться. Банда остановилась по беззвучному приказанию вожака, на мгновение стало тихо, и тогда звук скатившегося со скалы камешка заставил Пятницу посмотреть вверх, туда, где в скале, прямо у него за спиной, была небольшая трещина. Огромный вожак сидел, точно гранитный монумент; лохмы на его удлиненной отвратительной морде трепал вновь поднимавшийся ветер, и непонятно было, что у него на уме: физиономия его точно расплывалась в шевелящейся шерсти. Однако глаза горели черным огнем, когда он смотрел на ту сторону ущелья и туда, где исчезала в тумане тонкая сверкающая нитка водопада и блестели влажные камни, а в самом низу виднелась одинокая ферма.
Вожак поднял квадратную морду и приоткрыл пасть, чтобы лучше улавливать запахи; Пятница заметил, как блеснули его желтоватые клыки, каждый длиной с кошачье ухо, быстро повернулся и скользнул прочь. Бабуины оглушительно залаяли ему вслед, он совершенно обалдел от этого шума, а еще через мгновение кто-то сильный схватил его за хвост, поднял над землей и быстро понес куда-то. Совершенно потеряв ориентацию и видя перед собой бешено вращавшееся и качавшееся небо, Пятница вырвался, взлетел в воздух и, изогнувшись, приземлился на все четыре лапы, но не успел коснуться земли, как его снова схватили — на этот раз за шиворот — и бросили в жесткую, росшую пучками траву.
Его мучители собрались вокруг, скаля зубы, кривляясь и время от времени разражаясь диким лаем. Они с восторгом хлопали передними лапами — это было отличное развлечение, а потом, если повезет, можно было урвать кусок и неплохо закусить, а молодым обезьянам в итоге досталась бы шкура — позабавиться. Пятница ударил по черной ладони одной из обезьян когтями — ударил с наслаждением, глубоко вонзив свое оружие в мягкую плоть и оставив глубокие и длинные царапины; ладонь исчезла, и он снова взлетел в воздух, подброшенный за хвост, и сильно ударился о камни. Удар оглушил его, и он даже на время потерял сознание, а очнувшись, увидел, что вокруг стало еще темнее. Темнота и свет странно чередовались. Он обнаружил, что лежит на дне неглубокой, но узкой расщелины, и бабуины, столпившиеся над ним, не могут до него дотянуться, несмотря на бесконечные попытки и хлопанье в ладоши. Они не доставали до Пятницы всего чуть-чуть, сантиметров десять — пятнадцать, так что он лежал неподвижно, едва дыша, лишь глазами сверкал по-прежнему свирепо, пугая молодых обезьян.
Вскоре, впрочем, вожак лаем отозвал остальных бабуинов, и их морды одна за другой исчезли. Когда до Пятницы в очередной раз донесся рев и лай, стая уже почти спустилась в ущелье и первые ряды с плеском перебирались через озерцо под водопадом, а гулкое эхо металось среди крутых утесов.
Кот пролежал в трещине до наступления полной темноты, понимая, что ранен и что более никому из возможных агрессоров отпора оказать уже не сможет. Выбравшись на поверхность скалы, он с трудом заковылял к своему логову: повреждено было правое бедро. Неровные кошачьи следы и капельки крови рядом с ними уже к рассвету совершенно замело снегом, хотя эти двадцать метров Пятнице пришлось практически ползти на брюхе.
Весь следующий день тоже шел снег; Пятница, поудобней устроившись в своем логове, зализывал рану. Прошли сутки, и когда снова стало светло и немного потеплело, он осмелился выползти и опробовать раненую лапу. Он все еще щадил ее, однако уже был способен вскарабкаться на ближнюю скалу и осмотреть ослепительно белый и голубой мир, раскинувшийся вокруг. Снег лежал нетронутым покровом, седловина стала совершенно неузнаваемой. Снежная белизна лишь кое-где нарушалась торчавшими над ней серыми или черными пиками скалистых безжизненных вершин; ничто не двигалось вокруг, стояла полная тишина.
Пятница напился из мелкого горного ручейка и лакал очень долго, а солнышко грело ему спину; потом, прищурившись, он стал осматривать лоскутное одеяло фермерских полей внизу, уходивших за горизонт. Все вокруг казалось очень чистым, промытым; вода в запрудах сверкала зеркалами; аккуратные прямоугольные поля отсвечивали легкой зеленью. Эта страна внизу неумолимо тянула его к себе, но торопиться не следовало; Пятница зевнул во весь рот и принялся умываться.
На второй солнечный день снега начали таять, и вокруг распространился замечательный запах свежего белья. Появились проталины с кружевными льдистыми краями; в проталины проглядывала трава. Пятница был голоден. Рана на бедре, отлично вылизанная и совершенно очищенная от шерсти и грязи, его почти не беспокоила, и он снова мог легко двигаться, но пока еще не был готов к новому броску на юг, да и снега вокруг было многовато. К тому же он знал, что именно на юг ушли бабуины.
Крошечные лапки мышей оставляли на снегу паутину следов; эти деятельные зверюшки без устали сновали туда-сюда, а поскольку Пятнице ни одной мыши так и не удалось увидеть, он стал принюхиваться, дергая носом, и разгребать лапкой снег через каждые несколько шагов. По виду его и особенно по настороженным ушам сразу становилось ясно, что он очень заинтересован. Отдельные следы вели на уже обтаявшую поверхность скалы, покрытую лишайниками, и дальше, туда, где сидели бабуины. Мыши рылись в обезьяньем помете в поисках насекомых и непереваренных зерен. Мыши доели и два хвоста гекконов, которые не стал есть Пятница, и даже обглодали выброшенный им клюв кеклика. Но он все-таки отыскал их нору — с севера от груды валунов; сейчас, при ярком солнечном свете, было слишком светло и тихо, чтобы охотиться, однако он хорошо знал, куда непременно придет, как только взойдет луна.
Огромная луна превратила полный опасности неприветливый мирок, окружавший Пятницу на склоне горы, в сверкающее волшебное царство; было так светло, что ему почти не требовалось ни расширять, ни сужать зрачки, чтобы лучше видеть.
Он отыскал колонию мышей именно там, где она и должна была быть. Колония была большая. Собственно, это были не мыши, а маленькие, с торчавшей пучками шерстью колючие рисовые хомячки. Спинки у этих зверьков были коричневые, бока рыжевато-ржавые, а брюшки белые; весь покрытый трещинами склон горы до зарослей кустарников буквально кишел ими.
Мангусты, известные хомячкам как опасные хищники, а также генетты были ночными хищниками; хорошо знакомы им были и пятнистые совы, однако никто из их колонии никогда не встречал еще дикого кота. Пятница припал к земле в тенистой, полной снега впадинке и сверкающими глазами следил за тем, как рисовые хомячки сновали туда-сюда; уши кота стояли торчком и подрагивали от напряжения. Остаток ночи он провел в таком восторге от охоты, что даже светлый образ Анны несколько поблек в его душе, хотя каждый раз, когда этот образ являлся его мысленному взору, теплые волны проходили по всему его телу, даже шкура подрагивала и черные яркие полосы на сером фоне извивались.
Наевшись вволю, он весь следующий день проспал в своем логове и к ночи был совершенно готов снова пуститься в путь, даже, пожалуй, сгорал от нетерпения.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ВЕСНА
Санаторий «Гармония», где в первую очередь бросался в глаза замечательный двухэтажный особняк, а уж потом все остальные постройки в стиле капских переселенцев, окруженные огромными черными дубами, находился на вершине холма, а его границы — то есть границы той фермы, которой он когда-то был, — простирались далеко вниз через сады, где росли абрикосы, персики и груши, к реке, извивавшейся в долине.
Анна больше уже не сидела, неподвижно скрючившись в уголке беседки, а каждый день обследовала все новые уголки в этих садах, испытывая все больше интереса к жизни вокруг.
Сияние снегов на горных вершинах уже заставляло ее поднимать голову и любоваться ими; она стала ходить выпрямившись, прежней легкой походкой. Казалось, она только что пересекла в одиночку огромную безжизненную пустыню — и выжила. О возвращавшейся к ней жажде жизни свидетельствовало, например, то, что она сама стала звонить матери и друзьям, писать письма и понемногу рисовать прелестные акварели, от которых Джеймс приходил в восхищение. А однажды даже сняла туфли и с наслаждением прошлась босиком по берегу реки, чувствуя между пальцами прохладу илистого дна.
От Кейптауна до санатория было меньше трех часов езды на машине. Джеймс всегда приезжал по вторникам и средам, однако потом поменял эти дни на понедельник и вторник, чтобы заодно прихватывать и выходные.
За санаторными садами ухаживал живший по соседству фермер, которому это казалось делом выгодным, и Джеймс, познакомившись с ним и вдохновляемый Анной, которой он давно уже подарил книжку о садоводстве, стал проявлять живой интерес к плодовым деревьям. Это, впрочем, давало ему вполне пристойный повод проводить в санатории как можно больше времени, ведь приезжал он конечно же для того, чтобы повидаться с Анной.
Прекрасно сознавая это и не в силах отказаться от этих свиданий, Джеймс все же вел себя очень сдержанно и держал свои чувства под таким жестким контролем, что ни его коллеги, ни медсестры, ни нянечки не могли заметить даже малейшей нескромности в его отношениях с Анной; она считалась его пациенткой, и у медперсонала никаких подозрений не возникало.
Он был прекрасно осведомлен об опасной порой эмоциональной приверженности пациенток к своим лечащим врачам, тем более что у Анны совсем недавно умер отец. Она слишком много значила для Джеймса, чтобы допустить возникновение у нее по отношению к нему дочернего чувства.
Нет, роли отца он не хотел! Не хотел он и в будущем — пусть пока отдаленном, однако дававшем ему силы скрывать эту неразделенную любовь и какую-то надежду, — оказывать на Анну какое-то давление, не желал никакой власти над нею, ибо тогда их отношения приобрели бы оттенок неестественности.
К счастью, Анна явно возвращалась к жизни. Мэри тоже отметила это во время последнего визита в санаторий и сняла домик неподалеку, на курорте Авалон-Спрингз. По предложению Джеймса днем она возила Анну на термические источники, и он тоже часто ездил с ними, придумав, впрочем, какое-то оправдание, чтобы не купаться вместе с Анной: подобный физический контакт казался ему слишком соблазнительным и слишком опасным.
То, что он так ни разу и не прислал Мэри счета за лечение Анны и за ее пребывание в санатории «Гармония», уже в известной степени доказывало его к ней отношение; Мэри прекрасно понимала, что Анна для него — не просто пациентка, а вот коллеги Джеймса ни о чем не догадывались: он сам переводил деньги на счет санатория.
Анна так наслаждалась этими купаниями и ощущениями душевного покоя после них, что постоянно просила мать поехать туда. Дважды она просила об этом и Джеймса, но тот в обоих случаях нашел какие-то вполне пристойные отговорки.
А через некоторое время снова стал приезжать к ней реже — по вторникам и средам, и Анна была очень этим огорчена.
Однажды она даже попросила коллегу Джеймса, постоянно живущего в санатории, вызвать его из Кейптауна в Монтагью, и он приехал. Они долго и откровенно беседовали с Анной, прогуливаясь по берегу реки, и, возвращаясь назад в Кейптаун, Джеймс чувствовал себя совершенно счастливым — впервые за долгие месяцы.
После его отъезда Анна поднялась к себе и села возле электрокамина, лениво раздеваясь. Время от времени она даже посматривала на себя в зеркало — вот уже много месяцев она совсем не делала этого — и в итоге почувствовала, что улыбается.
За окном ущербная луна освещала колючий сверкающий снег на черных вершинах гор; музыка, которую передавали по радио, странно соответствовала тому настроению, которое создавал пейзаж у нее за окном, уют и тепло комнаты. Анна вытянула левую руку перед собой — рука не дрожала, словно доказывая ей, что и внутри она обрела ту же целостность, о которой ей только что поведало зеркало. Да, и мельком брошенный в зеркало взгляд, и улыбка принадлежали той, прежней Анне, и только Джеймс, ее врач, способен был заметить слабую, едва заметную, но все же характерную дрожь ее пальцев.
Прежде чем принять лекарство, она вытряхнула таблетки из пакетиков и пересчитала их — половинки прежней дозы, четвертушки… Так, еще целый месяц, но теперь у нее была новая цель в жизни!
…Пятница начал спускаться с горы в том месте, где видел тогда стадо серых рибоков, исчезнувших в языке тумана, однако пологий травянистый склон с тех пор успел превратиться в снежное поле, идти по которому оказалось очень трудно.
Пройдя километра два по глубокому снегу и спустившись в заснеженное ущелье с еще более крутыми склонами, Пятница совершенно вымотался: передвигаться приходилось прыжками — так, например, собака переходит вброд не очень глубокую речку. Это было тяжким испытанием: холодный липкий снег лишал его последних сил, и он, задыхаясь, стал постепенно менять направление, стараясь пройти чуть выше, вдоль черной скалистой гряды, нависавшей у него над головой, надеясь как-то выбраться из этой белой западни, не имевшей, казалось, ни конца ни края.
Однако со скалистой гряды никакого другого спуска он не обнаружил — все вокруг было бело. Сама же гряда кончалась крутым обрывом, перед которым был небольшой выступ; обследовав этот выступ, Пятница вновь стал карабкаться вверх и двинулся мимо этого выступа туда, куда ушли его враги — бабуины.
Здесь снег лежал лишь отдельными островками, а там, где талая вода образовывала ручейки, Пятница обнаружил и кустарники, и даже кривоватые уродливые деревца — некоторые из них оказались достаточно высоки, чтобы на них можно было залезть.
Это ущелье начиналось именно здесь, спускаясь вниз по почти отвесной южной щеке горы, и Пятница пошел вдоль шумливого горного ручья к роще, видневшейся далеко внизу.
Рощица состояла из мрачно постанывавших, истерзанных ветрами деревьев, однако здесь Пятница, по крайней мере, чувствовал себя в безопасности; к тому же здесь было куда больше шансов отыскать пищу.
Он заметил светло-коричневую горлинку, которая, воркуя, прокладывала себе путь по опавшей листве. Потом птица скрылась за деревом, но шорох ее коготков по листьям слышался все ближе, и вот она оказалась всего на расстоянии одного прыжка от кота. Зажав в зубах теплый трепещущий комок, Пятница испытал необычайное удовлетворение; глаза его сверкали, сейчас он готов был сразиться с любым соперником и ни за что не отдал бы этой жизненно необходимой ему добычи.
Местность, по которой он теперь проходил — купы деревьев и густые кусты на склонах оврагов, — давала ему и кров, и достаточно пищи, однако потребовалось еще целых десять дней тяжких усилий, пока он наконец спустился с горы и очутился в густых лесах южных предгорий, а потом вышел к первым распаханным полям.
Еще одна снежная буря окутала за это время вершины гор серым туманом, и снова на восходе солнца забелели снежные островки, ослепительно сверкавшие среди черных скал, однако все это теперь осталось позади, а впереди лежали обжитые людьми земли.
Знакомые запахи — дружеский запах дымка, кухни, домашней птицы и даже собак, которых Пятница всегда недолюбливал, — устремились ему навстречу, а потом потянулись сады, окутанные густым ароматом цветов, особенно сильным по ночам. Он спешил, чтобы пройти побольше за темное время суток, подогреваемый хорошей пищей и все возраставшим нетерпением, поскольку «пси-часы» у него в голове постоянно убыстряли ход. Там, где были открытые каменистые пространства или поля под паром, окруженные кустарником, он даже порой бежал рысцой, а порой и мчался вприпрыжку под насмешливыми взглядами звезд, забавно вскидывая задние лапы.
Вот и маленькая плотина из красных камней, сложенная точно специально для Пятницы и заросшая тростниками, где самозабвенно поют лягушки и тихо журчит вода. В запахе сочной зелени у реки он уловил знакомый след: здесь ступали ноги Анны! Пятница встряхнулся, передернул шкурой и стремглав бросился дальше меж высоких грушевых деревьев. Огромные дубы, нежная первая зелень которых в темноте была еще не видна, громоздились впереди, вытягивая к небесам свои черные руки-ветви, а между ними, точно светящаяся река, точно золотистая перекладина, лежала на траве полоса света из дверей дома.
Особенно впечатляюще выглядел фасад санатория ночью.
Белое двухэтажное здание, окруженное толстыми черными стволами дубов, было освещено лишь одним прожектором над главным входом, золотившим старинную бронзовую дверную ручку и запоры и превращавшим даже серые каменные ступени крыльца в этакие памятники времени, способного источить даже камень.
Ночью дом казался больше, чем на самом деле, поскольку зрение в данном случае отступало перед игрой воображения: сконцентрировавшаяся в стволах дубов и темных оконных проемах чернота ночи как бы намекала на наличие еще рядов окон — где-то там, за деревьями.
Свет лился из вестибюля и прихожей, где за столиком сидела дежурная медсестра в белом халате. Возле нее светился красным электрокамин, и она всего минуту назад приоткрыла наружную дверь, чтобы впустить в дом немного свежего, но все еще очень холодного воздуха.
Пятница метнулся по каменным ступеням крыльца, обнюхал входную дверь и проскользнул под столиком у дежурной, на мгновенье задержавшись лишь у начала покрытой красным ковром лестницы, глядя вверх и нервно виляя хвостом.
Гибкий, с сияющими глазами, он взлетел по лестнице, пробежал по коридору, проник в комнату Анны и прыгнул на краешек ее кровати. В окно лился лунный свет; он голубоватой полосой лежал на ее халате, а Пятница сидел, вдыхая знакомые запахи и кротко мурлыча, а потом с особой тщательностью принялся умываться.
Лунный луч двигался очень медленно от изножия кровати, через чемодан Анны, уже наполовину уложенный, поскольку она собиралась — наконец-то! — домой. Потом луч образовал небольшой квадрат на полу, превратился в узкую полоску и наконец легонько скользнул по локтю ее правой руки и исчез, и Пятница наконец успокоился, но не свернулся, как всегда, клубком, уткнувшись носом в пушистую шерсть, а продолжал сидеть, глядя на девушку и прислушиваясь к ее дыханию; час проходил за часом, и наконец кот решился обнюхать лицо Анны, склонившись так низко, что его усы стали щекотать ей щеку. Она пошевелилась и что-то пробормотала. Потом слабо махнула рукой, резко повернулась на подушке, затаила дыхание. И Пятница понял, что она проснулась.
Анна лежала неподвижно, прислушиваясь к бешеному стуку сердца. Она проснулась оттого, что ей приснилась холодная речная заводь, к которой она ходила накануне вечером, и те странные существа, которые, как ей казалось, непременно должны были водиться среди тростников.
Она чувствовала, что у нее на постели сидит какое-то животное, и чуточку двинула правой рукой, чтобы подтвердить свои опасения. В мозгу ее быстро промелькнули воспоминания об отпечатках маленьких когтистых лапок, которые она видела на илистой отмели у заводи, и она заколебалась, подтянулась вверх, выскользнув из-под одеяла и прикрывая грудь руками, и снова представила себе тот отчетливый след, аккуратно заканчивавшийся отпечатками острых когтей и принадлежавший то ли мангусту, то ли генетте. И тут она, не выдержав, включила лампочку возле кровати.
Поскольку она все еще процентов на пятьдесят надеялась, что предмет у нее на кровати вполне может оказаться и неодушевленным, оказавшимся здесь случайно, то сразу попавшие в поле зрения пестрые лапы и полосатый хвост настолько поразили ее — так похожи они были на лапы и хвост крадущейся генетты, только что приснившейся ей, хотя сон тут же растворился в хаосе мыслей и забылся, — что она громко охнула и с облегчением вздохнула, признав в зверьке обыкновенного кота, только чем-то очень взволнованного.
Пятница поднял голову, издал короткое горловое мурлыканье и задохнулся. Потом передернул шкурой и свернулся в пушистый шар, чуть вывернув шею, чтобы видеть Анну, но глаза у него слипались от усталости, так что о том, что он совершенно счастлив, свидетельствовало лишь слабое хриплое мурлыканье да приоткрытая от удовольствия пасть, где сверкали два белых клыка.
Анна протянула руку и погладила его по доверчиво подставленному ей боку, сразу ощутив тихое дрожание ребер, и сказала самой себе еле слышно (расслышать ее голос способны были лишь чуткие уши Пятницы): «Как же ты похож на моего кота!»
Она еще раз погладила его и печально улыбнулась, растревоженная воспоминаниями; потом вдруг замерла, затаила дыхание, быстро соскочила на пол и, опустившись перед котом на колени, близко-близко наклонилась над ним, вглядываясь в него, изучая каждый его волосок. Поглаживая его по бочку и задним лапкам, она чувствовала, как выступают ребра под роскошной зимней шубкой, ощущала крепкие мышцы на спине и на ляжках. Кот весь дрожал от удовольствия и сдержанного мурлыканья, и она медленно отвела руку, не осмеливаясь поверить промелькнувшей вдруг догадке. И тут же ощутила сильный знакомый запах мускуса, похожий на запах влажных гнилых дубовых листьев, и только теперь начала потихоньку осознавать то, о чем твердили ей все ее чувства.
Она произнесла имя громко, с вопросительной интонацией; потом снова повторила его срывающимся от рыданий голосом. Когда пальцы ее ласково погрузились в короткую шерсть у Пятницы за ушами, он вскинул голову, почувствовав вкус слез у нее на ладони, и, уже не сдерживаясь, громко замурлыкал — все громче и громче, словно вспомнив, как это делается, — и ощутил тепло ее щеки, прижавшейся к его груди.
Наконец Анна отпустила его и снова принялась внимательно осматривать. Коснулась красного рубца на его правом бедре, уха с откушенным кончиком и шрама на носу, медленно, удивленно покачала головой и тут же радостно просияла.
Потом вскочила, бросилась к двери, распахнула ее настежь, выбежала в коридор, но в коридоре было еще пусто и тихо, ковер и стены казались мутно-желтыми в тусклом свете единственного ночника. Анна задыхалась от волнения, глаза ее сверкали, однако рассказать было некому: у матери в снятом ею домике телефона не было. Она тут же подумала о Джеймсе.
Посмотрела на часы, поколебалась — было всего лишь начало четвертого, — покусала ноготь на большом пальце, схватила трубку, чтобы позвонить ему по внутреннему телефону, но передумала и положила трубку на место. Она представила себе, каким это будет удовольствием — все рассказать ему и показать ее драгоценного кота, которого, как он считал, давно уже не было в живых.
Исполненная чрезвычайной энергии, она быстро включила радио, электрический чайник, накинула халат, сунула ноги в шлепанцы и, снова опустившись на колени возле постели, принялась оглаживать Пятницу — нежно, медленно, обеими руками, склонив голову набок, а блестящие длинные черные волосы волной падали ей на плечи, прикрывая краешек щеки и губ. Она что-то нежно, почти неслышно нашептывала коту, как мать нашептывает своему малышу, потом вдруг громко сказала, пряча лицо в его густую шерсть:
— Господи, где же ты пропадал, мой дорогой? Как ты меня нашел здесь? — Она отстранилась и с искренним подозрением посмотрела на Пятницу. — Больше никогда, слышишь? Больше никогда не теряйся, никогда! А скоро мы поедем домой.
Ты, я и Мэри. — И она снова обняла его и прижалась теплой щекой к его густой шерсти. — Ах, мой милый, мой любимый котик! — шептала она, целуя его в макушку. — А вот это тебе за Джеймса. Ах ты мой милый!
Она поцеловала его в ухо, которым он нервно задергал, мурлыча в ответ на эти знакомые звуки, столь характерные для его Анны, и наслаждаясь ощущением того, что тикавший у него в голове метроном, бесконечно гнавший его в путь, наконец умолк.
Собственно, с его точки зрения, терялась именно Анна, а он наконец отыскал ее и надеялся, что скоро все это волнение останется позади и они поедут домой, в знакомые зеленые края, к знакомому дому, где ждет их ужин.
Коротко об авторе
Ялмар Тесен — южноафриканец в четвертом поколении.
Его отец был наполовину англичанином, наполовину норвежцем, а мать родилась в Канаде в шотландской семье.
В конце 1943 года Ялмар Тесен получил школьный аттестат в Грэхемстоуне, затем поступил в военно-морской флот Южной Африки, откуда позже был прикомандирован к Королевскому флоту Великобритании и проходил службу на Дальнем Востоке.
После окончания Кейптаунского университета начал работать в семейной фирме, которой принадлежали лесопильная фабрика и большие лесные угодья.
В настоящее время Ялмар, его жена Джуди и их дети (два сына и две дочери) живут в Южно-Африканской Республике в городке Книсна. Их дом расположен на вершине холма, откуда открывается прекрасный вид на океан.
Перу писателя принадлежат пять романов, наибольшую известность из которых ему принесли «Узы моря» и «Опасное соседство», впервые переведенные на русский язык издательством АРМАДА.