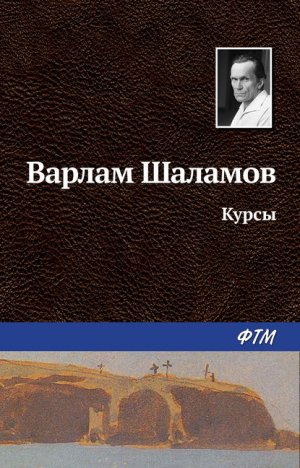
РАНЬШЕ ВСЕГО:
Человек не любит вспоминать плохое. Это свойство людской натуры делает жизнь легче. Проверьте себя. Ваша память стремится удержать хорошее, светлое и забыть тяжелое, черное. При тяжелых условиях жизни не завязывается никакая дружба. Память вовсе не безразлично «выдает» все прошлое подряд. Нет, она выбирает такое, с чем радостнее, легче жить. Это – как бы защитная реакция организма. Это свойство человеческой натуры, по существу, есть искажение истины. Но что есть истина?
Из многих лет моей колымской жизни лучшее время – месяцы ученья на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана. Такого же мнения держатся все заключенные, побывавшие хоть месяц-два на двадцать третьем километре Магаданской трассы.
Курсанты съезжались со всех концов Колымы – с севера и с юга, с запада и с юго-запада. Самый южный юг был много севернее того поселка на побережье, куда они приехали.
Курсанты из дальних управлений старались занять нижние нары – не потому, что наступала весна, а из-за недержания мочи, которое было почти у каждого «горного» заключенного. Темные пятна давних отморожений на щеках были похожи на казенное тавро, на печать, которой их клеймила Колыма. На лицах провинциалов была одна и та же угрюмая улыбка недоверия, затаенной злобы. Все «горняки» чуть прихрамывали – они побывали близ полюса холода, достигали полюса голода. Командировка на фельдшерские курсы была недобрым приключением. Каждому казалось, будто он – мышь, полумертвая мышь, которую кошка-судьба выпустила из когтей и собирается поиграть немножко. Ну что ж мыши тоже ничего не имеют против такой игры – пусть знает это кошка.
Провинциалы жадно докуривали махорочные цигарки «пижонов» – кидаться, чтоб подобрать окурок, на глазах у всех они все же не решались, хотя для золотых приисков и оловянных рудников открытая охота за «бычками» была поведением, вполне достойным истинного лагерника. И только видя, что кругом никого нет, провинциал быстро хватал окурок и совал в карман, расплющив его у себя в кулаке, чтобы потом на досуге свернуть «самостоятельную» папиросу. Многие «пижоны», прибывшие недавно из-за моря – с парохода, с этапа, сохраняли вольную рубашку, галстук, кепку.
Женька Кац поминутно доставал из кармана крошечное солдатское зеркальце и осторожно причесывал свои густые кудри ломаным гребешком. Стриженным наголо провинциалам поведение Каца казалось фатовством, но замечаний ему не делали, «жить не учили» – это запрещено неписаным законом лагерей.
Курсантов разместили в чистеньком бараке вагонного типа – то есть с двухэтажными нарами с отдельным местом для каждого. Говорят, что такие нары гигиеничней и притом ласкают глаз начальства – как же: каждому отдельное место. Но вшивые ветераны, прибывшие из дальних мест, знали, что мяса на их костях недостаточно, чтобы согреться в одиночку, а борьба со вшами одинаково трудна и при вагонных, и при сплошных нарах. Провинциалы с грустью вспоминали сплошные нары дальних таежных бараков, вонь и душный уют пересылок.
Кормили курсантов в столовой, где питалась обслуга больницы. Обеды были много гуще приисковых. «Горняки» подходили за добавкой – им давали. Подходили второй раз – опять повар спокойно наполнял протянутую в окно миску. На приисках так никогда не бывало. Мысли медленно двигались по опустевшему мозгу, и решение созревало все яснее, все категоричнее – нужно было во что бы то ни стало остаться на этих курсах, стать «студентом», сделать, чтоб и завтрашний день был похож на сегодняшний. Завтрашний день – это завтрашний день буквально. Никто не думал о фельдшерской работе, о медицинской квалификации. О таком далеком загадывать боялись. Нет, только завтрашний день с такими же щами на обед, с вареной камбалой, с пшенной кашей на ужин, с затихающей болью остеомиелитов, упрятанных в рваные портянки, сунутые в ватные самодельные бурки.
Курсанты изнемогали от слухов, один другого тревожнее, от лагерных «параш». То говорят, что к экзаменам не будут допущены заключенные старше тридцати лет, сорока лет. В бараке будущих курсантов были люди и девятнадцати, и пятидесяти лет. То говорят, что курсы не будут открывать вовсе – раздумали, средств нет, и завтра же курсантов пошлют на общие работы, и самое страшное – возвратят на прежнее место жительства, на золотые прииски и оловянные рудники.
И верно, на следующий день курсантов подняли в шесть часов утра, выстроили у вахты и повели километров за десять – ровнять дорогу. Лесная работа дорожника, о которой мечтал всякий приисковый заключенный, здесь показалась всем необыкновенно тяжелой, оскорбительной, несправедливой. Курсанты «наработали» так, что на следующий день их уже не посылали.
Был слух, что начальник запретил совместное обучение мужчин и женщин. Что статью пятьдесят восьмую, пункт десять (антисоветская агитация), доселе признаваемую вполне «бытовой» статьей, не будут допускать к экзаменам. К экзаменам! Вот главное слово. Ведь должны быть приемные экзамены. Последние приемные экзамены моей жизни были экзамены в университет. Это было очень, очень давно. Я ничего не мог припомнить. Клетки мозга не тренировались целый ряд лет, клетки мозга голодали и утратили навсегда способность поглощения и выдачи знаний. Экзамен! Я спал беспокойным сном. Я не мог найти никакого решения. Экзамен «в объеме семи классов». Это было невероятно. Это вовсе не вязалось и с работой на воле, и с жизнью в заключении. Экзамен!
К счастью, первый экзамен был по русскому языку. Диктант – страницу из Тургенева – прочитал нам местный знаток русской словесности – фельдшер из заключенных Борский. Диктант был удостоен Борским высшей отметки, и я был освобожден от устного зачета по русскому языку. Ровно двадцать лет назад в актовом зале Московского университета писал я письменную работу – приемный экзамен – и был освобожден от сдачи устных испытаний. История повторяется один раз как трагедия, другой раз как фарс. Назвать фарсом мой случай было нельзя.
Медленно, с ощущением физической боли, перебирал я клетки памяти что-то важное, интересное должно было мне открыться. Вместе с радостью первого успеха пришла радость припоминания – я давно забыл свою жизнь, забыл университет.
Следующим экзаменом была математика – письменная работа. Я, неожиданно для себя, быстро решил задачу, предложенную на экзамене. Нервная собранность уже сказывалась, остатки сил мобилизовались и чудесным, необъяснимым путем выдали нужное решение. За час до экзамена и через час после экзамена я не решил бы такой задачи.
Во всевозможных учебных заведениях существует обязательный экзаменационный предмет «Конституция СССР». Однако, учитывая «контингент», начальники из КВО управления лагеря вовсе сняли сей скользкий предмет, к общему удовольствию.
Третьим предметом была химия. Экзамен принимал бывший кандидат химических наук, бывший научный сотрудник Украинской академии наук А. И. Бойченко – нынешний заведующий больничной лабораторией, самолюбивый остряк и педант. Но дело было не в человеческих качествах Бойченко. Химия для меня была предметом непосильным по-особому. Химию проходят в средней школе. Моя средняя школа приходится на годы гражданской войны. Случилось так, что школьный преподаватель химии Соколов, бывший офицер, был расстрелян во время ликвидации заговора Нуланса в Вологде, и я навек остался без химии. Я не знал – из чего состоит воздух, а формулу воды помнил лишь по старинной студенческой песне:
Последующие годы показали, что жить можно и без химии, – и я стал забывать о всей этой истории – как вдруг на сороковом году моей жизни оказалось, что требуется знание химии – и именно по программе средней школы.
Как я, написавший в анкете – образование законченное среднее, незаконченное высшее, объясню Бойченко, что вот только химии я не изучал?
Я ни к кому не обращался за помощью – ни к товарищам, ни к начальству жизнь моя, тюремная и лагерная, приучила полагаться только на себя. Началась «химия». Я помню весь этот экзамен и по сей день.
– Что такое окислы и кислоты?
Я начал объяснять что-то путаное и неверное. Я мог ему рассказать о бегстве Ломоносова в Москву, о расстреле откупщика Лавуазье, но окислы…
– Скажите мне формулу извести…
– Не знаю.
– А формулу соды?
– Не знаю.
– Зачем же вы пришли на экзамен? Я ведь записываю вопросы и ответы в протокол.
Я молчал. Но Бойченко был немолод, он понимал кое-что. Недовольно он вгляделся в список моих предыдущих отметок: две пятерки. Он пожал плечами.
– Напишите знак кислорода.
Я написал букву «Н» большое.
– Что вы знаете о периодической системе элементов Менделеева?