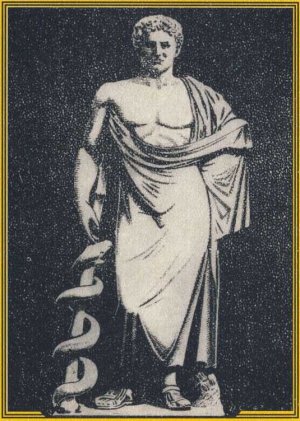
ВИКТОР СМОЛЬНИКОВ И ЕГО КНИГА
Виктор Прокофьевич Смольников (1914 - 1994 гг.) родился и долгие годы жил в Китае. Он окончил в Шанхае французский университет «Аврора», а затем в течение четырнадцати лет работал врачом в английской фирме.
В 1946 году, после многочисленных отказов, Виктору Смольникову, к этому времени профессору медицины, наконец было предоставлено советское гражданство, а в 1954 году в числе тех, кто согласился ехать на освоение целины, ему разрешили въезд в СССР.
После полутора лет работы врачом в больнице села Убинское Новосибирской области В. Смольников как специалист в области анестезиологии и автор книги «Простой эфирный наркоз» получил приглашение в Москву в НИИ грудной хирургии АМН СССР, а с 1960 года начал работать в должности заведующего лабораторией анестизиологии НИИ экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР (ныне РОНЦ им. Н.Н. Блохина). Здесь он продолжал свою профессиональную деятельность вплоть до 1971 года, когда вынужден был оставить работу по состоянию здоровья.
В 1976 году В. Смольников заканчивает книгу воспоминаний «Записки шанхайского врача», а затем пишет еще одну, совершенно самостоятельную по содержанию книгу - «The Diary of a Shanhai Physician», но уже на английском языке. В основу той и другой книги легли материалы дневника, который Виктор Прокофьевич постоянно вел на протяжении всего периода жизни в Китае.
Попытки автора издать книгу в СССР в семидесятые-восьмидесятые годы оказались бесплодными по причине ее «аполитичности» - так мотивировали свои отказы работники тех издательств, в которые обращался автор.
Вместе с тем книга содержит ряд малоизвестных исторических фактов и любопытные картины жизни и нравов Шанхая, этого «азиатского Вавилона», в период его расцвета, а затем смены четырех режимов. И в первую очередь, речь идет о жизни иностранного Шанхая, его международного сеттльмента.
Острая наблюдательность автора, его ироничный взгляд на события, происходившие с ним и вокруг него, веселый нрав и чувство юмора делают книгу интересной.
Наталья Смольникова
НАЧАЛО
Мой дед, Павел Александрович Фарафонтов, еще до 1895 года приехал с семьей в Манчжурию, в город Харбин. С тех пор четыре поколения нашей семьи прожили в Китае, вплоть до 1948 года. Я с женой и детьми покинул Китай последним в 1954 году.
Манчжурия — это три северо-восточных провинции Китая, граничащие с СССР. Царская Россия начала там строить железную дорогу, которая прошла от русской границы через всю Манчжурию до города Дальнего и Порт-Артура. Если американцы в свое время переселялись с восточного побережья Америки на Дикий Запад, то русские шли на восток, но не «Дикий», а Дальний.
Россия строила тогда Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), главное управление строительства которой находилось в Санкт-Петербурге (несомненно, это очень оригинально управлять стройкой с расстояния в шесть тысяч километров). По обе стороны дороги на несколько верст по китайской территории простиралась «полоса отчуждения». Эта полоса считалась территорией Российской империи, и на ней действовали российские законы. Царская Россия попросту захватила чужую территорию, как это делали и другие страны. Я видел карты предполагаемого раздела Китая между Россией, Англией и Францией после Первой мировой войны. Манчжурия отходила к России, Англия забирала себе центральный Китай с главным портом Шанхаем, богатым хлопком и чаем, а Франция — Южный Китай, граничащий с Индокитаем, бывшим ее колонией.
Мой отец, Прокопий Нилович Смольников, родился в городе Троицкосавске, основанном миллионером Саввой Морозовым в день Святой Троицы и поэтому так названном. Сейчас это город Кяхта - в свое время важный пункт пограничной торговли России с Монголией и Китаем.
Когда отец окончил среднюю школу, мать подарила ему пятнадцать копеек. После окончания школы он поехал в Ургу, столицу Монголии (теперь Улан-Батор), и поступил в русскую школу драгоманов (переводчиков). В этой школе российское министерство иностранных дел готовило переводчиков для своих консульств и посольства в Китае. Будущих драгоманов, кроме китайского и монгольского языков, обучали еще и маньчжурскому, так как до падения маньчжурской династии в 1911 году Петербург получал корреспонденцию от пекинского императорского двора только на маньчжурском языке и поэтому его знание было необходимым. Китай был тогда страной, покоренной маньчжурами, и все китайцы, в знак этого, должны были носить косы. Я еще застал те времена и хорошо это помню. Я видел на станциях КВЖД женщин-маньчжурок в национальных костюмах. Головные уборы у них были совсем некитайские - что-то вроде сплющенного черного кокошника, расшитого бусами.
По окончании школы драгоманов отца откомандировали в Пекин, чтобы совершенствовать знание китайского языка, после чего назначили драгоманом при российском генеральном консульстве в Харбине. Там он женился на моей матери, там же в 1914 году родился и я.
Большую часть своей жизни в Харбине отец работал в коммерческой части КВЖД, и здесь был самый интересный период его деятельности. Вплоть до последнего обострения туберкулеза легких он путешествовал по Монголии и Манчжурии. Раз в году в Монголии в городе Ганьджур открывалась ярмарка. На нее съезжались русские, монгольские и китайские купцы. Отец должен был собирать экономические сведения для КВЖД об объеме торговли каждой из трех сторон. Монголы охотно брали русское военное сукно, шедшее на шинели для солдат, и шили себе из него дождевики. Русские покупали шерсть и баранов. Китайцы привозили кирпичный чай. Это подробно описано отцом в его книжке «Ганьджурская ярмарка» (кажется, 1912 года). Кроме того, он написал два больших тома о провинциях Манчжурии - Хайлунцзян и Гирин, а также собирал материалы о Мукденской провинции, но смерть помешала ему на основе этих материалов написать еще одну книгу. Умер он в 1919 году.
Книги моего отца - это, прежде всего, подробные экономические отчеты о торговле и движении грузов, однако встречаются в них и любопытные описания жизни местного населения, например, очерк о Желтугинской республике. Это история о том, как русские старатели и беглые каторжники основали что-то вроде республики на китайской территории. Река Желтуга - приток Амура. Золото в ней нашли орочены (эвены), а русские пришли туда в 1860 году. Прииски просуществовали до 1886 года. В последний год их существования численность населения там составляла уже более десяти тысяч человек, а золота было намыто более четырехсот пудов, то есть около семи тонн. Вначале на приисках никакого правления не существовало, но после убийства человека молотком среди бела дня решили навести порядок. Поселением управлял старшина, руководствуясь евангельским законом Моисея: «Око за око, зуб за зуб». За воровство полагалось пятьсот ударов «терновником» (ремень с гвоздями), что фактически означало смертную казнь. За привод в поселение женщин - сто ударов. За любые провинности преступника изгоняли из поселения, и на границе ему давали еще сто ударов. Очевидно, на память. Серьезные дела решались общественным сходом. Для его созыва стреляли из двух пушек: их в поселении всего две и было.
Русские по-разному попадали в Китай. Мне рассказывала одна старушка, как она с мужем ехала из Сибири на станцию Бухэду. Они везли с собой на телегах сруб русской избы. Я тогда не спросил ее, каким путем они добирались, но, скорее всего, через пограничную станцию Манчжурия на Майлар. От Майлара до Бухэду - две станции. Дорога в то время еще не действовала, и ехали они, наверное, около тысячи километров по полупустыне и степи.
Здесь будет уместно вспомнить историю одного русского миллионера, назовем его Иваном Зарубиным. Он мальчишкой поступил работать к русскому купцу, жившему в Монголии и скупавшему у монголов шерсть. Купец быстро оценил природную смекалку Вани, сделал его своим доверенным лицом и посылал на лошадях отвозить деньги в русский банк в Троицкосавск. А Ваня учился у купца, как нужно делать деньги. Однажды, уже, очевидно, выучившись этому искусству, он, вместо того чтобы везти большую сумму денег в Троицкосавск, повернул свой караван на юг, прибыл в Китай и осел в Тяньцзине. Там Иван построил большую шерстомойку (Тяньцзинь был центром торговли с заграницей шерстью, пушниной и кишками для колбас) и начал богатеть. Вскоре он выстроил себе замок - иначе этот дом и не назовешь - единственный в Тяньцзине. Автором проекта был, наверное, какой-то немецкий архитектор, потому что оно напоминало небольшой замок немецкого барона. Зарубин начал устраивать приемы и приглашать к себе иностранцев, проживавших в Тяньцзине. В те годы их было не так уж много - порядка нескольких сотен, а русских - и вообще почти не было. На приемах у Зарубина поили шампанским, поэтому в иностранных кругах его так и прозвали - «мистер Шампански». Он был женат. Детей у него не было, и он взял на воспитание мальчика и девочку. Его приемный сын был моим другом детства.
С началом первой репатриации советских граждан в СССР (в 1947 году) «мистера Шампански» обуяла тоска по Родине, и он поехал. Когда-то в разных городах царской России у него были собственные дома, и вот в одном из них ему дали комнату и назначили сторожем здания. Его сын не хотел мириться с таким положением и уехал за границу. Мы как-то случайно встретились с ним в Шанхае. Он холодно посмотрел на меня и сказал: «Руки я тебе не подам, я слышал, что у тебя советский паспорт».
Все эти истории я рассказал для того, чтобы читатель понял, как русские оказались в Китае и, главным образом, в Манчжурии. Общее число русских в Манчжурии, по данным моего отца, превышало триста тысяч. Большинство проживало в Харбине и на станциях КВЖД. В Шанхае, в русской колонии, насчитывалось до тридцати тысяч человек, в Тяньцзине, кажется, около трех, в Ханькоу1 жили единицы богатых русских чаеторговцев, а в Циндао - несколько сот человек.
Все старые служащие КВЖД, приехавшие до 1917 года, конечно, эмигрантами не были. Они приехали служить на КВЖД и жили в полосе отчуждения, то есть фактически на территории Российской империи.
Уже в Москве мне часто задавали один и тот же вопрос: вы были эмигрантом или вас командировало в Китай советское правительство? На самом деле, командированных советским правительством в Китае было совсем немного. Эмигрантов было несколько десятков тысяч, а мы представляли собой третью группу русских, самую большую, и не были ни эмигрантами, ни командированными.
Русская эмиграция появилась в Китае после Великой Октябрьской революции. Что это были за люди? В основном остатки разгромленных белых армий, вернее, остатки их офицерского состава (солдатам, собственно говоря, бежать было незачем), а также представители буржуазии из Сибири. Такое переселение породило оригинальное социологическое явление: подавляющее число бывших подданных Российской империи были представителями интеллигенции. Рабочий класс составляли, в основном, люди, приехавшие до революции, то есть не эмигранты. На КВЖД это были машинисты, водившие паровозы, кочегары, рабочие различных ремонтных мастерских, стрелочники. Интеллигенция же была представлена административным аппаратом железной дороги, оставшимся в Китае.
После революции почти все рабочие подали прошение о советском гражданстве, получили советские паспорта и вскоре уехали в СССР. Интеллигенция колебалась. Уже начали появляться белоэмигранты, рассказывавхпие о «зверствах большевиков», сибирские буржуа описывали, как потеряли свои фабрики, заводы, дома и имения. Стали выходить белоэмигрантские газеты. А Харбин богател. Генерал-лейтенант Хорват, управляющий дорогой, никаких денег в Санкт-Петербург больше не переводил, так как вместо Санкт-Петербурга был уже Ленинград, с которым Хорват никаких отношений не имел, поэтому очень большие деньги, которые получала КВЖД, оседали в самом Харбине, что позволило Хорвату создать чрезвычайно хорошие жизненные условия для русских служащих дороги. Харбин называли «счастливой Хорватией». Это стало одной из важнейших причин, объясняющих, почему никто из Харбина не стремился уехать, и это же определяло политические взгляды русской интеллигенции. Большое влияние на мнение и поведение русских людей в Харбине оказывала также белоэмигрантская пресса - других газет не было.
Что стало с Харбином в дальнейшем хорошо описано в книге «Возвращение» Натальи Ильиной, свидетельницы всех перемен в этом городе. Меня там уже не было, так как мать после смерти отца переехала к своей сестре в Тяньцзинь, а я был еще чересчур мал, чтобы интересоваться политической обстановкой в Манчжурии.
С отъездом рабочих в СССР и приездом белоэмигрантских офицеров удельный вес русской интеллигенции в Китае увеличился. Хотя у меня нет никаких статистических данных, я не сильно ошибусь, если выскажу предположение, что девяносто процентов русских принадлежало к интеллигенции.
Что умели делать все эти бежавшие офицеры? Да ничего. Им пришлось работать сторожами, телохранителями у богатых китайских коммерсантов, швейцарами в отелях. Абсолютно не удивляло, если сторожем какой-нибудь английской табачной фабрики, оказывался полковник гвардейского полка или судья. Князь Ухтомский, например, благодаря прекрасному знанию французского языка, устроился швейцаром в шанхайское отделение крупного французского банка Индокитая.
Военные инженеры выполняли работу чертежников. Из инженеров только единицы устраивались более или менее прилично. Врачи занимались частной практикой - некоторые из них стали обеспеченными людьми, а другие бедствовали. Создавались русские эмигрантские комитеты, которые никто не признавал. У меня имеется удостоверение личности, выданное полицией французской концессии Шанхая. В строке «национальность» напечатано: русского происхождения, не взявший никакого другого подданства. Французы понимали, что среди русских есть эмигранты, а есть неэмигранты, поэтому и придумали такую хитрую формулировку. А в английской половине Шанхая вообще не существовало документов. Отцы города, богатые бизнесмены, были так заняты торговлей и обогащением, что у них просто не было времени заниматься такой ерундой, как выяснение, к какой группе принадлежал тот или иной русский или иностранец. Англичане разрешили эту проблему гениально просто: никаких паспортов, никаких удостоверений личности.
Последние двадцать лет своей жизни в Китае я прожил в Шанхае. Об этом и пойдет дальше рассказ.
Я женился в мае 1940 года, за месяц до окончания медицинского факультета французского университета «Аврора» в Шанхае. Обвенчавшись, мы с женой переехали к теще на Тоншан роуд в район Хонкью, самый бедный район Шанхая. Он весь был построен из серого кирпича, и в 1940 году там были только улицы без домов или островки домов: японская артиллерия почти полностью разрушила его во время японо-китайской войны 1937 года. Улицы соединяли пассажи (переулки), достаточно широкие для проезда одного грузовика. В районе иногда попадались целые нетронутые бомбардировкой кварталы, серые и мрачные. А между ними лежали груды кирпича, кое-где собранные в кучу. Все они заросли сорняком и полевыми цветами и, в общем, выглядели довольно живописно.
Наш квартал принадлежал к числу нетронутых. На улицу выходили китайские лавчонки. На углу были ворота, ведущие в пассаж. Весь квартал состоял из четырех рядов домов. От ворот до последнего ряда шла главная улочка, от которой перпендикулярно отходили еще три. Каждый ряд представлял собой одно длинное строение, разделенное на десять-двенадцать домов стенами. К каждому такому дому примыкал садик, отгороженный от переулка стеной высотой в два этажа с деревянными двухстворчатыми воротами. Наш садик был вымощен кирпичом, покрытым зеленой плесенью от вечной сырости. Там ничего не росло.
Дом состоял из двух частей. Передняя его часть - это три комнаты, одна над другой, причем верхняя представляла собой чердак со скошенным потолком. Задняя часть - тоже три комнаты, с плоской крышей, окруженной кирпичным парапетом в половину человеческого роста. На крыше можно было отдыхать после захода солнца, покрываясь слоем сажи из соседних труб.
Между этими двумя частями дома вилась деревянная лестница, связывающая все комнаты вместе. Нижняя комната сзади служила кухней. Пол в ней был цементный, в углу располагался душ, прикрытый занавеской. Одна газовая горелка вместо плиты. В качестве туалета - выносная параша, которая размещалась за картонной перегородкой внизу под лестницей. Каждое утро приезжала металлическая бочка, китайцы опрастывали содержимое параш из всех домов и отвозили за город для удобрения полей. Зловоние в этот момент по всему пассажу было запредельным.
Теща моя поступила очень щедро. Она отдала нам чердак под спальню и комнату на втором этаже. Эту комнату разделяла на две части тоненькая фанерная перегородка, и у нас получилась гостиная и столовая. С мебелью тоже очень повезло. Моя двоюродная сестра, уезжая из Шанхая, подарила нам на свадьбу роскошный дубовый столовый гарнитур, который специально для себя заказывала. Стол и две тяжелые скамьи в испанском стиле XIX века, двуспальная кровать, столик и роскошное кресло, на котором невозможно было сидеть - только лежать. Скамьи были также неудобны: без спинок. Надо было выполнить акробатический номер, чтобы залезть на них. К счастью, нам мало пришлось ими пользоваться, так как есть все равно было нечего, а то, чем мы питались, можно было есть, стоя в спальной. В середине войны (речь идет о Тихоокеанской войне между США и Японией, начавшейся 7.12.1941 г.) мне удалось выменять весь испанский гарнитур на килограмм сала.
Я удачно окончил медицинский факультет и по отметкам имел право остаться интерном при университетской клинике. Однако интернам платили так мало, что этим правом могли воспользоваться только врачи из богатых семей, которых не трогала финансовая сторона вопроса: они могли без особого ущерба для себя за один вечер оставить в ресторане свою месячную зарплату.
Я попробовал найти себе место в Циндао. Это очень красивый порт на севере Китая, но там ничего не было. Без знания китайского языка ехать в чисто китайский город было бессмысленно. Да и культуры чересчур разные, что иногда оказывалось не просто препятствием при общении, а было сопряжено с опасностью для жизни. Рассказывали, например, такой случай. Доктора Гурченко из старшего выпуска случайно пригласили куда-то в провинцию принимать роды у любимой, пятой или шестой, жены китайского генерала. Генерал сидел тут же с револьвером в руке, предупредив Гурченко, что если ребенок или жена умрет, то он его застрелит на месте.
В итоге, не найдя ничего, я принял приглашение доктора Андерсона, с которым был знаком, помогать ему бесплатно в английской муниципальной больнице «Дже-нерал Госпитал». Это была большая многопрофильная больница, в которой Андерсон лечил своих платных пациентов, а также больных бесплатных отделений. Андерсон служил в английском объединении врачей «Доктор Маршалл и партнеры». Для меня эта работа была очень интересной, потому что я впервые встретился с больными, с которыми мог объясняться на общем языке: русском, английском или французском. В университетской клинике, где лежали одни китайцы, мы, русские студенты, находились в очень тяжелом положении, так как для заполнения истории болезни каждый раз приходилось прибегать к услугам китайских студентов, а не все они хорошо к нам относились.
С Андерсоном я проработал бесплатно девять месяцев, с июля 1940-го по март 1941 года, фактически до его отъезда из Шанхая. Андерсон был очаровательным человеком, с хорошим образованием, и практика в Шанхае, конечно, много дала ему как врачу. Ему не нравился Шанхай, и он уехал сначала в Англию, потом я видел его в Сингапуре. Тихоокеанскую войну он провел где-то в Бирме, и говорил о ней мало. Самым дорогим для него было воспоминание о том, как он стрелял из пушки. Андерсону надоела военная жизнь врача, и он уговорил знакомого артиллериста дать ему возможность пострелять из пушки. Тот согласился. Андерсон сделал несколько выстрелов и получил строгий выговор от генерала.
В период своей бесплатной работы с Андерсоном я пытался заняться и частной практикой, но прогорел буквально за три месяца. Частный кабинет пришлось закрыть, как только был израсходован последний уголь, которым я отапливал комнату в ожидании пациентов.
К частной практике я готовился несколько лет. Когда у меня бывали деньги от переводов на английский язык с немецкого, я ездил в Хонкью, не в тот район, где мне пришлось впоследствии жить, а в его богатую часть, которая была центром японской колонии в Шанхае. Там в магазинах, торгующих медицинским оборудованием, буквально за копейки можно было купить шприцы, иглы, тонометр для измерения давления, фонендоскоп для прослушивания грудной клетки, скальпели, ножницы и много других полезных вещей. Все это я копил для своей будущей частной практики, потому что других вариантов работы для русского врача в Шанхае совершенно не предвиделось. Все мы были свидетелями опыта бедного доктора Потапова, пожилого врача, который не сумел создать себе практику среди русской колонии (самой бедной из всех иностранных колоний) Шанхая и решил заняться иридодиагнозом. Ири-додиагноз - чистое шарлатанство, на которое мог решиться только голодный, доведенный до отчаяния человек. Суть иридодиагноза заключается в том, что, изучая через лупу радужную оболочку глаза, диагност по различным пятнышкам на ней устанавливает, чем человек болен.
Мне пришлось один раз лично столкнуться с этим методом. Я только что приехал в Шанхай для поступления в университет и заболел. Моя мать, по совету соседей, пригласила иридодиагноста. Тот пришел, достал лупу и стал изучать мою радужную оболочку, затем хмыкнул и сказал: «У вашего сына язва двенадцатиперстной кишки, и ему необходима диета из вареной картошки». Температура между тем ползла вверх. Тогда пригласили доктора Молчанова. Он осмотрел горло, нашел ангину и влил мне внутривенно акрифлавин, которым в то время лечили все инфекции (включая гонорею). Мне стало лучше.
Потапов был членом Общества русских врачей города Шанхая, и ему предложили на одном из заседаний выступить с докладом об иридодиагнозе, чтобы затем обсудить этот метод. Мы, студенты, присутствовали на этом заседании. На Потапова было жалко смотреть. После его доклада выступал доктор Бергер, окулист, который имел хорошую практику и Потапову, видимо, не сочувствовал, а поэтому говорил академично, зло и буквально уничтожил его. Большинство присутствующих поддержали Бергера. Сытые топили голодного. Формально Бергер, конечно, был прав, но можно было бы выбрать и другой тон для критики. Позже Потапов зарабатывал себе на жизнь тем, что ходил по домам и ставил клизмы по пятьдесят центов за сеанс. Не знаю, что с ним стало в конце концов, потому что после подачи прошения о получении советского гражданства в декабре 1942 года я ушел из Общества русских врачей, которое по своей политической направленности было антисоветским.
Что касается моей частной практики, то я смог ею заняться благодаря моему университетскому товарищу М.А. Вальтеру, который одолжил мне триста китайских долларов. На эти деньги я снял через две улицы от своего дома комнату с верандой у русской хозяйки, очень неприветливой и неприятной женщины. Веранду я превратил в приемную, в комнате был мой кабинет, и там стояла небольшая печка, которую я топил от трех до шести часов. В этот кабинет каждый день ко мне приходила жена, чтобы погреться у печки, так как на чердаке у нас отопления не было. Когда на улице было плюс четыре, на чердаке температура поднималась не выше плюс пяти градусов.
Из своих пациентов я хорошо помню только двух -царского генерала Цюманенко и молодого полицейского англичанина. Как-то я спросил жену, почему у меня остались в памяти только два пациента, и она ответила: «По-моему, у тебя только они и были». Это, конечно, преувеличение. Смутно помню какую-то женщину, которой делал внутривенные вливания бромистого натрия. Кто-то был еще... За три месяца пришли, наверное, человек шесть.
Цюманенко страдал от варикозного расширения вен на ногах (он был пехотным генералом, между прочим - из солдат, что раньше было событием почти невероятным), и я с ним возился несколько месяцев. Старик он был умный, много повидавший на своем веку, и мы с ним болтали часами, тем более что ни ему, ни мне делать все равно было нечего. У него не было солдат, а у меня пациентов.
Молодой полицейский англичанин, родом из Лондона, рыжий и рослый, пришел ко мне с острой гонореей. Он уплатил по счету, и это был первый гонорар, полученный мной полностью (у генерала денег не было, и он платил мне время от времени). Будучи уже здоровым, полицейский пришел ко мне еще раз и подарил серебряные запонки с гербом шанхайского муниципалитета, которые хранятся у меня до сих пор. Судьба этого человека трагична. Вторую мировую войну он отсидел в каком-то шанхайском концлагере, а после войны поступил на службу в полицию британской зоны в Берлине, куда поехали многие англичане-полицейские, для которых работы в Шанхае после войны не нашлось. Там он через некоторое время, как мне рассказывали английские полицейские, подарил все свое имущество какому-то немецкому ребенку и застрелился.
Девять месяцев, которые я проработал с Андерсоном, были для меня очень полезными. Бесплатное отделение давало возможность Андерсону много оперировать, а я во время этих операций должен был давать больным наркоз.
У Андерсона об анестезиологии были довольно поверхностные понятия, но именно это вселяло в него и в меня большую уверенность и обеспечивало наше спокойствие. «Если вы даете достаточно кислорода из баллона под маску, - любил говорить он, - то совершенно неважно, сколько эфира вы даете. Не обращайте на это внимания». Для сведения читателя сообщаю, что это мнение Андерсона не только неверно, но просто криминально. Однако в те «счастливые» годы нашего невежества в анестезиологии мы оба этого не знали. Он оперировал грыжи, удалял воспаленные аппендиксы, делал радикальные операции по поводу водянки яичка, вскрывал амебные абсцессы печени (в Шанхае это осложнение после амебной дизентерии встречалось часто), ампутировал конечности.
Жизнь операционной была наполнена событиями - как трагическими, так и комическими. Однажды я поставил пациенту диагноз: абсцесс печени. Печень у него была опущена на четыре пальца ниже ребер (в норме она не выходит за ребра), ее верхняя граница плохо различалась на рентгене из-за спаек. Андерсон вскрыл живот и буквально зарычал: «Будьте вы прокляты, Смольников! Печень совершенно нормальна!» Началось внимательное исследование больного. Больной, русский, получил штыковое ранение в область печени в Первую мировую войну. У него была парализована правая часть диафрагмы, из-за чего печень и опустилась. Никакого абсцесса там не было.
Помимо прочего, Андерсон учил меня бужировать мочеиспускательные каналы у стариков, страдавших сужением уретры (последствие недолеченной гонореи). Сам он очень любил цистоскопировать больных, то есть вводить цистоскоп в мочевой пузырь и через систему линз изучать его. У цистоскопа с двух сторон от оптической системы имеются две трубочки, заткнутые резиновой пробкой. Через них вводятся тонкие катетеры, которые можно провести до самых почек. Как-то раз Андерсон ввел цистоскоп одной больной и прильнул правым глазом к увеличительной системе. В этот момент женщина закашлялась, натужилась, резиновая пробка выскочила, и больная помочилась Андерсону в правый глаз. То, что он сказал по этому поводу, в печати привести невозможно.
Терапевтических больных Андерсон просто передал мне, и я был окружен тифом, паратифом и сыпняком, лихорадкой денге, возвратной лихорадкой, амебной и бациллярной дизентерией, пернициозной анемией, которую в то время не умели лечить, и прочими прелестями. Инфекционные больницы принимали только дифтерию, оспу, холеру и, кажется, скарлатину, поэтому дифтерии, например, я ни разу толком не видел и как-то раз послал одного ребенка в инфекционную больницу, потому что у него была температура и белая пленка в горле. На другой день звоню дежурной сестре и слышу в ответ, что ребенок здоров. «А белая пленка?» - спрашиваю я упавшим голосом. «Это не белая пленка, доктор, - отвечает сестра, вкладывая как можно больше яда в слово «доктор», — это овсяная каша».
Еще я хорошо помню случай с португальцем Эстрада. У него был рак легкого. Андерсон сказал мне: «Я считаю, что больным надо в этих случаях сразу же говорить правду. Они перестают бороться за свою жизнь и умирают скорее, что лучше и для них, и для их близких». Мы пошли вместе в палату, где лежал Эстрада. Андерсон подошел к нему и сказал «Послушайте, Эстрада. У вас рак легкого. Сделать мы для вас ничего не можем. Но я вам дам столько морфия, сколько вы захотите, чтобы чувствовать себя хорошо». Мы вышли и пошли в следующую палату. Через пять минут вбежала сестра: «Доктора, скорее к Эстрада». Мы вернулись. Оказалось, что Эстрада, как только мы вышли из палаты, схватил ножницы и всадил их себе в область сердца. В сердце он не попал, но пропорол плевру, и ему пришлось накладывать швы. Не всем, видимо, можно говорить правду.
С отъездом Андерсона и закрытием моего кабинета наступила вторая стадия моей врачебной деятельности - в Лаборатории медицинских анализов у доктора Лемперта, а еще через полгода мне предложили место в английской врачебной фирме «М» - «Доктор Маршалл и партнеры», о которой я уже упоминал. Эта фирма обслуживала муниципалитет международного сеттльмента, полицию, пожарные команды, все английские фирмы, а также все английские и скандинавские суда.
Моя профессиональная деятельность в Шанхае проходила на фоне бурных политических событий, начало которым положила Вторая мировая война. Первое сильное впечатление от них я получил, пожалуй, 22 июня 1941 года. День выдался очень жарким, и, когда мы с женой вышли после обеда прогуляться, я был поражен необычным скоплением народа на улицах. Все были возбуждены, разговаривали, жестикулировали, некоторые кричали, похоже было, что ссорились. Встретив знакомого, я спросил, что случилось (радио у нас дома не было, а газет я не выписывал - не было денег). «Как, вы не знаете?! - вскричал он. - Германия напала на Россию, и ее победоносные войска успешно продвигаются вперед к ма-тушке-Москве. Красная армия бежит!» Меня это ошеломило: на Россию напали немцы!
Как ни странно, но мы, студенты, в свои университетские годы политикой не интересовались, может быть, потому, что в большинстве своем принадлежали к той третьей группе русских - неэмигрантов, родившихся в Харбине, родители которых революции не знали, - и все нам казалось каким-то нереальным и не заслуживающим внимания. По-моему, никто из нас ни в какой партии не состоял. Я был членом общества «Русский сокол», но, хотя это общество и считалось формально «белой» организацией, я не помню ни одной политической лекции. Да и вообще, туда приходили заниматься гимнастикой, а не политикой. Учился, правда, с нами один студент, член организации «Национальный союз нового поколения», которая потом стала называться «Национально-трудовой союз», или НТС. Но все смотрели на него, как на чудака, и с ним не спорили.
Благодаря своей газете довольно широкой известностью пользовалась в Шанхае Младоросская партия. Целью этой весьма своеобразной организации было создать советскую монархию (то есть сохранить советскую систему, но во главе ее поставить царя). В роли монарха младороссы видели великого князя Кирилла Владимировича, который, проживая в маленьком местечке Сен-Бриак (на севере Франции), начал себя скромно именовать Императором всероссийским.
Между партиями шла политическая борьба. Она выражалась в том, что младороссы называли представителей национального союза нового поколения «нацмальчиками», а те называли младороссов «стоеросами». Интересно, что впоследствии многие из младороссов уехали в Советский Союз. Противники младороссов говорили, что те являются филиалом КПСС и содержатся на деньги Москвы. Мне казалось маловероятным, что Москва станет тратить деньги на содержание двора Императора всероссийского. Но, вообще, всерьез все это никто не обсуждал.
Никакой информации об СССР в начале войны нам практически не поступало. Запад все время обвинял СССР в отгораживании от цивилизованного мира «железным занавесом». Однако любой занавес имеет две стороны, и мы, жившие за рубежом, совсем ничего не знали о Советском Союзе. Есть заговор клеветы и заговор замалчивания, причем второй, по-моему, эффективнее. Если ругают твою Родину, у тебя может возникнуть естественное чувство возмущения, а если о ней ничего не говорят, то возмущаться вроде бы нечем, но информации в этом случае не получаешь никакой. Не имея критериев в политических вопросах, мы просто принимали на веру то, что читали в газетах, и судили обо всем с соответствующей точки зрения. Когда у меня появлялись лишние копейки, я покупал «Младоросскую искру», единственную газету, из которой можно было почерпнуть хоть какие-то сведения о советской жизни. Новости о Советском Союзе она печатала в благожелательном тоне, поэтому газета мне нравилась и, в конце концов, я подписался на нее и читал, не обращая внимания на изобилующий бред об Императоре всероссийском Кирилле Владимировиче.
Кроме того, желая удовлетворить свой интерес, я искал книги об СССР. В Шанхае работали три-четыре частные библиотеки: в каждой, наверное, не более десяти тысяч томов, но советских книг я там не видел. Встречались, конечно, произведения русских классиков, но чаще всего - эмигрантская беллетристика или антисоветская литература. Мне попались книги трех советских дип-ломатов-невозвращенцев: Бармина, Дмитриевского и Бе-седовского. Я понимал, что читать такие книги - не лучший способ изучать Советский Союз, но других в библиотеках добыть не мог.
Естественно, книжные магазины я тоже не упускал из виду, тем более что был библиофилом. Кстати сказать, для библиофилов в Китае всегда существовали почти идеальные условия. В тот период, когда я начал интересоваться книгами вообще и составлять себе библиотеку, я учился в средней школе в Тяньцзине. В городе было много китайских лавочек, где торговали старыми книгами, скупленными у иностранцев, уезжавших на родину и не желавших возиться с таким тяжелым багажом. Тогда китайцы не разбирались в достоинстве книг и продавали их просто по весу: десять центов за паунд (фунт, 454 гр.). Какое же было наслаждение для начинающего книголюба купить три фунта Шекспира за тридцать центов! Билет в кино стоил двадцать центов. Конечно, искать редкую инкунабулу в Китае было бы бесполезно, но сколько же интересных и неожиданных книг там продавалось. Правда, это «эльдорадо» длилось недолго. Китайцы довольно быстро поняли ценность иностранных книг, но все равно книги стоили относительно дешево, а выбор был самый причудливый. У одного известного букиниста в Шанхае на бесконечных полках - и, по-видимому, без всякой системы - стояли труды отца гомеопатии Ганеманна, еврейская Кабала, роскошные издания Кама Сутры, устав полевой службы британской армии, вольтеровский «Кандид» с фривольными иллюстрациями в красках, каноны шотландских масонских лож, вся детективная и порнографическая литература англосаксов и Франции, ученые комментарии к Откровению Иоанна Богослова, работы Эйнштейна, книги на английском, немецком, датском, итальянском и всех других языках мира, исследование теории функционирования жироскопа, учебники санскритского языка и русского по старой орфографии, альбомы Рериха, книги Эразма Роттердамского, Стефана Цвейга, «Гете» Эмиля Людвига, отчет комиссии шанхайского муниципалитета о шанхайских публичных домах, масса других полезных и бесполезных книг и ни одного советского издания. Правда, в Шанхае был книжный «магазин Флита»: Флита там уже давно не было, в магазине сидел некий Карукес и торговал советскими книгами, однако, зайти туда «несоветскому» было просто немыслимо.
Первая книга, изданная в Советском Союзе, которую я держал в своих руках, - «Евгений Онегин». Ее привез брат моей жены, вернувшийся из Гонконга, после того как его забрали японцы. Книга была отпечатана на пожелтевшей газетной бумаге. Перед каждой главой - виньетка, отражавшая пушкинскую эпоху. Я был буквально потрясен. Я не верил своим глазам: какие же тонко чувствующие художники есть там до сих пор, - думал я.
Между тем Вторая мировая война делала свое дело, и, когда положение под Сталинградом для советской армии стало, насколько можно было судить по эмигрантским газетам, критическим, я подал документы на оформление советского гражданства. Это произошло 3 декабря 1942 года. Я написал письмо в советское посольство в Токио, потому что в Шанхае Генеральное консульство СССР было закрыто, и в нем обитали только два или три охранника. Побоявшись посылать письмо в Токио по почте, я придумал, как мне казалось, очень хитрый маневр.
Я решил послать своего рассыльного китайца в здание советского консульства передать мое письмо, рассчитывая, что его перешлют в Токио дипломатической почтой. Рассыльный отнес письмо вместо советского в японское генеральное консульство, которое находилось рядом, откуда письмо и вернулось назад с запиской (на официальном бланке), что оно пришло туда по ошибке и они мне его возвращают. Все было написано, как полагается: вежливо, корректно, по-английски, с подписью «Ваш покорный слуга» — такой-то. В общем, моя подпольная деятельность продолжалась часа два. В итоге письмо пришлось послать обычной почтой. Через месяц пришел ответ из советского посольства в Токио примерно следующего содержания: «Ваше письмо получено и отослано в центр. Как только будет ответ - известим».
Таким образом, я стал, как тогда называлось, «квит-подданным», то есть человеком, получившим квитанцию о том, что подал прошение о советском гражданстве. Название это было юридически неверным, потому что никакой квитанции я не получал, а было только сообщение, что получено мое письмо, хотя какое письмо - неизвестно.
Все же с этим ответом я имел право вступить в Общество граждан СССР города Шанхая, что немедленно и сделал, а после этого с полным правом и спокойной совестью пошел в магазин Флита и купил свои первые советские книги. Это был один из самых счастливых периодов в моей жизни.
7 декабря 1941 года японцы напали на Перл-Харбор, объявили войну Америке и Англии и в ту же ночь оккупировали Шанхай. Таким образом, полиция сеттльмента стала подчиняться японцам.
Спокойное течение жизни русской эмиграции в Шанхае было прервано драматическими событиями. Началось с убийства председателя русского эмигрантского комитета Метцлера, в прошлом - не очень известного русского дипломата. Как председатель русского эмигрантского комитета он ничего собой не представлял. На его место был избран Иванов. Через несколько недель убили и Иванова. Смысл этих убийств так и не был выяснен, никакого логического объяснения им никто дать не мог. Убийство человека, занимавшего такой незначительный и никому не нужный пост, было равносильно убийству, скажем, председателя общества филателистов, не более того.
Затем был убит еще один русский, некто Прокофьев, полицейский английской полиции и лучший спринтер Шанхая. Высокий, стройный юноша. Как мне рассказывали русские полицейские, он был тайным агентом гоминьдана и работал против японцев. Последний раз его видели в русском ресторане поздно вечером в обществе какой-то китаянки. Затем они как будто пошли гулять. Его труп нашли утром около американской школы на Авеню Петэн - улице, густо засаженной в этом месте кустарником и ночью совершенно пустынной. Юношу убили выстрелом в спину. Узнал я об этом утром, а после обеда ко мне зашел мой пациент - Юлий Аполлонович Черемшанский, как говорили, очень опасный человек. При японцах он быстро пошел в гору и к тому времени стал уже инспектором полиции. Его слова привели меня в замешательство. «Доктор, - сказал он, - вчера ночью покончил жизнь самоубийством сержант Прокофьев, и епископ Иоанн отказывается его хоронить, так как православная церковь не хоронит самоубийц. Нам нужно свидетельство от вас как от врача полиции международного сеттльмента, что он это сделал в припадке умопомешательства». Прокофьев был моим пациентом, сумасшедшим он никогда не был, и трупа его я не видел. Со стороны Черемшанского это был наглый нажим. Он понимал, что мне не отвертеться. Я пообещал, что свидетельство будет готово завтра утром, и он откозырял и ушел. Я долго думал, как поступить, и написал, наконец, свидетельство по-английски, применяя стандартные английские выражения. Документ выглядел так:
«Всем, кого это касается.
Вчера представитель полиции известил меня, что сержант Прокофьев покончил жизнь самоубийством.
Полиция полагает, что он сделал это в момент острого умопомешательства».
На другой день пришел Черемшанский. Я протянул ему свидетельство, которое с юридической точки зрения не стоило и ломаного гроша. Черемшанский прочел его, откозырял и ушел с этим липовым документом.
В это же время в Шанхае проживал русский эмигрант -некий Лоренс. Настоящего его имени никто не знал, поговаривали, что он был японским шпионом, и все боялись его. В общем, темная и грязная личность. Жил он в шикарном английском отеле Сассун Хауз прямо на набережной, увлекался театром и ставил пьесы, на которые должны были ходить все русские эмигранты.
Как-то ночью мне позвонил доктор Кузнецов, русский эмигрант, и сказал: «Виктор Прокофьевич, в Сассун Хауз серьезно заболел господин Лоренс. Предполагают пищевое отравление. Он — мой пациент, но мне, старику (ему было лет пятьдесят), ночью ехать трудно. Не смогли бы вы съездить, чтобы оказать ему помощь?» Кто такой Лоренс я уже знал, все русские о нем знали, но я был молод и не считал удобным послать Кузнецова к черту. К тому же Кузнецов могсказать Лоренсу: «Я себя очень плохо чувствовал, позвонил Смольникову. А он, знаете, подал документы на советское гражданство, поэтому и отказался оказать вам помощь». Такой поворот дела мог быть для меня опасным, и даже очень. Все это происходило между мартом и апрелем 1943 года. Я зажег свой керосиновый фонарик, повесил его на руль велосипеда и отправился в Сассун Хауз. Не любил я эти поездки ночью: на каждом мосту стоял японский часовой, и получить выстрел в спину ничего не стоило. У входа в Сассун Хауз меня встретил русский ночной вахтер: «Пожалуйста, господин доктор, пройдите сюда, в лифт».
Лоренс жил, кажется, на десятом этаже в двухкомнатном номере «люкс». Я увидел его сразу же, как только вошел. Обычно описание преступника в детективном романе сводится к следующему: у него было неприятное лицо с квадратной челюстью и без тени улыбки... Так вот у Лоренса оказалось, как нарочно, именно такое лицо. Напуганный собственными подозрениями, что его отравили, он нервно ходил по комнате. Естественно, если выбираешь для себя профессию негодяя, то и страхи у тебя соответствующие. Между прочим, я тоже тогда испугался: на ночном столике у него, рядом с флаконом духов «Пармские фиалки», лежал револьвер. Предусмотрительный был джентльмен. После осмотра я понял, что ничего страшного с ним не случилось: скорее всего, объелся креветками. Я прописал ему дозу английской соли и дал таблетку люминала на ночь. Больше я его никогда не видел.
На другое утро я рассказал о визите нашей канадской секретарше, миссис Берджес, и спросил у нее, как нам быть, посылать ему счет за визит или послать его к черту. Она подумала и сказала: «Давайте сделаем вид, доктор, что ничего не знаем. Для нас он - обыкновенный пациент. Пошлем ему счет на оплату в двойном размере, как и полагается за визит в ночное время, а там посмотрим». Счет послали, и Лоренс немедленно прислал чек с посыльным.
Кроме русской эмиграции, жизнью которой я, естественно, интересовался, в поле моего зрения странным образом попали евреи. Дело в том, что волей судьбы мне пришлось жить в шанхайском еврейском гетто.
В Шанхай из Германии, а также из стран Центральной Европы, захваченных Гитлером, в 1937 году и в последующие годы прибыло более десяти тысяч еврейских беженцев. Большинство из них расселилось в Хонкью, в том же районе, где тогда жили мы. Большой шестиэтажный дом напротив нашего пассажа, в котором раньше жили английские тюремщики со своими семьями, был снят сионистской организацией «Джойнт» для наиболее бедных еврейских семей. Другие еврейские семьи, также почти полностью разорившиеся, снимали дома вроде нашего и открывали магазинчики, кондитерские, бары, сапожные и портняжные мастерские. Богатые евреи, а таких было тоже немало, селились в дорогих кварталах международного сеттльмента и французской концессии.
Нашим соседом был кондитер Фельдман из Австрии. Он построил большую печку внизу и стал печь торты и пирожные для разных кафе, которых было великое множество. На еврейскую Пасху в его кондитерской выпекали мацу, а на православную - куличи. С Фельдманом жила вся его семья - славные работящие люди. Трудились в семье все - и родители, и дети. Спать они ложились очень рано, так как вся выпечка шла ночью, чтобы к утру были свежие булочки.
Первоначально в еврейских магазинчиках наше внимание привлекли баснословно низкие цены, показавшиеся нам удивительными. Однако вскоре все разъяснилось. Оказалось, что по центрально-европейскому обычаю цены на весовые товары выставлены не за паунд, а за четверть паунда. Все встало на свои места, и торговля застопорилась. На Шанхай уже надвигалась война, и одной торговлей выживать было трудно. Мы наблюдали «экономическое чудо», только наоборот. Люди, у которых не было денег, пекли пирожные и пытались их продавать другим людям, у которых тоже не было денег. А те шили платья и пытались их продать кондитерам, которым нечем было за них заплатить. Я впервые видел такую странную торговлю. Конечно, многие участники этого «чуда» постепенно разорялись.
На нашей улице жил один еврей - человек лет пятидесяти пяти, высокого роста, всегда хорошо одетый, с черными, аккуратно подстриженными усиками. Он часто сидел в угловом кафе на открытом воздухе, чинно пил кофе и читал еврейскую газету на немецком языке. Потом он куда-то исчез, и я забыл о нем. А через два года, когда мы переезжали поближе к больнице, где я работал, он вновь попался мне на глаза. Дело было летом, в жару. Он сидел на тротуаре. Голова его была повязана носовым платком от солнца, а усики все также аккуратно подстрижены. Рядом стояли фарфоровые статуэтки и лампа с абажуром. Он их продавал. Кстати, такое очевидное разорение было необычным для евреев. Как правило, они очень активно помогали друг другу, и у них, наверняка, имелись места скупки вещей или какие-нибудь ломбарды.
В 1941 году немецкий генеральный консул предложил японцам устроить для евреев гетто. Надо отметить, что японцы, как и китайцы, не знают, что такое антисемитизм. Для китайцев все европейцы или «да пицза» (большеносые) или «ян гуйцзы» (заморские черти), и никакой разницы между отдельными народностями они не видят. Китайцы не любят всех белых без всякой дифференциации. Так гораздо проще. Но японская жандармерия сразу поддержала идею гетто, и вовсе не потому, что все японцы внезапно стали антисемитами. Они просто сообразили, что на богатых евреях можно хорошо заработать. Внешне же демонстрировалась лояльность принципам Оси.
В связи с созданием гетто было объявлено, что все евреи, прибывшие из Центральной Европы, должны переселиться в зону Вайсайда, то есть туда, где проживали мы. В этой зоне жило много русских, в основном бедных, в ней располагались русские лавочки и православная церковь. Постановление гласило, что евреи могут работать в любом месте, но обязаны возвращаться в пределы гетто к семи часам вечера (в Шанхае рано темнеет, он находится на одной параллели с Каиром). Сразу же возник вопрос о еврейских проститутках, работавших в различных кабаре в богатых районах города: у них рабочий день только начинался с семи вечера. Как решили эту проблему, не знаю. Богатые евреи остались жить в другой части города, откупившись от переселения в гетто - тут-то и принесла плоды мудрость японской жандармерии, которая неплохо заработала на совете немецкого генерального консула (между прочим, если мне не изменяет память, его фамилия была Вейдеман, и он одним из первых отрекся от Гитлера, когда понял, что война проиграна). А пострадали от этого приказа только бедные евреи, которые не могли дать взятку японским жандармам: вскоре их всех разместили в гетто. Говорили, что их заставят носить нарукавные повязки, но до этого дело не дошло: японский милитаристский бандитизм подходил к концу.
В гетто японцы с евреями обращались плохо: вызывали в полицию по пустякам, били, издевались над беззащитными людьми, женщин хватали за «неприсутственные» места. Среди японских полицейских был один негодяй, по-моему, по фамилии Ода, который специально занимался евреями и проявил себя бесчеловечным садистом. Мне о нем рассказывал Макс Шмайдлер, полицейский-еврей, работавший в гетто. С окончанием войны евреи искали этого японца, чтобы с ним расправиться, чего тот вполне заслуживал, но он успел сбежать.
КИТАЙСКИЙ ВИНЕГРЕТ
Китайский писатель Лин Ю Тан в своей книге «Моя страна и мой народ» приводит много интересных деталей китайского уклада жизни. Он пишет и о религии, и о местных обычаях, и о китайской кулинарии, и о проституции. Им написано несколько книг о Китае, и все они интересны. Но ортодоксальные китайцы только пожимают плечами и говорят: «Что он может знать о Китае, прожив почти всю жизнь в США? Глупости». Мне как иностранцу судить об этом трудно (хотя я родился в Китае и прожил там сорок лет), но, поскольку те ортодоксальные китайцы, с которыми я беседовал, сами ничего о Китае не написали, то Лин Ю Тан остается для меня авторитетом. К тому же все то, что я запомнил из разговоров с китайцами или видел собственными глазами, мало отличается от того, что пишет Лин Ю Тан. Для написания этой главы я решил воспользоваться методом Лин Ю Тана, который сумел в одной книге рассказать обо всем. Сделать это в одной главе, конечно, труднее, но я попытаюсь, тем более, что пишу я не обо всем Китае.
Начать можно с китайской пищи. Исторически пища, пожалуй, важнее религии. Сильно проголодавшийся, нормальный первобытный человек сначала охотился, а потом уже молился. Мне могут возразить, что многие дикари совершали моления перед охотой. Да, но это уже сытые дикари.
К пище китайцы относятся очень серьезно. На ее приготовление они переносят то эстетическое чутье, которое проявляется в их живописи, литературе и скульптуре.
Такое отношение к пище начинается с базара. Если вы придете на базар рано утром, то увидите, как тщательно торговцы подготавливают свои продукты к продаже. Простой крестьянин, принесший в двух корзинах зелень со своего огорода, раскладывает ее на лотке в отдельные пучки и кучки. Рядом стоит ведерко с водой, и он маленьким веником все время опрыскивает зелень, чтобы она выглядела свежей и привлекательной для покупателя. На китайском базаре вы никогда не увидите грязной картошки, с налипшими на нее засохшими комьями земли, или куриных яиц, выпачканных пометом. Все вымыто и разложено. Если апельсины начинают портиться, то подгнившие участки корки тщательно срезаются, а сами апельсины откладываются отдельно и продаются по более дешевой цене. То же самое проделывается и с другими фруктами. Корявых от червоточины яблок покупатель на лотках не увидит. Они лежат отдельно, позади прилавка, и продаются значительно дешевле, потому что не радуют глаз. Только бананам с черными пятнами на кожуре разрешается лежать на лотках, потому что банан только тогда достигает высшей степени аромата, сахаристости и нежности мякоти, когда начинает слегка подгнивать. Пекинские груши, маленькие, желтые и совершенно круглые, очень ценятся за свою нежность и сладость. Груши дюшес продаются только тогда, когда готовы лопнуть от сока, а тяньцзиньские груши, большие и яйцевидные, зеленые и желтые, - круглый год. Мякоть у тяньцзиньских груш грубоватая, но они очень сладкие. Зимой на севере Китая их для хранения замораживают, отчего кожура становится совершенно черной. Но мякоть такой груши после размораживания в воде становится розовой и отличается поразительной сладостью и сочностью.
В Китае много яблок разных сортов, среди которых, естественно, есть такие, которые неизвестны в нашей стране, например, так называемые ватные яблоки, с очень сладкой мякотью, напоминающей вату, или «банановые» яблоки, твердые, но тоже очень сладкие и ароматные. Еще один сорт яблок интересен тем, что по мере созревания плод меняет цвет. Китайские садоводы на каждое яблоко, пока оно зеленое или белое, наклеивают вырезанный из бумаги иероглиф, означающий или радость, или счастье, или благоденствие. Когда яблоко поспевает, оно наливается и краснеет. Его снимают с дерева, бумажку аккуратно отрывают, и на красном фоне остается белый иероглиф, который должен обеспечить покупателю то, что он означает.
На базаре много кокосовых орехов - и зеленых, то есть с молоком внутри, и уже спелых. Можно купить целую ветвь бананового дерева с плодами, причем длиной больше человеческого роста. Великолепны персики с белой и красной мякотью, абрикосы. Наполняют лотки грейпфруты и шаддоки - два родственных цитрусовых фрукта. Шаддок заслуживает двух слов. Это фрукт лимонного цвета, самый большой из семьи цитрусовых по размерам - почти небольшой футбольный мяч. У него толстая кожа, а под кожей он словно ватой набит, которую нужно отодрать, чтобы добраться до долек. Каждая долька покрыта плотной пленкой, разрывая которую повреждаешь длинные волокна с соком. Волокна слегка желтоватые или розовые и приятно горьковатого вкуса. Иногда, правда, они бывают сухие - и тогда фрукт лучше просто выбросить. Но каждая долька - проблема. Как ее открыть? После многих лет неудач я начал срезать верх эластичной сумки кривыми ножницами. Волокна сразу выходят наружу, и их можно есть, даже не замочив пальцы.
Несколько слов скажу о китайских винах. Иностранец, проживший в Китае неделю, знает, что есть горячее рисовое вино и мао-тай. Иностранец, проживший всю жизнь в Китае, знает, что китайцы умеют делать превосходные вина из северного винограда и никуда негодный коньяк. Вообще надо признать, что правы французы, которые утверждают, что настоящий коньяк производится только в местности, именуемой Коньяк, а арманьяк - в местности Арманьяк. Французы говорят: «Гоните, какие хотите винные спирты, выдерживайте их в дубовых бочках, пока они не пожелтеют. Ради бога. Но не называйте эти напитки коньяком. Коньяк - это наша торговая марка». Действительно, в этом есть своя логика. Нельзя делать абы где портвейн (его родина Португалия), херес (его родина Испания), шартрез и бенедиктин (их родина Франция). Это все равно, что печатать чужие деньги. Есть нейтральное слово бренди, и болгары сейчас им пользуются, продавая свой выдержанный в дубовых бочках винный спирт. И даже французские виноторговцы пишут на своих этикетках «французский бренди», если их виноградники находятся вне зоны «Коньяк», определенной законом правительства Франции. Зона «Коньяк» захвачена четырьмя фирмами: «Martell», «Hennesy», «Remi-Matin» и «Courvoisier». Все остальное - не коньяк. Если виноградник находится даже в ста метрах от четко определенной зоны, это уже не коньяк, а бренди. Впрочем, вряд ли хоть кто-то способен отличить коньяк «Martell» от французского бренди «Chatelle», считающихся разными напитками из-за этих бюрократических ста метров. По-моему, бренди Chatelle - великолепный французский коньяк.
Один мой американский пациент, по фамилии Перри, как-то сказал: «Калифорнийские вина! Ну хорошо, неплохие вина, но не называете их портвейнами, мадерами, коньяками. Таких вин в Калифорнии быть не может, их родина Португалия, Испания, Франция. Врать не надо, вот что. Посмотрите, что Британско-американская табачная компания попыталась сделать перед войной с виргинским табаком. Это табак из американского штата
Виргиния, что означает «девственница». Он назван так в честь английской королевы Елизаветы (которая, кстати, девственницей не была). Семена привезли в Китай и здесь вырастили табак. Неплохой табак, но не виргинский. А лозы, которые мы привезли из Франции к себе в США, в Калифорнию, начали давать не тот виноград. Поэтому и коньяк - не коньяк. Да и вообще, это же нонсенс - из одной французской лозы пытаться делать и французский коньяк, и португальский портвейн, и испанский херес!».
Думаю, Перри был прав. Калифорнийские вина по-своему хороши, хотя у них есть привкус жженого сахара. Но калифорнийский портвейн - не португальский портвейн, калифорнийский херес - не испанский херес, калифорнийское шампанское - вообще не шампанское, а игристое американское.
Наш массандровский портвейн — великолепное вино, но это не портвейн. И не надо думать, что если в красное вино добавить винного спирта до крепости в девятнадцать градусов, то оно от этого станет портвейном. Очень может быть, что массандровское вино лучше португальского портвейна, но его надо назвать другим именем и добавить в скобках «типа портвейн».
Китайцы подают к столу горячее рисовое вино. Оно не крепче пятнадцати градусов, светло-желтого цвета. Наливают его из маленьких чайничков в маленькие пиалы, и если к нему привыкнуть, оно приятно. Мао-тай - это особая вещь. Его готовят только в одной из южных провинций Китая и продают в глиняных бутылках. Это очень легкая на вид жидкость, слегка голубоватого цвета и невероятной крепости (наверное, больше пятидесяти градусов). У нее два вкуса. Вначале ощущаешь вкус сыра, а после глотка - вкус свежих яблок.
Много пишут о специях, добавляемых китайцами в пищу. Вообще-то все народы это делают, но специи одних народов кажутся странными другим народам. К чужой пище надо привыкнуть, чтобы ее оценить. В XVII веке в Европу специи ввозили из Индии, потому что в Европе тогда соль была в дефиците, и недосоленное мясо без приправ казалось невкусным. В богатых английских домах у хозяина был мешочек с солью, и когда он хотел почтить особо какого-либо гостя, то щедро отсыпал ему щепотку. Русская поговорка «не солоно хлебавши», очевидно, имеет то же значение. Китайцы в мясо часто добавляют имбирь, а индусы - корень куркумы и свой порошок карри. Имбирь и куркума - родственные растения, хотя слегка различаются по запаху, цвету и вкусу. Индийский порошок карри идет для приправ почти во все кушанья. Он приятен на вкус, и один только его запах возбуждает аппетит, что при тропической жаре, когда есть вообще не хочется, очень важно.
Китайцы ценят хрустящие свойства пищи. Это свойство особенно присуще молодым побегам бамбука - сваренные и поданные с соевым соусом они очень хороши. Китайцы любят подробно описывать все свойства пищи, называя при этом сладкие, соленые, кисло-сладкие, кислосолёные, горьковатые, горькие и прочие оттенки вкуса.
В китайском рационе есть некоторые особенности: например, в нем больше рыбы, чем мяса, - она дешевле. В провинции (об этом мне рассказывал один бельгийский миссионер) крестьяне из-за дороговизны почти не едят мяса. Они разводят свиней белого, как у нас, и черного цвета, но их мясо идет на продажу богатым помещикам. Не едят свинину только китайские магометане и евреи (по религиозным соображениям), но им можно есть баранину и говядину. Корова не считается в Китае священным животный, как в Индии. Вообще китайцы не склонны гастрономию смешивать с религией и предрассудками. В пищу здесь идут вареные жуки, лягушки, маленькие «рисовые» птички, которым откусывают головы и оттуда высасывают мозг, а бычьи хвосты, тушенные в соевом соусе, вообще считаются деликатесом.
Заменой хлебу служит рис, но это, главным образом, на юге. На севере китайцы готовят хлебные пампушки, блины и толстые лепешки, слегка поджаренные на масле, но без соли.
Широко употребляется в пищу арахис. Существует два сорта арахиса: крупный - выращиваемый на севере Китая, и мелкий - на юге. Крупный сорт вкуснее, и китайцы делают из него массу сладостей: запекают в сахаре или покрывают тонкой сахарной корочкой, белой или розовой. Арахис можно есть сырым или жареным. Для употребления сырым арахис вымачивают в каком-то соусе, тогда он становится мягче и по вкусу напоминает миндаль. Очень хорош жареный арахис, особенно, если бросить его в сладкий чай. Поджаривать арахис можно на обычной сковородке, все время помешивая. Если его слегка пережарить, то зерна станут коричневыми. Такой арахис хорош с холодным пивом, особенно, если его сверху обсыпать солью.
То, что я здесь называю вкусным, - мое личное мнение. Оно во многом совпадает со взглядами китайцев, но не всегда. К примеру, я никогда не ел трепангов, потому что мне не нравится их вид. Понятно, что это не аргумент. Мне не нравится вид «тухлых» яиц, которые долго выдерживают в земле, чуть ли не в известке. Не знаю, какие они на вкус, никогда их не пробовал. Белок у них зеленый, желток - непонятно какой, мокрый. Зато подавляющее число китайских блюд очень хороши. Копченая рыба, которую хозяйка коптит прямо перед обедом, превосходна. Китайские пельмени, приготовленные из нескольких сортов мяса с зеленью, могут поспорить с сибирскими. Китайцы славятся мастерством готовить и супы.
Читатель, конечно, прекрасно понимает, что о вкусах не спорят. Мои дед и бабушка, например, говорили, что китайские овощи никуда не годятся по сравнению с русскими: «Русский огурец! Только в комнату войдешь, уже чувствуешь». Возвращаясь из Англии в Китай в 1948 году, я беседовал в Пенанге (Малайзия, ныне Кенанг) с молодым китайцем, который спросил меня: «Скажите, правда, что будто бы в Китае, мне это говорил мой дед, все фрукты и овощи пахнут лучше, чем здесь?». У меня тогда возникла мысль: может быть, с годами чувство обоняния стирается и старый человек не так остро чувствует запахи. А может, это лирика прошлого? Или гастрономический шовинизм? - русский огурец все-таки лучше.
Я уже упоминал о том, что китайское эстетическое чутье отражается на приготовлении пищи. Например, летом китаянки из самых бедных семей готовят обед или прямо на тротуаре, или у открытых дверей (не так жарко), и можно видеть, что и в самой бедной семье пищу готовят так же, как в дорогих ресторанах, только меню во много раз беднее. Пучок лука китаянка обязательно продольно нашинкует и аккуратно разложит на одной тарелочке, на другой у нее будет соленая капуста, в чашечке - соя, которая служит и приправой, и солью. Рис варят так, что отдельные зерна не слипаются. Креветки, внешне некрасивые, готовят в виде нежно-розовых колобков и подают с зеленым горошком.
В состоятельных семьях был, конечно, повар, и не один. Повар в китайской семье - persona grata, и его называют почтительно: «да-ши-фу» - великих дел мастер. Но эти «великих дел мастера» полностью хозяйку не заменяли. Кулинария - слишком важное искусство, чтобы женщины могли уступить его мужчине (хотя все известные в истории повара - мужчины, заметьте, - ни одной женщины). Китайская хозяйка должна была блеснуть перед гостями своим искусством, часто отсутствующим. Она шла на кухню, чтобы приготовить какое-то особенное блюдо. Гости обязаны были ее за это хвалить. А повар, если он и готовил это блюдо за нее, молчал.
Каждое утро повар ходил на базар. Это целый ритуал. Знакомые лавочники просто стелились перед ним, желая угодить: нельзя же потерять выгодного покупателя. В иностранных семьях - так было принято - повар-китаец, отчитываясь перед хозяевами о расходах, мог в свою пользу набавлять на стоимость купленных продуктов до десяти процентов. Если он набавлял больше, то это считалось почти воровством. Вообще в этом была какая-то справедливость: если хозяева приезжали в Китай грабить местное население, то почему повара не могли грабить своих приезжих хозяев? А потом, что значили для иностранца эти десять процентов? Если фунт яблок стоил десять центов, а повар в отчете ставил одиннадцать, что от этого менялось? Если хозяин получал в своей иностранной фирме восемьсот китайских долларов в месяц, а повару платил только десять, то, думаю, можно понять повара, который выгадывал себе лишних десять долларов в месяц.
Нужно заметить, что до войны продукты в Китае были очень дешевыми, а фрукты вообще ничего не стоили. Помню в 1923-ем или 1925 году в Тяньцзине мы жили в одном доме с родственниками. Нас было десять человек: моя тетка с двумя детьми, дядя с женой, тещей и ребенком, моя мать, отчим и я. Повару каждое утро давали один серебряный доллар, и на эти деньги он кормил нас всех. Правда, это было более пятидесяти лет назад.
Любопытную историю о поварах, этих «великих дел мастерах», описывает в одной из своих книг Даниэле Ва-рэ, итальянский посол в Китае в 1911 году.
В Пекине проживала молодая английская чета. У них было два повара - родные братья. Как-то супруги разругались и целый месяц друг с другом совсем не разговаривали, даже ели в столовой в разные часы, чтобы не видеться. К хозяину дома каждый вечер приходил повар «номер один» и подавал счет за сделанные за день покупки. Хозяин с ним рассчитывался. Через месяц супруги помирились, и англичанин с удивлением узнал от жены, что к ней каждый вечер приходил повар «номер два» и подавал точно такой же счет, который она ему оплачивала. Англичанин страшно взбесился, вызвал повара «номер один» и потребовал объяснений. Повар «номер один» ответил ему с невозмутимым видом: «Хозяин, уже более месяца, как я поссорился с моим братом, мы с ним не разговариваем, и я не знаю, что он делает». Англичанин, пребывавший в течение месяца точно в такой же ситуации, не знал, что ответить, и инцидент был исчерпан.
Всякий китайский обед начинается с зеленого чая с тыквенными, арбузными и подсолнечными семечками. Чай этот длится час, два, три, пока не соберутся все гости. Хозяин ждет, потому что не знает, сколько придет гостей. Если европейский хозяин обычно боится, что гостей придет меньше, чем он пригласил, то китайский хозяин находится в более трудном положении: гостей может быть больше, чем он рассчитывал. Для выхода из этого положения в Китае придуманы круглые столы. Они складываются пополам и стоят вдоль стен. За круглый стол можно посадить любое количество людей. А пищи готовится столько, что уходящим гостям остатки заворачивают в бумагу, чтобы они и дома могли поесть и вспомнить гостеприимного хозяина.
С едой связаны некоторые правила этикета, которые характерны только для Китая. Например, после угощения фруктами китайцы подают полотенца, смоченные в ароматизированном кипятке. Таким полотенцем вытирают сперва лицо, а затем руки. Впрочем, в китайском этикете есть и некоторые погрешности, для европейцев совершенно недопустимые. Китайцы спокойно сплевывают кости на скатерть, и скатерть после ужина выглядит ужасно. С такими манерами, по-моему, было бы проще не накрывать стол скатертью вообще. Если, с нашей точки зрения, рыгать за столом неприлично, то во многих восточных странах, в том числе в Китае, если вы не рыгнули за столом - значит, плохо поели, а это упрек хозяину.
Я мало интересовался китайскими религиями, как, по-моему, и сами китайцы, но их храмы великолепны. Хотя красота храма, мне думается, вопрос архитектуры, специфичной для каждого народа, а не вопрос религии. Я знал, что конфуцианство не религия, а свод этических правил. Таоизм - это путь к чему-то. Скептики говорят, что это путь, который никуда не ведет, он оброс суевериями, всякими чертями и богами. Буддизм был довольно распространен, но он не типичен для Китая. Китайские студенты, с которыми я учился, о религии никогда не говорили, но они были суеверны и особенно верили в каких-то потусторонних лисиц. У японцев эти лисицы тоже есть в фольклоре.
Безразличие китайцев к религии делало их очень терпимыми по отношению ко всякого рода религиозным учениям и течениям. Вообще интересно: безразличие считается отрицательным качеством, а терпимость, наоборот -добродетелью, но очень часто это просто одно и то же. Человек проявляет к чему-то терпимость потому, что ему все равно. Наверное, поэтому в Китае можно было столкнуться с таким изобилием религий. Магометанство, правда, было распространено в большей мере среди дунган на западе Китая, но зато многие китайцы становились католиками и протестантами разного толка (методистами, баптистами). Иностранные католики называли их «рисовыми»: какая церковь давала больше риса, в ту религию они и переходили. Иными словами, серьезно христианством они не интересовались, хотя были среди них и искренне верующие, как и во всяких религиях. В Пекине была колония православных китайцев, потомков ал-базинских казаков, приехавших с нашим посольством в прошлом веке. Казаки остались в Пекине, женились на китаянках. Я встречал их потомков в православной церкви в Тяньцзине. Внешне это были настоящие китайцы, а говорили чисто по-русски. Вообще, в отличие от католической и протестантских церквей, православная духовная миссия в Пекине к прозелитизму особенного энтузиазма никогда не выказывала, а глава миссии архиепископ Иннокентий в основном занимался составлением большого китайско-русского словаря. А потом были и политические причины, почему китайцы не спешили переходить в православие: оно воспринималось как религия проигравшей войну партии, религия белой эмиграции, поэтому ничего хорошего или выгодного быть в ней не могло. Зато популярностью пользовались американские секты баптистов и методистов. Вот это было выгодно. Китайцы, работавшие с французами, легче переходили в католицизм. Тоже было политически выгодно. В общем, к искренности китайских христиан сами иностранцы в Китае относились скептически. Но, повторяю, это суждение не может быть огульно отнесено ко всем верующим китайцам.
Когда китаец заболевал, то родственники обращались по очереди к представителям всех религий в надежде, что какая-нибудь поможет. Это тоже подтверждает отсутствие веры в какую-нибудь одну религию. Делались жертвоприношения, сжигались сделанные из серебряной бумаги «слитки» серебра (не жертвовать же настоящими), в курильницах жгли ароматичные желтые палочки из верблюжьего кала. Действительно, весьма ароматные.
Китайцы очень серьезно относятся к смерти, и китайские похороны удивительны. Сыновья в доказательство своей сыновней преданности умершему отцу буквально разорялись на устройстве похорон. Все это в конце концов было запрещено гоминьдановским правительством, но я еще застал торжественные похороны. Считалось хорошим тоном подарить заблаговременно гроб своей бабушке. (Интересно, дарили ли они гробы своим тещам?). Хорошие китайские гробы стоили дорого, и бабушка хранила такой гроб в отдельной комнате и хвасталась им перед своими приятельницами. Доски для гробов были толщиной сантиметров пятнадцать-двадцать. Хорошие гробы покрывались черным лаком и расписывались золотой краской, на них изображались драконы и разные цветы. У богатых людей похоронная процессия растягивалась на несколько кварталов. Будучи еще мальчишкой, я видел в Тяньцзине похороны какого-то родственника императорской фамилии. Похоронная процессия шла через весь город (а Тяньцзинь был тогда городом с тремя миллионами жителей) в течение всей первой половины дня. Участники процессии несли его доспехи, бумажные куклы, изображавшие его солдат, бумажных лошадей. Все это потом сожгли на его могиле (в старину сжигали настоящих людей, как и у древних славян, и обязательно - жен умершего). Гроб, покрытый шелковым балдахином, расшитым рисунками, несли более двадцати человек. Китайцы ставят свои гробы на огромные палки, это скорее стволы деревьев, и чтобы поднять такой катафалк, надо действительно много людей. Играли оркестры. Шли плакальщицы во всем белом (у китайцев белый цвет - цвет траура), потом в определенном порядке шли монахи - буддисты, таоисты, конфуцианцы. Около дворца, принадлежавшего покойному, слуги приглашали всех прохожих заходить внутрь. Я был с моей двоюродной сестрой, и мы вошли. В колоссальном по размерам и роскошном по убранству зале были выставлены богатства умершего: зеркала в оправе, украшенной жемчугом, старинное оружие и еще много всего, чего я не запомнил. Но что нам понравилось, так это то, что каждому вошедшему гостю сразу давали пол-арбуза. Для посетителей семья закупила несколько тысяч арбузов.
В Шанхае я видел похороны меньшего масштаба, но с несколькими оркестрами. Одни похороны мне особенно врезались в память. Перед гробом шел оркестр - все музыканты были одеты в форму каких-то южноамериканских адмиралов, они играли вальс из «Веселой вдовы».
До прихода Мао Цзэдуна в Китае практиковалось многоженство. Мао его запретил - не из-за моральных соображений, которых у него вообще не было, а просто так, за компанию, потому что в социалистических странах многоженство не приветствовалось. Были учреждены курсы для подготовки судей по бракоразводным делам. Один мой знакомый китаец, только что вернувшийся из Лондона и женившийся, пошел на эти курсы и, окончив их, применил свои знания на практике - развелся со своей молодой женой, с которой не прожил и года. Я тогда не интересовался, что стало с женами из других китайских семей.‘До прихода Мао число жен не регламентировалось. Богатые китайские купцы, которым часто приходилось ездить по делам в несколько городов Китая, имели по жене в каждом городе. Просто и удобно. Жениться в Китае было очень легко. Пока я учился в университете (1934-1940 гг.), два моих однокурсника-китайца заключили брак. Чтобы сделать его законным, требовалось дать в газету объявление: я, такой-то, женился на такой-то. Этого было достаточно с юридической точки зрения.
Отношение в Китае к институту брака любопытным образом иллюстрирует один эпизод, связанный с именем китайского философа Ку Хунг Минга, жившего в начале нашего века. К нему как-то приехала делегация американских преподавательниц из женских колледжей США. Ку принял их в своем саду в Пекине. Был накрыт чайный стол, и гостьи расположились в плетеных креслах. Заговорили о методах преподавания, но спустя полчаса переключились на вопрос о многоженстве в Китае. Американки возмущались: «Это противоестественно!» - «Почему противоестественно? - спросил Ку. - Вот на столе стоит чайник и восемь чашек. Это естественно или нет?» Американки опешили: «Естественно». — «Вот это и есть многоженство. А у вас в Америке, где существует проституция, на одну чашку приходится восемь чайников». Блестящий ответ, хотя философ покривил душой, потому что в Китае, кроме многоженства, процветала и проституция, причем в самых широких масштабах. Об этом можно прочесть в классическом эротическом романе Чин Пин Мой и в поэме «Торговец маслом и проститутка». Но американки, наверное, после такого ответа отказались от второй чашки чая.
Китайцы, как и все древние нации, отличаются простотой. Обыкновенные вещи они называют точными словами. Русскому мальчику мать говорит, что, например, за физзарядкой должен следовать туалет, и слово «туалет» имеет неопределенный смысл. Что оно значит? Мытье рук и лица или надо вымыть еще и шею? А может быть, кроме того, почистить зубы? А китайскому ребенку говорят про «очищение девяти отверстий», и тут никаких сомнений быть не может, если ребенок умеет считать до девяти.
Китайские понятия о красоте человека иные, чем европейские. Как-то мой китайский приятель и я сидели на трибуне футбольного поля, и он предложил мне оценить красоту проходивших женщин. Большие глаза, с китайской точки зрения, некрасивы, красивы - совсем узкие. Крупные носы безобразны, хороши - едва выделяющиеся. Вообще, с китайской точки зрения, европейцы просто уродливы. Потом он спросил меня, как отличить проститутку от порядочной женщины, и я ему ответил, что это невозможно сделать наверняка. Он расхохотался: «Ты что, не знаешь? Вот идет проститутка, а та - порядочная женщина». Я так и не понял, как китайцы их различают.
У китайцев, да и у наших среднеазиатских народностей, поразительно хорошая кожа. Они очень долго выглядят моложе своих лет, может быть, потому, что никогда не моют лицо холодной водой. Один год я жил в общежитии университета. Каждое утро два боя приносили нам большой ушат кипятка, и все обитатели здания выходили с тазиками, наливали в них кипяток и мыли горячей водой лицо. Но все же вряд ли температура воды имеет такое значение. Мне кажется, что у них эластичнее ткани кожи лица, и эта эластичность дольше сохраняется.
У крестьян кожа хуже, потому что они много времени проводят в полях на солнце. Китайские мандарины раньше вообще предпочитали на солнце не показываться. По улицам они не ходили, их носили в закрытых паланкинах носильщики. Загорать было не принято. Днем они сидели дома, и лишь вечерами гуляли в своих роскошных садах.
Вместе с тем поражает количество лысых старух в Китае. Я думаю, это от обычая склеивать волосы. Китаянки покупают на базаре длинные белые широкие стручки, вернее ленты, какого-то дерева, очевидно, настаивают их в кипятке и затем смазывают этим настоем себе волосы. Вот почему у них всегда волосок лежит к волоску. Это выглядит красиво и аккуратно, но за это они, по-моему, расплачиваются ранним облысением. Старухи там носят на лбу что-то вроде нашего кокошника. Это головной убор черного цвета, расшитый разноцветными бусинками, он закрывает только лоб, а сверху виден совершенно лысый череп.
О китайских театрах писать не буду, потому что ничего в этом не понимаю. Они поразили меня богатством средневековых одеяний актеров и шумом оркестра, который показался мне еще хуже, чем шум джаза в гостинице «Украина» в Москве. Я не воспринимаю китайской музыки, хотя звук китайской флейты весной в поле мне очень приятен. Приятен и звук китайской скрипки вечером, когда в саду трещат цикады. Один раз я видел Мей Лан Фана - очень известного китайского актера, игравшего только женские роли. Мне это было непонятно. Китайское пение у меня не вызывает никакого удовольствия. Кстати, свои стихи китайцы не читают, а поют. Это мне тоже чуждо. Ничего тут не поделаешь. Разные культуры -разные вкусы. Каждому нравится свое родное.
Я часто задумывался, как мы воспринимаем архитектуру, скульптуру, поэзию - и свою, и чужих народов. Думаю, что есть такое понятие, как «обаяние чужой цивилизации». Когда в Шанхае я бывал в районе, где жили почти одни японцы, то чувствовал это «обаяние чужой цивилизации»: другие духи, другая одежда, другие жесты, другой язык - а все вместе создает ощущение очарования. То же самое происходит, когда видишь в большом китайском саду с горбатыми или кривыми мостиками китайскую толпу с веерами.
Китайская живопись формалистична, но тоже прекрасна. Одна китайская художница рассказывала мне, как ее обучал старый художник. Она должна была знать на память, сколько, например, зазубрин на листке хризантемы, сколько рядов лепестков у ее цветка. Вот почему китайский рисунок так точен. Потом ее обучали верности руки. Художник не имеет права провести кистью по одному и тому же месту дважды. Если он рисует лепестки бамбука, каждый лепесток - это один мазок, сделанный уверенно и мгновенно. Для создания глубины тонов на разных блюдечках заранее разводится в разной концентрации тушь. Черные лепестки кажутся зрителю близкими, а серые — отдаленными: чем светлее, тем дальше от зрителя. Китайские рисунки лошадей поражают своей динамичностью. Есть в китайской живописи картины, на которых изображены просто иероглифы. Китайцы воспринимают свои иероглифы как картины и именно поэтому, мне кажется, не могут от них отказаться. Это было бы равносильно отказу от целой области изобразительного искусства. Тысячелетняя культура Китая будет всегда очаровывать, как и культура других народов. Каждая цивилизация имеет свою особенную прелесть.
ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ
Как я уже говорил, моя частная практика окончилась бесславно. Андерсон уехал, и я принял предложение Аркадия Александровича Лемперта работать в его лаборатории медицинских анализов. Лемперт бежал из России совсем молодым человеком, не успев окончить медицинского факультета. В Шанхае он обнаружил, что в городе нет хорошей лаборатории клинических анализов. Он ее создал. Отрабатывая различные биохимические и бактериологические методики, он много работал сам, и его лабораторию все иностранные врачи признали как самую лучшую в Шанхае. Впрочем, и самую дорогую, что также лило воду на мельницу Лемперта. Высокие цены - это хорошее качество, престиж, реклама. В Шанхае это ценилось.
У Лемперта было два компаньона - рентгенологи доктор Помус и доктор Николай Васильевич Бундиков, врачи-служащие компаньонов - профессор Венского университета Раубичек и профессор паразитологии Манильского университета Хауат, американец, а также несколько лаборантов. Хауат не был, собственно говоря, служащим, хотя за свою консультативную помощь получал какие-то деньги. Он разработал и внедрил у Лемперта новый метод дифференциальной диагностики бациллярной и амебной дизентерии с помощью простого микроскопа. Его хобби была метеорология: он все время записывал температуру воздуха и атмосферное давление. А мы все были уверены, что он работал на американскую разведку, так как уже назревала война между Японией и США.
Беседуя ежедневно с Хауатом и Раубичеком, я узнал много нового. Хауат, между прочим, для развлечения своих друзей издал на свои деньги программу «факультета проституции» какого-то несуществующего университета, где строго по форме, давался список изучаемых предметов, практических занятий и пр. Раубичек был полон воспоминаний о старой Вене и Австро-Венгрии, о венском университете, в котором учился, а затем преподавал, и о тех людях, которые там блистали в его время. Об Австро-Венгерской монархии Раубичек думал приблизительно то же самое, что и бравый солдат Швейк. В Первой мировой войне он принимал участие в качестве военного врача.
Раубичек рассказал мне, что однажды их полк был расквартирован около замка какого-то чешского магната, то есть «около» были расквартированы солдаты, а офицеры поселились в самом замке. Замок был роскошный с великолепным парком. Офицеры собрались вечером на ужин. Прислуживали слуги-чехи. Хозяин с семейством уехал в какие-то более безопасные места. Один офицер спросил дворецкого, где находится туалет. Тот ответил, что туалета нет и что господа должны ходить для этого в парк. Возмущенный австриец воскликнул: «Вот пример чешского порядка!». Дворецкий невозмутимо ответил: «Если бы у нас был порядок, господин лейтенант, то не вы сейчас мочились бы здесь, а мы в Вене».
Хотя Раубичек был патоморфологом, он страстно увлекался биохимией. Его жена рассказывала мне, что в день их свадьбы Раубичек отвез ее домой и сказал: «Дорогая, я отлучусь на час в лабораторию, там у меня идет эксперимент». Он вернулся только на следующее утро, и у молодых вместо брачной ночи был брачный день. Я сейчас не могу сказать, что он сделал в биохимии. В медицинских книгах по биохимии и по патоморфологии его имени нет. Между прочим, в книгах по паразитологии и тропической медицине нет имени Хауата. Этот факт, правда, ничего не значит. Можно быть прекрасным преподавателем на профессорском уровне и мало что писать. Хотя стать профессором, не имея печатных трудов, нельзя. А можно писать всю жизнь и быть весьма посредственным и скучным преподавателем. Раубичек всегда приходил на работу тщательно выбритым, с большим небрежно повязанным черным галстуком-бабочкой, свисающим с обеих сторон. Он жил с женой в частном пансионе на территории французской концессии (значит имел возможность откупиться от гетто), где снимал одну комнату. В его комнате висела только одна картина: эстамп Эразма Роттердамского. Несмотря на то, что он не был великим биохимиком, для меня он был очень ценным собеседником и руководителем.
Компаньон Лемперта, русский врач Николай Васильевич Бундиков, оставался для меня загадкой. Я его побаивался, а он меня едва замечал, и не только меня. Этот высокий седеющий блондин с холодными глазами и профилем римского патриция, всегда спокойный, ни на кого не обращал внимания. Я как-то спросил его, что определяет умного человека. Он немного задумался и сказал: «Умный человек тот, кто знает границы своего ума». Лишь намного позже, когда выяснилось, что мы оба решили ехать в Советский Союз, между нами установились искренние и дружеские отношения. Однажды он рассказал мне забавный случай о том, как один гинеколог прислал к нему китаянку для проведения теста на проходимость фаллопиевых труб. Бундиков приказал приготовить все к тесту и, когда вошла молодая китаянка, сказал ей: «Раздевайтесь и ложитесь». Она замахала на него обеими руками и закричала: «Нет, нет. Я хочу китайского ребенка. Я не хочу иностранного ребенка».
Но успехи лаборатории, в первую очередь, определял, конечно, сам Лемперт. Он чутко реагировал на все новое и прогрессивное в области лабораторных исследований, особенно, если это могло принести прибыль, и, будучи прекрасным организатором, немало зарабатывал на всяких нововведениях. Он первым в Шанхае создал у себя в лаборатории «банк крови». Тогда это была новинка, и в его организацию Лемперту пришлось вложить много сил, но и отдача была соответствующей. Как только в американской медицинской прессе появилось сообщение о новом лечении гипертонии цианатом калия, Лемперт сразу же увидел в этом методе собственную выгоду. Цианат калия токсичен, и поэтому во время лечения им необходимо периодически определять его концентрацию в крови. Это как раз и было то, что нужно. Лемперт поручил мне приготовить растворы для количественного определения цианата калия в крови, а также написать по-английски рекламное письмо для врачей о пользе этого метода и о том, что лаборатория медицинских анализов уже готова помочь врачам, так как приготовила все необходимое для контроля во время лечения. Через шесть месяцев выяснилось, что этот метод никуда не годится, но доход за пол года был хороший. Когда доктор Помус вернулся из США с аппаратом для электрокардиограмм, то Лемперт тотчас сообразил, что полезное для врачей новшество не менее полезно для нас, и организовал для Помуса лекцию в Обществе русских врачей. Работоспособность Лемперта была изумительной. Он мог проработать всю ночь, чтобы отработать какую-нибудь новую методику, а по своему характеру был человеком веселым и добрым, хорошо относился ко всем людям, но особенно к себе самому.
Лаборатория занимала два последних этажа пятиэтажного здания, плюс крышу, на которой жил баран, дававший кровь для реакции Вассермана. Свой кабинет Лемперт оборудовал по последнему слову техники и моды. Стены кабинета были обшиты деревом коричневого цвета, напротив входа находился камин, который никогда, конечно, не топили, а над камином висел портрет Павлова. Да, Ивана Петровича Павлова. Другие стены были украшены фотографиями малоизвестных американских специалистов но лабораторным методам исследования с личной надписью для Лемперта. У окна стоял большой стол. Справа на нем бумаги, а слева, как Библия, лежал капитальный труд по иммунологии Топли и Уилсона, который никто прочесть не мог, даже Раубичек. Раубичек мне сообщил, что Лемперт эту книгу тоже не читал, потому что для такого чтения у него недостаточно образования, а кроме того, книга не имеет никакой ценности для практической работы лаборатории. Тем не менее, Лемперт держал эту книгу - для общего фона. Вкус у него был.
Самыми интересными для меня были дни, когда к Лемперту приходили жены русских купцов (их было немного), для того чтобы с ним посоветоваться. Лемперт весь преображался. Он несомненно был актером в душе. Входила какая-нибудь дама, обычно без шляпки, чтобы было видно ее прическу. От нее пахло дорогими французскими духами. Это были или «Шанель №5», или «Шалимар». Для посетителей в кабинете стояло два глубоких кожаных кресла. Очень удобных зимой и непереносимых летом.
Лемперт усаживал клиентку в кресло, а сам отходил к камину. На полу у камина, как обычно, лежал ограничитель для падающего из очага горящего угля, высотой сантиметров в десять. Лемперт был невысокого роста. Он вставал под портретом Павлова на ограничитель, становясь, таким образом, на десять сантиметров выше, и его голова оказывалась на одном уровне с головой известного физиолога: симбиоз двух великих умов. Рядом с портретом Павлова находилась красивая китайская ваза с белыми и желтыми хризантемами. А вокруг на столах были разложены неведомые инструменты и аппараты. В глубине комнаты стоял колоссальный старомодный электрокардиограф, сломанный и давно не работающий. Лемперт пользовался новейшими американскими электрокардиографами, но этот был важным элементом интерьера.
Обычно я сидел за длинным столом в стороне и, подсчитывая кровяные шарики, с наслаждением слушал разговор шефа с пациенткой.
«Слушаю вас, мадам. Ох!.. Простите, у меня так болит бок, - он корчился от несуществующей боли. - Вчера все утро играл в гольф, и сейчас так ноют мышцы». В гольф он, конечно, не играл: это было дорогостоящее удовольствие, а Лемперт мотом не был. Но если человек играл в гольф до боли в боку, это его ставило очень высоко в глазах русской эмиграции. «Итак, сударыня, я слушаю вас».
«Доктор, мой врач говорит, что у меня колит, и возможно, тропический. У меня бывают такие боли в боку, как у вас после гольфа. Я так страдаю, что даже бываю холодна с мужем (опустила веки, изобразив смущение). Какой анализ нужно сделать, чтобы знать, что со мной? Я не боюсь правды. Скажите, какой у меня колит?».
Лемперт приходил в восторг. В халате, наглухо застегнутом у шеи (из-за жары мы надевали халаты на голое тело и поэтому так их застегивали), он стоял на десятисантиметровой высоте и обдумывал текст речи.
«Мадам, что вам сказать? Ваша болезнь, моя болезнь, болезнь герцога Эдинбургского, болезнь всякого человека так легко не определяется. Вот здесь Павлов (поворачивается к портрету)... Как он работал! Рефлексы, слюна, собаки, много собак... И терпение. Много терпения!»
Лемперт сходил с пьедестала, подходил к своему столу и притрагивался к никогда нечитанному толстому тому Топли и Уилсона: «Вот здесь Топли и Уилсон, мои учителя, столпы мировой иммунологии. А вы думаете, мадам, что они смогли бы так сразу ответить на ваш вопрос? Нет, нет. Не смогли бы».
Затем Лемперт возвращался на свой «насест» у камина. У него были очень красивые глаза. Дамы его называли «сероглазый король». Лемперт слегка опускал веки: «Сударыня, мы должны полностью, как теперь говорят, комплексно, да, именно комплексно, обследовать вас. Колит! Колит!.. А что такое колит?.. Я знаю? Нет, без анализов не знаю. Давайте сделаем так, мадам. На следующей неделе я специально попрошу профессора Раубичека, профессора Венского университета, и американского профессора Хауата, профессора Манильского университета, заняться вашим случаем. А потом я приглашу вас. Ваш телефон у меня есть?.. Нет. Сейчас запишу. И мы все вместе этот вопрос обсудим».
Когда эта мадам получала счет за анализы на баснословную сумму, она была счастлива. Этот счет она могла показывать своим знакомым, чтобы те знали, что ей стоил ее кишечник. Этим счетом она могла утереть нос мужу и потребовать новую норковую шубу к осени.
Ее врач был счастлив, что послал ее к Лемперту. Лемперт тоже был счастлив. И бухгалтер Лемперта был счастлив. Все были счастливы, исключая, может быть, Павлова и Топли с Уилсоном. Но их мнения никто не спрашивал.
Милый Лемперт был мастером светской лжи. Меня он представлял врачам и пациентам так: «Познакомьтесь. Доктор Смольников. Он любезно согласился помогать нам в клинической патологии». А на самом деле я был рад работать у него за четыреста юаней в месяц, потому что мы почти голодали. Он поручал мне самые разнообразные процедуры, за что я ему благодарен. Я должен был брать желудочный сок, определять кислотность и прочие вещи. Брал кровь и считал белые и красные кровяные шарики, красил мазки крови, определял средний диаметр красных кровяных телец.
Иногда Лемперт посылал меня брать кровь на дому. Эту работу я очень не любил, но делать было нечего. Как-то я поехал к одной молодой американке, которая заболела неизвестно чем, и у нее нужно было взять кровь на полное исследование и на реакцию Вассермана, так как она собиралась выходить замуж, а американские законы требовали этот анализ и у жениха, и у невесты. В Шанхае этот закон утрачивал всякий смысл прежде всего потому, что там существовали лаборатории, руководители которых звонили врачу и спрашивали: «Доктор, какую вам нужно реакцию? Отрицательную или положительную? ». Да и всем было известно, что несколькими вливаниями нозарсенола можно положительную вассермановскую реакцию превратить в отрицательную.
Я приехал к больной, разложил около открытого окна на столике все свои инструменты и зажег спиртовую лампочку для сушки стекол с мазками крови. Кровь я у нее взял, но в этот момент подул ветер, и легкая занавеска колыхнулась внутрь комнаты, как раз к спиртовке. Занавеска загорелась. Я бросился ее тушить. Потушил. Когда взял пипетку с кровью, то увидел, что кровь в ней успела уже свернуться. Я, по глупости, решил растворить ее спиртом, но кровь сразу же превратилась в какой-то твердый комок. У меня остались лишь мазки для общего анализа и кровь на реакцию Вассермана. Ехал я в лабораторию и думал, что мне здорово попадет. Но Лемперт был не таким человеком. Он только сказал, что не надо было промывать пипетку спиртом. «В следующий раз у вас получится лучше». А пока послал американке счет. Интересно, накинул ли он еще процентов двадцать за тушение пожара в спальне сотрудником его лаборатории?
Кроме анализов крови, я готовил срезы гистологических препаратов для профессора Раубичека, потом красил их, точил микротом (нож для сверхтонких срезов) - и мне становилось все скучнее и скучнее.
У Лемперта я проработал шесть месяцев - до октября 1941 года. Уже началась инфляция, и деньги, которые я получал, почти ничего не стоили. Моей зарплаты не хватало даже на необходимые продукты. Я долго раздумывал и, наконец, решился попросить у Лемперта прибавку. Тот ответил мне, что посоветуется с компаньонами. Они отказали. К счастью, на одном из заседаний Шанхайского медицинского общества ко мне подошел доктор Ску-айрс из фирмы «М» и спросил, не хочу ли я перейти работать к ним. С отъездом Андерсона у них осталось три доктора. Количество пациентов нисколько не уменьшилось, и врачи задыхались от работы. Доктор Литтл, которого они пригласили приехать в Шанхай, от их предложения отказался, поступив на британский военный флот, так как в Европе уже шла война. Именно этот отказ и решил мою судьбу.
Я сказал Лемперту, что англичане приглашают меня в свою фирму. Он поговорил с компаньонами и сообщил, что моя зарплата будет теперь шестьсот юаней. Англичане предложили мне тысячу плюс возможность клинической работы. Поскольку работу в лаборатории я воспринимал как вынужденную и посвящать свою жизнь изучению кала и мочи меня никак не прельщало, то я сказал Лемперту, что ухожу. В ответ он сперва страшно рассердился, но буквально через полчаса отошел и стал очень любезен. Он понял, что из этой английской поликлиники к нему идет большое количество заказов на анализы, поэтому ссориться со мной, а значит и с англичанами, ему просто ни к чему. Мы расстались друзьями.
В назначенное время я пришел в фирму «М», чтобы встретиться с моим новым шефом и его коллегами. Доктор Эрик Гонтлетт был старшим в этой фирме. Кроме него, там работали Бертон и Скуайрс. Это все, что осталось от большой поликлиники.
Поликлиника находилась в самом шикарном здании на набережной. Встретились мы в кабинете Бертона. Около стола стоял Гонтлетт - высокий, худой, в белом пиджаке, рядом - молодой и красивый Скуайрс. Бертон сидел на кушетке для осмотра больных, положив одну ногу на кушетку, а другую, с протезом, спустив вниз. (Ему оторвало ногу во время битвы на Марне в Первую мировую войну). Разговор был короткий, поскольку Гонтлетт и Бертон хотели лишь посмотреть, как я выгляжу и как говорю по-английски. Гонтлетт сказал, что я могу начать работу с 1 октября 1941 года и они берут меня на шесть месяцев (обычный испытательный срок). Мне нужно было доработать у Лемперта еще две недели, но через несколько дней после моего визита позвонила секретарша английской поликлиники и сказала: «У доктора Гонтлетта завтра важные похороны, на которых он должен обязательно присутствовать (наверное, какой-то его неудачный хирургический случай, - подумал я). Не будете ли вы любезны прийти на работу завтра?». Я дал согласие.
Лемперт спокойно отнесся к моему досрочному уходу, и на другое утро из своей трущобы я шел на работу в самый шикарный дом на набережной Шанхая.
ФИРМА «М»
Слово «фирма» имеет не одно значение в английском языке. Обычно это означает «коммерческое предприятие», как и в русском. «Фирмы» как медицинского термина в английских словарях нет. На английском медицинском жаргоне «фирма» - это старший врач отделения или профессор, его старший ассистент, младшие ассистенты, старшие сестры, дежурная сестра и студенты. Когда профессор Джонсон или Робинзон делают обход со своей вышеперечисленной свитой, это и есть «фирма» Джонсона или Робинзона, или Маршалла.
Основателем фирмы «М» был шотландский врач Хендерсон, появившийся в Шанхае в 1864 году. О нем известно очень мало, так как протоколы заседаний фирмы, которые находятся у меня, - это уже вторая или третья книга, и первая запись в них датируется январем 1910 года. Название, которое я застал, использовалось еще до 1910 года и было обусловлено чистой случайностью: все врачи, компаньоны фирмы, имели фамилии, начинавшиеся с буквы «М», - Маклауд, Маршалл, Миллс, Меррэй и Марш. Маршалл стал старшим компаньоном, и поэтому фирма официально называлась «Доктор Маршалл и партнеры» или, для краткости, фирма «М».
Фирма была основана и существовала в уникальных условиях, поэтому, прежде чем продолжить рассказ о ней, целесообразно сделать небольшой экскурс в историю создания и развития международного сеттльмента, возникшего в Шанхае во второй половине девятнадцатого века.
Шанхай. На реке Хуанпу у набережной Банд, 20-е годы XX века
Все началось с опия. Мне кажется невероятным, что до англичан китайцы не знали этого зелья. Однако после первой (1839-1841 гг.) и второй (1856-1858 гг.) Опиумных войн, которые Англия навязала Китаю, англичане заставили китайцев покупать у них индийский опий и выращивать его на своих полях (китайцы называли опий «заморская грязь»). Кроме того, англичане начали ввозить в Китай хлопчатобумажные и шерстяные ткани из Ланкашира и принялись за освоение «открытых» (под угрозой пушек) для европейцев пяти портов. Так и образовался Шанхай. Вдоль берега реки Вампу2 китайцы выделили англичанам большой и наихудший кусок болотистой земли, и иностранные купцы, в подавляющем своем числе англичане, начали его заселять. Это интернациональное поселение получило название «международного сеттльмента». Французы предпочли захватить для себя соседний кусок земли и основали французскую концессию. Подобную же историю возникновения международные сеттльменты и иностранные концессии имели и в других китайских городах - Тяньцзине, Ханькоу. И внутренний рас. порядок этих поселений зависел не столько от места нахождения, сколько от его типа: свои особенности в сеттльментах, свои - в тех или иных концессиях.
Международный сеттльмент, хотя и управлялся полностью англичанами, для видимости подчинялся якобы консульскому корпусу, и даже для герба англичане предложили три щита, соединенные концами, на каждом из щитов - по четыре флага. Всего двенадцать флагов наций, которые участвовали в создании сеттльмента. Были тут и старый русский флаг, и флаг прусского королевства. Опоясывал щиты латинский девиз «Все - объединенные в одно».
Международный сеттльмент в Шанхае был своего рода независимой республикой, управляемой купеческой олигархией, имевшей собственную армию и другие атрибуты суверенного государства. Один англичанин - я не помню ни фамилии этого человека, ни времени, когда велась беседа, - говорил мне, что Лондон ничего не понимает в китайских делах и в делах международного сеттльмента и было бы лучше, если бы в ряде государств международный сеттльмент имел своих послов. Я думаю, что он высказал тогда не сугубо личное мнение, наверное, были и другие иностранцы, которые так думали. Шанхай чем-то напоминал средневековую Лигу ганзейских городов, которая по сути своей была купеческой республикой и вела свои войны, например, с Данией.
Французская концессия была полностью зависима от Парижа, и французские граждане почему-то постоянно враждовали со своим консулом и муниципальными властями, так как те, якобы, притесняли их свободы, которыми неограниченно пользовались жители международного сеттльмента. В Ханькоу одно время во французской концессии жил только сам французский консул, а все его «верноподданные» французы поселились в английской концессии и со своим консулом не разговаривали.
Французы народ темпераментный. Помню, как в Шанхае господин Рише (врач-рентгенолог, преподаватель университета «Аврора») и владелец французского книжного магазина (запамятовал «трехэтажную» дворянскую фамилию этого человека), поссорившись однажды со своим генеральным консулом, начали издавать газету, специально направленную против администрации французской концессии. Газета просуществовала год, и каждого ее номера (выходила она раз в неделю) ожидали с нетерпением все жители иностранного Шанхая, потому что в ней печатались различные гадости и пикантные подробности из жизни генерального консула Франции и его администрации. Поскольку газета издавалась, так сказать, через улицу, на территории международного сеттльмента, то французский консул не мог ее закрыть. Через год издателям все надоело, и они сами прекратили ее издание.
О том, что представлял собой Шанхай в начале активного освоения его иностранцами, хорошо описано в книге немецкого журналиста Гессе Вартега «Китай и китайцы», переведенной на русский язык и изданной в Петербурге в 1900 году. Вартег путешествовал по Китаю, очевидно, в 1882-1883 годах.
«Шанхай называют Парижем Дальнего Востока, и он действительно таков, - пишет Вартег. - В сравнении с Шанхаем все остальные оевропеившиеся города Восточной Азии: Сингапур, Гонконг, Батавия, Манила, Иокогама, Кобе, Нагасаки - отступают на задний план. Многие из них красивее, обширнее, приятнее, но ни один из них не ведет такой огромной сухопутной и морской торговли, не отличается таким развитым, свободолюбивым и добродушно-веселым населением... Здесь не придется, конечно, любоваться какими-нибудь архитектурными или другими подобными чудесами на наш лад - нельзя забывать, что Шанхай в Китае. Но все-таки люди, переселившиеся в эту болотистую нездоровую низменность при устье Янцзы, сумели устроиться в этом европейско-китайском Вавилоне поразительно хорошо - приятно и целесообразно».
Тут Вартега можно упрекнуть в неточности. Во-первых, все города, которые он сравнивает с Шанхаем, были построены в живописных местах. Здесь же, как я уже сказал, китайцы специально отвели иностранцам большую территорию, состоящую главным образом из болот. Там, где была суша, при рытье канавы на глубине двух метров выступала вода. Весь Шанхай построен на сваях. В землю забивались шестиметровые стволы деревьев, причем один ствол на другой - в одну точку забивали по три-четыре ствола,- а в целом строительная площадка состояла не из одной сотни таких стволов, и на этом основании строили уже высотные здания. Во-вторых, возраст городов, упомянутых Вартегом, исчислялся к тому времени веками, а Шанхаю, который Вартег посетил в 1882 году, едва ли исполнилось тогда сорок лет, так что никаких памятников, никакой архитектуры, естественно, быть не могло.
Шанхай. Памятник А.С. Пушкину, установленный в 1945 г. и разрушенный впоследствии хунвэйбинами.
На территории международного сеттльмента было, кажется, всего три памятника: один в честь начальника китайской таможни, англичанина, другой изображал ангела (он был сооружен в 1918 году в честь победы над кайзеровской Германией), а третий был воздвигнут французским муниципалитетом в честь столетия нашего Пушкина. Впоследствии бронзовый бюст Пушкина был украден во время японской оккупации: японцы очень нуждались в металле. После 1945 года в Москве был заказан новый бюст, и памятник восстановили. После прихода к власти Мао Цзэдуна, во время «культурной революции», бюст был снова украден, а постамент разрушен хунвэйбинами.
Вартегпродолжает: «Поразительно - здесь как раз подходящее выражение... Во время первой прогулки по шанхайской набережной я почувствовал себя словно на европейском курорте, в какой-то северной Ниц-це,- таким изящным, роскошным, аристократическим и главное европейским городом казался Шанхай со стороны реки... Торговые фирмы скорее можно было бы принять за роскошные особняки частных лиц, так они красивы и приветливы, такие перед ними уютные садики. И нигде ни малейших признаков, неприятно отличающих обыкновенно центры оптовой торговли... Я ни разу не видел на этой удивительной улице ни единого тюка, ни одной ломовой телеги, ни одного крючника... Все идет в Шанхае так чинно, гладко. В крупных деловых конторах царит самый изысканный тон, светские изящные манеры, совершенно не похожие на то, к чему мы привыкли у себя дома... (Тут Вартег похвально самокритичен)... Имея дело со здешними деловыми людьми, выносишь впечатление, как будто это все очень богатые, отлично обставленные джентльмены, занимающиеся делами лишь в виде спорта... Все деловые сделки заключаются за чашкой послеобеденного чая в Шанхайском клубе. Раньше десяти утра открываются лишь немногие конторы, а в полдень к большинству из них уже подкатывают шикарные экипажи, чтобы отвезти принципалов в клуб или домой обедать; после обеда в конторах занимаются еще часика два, и деловой день закончен».
Конечно, лирическое настроение Вартега объясняется тем, что он пробыл в Шанхае всего две недели. На набережной он не видел кули просто потому, что китайским рабочим запрещалось ходить по главным европейским улицам, такой порядок я застал еще в Тяньцзине, то есть лет через сорок после визита Вартега в Шанхай. В Шанхае до начала Тихоокеанской войны вход китайцам в иностранные парки был закрыт - это в их же собственной стране! Если бы Вартег прогулялся на километр дальше, перейдя через мост Гарден в портовую часть города, то он увидел бы совершенно другую картину. Впрочем, может быть, в момент визита Вартега в Шанхай этого моста еще не было, а кабаки и все публичные дома для матросов, а также целый город складов находились прямо на берегу в портовой части города. Здесь полуголые китайские кули грузили и разгружали пароходы. Проходя мимо контролера, они останавливались, и тот совал им в руку палочку длиной сантиметров тридцати. По этим палочкам в конце рабочего дня кули получали деньги по количеству перенесенных мешков. А рядом стояли полицейские из международного сеттльмента, китайцы и индусы-сикхи из Пенджаба, и для соблюдения порядка лупили палками этих кули по головам и спинам. Я это видел сам и очень часто. Это возмутительное зрелище. Вартег пишет, что не видел «ни одной ломовой телеги». А их и не было в Шанхае. Все грузы перевозили на двухколесных арбах все те же кули по той простой причине, что труд человека был дешевле труда лошади. Самым дешевым в том обществе был человек.
Шанхай. Набережная Банд, 20-е годы XX века.
Товары лежали в портовой части города. В Шанхайском клубе заключались торговые сделки: тут продавали и покупали. А затем привезенные товары на джонках увозились вглубь Китая по рекам и каналам китайскими собратьями русских бурлаков, а китайские товары, шелка и чай, теми же путями привозились на склады иностранных компаний и так же грузились на иностранные суда. Конечно, на фешенебельной набережной ничего такого не было, поэтому Вартег ничего и не видел. Но справедливости ради следует сказать, что он не видел всего этого только от неведения, а не по причине лени или недостатка журналистского любопытства или мужества. Он бродил по улицам Кантона, когда там свирепствовала чума. Он знал об этом, но хотел ближе познакомиться с жизнью китайцев, и его ничто не остановило.
Вне зоны деловых контор сих «уютными садиками» существовал и другой институт, очень важный в европейско-китайской торговле. Это был институт компрадоров (от испанского comprador - покупатель), то есть посредников между иностранными и китайскими купцами. Вначале иностранцы не знали китайского языка, и такие посредники были просто необходимы. Каждая иностранная фирма имела своего китайского компрадора. Весьма возможно, что один и тот же компрадор обслуживал несколько фирм, имея свой собственный штат и работая в китайской части города. Он покупал и продавал то, что ему предлагали его иностранные хозяева, получая от стоимости каждой сделки известный процент, и, вероятнее всего, брал его с обеих заинтересованных сторон. В главную контору с «уютным садиком» на набережной он приезжал на персональной рикше, черной, лакированной, расписанной золотыми драконами и цветами, и своим прибытием никак не нарушал внешнего благополучия набережной. Сделки заключались, и товары шли в Китай и из Китая. Институт компрадоров рухнул только после Тихоокеанской войны вместе со всей колониальной системой.
Между прочим, когда говорят о компрадорах, то чаще всего говорят о том, что англичане не умели говорить по-китайски и им нужны были посредники для гладкой, бесперебойной торговли. Но у компрадоров, кроме знания языка, были еще и очень широкие торговые связи, да и англичане были не такими уж плохими лингвистами. Среди англичан, родившихся в Китае, я встречал немало таких, которые блестяще говорили по-китайски. Изучению языка помогали смешанные браки: женившиеся на китаянках, естественно, довольно быстро осваивали китайский язык. Для присмотра за детьми английские специалисты часто нанимали нянь-китаянок, и китайский язык становился для таких детей вторым родным языком. Это всячески поощрялось властями. Молодые холостяки брали себе в любовницы китаянок - это тоже встречало одобрение - и делали успехи в изучении языка. За знание китайского языка увеличивалась, и значительно, заработная плата. В международном сеттльменте муниципалитет содержал штат преподавателей китайского языка, и иностранные служащие муниципалитета могли посещать бесплатно эти курсы в рабочее время. Русские в описываемое мною время редко так хорошо знали китайский язык, как англичане. Русская молодежь, жившая в Китае на территории иностранных концессий, должна была изучать французский и английский языки, чтобы потом устроиться на службу младшими клерками в иностранные фирмы.
Шанхай. Небоскреб компании «Вин Он» на Нанкин роуд, 20-е годы XX века.
В Шанхае у англичан было Королевское азиатское общество, которое много лет возглавлял Артур де С. Сауер-би, известный зоолог, издававший ежемесячный журнал о Китае. Общество находилось в здании, расположенном в двух шагах от набережной. Здесь же был музей, в котором не было никаких посетителей. В музее я часто бывал, только потому, что надо было пройти через все его комнаты, чтобы попасть в квартиру Сауерби, которого я лечил. Музей меня, как и других шанхайцев, не интересовал.
Иностранный Шанхай был равнодушен к науке и искусству. Его привлекали английские фунты и американские доллары. Здесь была единственная труппа оперетты - это была русская труппа, иногда проходили выставки художников - тоже, в основном, русских. Некоторые из них, например, Герасимов и Засыпкин, известны своими полотнами далеко за пределами Шанхая. Правда, и у англичан кое-что было. Клуб любителей драматического искусства ставил, и очень талантливо, пьесы старинных и современных английских и американских писателей. На одной такой пьесе «погорел» мой друг доктор Андерсон. Он играл в сцене, где должен был находиться в пижаме в постели с чужой женой. Это страшно возмутило английское общество, и глава фирмы доктор Гонтлетт дал Андерсону понять, что тот перешел все допустимые границы. Андерсон написал Гонтлетту подробное письмо, в котором сообщил, что не видит для себя перспектив в фирме «М». В ответ он получил следующее: «Дорогой доктор Андерсон, мы все давно уже заметили, что климат Шанхая вам не подходит. Ваше решение уехать отсюда нам представляется весьма разумным. Искренне ваш, Э.Д. Гонтлетт».
У меня сохранились эти письма, потому что я был секретарем фирмы с 1941-го по 1954 год. Кстати, это совсем не почетный пост, на него назначался самый младший, потому что никто не хотел вести протоколы фирмы.
В своей книге Вартег отмечает, что все коммерческие сделки проводились в Шанхайском клубе на набережной.
Это верно, но проводились они не за чашкой чая, как пишет он, а за стаканом виски с содовой или джина. Чая я что-то не видел в Шанхайском клубе. Чай пили в клубах, куда приходили дамы играть в теннис или вязать и сплетничать. А в Шанхайский клуб вход женщинам был запрещен. Но надо сказать, что Вартег за две недели успел увидеть очень многое. В его книге, объемом почти в четыреста страниц, много достоверных описаний, документов и исторически ценных фотографий того времени.
Вот одно из его интересных наблюдений: «...Шанхай лишен всякой национальной государственной организации, и неизвестно даже, кому в сущности принадлежит... Концессии разных держав в открытых портах заселены не исключительно подданными данной державы; эти поселения, занимающие пространство в один-два километра, даже не подчинены консулам представленных держав... В Восточной Азии англичане или немцы перестают по отношению к китайцам или японцам быть англичанами или немцами; они так же, как американцы, французы и прочие иностранцы, имеют счастье быть белыми или, как выражаются китайцы, варварами».
На этой расовой солидарности и играли всегда колонизаторы. Сейчас, например, в Южной Африке европейцу с прогрессивными взглядами (не члену компартии, конечно) жить легче, чем африканцу с реакционными взглядами, только потому что кожа у него белого цвета. Одна английская монашка-францисканка, жившая в Южной Африке, рассказывала мне о расовой сегрегации в католических школах: в одних учились белые дети, а в других -черные. Эта монашка преподавала в школе для белых девочек. Однажды в ее классе возникло волнение. Школьницы гурьбой отправились к директрисе и сообщили о том, что у одной девочки они увидели за ушами, которые были прикрыты волосами, полоску черной кожи. Они не хотят вместе с такой девочкой учиться. Было произведено дознание и выяснилось, что когда-то, три поколения назад, в ее семье была негритянка. Девочку исключили из школы. Я даже не осуждаю за это монашку-директрису. В Южной Африке ей ничего другого не оставалось делать. Если бы она попыталась защитить несчастную, то власти нажали бы на архиепископа, и тот перевел бы директрису в другую школу, а девочку выгнали бы все равно.
Англичане в Китае тоже проводили политику расовой и классовой сегрегации. В английских конторах на дверях туалетов были надписи «Только для иностранцев», «Только для китайцев». В иностранные клубы китайцев и японцев не принимали. В «аристократические» клубы (собственно говоря, никакой аристократии, как таковой, в Китае не было - следовало бы сказать, в «высокобуржуазные» клубы) не принимали «половинок» - людей со смешанной кровью, европейской и китайской, несмотря на их британское подданство. В спортивные клубы, как например в Шанхайский гребной клуб, принимали и «половинок», и русских, но зато не принимали полицейских - даже самых чистокровных англичан. Это уже классовая сегрегация. Правда, у полиции был свой клуб. Русских принимали и в другие клубы, но практически они не могли их посещать из-за высоких членских взносов.
Французы в этом отношении были лояльнее. Многие из них были женаты на китаянках или вьетнамках, и их жен принимали во французские клубы без ограничений.
Во всех этих «независимых республиках», как их справедливо называет Вартег, существовало «право экстерриториальности». Это означало, что иностранца, совершившего преступление, мог судить только его консул или смешанный суд в Шанхае. Китайским законам иностранцы не подчинялись, что было для них очень удобно. На русских это не распространялось: у них не было своего консула.
Шанхай не был свободным портом, «порто франко», поскольку китайская таможня (ее полностью контролировали англичане) взимала пошлины на ввозимые товары, но он был свободным городом в несколько ином смысле. Любой человек мог повесить на своей двери вывеску «специалист-гинеколог», даже если он был просто шарлатаном и не имел никакого медицинского (а может, и никакого вообще) образования, - муниципалитет международного сеттльмента в это не вмешивался. На территории французской концессии власти требовали предъявления диплома об окончании университета любой страны. Но во многих странах дипломы продавались за деньги, и такой диплом не давал никакой гарантии больному. Я знал одного русского, сына миллионера, который купил себе в американском университете диплом инженера-химика, хотя не умел написать даже формулу воды.
В английской газете «Норд Чайна Дейли Ньюс», да и в других газетах, много лет подряд печатал свое объявление доктор Кассов: «специалист по лечению геморроя и варикозных вен». Его даже шарлатаном нельзя назвать. Он ничего, кроме варикозных вен и геморроя, не лечил и доктором, конечно, не был. В лучшем случае, фельдшер, умевший делать внутривенные вливания. Но в сообразительности ему отказать нельзя: он выбрал себе узкую специальность, в которой не бывает неудач. На территории французской концессии он практиковать не мог, потому что у него не было никакого диплома, а в сеттльменте - пожалуйста. Правда, муниципалитет международного сеттльмента публиковал ежегодно «Список зарегистрированных врачей», в начале которого было сказано: врач, фамилия которого здесь помещена, действительно имеет диплом врача. Но шарлатаны не обращали внимания на этот список, который все равно никто не читал.
Иностранец, сошедший с борта парохода на набережную Шанхая, оказывался в «стране чудес». У него никто не спрашивал паспорта или какого-либо другого документа. Недаром кто-то написал книгу под заглавием «Шанхай -рай для авантюристов». Именно таким раем он и был.
Если у иностранца были деньги, он мог снять самый дорогой номер в фешенебельном отеле и назваться графом Калиостро или профессором астрологии Нострадамусом. Под таким именем его и зарегистрировали бы, а на другой день в газете, где ежедневно печатали фамилии людей, проживающих в больших отелях, под рубрикой «Сассун Отель» в списке гостей появилась бы фамилия «граф Калиостро». Администрация потревожила бы этого «графа» только в том случае, если бы у него не оказалось денег заплатить за номер. Он также имел право, не предъявляя паспорта, умирать от голода в пригородной канаве.
В этом странном городе не было понятия о подоходном налоге, и никто не был обязан сообщать, сколько он зарабатывает. А вот налоги на земельные участки, на содержание публичных домов, на игорные притоны были. Существовали налоги на пришвартование судов к набережной и на стоянку на якоре в середине реки. Короче, налогов взималось достаточно, чтобы содержать все это многомиллионное городское хозяйство, но устанавливались они теми же бизнесменами, которые одновременно были отцами города и делали в Шанхае деньги. Естественно, неприятных налогов для самих себя они, конечно, не стали бы выдумывать. Отсутствие подоходного налога побудило багдадского миллионера сэра Виктора Сассуна перевести свои капиталы в Шанхай. Он был британским подданным и пользовался защитой британской короны, но подоходный налог ей платить не хотел. Некоторые щепетильные англичане были возмущены таким поступком и не приглашали его на свои коктейли, но сэру Виктору было на это в высшей степени наплевать. Он сам закатывал роскошные приемы, и приглашенные - те же «щепетильные» англичане - ходили на них с удовольствием.
Шанхай. Главная улица Нанкин роуд, 20-е годы XX века
Шанхайские вольности проявлялись и в чисто военных вопросах. Международный сеттльмент (так же, как и французская концессия) содержал свою собственную армию. Это не считая того, что на рейде постоянно стояли военные корабли - английские, американские, французские, итальянские и уж, конечно, японские. На берегу всегда стояли воинские подразделения Англии или США. На территории французской концессии располагались казармы для французской морской пехоты и казармы для аннамитов (вьетнамцев), живших там со своими семьями. Этого было мало, и муниципалитет хотел иметь частную армию. Она состояла из трех рот Русского полка (наемников) и нескольких джентльменских или волонтерских рот, в которых служили не за плату, а за любовь к военной форме и выпивке. Еще в состав армии входили английская рота, шотландская, американская, русская (так что всего было четыре русских роты), еврейская, артиллерия и кавалерия, а также индусская кавалерия. Армия создавалась для защиты сеттльмента от китайцев. Все улицы, выходившие за границы сеттльмента в китайскую часть города, имели легко закрывающиеся стальные решетки, рядом с которыми делались укрепления для пулеметных гнезд. Со стороны реки Шанхай был защищен международной флотилией.
Как-то у муниципалитета возник спор с китайскими рабочими, возившими груз на тачках. В истории сеттльмента это событие отмечено как «бунт тачечников». Муниципалитет проявил к рабочим какую-то мягкость (какую -точно не известно), и армия сеттльмента предъявила отцам города ультиматум: или твердая политика, или вся армия одновременно уходит в отставку. Военная история, по-моему, не знает больше подобных случаев. До отставки дело не дошло. Отцы города отправили телеграмму в Гонконг, и оттуда прислали дополнительное число британских канонерок.
Отношение иностранцев к врачам было смешанное, как и везде в мире. Англичане хотели лечиться у врачей своей национальности по трем причинам. Во-первых, это был свой человек - причина патриотическая. Во-вторых, с врачом легче говорить на своем языке. Здесь смешивался патриотизм с удобством. В-третьих, английскому врачу можно верить, как и его английскому диплому, - а это уже недоверие к иностранцам. Но, с другой стороны, «неанглийский» врач был, возможно, лучше, чем английский, именно потому, что он «неанглийский».
Например, немцы и евреи - очень умные врачи. Немецкий еврей еще лучше. Итальянцы легкомысленны и не внушают доверия. В Шанхае был всего один итальянский врач, и, как назло, действительно такой. Пристальное внимание ко всему иностранному характерно для всех народов. Это относится и к врачам, и к духам, и к импортным товарам. Один англичанин заплатил «импортному» профессору шестьсот фунтов стерлингов за то, что тот вырезал ему совершенно здоровую почку. Вторая почка тоже была здоровая, так что профессор особенного вреда «больному», вернее здоровому, не принес и мог со спокойной совестью положить полученные деньги в банк. Этот мнимый больной лечился у всех врачей фирмы «М». У него была вечная боль в левом боку, и он был ипохондриком. Он успокоился только после того, как заплатил деньги за операцию. Боль у него прошла, и он рассказывал во всех клубах, как его исцелил «импортный» профессор.
В таком сложном и противоречивом обществе зародилась фирма «М». Все наши больные лечились в двух английских больницах: The Shanghai general Hospital и Country Hospital.
С коммерческой точки зрения идея создания фирмы была очень простой. Объединение нескольких врачей с разными специальностями имело все шансы захватить «рынок», так как каждая торговая компания в этом случае должна была платить за своих служащих ту же сумму, что и отдельному врачу, а помощь получать могла уже от группы специалистов. В Англии подобные объединения существовали давно, и идея «фирмы» не была новой.
Когда я пришел работать на фирму «М», то застал там следующих специалистов: общий хирург - Гонтлетт, офтальмолог и хирург-гинеколог - Бертон, терапевт и педиатр - Скуайрс, терапевт и педиатр - Макголрик, хирург-ортопед - Не, торакальный хирург - Торнгэйт. Я был терапевтом и анестезиологом, а позднее, в Шотландии, куда я ездил в отпуск, в Эдинбургском университете в течение трех месяцев изучал, по настоянию фирмы, еще и кожные болезни. В последние годы моей работы на фирме у нас появился Уеддерберн. К тому времени я был уже
компаньоном фирмы, а он только начинал свою карьеру в качестве служащего. По уставу «фирмы» каждый новичок должен был проработать четыре года служащим и лишь потом становился компаньоном. Уеддерберн был очень славным малым, типичным шотландцем. Когда на каком-нибудь коктейле он выпивал лишнее, то ходил и жаловался, что я, советский коммунист, являюсь компаньоном «фирмы» и как самый последний проклятый капиталист эксплуатирую его, подданного ее величества королевы. Где же социальная справедливость?
Фирмы, подобные нашей, существовали почти во всех британских колониях, то же самое практиковалось и в Англии. Когда Андерсон покинул Шанхай, он остановился в Гонконге и поступил там на работу в такую же фирму. Потом он работал в Сингапуре. Я побывал у него в обоих городах, а также в помещении медицинской фирмы в Пенанге. Все три города находились в британских колониях, и пациентами фирм там тоже были англичане. Во всех британских колониях английские врачи зарабатывали, конечно, хорошо, но вкладывать большие средства в оформление своих кабинетов не собирались. В Шанхае же, многонациональном городе, всецело находившемся под влиянием Британской империи, для любой такой фирмы важнейшим был вопрос британского престижа, поэтому на внешний блеск тратились большие деньги. Это отличало английскую фирму от французской, которая тоже неплохо зарабатывала, но французы, будучи народом экономным, больших денег на оформление помещения тратить не желали.
У нас был один конкурент, не особенно серьезный, так как мы сами не хотели увеличивать количество пациентов. Это была американская фирма «Докторе Джаксон, Данн энд партнере». Она обслуживала весь персонал американских банков, пароходов и торговых фирм, а также американских миссионеров (баптистов, методистов, армию спасения и пр.). Мы им не завидовали, а врачи-одиночки дружно нас всех ненавидели.
Врачи в Шанхае жили хорошо, но только не русские врачи. Это объяснялось тем, что у русских врачей была только русская клиентура, бедная и не способная платить достаточно большие деньги. Иностранных же пациентов русские врачи не имели из-за языкового барьера. Очень немногие русские врачи жили хорошо, хотя любые врачи всегда жили лучше, чем их пациенты. Из хорошо обеспеченных можно назвать Александра Викторовича Тарле, родного брата историка Евгения Тарле. Он был психиатром, а специалистов этого профиля было всего два в Шанхае, причем вторым была врач-психиатр, бежавшая из Германии, которая выглядела так, будто сама нуждалась в срочной госпитализации в психиатрическую больницу Александра Викторовича. Тарле имел собственную больницу. Такого не было ни у кого. Из Советского Союза он уехал не по политическим, а по романтическим причинам, но его биография не имеет отношения к истории британской колонии Шанхая. Он был прекрасным специалистом и обаятельным человеком, а кроме того, прекрасно владел тремя иностранными языками.
Все наши больные делились на «контрактных» и «неконтрактных» пациентов. Контрактные пациенты ничего не платили ни за визит к нам, ни за наш визит к ним на дому. За них раз в три месяца (а иногда - в шесть) платила фирма, в которой они работали. Неконтрактные пациенты, их было меньшинство, платили по существующим в городе ставкам, то есть довольно или даже очень дорого. Ко мне пришел как-то бывший (еще царский) морской атташе в Лондоне. Ощупывая каждый день свою шею с правой стороны, он обнаружил, наконец, в ней опухоль. Я осмотрел его и пригласил для консультации Бертона. После осмотра Бертон заставил нашего «больного» пощупать шею с левой стороны и сказал: «Сэр, это же нормальный поперечный отросток шейного позвонка». Так как этот человек не был нашим контрактным пациентом, то за свое «самоощупывание» получил счет на двадцать пять американских долларов. Отдельные семьи, которые не имели права на оплату медицинской помощи от своей фирмы (не знаю почему), предпочитали пользоваться контрактом, оплачивая его из собственного кармана.
Контрактов, как таковых, собственно говоря, не было -не существовало отпечатанного документа с условиями контракта. Все делалось гораздо проще. С торговыми компаниями заключались соглашения, с каждой - отдельное, предусматривающее особую сумму оплаты. Шанхай был городом купцов, и всякий уважающий себя управляющий торговой компанией был бы недоволен, если бы не поторговался со своими врачами. У меня сохранился один документ, который может служить образцом соглашения между компанией и фирмой. После разговора с одним из старших членов фирмы управляющий торговой компанией послал нам такое письмо: «Джентльмены, в подтверждение разговора, который я имел с д-ром таким-то из Вашей фирмы (N.B. Этот разговор происходил, наверняка, в обеденный перерыв в Шанхайском клубе за стаканом виски с содовой - В.С.), сообщаю, что мы готовы платить по 20 долларов за каждого мужчину и по 30 долларов за каждую женщину в год. Ниже прилагается список наших служащих. Ваш покорный слуга». Это было все, что у нас имелось в качестве документа, на этом все и строилось.
Конечно, муниципалитет, в котором служило несколько тысяч человек и который включал в себя полицию, тюрьму, пожарную команду и другие подразделения, за каждого служащего платил меньше, чем какое-либо частное предприятие, но так как их насчитывалось несколько тысяч, то общая сумма была огромной. Это было своего рода социальное страхование, на много лет опередившее систему национального здравоохранения, введенного в Англии после Второй мировой войны. Поскольку большинство людей из наших списков никогда не болели, мы их, естественно, никогда не видели, но деньги за медицинское обслуживание от их фирм получали регулярно.
Операции оплачивались согласно шкале, которую периодически публиковала Ассоциация иностранных практикующих врачей Шанхая. Это была своеобразная система, которая, с одной стороны, защищала интересы предпринимателя от жадности врачей, а с другой - требовала от членов ассоциации придерживаться опубликованных расценок, чтобы избежать нездоровой конкуренции, хотя проверить врачей, насколько они придерживаются этой системы было невозможно. Операции делились на классы, но по каждому классу их стоимость зависла от зарплаты больного. За удаление аппендикса простому служащему иностранная компания платила в пять раз меньше, чем за эту же операцию, сделанную управляющему. В этом была своя логика: компания больше платит за операцию управляющему, потому что он - один на сто служащих, поэтому вероятность аппендицита у служащих в сто раз выше, чем у управляющего. Вообще, такая градация была уступкой врачам со стороны торговых предприятий, в свою очередь - опубликованная шкала цен служила компаниям гарантией того, что за операцию с них врачи не возьмут больше, чем полагается. Разумная система для общества, в котором каждая сторона боится, что другая ее обжулит. Она строилась на тех же принципах, что и страховые компании.
Однако, как бы ни была привлекательна эта система на первый взгляд, применима она, по-видимому, только в колониях, потому что основана на чудовищной социальной несправедливости.
Возьмем один пример: английскую шерстоткацкую промышленность. Веками она создавалась и развивалась в графстве Ланкашир на севере Англии. Отсюда англичане вывозили свои ткани, шерстяные и хлопчатобумажные, во все страны мира и там их выгодно продавали. Ткани были очень хорошие. Своими бумажными тканями они разрушили ткацкую промышленность в своей собственной колонии - Индии. Это произошло еще в девятнадцатом веке. О трагической судьбе индийских ткачей подробно пишет в своей книге аббат Дюбуа (о нем я подробно пишу в главе «Мои индусы»). Их трагедия усугублялась тем, что они принадлежали к касте ткачей и не имели права делать никакую другую работу. Но в то время английские владельцы ткацких фабрик заботились в первую очередь об английских ткачах, а индусы их не интересовали.
Посмотрите теперь, что произошло в Китае. Зачем стричь английских овец, когда шерсть китайских овец не хуже? Зачем возить хлопок из Индии, когда он растет в Китае. Английские бизнесмены сделали совершенно логичную, с точки зрения бизнеса, вещь: построили в Шанхае ткацкие фабрики и красильный завод и начали ткать шерсть и хлопок, используя труд китайцев, который стоил намного меньше, чем труд ланкаширских рабочих. Хорошую английскую шерсть стали ткать в Шанхае, и она была дешевле, чем ланкаширская шерсть.
Для осуществления своего проекта англичане выписали человек сто хороших ткачей из Ланкашира, обеспечили их трехэтажными домами с садами и с прислугой, то есть хозяева фабрик их буквально купили. Эти ткачи были моими пациентами, я бывал у них дома и лечил их самих, их жен и детей. Мне нравились эти простые и добрые люди.
Ланкаширских ткачей в Шанхае поставили в такие условия, в которых у них никогда не могло бы быть тесного контакта с китайскими рабочими. Сделать это было легко. Ланкаширцы по-китайски не говорили. Привить им презрение к китайским рабочим оказалось нетрудным делом. Гораздо труднее привить любовь к другому человеку -Христос пытался, но ничего не вышло. Сговора против владельцев фабрик между ланкаширскими ткачами и китайскими рабочими быть не могло. Хозяева фабрик учитывали простое для колониальных условий правило: много воруют там, где мало платят. А они платили хорошо.
Колоссальная разница между зарплатой китайского рабочего и ланкаширского ткача шла в мошну английских капиталистов, которые продавали китайскую шерсть дешевле ланкаширской. То, что это было прямым предательством национальных интересов, их не тревожило: деньги выше национальных интересов. Здесь они следовали принципу римского императора Веспасиана, обложившего налогом общественные туалеты в Римской империи. Когда сын императора высказал ему возмущение по поводу такого способа зарабатывать деньги, августейший папа ответил исторической теперь фразой: «Деньги не пахнут».
Прибыли от подобных проектов были великолепными: на деньги, которые зарабатывались в колониальных условиях, можно было позволить себе оплачивать врачебную помощь для всех своих иностранных служащих - не только англичан, но и русских, португальцев и пр. Кроме того, компания содержала китайских врачей для своих китайских рабочих. Это был не альтруизм, а холодный расчет: больные рабочие невыгодны для компании. Безнадежно больных увольняли, легко заболевших лечили.
Мы китайцев не лечили, их лечили китайские врачи, услуги которых стоили намного меньше наших. Мешал и языковой барьер. К тому же иностранные врачи не хотели заниматься низко оплачиваемой работой, когда у них не хватало времени даже для хорошо оплачиваемой работы. Расовые различия, языковый барьер и экономические факторы использовались для разделения людей.
Чтобы совсем не дискредитировать клятву Гиппократа, который требовал, чтобы врач не брал денег с человека, у которого их нет, в больницах существовали бесплатные отделения - коек на шестьдесят в общей сложности. Эти бесплатные отделения были зарезервированы за фирмой «М», и туда мы посылали всех, кто к нам обращался за помощью, но не мог платить.
Большие доходы фирма получала от английских пароходных компаний и многочисленных торговых предприятий. Англичане считали своим долгом лечиться у докторов фирмы «М». В конце каждого года секретариат муниципалитета рассылал своим служащим циркуляр с просьбой указать, какого врача они хотят иметь в следующем году. Большинство записывалось в фирму «М». Полиция не имела права выбора, их автоматически приписывали к нам, но члены их семей могли выбирать: например, русским женам и детям, не говорившим по-английски, лучше было лечиться у русского врача. С появлением русского врача в фирме «М» почти все семьи русских полицейских перешли к нам. Я невольно причинил зло своим коллегам-соотечественникам, поскольку спровоцировал уход клиентов от самостоятельно практикующих врачей.
Отношения между врачом и пациентом строились весьма своеобразно. Поскольку вся британская медицина построена на базе института «семейных врачей», эта традиция поддерживалась. В фирме были разные специалисты, но каждый из нас был прежде всего семейным врачом. Пациент знал только одного доктора - своего.
Нам всем вменялось в обязанность принимать роды у своих пациенток (вызывая старшего в трудных случаях), лечить венерические болезни, накладывать гипс при неосложненных переломах, примерять противозачаточные диафрагмы женщинам, лечить все тропические и инфекционные заболевания, накладывать пневмоторакс туберкулезным больным и т.д. Если врач нуждался в консилиуме, то для этого достаточно было пройти по коридору в кабинет коллеги и пригласить его. Консилиум никогда не откладывался на следующий день. Все делалось тут же. У нас было два отделения: одно находилось на набережной, то есть в деловой части города, другое - в глубине города, где располагались частные дома. Прием больных шел одновременно в двух местах. В худшем случае врач с набережной звонил в другое отделение, и больной ехал туда на консилиум. В фирме имелся рентгеновский аппарат, и каждый из нас обязан был уметь им пользоваться. Если просвечивая больного мы видели ненормальные тени, то посылали его к специалисту-рентгенологу, то есть все, что от нас требовалось - знать, как выглядит нормальная грудная клетка. Так как в Шанхае врачи никому не подчинялись и никем не контролировались, то не требовалось писать и длинные истории болезни. На карточке больного фиксировался предположительный или окончательный диагноз и полностью записывался выданный рецепт. Консультант буквально в десяти словах формулировал свое мнение или помечал: «с диагнозом и лечением согласен». Не было никаких пятиминуток.
Раз в месяц проходило заседание Шанхайского медицинского общества, в которое принимались и китайские врачи с иностранным образованием. Заседание всегда начиналось с коктейля (процедура длилась около часа), затем был ужин, а после ужина (тут же, за кофе) вставал докладчик и делал доклад. Последнее заседание в году проводилось в июне и по традиции было немедицинским. Приглашался какой-нибудь посол либо проезжавший через Шанхай ученый или известный педагог. На этот ужин приглашали дам. Конечно, среди членов общества было несколько жен-щин-врачей, но к ним никто не относился серьезно.
Англичане как пациенты удивительно благодарный народ. Как правило, они не истеричны, их с детства приучили относиться к врачу с уважением. Не раз меня вызывали к больному рано утром, хотя больной почувствовал себя плохо уже ночью. На вопрос, почему не позвонили раньше, всегда следовал один и тот же ответ: «Не хотели вас беспокоить, доктор».
К новому врачу первым шел лечиться отец семейства. Если его устраивало лечение, то через год появлялись его жена и дети, потом родители и знакомые. Англичанин любит потолковать в клубе за кружкой пива о погоде, о политике, о торговле, о спорте, о своем здоровье и о своем враче. Уважающий себя англичанин должен иметь «своего» врача, а не абстрактного дежурного, который сегодня здесь, завтра его нет, а послезавтра - заболел либо уехал в командировку или на конференцию.
Я помню, как Бертон всегда спрашивал меня, позвонил ли я своему пациенту, которого навестил на дому за день до этого. «Это очень важно, - говорил он, - семья должна знать, что звонил доктор и справлялся о здоровье. Очень важно. Сам больной звонить не будет, чтобы зря не беспокоить доктора». И это делалось не ради рекламы, так как речь шла о наших контрактных пациентах, ничего не плативших за визит на дому.
Но не все относились к нам с таким уважением. Например, по аналогии с арабской сказкой «Али-Баба и сорок разбойников» (по-английски - воров) молодежь называла нашу фирму «Доктор Маршалл и сорок воров».
Отношения между врачами были корректными, но прохладными. Если адвокаты умеют договариваться друг с другом, то врачи этого не умеют. Все они конкуренты между собой. Ни один врач не имел права навестить на дому больного, которого лечит другой врач, если только тот не приглашал его на консилиум. Лишь кабинет врача считался нейтральной территорией, на которой врач мог принять любого больного.
Было бы неправильным обойти молчанием явно преступное поведение некоторых врачей. Во время японской оккупации Шанхая главным врачом Дженерал Госпитал был назначен профессор, приехавший из Японии. Он изредка оперировал, но регулярно приходил получать зарплату. Однажды, оперируя молодую беременную англичанку из концлагеря по поводу острого аппендицита, он удалил ей не только аппендикс, но и матку с живым плодом - так, для практики.
Другой врач, очень известный в Шанхае, работал в американском миссионерском госпитале, сам будучи миссионером. Все знали, что он встает в шесть часов утра, бегает, занимается гимнастикой, плавает в бассейне, потом идет молиться в часовню, завтракает и ровно в девять начинает оперировать. Как-то раз к этому американскому хирургу пришла англичанка, очень хотевшая иметь ребенка. После осмотра он сказал, что ей нужна небольшая операция стоимостью столько-то американских долларов и, сделав операцию, предупредил, что в течение нескольких месяцев у нее не будет менструаций, а потом все вернется в норму. Через шесть месяцев после лечения молодая женщина пришла к нашему хирургу Рансону, который и обнаружил, что у нее нет матки. Святой миссионер ее вырезал.
Не знаю, который из этих двух хирургов был большим негодяем: по-моему тот, который больше молился. Мне известно несколько случаев, когда врач специально посылал своего пациента в больницу с диагнозом «острый аппендицит». В больнице ему делали кожный надрез и сразу же накладывали швы на кожу. Никакой операции не производилось. Мнимый больной платил деньги и выписывался после снятия швов. Это криминальное действие могло иметь тяжелые последствия для пациента - вплоть до смерти от перитонита в случае действительного заболевания аппендицитом в дальнейшем. Ведь ни один врач не поставит больному диагноз «аппендицит», видя, что тот уже прооперирован по этому поводу.
Были отъявленные негодяи и среди русских врачей, например, некий К., не то чтобы глубоко религиозный человек, но глубоко молящийся и со рвением крестящийся. Я узнал о нем в связи с историей, случившейся с одним русским молодым человеком, который лечился у меня от свежеприобретенного сифилиса. Юноша заболел брюшным тифом и умирал. Его брат, член какого-то мистического общества, пригласил (с моего согласия, не согласиться я не мог, потому что делать уже было нечего) мистика Кафку, якобы лечившего людей магнетизмом. Кафка пришел (я на комедии не присутствовал), проделал какие-то пассы над больным, получил деньги и ушел. Умирающий мальчишка с температурой почти в сорок градусов был все же умнее своего мистически настроенного брата. На другой день он спросил: «Зачем ко мне приводили этого дурака?». Затем брат попросил меня пригласить на консилиум доктора К. Тот пришел, осмотрел больного, сказал мне: «Сначала я помолюсь», - упал на колени перед кроватью и начал молиться. Пока он молился, больной умер. Но это еще не все. По утверждению некоторых пациентов, К. часто им говорил: «Ну вот, для вас у меня есть особое лекарство из Исландии. Его больше ни у кого в Шанхае нет», - доставал ампулу и втягивал ее содержимое в шприц, делая это всегда под столом, чтобы пациент не мог увидеть, какое там лекарство. Брал он при этом дороже.
Вот, дорогой читатель, другая сторона свободной частной практики, без контроля свыше, без всякой отчетности и без всякой ответственности.
Один врач, родом из Центральной Европы, пригласил хирурга из нашей фирмы прооперировать его пациента, англичанина. Операция прошла успешно, и наша фирма послала ему счет через этого врача. Некоторое время спустя наш хирург встретил этого пациента в английском клубе, и тот сказал ему: «Я знаю, док, что вы очень хороший хирург, но все же брать за операцию восемьсот долларов многовато. Даже для вашей фирмы». Хирург опешил. «Счет был на триста долларов», - сказал он. Оказалось, что тот врач переделал на счете цифру «3» на цифру «8». Вскоре он был наказан - не юридически, а самой судьбой. Он начал волочиться за молодой англичанкой, а ей это не понравилось. Девушка рассказала о престарелом ухажере своим друзьям, и они пригласили его на коктейль. Он приехал, как всегда, с красной гвоздикой в петлице. Молодые сорванцы после нескольких порций крепких напитков сняли с неудачливого кавалера брюки и трусы, посадили его на велорикшу (такси во время войны ночью не ходили) и отправили в таком облегченном виде к супруге домой.
Конечно, большинство врачей были другими. В Шанхае было много хороших серьезных русских врачей: Тарле, Князев, Молчанов, Казаков, Ясинский, Осильви. Несколько лет я давал наркоз во время операций доктора А.М. Данлапа, родом из американской миссионерской семьи. Профессор одного из пекинских университетов, он приехал в Шанхай и занялся частной практикой. Самой прибыльной операцией у лор-хирургов была тонзиллотомия (удаление миндалин детям), и делалась она довольно часто. Вдруг Данлап перестал оперировать миндалевидные железы. Я заметил это и спросил, почему. «Видите ли, Смольников, - сказал он, - сейчас уже имеются совершенно определенные данные в науке, что в большинстве случаев эти операции не нужны и ничем не оправданы». Впоследствии он лишь изредка оперировал хронические гнойные тонзиллиты, уменьшая свой ежемесячный заработок на несколько сот долларов. Не знаю, молился он или нет. Наверно, молился, но свои молитвы не афишировал. Он не курил, а когда бывал у нас в гостях со своей супругой, та всегда говорила: «Мой Альберт пьет только томатный сок». Я наливал ему стакан томатного сока пополам с французским коньяком. Старик прекрасно понимал, что томатный сок основательно «укреплен», но от второго стакана не отказывался и молчал. И я молчал.
Большое значение в медицинской среде придавалось отношениям между врачом и пациенткой. Гинекологическое исследование, которое каждый из нас обязан был уметь делать, не допускалось без присутствия нашей медсестры. На дверях гинекологических кабинетов не было задвижек и замков. Это делалось также и в интересах врача, чтобы исключить попытки шантажа со стороны какой-нибудь авантюристки.
Насколько я знаю, в Шанхае был лишь один случай, когда врач-англичанин допустил близость со своей пациенткой. Когда это стало известным, его вызвал английский генеральный консул и предложил покинуть Шанхай в двадцать четыре часа. Выслать этого врача он не мог (власть консульства не распространялась на территорию международного сеттльмента), но пригрозил, что сообщит о его поведении в Генеральный медицинский совет Англии. В этом случае у врача отобрали бы диплом и лишили права практики. За последние сорок лет в английской медицинской прессе раз семь-восемь печатались решения генерального совета по такому поводу, приводились имена как врачей, так и пациенток. (В отношении пациенток генеральный совет, конечно, грубо нарушал клятву Гиппократа, разглашая медицинскую тайну, но ему, видимо, закон не писан). За констатацией фактов следовало лаконичное заключение: имя доктора такого-то «вычеркнуто из списка врачей, которым разрешено право практики в пределах Британской империи».
«Лансет» единственный раз (18 декабря 1971 года) опубликовал беспрецедентно мягкое решение генерального медицинского совета по такому делу. Оно касалось доктора Ю. Либмана, виновного в том, что он имел половые сношения со своей пациенткой у себя в кабинете. Его приговорили к лишению права практики всего на шесть месяцев. Он подал в суд на генеральный медицинский совет. Суд иск отклонил на том основании, что совет имеет право выносить подобные решения, и у суда нет никаких оснований полагать, что совет решил дело неправильно. Дело это вообще туманное. Поговаривали, что Либман предложил своей любовнице и ее мужу за молчание десять тысяч фунтов стерлингов. Это очень крупная сумма, даже в 1971 году она была равна приблизительно тридцати тысячам американских долларов. Кроме того, пациентка уже получала от него какие-то суммы. Похоже на то, что тут имел место шантаж, чем и объясняется мягкость приговора.
Наказываются не внебрачные отношения вообще. Связь врача с замужней женщиной сама по себе не представляет для совета никакого интереса, но близость врача со своей пациенткой является нарушением клятвы Гиппократа.
Клятва Гиппократа содержит следующий абзац, имеющий прямое отношение к данному вопросу: «...я воздержусь от соблазнения женщин или мужчин, свободных или рабов». Христианские моралисты всегда подчеркивали высокую нравственность Гиппократа именно в этом вопросе. Но они ошибались. Древние греки считали педерастию и гомосексуализм делом вполне допустимым, и на половую жизнь у них были самые широкие взгляды. Гиппократ, очевидно, имел в виду, что врач не имеет права посягать на чужую собственность, а жена пациента, его рабыня или раб были собственностью пациента. Медицинская деонтология (наука о долге врача, его нравах и обязанностях) рассматривает согласие врача начать лечение как своего рода устный контракт между врачом и больным, имеющий юридическое значение. Следовательно, с начала лечения вступает в силу и клятва Гиппократа, данная врачом по окончании им медицинского учреждения.
В книге протоколов фирмы «М» с 1910 года по июнь 1940-го (с этого времени до закрытия фирмы в июле 1954 года записи вел я) встречаются любопытные вещи. Обращает на себя внимание спокойное отношение всех врачей фирмы ко всему окружающему. Первая мировая война никого особенно не взволновала, масштабы ее недооценивались. Правда, протоколы заседаний были предельно лаконичны. Например, заседание, длившееся два с половиной часа, резюмировалось записью в восемь строк.
В 1910 году (26 января) врачи фирмы организовали медицинское общество фирмы «М» с четырьмя участниками. На собрании общества был сделан доклад о метастазиро-вании раковой опухоли в мозг после удаления молочной железы. Высказывалось пожелание организовать общество для всех иностранных врачей Шанхая (похвальная мысль, которая была приведена в исполнение в 1921 году, то есть одиннадцать лет спустя, по инициативе шотландского врача Патрика, никакого отношения к фирме «М» не имевшего). Тут же решили собираться для научных дискуссий каждые две недели. Это решение выполнено не было, и «историческое» научное собрание фирмы «М», судя по записям в книге протоколов, было единственным за сорок четыре года. А так как именно на нем приняли решение о создании научного общества, то, надо полагать, до этого научных заседаний тоже не было.
На одном заседании фирмы было решено, что любой из компаньонов имеет право вскрывать письма, адресованные на имя фирмы для того, чтобы ускорить делопроизводство. Не знаю, что из этого вышло, но, зная моих коллег, можно представить, сколько распечатанных писем рассеянные врачи таскали неделями в карманах. Когда я пришел в фирму, все письма распечатывала секретарша.
В декабре 1914 года торговая фирма «МакБэйн» написала письмо в фирму «М» и запросила заключение о пользе промывных туалетов. Фирме «МакБэйн» было неясно, хорошо или плохо иметь такой туалет. Фирма «М», обсудив этот вопрос (ему было посвящено целое заседание), решила, что промывной туалет лучше, изложила свое мнение письменно и послала фирме «МакБэйн» счет на сто талей (это кусок серебра в форме лодочки, весящий грамм сорок пять). Иными словами, счет был на четыре с половиной килограмма серебра. Хотя серебро и было дешевым в Китае в те годы, все же это показатель того, как высоко фирма «М» оценивала свое мнение.
Промывной туалет был изобретен молодым придворным английской королевы Елизаветы сэром Джоном Харрингтоном еще в XVI веке. Сэр Джон был приговорен королевой к домашнему аресту на шесть месяцев за прочтение неприличного стихотворения молодой придворной даме. Удрученный королевской немилостью и зловонием, исходящим из его непромывного туалета, сэр Джон изобрел промывной. Но его постигла судьба всех прогрессивно мыслящих людей и всех изобретателей. Его изобретение не было признано, и через четыреста лет фирме «МакБэйн» пришлось расплачиваться за косность английского двора времен Елизаветы чистым серебром.
Еще одна запись... В январе 1915 года доктор Биллинг-херст предложил нанять медсестру, чтобы следить за хирургическими инструментами и перевязочной комнатой. Все единодушно решили, что от такой женщины в конце концов будет больше неприятностей, чем пользы.
Обсуждался вопрос о приглашении из Англии врача в качестве помощника на полтора года, чтобы дать возможность двум членам фирмы съездить в отпуск (по уставу компаньонам фирмы полагался девятимесячный отпуск каждые три года, не считая ежегодного двухнедельного «местного отпуска»). Решили, что если этот помощник останется работать на Дальнем Востоке, то нужно потребовать от него подписку, что он не будет практиковать в радиусе ста километров вокруг Шанхая (а дальше, кроме болот, ничего нет, и ни один иностранец там не живет).
В мае 1916 года вернулся из действующей армии доктор Марш. В Первую мировую войну семь месяцев он воевал во Франции, занимаясь вакцинотерапией, и привез много вакцин. Доктору Маршу предложили продолжать этим заниматься, а за вакцины брать по пять долларов «там, где возможно». Доктор Меррэй сказал, что он тоже хочет поехать на войну. Решено было написать письмо британскому послу в Пекин и спросить, может ли доктор Меррэй поехать на войну на шесть месяцев?!
Вторая мировая война была менее милосердна к фирме «М». В ноябре 1941 года (за месяц до начала Тихоокеанской войны) уехал в армию доктор Скуайрс, но его направили не в Европу, а в Сингапур. Там он был заколот штыками японских солдат, которые ворвались в операционную, где он оперировал раненого солдата. Японцы убили всех в операционной, в тот день они взяли Сингапур.
Тихоокеанская война приближалась, молодые англичане начали записываться в армию. Они должны были пройти медосмотр и поэтому приходили к нам. Так как осмотр был неинтересным делом, то его поручали, главным образом, мне. Выражали желание поступить в британскую армию и лица других национальностей. Как-то ко мне пришел молодой человек с подстриженными на английский манер усиками по фамилии Муин. Фамилия вполне английская. Потом выяснилась, что его фамилия Мухин, он русский эмигрант и едет воевать за английскую королеву. По-английски он писал фамилию полностью «Мухин», но букву «х» проглатывал, и получалась вполне английская фамилия. У меня был пациент по фамилии «Нфгрдф». Фамилия звучала почти по-английски, а по-русски писалась: Новгородов.
Английская газета «Норд Чайна Дэйли Ньюс» печатала письма молодых людей, собиравшихся ехать воевать. Эти люди так же, как их отцы тридцать лет назад, не представляли себе, что их ждет на войне. Я следил за перепиской. Один молодой джентльмен писал другому, что нужно брать с собой на войну: конечно, надо взять белье «джодпёрс» (индийские брюки, широкие в бедрах и от колен идущие вниз узкими трубочками), так как иначе немыслимо играть в поло на лошадях.
Один мой английский пациент, молодой человек, попавший в британские части в Бирму рассказывал, что им пришлось отступать перед японской армией, подходившей к Сингапуру. Британцы шли через джунгли, и у них началась бациллярная дизентерия. Люди ножами распарывали на себе брюки, так как не было времени их снимать. Многие погибли. Да, это не игра в поло.
В Шанхае, кроме английской, французской и американской фирм, была еще и немецкая фирма, лечившая людей из немецкой колонии. Но англичане (так же, как и французы) и до начала Второй мировой войны мало встречались с немцами, не простив им войны 1914 года, и немцы на Дальнем Востоке жили обособленно. Они не посещали английские клубы, не были членами английских спортивных команд. Когда война окончилась, англичане и французы, жившие в Тяньцзине, пошли на территорию немецкой концессии (все иностранные концессии располагались вдоль берегов реки Пейхо), стащили большую статую Великой Германии и утопили ее в реке.
В начале своей практики в фирме «М» я принимал только тех пациентов, которые рисковали ко мне приходить, лечил бесплатных больных и давал наркозы во время операций Гонтлетта и Бертона. Нас было всего трое, а количество пациентов оставалось прежним.
Во время войны доктор Бертон (фирма «М») и доктор Рансон (фирма «Джэй») очутились в концлагере Лунгхуа и за время лагерной жизни договорились о слиянии двух фирм в одну - «М энд Джэй». До этого вопрос дебатировался в обеих фирмах в течение двадцати лет и каждый раз решался отрицательно. Понадобилась мировая война и два с половиной года концлагеря, чтобы прийти к такому простому и очень разумному решению.
Фирма «М энд Джэй» начала функционировать в сентябре 1945 года. Из лагеря Янгджоу прибыл доктор Саймонс, служащий бывшей фирмы «Джаксон, Данн и компаньоны». Так в новой фирме стало пять врачей: Бертон (шотландец), Рансон, (ирландец), Ие (китаец), Саймонс (англичанин) и я. Потом к нам присоединились Торнгэйт (американец) и МакГолрик (ирландец). На фирменных и рецептурных бланках ниже общего названия фирмы стояли фамилии врачей.
Бертон и Рансон, жившие в районе частных особняков и садов, скромно поделили этот район между собой. Мне было щедро отдано три четверти международного сеттльмента Шанхая: деловой сектор вокруг набережной, вся набережная по обе стороны реки с находящимися там английскими складами и заводами, бумагопрядильные фабрики, пивной завод, заводы красителей шерсти, водопроводная и электрическая компании и все торговые суда, стоящие на рейде или еще не вошедшие в устье реки Вампу.
Я уже писал, что английские пациенты не истеричны, но моряки всех наций ипохондрики, как это точно подметил английский врач и юморист Ричард Гордон в своей книге «Доктор на море». Например, однажды меня вызвали по радио на корабль, который собирался войти в устье Вампу, чтобы посмотреть у матроса указательный палец, под ногтем которого образовался маленький нарыв, возможно, от ковыряния в носу. Такие визиты, занимавшие часа четыре, пароходной компании стоили хороших денег, и наша фирма их приветствовала. В бесплатных отделениях мы действительно лечили больных всех национальностей без денег, но зато отыгрывались на богатых пароходных компаниях. Англичане это называют политикой Робин Гуда: грабь богатых, помогая бедным.
Так как не было никаких профсоюзов, то не было и никаких законов об охране труда или о времени работы. Мне нередко приходилось работать по шестнадцать часов в день, но такая работа дала мне возможность хорошо узнать жизнь английских торговых моряков, их язык, а также жизнь тех англичан, которых выписали из Англии, чтобы управлять складами, заводами минеральных вод, служить начальниками полицейских отделений. Это хорошие люди, добродушные и веселые. Врача они встречали с почетом, и с ними было легко работать.
Врач видит больше простого смертного хотя бы потому, что место врача - спальня, где лежит больной. Врач видит своего больного не в смокинге или бальном платье, а в промокшей от пота пижаме, небритого и непричесанного, женщины не напудрены, не подмазаны, с растрепанными волосами, в чашке с водой на ночном столике лежит вставная челюсть... Он и знает больше, чем кто-либо. Одна моя американская пациентка как-то сказала мне: «Вам, доктор, следует описать все, что вы видели. Назовите книгу «Двадцать лет в шанхайских спальнях». С таким названием она будет бестселлером».
ПРОКЛЯТИЕ ВЕНЕРЫ
Врач, пишущий о Шанхае, не может пройти мимо инфекционных заболеваний, большинство из которых в Шанхае эндемичны (то есть более или менее постоянно существуют в данной местности, причем круг больных периодически то расширяется, то сужается), а также мимо венерических болезней, которые в этом городе «процветали» потому, что он был портовым городом, и потому, что в нем была широко распространена проституция.
Есть и другая причина, почему об этом надо писать. Дело в том, что антибиотики, которые много сделали для уменьшения заболеваемости венерическими болезнями, уже не оправдывают себя. Возбудители венерических болезней к ним начинают привыкать, и антибиотики перестают действовать.
В 1971 году лондонский медицинский журнал «Лан-сет» напечатал передовицу о гонорее. В ней говорилось, что как только будет создана вакцина против кори, а это уже не за горами, проблемой «номер один» во всем мире будет гонорея. Вред и страдания, которые несет с собой плохо леченная гонорея, трудно осознать человеку, далеко стоящему от медицины. Поэтому всем, кто с этим не сталкивался (и слава богу), полезно хотя бы об этом прочитать. Мы сейчас живем в мире, где люди легко перемешиваются и контакты множатся, соответственно, умножаются и возможности перекрестного заражения.
История сульфаниламидов очень интересна. Для синтеза этих препаратов, конечно, много сделали немецкие химики. Однако Чичибабин и Зейде в России уже в 1914 году опубликовали отчет о синтезе фенил-азот-2,6-диамино пиридина. В феврале 1935 года появилось сообщение Домагка, вызвавшее сенсацию, в котором он привел экспериментальные данные о бактерицидной роли красного стрептоцида. Уже в 1939 году стало известно, что сульфаниламидами можно вылечить гонорею, но количество наблюдений было еще небольшим. Лекарство было сравнительно дорогим, и в Шанхае его начали применять вначале для лечения пневмоний, которые тогда часто были смертельными. Я еще застал лечение гонореи методом ежедневного промывания мочевого пузыря раствором марганцовокислого калия в течение восьмидесяти дней - ежедневно, без выходных и праздников. Ежедневно!
Дженерал Госпитал, больница для всех заболеваний, имела и венерическое отделение (в отличие Кантри Госпитал). Пройти туда незаметно было легко, так как располагалось оно изолировано от главного корпуса больницы. В самом начале моей работы в Дженерал главный врач больницы Патрик, старый шотландец, решил показать мне всю больницу. Когда мы добрались до венерического отделения, он провел меня сначала в большую комнату, почти зал, в которой около длинной стены стояли мужчины всех национальностей (кроме китайцев и японцев) без брюк. На стене висели кружки Эсмарха, наполненные марганцовкой, и китайцы-фельдшера обучали новичков тайнам промывания мочевого пузыря. Пусть читатель поверит мне, что веселого в этой процедуре мало, а гарантий того, что гонорея непременно будет излечена, тоже особых нет. Правда, есть большая вероятность излечения при условии аккуратного ежедневного промывания в течение трех месяцев. После окончания процедуры больные шли мыть руки, одевались и уходили до следующего дня. Изразцовый сток у стены был черно-фиолетового цвета от тонн вылитой в него марганцовки.
Рядом находились палаты для стационарных больных. Постельный режим идеален для некоторых форм гонореи, мягкого шанкра и четвертой венерической болезни. Но лечь в венерическое отделение соглашался не всякий, так как об этом могли узнать знакомые. Одно время, когда врачам муниципальной полиции, то есть нам, вменили в обязанность на больничном листе полицейского писать точный диагноз, например, «гонорея», полицейские стали лечиться у всяких шарлатанов, которых в Шанхае было более чем достаточно. Фирма «М» направила комиссару полиции письмо, в котором высказалась по этому поводу. Комиссар внял голосу разума, и мы стали в случае гонореи писать «неспецифический уретрит», в случае сифилиса «кожная язва» и т.д. Такие названия использовались для заполнения больничного листа, а в карточке больного указывался истинный диагноз.
Скрытый период гонореи длится от трех до пяти дней. Матрос, заразившийся в Сингапуре, приходил в Гонконг к ее клиническому началу и начинал там свое лечение. Начавший лечиться в Гонконге через три дня был в Шанхае и попадал к нам, если это было английское, датское или шведское судно. Такое «расписание» оказалось пригодным лишь до тех пор, пока гонококки поддавались лечению пенициллином или сульфа-препаратами. Когда появились первые резистентные штаммы (виды) гонококков, больного выписывали из больницы до окончания курса лечения. С сифилисом дело обстояло намного хуже. Немного лечения иногда бывает хуже, чем всякое его отсутствие. Сифилис заканчивается выздоровлением без лечения в сорока процентах случаев, но никто не может сказать, что представляет собой данный конкретный случай: пройдет заболевание само или нет. Врач обязан начать лечение, хотя бы для того, чтобы сделать больного безопасным для другой женщины.
Моряки, конечно, самый неблагодарный народ в этом отношении. Доктор Андерсон рассказывал мне, как в Сингапуре лечил от гонореи почти весь экипаж голландского торгового судна, которое в Амстердаме взяло на борт женщину-повара. Она была больна гонореей и за отдельную плату заразила весь экипаж от капитана до младшего кочегара. Сначала моряки скрывали друг от друга, что у них появились симптомы гонореи, но вскоре стало ясно, что больны все. Судно шло в Батавию (Джакарта), но капитан решил завернуть в Сингапур. Он боялся, что в голландском порту его корабль станет предметом насмешек всей колонии.
Случай действительно анекдотический, хотя и печальный. После истории с «Летучим Голландцем» это, по-моему, самая крупная катастрофа на нидерландском торговом флоте. А кухарка, наверное, купила себе в Амстердаме небольшой ресторанчик и живет припеваючи.
За рубежом распространению венерических болезней препятствовать практически невозможно по многим причинам. Например, далеко не во всех странах врач имеет право сообщить жене, что ее муж болен сифилисом, так как на это требуется согласие мужа, и наоборот. В результате заболевают оба супруга. Такой случай был в моей врачебной практике.
В Шанхае жил некий барон. Он был французского происхождения: его предки бежали из Франции в Россию после Первой французской революции. Сам он родился и жил в России, служил в каком-то гвардейском полку и во время революции бежал в Китай. Очевидно, сказалась семейная традиция: бегать от каждой революции. Он был женат на русской женщине, и у них была красивая дочь. Я о ней слышал, но никогда ее не встречал. И вот эта самая дочь, окончив среднюю школу, убежала в Ханькоу (несколько сот километров к западу от Шанхая), порт на Янцзы, где также находились иностранные концессии и постоянно стояли итальянские и французские канонерки. Она решила осчастливить офицерский состав этих кораблей и стала профессиональной проституткой. Ей нравилась такая жизнь: танцы, шампанское, смена впечатлений и большие деньги. Бойкая была баронесса. Потом она переехала в Шанхай, где и продолжала свою чрезвычайно полезную деятельность.
В один прекрасный день бой принес мне визитную карточку с титулом «Баронесса такая-то...». «Ага, — подумал я, — старая знакомая». Вошла дама, уже не первой молодости, но все еще красивая. С очаровательной непринужденностью, свойственной представительницам самой древней профессии мира, она сказала: «Доктор, посмотрите, что у меня тут». Я осмотрел ее и сказал: «У вас, наверное, мягкий шанкр, и вас надо лечить». Она ничуть не удивилась и сразу согласилась начать лечение. Через неделю ко мне на прием пришел русский полицейский из английской полиции, молодой красавец, блондин, и, смущаясь, рассказал, что его беспокоит. «Раздевайтесь, — сказал я ему и начал осмотр. — У вас, по всей вероятности, мягкий шанкр». — «Что это такое?» — спросил он. — «Это венерическая болезнь, и вам надо лечиться».
Бедняга побледнел: «Нет, этого не может быть, доктор, я никогда не ходил в публичные дома, я живу только с женой... С баронессой де ...», — не без гордости добавил он. Эта «баронесса де...», конечно, наставляла рога молодому дураку. Если в прошлом она была на содержании у франко-итальянского флота, то, естественно, бедного русского полицейского ей было мало - с финансовой точки зрения, я имею в виду.
Из учебников сексологии известно, что у проституток бывает один любовник, которого они искренне любят. Все остальные - бизнес. Возможно, баронесса по-своему любила этого полицейского, но он стал жертвой ее бизнеса.
Одним из самых страшных каналов распространения венерических болезней, прежде всего из-за трудностей медицинского контроля, является проституция. У меня в течение многих месяцев был «клиент», здоровенный негр. Он содержал небольшой публичный дом в портовой части города, и на него работали двенадцать-пятнадцать бедных русских девушек. Один раз в месяц он приводил их на осмотр.
Я производил осмотр, брал необходимые анализы и отсылал их в лабораторию, понимая, что все это не гарантирует посетителей публичного дома от заболевания венерической болезнью. Допустим, в момент осмотра у женщины-проститутки все было в порядке, но, вернувшись в свое заведение, в течение получаса она могла вступить в связь с каким-нибудь пьяным матросом и тут же оказаться зараженной. А через неделю приходил ответ из лаборатории, что она здорова. Я подозреваю, что негр приводил девиц из чисто рекламных целей. Мы были врачами, обслуживающими полицию, и он, наверное, вывешивал лабораторные ответы (с печатью фирмы «М») на стене для клиентов, чтобы те видели его заботу о них и могли оценить высокий уровень сервиса. На самом же деле эти анализы ровно ничего не стоили.
Я очень сомневаюсь в ценности подобных осмотров, и это для меня является главным аргументом в необходимости борьбы с проституцией. Чтобы контролировать распространение венерических болезней, следовало бы осматривать не женщин, а мужчин, которые к ним ходят. Но это практически неосуществимо.
Лечение сифилитика до эры пенициллина обычно способствовало установлению хороших, дружеских отношений между врачом и больным. Лечение проводилось в течение трех лет, больной приходил к врачу раз в неделю, получалось сто пятьдесят шесть встреч. За три года лечения врач узнавал о больном все. Сифилитику скрывать от врача было нечего, и беседы всегда носили доверительный, откровенный характер.
Я лечил управляющего одной английской фирмы, который заразился сифилисом в фешенебельном публичном доме. Это был живой, слегка склонный к полноте человек лет шестидесяти. К концу лечения он уходил на пенсию и должен был вернуться в Англию. «Вы знаете, док, - сказал он как-то мне, - меня не особенно радует перспектива возвращения домой. Я живу в маленьком городке в графстве Корнуолл (западная часть Англии). А вы представляете себе жизнь в провинциальном английском городке? Если я случайно на улице посмотрю на хорошенькую женщину, завтра же пойдут пересуды: этот старый развратник из Китая смеет заглядываться на наших чистых английских женщин! Сделал там деньги и думает, что ему тут все позволено! Ужас! Если я не буду ходить в церковь по воскресеньям, то пойдут разговоры: безбожник, вольнодумец. Если я буду ходить в церковь, начнут шептаться: ходит, чтобы смотреть на наших юных девиц. Если я зайду выпить кружку пива в пивную, куда ходят все, то сейчас же начнут говорить: пьяница - с утра уже лакает пиво; делал деньги в Китае и привык вести распутный образ жизни. Если я не буду ходить в пивную, а буду пить виски дома, то моя кухарка раззвонит об этом на базаре, и все будут шептаться: тайный алкоголик - нализывается дома один. Вы знаете, док, если мне захочется женского общества, мне придется ездить в Лондон за четыреста километров. Будь они все прокляты!».
Я затронул проблему публичных домов как инфекционист. Но есть и другая - человеческая - сторона этой проблемы. Девицы из необеспеченных русских семей часто приезжали из Харбина в Шанхай в надежде найти работу, но их иллюзии быстро рассеивались. Они не знали иностранных языков и не могли в поисках хорошего места конкурировать с русскими девушками, окончившими иностранные школы в Шанхае. В качестве прислуги они работать не могли, этим занимались китаянки, которые получали такую мизерную зарплату, что на эти деньги русская девица просто не смогла бы жить. Таким образом, они попадали в публичные дома, где оказывались в полной зависимости от их владельцев, которые выжимали из девушек все, что могли. Если же владельцем был такой негодяй, как тот негр, о котором я писал, то ими пользовался еще и он сам. Может быть, он и на анализы водил их ради себя самого. В таком случае, могу его поздравить. Как я уже сказал, анализы эти не исключали опасности заболевания. Ну а девушки проблему своего выживания тоже решали временно, потому что с возрастом они становились менее привлекательными для клиентов и их просто выгоняли на улицу.
Две стороны - медицинскую и человеческую - имеет и проблема наркомании, с которой я сталкивался в своей врачебной практике в Шанхае.
Китай, Индия и все страны Средней Азии с незапамятных времен знали гашиш, или индийскую коноплю (в Мексике ее называют марихуаной). В их оправдание можно сделать лишь одну, но весьма важную оговорку: в те времена на наркотики взгляд был совершенно иной. Классик английской литературы де Кинси (De Quincey) написал книгу «Исповедь английского едока опия», герой романа Дюма граф Монте Кристо курил гашиш, наш общий любимец Шерлок Холмс колол себе кокаин (и доктор Ватсон ничего особенного в этом не видел), Алексей Константинович Толстой умер, введя себе чересчур большую дозу морфия. Халстед, знаменитый своей операцией по поводу рака груди и впервые применивший кокаин для местной анестезии, сам же к нему и пристрастился. Об опасности наркомании тогда не знали. Книгу о Шерлоке Холмсе написал Конан Дойл, врач по профессии, но он своего героя не осуждает.
Допустим, фармакология того периода не имела ясного представления о наркомании и ее опасностях. Но зачем англичане заставили китайцев разводить опий у себя? Думаю, ради торговых интересов Англии. Тогда англичане должны были навязать китайцам соответствующий договор. Может быть, и был какой-то договор с китайским правительством о дележе прибылей. Был или не был, что за договор - я задумывался над этим и привожу здесь лишь некоторые предположения, которые могут подтвердить или опровергнуть только историки-китаисты и экономисты. Сюжет же этой истории таков: англичане затеяли две опиумных войны, выиграли их, потому что были лучше вооружены, и заставили побежденных выращивать у себя опиум. И все это ни с того ни с сего. Могло такое быть? Нет, это историческая сказка. Англичан можно представить себе мерзавцами, но идиотами их считать нельзя. Естественно, в опийных войнах был какой-то смысл, какая-то выгода для них, только история это умалчивает. А вот последствия их известны: опиекурение в Китае привилось и стало общенародным бедствием. В знак протеста в двадцатых годах китайское правительство купило опия у англичан на несколько миллионов долларов и сожгло его в Шанхае на правом берегу реки Вампу, как раз напротив английского генерального консульства.
Когда мы были студентами медицинского факультета, наши профессора показывали нам в университетской клинике старых китайцев опиоманов, которые лежали по поводу различных заболеваний. У всех у них были сужены зрачки, все они страдали запорами, были вялы и истощены. Но я в своей врачебной практике не встречался с опиекурилыциками. Одна моя пациентка-китаянка рассказывала, что делала маленькие шарики из опия для дедушкиной трубки, когда была маленькой девочкой. Это было еще в двадцатых годах.
Странная история, связанная с опием, случилась в первый день моей работы в фирме «М». Ко мне в кабинет постучалась наша секретарша миссис Бёрджес и сказала, что шеф, доктор Гонтлетт, просит меня подписать рецепт на четверть фунта опия, без указания фамилии пациента. Всего нужен фунт, но он решил, что будет лучше, если каждый из четырех врачей фирмы подпишет рецепт на четверть фунта. Кому понадобилось такое чудовищное количество опия, я не мог себе представить. Даже четверть фунта - это сто с лишним граммов чистого опия, и ни один фармацевт не имел права отпустить его столько в одни руки. Тут что-то было нечисто. Но это был единственный случай, когда я столкнулся с такой проблемой.
Один раз я видел морфиниста, болгарского адвоката. Он вызвал меня на дом по поводу сильного гриппа и в ходе беседы сказал, что ежедневно колет себе морфий. На бедрах у него были следы множественных уколов. За все годы своей медицинской практики таких следов уколов я ни у кого больше в Шанхае не видел. Возможно, что те, кто кололся, к нам не приходили, а лечились у врачей, занимавшихся подпольной практикой. Это можно допустить. Но за четырнадцать лет я осмотрел как врач несколько тысяч людей - англичан, русских, португальцев, индусов и лиц других национальностей, - но никогда не видел следов каких-либо уколов на теле и поэтому думаю, что наркомания в Шанхае в те годы не имела такого широкого распространения, как в семидесятые годы, если судить по зарубежной прессе. О марихуане тогда вообще ничего не было слышно. Конечно, курение опия и сигарет с марихуаной никаких следов на теле не оставляет, но если бы оно было в какой-то мере распространено, об этом в первую очередь знали бы врачи. А мы ничего не слышали.
Наконец, несколько слов о третьей проблеме - алкоголизме. В английской колонии пили, наверное, все - и мужчины, и женщины, - и пили каждый день перед обедом и ужином (англичане, как правило, во время еды не пьют, как русские или французы). Любителей вина здесь можно было разделить на две группы: англичане, жившие в Шанхае до Второй мировой воины, или старшее поколение, и молодежь - большое количество демобилизованных офицеров, прибывших в Шанхай после окончания войны на службу в разные британские торговые фирмы.
У старшего поколения нервная система была, возможно, более уравновешенной. Бывшие военные, которые служили в армии в Первую мировую войну, уже успели за тридцать прошедших лет успокоиться, и случаи алкоголизма среди них, вернее, случаи их асоциального поведения в обществе были очень редки. Я не слышал о пьяных драках. Правда, один раз меня вызвали в кабак на улицу Чу Пао-сан, где были публичные дома. Там сидел пьяный американец, наш пациент, с разбитой в драке нижней губой. Я тут же наложил швы и уехал. В другой раз управляющий одной американской компанией свалился с лестницы, в пьяном виде выходя из какого-то заведения. У него на голове была неглубокая рана, и я ограничился наложением швов. Так как он все еще был изрядно пьян, то никакой анестезии не потребовалось.
Мой шеф Бертон рассказывал, что как-то во время своей поездки в Пекин увидел в поезде ползущую на четвереньках по коридору свою пациентку. Он назвал мне ее имя. К сожалению, это была сестра моего соученика по школе, русская, замужем за англичанином. За четырнадцать лет я видел один случай белой горячки - у одного
своего пациента, тоже русского, в 1953 году. Находясь в сильном возбуждении, он говорил, что на Шанхай наступает французская армия и надо бежать. Я вполне допускаю, что такие случаи бывали в практике не только у меня, но алкоголиков отправляли в какой-нибудь частный госпиталь, и мои коллеги мне ничего о них не говорили из соображений национального престижа. Возможно. Однако во всех больницах работали русские медсестры, и, наверное, я бы все равно об этом знал. Так что фактов пьянства среди старшего поколения Шанхая у меня мало.
Среди молодого поколения, наоборот, случаи чрезмерных возлияний были часты. По вечерам, собираясь теплыми компаниями, молодые люди и девицы пили, плясали, играли в стрип-покер с раздеванием и пели непристойные песни, которых у англичан великое множество и которые ничуть не хуже творений Баркова. Старшее поколение смотрело на молодежь неодобрительно, но сделать ничего не могло. Летчики, которые во время войны перед полетом принимали таблетки фенамина (это не наркотик, но к нему привыкают, и его теперь условно считают наркотиком, он возбуждает нервную систему и не дает летчику заснуть), а после возвращения пили крепкие спиртные напитки, чтобы успокоиться, быстро привыкали к алкоголю. Их можно было понять: вылет для летчика - это возможная встреча со смертью. Со мной по соседству в Шанхае жил летчик Фил Гриффит, так вот из шестидесяти человек, учившихся вместе с ним в одном классе летной школы, он был единственным, кто остался в живых.
Вероятно, мое восприятие распространения в Шанхае пьянства и алкоголизма было в те годы небезупречным, поскольку сам я не пил, пьяного, если он стоял на ногах, от трезвого отличить не мог, да и поставить диагноз алкогольного опьянения просто не умел. Как-то меня вызвали в муниципальную тюрьму осмотреть больного тюремщика. Я часто бывал в квартирах английских и русских тюремщиков, которые жили вокруг тюрьмы, но в тюрьме - всего один раз. Тюрьма на Уорд роуд - это комплекс многоэтажных зданий из серого кирпича, обнесенных высокой многометровой стеной. У ворот меня ждал дежурный охраны, и мы пошли по глубоким дворам-колодцам, отделенным друг от друга стенами и сообщавшимися дверьми-решетками, каждую из которых он отпирал ключом.
Я зашел в комнату дежурного по зданию. Там собрались начальник тюрьмы Хогги еще какие-то чины. Около стола сидел больной. Хогг обратился ко мне: «Я вам ничего не буду говорить, доктор. Я прошу вас осмотреть больного и дать свое заключение». На мой вопрос: «На что вы жалуетесь?» - сержант ответил, что чувствует себя вполне здоровым. Я осмотрел его, нашел, что у него очень частый пульс, и написал в больничном листе «тахикардия». Начальник тюрьмы мрачно взглянул на меня и процедил сквозь зубы: «Очень хорошо, доктор. Благодарю вас». Позже я узнал, что тот сержант напился на дежурстве и на основании моего заключения его хотели выгнать со службы. Я подумал тогда, что этот человек будет вечно мне благодарен. Однако потом раза два он приходил ко мне, уже по болезни, и каждый раз держал себя так нагло, что я пожалел, что не смог тогда поставить ему правильный диагноз. Это был единственный случай пьянства на работе, который я видел.
Китайцы пьют очень мало. Прожив сорок лет в Китае, я никогда не видел пьяных или валяющихся на улице китайцев, хотя в искусстве этот порок воспевается. Знаменитый китайский поэт Ли Во (701-752 н.э.) изображен на бесчисленных рисунках и в виде статуэток, сделанных из фарфора или вырезанных из красного дерева, не иначе как сидящим у бочки вина литров на тридцать. Многие его стихи прославляют употребление вина. Но общение с китайскими студентами в университете в течение восемнадцати лет укрепило мое убеждение в том, что китайцы либо вообще не пьют, либо очень воздержаны в отношении алкоголя.
В общем, Шанхай вовсе не был «Дальневосточным Вавилоном», каким его описывали случайные писатели и журналисты, приезжавшие туда на несколько недель. Я прожил в Шанхае двадцать лет, и как врач знал об обитателях этого города больше, чем, скажем, служащий английского банка, и уж гораздо больше, чем случайный посетитель, такой, как, скажем, Борис Пильняк.
Шанхай очень своеобразен и неповторим, и именно это шокировало европейского или американского туриста. Отсутствие законов и правил, принятых у «себя дома», заставляло думать, что Шанхай гнездо пороков, скопище таинственных опиекурилен. Это не так. На территории международного сеттльмента было сколько угодно публичных домов (думаю, не больше, чем в Париже, Нью-Йорке или в Лондоне), но не было стриптиза. Не потому, что стриптиз считали аморальным, а потому, что это - американское изобретение, сеттльмент же был практически английской колонией, а у англичан в те годы стриптиз еще не вошел в быт. Зато в частных домах играли в стрип-покер с полным раздеванием, но это никого не касалось.
Шанхай был не более аморален, чем любой другой капиталистический город. Его аморальность обусловливалась тем, что богатые эксплуатировали бедных и за деньги покупалось все. Но этого случайный посетитель не замечал, имея у «себя дома» то же самое. Шанхай был аморален и потому, что капиталистическая система не могла предоставить работу всем желающим, дефицит рабочих мест вынуждал многих женщин устраиваться в публичные дома. Но и это туристов не удивляло, потому что у «себя дома» они имели то же самое.
Путешественники думали найти здесь какие-то особые восточные пороки. Это чушь. Пороки, как и болезни, универсальны. Правда, есть тропические болезни, но тропических пороков нет. И в соответствующих заведениях Парижа, Нью-Йорка, Лондона, и в любом другом крупном капиталистическом городе вы найдете то же.
Случайного туриста поражала свобода шанхайцев, их терпимость и полное равнодушие к религиям и обычаям различных народов, к моде и пище разных стран. Иностранный Шанхай не был равнодушен только к коммунизму, потому что тот угрожал его капиталу. Боролся с коммунизмом он замалчиванием, это сделать было легко, поскольку все средства информации сосредоточивались в тех же руках, что и капитал. Родившись в Китае и прожив в нем сорок лет (из них двадцать - в Шанхае), о существовании китайской компартии я узнал только весной 1945 года, перед самым окончанием войны. Метод замалчивания - тоже эффективный метод борьбы с врагом.
МОИ ИНДУСЫ
После вывода войск из Индии в 1947 году Великобритания позаботилась о судьбе сикхов, населявших большую равнину на северо-западе Индии. Тогда их насчитывалось около двадцати миллионов. Пенджаб, страну сикхов, разделили на две части: одна отошла к Пакистану (Западный Пенджаб), другая - к Индии (Восточный Пенджаб). Пакистан - мусульманская страна. Индия - страна многих религий, но больше всего в ней последователей индуизма. Сикхи имеют свою собственную религию и не принадлежат ни к магометанам, ни к индуистам. Секту сикхов в XV веке основал проповедник Нанак Дев, это самая молодая религия в Индии. Она провозглашает равенство людей, не признает кастовых различий, отрицает всякий аскетизм, монашество, духовенство и является идеологией антифеодального крестьянского движения.
В течение четырнадцати лет я был врачом религиозной общины сикхов в Шанхае, и мои индийские пациенты в большинстве своем были сикхами, хотя, кроме них, приходили и индийские бизнесмены, хорошо говорившие по-английски, и парсы-огнепоклонники. Многие сикхи в Шанхае служили в английской полиции. Своим высоким ростом и физическим развитием они идеально подходили на роль полицейских, и англичане специально нанимали их на эту службу. За годы своего общения с сикхами я полюбил этих простых и дружелюбных людей. Здесь приведены отдельные фрагменты из моих дневников (1940 - 1954 гг.) с наблюдениями сцен из их жизни.
Один из моих пациентов Атма Синг - очень колоритный человек - в молодости служил в международной (то есть, попросту говоря, в английской) полиции Шанхая. У него образовалась паховая грыжа, и один из молодых английских хирургов решил ее ушить. Хирург был не только молодой, но и неопытный. Во время операции он перерезал Атма Синг бедренную артерию. Чтобы допустить подобную ошибку во время такой операции, нужно было обладать неопытностью самой высокой степени. Тогда, а это случилось, наверное, в начале двадцатых годов, никакой пластики сосудов не было, и Атма Сингу просто ампутировали ногу. Когда он проснулся от наркоза, ему объяснили, что у него нашли очень опасную болезнь, и если бы не отрезали ногу, то он непременно бы умер. Атма Синг страшно обрадовался и был очень благодарен молодому хирургу за то, что тот спас ему жизнь. Он так и остался нашим благодарным пациентом на всю жизнь, рассказывал всем, какой хороший у него был хирург, и благодарил бога, что попал именно к нему.
Когда я познакомился с Атма Сингом, он был уже стариком. Белая, совершенно белая борода. Умные черные глаза, благородные черты лица...
Атма Синг хорошо говорил по-английски (с тем непередаваемым мягким акцентом, с каким говорят на этом языке индусы) и, уволясь из полиции, стал переводчиком. Когда он, стоя на своих костылях, мерно и плавно произносил непонятную речь, сопровождая ее полными достоинства жестами индийского раджи, то впечатление было огромное. Этакий одноногий Рабиндранат Тагор.
Атма Синг приводил ко мне на лечение индусов и индусок (все они были сикхи) и обеспечивал нам взаимопонимание. Придя с какой-нибудь Бхан-каур, он прежде всего сам излагал ее жалобы. Потом я задавал вопросы и осматривал пациентку, делал заключение и писал рецепты. Какой бы осмотр я ни производил, Синг спокойно оставался на месте, даже не думая выходить из кабинета, и разражался речью после каждой моей реплики или вопроса. Его болтливость вначале меня бесила. Если я произносил две фразы, Атма Синг произносил двадцать две. Если я говорил в течение трех минут, перевод Атма Синга занимал минут тридцать. Может быть, оплата его работы была почасовой. Не знаю. Я не верил, что язык сикхов в десять раз длиннее английского. Оставалось предполагать, что Атма Синг нес отсебятину.
В конце концов я понял, что ничего не могу поделать с его болтливостью, смирился и просто стал наблюдать. Я старался себе представить, что он говорит. В душу закрадывалось подозрение, что говорил он приблизительно следующее: «Биби (то есть женщина), доктор саиб (господин доктор) сказал тебе то-то и то-то, а я скажу тебе другое. Ты знаешь, что мы все любим и уважаем нашего доктора саиба. Он нам, как отец. Но он совершенно не знает индийских женщин. Это не его вина, это его беда. А я, Атма Синг, шестьдесят лет изучаю индийских женщин, и теперь продолжаю изучать, правда, ввиду моего преклонного возраста теперь я занимаюсь их изучением с перерывами. И я говорю тебе: не слушай доктора саиба, а слушай меня. Тебе надо совершать все предписанные омовения и молиться. Когда у тебя бывают нечистые периоды, держись подальше от мужа, а так выполняй все его желания и приказания. Лекарство, которое тебе прописал доктор саиб, - хорошее. Принимай его. Иди домой с миром, и ты исцелишься».
Индуска вставала, отдавала мне честь и уходила. Эти милые женщины видели, как их мужья-полицейские отдают честь своим английским начальникам, и думали, что так и нужно поступать. Но представьте себе одетую в прелестное сари молодую женщину, которая отдает вам честь.
У меня сложилось твердое убеждение, что после речей Атма Синга мои индусские пациентки уходили, думая, что я круглый идиот, а Атма Синг, наоборот, великий мудрец. Собственно говоря, если так было на самом деле, то он действительно был великим мудрецом.
Однажды Атма Синг привел ко мне своего соплеменника Притам Синга и его молодую жену. Молодая женщина никак не могла забеременеть, а для индуски это почти трагедия. Притам Синг просил меня вылечить ее. Я посоветовался со своим шефом. Он был гинекологом и предложил мне испробовать для лечения гормоны. Они только начали входить в моду, и врачи еще очень мало знали о них (сейчас, правда, чуточку больше). Я провозился с женой Притам Синга месяца три, и вдруг она перестала ходить на уколы. Разуверилась, очевидно. Вскоре появился Атма Синги сказал мне, что Притам Синг приглашает меня на обед к себе домой. Я с удовольствием принял приглашение, так как никогда не был в квартире сикха.
На территории международного сеттльмента располагалось около десяти полицейских станций - по количеству районов. Каждая станция - это комплекс пяти-шестиэтаж-ных зданий, обнесенных высокой стеной. Такая станция была больше похожа на крепость с тяжелыми железными воротами. На первом этаже находились служебные помещения, а выше - квартиры для полицейских и их семей, холостяков размещали в общежитиях. Европейцев, индусов и китайцев селили в разных корпусах. Европейское общежитие было очень хорошо обустроено. Каждому полицейскому предоставляли большую светлую комнату. Общими были туалеты и ванные, большая столовая с баром и гостиная, обставленная мягкими креслами и журнальными столиками, заваленными газетами и порнографическими журналами на всех языках. Размеры квартир для семейных полицейских зависели от размеров семьи, но, вообще, у англичан больше трех детей бывало очень редко, обычно - один, два ребенка. Как жили китайские полицейские, не знаю: у них были свои, китайские, врачи. Наверное, не хуже индусов. А в индусской квартире я был всего один раз в жизни, у Притам Синга.
Может быть, деление всех полицейских на три группы следует отнести к проявлениям расовой сегрегации, но какой-то смысл, какой-то практический raison d'etre, на мой взгляд, в этом все-таки был. Дело в том, что у этих трех этнических групп совершенно разные кулинарные обычаи. Коридоры индусских квартир пропахли пряным запахом карри и ги (топленого масла из молока буйволиц, которое английская администрация специально выписывала из Индии бочками для сикхов, потому что другого масла они не едят). Карри, конечно, приправа душистая, но вдыхать ее аромат круглые сутки человеку не индийской кулинарной культуры трудно. Китайцы все жарят на масле соевых бобов, к запаху которого трудно привыкнуть, даже прожив всю жизнь в Китае, особенно, когда оно пригорело. Конечно, из европейских кухонь всегда доносился приятный аппетитный запах. Но так думают европейцы. Я полагаю, что индусы и китайцы считали эти запахи ужасной вонью и, проходя мимо, затыкали себе носы.
У Притам Синга с женой была маленькая трехкомнатная квартира. Мы вошли в первую комнату, где стояли небольшой стол и один стул. Налево - две двери: одна вела в маленькую кухоньку с электрической плитой, другая - в комнатку с умывальником, душем и туалетом. В одну из жилых комнат дверь была закрыта, а в другую - открыта, и я увидел, что почти всю ее площадь занимала индийская кровать.
Индийская кровать заслуживает отдельного описания. Это большая квадратная деревянная рама. По всем четырем сторонам этой рамы просверлено множество отверстий, через которые протянуты веревки. Веревки переплетены между собой в виде хитрого восточного рисунка с большими просветами для прохлады. Вообще, для климата Индии ничего лучшего не придумаешь. Но веревки грубые, простыни нет, и я подумал, что спать на такой кровати, наверное, не совсем уютно, а для супружеской жизни она показалась мне даже слишком шероховатой. Но если вспомнить, что индийские факиры и вовсе спят на гвоздях, то простому индусу эти веревки должны казаться, наверное, мягким пухом.
Меня попросили сесть за стол. Хозяева и Атма Синг стояли. Меня это несколько смутило (самую малость), но было лестно. Хозяйка встала справа, скрестила руки на животе и опустила глаза. Надо сказать, что она все время молчала. Слева встали Атма Синг и Притам Синг. Притам Синг, склонив голову и не глядя на меня, что-то говорил. Атма Синг начал переводить: «Доктор саиб! Притам Синг говорит, что вы нам, как отец. Он очень благодарен вам за помощь его жене. Если бы ваше лечение завершилось ее беременностью, то он сделал бы вам ценный подарок. А пока он хочет угостить вас курицей с карри, хотя эта курица вас, конечно, недостойна».
У индусов оригинальная манера готовить курицу. Они ее, по-моему, не режут, а просто ломают ей все кости. Вылавливаешь кусок мяса из соуса, а из него торчит острый обломок кости. Просто страшно становится. Но это еще ничего. Куски курицы плавают в соусе из карри. Две столовых ложки этого соуса, по моим расчетам, приводят к двум неделям острого гастрита. К курице подали чапати - индийский хлеб, очень вкусная лепешка без соли, похожая на китайские лепешки. На десерт я ел рис с миндалем и дольками апельсина, политый сахарным сиропом. На этом обед закончился. Хозяин провел меня в кухню и, взяв в руки маленький оловянный чайничек, предложил вымыть руки (до обеда я рук не мыл), а затем прополоскать себе рот.
Вскоре после этого обеда я встретил своего старого знакомого - англичанина, много лет прожившего в Индии. Я спросил его: «Это что, правило индийского этикета: почетный гость обедает, а хозяева стоят?». Англичанин улыбнулся: «Это не совсем так, док. Конечно, от этикета тут что-то есть. Но главное - религиозные соображения. Они просто не могут сесть за один стол с такой сволочью, как вы. Когда индийский раджа устраивает прием для своих английских советников, гостей приводят в банкетный зал, где посредине лежит огромный ковер, на котором стоит обеденный стол на пятьдесят-шестьдесят персон. Кресло раджи расположено во главе стола. Когда гости рассаживаются, ковер около раджи закатывают, и кресло оказывается на голом полу. Таким простым способом раджа отделяется от гостей и не сидит за одним столом с этими грязными собаками, англичанами. Это все ухищрения браминского ума. О браминах много написано у аббата Дюбуа. Вы, наверное, читали его книгу об Индии, доктор?»
Действительно, эту книгу я читал - и не один раз. Дюбуа приехал в Индию проповедовать католичество в самом конце XVIII века и прожил там тридцать один год. Он изучил несколько индийских диалектов и написал удивительную книгу «Индийские манеры, обычаи и церемонии». Эта книга - окно в неведомый, фантастический и, несмотря на его теневые стороны, изумительно красивый мир. Усилия аббата по обращению индусов в христианство были почти безуспешными. За тридцать один год вняли его проповедям и приняли католичество двести пятьдесят человек, то есть восемь целых и две десятых спасенных души в год. Похвально, но не густо.
Когда Дюбуа рассказывал индусам о чудесах, которые творил Христос, - превратил воду в вино, накормил пятью хлебами пять тысяч человек, изгнал бесов из одержимого и вселил их в стадо свиней, после чего свиньи с визгом и хрюканьем бросились со скалы в озеро и все потонули (не особенно, конечно, любезно по отношению к хозяину свиней, который никакого чуда не просил), - то индусы слушали его с восхищением. Для них это были увлекательные сказки. Но когда добрый аббат добирался до христианской морали и говорил о целомудрии и о половом воздержании, то индусы только пожимали плечами. Зачем им нужна религия, которая лишила бы их самого большого удовольствия.
Славного старика, по-видимому, это обижало, и он посвятил несколько глав своей книги описанию индусских сексуальных обычаев, которые заставили бы покраснеть самого искушенного в этом вопросе человека. Очевидно, старик написал об этом в отместку своей нерадивой пастве. Но шутки шутками, а его книга была первым серьезным вкладом в этнографию Индии.
Между 1803-м и 1804 годами аббат Дюбуа уговорил двадцать пять тысяч индусов сделать противооспенные прививки. Это чудо почище насыщения пяти тысяч человек, и я смиренно рекомендую Ватикану причислить этого аббата к лику святых за его светлый ум и человеколюбие. Даже в Англии до сих пор есть местности, где люди отказываются от прививки оспы по религиозным соображениям. Я это знаю достоверно, потому что один раз, когда по требованию портовой санэпидстанции меня вызвали на английский корабль, я обнаружил, что ни у одного матроса не было прививки от оспы. Все они были из одной местности. Оспу я им привил, и у них, естественно, началась реакция на первичную вакцинацию, как у маленьких детей (воспаление плеча, температура, болезненное состояние). Когда я прибыл на корабль во второй раз, меня чуть ни линчевали. А у Дюбуа на руках оказалось двадцать пять тысяч людей с первичной вакцинацией. Каким же надо обладать авторитетом у людей, чтобы они тебе поверили и безропотно перенесли прививки!
В католической церкви есть святые на все случаи жизни. Св. Аполлония, например, покровительница людей, страдающих от зубной боли, св. Христофор - покровитель автомобилистов, хотя в его время ничего, кроме телег, не было. Но не надо удивляться. Чудо есть чудо, оно не поддается рациональному объяснению. Дюбуа мог бы вполне сойти за покровителя людей, заболевших оспой.
Стоит взглянуть на его портрет, написанный неизвестным художником (в третьем издании его книги под редакцией Бичама, 1943 год), чтобы увидеть, что это был необыкновенный человек. Как проповедник христианства преподобный отец явно не вытянул, но зато какой это был этнограф! Книгу аббата англичане перевели на английский язык и обязали каждого чиновника, приезжающего служить в Индию, ее прочитать.
Захватив Индию, англичане поступили, как обыкновенные пираты. Всякий колониальный захват - есть акт пиратства. Так поступали и испанцы, и португальцы, и французы, да и победами генерала Скобелева тоже гордиться особенно не приходится. Англичане пришли в Индию ради обогащения и торговли. Это верно. Но неправильно утверждать, что они полностью игнорировали обычаи и верования индусов. Об Индии англичанами написано немало книг - и по искусству, и по религии, и по истории. В этой стране, с ее чрезвычайно сложной и непонятной для европейца кастовой системой, каждый неверный жест мог вызвать бунт толпы, что было совершенно невыгодно таким торговцам, как англичане. Рассматривал все это с чисто практической точки зрения, они считали необходимым изучать свой рынок. Нет, хороший купец не может позволить себе быть дураком. И наоборот, дурак никогда не станет хорошим купцом. Правда, как я уже писал, англичане разрушили в своей собственной колонии ткацкую промышленность, но тогда они объясняли это патриотическими мотивами: нужно помочь ланкаширским ткачам, а судьба индусов их не волновала.
Англичане быстро научились ткать такие же красивые ткани, как и индусы, но быстрее и дешевле. О том, как английские ткацкие станки разрушили ручной труд в Индии, Дюбуа подробно пишет в своей книге: «Как раз перед возвращением в Европу я проехал через некоторые промышленные районы, и ничто не может сравниться с состоянием разорения, царившего в них. Все рабочие комнаты были закрыты, и сотни тысяч жителей, принадлежавших к касте ткачей, умирали от голода, так как из-за предубеждений они не могли заняться другим ремеслом, не обесчестив себя. Я встретил бесчисленное множество вдов и других женщин без работы, а следовательно, без денег, которые раньше поддерживали свои семьи ткачеством... Крушение ткацкой индустрии отразилось на торговле во всех ее отраслях, деньги перестали циркулировать...
... Ах, если бы изобретатели этих новых индустриальных машин могли слышать проклятия, которыми массы бедных индусов без устали покрывают их! Если бы они, как я, видели ужасную нищету, вошедшую в эти провинции, всецело из-за изобретений, которые обогатили горсточку людей за счет миллионов бедняков, они несомненно раскаялись бы...».
Добрый аббат наивно полагает, что капиталисты раскаялись бы. В XIX веке ему, выросшему в стенах католической семинарии, а потом сразу уехавшему в Индию проповедовать «слово Божие», может быть, не ведомо было, что такое капитализм, но одно он понял: горсточка людей обогатилась за счет страданий миллионов бедняков.
Еще в 1945 году, сразу после войны, мои английские пациенты говорили мне, что Британской империи пришел конец. А это были обыкновенные английские купцы. Наблюдая в дальнейшем за развитием событий, я думал о том, насколько бизнесмены оказались умнее профессиональных политиков.
Однажды рано утром меня разбудил телефонный звонок. Звонил секретарь индийского генерального консульства Чаудри (много лет спустя я встретился с ним в Москве, он был уже советником индийского посольства, а его маленькая дочь Милу болтала по-русски совершенно свободно и без всякого акцента). Чаудри просил меня срочно приехать, так как один их сотрудник выбросил из окна девятого этажа свою жену.
Я хорошо знал эту пару. Сам он, нервный и многословный, приставал ко мне с бесконечными вопросами по поводу того, что ему можно есть и какие конкретно сорта мяса. Сначала я думал, что он хочет уяснить некоторые тонкости диеты, но потом стал подозревать, что вопросы питания интересуют его с чисто религиозной точки зрения. Она была молодой женщиной, совершенно истощенной каким-то неизвестным мне горем. По-английски она не говорила, а ее муж был настолько своеобразен, что приглашать его в переводчики не было смысла. Я ничем не мог ей помочь. Как можно было предвидеть, что произойдет трагедия? Все-таки необходимо, чтобы врач и пациент говорили на одном языке, хотя и в этом случае невозможно предположить, как сработает мозг сумасшедшего.
Почти все сотрудники индийского посольства жили в Уайфунг Хаузе - большом десятиэтажном доме, принадлежавшем Гонконг-Шанхайскому банку. Только генеральный консул занимал отдельный особняк с большим садом, расположенный довольно далеко от делового центра города. В Уайфунг Хаузе все квартиры были однотипными: четыре больших комнаты - гостиная, столовая и две спальных, а кроме них - комната-склад для вещей, кухня, туалет, ванная, комнаты и туалет для прислуги. Все сотрудники консульства, совсем молодые люди, имели не более одного-двух детей, а иногда и ни одного, но каждая семья занимала отдельную квартиру.
Кроме семейных, в доме жили два холостяка. Одного из них, высокого, стройного молодого человека, я знал, его звали Меета. Он не состоял в религиозной общине сикхов, но и не носил чалмы. Его квартира отличалась тем, что в гостиной вся мебель, диван и четыре кресла, стояла в ряд у одной стены, сдвинутая, чтобы высвободить площадь. Пол был исчерчен мелом кривыми линиями: Меета изучал европейские танцы и каждый вечер скользил со своей учительницей вдоль этих линий. Для разных танцев - танго, вальса, фокстрота - предназначались разные линии, но все они неизбежно перекрещивались, и я не знаю, как он в них разбирался. Пол напоминал бумажную выкройку для дамских платьев из журнала «Работница», на которой столько линий, что удивляешься, как наши дамы ухитряются по этим выкройкам одеваться. Я ни разу не приходил к Меета во время урока танцев, но часто пытался представить себе, что происходит, когда он случайно с линии танго попадает на линию фокстрота.
Всего одна лестница вела на большую плоскую крышу Уайфунг Хауза, где старший инженер Гонконг-Шанхай-ского банка Клементс построил себе дом, который стоял посредине и представлял собой одноэтажное здание, вернее, анфиладу комнат. Гость попадал с лестницы сразу в большую гостиную с баром, направо дверь вела в столовую, затем в гостиную, потом в спальную и дальше в ванную. Налево от гостиной находилась комната для распределения пищи и хранения сухих продуктов - «пан-три», за ней шла кухня, комнаты для прислуги, их туалет, душевая и комната-склад для вещей. Весь фасад этого сооружения был сплошь из стекла. Но главная прелесть - сад на крыше. Что там висячие сады Семирамиды! Клементс все устроил намного лучше. Повсюду были расставлены большие майоликовые кадки с пальмами и олеандрами. В кадках поменьше садовник выращивал всевозможные цветы. Каждую осень Клементс устраивал у себя на крыше выставку хризантем, с роскошью которой не могла сравниться ежегодная выставка в Джессфилд-парке. Для гостей под пальмами стояли плетеные кресла, в правом подлокотнике каждого кресла проделано отверстие, чтобы удобно было ставить стаканы с напитками.
Сам Клементс, бывший морской офицер, был типичным тори. В гостиной у него висел большой портрет Черчилля, на которого он сам очень походил лицом: множество подбородков и пухлые щеки. Мы с ним никогда не говорили о политике: он понимал, что у нас противоположные взгляды, а воспитанные люди в смешанном обществе о политике и религии не говорят. Но вообще я узнал от него много интересного. Как-то раз он позвонил мне по телефону и попросил подняться в купол здания Гонконг-Шанхайского банка (наши кабинеты находились на последнем этаже, рядом с куполом). Когда я пришел, Клементс обратил мое внимание на огромную четырехгранную деревянную балку (эти балки служили перекрытиями для настила полов между этажами) и спросил: «Док, вы можете ее поднять?». Я рассмеялся и ответил, что нет. «А вы попробуйте, док». Я подошел к концу бревна и неожиданно легко поднял его. Бревно ровно ничего не весило. Оно было насквозь проедено белыми мура-вьями-термитами. Клементс расхохотался: «Вы знаете, док, ведь эти проклятые белые муравьи скоро сожрут весь Шанхай. Они жрут дерево и не трогают коры, чтобы нас обмануть. Хорошо, что они жрут дерево, а не людей».
Потом я как-то видел «брачный полет» термитов. Я сидел, как всегда, у себя в кабинете. Направо от моего стола стояла кушетка для осмотра больных, покрытая белой простыней. Совершенно случайно я повернулся к окну и не поверил своим глазам: вся простыня была покрыта сотнями белых крылатых муравьев, которые появились, наверное, из какой-то щели в полу. Я встал. Они моментально все в раз, как по команде, поднялись и вылетели в открытое окно.
Однажды Клементс вызвал меня к себе. У него была температура. Он не почувствовал облегчения от очередной порции джина, и это его обеспокоило. Кроме всего прочего, он страдал запором. Мы с ним долго беседовали на эту тему, и я сказал, что запор - следствие нашей европейской цивилизации. Раньше люди садились в поле на корточки, «орлами», из-за сильного изгиба колен напрягался мышечный пресс живота, и опорожнение было легким.
«Что же, док, - спросил мрачно Клементс, - вы хотите, чтобы я ходил, как кот, на крышу и садился под олеандрами?» - «Нет, зачем, -ответили, - закажите себе скамеечку высотой в один фут. Садясь в туалете, ставьте ноги на скамеечку, и у вас будет естественный изгиб колен и напряжение мышечного пресса».
Через неделю Клементс пришел ко мне на прием. От него приятно пахло джином: успел зарядиться с утра. В руке он держал маленькую скамеечку. «Док, - сказал Клементс, - я велел изготовить две скамеечки. Вот эта - вам на память. Подарок. Чтобы и у вас не было запора».
Но вернемся к несчастному случаю, который произошел с женой сотрудника консульства. Когда я вошел в комнату, где произошла трагедия, почти все служащие уже находились там. Ко мне подошел Чаудри, и я спросил его, почему этот человек так поступил. Чаудри ответил: «Он говорит, что она ему надоела». Объяснение мне показалось вполне логичным. Если жена надоела, самое простое - выбросить ее из окна. Но вид у несчастного был такой, что пришлось дать ему двойную дозу снотворного.
Своим продолжением эта трагедия имела то ли фарс, то ли комедию. Через неделю я получил повестку из китайского суда с предложением в указанный час прибыть с переводчиком для дачи показаний. Индийское посольство обратилось к китайским властям в Пекине с просьбой признать их сотрудника психически больным и разрешить отправить его в Индию. Китайцы ничего лучшего и не желали. У них только что произошла революция и заниматься индусами, швыряющими своих жен в окно, у них просто не было времени. Назначать экспертизу, возбуждать уголовное дело, судить, может быть, казнить... Зачем? Они решили объявить его сумасшедшим на основании моих показаний. Но я не был психиатром, поэтому мои показания могли иметь весьма относительную ценность.
В то время у меня служили две секретарши, одна из них - китаянка. Я сказал ей, чтобы она была готова ехать со мной в качестве переводчика. Секретарша рассмеялась, она сообразила, что это будет первосортная комедия.
В назначенный день и час мы прибыли с ней в суд. В довольно просторном зале суда стояли большой стол для судьи, два поменьше - для секретарей, две трибуны - одна дня меня, другая для переводчика. Мы заняли свои места. Я взглянул на судью. Мне хорошо знаком этот тип китайского европеизированного интеллигента: гладко причесанные волосы, прекрасно сшитый европейский костюм, очки в золотой оправе, белоснежная рубашка и галстук темных тонов, роскошные золотые запонки с темно-зеленым нефритом, большой золотой перстень и золотые часы. Учился он, конечно, в Оксфорде или в Гарварде и говорил по-английски не хуже, если не лучше, меня. Но говорить со мной даже на нейтральном для нас обоих языке он, конечно, не мог: не позволял национальный престиж, и поэтому нужен был переводчик.
Судья задал мне через переводчицу вопрос, кто я. Вопрос меня удивил, потому что я не понял, кого он ожидал увидеть, если сам же прислал мне повестку? Секретарша и бровью не повела. «Доктор, - сказала она, - его честь спрашивает, кто вы». В этот момент секретарь суда схватил кисточку и начал писать иероглифы сверху вниз и справа налево. Вся эта сцена чем-то напомнила мне сцену суда из «Алисы в Стране чудес». Мы оба - и судья, и я - хорошо понимали, что сам факт выбрасывания жены из окна не может быть бесспорным доказательством сумасшествия, скорее, наоборот. Наверное, поэтому именно эту деталь происшествия он отбросил совсем и начал задавать мне вопросы о странностях, которые я замечал в поведении моего пациента. За час я назвал ему столько странностей, по ходу показаний фиксировавшихся в протоколе, что судья признал их количество достаточным, чтобы объявить сумасшедшим, кого угодно, не исключая, видимо, и меня. Он кивнул головой, давая понять, что мы можем идти. Даже «спасибо» не сказал. Мы отвесили ему по глубокому почтительному поклону и вышли.
В 1954 году, незадолго до моего отъезда в Советский Союз, индусы-бизнесмены, хорошо говорившие по-английски, стали покидать Шанхай, потому что с коммерческой точки зрения никаких перспектив там уже не было. И вдруг на самой фешенебельной улице Шанхая, к удивлению всей иностранной колонии, несколько сикхов, объединившись, открыли индийский ресторан «Нью Дели». Я побывал в этом ресторане со своими друзьями. В тот вечер мы были единственными посетителями. Убежден, что бедняги прогорели. На кого они рассчитывали?
Вообще, за время своего знакомства с сикхской общиной, я не встречал сикхов, способных к торговле: по складу своего характера они, скорее, военные. Я жалею сейчас, что подробнее не изучил их обычаи и религию, имея для этого все возможности. Ведь Атма Синг мог порассказать мне многое, если бы я проявил интерес, но, видимо, всего не охватишь, да и время наступало такое, что было не до изучения индусских религий.
Все же некоторые обычаи я узнал и запомнил. Так, религия предписывает сикхам носить меч. Но ходить по современному Шанхаю с мечом просто глупо, однако сикхи нашли выход: стали носить маленькие брошки, изображающие меч. Закон запрещает сикхам пить вино, но каждый раз в канун Нового года ко мне приходила делегация из трех-четырех сикхов. Они приносили мое «любимое» блюдо, курицу с карри, а я им наливал по большому бокалу русской водки, по крайней мере, граммов по двести. Сикхи выпивали водку, не закусывая, отдавали честь и исчезали. Интересно, что они всегда заставали меня дома. Наверное, сказывался опыт работы в полиции. А вот почему они не закусывали? Может быть, тоже из религиозных соображений? Боялись осквернить себя моей едой. Ну а водка? Водка - грех настолько очевидный, что размышлять долго не приходилось: выпьем! А вот пища - совсем другое дело: масло может оказаться не то, а мясо - говяжьим, а корова - священное животное, ее мясо есть нельзя. Тут очень много теологических тонкостей и неясностей. С водкой, конечно, проще.
В Шанхае была небольшая колония парсов-огнепоклонников. Одного женатого огнепоклонника мне пришлось лечить от гонореи, которую он подцепил в публичном доме. У парсов был свой храм, но я в нем никогда не бывал. Может быть, неверным собакам не положено там появляться, поэтому меня и не приглашали. Я знаю только, что в том храме не было священного огня, очевидно потому, что, как говорили, огонь надо везти из Индии и поддерживать его весь путь до Шанхая, а это очень дорого.
Один из огнепоклонников много лет был моим пациентом. Старик с седой бородкой, он всегда ходил в черной феске. Часто я выслушивал его жалобы на то, что дела сейчас идут плохо и его торговый дом, который просуществовал в Шанхае лет восемьдесят, уже почти разорился. «Вот раньше была жизнь, деньги сами шли в руки. Тогда мы торговали опием». Старик не подозревал, что торговать опием нехорошо, и если бы ему сказали об этом, очень бы удивился. «Простите, сэр, - наверное, сказал бы он, - но ведь англичане сами ввозили опиум в Китай. В Тайбее (столица Тайваня) на приколе стоял английский корабль. Верхняя палуба была отведена под британское генеральное консульство, а трюм был набит опием. Почему же нехорошо, сэр? Мы были богатыми людьми. Очень даже хорошо. Да-да, хорошо», - повторял бы он, поворачивая голову из стороны в сторону. Эта манера индусов мне всегда казалась славной. Если вы спрашиваете индуса, сильная ли у него боль, то, отвечая вам утвердительно, он качает головой слева направо. И этот жест, который воспринимается нами как отрицание, в сочетании с утвердительным ответом выглядит трогательно убедительным.
Несколько раз я приходил к старику-парсу домой. Его семья занимала когда-то хороший дом, пришедший в упадок. Внизу была контора с множеством помещений, склады (раньше, наверное, с опием), а наверху - жилые комнаты. В одной из них - с занавешанным окном - сидела в темноте на цепи не то кошка колоссальных размеров, не то черная пантера. Благоразумие у меня всегда брало верх над любопытством, и я старался побыстрее проскочить мимо. Хозяева никогда ее мне специально не показывали и ничего о ней не говорили: может быть, из каких-нибудь религиозных соображений, а может, полагали все это настолько естественным, что им и в голову не приходило, что я могу не знать о существовании этого странного зверя. Наверное, это все-таки была черная пантера, но зачем нужно было держать ее дома на цепи, да еще в отдельной комнате - для меня до сих пор остается тайной.
Когда мои сикхи узнали об окончательной дате моего отъезда в Советский Союз, они решили устроить в честь меня какую-то религиозную церемонию и обед, и это меня обеспокоило. Не религиозная церемония, а сам обед. Я заподозрил, что опять будет курица с карри.
Для церемонии меня пригласили в храм. В Шанхае жили индусы разных верований, но только сикхи были настолько многочисленны, что могли построить себе храм. Да еще парсы-огнепоклонники. Храм сикхов представлял собой двухэтажное здание из серого кирпича. На первом этаже, кроме зала для совершения культовых обрядов, находились служебные помещения и большая столовая с длинным столом, за которым община кормила сикхов, оставшихся без работы. На второй этаж вела широкая лестница, но мы туда не поднимались. На церемонию были приглашены индийский генеральный консул с женой и некоторые сотрудники генконсульства. Они были другой веры, но это не мешало им принимать участие в религиозной церемонии сикхов и есть особую пищу, которую нам раздали после церемонии.
Мы вошли в храм и сняли ботинки. Пол был устлан коврами. У дальней стены находился, очевидно, алтарь -отгороженное веревкой место, где на столах лежали, наверное, священные предметы - я их подробно не разглядел. Консул провел меня по левую сторону алтаря, и мы сели с ним прямо на пол, скрестив колени. Все остальные сели на ковер. Справа от алтаря на полу сидели музыканты оркестра, состоявшего из молодых людей. Они начали играть на неизвестных мне инструментах непривычную мелодию. Я мало разбираюсь в музыке, особенно, в индийской, поэтому комментировать игру оркестра не стану, но, наверное, играли хорошо.
В храме сикхов после церемонии в честь моего отъезда. Весна 1954 г.
Потом на трибуну взошел старый сикх, я думаю, религиозный глава храма, и начал говорить. Все тот же Атма Синг переводил мне все, что говорилось в храме. Сикхи сказали мне много теплых слов, и я до сих пор им за это благодарен. Потом попросили выступить меня. Это был единственный случай в моей жизни, когда речь я произносил босиком. Вернувшись на свое место, я снова уселся на пол около консула. В комнату вошел высокий сикх в белой рубахе навыпуск с большой кастрюлей в руках. В первую очередь он подошел ко мне. Я увидел, что все сложили ладони лодочкой, очевидно, ожидая что-то получить, и сделал так же. Сикх достал из кастрюльки кусок светло-зеленой массы и положил ее мне в протянутые ладони, потом подошел к консулу и так обошел всех. Мы начали молча есть эту штуку. По консистенции она напоминала оконную замазку, по вкусу - тоже. Я героически глотал и с тоской думал: уж лучше бы дали курицу с карри. Потом был обед, и курица с карри, конечно, тоже была.
ЯПОНСКАЯ ОККУПАЦИЯ ШАНХАЯ
Глубокой ночью 7 декабря 1941 года нас с женой разбудили выстрелы артиллерийских орудий. Утром я поднялся и, как всегда, поехал к своим больным в Дженерал Госпитал на велосипеде. Недалеко от переулка, в котором я жил, стояло большое здание, где обитали чины английской полиции, обслуживавшие расположенную рядом муниципальную тюрьму. Вход в здание охранялся группой полицейских в синих формах. Это было необычно. Я остановился и спросил, что случилось. «Война, док, - сказал один из полицейских. - Сегодня ночью японцы внезапно напали на Перл Харбор и уничтожили почти весь американский флот, стоявший в гавани. А тут, на реке, потопили «Петерел», а американский «Уэйк» просто оккупировали. На нем был один повар, он сдался».
На реке Вампу в ту ночь на рейде стояло три военных корабля: громадный японский флагман «Идзумо» (англичане называли его «экзема»), средней величины американский военный корабль «Уэйк» и маленькая английская канонерка «Петерел». Тогда я поверил в рассказ об американском поваре на «Уэйке» и записал его в дневнике, сейчас же сильно сомневаюсь в правдоподобности этой версии. Как мог повар сдать военный корабль противнику? Говорили, что капитан и вся команда пьянствовали на берегу. Очень похвально, конечно, но не оставили же они сторожить военный корабль одного повара.
Японцы напали на Перл Харбор без объявления войны. Почему они не потопили сразу и «Уэйк», и «Петерел»? Почему оставили «Уэйк»? Я думаю, скорее всего, на оба судна были посланы ультиматумы. Известно, что капитан «Петерела» Полкингхорн ультиматум отверг, и канонерку потопили. Но и «Уэйк» должен был получить ультиматум. Нельзя поверить, что радиограмму принял повар, который ответил японцам по радио, что сдается вместе с камбузом и со всеми потрохами. Таких универсальных поваров не бывает даже у американцев. Несомненно, на корабле дежурил кто-то из офицеров и радист, вот этот офицер, наверное, и сдал корабль. Если в ультиматуме говорилось об очень коротком сроке, то, конечно, офицер не мог послать радиограмму в неизвестный кабак, где пьянствовал капитан. Или сам офицер был мертвецки пьян, и тогда корабль сдал радист. Вот еще одна загадка, на этот раз для историков-американистов. Что там произошло в действительности?
С капитаном Полкингхорном все ясно. Его поступок заслуживает всяческого уважения, ведь шансов выстоять против японского крейсера у него не было никаких. Самураи взяли капитана в плен и отправили в Японию работать в угольной шахте. Там он и просидел под землей до конца войны, наслаждаясь японским гостеприимством. Я плохо знаком с международным правом, но мне всегда казалось, что военнопленных нельзя заставлять работать в шахтах.
Так вот, обменявшись в то утро несколькими фразами с полицейскими, я снова сел на велосипед и поехал в больницу. Шанхай изрезан целой сетью вонючих каналов, и на каждом мосту японцы выставили своего солдата морской пехоты в темно-синей форме и мягкой кепке. У входа в каждое здание, где находилась какая-либо «вражеская» фирма, то есть английская, американская, голландская и т.д., также стояли японские часовые.
Теперь стало понятным, почему японцы в своем районе международного сеттльмента за несколько лет до войны построили обширные казармы из железобетона. Казармы были у всех - у англичан, французов и американцев, - но они представляли собой довольно обширные дворы, посередине которых стояли одноэтажные домики для солдат и офицеров. Японцы же размахнулись на несколько кварталов и построили крепость, в которой было скрыто достаточное количество солдат, чтобы за одну ночь оккупировать шестимиллионный Шанхай. Могли ли англичане и американцы каким-либо способом воспрепятствовать этому? Думаю, нет. Японцы все равно захватили бы Шанхай, введя, например, большую эскадру кораблей в Вампу. Достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть, что Шанхай - близкий сосед Японии. Для быстроходных военных кораблей понадобилось бы часов восемь-десять, чтобы дойти до Шанхая. Ближайшая английская военная база - Гонконг, но в ней для большого флота мало места, да и Гонконг намного дальше, чем Япония. У американцев большая база - Перл Харбор, но чтобы оттуда дойти до Шанхая, понадобилось бы пересечь Тихий океан.
Шанхай не военный город, и в этом смысле совершенно беззащитен. Японцы оккупировали его, но военных действий в нем никогда не вели. В этом городе жили «лица вражеской национальности», но не было вражеской армии, поэтому и воевать там японцам было не с кем. Японская армия держала в своих руках город, но его жителей не трогала. Интернированием в концлагеря занималось японское генеральное консульство.
В одном большом здании неподалеку от набережной открылось отделение японской жандармерии для иностранцев, в его холле висел большой плакат, призывавший по-английски «Будьте вежливы и добры». Кроме того, жандармы реквизировали многоэтажный дом около Суджоусского канала и устроили в нем тюрьму для иностранцев (включая русских). Дом назывался «Бридж Хауз» (дом у моста). Это название стало синонимом тюрьмы.
Иностранцы в Шанхае были хорошо информированы о ходе войны. Японцы, конфисковав все фотоаппараты и радиоприемники у «лиц вражеской национальности», ничего не могли поделать с гражданами нейтральных стран. В обществе граждан СССР каждый день слушали передачи из Москвы, так как Советский Союз в то время сохранял нейтралитет. Он объявил войну Японии после окончания войны с Германией. Советские войска вошли в Манчжурию, оккупированную японцами, 9 августа 1945 года.
Поставив под контроль все «вражеские» торговые организации в Шанхае, японцы в каждую назначили своего администратора, после чего компания как-то продолжала существовать. Фирма «М» занимала целое крыло на крыше здания Гонконг-Шанхайского банка, и японцы захватили почти все наши помещения, оставив нам только два кабинета, процедурную и комнату секретарши, куда мы втащили все свое имущество. Я пошел к администратору банка, по-моему, его звали Ямашита, и спросил, что мне теперь делать. Бертон уже сидел в лагере, а наша секретарша миссис Берджес была еще на свободе. Ямашита до этого работал в японском банке «Йокогама Спеши Банк» в Лондоне и прекрасно говорил по-английски. Он принял меня и довольно любезно сказал: «Вы ведь продолжаете работать как врач полиции. Давайте предоставим времени решить все вопросы». Прекрасная философская точка зрения, но неофициальная. Я продолжал работать. А месяца за четыре до конца войны получил вызов в штаб японского флота (в его ведении находилась набережная). Там меня встретил японец, одетый в штатское, и спросил, что я делаю в помещении, являющемся вражеским имуществом. Я ответил, что сижу в ожидании, когда придут представители японских властей и заберут у меня все вражеское имущество. Японец спросил, все ли имущество на месте. Я ответил утвердительно и передал ему списки инструментария и мебели. Японец кивнул головой и сказал, что мне дадут знать, что дальше делать. Надо сказать, что прождал я более трех лет. Больше вызовов не было, и я просидел в этом кабинете до конца войны.
Таким образом, фирма «М» оказалась единственной вражеской фирмой, которая не была взята под контроль японскими властями. Это дало моему шефу существенное преимущество. Как только Бертона выпустили из лагеря, он оказался единственным врагом Японии, который сразу пришел в свой кабинет и начал работать. Все было на месте. Вместе с ним вернулась и наша медсестра мисс Ламб, тоже из лагеря. Другие иностранные фирмы потратили месяцы, чтобы очистить свои помещения, найти письменные столы и стулья, прежде чем смогли возобновить свою деятельность. Через некоторое время - мы встретились с шефом в коридоре - Бертон спросил меня, хочу ли я получить британское подданство. Я поблагодарил его и сказал, что уже подал документы на советское гражданство 3 декабря 1942 года и жду ответа из Москвы. Бертон кивнул головой и пошел в свой кабинет. Больше этого вопроса он не поднимал.
Я получил советский паспорт в 1946 году. Сфотографировался я почему-то в плаще, надетом на пальто. Когда я показал свой новенький паспорт - первый паспорт в моей жизни - Бертону, он посмотрел на мою фотокарточку и проворчал: «Ничего не скажешь, вы выглядите, как проклятый большевик».
Во время оккупации в городе выходила только одна английская газета, по-моему, «Чайна Пресс». Ее редактор, англичанин, перешел на службу к японцам и печатал, как и две русские эмигрантские газеты, прояпонские сообщения, иногда сильно искажавшие действительность. О реальных событиях, лежавших в основе одного из таких сообщений, мне рассказывал знакомый инженер-механик и мой пациент Несвадьба, по национальности - наполовину чех, наполовину русский. Закончив английский политехнический институт как раз к началу войны, он никакой хорошей работы уже, конечно, найти не мог и поступил на маленький частный китайский заводик, который производил всякую мелочь: небольшие сеялки для зерна, ручные мельницы и прочую дребедень.
Как-то к ним на завод приехали японцы и сказали хозяину, что хотят заказать значительное количество (точно не помню какое) станков, но сделать их необходимо быстро. Они показали хорошую фотографию одного такого станка. Хозяин - он не был инженером - вызвал Несвадьбу и спросил, могут ли они сделать эти станки. «Да, - ответил Несвадьба, - но мне нужна точная спецификация, а также чертежи внутреннего механизма». - «Это ни к чему, - успокоили его японские бизнесмены, - внутри можете ничего не делать. Нам нужно, чтобы станки снаружи походили на этот, который на фотографии. А наружные габариты вот тут записаны». Хозяин, он тоже был бизнесмен, сразу все понял и согласился, тем более что японцы выразили готовность заплатить любую цену. Работа закипела, рабочие смеялись, но завод получил такие деньги, что все были довольны. Когда липовые станки сделали, японцы прислали грузовики и увезли их. Через пару недель «Чайна Пресс» сообщила, что на конфискованном японцами китайском пароходе была отправлена в Японию партия очень нужных для военной промышленности станков, сделанных в Шанхае «патриотически-настроенными японскими деловыми кругами». На пароход при выходе из Вампу напала американская подводная лодка и пустила корабль ко дну, но «никакие акты наглого пиратства не остановят победоносного шествия японской императорской армии».
Конечно, «патриотически-настроенные японские деловые круги» за срочное исполнение военного заказа получили большие деньги от своего правительства, которое, возможно, и не подозревало об их мошенничестве. Потрясающе патриотично! Впрочем, когда сегодня читаешь в прессе о бесстыдном жульничестве в японском торговом мире и в правительственных кругах, хотя бы об операции «Локхид», то удивляться не приходится. Но интересно, как они все же взорвали корабль со своими макетами? Может быть, начинили его пластиком замедленного действия, довели до устья реки, высадились в моторные лодки, а корабль пустили в открытое море, где он и взорвался? Но это вопрос уже для морских специалистов.
О другом жульничестве мирового масштаба мне рассказали мои английские пациенты в связи с падением Сингапура. Английские стратеги вооружали Сингапур с моря. С тыла, по-видимому, или ничего не было сделано, или сделано недостаточно, хотя гражданские английские власти провели много хороших дорог через весь Малайский полуостров от границы Таиланда до самого Сингапура. Английские военные чиновники, по рассказам моих пациентов, укрепляя Сингапур с моря, и себя не забыли - понастроили виллы с бассейнами. В общем, поработали. В результате, этот японец-негодяй, именовавший себя Тигром Малайи, беспрепятственно проехал со своими танками по прекрасным английским дорогам и взял Сингапур с тыла. (В Сингапуре японцы проявили непростительную жестокость, перебив даже врачей и раненых в госпиталях).
В Китае японцы посадили своего правителя, марионетку Ван Цзин-вея, сделав его президентом несуществующего государства: сами они контролировали только линии железных дорог, а вглубь страны не продвигались. Нет, они не боялись, трусами их не назовешь. Просто не хватало сил на такую огромную территорию, как Китай, тем более что они уже захватили и пытались контролировать Филиппины, Малайю и Индонезию. Эта мегаломания дорого обошлась Японии, и нельзя сказать, что она этого не заслужила.
Вскоре в Шанхае ввели карточную систему на сахар, но выдали его всего два раза - какой-то коричневый порошок, перемешанный с соломой.
Ночами китайцы убивали японских часовых, охраняющих мосты. Японские офицеры сначала показывали свою храбрость и презрение к смерти, разъезжая ночью в конфискованных у иностранцев машинах с включенным в салоне светом. Но когда китайцы перебили достаточное, с японской точки зрения, количество часовых и офицеров, японцы приняли меры безопасности: вокруг каждой будки с трех сторон поставили большие стальные щиты высотой с будку, а офицеры - куда девалось презрение к смерти? - стали выключать внутри своих машин свет.
Весь город был разделен на участки величиной в несколько кварталов. В каждом из них оккупационные власти назначили администраторов-китайцев, которых предупредили о суровой ответственности за любой террористический акт, совершенный на их участке. Но все эти меры не приносили, очевидно, ожидаемого эффекта. Мы были свидетелями все новых акций сопротивления. В нашем квартале однажды ночью убили японского унтер-офицера. Видимо, в поисках преступника к нам в комнату среди ночи ворвался японский солдат, державший наперевес винтовку с привинченным штыком. Мы с женой выскочили из постели, он увидел, что мы не китайцы, очевидно, выругался и выбежал. Ему ничего не стоило бы заколоть нас, а потом доложить, что мы угрожали ему оружием, - к счастью, все кончилось благополучно.
За время оккупации японцы построили в Шанхае пять концлагерей: четыре для гражданских лиц - Ю-Юень, Лунгхуа, Коломбия Кантри Клуб и Путунг, а пятый - для военнопленных. Он был расположен в китайской части Шанхая, поэтому мы никогда не видели людей, которые в нем содержались, и ничего о них не знали. О первых же четырех, так или иначе, нам что-то было известно.
Коломбия Кантри Клуб - это комплекс зданий с прекрасным бассейном и садом, принадлежавший американской колонии Шанхая. Здания были роскошными, я побывал там уже после войны, и, очевидно, концлагерь, размещенный в них, был одним из самых комфортабельных, если вообще можно сказать так о концлагере. В нем держали, главным образом, американцев.
Больных присылали в нашу больницу из всех четырех лагерей, но я хорошо знал только лагерь Лунгхуа - и потому, что посетил его сразу по окончании войны, и потому, что в этом лагере содержали в основном англичан, там сидел и мой шеф, доктор Бертон.
История лагеря Лунгхуа началась после того, как японцы, посадив в начале войны всех малоимущих еврейских беженцев из гитлеровской Европы в гетто (богатые откупились), начали готовиться к интернированию всех граждан вражеских государств: англичан, американцев, бельгийцев, голландцев, а в конце войны и итальянцев. Иностранцев они сажали поэтапно, по неясному для нас плану. Война на Тихом океане началась 8 (7) декабря 1941 года, моего шефа посадили лишь 25 марта 1943 года, а нашу секретаршу-канадку - в апреле 1943 года, а в октябре уже репатриировали в Канаду. Концлагеря создавались так: японцы забирали комплекс зданий на окраине, а иногда и в центре города и окружали его колючей проволокой. Лагерь Лунгхуа находился за городом. Кстати, лагеря назывались не лагерями, а «центрами гражданского сбора» и находились не в ведении военной администрации, а в ведении генерального консульства.
Лицам, подлежащим интернированию, японцы выдавали инструкцию для подготовки. Передо мной лежит такой лист, в котором перечисляется, что можно взять с собой и что надлежит оставить в японском генеральном консульстве. Взять можно было походную кровать (раскладушку), одеяла, простыни, сетку от москитов, по два костюма для весны, лета, осени и зимы, три пары ботинок, пять пар туфель, четыре-пять тарелок на человека, чашки, ложки, термос, ножи и вилки, салфетки и скатерть, спортинвентарь и вещи для развлечения (?), книги, консервы. Все это упаковывалось в тюки, не более четырех тюков на человека. Остальное имущество интернированный должен был оставить в квартире, квартиру замкнуть, а ключи передать японским властям.
Драгоценности можно было сложить в открытый ящик и передать на хранение в нейтральное консульство, которое защищало интересы данной вражеской страны (в Шанхае - швейцарское консульство). Иногда интернированные оставляли ценности (обычно, бруски золота граммов по пятьдесят) знакомым из нейтральных стран, а те покупали им дополнительные пайки и сигареты и посылали через швейцарский Красный Крест. У Бертона, например, был приятель, капитан шведского судна, застрявшего в Шанхае, который хранил для него золотые бруски.
Чтобы не запутать читателя, следует повторить, что русские, сидевшие в концлагерях, не были ни советскими гражданами или лицами, подавшими на советское гражданство, ни русскими эмигрантами. Туда, как правило, попадали русские женщины, бывшие замужем за англичанами, американцами, бельгийцами, голландцами. У них были паспорта, делавшие их лицами, подлежавшими интернированию, причем если у них были английские, бельгийские или голландские паспорта, они были подданными соответствующих королевств (Англия, Бельгия и Голландия - королевства), а если американские или французские - гражданками этих стран (США и Франция - республики). «Русские женщины - гражданки США» были вражескими лицами и сидели в концлагерях, а «русские женщины - французские гражданки» не сидели, так как Япония не воевала с Францией Петэна, а все французы в Шанхае, чтобы не сидеть в концлагере, немедленно стали петэновцами.
Я хорошо представлял себе жизнь в лагерях, так как из них к нам все время поступали пациенты. Стариков английские врачи, находившиеся в концлагере, присылали с диагнозами, из которых было ясно, что меня просят держать их в больнице как можно дольше. У меня в отдельной палате всю войну просидел католический епископ Ноэль Губбельс, бельгиец, на которого раз в месяц я направлял в японскую жандармерию справку о том, что он страдает старческим слабоумием. У меня сложилось впечатление, что японские жандармы вообще не читали моих ежемесячных отчетов. Они больше полагались на лагерных врачей, которые сами из больницы забирали больных. Молодые англичане с подтвержденным диагнозом язвенной болезни двенадцатиперстной кишки всю войну провели также в больнице. Если привозили больного с острым аппендицитом, я вызывал хирурга. Больного оперировали, я сообщал об этом в лагерь и после этого ничего не делал, пока его недели через четыре не забирали.
Поразительно, что, несмотря на плохое питание, в лагерях ни разу не было никакой эпидемии. Впрочем, причина того, что не было ни бациллярной, ни амебной дизентерии, понятна: из овощей интернированные получали только картошку и капусту, а их сырыми есть не будешь. А то, что не было холеры, неудивительно, так как группу лиц, находящуюся в ограниченном пространстве, легко контролировать. К тому же в Шанхае всегда была хорошо поставлена вакцинация против холеры. Зато в туберкулезное отделение поступало много больных, оно всегда было переполнено, и от туберкулеза, к сожалению, чаще всего умирали. Лечить его нам было тогда нечем: изониазид (тубазид) появился в Шанхае лишь года через два после окончания войны, а искусственный пневмоторакс мало что давал.
Большой проблемой в лагерях были аборты, особенно для тех девиц и женщин, которым беременеть не полагалось. Один молодой английский врач рассказал мне, что у него забеременела его подруга. Об открытом аборте не могло быть и речи, и он делал его в лагерной амбулатории ночью. Стол со всех сторон пришлось занавесить простынями и одеялами так, чтобы нигде не проникал свет, и под ним при свете карманного электрического фонарика он сделал ей аборт. Но не всегда все кончалось хорошо. Однажды ко мне в отделение в тяжелом состоянии привезли молодую англичанку, которой врач, делая в лагере по тем же самым причинам аборт, проткнул дно матки. Девушка умерла в больнице от перитонита.
Из лагерей больных доставляли на машинах скорой помощи. Не знаю, имелась ли такая машина в каждом концлагере, или одна на все лагеря. Вероятнее последнее, потому что бензина в Шанхае не было совсем, машины переделывали для работы на древесном угле, которого тоже было в обрез. Управлял машиной кто-нибудь из интернированных. Для водителя машины такая поездка была сплошным удовольствием на несколько часов. Если больного привозили в девять часов утра, то водитель оставался в больнице часов до пяти. Японцы не сопровождали эти машины. Больницы тоже никем не охранялись. У Дженерал Госпитал не было не только сторожа у ворот, но и самих ворот. Считалось, что бежать европейцу из оккупированного Шанхая некуда: его сразу узнают в китайской толпе. Да и установлением какого-то особого порядка и контроля за его соблюдением заниматься было некому. В больнице числился японский главный врач, но его никто никогда не видел, он появлялся только в день зарплаты.
В больнице можно было встретиться со своими «нейтральными» друзьями (шведами, русскими, норвежцами), которые приходили якобы проведать неинтернированных больных. Так как интернированные лежали в общих палатах, то проверить, кто к кому пришел, было просто невозможно, да администрация и не пыталась этого делать. «Нейтральные» друзья всегда приходили с какой-нибудь едой и с русской водкой, которую больные держали в термосах. Естественно, больница была местом, куда интернированные стремились попасть любым способом, проявляя чудеса сообразительности.
В лагере Лунгхуа находился некий биржевой маклер, британский подданный родом из Багдада (персонаж прямо из сказки Шехерезады). У него была подруга, удивительно красивая китаянка. Молодой человек хотел с ней регулярно встречаться и придумал для этого очень простую, но гениальную вещь. Раз в месяц на санитарной машине его привозили в больницу по поводу гонорейного сужения уретры, которого у него, конечно, не было. Формально он приезжал ко мне, но я почти никогда его не видел. Привозили его рано утром, а увозили поздно вечером. Два санитара проносили его на носилках прямо в венерическое отделение якобы для бужирования. Там всегда были пустые палаты, эту часть больницы сестры-монашки никогда не посещали: в ней грех и соблазн. В венерическом отделении работали только китайские фельдшера, и оно было удобным местом для амурных свиданий. Кстати, обычно на бужирование больные приходят своими ногами. Зачем же нашему герою нужны были носилки? Я думаю, чтобы дать возможность еще двум интернированным выпить в больнице водки. А может быть, в душе маклер был актером.
Побывать в лагере Лунгхуа мне удалось практически на второй день после окончания войны, и я собственными глазами увидел, как жили интернированные иностранцы. Лагерь представлял собой ровную площадь, огороженную колючей проволокой. В центре находилось два двух- или трехэтажных здания, в них жили семьи с маленькими детьми. Рядом стояли бараки, помещения в которых были разгорожены тряпками на так называемые комнаты; в каждой комнате имелось маленькое окно. Одну из таких комнат и занимали мой шеф с женой. Кормили японцы интернированных плохо, но те имели право получать посылки через Красный Крест. На некоторых обитателей лагеря жизнь здесь действовала разлагающе. Так, у одного моего пациента украли новые ботинки. А группа поваров, состоявшая из управляющих крупными банками и фирмами, была поймана на воровстве администрацией лагеря - своей, не японской (японцы так об этом и не узнали). Эти господа через колючую проволоку обменивали у соседних китайских крестьян часть мяса, предназначавшегося лагерникам для супа, на русскую водку «Сноп». Все это я слышал от самих англичан. Японцы, по-видимому, мало вмешивались в жизнь лагеря: всей лагерной жизнью управлял выборный комитет. Интернированные работали на кухне и на уборке территории. Настроение у большинства из них было хорошее. Они верили в победу, чего нельзя было сказать о японцах, но об этом ниже.
Молодые англичане иногда бежали из лагерей. С одним таким я разговаривал. Он пробрался из Шанхая в Чункин, в котором находились тогда гоминдановское правительство и британское посольство. По прямой линии на карте это свыше семисот километров, но опасно продвигаться было только первые пятьдесят миль. Дальше японцы идти не рисковали: там территорию контролировали китайские партизаны. Днем англичанин прятался в канавах, а ночью его провожали партизаны, передавая с рук на руки, кормили лепешками и зеленью - тем, что ели сами. После войны этот молодой человек вернулся в Шанхай.
Но побеги из лагерей случались редко. Интернированные, не зная, как будут реагировать японцы, боялись, что бежавшие могут поставить под удар оставшихся. Однако в Шанхае японцы жестоко обращались только с китайцами и евреями в гетто, а с иностранцами вели себя довольно прилично. В этом отношении Шанхаю повезло по сравнению с Гонконгом, Сингапуром или Индонезией, да и с Филиппинами - там долго не могли говорить о японцах спокойно, поскольку те проявили крайнюю жестокость и к европейцам, и к коренному населению. До сих пор непонятно, почему к Шанхаю была проявлена такая лояльность: то ли потому, что Шанхай был крупным международным городом и все, что в нем творилось, от множества тайных радиостанций в тот же день становилось известным в Европе и Америке, то ли нашлись еще какие-то причины. Возможно, японские капиталисты, жившие до войны в Шанхае на протяжении многих лет, не были враждебно настроены к иностранцам, с которыми их связывали деловые отношения, и надеялись продолжать здесь свои дела и после войны. Кроме того, набережная, на которой находилось здание Гонконг-Шанхайского банка и наши кабинеты, попала в руки флота (весь Шанхай был поделен между армией, жандармерией и флотом), что тоже было хорошо, так как флот вел себя намного приличнее, чем армия и жандармерия.
Конец войны в Шанхае означал немедленное освобождение заключенных из всех концлагерей. Японцы по приказу императора Хирохито немедленно сложили оружие и исчезли. В это время я и поехал со своим другом детства Б.И. Степановым в лагерь Лунгхуа. У ворот стоял стол, а за ним сидела комиссия по приему гостей, все в одних трусах, так как было жарко, да и рубах чистых не было. Будучи в отличном настроении, они пропускали на территорию всех без разбора.
Бертона я нашел в его бараке. Он сидел без рубашки, курил какую-то сигарету и ругался: «Проклятая капуста, а не табак». Кожа его была покрыта тропической сыпью, так как с купаньем в лагере было плохо.
Одна из моих русских пациенток, жена англичанина, рассказала мне о торжественном подъеме флагов всех союзных наций в честь победы. В лагере уже были иностранцы, мыслившие в духе «холодной войны», и они запротестовали против подъема советского флага. Однако взяла верх более разумная группа. Спешно были вызваны русские жены англичан, и им поручили сшить советский флаг. Они его сшили, но возникло новое затруднение: у самодеятельного оркестра не было нот советского гимна. Англичане пошли на компромисс и подняли советский флаг под звуки «Боже, царя храни». Бертон мне ничего об этом инциденте не рассказывал. Очевидно, ему было неловко. Но все это было уже по окончании войны. Мы же вернемся вновь к событиям военного времени.
Выехав из гетто, я поселился в пустом доме иезуитов Чанзинг род. Иезуиты сдали мне три комнаты, расположенные в разных концах длиннющего коридора. Перед окном, выходившим на тихую улицу, находилось футбольное поле католической средней школы Франсуа Ксавье и длинный навес для игр в дождливую погоду, покрытый большими листами кровельного железа. Здесь каждый день соседи-японцы занимались «фехтованием» бамбуковыми палками, и в шесть часов утра нас будили их крики.
Японцы заставили всех жителей Шанхая выращивать у себя в садах и на пустых участках касторку: касторовое масло, как нам говорили, вполне заменяет в самолетах какое-то другое масло. Заросли касторки удивительно красивы. Участок покрывается этими гигантскими, в два раза выше человеческого роста, растениями с большими листьями очень быстро. Если они густо посажены, то получается непроницаемая живая изгородь. Однако о том, что бы японцы убирали урожай касторки, я что-то не слышал, и, наверное, ни один японский самолет с шанхайской касторкой не взлетел.
На Шанхай периодически налетали американские самолеты Б-29 и бомбили стратегически важные пункты. Делалось это довольно точно, и жертв среди населения от этих бомбежек не было. Однажды американцы предприняли так называемую «ковровую бомбежку» в центре того района, где жили мы. С какой-то определенной целью они разбомбили здание английской табачной компании, а также разрушили еврейскую школу, расположенную рядом. Но в школе жертв не было: был то ли праздник, то ли летние каникулы. Не помню.
В основном же, американские самолеты бомбили заводы на окраине города. Это не сравнимо с тем, что сделал китайский летчик в начале японо-китайской войны (она началась 13 августа 1937 года), и до сих пор неизвестна причина того страшного поступка. Это случилось в середине ясного солнечного дня. Большая площадь рядом с ипподромом, расположенным в центре города, была заполнена людьми. Китайский бомбардировщик пролетал над ипподромом. Возможно, аэроплан был подбит, и летчик хотел избавиться от бомб, но он сбросил их прямо в эту толпу. В результате - около шестисот убитых и более тысячи раненых. Машины скорой помощи развозили раненых по всем больницам Шанхая. Мест не хватало. В университетскую клинику привозили раненых и клали на голый пол, а мы, студенты, ходили между ними, лили на раны йод и перевязывали. В один день мы израсходовали весь перевязочный материал большой университетской больницы. Шанхай совсем не был готов к войне.
Со временем американцы чаще стали делать налеты на район, где жили мы. Там располагалось несколько фабрик, очевидно, представлявших собой военные объекты. Я начал искать квартиру на территории французской концессии. Мне помогла настоятельница францисканских монашек, работавших медсестрами в Дженерал. Сделать это не представляло особого труда, поскольку я был их врачом. Жену с двумя детьми она поселила в небольшой двухкомнатный домик на крыше колледжа Святого Сердца - женский католический монастырь со средней школой для девочек. Я же переехал в колледж св. Михаила, который находился рядом. В мирное время в колледже размещалось общежитие для русских студентов университета «Аврора». Теперь здесь жил только отец Чаймберс, ирландец по национальности, высокий красавец-блондин. Здание пустовало, но японцы им долго не интересовались: с Ирландией Япония не воевала. Я снял комнату, и сюда же, по моей рекомендации, переехали В.М. Шнеер-сон и Ю. Сдобников. Оба они сейчас в Советском Союзе. Прожили мы в этом монашеском общежитии месяца два.
Как-то ночью мы проснулись от равномерного топота ног: мимо дома проходили японские солдаты. Они направлялись в сторону европейской части международного сеттльмента. Солдат было так много, что их колонны мы могли наблюдать почти до утра. На следующий день на территории французской концессии началось выселение жителей нижних этажей высотных зданий. Доктор Лем-перт был среди этих жертв. Поскольку никакого жилья взамен не предоставляли, он поместил свою жену в еврейскую больницу, заплатив большие деньги за палату первого класса (то есть рассчитанную на одного человека), а сам переехал в свою лабораторию, где и жил один, рядом с бараном, поставлявшим кровь для реакции Вассермана.
Освободив нижние этажи высотного здания, японцы забили их артиллерийскими снарядами, а на верхних, над этими складами, оставили жить иностранцев. Японцы считали, что об этом станет известно американцам и те не станут бомбить здания, в которых живут европейцы, потому что количество жертв тогда было бы ужасным. От американских бомб тогда взлетели бы на воздух не только сами эти высотные дома, но и все вокруг. Впрочем, думаю, японцы ошибались: сбросили ведь американцы бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Не дрогнули.
Вскоре японцы забрали здание колледжа, выселив и отца Чаймберса, и нас. Тогда монашки пустили меня в домик на крыше к моей семье. Я был единственным мужчиной, жившим в женском монастыре. Вообще мужчины в монастыре появлялись: садовник, слесарь, электрик и другие. Они здесь работали, но жили в отдельном домике в глубине парка. В нарушение монастырского устава меня пустили в сам монастырь. Правда, тут уже было не до устава. Половину помещений к тому времени забрали японские солдаты. Одна из моих комнат большим стеклянным окном выходила на оккупированную японцами часть здания. Монашки велели заделать стекло фанерой, но эта фанера не давала мне спать. Ночью японцы, очевидно, кутили, и через фанеру слышался смех, песни, женский визг.
В монастырь Святого Сердца переместили и другие женские католические ордена и конгрегации «вражеской национальности». В общем, очень большое здание было забито женщинами. Орден Святого Сердца считался самым интеллектуальным из всех женских орденов. Одна монашка, мать Фицджералд, говорила мне: «Мы равны ордену иезуитов». Я это рассказал одному из моих профессоров, французскому иезуиту. Он презрительно усмехнулся (возможно, в уме даже плюнул) и ответил: «Как бы не так. Эти дуры могут воображать и болтать все, что им угодно. Они знают, что все равно с ними ничего поделать нельзя». Но о католических монахах и монашках я пишу в отдельной главе моей книги. Очень интересный народ.
Американцы оправились от первоначального шока и начали теснить японцев. Великая японская империя затрещала по швам.
Девятого сентября 1943 года, приехав в Дженерал Гос-питал, я заметил, что на велосипеде медсестры из Италии мисс Миллер нет итальянского флажка. Мой пациент, полицейский английской полиции Майер (немец, наверное, член нацистской партии), встретив меня, сообщил, что Италия вышла из войны и итальянцы потопили в Вампу два своих судна: гигантский океанский лайнер «Конте Верде» и одну из военных канонерок - или «Лепанто», или «Эрмано Карлотто». Именно эти две канонерки по очереди несли службу в китайских водах. Очевидно, их офицерский состав специализировался по дальневосточным кабакам, и итальянское адмиралтейство считало целесообразным посылать на Дальний Восток только их.
Ночью пришла радиограмма на эти корабли из Рима с приказом открыть кингстоны и затопить корабли. Итальянцы это выполнили. Канонерка, конечно, сразу ушла под воду, а гигант-лайнер повалился на бок и высоко выдавался над водой. Из окна моего кабинета черный борт «Конте Верде», по которому ходили итальянские моряки, выглядел, как чудо-юдо рыба-кит. Потом на моторных лодках пришли японцы, арестовали всех итальянцев, и по борту корабля зашагал японский часовой.
Моряки с итальянской канонерки, стоявшей у набережной французской концессии, пытались подняться на берег, но японские солдаты и французские полицейские спихивали их назад в воду. Удивительно странная тактическая «акция». Формально итальянцы стали врагами Японии. Ну и прекрасно. Следовательно, их надо брать в плен, а не спихивать в воду. Правда, поиздевавшись, японцы все же забрали их в плен.
О дальнейшей судьбе итальянской канонерки я ничего не знаю: наверное, ее подняли. А вот с «Конте Верде» японцам пришлось повозиться. Сначала они долго ничего не делали. Подъем судна начался, пожалуй, через год. Вокруг какого-то здания на набережной обвили толстую стальную цепь, прикрепили ее концы к кораблю, а потом, используя машины, стали наматывать эту цепь, придавая «Конте Верде» вертикальное положение. После подъема его очень долго сушили и чистили, привели в порядок, подняли японский флаг и отправили в Японию. При выходе из Вампу корабль потопила американская подводная лодка, на сей раз настоящая.
Все граждане вражеских стран должны были носить красные повязки с большими буквами: «Б» - британец, «А» - американец и т.д. Итальянцам надо было спешно сшить нарукавные повязки с буквой «И». В итальянском клубе большая сцена закрывалась занавесом из красного бархата. Японцы велели сшить повязки из этого занавеса, и итальянцы щеголяли с красивыми бархатными повязками. Вряд ли они были от этого счастливы.
Наконец сопротивление японской армии было сломлено. Президент США Трумэн приказал сбросить на два беззащитных японских города - Хиросиму и Нагасаки - по атомной бомбе. Это было б августа 1945 года. Формально война еще не окончилась, когда на здании Британско-американской табачной компании, напротив Дженерал Гос-питал, взвился английский флаг. Его поднял китаец-сторож, которому приказали сделать это в день окончания войны. Это была роковая ошибка: тут же пришли японские жандармы, флаг сорвали, а китайца увели. Никто о нем больше ничего не слышал: расстреляли, наверное.
В Дженерал Госпитал, где у меня лежало человек сто интернированных врагов Японии, царило сплошное веселье. Иностранцы пустили в ход запасы водки, которую, как я уже писал, держали в термосах. Кстати, этот очень хороший метод можно рекомендовать всем. Даже в тропическую шанхайскую жару, когда температура доходила до сорока двух градусов Цельсия, водка оставалась ледяной. После очередной ночной попойки - дежурные монашки делали вид, что они ничего не замечают, - доктор Андреев, заместитель директора больницы, мой друг и однокурсник, повторил ошибку китайца-сторожа: поднялся на крышу больницы и также поднял английский флаг. К крыше вела одна лестница, видимо, кто-то видел, как Андреев лез по ней с флагом, и донес на него.
Утром, подъезжая на велосипеде к госпиталю, я увидел, как вооруженные японские жандармы выводят на улицу бледного Андреева. Ничего не понимая, я спросил у дежурного русского телефониста, что произошло. Тот ничего не знал. Вскоре прибежал китаец-бой и сообщил, что Андреева расстреляли у стены Бридж Хауза (тюрьма японской жандармерии, находившаяся как раз за углом госпиталя). Андреев был женат на моей двоюродной сестре, и я не знал, что мне делать, как сказать Кате, что его только что расстреляли. Пока я раздумывал, сидя в приемной, явился сам «расстрелянный». Оказывается, японские жандармы стукнули его по голове и сказали, чтобы он убирался ко всем чертям. Японцы тоже уже понимали, что их власть кончилась. В полной боевой готовности у них оставалась только Квантунская армия в Манчжурии, которую они готовили в подарок нам. О том, как эта армия была разгромлена советскими войсками за двенадцать дней, можно прочитать в книге воспоминаний маршала Советского Союза П.А. Мерецкова.
В тот день, когда Советский Союз объявил войну Японии, во двор Общества граждан СССР въехал японский военный грузовик. Навстречу ему вышел секретарь общества Виктор Рублев, прекрасно говоривший по-китайски и по-японски. Из машины выскочил японский лейтенант и сказал, что генерал такой-то любезно прислал перевязочные материалы и медикаменты для советских граждан, так как японцы Шанхая никогда не сдадут. Шанхай будет вторым Сталинградом. Рублев, проживший всю жизнь в Китае и привыкший к китайским церемониям и японской вежливости, всегда говорил спокойным, мягким голосом. Он вежливо спросил, знает ли уважаемый господин лейтенант, что СССР объявил войну Японии и наши войска уже в Манчжурии. Лейтенант обалдело посмотрел на Рублева, вскочил в грузовик и быстро уехал вместе с подарками.
Некоторые хозяйственники говорили, что Рублев поступил неправильно. Надо было весь перевязочный материал принять, а о войне лейтенант мог бы узнать и у себя в казарме. Впрочем, у хозяйственников другой точки зрения не могло и быть. Но, скорее всего, все кончилось бы тем, что вслед за лейтенантом приехали бы японские солдаты, чтобы расстрелять Рублева, забрать свои вещи и разрушить советский клуб.
Идея «второго Сталинграда» за время войны распространялась в Шанхае дважды: один раз японцами - «японский Сталинград», а позже, в 1949 году, гоминьдановцами, то есть чанкайшистами, - «гоминьдановский Сталинград».
Японцы, готовясь ко «второму Сталинграду», прямо на тротуарах городских магистралей, рядом с заборами рыли окопы глубиной метра в полтора. Многочисленное китайское население использовало их в качестве общественных туалетов. А так как в Шанхае часто идут дожди, то читатель легко может себе представить, какой вонючей жижей довольно быстро наполнились эти окопы.
Жертвой этого японского «второго Сталинграда» стал всего один человек: мой друг, доктор Ганс Данцигер. Сейчас ему семьдесят лет, он живет с семьей в Канаде и, наверное, с ужасом вспоминает ту кошмарную ночь.
Данцигер, блестящий врач, был тогда молодым человеком, лет тридцати пяти, но совершенно лысым. Он уверял меня, что в студенческие годы имел чудные кудри и его везде принимали за Шуберта. В компаниях он был очень общительным и веселым, его любили все. Однажды Данцигера пригласили на русскую свадьбу - выходила замуж какая-то русская медсестра из «Кантри Гос-питал». Он отправился в гости в сопровождении польской акушерки и русской медсестры из той же больницы. На свадьбе много ели, много пели, а главное - много пили, а пить в те годы Данцигер умел. Часа в два ночи вместе со своими спутницами он отправился домой по главной улице французской концессии. Из-за военного времени в городе было полное затемнение, и они, маневрируя между окопами, для равновесия держались за заборы. Случилось неизбежное: сначала в окоп упала польская акушерка, на нее - Данцигер, а сверху - русская медсестра. Приняв зловонную ванну, все трое быстро выбрались на тротуар, но Данцигер в этой жиже потерял свои очки. Они были в золотой оправе, но не золото было причиной его дальнейших действий. Сильно близорукий, он вообще ничего не видел без очков. Как человек мужественный Данцигер храбро бросился в пучину, долго барахтался там на четвереньках, но очки нашел. Когда он выбрался из канавы, все трое отправились домой к польской акушерке. Дамы сразу же удалились в ванную комнату, помылись, надели чистые халаты и вышли свежие, как розы. Но что было делать с Данцингером? Его новый белый летний костюм стал какого-то зеленовато-желтого цвета. Сначала дамы оттирали его мокрыми полотенцами с мылом - ничего не получилось. Переодеться в зеленое дамское платье Данцигер наотрез отказался. Тогда польская акушерка взяла флакон с духами и вылила его на пострадавшего. Тоже умница! Если бы она знала, какую медвежью услугу оказывает ему! Домой Данцигер шел пешком: никакого транспорта ночью в то время не было. Жил он в другой части Шанхая и явился домой на рассвете, в костюме странного цвета, с запахом чужих женских духов и еще чего-то подозрительного... После этого эпизода жена не разговаривала с ним целый месяц.
Объявление об окончании войны застало меня на главной улице французской концессии авеню Жоффр, по которой я проезжал на своем велосипеде. Улицу заполнила разношерстная толпа - японцы, китайцы, европейцы. Полиция перекрыла в городе движение, и я слез с велосипеда... Из динамиков, установленных на всех перекрестках, гремел голос, говоривший по-японски. После речи заиграл японский гимн, все японцы повалились на колени и прижались лицами к тротуару. Затем кто-то снова заговорил. Это был Хирохито, приказавший всем своим соотечественникам, где бы они ни находились, прекратить сопротивление. Так я узнал о конце войны.
В дневнике у меня есть запись от 12 августа 1945 года: «—10-го августа ночью шанхайцы узнали о капитуляции Японии. Русская колония буквально сошла с ума. Не обошлось, конечно, и без хулиганства. Группа энтузиастов раздела догола японского жандарма».
На другой день, стоя на крыше монастыря, я вдруг увидел низко летящий американский Б-29. Никогда до сих пор мы не видели таких гигантских самолетов, и он казался чем-то сказочным. Это был первый американский десант, прибывший разоружать японцев.
Японцы быстро покидали Шанхай: перевозили артиллерийские снаряды из высотных домов, выводили войска. Я видел, как через всю территорию французской концессии шла какая-то японская воинская часть. Солдат было много, все без оружия, офицеры без мечей. Мне запомнилось лицо молодого офицера с черной бородой. Он шел, глядя прямо перед собой, и на лице его было написано страдание.
Японцы сдавались молча, без единого инцидента. Мне пришлось выехать из женского монастыря, и я временно вернулся в монашеский дом на Нанзингроуд. Моя спальная большой раздвигающейся дверью отделялась от аудитории, которая пустовала всю войну, а теперь неожиданно оказалась переполненной. Я невольно слышал все, что там происходило. В аудитории собрались японские католики, и к ним обращался американский священник. Он говорил об опасности коммунизма и о том, что с Советским Союзом придется бороться и, конечно, мощные США победят, так как бог именно на их стороне.
На улицах Шанхая появились американские солдаты и гоминдановские части, а также американская военная полиция в белых касках. Один такой блюститель порядка зашел в иностранный магазин на авеню Жоффр и, наведя дуло револьвера на кассиршу, ограбил кассу. Война окончилась. Снова начиналась эра западной цивилизации.
ШАНХАЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ
Во время войны в конце ноября 1943 года в Каире имела место встреча представителей трех держав: Китая (Чан Кайши), США (Рузвельт) и Великобритании (Черчилль). СССР не принимал участие в Каирской конференции, но был поставлен в известность обо всем, что там происходило. На конференции рассматривались вопросы о возвращении Китаю территорий, захваченных японцами (например, острова Тайвань), а также об упразднении права экстерриториальности для иностранцев и о ликвидации концессий в Китае. Собственно говоря, именно на этой конференции и решился вопрос о будущем международного сеттльмента и французской концессии в Шанхае. Мне неизвестно, знали ли об этом иностранцы, сидевшие в шанхайских лагерях, я что-то не помню разговоров на эту тему с моими пациентами, и в дневнике у меня по этому поводу нет никаких записей. Наверное, не знали. Но судьба иностранного Шанхая была решена.
Дела в Шанхае пошли не так хорошо, как это предсказывали оптимисты. Международный сеттльмент и французская концессия больше не существовали. Для сеттльмента это означало закрытие секретариата отдела здравоохранения, а также многих других отделов, о которых я даже не знал ничего (бухгалтерия, архив, отдел коммунального хозяйства), полиции, тюремной полиции, речной полиции, пожарной команды, русского полка. В общем, «правительство» с армией и всеми своими службами оказалось за бортом. То же самое произошло и в других городах, где были иностранные концессии (Тяньцзинь, Ханькоу): в большинстве случаев иностранцы остались без работы, и в первую очередь пострадали служащие администраций иностранных концессий. Безработица коснулась и большинства русских шанхайцев, в частности, служащих муниципалитета и полиции, остался без работы и русский полк. Китайцы не могли предоставить работу русским, да и не хотели этого делать, потому что те не знали китайского языка. Кроме того, и заработная плата, которую могли предложить китайцы, не могла устроить русского человека, потому что была невозможно низкой.
Безработица. Это и есть ответ на вопрос, почему все стали разбегаться из Шанхая, если там так хорошо жилось. У меня нет точных данных, но, наверное, это означало для русских потерю более пяти тысяч рабочих мест, для англичан - около десяти тысяч. Более сорока тысяч иностранцев оказались безработными.
Конечно, правительства разных стран, как умели, заботились о своих гражданах, находившихся в Китае: началась репатриация. Англичан посылали в Англию или в какие-либо английские колонии. Я знаю, что много английских полицейских уехали служить в полицию в британскую зону Западного Берлина. Подобным же образом поступали Франция, Бельгия, Голландия.
Что касается русских, то после войны в Шанхае возникла антисоветская организация «ПРО» (Международная организация помощи беженцам), уговаривавшая и помогавшая русским уезжать куда угодно, только не в Советский Союз. Ее услугами и решили воспользоваться многие русские эмигранты. Деятельность этой организации заключалась в том, что всех отъезжающих сначала отправляли на Филиппины, на остров Самар, где находился специально созданный лагерь, в котором они ожидали визы для въезда в США, Австралию и Канаду. Именно тогда на этот несчастный остров обрушился тайфун. Пережившие его рассказывали, что это было нечто страшное. Человеческих жертв, кажется, не было, но все, что ветер мог снести, а снести он мог все, кроме гор, он снес, и лагерь пришлось восстанавливать заново.
Процесс массового отъезда иностранцев из Шанхая не затронул лишь торговые фирмы, которые собирались продолжать в Китае свою деятельность, что гоминдановский Китай всячески приветствовал. Иностранцам вернули их фабрики и заводы, домовладельческие компании получили назад свои дома. Служащие этих компаний стали возвращаться на свои рабочие места, началось их переселение из лагерей. Чтобы вывезти всех оттуда до осени, в многокомнатных квартирах размещали сразу по несколько семей. Я бывал в этих квартирах и видел, что там творилось: в большой комнате стояло десять, а то и больше, раскладушек. Такая теснота, наверное, влекла за собой бытовые ссоры, но я не был их свидетелем. В присутствии врача, особенно не англичанина, ругаться неудобно -обычное человеческое лицемерие, присущее всем народам.
Война для заключенных окончилась, но появились новые сложные проблемы. Жилой фонд международного сеттльмента стал принадлежать китайцам, и часть людей в связи с этим лишилась жилья, у другой части - квартиры заняли другие люди, у третьей - японцы во время оккупации вывезли из квартир все: мебель, картины, посуду. Зайдя к одному англичанину, я увидел его лежащим на голом матрасе, поставленном на четыре жестяные банки из-под бисквитов. Кровать японцы забрали, а матрас почему-то оставили, исчезли одежда и обувь. Большинству служащих сеттльмента некуда было выехать из концлагерей, и многие заключенные после освобождения по несколько месяцев продолжали жить там. Обеспечить свое существование, постоянно проживая в лагере, было, видимо, непросто. Например, из лагеря Лунгхуа в город не ходил никакой транспорт, а расстояние было приличное. Как-то я встретил своего английского пациента на авеню Жоффр (главной улице французской концессии): он шел в одних трусах, держа на плече палочку, на которой висел узелок, не знаю с чем.
Послевоенный период в Шанхае можно охарактеризовать как период экономической оккупации американцами. Город был наводнен американскими товарами наихудшего качества. Голодный Шанхай впитывал в себя все, что американские бизнесмены собирались выбросить в мусорные ящики у себя дома. Во всех точках города возникали маленькие бары для американских солдат. И это касалось всех портов Китая. Власть перешла в руки Чан Кайши.
В Шанхай тихо, как саранча, вошла многочисленная армия «УНРРА» (Организация объединенных наций для помощи беженцам). Не знаю, каким беженцам они помогали в Шанхае. Беженцев там просто не было. Одна половина иностранцев сидела по концлагерям, но это были не беженцы, а резиденты Шанхая, другая - не сидела, но они никуда и не бежали: во-первых, невозможно, а во-вторых - куда? Но деятелей из УНРРА это отсутствие логики ничуть не беспокоило. Одетые в полувоенную форму, они шныряли по городу в джипах, которые привозили сотнями. В большинстве своем это были американцы или иностранцы, принявшие гражданство США, но были среди них и канадцы. На одном джипе я видел надпись «Канада», по-английски и по-русски.
Фирме «М» пришлось столкнуться с УНРРА очень близко. Поразительно, но, посылая в Шанхай несколько сот мужчин и женщин, американцы (а никто в Шанхае и не считал УНРРА организацией объединенных наций) не позаботились об их медицинском обслуживании. Впрочем, это, скорее, подчеркивало тот дух авантюризма, которым была пропитана вся их организация. Поскольку УНРРА было дешевле иметь дело с организацией врачей, а не с отдельными врачами, то ее представители оказались нашими пациентами. Их разместили по разным гостиницам Шанхая, и мне часто приходилось ездить из одного отеля в другой, навещая заболевших. Многие из них говорили откровенно, что раньше служили в ОСС (Американская военная разведка). Наверное, кто-то из них и в Шанхае продолжал работать по той же линии. А другие были просто авантюристами, которые позарились на хорошую зарплату и возможность ничего не делать.
Даже в таком прожженном городе, как Шанхай, эти господа выглядели жуликами. В УНРРА были и профессора медицины, неизвестно чем занимавшиеся. Бертон их просто не переносил. Как-то одна моя пациентка заболела, у нее поднялась температура. Диагноз был неясен, и я вызвал Бертона на консилиум. Американцы, со своей стороны, пригласили английского профессора из УНРРА. Профессор осмотрел больную и в тот момент, когда вошел Бертон, пытался стряхнуть термометр. У него ничего не получалось. Бертон попросил у профессора термометр и в несколько приемов его стряхнул. Профессор с напускным восхищением воскликнул: «Просто удивляюсь, как это вам удается!?» - «Двадцать лет практической медицины, мой мальчик», - сухо ответил ему Бертон. В целом работа с УНРРА была неинтересной: главным образом, это были истеричные люди, готовые вызвать врача только потому, что им не удавалось выпустить газы из кишечника. Мне запомнился всего один клинический случай. Заболел француз из УНРРА и вызвал меня к себе в гостиницу. У него оказался обычный насморк, и единственное, что я увидел интересного, - моя пациентка-американка, тоже из УНРРА, лежавшая в его постели.
В это время для фирмы началась эра искусственного «бума». Все лица, уезжавшие в США, должны были проходить медицинское обследование у нас. В Австралию -тоже. От всех отъезжающих китайская таможня требовала свидетельство о прививках (прививки делали мы). Китайское правительство прислало нам на обследование восемьсот китайских кадетов, которых гоминдановское правительство направляло в Англию для изучения мореплавания. Мы с ними провозились все лето, работая сутками. Чтобы справиться побыстрее, пришлось прибегнуть к разделению труда: каждый осматривал определенные органы тела. Мне поручили уши, горло, нос и зубы. Бедному доктору Ие досталась прямая кишка. За два летних месяца он произвел восемьсот ректальных исследований и потом жаловался, что у него на правом указательном пальце образовалась мозоль, мешающая проводить тонкие ортопедические операции.
Наступало время моего отпуска, который я собирался провести в Шотландии. Нервное напряжение у меня росло: очень уж неопределенной была обстановка. Мою тревогу подогревал доктор Ие, который пессимистически заявлял, что обратно в Китай меня, скорее всего, не пустят.
Я должен был убедиться, что смогу получить в Лондоне обратную визу, поскольку в Шанхае оставалась моя семья, и отправился в Нанкин, тогдашнюю столицу Китая, в министерство иностранных дел. В дороге я не спал всю ночь. Поезд часто останавливался, на неизвестных станциях около вагонов толпились продавцы. Громко крича, они предлагали купить жареных уток, с виду прекрасных - толстых и зарумяненных, блестевших, словно лакированные. Но на самом деле эти утки не так хороши: китайцы надувают их через соломинку воздухом, чтобы они выглядели жирными. Кроме того, продавали всякие сладости, кто-то слезал с поезда, кто-то садился: на каждой остановке - шум и суета.
Утром я прибыл в Нанкин. Этот город, больше похожий на огромную пыльную деревню, только начинал становиться столицей, хотя это уже было с ним много столетий назад, и не раз. На вокзале меня встретили моя двоюродная сестра Жека Фитингоф со своим мужем Данилой и на машине повезли к себе. Они жили в небольшом двухэтажном китайском домике, типичном для Нанкина, из окна которого открывался вид на небольшое озеро и горы вдали. Все это я запечатлел на рисунке и, глядя на него, еще раз убедился в том, что художника из меня не выйдет. За свою жизнь я нарисовал две картины - озерцо, которое виднелось из Жекиного окна, и замок мистера «Шампански» в Тяньцзине. На этом мои упражнения в живописи закончились.
Данила свозил меня в мавзолей Сунь Ятсена - красивый храм, построенный на склоне горы в сосновом лесу, а также к городским достопримечательностям. Мы проехали сначала вдоль старинной городской стены, высотой, наверное, в четыре этажа, которая когда-то опоясывала весь город, потом - по главной улице, широкой, длинной и пыльной, а в дождь, наверное, и трудно проходимой. Данила показал мне большое круглое здание, в котором размещались ЦК партии гоминьдана и некоторые министерства. По всему городу я видел дома в традиционном китайском стиле. И очень красивые горы вокруг.
В Нанкине я побывал в консульском отделе нашего посольства. Оттуда меня отправили в министерство иностранных дел Китая, где чиновник сообщил мне, что я должен обратиться в посольство Китая в Лондоне. В общем, я ничего не добился и уехал ни с чем. Обратный поезд шел днем, и из окна салона-вагона я любовался открывавшимися передо мною видами. Китай очень красив, красивы его деревни, деревья, озера и реки, но я знал, что жить в этих деревнях я не смог бы. Настроение, овладевшее мной в тот день, отразилось в нескольких строчках стихов, которые я набросал тогда прямо в поезде.
ПОД НАНКИНОМ
Центральный вокзал Шанхая встретил привычным шумом, криками торговцев, скорлупой подсолнечных и тыквенных семечек на полу и горячими каштанами. Но мысленно я был далеко - в неизвестной Шотландии. До отъезда оставался месяц, надо было уже готовиться.
В том же году была объявлена репатриация советских граждан из Шанхая для всех желающих. Из пятнадцати тысяч советских граждан, проживавших в Шанхае, пять тысяч решили уехать. В русских эмигрантских кругах, да и в иностранных тоже, сразу же начался ажиотаж. В то время в Шанхае было две советских газеты, кажется три белоэмигрантских и несколько иностранных. Между прочим, одна советская газета (кажется, «Новости дня») была частной. Она принадлежала не советскому правительству, а В. Чиликину, и отражала советскую точку зрения, потому что Чиликин принял советское гражданство. Другую газету учредило, по-моему, объединение советских граждан, то есть она тоже была частной, кооперативной газетой. Советский генеральный консул мог, очевидно, что-то советовать редакторам этих газет, но не более того. Например, когда наши войска в день объявления войны Японии вступили в Манчжурию, Чиликин выпустил свою газету с большим аншлагом: ВСЯ МАНЧЖУРИЯ НАША! Гоминьдановцы отреагировали быстро: наняли группу китайских хулиганов (или это были переодетые полицейские), и те камнями вышибли окна в редакции чиликинской газеты.
В один из ноябрьских праздников, когда советское генеральное консульство пригласило иностранный дипломатический корпус и советских граждан на прием, была организована антисоветская демонстрация. Сотни китайцев дефилировали перед окнами консульства и выкрикивали антисоветские лозунги, однако всех гостей, шедших в консульство на прием, любезно пропускали. Советский военный атташе, стоявший у окна со своим американским коллегой, спросил: «Что, дорого обошлась вам эта антисоветская демонстрация?». Американец улыбнулся и ответил: «Ну что вы, принимая во внимание курс американского доллара на сегодня, она стоила очень дешево».
Репатриация взбудоражила эмигрантскую прессу, и та усердно обливала грязью Советский Союз и советскую колонию Шанхая. Английские газеты тоже включились в эту полемику, но на более интересном уровне. Не обошла она стороной и английскую газету «Норд Чайна Дэйли Ньюс», что в переводе означает «Северокитайские ежедневные новости» (как Шанхай очутился на севере Китая, остается загадкой).
У английской прессы есть замечательная традиция -систематически публиковать письма читателей на имя главного редактора, для чего существует самостоятельный отдел газеты. Письма могут быть на любую тему. Разрешается ругать и самого редактора, не применяя, естественно, грубых выражений. Его нельзя назвать идиотом или сумасшедшим, но можно написать, что «ваше мнение сильно отличается от мнения большинства людей» или «ход ваших мыслей кажется мне странным и вызывает удивление». В начале этого отдела стоит эпиграф: «Редакция газеты не отвечает за мнения, высказываемые авторами писем». Эта удобная формула позволяет редактору плевать на мнения авторов писем, а тем самым дает возможность писать все, что они хотят. Поэтому раздел всегда интересен и злободневен.
В полемике, опубликованной в газете «Норд Чайна Дэйли Ньюс», приняли участие и англичане, и советские граждане, и белые эмигранты. Газетная баталия длилась несколько недель. Писали зло, часто остроумно, иногда просто глупо, но читать было очень интересно. Единственным условием для опубликования письма было приложение к нему визитной карточки с указанием домашнего или рабочего адреса. Допускалось применение псевдонима, но с обязательным приложением визитной карточки.
Бумажная битва закончилась совершенно неожиданным образом. Утром я приехал на работу в автомобиле (после окончания войны фирма купила мне старенький «Моррис», и велосипед я бросил) и прошел в кабинет к секретарше, чтобы просмотреть свежую газету. Среди писем редактору мне попалось совершенно блестящее письмо, написанное то ли советским гражданином, то ли русским, симпатизирующим Советскому Союзу, которое, как выражаются англичане, «редактором пол подтирало». Письмо заканчивалось стандартной формулой вежливости: «Сэр, я остаюсь вашим покорным слугой...», - и внизу стояла подпись. Фамилия мне показалась странной - двойная через тире и какая-то непонятная. Я внимательно ее прочел еще раз и буквально обалдел. Английскими буквами было написано такое русское трехэтажное ругательство, о существовании которого я не подозревал и которое позже в СССР никогда в применении не слышал.
В то время у нас работала русская секретарша - Наталия Александровна Менде (урожденная баронесса фон Дрентельн), высокая красивая, уже не молодая дама. Она окончила Смольный институт и была воплощением этикета и благовоспитанности. Я решил проверить ее реакцию на загадочную фамилию.
«Наталия Александровна, - сказал я, протягивая ей газету, - сегодня есть интересное письмо редактору с очень необыкновенной русской фамилией. Вот посмотрите».
Она взяла газету, надела очки и начала читать. Дойдя до фамилии, она тоже «споткнулась», но мгновенье спустя вскочила, схватившись за голову, и с криком: «Боже! Какой ужас!» - выбежала из кабинета.
Под необыкновенной фамилией, как и полагалось, был напечатан адрес, и я решил посмотреть, где все-таки живет этот остроумный человек. Шофер привез меня к большому пустырю, обнесенному красной кирпичной стеной. Этот участок, на улице Бьющего Ключа, знали все шанхайцы: он принадлежал багдадской миллионерше Лизе Хардун, которая много лет грозилась построить здесь нечто грандиозное. Конечно, участок имел и свои номера, но такого номера, какой был указан в газете, никто никогда не видел. Всю эту ситуацию и использовал автор нашумевшего письма. Он пошел в китайскую типографию и оформил срочный заказ на сто визитных карточек, указав для них свою «историческую» фамилию и адрес пустого места. Через час карточки были готовы. Он приложил визитную карточку к своему письму и отправил его в газету. Третий помощник младшего редактора, которому был поручен отдел писем, не обратил внимания на фамилию. В его функции входило чтение писем с единственной целью - не допустить неуважительных выражений в адрес королевы Великобритании. А так как письмо касалось советской репатриации, то он, не колеблясь, отдал его в набор. К этому времени русских служащих в газете уже не было, так что письмо появилось во всей своей первозданной красе.
В то утро сначала хохотали все русские шанхайцы - и советские, и эмигранты, а чуть позже, после объяснения иностранцам тонкостей русского юмора, потешался уже и весь иностранный Шанхай. Не смеялся только Пейтон-Гриффин, редактор газеты: он был взбешен. Его реакцию усугублял еще и тот факт, что жена у него была русская и бедняга не имел ни малейшего шанса скрыть от нее этот скандал. Удар нанесли ему, несомненно, ниже пояса.
На другой день в отделе писем газеты было напечатано следующее извещение, вполне обычное и принятое, когда полемика длится очень долго: «Ввиду того, что всем сторонам была дана полная возможность высказаться по поводу советской репатриации, дальнейшая полемика по этому вопросу прекращается. Редактор».
Я был немного знаком с Пейтон-Гриффином. Грузный человек высокого роста, он, как-то выходя после обеда из Шанхайского клуба, поскользнулся на ступеньках, упал и сломал себе лодыжку. Я отправил его в «Кантри Госпитал», где ему наложили гипсовую повязку. На следующий день, делая обход, я зашел в его палату. Он сидел со свирепым видом, обложенный свежими газетами. «Вот прочитайте, док, - сказал он, протягивая мне газету, - что пишет обо мне этот «богом-проклятый-сукин-сын».
Это была американская газета, конкурирующая с «Норд Чайна Дэйли Ньюс». Откликаясь сразу на несколько злободневных событий, английские и американские газеты, как правило, имеют несколько передовых статей. Одна передовица, озаглавленная «Несчастный и почти трагический случай», была посвящена Пейтон-Гриффину. Газета писала: «Вчера после полудня наш уважаемый коллега мистер Пейтон-Гриффин, редактор всем известной газеты «Норд Чайна Дэйли Ньюс», выходя из Шанхайского клуба, поскользнулся на ступеньках, упал и сломал себе ногу. Мы лично и весь штат нашей газеты выражаем свои искренние соболезнования потерпевшему. Мы надеемся, что мистер Пейтон-Гриффин долго в больнице не задержится и вернется к своей плодотворной журналистской деятельности. Опрос шанхайских старожилов выявил одну любопытную деталь. Со дня основания Шанхайского клуба никто еще не ломал себе ног при входе в клуб. Все переломы ног случались при выходе из бара Шанхайского клуба». - «Я подам на этого негодяя в суд за клевету», - рычал бедный Пейтон-Гриффин. Но до суда дело не дошло. Надвигались более серьезные события, и Шанхай был ими поглощен.
При гоминьдановском правительстве иностранная пресса в Китае цензуре не подвергалась. До войны существовало право экстерриториальности, а после войны политические взгляды Чан Кайши и иностранцев полностью совпадали: и те, и другие были против коммунизма. В мае 1949 года, когда Шанхай заняла народно-освободительная армия Китая, иностранные газеты не были сразу закрыты, и их редакции переменили тактику. Агентство «Синьхуа» периодически печатало сообщения, многие из которых по содержанию подходили бы в СССР только для отдела «Нарочно не придумаешь» журнала «Крокодил», а англичане перепечатывали их на первой странице газет без комментариев. Я помню, например, заметку, которая называлась «Изнасилование фермера»: «В провинции такой-то, в уезде таком-то живет богатая помещица такая-то (вначале земля не была разделена между крестьянами, и помещики оставались в своих владениях - В.С.). Проходя по полю, она заметила молодого красивого фермера такого-то. Она приказала ему зайти с ней в дом и там его изнасиловала».
После моего отъезда в Шотландию 12 декабря 1947 года протоколы заседаний фирмы не велись, потому что никто не хотел ими заниматься. А я начал писать свой дневник путешествия, так что в моих записях о Шанхае имеется пятимесячный пробел.
Вернувшись, я возобновил протоколы со 2 мая 1948 года. Привожу несколько записей.
«18 августа 1948 года. Между прочих дел в протоколе записано, что Армия Спасения просит взять на обслуживание своих работников как контрактных пациентов. Было решено лечить их бесплатно».
Об этой мелочи я упоминаю лишь в связи с историей, которая произошла между доктором Рансоном и хирургической сестрой Армии Спасения. Дело было так. Рансона вызвали осмотреть гинекологическую больную. Рансон прошел в процедурную, больную положили на гинекологическое кресло, и он попросил у сестры гинекологическое зеркало. «Очень хорошо, доктор», - сказала сестра, подошла к шкафу с инструментами, вынула зеркало и исчезла. Рансон ждал полчаса. Наконец, сестра появилась. Рансон был весьма раздражен: «Где вы пропадали, сестра?» - спросил он. - «Я кипятила зеркало». - «А разве вы не кипятите его после употребления, прежде чем положить в медицинский шкаф», - поинтересовался Рансон. -«Обязательно, доктор. Сперва тщательно мою его с мылом, потом кипячу». - «Так зачем же вы делаете это второй раз?» - удивился Рансон. Сестра объяснила: «Я всегда кипячу зеркало еще раз перед употреблением». Рансон сказал: «Ну знаете, сестра, если все, что вводится во влагалище, перед употреблением кипятить, то брачная жизнь вообще станет невозможной». Больше его в Армию Спасения на консультации не приглашали.
20 октября 1948 года собрание фирмы проходило, как всегда, на квартире Бертона. Вначале, как обычно, коктейли, виски и джин, но в протоколе записано: «Ввиду недостатка провизии ужина сегодня не было». Хорошо еще, что выпивка была. Потом не было заседаний до 1 февраля 1949 года, то есть три месяца. Чем был вызван этот перерыв, из протоколов неясно. Правда, 25 декабря были рождественские праздники, а в январе - новогодние. Может быть, из-за этого.
«20 и 21 апреля 1949 года. Сорок четыре английских моряка убиты и сто ранены на английских военных кораблях «Аметист», «Консорт», «Черный лебедь» (флагман) и «Лондон». Тридцать три моряка привезены на самолете в Шанхай доктором Уэддерберном».
Этот инцидент с британской эскадрой описывается теперь так. Армия Мао подошла к северному берегу Янцзы и готовилась к переправе. Около южного берега, у входа в Янцзы, в китайских водах стояла британская эскадра. Из скольких судов она состояла и что там делала - неизвестно. У меня записаны названия четырех пострадавших судов, возможно, были и другие. Английский адмирал почему-то решил идти вверх по реке к Нанкину, как раз через то место, где армия Мао готовилась к переправе. Может быть, он хотел помочь вывезти кого-нибудь из Нанкина, но это предположение кажется странным: железнодорожное сообщение между Нанкином и Шанхаем не прерывалось, и многие гоминьдановцы выехали из Нанкина в Шанхай по железной дороге, были у них и самолеты. В общем, тактический демарш британского адмирала малопонятен и вполне мог быть воспринят как вмешательство в междоусобную китайскую войну. Естественно, как только воины Мао увидели поднимающуюся вверх по реке иностранную эскадру, они сразу открыли огонь с известными результатами. У англичан, видимо, не было намерения принимать бой, корабли развернулись, вышли в море и через устье Вампу достигли Шанхая. Я видел их на шанхайском рейде. Великобритания, по-моему, не опротестовала это «нападение». Да и кому она могла вручить свою ноту протеста? Мао она не признавала. В английских газетах не было ничего, кроме возмущения действиями китайских коммунистов. Вместе с тем, трудно поверить в то, что британский адмирал пошел в Нанкин без приказа, а гоминдановцы не знали о подготовке армии Мао к переправе. Если не знали, то у них плохо была поставлена разведка. Если знали, то почему не предупредили своих «друзей» — британцев? Много неясного.
А 26 апреля 1949 года части народно-освободительной армии арестовали американского посла в Нанкине.
ПРЕПОДАВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ «АВРОРА»
Я получил среднее образование в Тяньцзине на английском языке, а высшее - в университете «Аврора» в Шанхае, на французском.
Университет «Аврора» был частным университетом, принадлежавшим французской ветви Ордена иезуитов. Вообще Орден иезуитов в разных странах имел несколько высших учебных заведений, в том числе университет в Бейруте (Ливан), университет Нотр Дам в США, наверняка, несколько - в Латинской Америке. У нашего университета был гордый девиз: «Per Auroram ad Lucem» (Через зарю к свету), имевший и второй смысл, явно католи-
ческий: «Через «Аврору» к свету». Неблагочестивые русские студенты придумали и третий перевод девиза университета на русский язык: «На заре к Люсе».
Я хорошо знал католических монашек и монахов, а особенно иезуитов, с которыми встречался шесть с половиной лет ежедневно, пока учился в университете (1934-1940 гг.), потом изредка, когда заезжал поболтать с моими бывшими профессорами, а затем два раза в неделю в течение шести лет моей преподавательской деятельности в этом же университете. Я знал их лично - и как своих учителей, и как пациентов, а поэтому могу настаивать, что прекрасно знаю их и просто с человеческой стороны. Пусть читатель примет во внимание, что я буду писать без оговорок.
Вот, хотя бы, история с советским флагом. Мне позвонил ректор нашего университета отец Жермен. Он сказал, что в знак победы над гитлеризмом университет должен вывесить флаги наций, сражавшихся с фашистской Германией, и спросил, есть ли у меня советский флаг. Я ответил, что да. В то время Общество граждан СССР в Шанхае шило советские флаги (хорошо на этом зарабатывая), и я заказал себе самый большой и дорогой. Когда я привез флаг Жермену, он неожиданно заявил мне, что этот флаг поднимать не будет, потому что Советский Союз ненавидит Римского Папу. Однако на него нажали сверху, ему пришлось вывесить флаг, и несколько дней рядом висело пять флагов: французский, английский, американский, советский и гоминьдановский. В память об этих днях на моем флаге есть небольшая дыра. Она образовалась оттого, что на ветру полотнище зацепилось за колючую проволоку на воротах, которая по замыслу руководства должна была препятствовать «влазу и вылазу» студентов по ночам из общежитий. Флаг этот уникальный, поскольку история, наверное, не знает другого случая, когда бы советский флаг развевался над иезуитским университетом. Я привез его с собой в СССР, и сейчас он у меня в Москве.
Историю своего обучения я начну с некоторых сведений об Ордене иезуитов. Об основателе ордена - испанском дворянине Игнатии Лойола (1491-1556) - подробно пишет Фюлоп-Мюллер в своей книге «Тайны и власть иезуитов». Лойола был, видимо, не совсем уравновешенным человеком, но, очевидно, весьма талантливым дипломатом. Создавая орден, он к трем обычным монашеским обетам (безбрачие, бедность и смирение) добавил еще и четвертый: слепое подчинение Папе Римскому, что заставило Папу того времени, читавшего новый устав, воскликнуть: «Се перст Божий!». Если учесть, что представляли собой римские первосвященники той эпохи с моральной точки зрения, то святой Игнатий был или очень наивным человеком, потребовав от членов своего ордена слепого повиновения именно этим людям, или, будучи сыном той эпохи, ничего аморального в Риме не видел. Да это не так уж и важно. Важно то, что он создал религиозный орден по военному типу - скованный железной дисциплиной и фанатической преданностью Папе. Сегодня тяжело понять, как можно раз и навсегда поставить людей в зависимость от роли неизвестно какого человека. Видимо, это диктовалось не разумом, а актом веры в то, что всякий Папа является наместником Бога на земле. Конечно, трудно судить о психологии человека XVI века, но сейчас, в конце XX века, когда орден продолжает следовать основному принципу построения, выработанному четыре века назад, понять это еще труднее. Можно было бы предположить, что группу дураков легко заставить поверить в то, что именно этот человек является наместником Христа на земле и ему должно слепо повиноваться, если бы не было известно, что иезуиты - наиболее образованные и эрудированные люди среди наших современников.
Система образования ордена предусматривает четыре этапа, по три года - каждый, и на полный курс обучения у иезуита уходит около двенадцати лет. Сначала он изучает гуманитарные науки и получает ученую степень магистра гуманитарных наук, потом - философию и получает степень доктора философии, далее - богословие и становится доктором богословия, а затем, если собирается стать преподавателем в университете, овладевает специальными науками: химией, медициной, астрономией, биологией или другими. Мой профессор патоморфологии отец Фламэ изучал медицину в Лионском университете, уже будучи иезуитом, а потом писал свою докторскую диссертацию о патоморфологии сифилиса легкого.
Иезуит-профессор - высокообразованный человек, и у него есть чему поучиться. Из университетов Ордена иезуитов вышло немало известных ученых, но им фатально не везло: многие из их учеников становились их же противниками. Иезуитов ненавидел Вольтер, их противником был Паскаль. Габриэль Пажес, написавший под псевдонимом Лео Таксиль блестящие книги «Забавная Библия» и «Забавное Евангелие», был учеником иезуитов, и в его книгах чувствуется солидная эрудиция и метод, которые он получил от своих учителей.
Впрочем, иезуиты во всем виноваты сами. Лойола создал воинствующий, а не созерцательный религиозный орден, и иезуиты стали вмешиваться в политику, причем действовали так активно, что неизменно вызывали ответное противодействие. Так, в 1759 году их выгнали из Португалии, из Франции их изгоняли трижды - в 1762ом, в 1880-ом и в 1901 годах. Они основали теократическое государство в Парагвае и проводили там такую жесткую политику, что Европу охватило всеобщее возмущение. Это был воинствующий орден, он использовал методы работы, отвечающие военному принципу: «на войне все средства хороши». Папе Клименту XIV эти методы показались настолько одиозными, что по его указанию орден распустили. Восстановлен он был Папой Пием VII только в 1814 году, то есть находился под запретом в течение сорока одного года. А так как по доктрине католической церкви Папа непогрешим, то возникает вопрос: какой из этих двух «непогрешимых» Пап ошибся: тот, который запретил орден, или тот, который восстановил?
У меня всегда вызывала сомнение версия «самороспуска» Ордена иезуитов. Скорее всего, они сделали «умственную оговорку» (reservatio mentalis), представляющую собой изощренное изобретение средневекового ума. Я читал об «умственной оговорке» в курсе нашего университета по этике, позже этот текст изъяли. Суть ее в следующем. Врать - грех, это совершенно ясно. Христос сказал: говорите просто «да, да» или «нет, нет». Но врать в нашем несовершенном мире просто необходимо. Как это делать, показывалось на примерах, один из которых я привожу. Хозяин сидит дома и, увидев в окно, что к нему идет человек, с которым он встречаться не хочет, приказывает слуге: «Скажи ему, что меня нет дома». Слуга - добрый католик, он знает, что врать - грех, и говорит гостю: «Хозяина, к сожалению, нет дома... (для Вас)». Последние два слова «для вас» он произносит в уме и поэтому не совершает греха. Это и есть «умственная оговорка».
В жизни я тоже встречал такую «иезуитскую» форму поведения. Во время войны у меня в больнице лежал бельгийский епископ Ноэль Губбельс. В молодости он служил личным секретарем по бельгийским делам у кардинала Гаспари, статс-секретаря Папы Пия XI, подписавшего Ла-теранский договор между Ватиканом и Италией Муссолини. Он рассказал мне один эпизод своей деятельности того времени. В Италии находились бельгийские рабочие, приезжавшие работать по найму. У них вышли какие-то затруднения с итальянскими властями, и Муссолини приказал выслать их всех из Италии. Приказ этот непосредственно касался Губбельса, который курировал бельгийских рабочих. Губбельс пошел к Гаспари, изложил ему суть вопроса и сказал, что приказа Муссолини не выполнит. Гаспари ничего не ответил, лишь медленно кивнул головой в знак согласия. Тоже «умственная оговорка»: ведь ничего не говорил, но бельгийцев все же не тронули.
Я бывал в монашеских кельях. В келью к монашке может зайти только королева страны (в Китае таковых уже не было), настоятельница - всегда вместе с какой-нибудь сестрой (Ватикан уже все знал о лесбийской любви и принял меры), священник и врач - в сопровождении настоятельницы. Келья монашки - метров восемнадцати площадью, стены - из небеленого бетона, простая мебель: кровать, стол, стул, гардероб, этажерка для книг. И распятие на стене.
У монахов-францисканцев кельи были просторнее, и в них царил беспорядок, как и полагается в комнатах холостяков. У одного святого отца я заметил корзинку для бумаг, доверху набитую скорлупой от съеденных крутых яиц. Он, наверное, два или три месяца не выносил мусор.
Иезуитам-профессорам полагалось две комнаты. Первая - приемная, в которой находились круглый стол и стулья для приходивших на консультацию студентов. Во второй комнате, кроме спальной мебели, стояли письменный стол и этажерки для книг. У отца Ришара, профессора экономической географии, огромные стопки книг лежали не только на столе, но и на полу, а также и на кровати. Мне было забавно представлять себе, как он вечером убирает с кровати штук сорок-пятьдесят толстых томов. Я думал, что, может быть, он делал это специально для похудания: старик был чуточку полноват. Почти во всех комнатах ощущался приятный аромат гаванских сигар.
Когда мои приятели узнавали, что я бывал в монастырях, то спрашивали, как монахи блюли обет безбрачия. Вопрос справедливый, но я могу на него ответить только как свидетель одного-единственного факта. Это было еще в мои студенческие годы. Как-то, возвращаясь ночью домой по футбольному полю, я встретил отца Жакино. Он был одноруким, но мы все знали, что увечье не мешало ему при всяком удобном случае сохранившейся рукой обнимать за талию молодых португалок. Через несколько дней после этой встречи отец Жакино уехал в Японию и там пропал. В газетах поднялся шум: исчез хорошо известный всему Шанхаю человек. Спустя некоторое время его вдруг обнаружили в Японии, что не замедлило найти отклик в газете «Норд Чайна Дэйли Ньюс». Весьма талантливый карикатурист газеты Сапажу (русский художник Сапожников) изобразил японский домик, где в традиционной для чайной церемонии позе, на коленях, сидит молодая японка, перед которой чашка чая, а напротив в такой же классической позе сидит отец Жакино. Потом он вернулся в Шанхай, но вскоре снова исчез, на сей раз навсегда. Наверное, сослали в какой-нибудь из иезуитских монастырей на курсы усовершенствования по морали. Других инцидентов я не знал, могу лишь сказать, что даже сплетен на эту тему между студентами не было. Думаю, что начальство очень следило за моральным поведением иезуитов, и они в Шанхае в тот период, когда я их видел, вели себя так, как я сейчас пишу.
После изгнания из Китая христианских миссионеров, католических и протестантских, китайцы устроили выставку вещей, книг и журналов, найденных в монастырях и миссиях, чтобы показать безнравственность святых отцов. Я тогда преподавал в университете и пошел с моим приятелем-китайцем посмотреть на моральный уровень католиков. Часть одного стола была отведена для демонстрации безнравственности Жоржа Жермена, бывшего ректора нашего университета. Там лежали коробка гаванских сигар, что, скорее, указывало на его хороший вкус, и американский журнал того времени «Лайф», открытый на странице с фотографией полуголой красавицы. Мне показалось все это мало убедительным. В каждом номере журнала «Лайф» публиковалось три-четыре фотографии полуголых девиц, а также три-четыре антисоветских и антикоммунистических статьи. Этот номер, я думаю, не был исключением. Конечно, можно всерьез заподозрить, что Жермен не без удовольствия рассматривал девицу. Мужчина ведь! Но у меня нет ни малейшего сомнения в том, что он непременно прочел антикоммунистическую статью. Скорее всего, ради этого и купил журнал. Хотя где вообще доказательства того, что этот журнал нашли в кабинете Жермена? В Шанхае на набережной прямо на тротуарах продавалось столько порнографических изданий, что разложить несколько сот фото из них на выставке под фамилиями миссионеров не составило бы большого труда. Конечно, это не метод антирелигиозной пропаганды, но такое зрелище привлекло бы немало публики.
К вопросу о морали имеет отношение и существующий в католической церкви «индекс», или список книг, которые католики не имеют права читать под страхом отлучения от церкви. Это книги либо антикатолические, либо аморальные, по мнению Ватикана. Иезуитов индекс не касается. Чтобы иметь возможность писать опровержения, они имеют право читать все книги. Профессор Фламэ мне как-то рассказывал: «В трапезной за ужином зашла речь о только что появившейся полупорнографической книге французского автора. Спросили святого отца, который как раз этой книгой занимался, что он думает по ее поводу. Тот ответил: «Возмутительно, сплошная грязь, совершенно безнравственно! Я читал ее всю ночь напролет».
Профессора-иезуиты глубоко вникали в настроения и литературные вкусы студентов. Мой профессор французской литературы Тостэн долгое время рекомендовал мне книги Базана, сугубо католического писателя. Я читал их, они как-то не захватывали мое воображение, и я от них быстро устал. Сюжеты у Базана однообразны и сводились к тому, что в какой-нибудь французской крестьянской семье, непременно очень бедной, десятый ребенок - дочь, которую, когда она вырастет, родители не смогут содержать. Они решают, что девочка посвятит себя богу и пойдет в монастырь. Ребенка и не спрашивали, ей внушали, что она станет невестой Христовой и будет очень счастлива. Как будто все хорошо, а у меня на душе оставался неприятный осадок. Я от природы вообще не аскет. Поняв это, профессор стал предлагать мне «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, озорные истории Бальзака и французских юмористов.
Иезуиты вызывали нарекания со стороны других католических кругов и за их «новаторство» в священной живописи: у них была статуя богородицы в китайском халате, с характерными для китайцев национальными чертами лица - узкими глазами, прямыми черными волосами и пр. Думаю, таким образом они приспосабливались к местному колориту, что было вполне оправдано.
Иезуитов часто обвиняли и в том, что их мораль основана на принципе «цель оправдывает средства», но это неверно. В большей степени этим принципом руководствовались политики. Настоящий девиз ордена иезуитов «Ad majorera Dei gloriam» (к вящей славе Божией), что, правда, при помощи нескольких «умственных оговорок» можно подогнать и под первую фразу. Но формально это все же не так.
У читателя может создаться впечатление, что я хорошо отношусь к иезуитам. Да, это верно, я симпатизирую им как людям. Но они защищают строй, обреченный на гибель, и мне просто жаль видеть, как такие действительно образованные люди бьются лбами о стену, которую им никогда не прошибить. Я думаю, что эта не осознаваемая ими безнадежность объясняет большое количество среди них нервнобольных. За двадцать лет в Шанхае в мое поле зрения попала группа иезуитов численностью человек в пятьдесят, одних я знал лично, других - понаслышке. Четверо из них сошли с ума, для такой группы это очень много: восемь процентов. Я думаю, что они не смогли примирить здравый смысл с верой. Нельзя, с одной стороны, преподавать физическую химию, а с другой - пытаться понять, как при помощи чуда и некрепленого вина получить кровь Христову.
Правда, св. Августин писал, что главное в вере - это верить, и совсем необязательно понимать то, во что веришь. Для неграмотного человека этот принцип хорош, но для иезуитов, в силу их учености, он просто не подходит. Иезуиты могут мне возразить: Павлов одновременно и верил в Бога, и был величайшим ученым-физиологом. Ответ прост: история знает, кроме Павлова, и других гениальных ученых, бывших верующими людьми. Но при всем моем уважении к эрудиции иезуитов, должно заметить, что не все они Павловы. Видимо, только гениальный ум может перенести стресс от столкновения веры и рационального мышления. Здравый смысл - все же здравый смысл, и дважды два действительно четыре, а не святой дух. И в этом, как кажется, трагедия иезуитов.
Моими учителями были французские иезуиты, они колоритны и заслуживают того, чтобы им посвятить несколько страниц. Чаще других я вспоминаю ректора университета «Аврора» Жоржа Жермена, который, помимо занятий административными делами, преподавал дипломатическое право. Прекрасный человек - красивый, спокойный, доброжелательный и умный (если не делать далеко идущих выводов из той истории с советским флагом).
Студенты его любили. Он был автором предисловия к моей первой книге «О контроле деторождения», написанной мной, когда я был студентом третьего курса. Жермен не знал русского языка, но верил, что я пишу правильно. И он так и не узнал, что через пятьдесят лет я стал думать об этом совсем по-другому.
Профессора философии отца де Рокура у нас в университете никто не любил. Говорили, что он ярый монархист и развил активную деятельность во Франции, чтобы посадить на престол графа Парижского, претендента на французский престол. Его сослали в Шанхай, и я учился у него философии.
Замечательная фигура - отец Виттран, профессор математики на технологическом факультете. Высокий, красивый, седой старик, с абсолютно белой бородой ниже пояса. Он носил пенсне и никогда не улыбался. Когда китайские коммунисты взяли Нанкин и все пытались угадать день их прихода в Шанхай, Виттран заметил: «Это же просто. Возьмите расстояние от Нанкина до Шанхая, определите расстояние, проходимое пехотой в один день, и разделите одно на другое». Меня такое мнение заинтересовало, и, встретив отца Ришара, профессора экономической географии, я спросил, что он думает по этому поводу. Ришар ответил дипломатично и уклончиво: «Возьмите нормального молодого человека и начните его учить одной математике. Через два года он не будет в состоянии понять самых простых вещей». Тогда я пошел к моему бывшему профессору биологии отцу Эрно и задал ему тот же вопрос. Циник Эрно проворчал: «Вы лучше спросите отца Виттрана, что он делает со своей бородой, когда ложиться спать: кладет ее сверху одеяла или под одеяло?».
Здание университета "Аврора"
Эрно был самым первым моим профессором. Он читал курс биологии на первом курсе и свою первую лекцию начал словами: «Господа, не признавайте никаких авторитетов. Доходите до всего своими собственными мозгами и талантом, если они у вас есть. Не доверяйте чужому знанию. И мне не верьте». В другой раз он заметил: «Завтра после обеда устный экзамен по зоологии. Если на обед будет хорошее вино и заячий паштет, все у вас сойдет гладко. Если не будет - берегитесь». Старик теперь, конечно, уже умер, и я очень боюсь, что за свою непочтительность к авторитетам - а для иезуита это хуже, чем смертный грех, - он, вместо того чтобы попасть в католический рай, сидит сейчас в католическом аду, который, по имеющимся здесь, на земле, сведениям, совсем неподходящее место для профессора биологии.
Жак Фламэ, декан медицинского факультета. К нему я заходил два раза в неделю в течение шести лет, когда приезжал в университет читать свои лекции. Он преподавал патоморфологию и свою специальность знал хорошо. У меня о нем остались самые хорошие воспоминания (хотя он был, конечно, настроен антисоветски, все они были так настроены). Как-то я пригласил его в советский клуб посмотреть кинофильм о нацистских концлагерях, уже освобожденных советской армией. Это было событием: иезуит в советском клубе. В середине кинофильма он вдруг вздрогнул и прошептал: «Боже мой! Смотрите,
Смольников, вон тот справа - мой профессор из Лионского университета». Я увидел на экране скелет с выжженным номером на предплечье.
Не могу обойти вниманием францисканскую сестру Та-бернакль. Простое лицо с ясными бледно-голубыми глазами. Типичная героиня романов Базана: во французской крестьянской семье (не то в Нормандии, не то в Бретани) она была последней дочерью в семье, отданной в монастырь. Всегда вспоминаю о ней как о действительно хорошем человеке. В то время я заведовал детским отделением и многому у нее научился. Как-то она позвала меня в палату и сказала: «Доктор, посмотрите, доктор М. велел этому малышу вливать под кожу физиологический раствор, но ребенок очень мал и не может его весь впитать. Видите, он весь распух». Ребенок был действительно весь вздут. И это мне говорила простая французская крестьянка в 1942 году, когда даже термина «парентеральное питание» не существовало. Очевидно, для нее тоже были характерны антисоветские настроения, но со мной она никогда о Советском Союзе не говорила. Ее очень тревожило, что я схизматик (католики считали православных схизматиками, а православные - католиков; схизматик, значит, раскольник) и поэтому могу не попасть в рай. Я подозревал, что она каждый вечер молилась за меня. Сестра Табернакль подарила мне молитвенник на французском языке с надеждой, что я просвещусь и обращусь к «истинной вере». Просвещения и обращения не произошло, но память об очень доброй женщине осталась навсегда.
Медицинскую деонтологию (врачебную этику) нам преподавал профессор отец Бонэ. Толстый серьезный старик, он все знал о деонтологии и ровно ничего о медицине. Он подробно объяснял нам, студентам пятого курса, как делать кесарево сечение при помощи акушерских щипцов, то есть как разрезать живот при помощи овального совершенно тупого инструмента! Он также сообщал нам, что гонореей можно заразиться не только половым путем, но и просто используя сиденье в туалете, на котором до этого сидел больной. Это, по-видимому, сообщалось на тот случай, если с острой гонореей к врачу придет монах.
В 1946 году, с отъездом профессора терапии Мальваля во Францию, меня пригласили в университет «Аврора» занять его место. Я был полностью загружен в фирме «М», но коллеги разрешили мне читать две лекции в неделю, а иезуиты назначили помощника - китайца, который читал еще две лекции. Я выбрал себе болезни сердца, крови, печени и почек, а также венерические болезни.
Всего в университете обучалось не более тысячи человек, преимущественно китайцы. Небольшое количество студентов давало возможность почти каждому из них лично общаться с профессурой. Курсы, естественно, были малочисленными. На нашем курсе, когда я поступил на медицинский факультет, начинало учебу тридцать два студента, а окончило шестнадцать, остальные провалились на тех или иных экзаменах. На одном из курсов отделения гражданских инженеров училось всего четыре студента: два китайца и два брата Сукеники - Михаил и Александр. Канцлер университета так и называл этот курс объединенным именем «Les Soukeniks - Сукеники». Братья праздновали не только католическую пасху, но и еврейскую, чему китайцы были весьма рады - для двух китайцев профессора не хотели приходить на курс читать лекции. Мы, правда, праздновали еще и русскую пасху, но китайцы от этого ничего не имели.
У меня сохранился «Список профессоров и преподавателей», а также данные о численности студентов в университете за 1948 год. Профессоров и преподавателей по «Списку» было всего 132 человека: 21 иезуит и 11 штатских французов, то есть всего 32 француза-профессора, русских - 2, других иностранцев - 9 и китайцев - 89.
Всего студентов значилось 986, из них 132 женщины и 854 мужчины. Женщин начали допускать в университет примерно в 1942 году. Иностранных студентов было всего 39: 15 русских, 2 итальянца, 3 грека, 3 француза, 3 португальца, 1 немка, 1 из Ирака, а дальше перечень продолжался не по национальности, а по месту рождения: 1 из Владивостока, 1 из Туркестана, 3 студента из Харбина, 1 из Вены, 1 из Праги, еще 3 из Польши и 1 из Кореи. Из 986 студентов 642 жили в общежитиях на территории университета и 344 на частных квартирах. Из 947 студентов-китайцев католиков было 180, то есть немногим более 18 %.
Из общей численности китайских студентов только 74, то есть 7 %, были родом из Шанхая. «Аврора» была дешевым университетом, и молодые люди из богатых шанхайских семей предпочитали учиться или в американском университете св. Иоанна, или в еще более дорогом Гонконгском университете. На факультете литературы на отделении китайской литературы училось 30 студентов, все были католиками, и все жили в семинарии в Зикавее, то есть в самой цитадели католицизма Шанхая. Все, очевидно, готовились стать иезуитами. У иезуитов уже был один иезуит-китаец, ставший епископом. Они готовили себе смену. Так же они поступали и во Вьетнаме.
В университете было четыре факультета: медицинский, технологический (с отделениями для гражданских инженеров, физико-математическим, электротехническим и химическим), юридический (с отделениями юридическим и политико-экономическим), литературный (с отделениями китайской литературы и французской литературы) и стоматологическая школа. Был еще специальный курс для изучения французского языка, на нем учились в течение года перед поступлением на факультет. Занятия на специальном курсе шли по шесть часов в день, а каждую субботу устраивались экзамены по пройденному материалу. Для лучшего запоминания нас заставляли хором петь французские неправильные глаголы. В итоге через год мы уже могли на французском языке слушать на факультетах лекции. Недавно я читал статью одного из наших космонавтов, принимавшего участие в полете «Союз-Апол-л он». Он упомянул, что их заставляли учить английский язык по шесть часов в день. Я думаю, что меньше и нельзя, так как преподавать иностранный язык по одному или по два часа в неделю - пустая трата времени. В школе магистров, где я учился, был час французского языка каждый день, преподавали настоящие французы, и все равно по окончании школы мы ничего не знали.
Китайские студенты между собой часто говорили по-французски, потому что не всегда могли понять друг друга из-за большой разницы в провинциальных диалектах, которые объединяют только иероглифы. Можно было увидеть двух разговаривающих китайцев, один из которых писал пальцем на ладони левой руки очертания иероглифа, так как другой на слух не понимал смысла сказанного.
Для закрепления знания французского языка в университете в течение первых трех лет читались обязательные лекции по французской литературе и философии. Кроме французской, преподавали аристотелевскую философию и так нас всех запутали, что русские студенты, приходя в университет более или менее верующими (в силу семейных традиций), выходили оттуда агностиками. На диалектический материализм отводилась всего одна лекция за все три года преподавания философии, и никто из студентов не помнил, что на ней говорилось, так как все знали, что по диалектическому материализму вопросов на экзамене задано не будет. Но три года французской литературы и философии были полезными прежде всего тем, что в эти годы мы знакомились с французским языком вообще, а не с сугубо греко-латинским медицинским профессиональным жаргоном.
Административная жизнь в университете протекала гладко. За шесть лет моего преподавания там не было ни одного ученого совета, и я не написал ни одного отчета о педагогической деятельности. О ней судили по успеваемости студентов. Прекрасная система. Зато у меня выкроилось время, чтобы написать первую часть книги «Лечение сифилиса», которую университет издал для студентов.
Для лекций в университете я выбрал себе послеобеденные часы, потому что утром должен был давать наркоз при операциях и принимать больных. Когда я замечал, что студенты не выдерживают мою лекцию полностью, то после первого зевка какого-нибудь студента прерывался и рассказывал анекдот, а потом продолжал лекцию. По моим наблюдениям, доклад, длящийся более тридцати минут, далее уже никто не слушает. Сорокапятиминутная лекция может быть эффективна, если она прерывается разбором схем и рисунков на доске, демонстрацией таблиц и диапозитивов. Мне запомнился случай с нашим профессором физиологии, китайцем. Он был прекрасным физиологом и никудышным преподавателем. На лекцию он приходил с учебником физиологии, открывал его и начинал читать. Все студенты моментально засыпали. Один раз студенты проснулись от неожиданно наступившей тишины. Оказалось, сам профессор заснул над своей книгой.
Проблема учебников решалась своеобразно. Китай не считался с авторским правом других стран и перепечатывал иностранные книги фотоспособом. Такие книги стоили в десятки раз дешевле оригиналов. Я начал писать свои лекции, пользуясь английскими и американскими источниками, которых в Шанхае было больше, чем французских, и это были новейшие издания. Университет быстро размножал их на ротаторе, и они продавались студентам за гроши.
В начале семестра для каждого курса публиковался список письменных и устных экзаменов по разным предметам на все субботы. Отметки за эти еженедельные экзамены записывались в досье студента в течение всего времени пребывания в университете. На выпускных экзаменах они учитывались для выведения итоговой отметки.
Некоторые китайцы с трудом овладевали французским, и на письменных экзаменах иногда были такие ответы, что их невозможно было прочитать. Столкнувшись с этим, я стал давать студентам по терапии задания такого типа: подчеркните, какие препараты применяются при лечении шистозомиаза — акрихин, стибофен, неосальварсан, нео-стибозан, йодистый калий, гарденал, ректо-саланталь, гепарин, метилсалицилат, коллоидальное золото.
В университете была стобалльная система оценки знаний, и за правильно подчеркнутое лекарство ставилось десять баллов, за неправильно подчеркнутое - ноль. Такие задания, где ничего не надо было писать, а только подчеркивать правильное, были облегчением и для студентов, и для профессора. В других заданиях по диагнозу болезни и ее стадии нужно было описать метод лечения. За такой ответ давалось двадцать баллов. Ответ на вопрос о механизме действия лекарства также оценивался в двадцать баллов. Правильный ответ на вопрос о диагнозе и схеме лечения по клинической картине заболевания мог принести тридцать-сорок баллов. Знания по дозиметрии лекарств оценивались по количеству правильных ответов в предложенном задании. Например: укажите средние дозы и пути введения для неосальварсана, меркузала, аметина, неостибозана, апоморфина, морфина, гидроксида алюминия, глицерина, сульфата железа, витамина В1. Десять правильных ответов - десять баллов. Правильные ответы на все вопросы и задания письменного экзамена в сумме давали сто баллов. Такая система была удобна для проверки знаний студентов по разным темам предмета. Стиль французского языка и орфографические ошибки не учитывались: китайцы писали на чужом для них языке. Эти факторы принимались во внимание только в письменных работах по французской литературе и философии.
Что касается политических предпочтений, то я заметил одну странную вещь (мне приходилось встречаться со студентами медицинских факультетов и других университетов Китая, в частности, американского и гонконгского (английского). У китайцев, учившихся в американском университете, явно просматривались проамериканские настроения, в английском - проанглийские, а вот у всех студентов «Авроры» почему-то преобладали антифранцузские настроения. Как ни пытался я разгадать эту загадку, не мог найти сколько-нибудь приемлемого объяснения. Все три университета имели весьма сходные характеристики: учились в них сыновья и дочери из богатых китайских семей, принадлежали они колониальным странам, во всех был силен религиозный элемент, но не было никакой религиозной дискриминации. Правда, у французов в меньшей степени проявлялась расовая дискриминация, чем у американцев и англичан, однако это не снижало антифранцузского настроя студентов «Авроры». Одна моя читательница, видевшая эти строки еще в первом варианте рукописи, высказала предположение о причине подобных настроений. Думаю, что она права, и привожу ее доводы.
Американский университет св. Иоанна находился на территории международного сеттльмента, и сами американцы всегда поддерживали фикцию, что США не колониальная держава. Названия улиц в сеттльменте сохранились китайские (Нанкин роуд, Сачуан роуд, улица Бьющего Ключа), а если и встречались среди них английские, то такие, которые не вызывали у интеллигентных китайцев неприятных ассоциаций. Я не помню ни одной улицы, названной в честь какого-нибудь английского генерала.
Университет «Аврора» был расположен на территории французской концессии, то есть на явно захваченной у Китая территории, а оккупантов китайцы ненавидели. Здесь, помимо улиц Мольера, Расина, Корнеля и Масс-нэ, были авеню Петэна, авеню Жоффр, авеню Фош, улица имени какого-то французского адмирала, принимавшего участие в подавлении антииностранного восстания в Китае, улица адмирала Курба, который воевал против китайцев во время боксерского восстания, авеню Дюбай, названная в честь французского генерала. Я забыл уже многие названия улиц, но французы не стеснялись называть их именами героев антикитайских акций. Получалось, что французы были явными шовинистами, а англичане скрытыми.
Бытовую сторону жизни студентов университет решал традиционно. Большинство студентов, приехавших из других городов Китая, жили в университетских общежитиях — трехэтажных домах, соединенных между собой крытыми коридорами. В довольно большие по площади комнаты селили по четыре студента, поэтому в каждой такой комнате стояли четыре кровати, четыре стола со стульями, этажерки для книги два-три гардероба, из утвари в распоряжении студентов было несколько термосов для горячего чая или воды. В двери, ведущей из комнаты в коридор, прорезалось довольно большое окно, чтобы проходивший по коридору профессор-иезуит мог видеть всю комнату - предосторожность, положенная по уставу ордена, но в отношении китайских студентов, по-моему, излишняя. Это трудолюбивый и непьющий народ, их с раннего утра, еще до завтрака, можно было видеть за книгами. После завтрака они опять зубрили, вечерами -точно так же. Не забудьте, что им нужно было постигать всю эту премудрость на чужом для них языке.
Виктор Смольников, 1947 г.
Бывшие студенты сохраняли связь со своим университетом долгие годы после его окончания. Со временем выработалась и поддерживалась такая традиция: каждый, окончивший университет и работающий в провинции, приехав по любой причине в Шанхай, немедленно приглашался ректором на чашку чая, на которую приходили и все его однокурсники, находившиеся в городе. Сервировался чай с пирожными и ставилось французское вино. Я помню один такой чай. Гость, доктор медицины, во время своего учения никакими талантами не выделялся. Отличился он один раз - на занятии по анатомированию трупов. Поссорившись со своим напарником, он схватил «пластрон», вырезанный из передней части грудной клетки (друзья препарировали легкие и сердце), и огрел им своего друга по голове... Во время чая ректор расспрашивал гостя, как он живет, как идет медицинская практика. Оказалось, что практической медициной он занимается мало, французский язык тоже основательно подзабыл, но зато купил хорошую велосипедную мастерскую, в которой у него работает шесть рабочих, и торгует велосипедами, а также чинит их. Когда речь зашла о медицинской деонтологии, выяснилось, что несчастный вообще забыл это слово.
Разница в заработной плате у иностранных и китайских преподавателей университета была очень большой. Чтобы читатель мог оценить ее, приведу, вероятно, неточные, но все же близкие к истине цифры. Если иностранный профессор получал четыреста американских долларов в месяц, то китаец - от двадцати до тридцати американских долларов, но в китайской валюте, причем доллары все время росли в цене, а китайские деньги - падали. Когда я пришел читать лекции в университет, мне назначили жалование на уровне китайских профессоров в китайских деньгах, но я к этому отнесся равнодушно, так как намного больше получал в фирме «М». На свою китайскую зарплату я мог купить одну бутылку шотландского виски в месяц. Остальным профессорам-иностранцам платили в американских долларах. Однажды я заговорил с моим китайским приятелем о зарплате профессоров. Он сказал: «Профессор-китаец зарабатывает меньше, чем рикша или кули». - «Почему же они не станут тогда рикшами?» - спросил я подсмеиваясь, на что китаец ответил совершенно серьезно: «Да не могут они, нет такой тренировки, чтобы бегать по десятку километров в день».
В 1950 году, как только китайцы забрали все иностранные университеты в свои руки, иностранным профессорам была предложена такая же зарплата, какую получали китайцы. Китайское правительство не увольняло никого, боже упаси, оно просто не хотело допускать расовой дискриминации в зарплате. Что ж, вполне справедливо, однако иностранные профессора тотчас ушли из университета. Меня же, все время получавшего китайскую зарплату, это не коснулось, и вскоре я остался единственным иностранным преподавателем в университете.
Французские профессора-иезуиты некоторое время тоже продолжали работать, потому что университет им ничего не платил - они жили за счет ордена, хотя судьба их уже была предопределена, так как они не знали китайского языка. Да и меня оставили еще на два года, только потому, что я преподавал на пятом и третьем курсах, то есть студентам, знавшим французский язык, однако в июне 1952 года университет полностью перешел на китайский язык, которого я совсем не знал, и моя преподавательская деятельность на этом закончилась.
Приход Мао Цзэдуна в Шанхай резко отразился и на китайской профессуре. У нас был блестящий профессор-китаец, окончивший парижский университет. Он был богат и приезжал на лекции в новой американской машине с шофером. И вдруг, хотя еще никакие меры против китайской интеллигенции не предпринимались, этот профессор появился в университете - пришел пешком - в синей простой китайской одежде (в нее Мао потом обрядил всех китайцев), на плече он нес палочку, на которой висели завернутые в тряпочку книги.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ШОТЛАНДИЮ
В английских колониях после трех лет работы было принято отпускать служащих в девятимесячный отпуск. Считалось без всяких на то оснований, что жара вредно действует на печень европейца и следует на девять месяцев съездить в любую страну по выбору служащего. Один русский полицейский пожелал провести свой отпуск в Эфиопии.
Мой черед в фирме «М» из-за войны наступил много позже. Первым уехал Бертон. Это было справедливо и логично, ведь он только что вышел из концлагеря. Когда он вернулся из Австралии, которую выбрал для своего отпуска, я встретил его на набережной и сказал: «Пора неприятностей прошла, сэр. Теперь все будет хорошо». (Работы у нас было много, дела шли хорошо, настроение у всех было приподнятое.) Он мрачно взглянул на меня и ответил: «Хорошо не бывает никогда, а неприятности у нас еще впереди». Он оказался пророком: такого паршивого периода, который мне пришлось пережить, начиная с поездки в Шотландию и до отъезда в Советский Союз в 1954 году, у меня никогда еще не было.
Мой отъезд был назначен на самый конец 1947 года. Я решил ехать на грузопассажирском пароходе «Сити оф Лакнау» водоизмещением восемнадцать тысяч тонн. В 1971 году наш журнал «За рубежом» писал, что этот тип судов начинает исчезать, но в 1947 году это были самые модные суда, на которых путешествовали люди, имевшие много денег и никуда не торопившиеся. Я подходил к этой категории по всем параметрам. Бертон тоже советовал мне плыть именно на этом судне, поскольку сам на таком же плавал в Австралию. Об Австралии он отзывался тепло: там ввели полусухой закон — виски в ресторанах подавали только в чайниках и пили его из чайных чашек. Правда, такие удобства существовали только для тех, кто мог позволить себе ходить по ресторанам, рабочие оказались в значительно более трудном положении. Пивные открывались не раньше шести часов вечера, и люди должны были выстаивать длинные очереди, чтобы выпить кружку пива. Другими впечатлениями об Австралии Бертон не делился, или я запамятовал, о чем он еще рассказывал.
Грузопассажирские суда Бертон нахваливал. По его словам, они действительно представляли собой место, где можно было хорошо отдохнуть. Компания продавала билеты не до определенного порта, а до страны. В какие порты будет заходить корабль, зависело только от груза, а не от желания пассажиров. На судне была одна палуба с каютами первого класса, за которые компания брала бешенные деньги. Я заплатил что-то около двухсот фунтов стерлингов за каюту с отдельной ванной, правда, в стоимость билета входило еще и первоклассное питание. По валютному курсу тех лет это составляло, кажется, более шестисот американских долларов. Никакого срока плавания заранее не объявлялось. Наше путешествие из Шанхая в Лондон продолжалось восемьдесят пять суток. Надо заметить, что это же расстояние обычный океанский лайнер преодолевает за пятнадцать суток, а самолет - за несколько часов, но я не вижу в этом никакой прелести. Ведь мы за время своего путешествия увидели так много интересного.
В этой главе - да и в последующих - имитируя манеру капитана Кука, я часто буду цитировать свой дневник, который начал вести сразу при выходе из Шанхая.
В тот период настроение у англичан было особенно антисоветским, а тут еще агент компании, мой пациент, прибывший на пароход, зашел ко мне в каюту и спросил: «Док, а правильно ли вы делаете, уезжая сейчас в Англию и оставляя семью в Шанхае? Ведь война может начаться в любой момент». Худшего напутствия трудно было бы придумать.
Недалеко от нас на рейде стоял белый скандинавский пароход «Кина», он шел следом за нами на Филиппины, в порт Табако, но днем позже. Забегая вперед, скажу, что скандинавам не суждено было дойти до Табако, их корабль потонул во время тайфуна.
«13 декабря 1947 года. В 10:00 погрузили вещи на пароход. Наконец мы снялись с якоря. Учусь убивать время после многих лет ежедневной спешки. Дошли только до Вузунга. Это старая полуразвалившаяся крепость в устье Вампу, притока Янцзы. Стали на якорь из-за плохой погоды. Настроение нервное. Последние газетные известия тревожат. Я подумал, что здоровые люди боятся вероятностей, а неврастеники - возможностей, что значительно расширяет круг их страхов. Желудок иногда превращается в тугой блин. У неврастеников душа, по-видимому, помещается в желудке.
Сейчас мы все время идем вдоль берега. Кругом китайские рыболовные джонки. Снялись с якоря в Вузунге 14 декабря, а через два дня должны прибыть в Гонконг. Погода совсем весенняя, и я гуляю по палубе без пальто. 16 декабря вошли в гонконгскую гавань. К нам подошел катер, и полицейский, говоривший с сильным русским акцентом, увидев мой советский паспорт, молча поставил печать, разрешающую мне выход на берег».
Я поехал на берег после обеда и за двадцать центов поднялся по висячей дороге на Пик - район, где проживает гонконгская аристократия. В Гонконге, как мне объяснили, о социальном положении человека можно судить по высоте над уровнем моря того места, где построен его дом. Удивительно удобный и простой способ определять ценность человека. Таская с собой альтиметр, можно точно узнать, к кому тебя пригласили в гости. С Пика открывается красивый вид на сам город, на гавань, на Ка-улуй, находящийся на материке, и на горы Гуандунско-го полуострова. Люди, видевшие Неаполь, говорят, что Гонконг красивее Неаполя, а люди, побывавшие в Пенанге, утверждают, что Пенанг красивее Гонконга.
Я видел Гонконг и Пенанг, но не менее красивыми мне показались и Табако со своим вулканом Манон, и Канди на Цейлоне, и деревни Южной Англии, и Северная Шотландия... А Урал, а Байкал! Вообще, такая категоричность, по-моему, несерьезна. Вот старые фабричные районы - с дымом, с мрачными зданиями - безобразны везде: и в Лондоне, и в Эдинбурге, и в Шанхае, и в Санкт-Петербурге. У меня есть книга английского художника под названием «Другой Лондон». В ней нет рисунков Букингемского дворца, Гайд Парка, статуи Эроса на Пика-дилли, но есть другие: ломбард и выходящая оттуда бедно одетая женщина с ребенком на руках, задние дворы Лондона с развешенным на веревках бельем, бары для бедняков... Страшный этот другой Лондон. Как-то в Лондоне я свернул с блестящей фешенебельной улицы за угол и вышел на параллельную улицу. Боже, какой контраст на расстоянии всего ста метров. Обшарпанные дома (правда, в 1947 году город еще не успел оправиться от бомбежек гитлеровцев, и повсюду виднелись кучи обломков и кирпичей), старушки в шляпках времен королевы Виктории - и по фасону, и по возрасту, какие-то нищенки в лохмотьях... И это в столице некогда гордой империи!
Гонконг намного чище Шанхая, хотя и там есть проблема трущоб, но до них я не дошел. После Шанхая Гонконг поразил своей красотой еще и потому, что Шанхай построен на болоте, и в нем почти нет никакой природной красоты. Конечно, Гонконг в этом смысле выигрывает.
Погода там намного теплее, чем в Шанхае. За три дня я попал из города, в котором уже наступила зима и все надели пальто, в город весны и здесь впервые увидел то, что англичане называют «огненными деревьями». Удивляют и восхищают растущие на деревьях большие красные и розовые цветы. Это очень непривычно, и сначала кажется, что их нарочно натыкали между листьев. Полюбовался, побродил по набережной. На следующий день снова пошел в город вместе с седьмым механиком. Когда узнал, что он «седьмой», то спросил у наших офицеров, сколько же на судне механиков. Они засмеялись и сказали: семь. Вернулись мы к обеду, а в шесть часов вечера корабль снялся с якоря и взял курс на Манилу.
На этом переходе мы попали в такую жестокую качку, что один механик и несколько матросов заболели морской болезнью. Я отлеживался на койке, подсунув под бок спасательный пояс. Бортовая качка была такая, что можно было вывалиться на пол. Чемоданы катались из угла в угол, как мячи. Я принял хлоретон и гоматропин бромид и чувствовал себя не так уж плохо. Во всяком случае, съедал все, что приносили. Как записано у меня в дневнике, в Гонконге сошли ехавшие с нами из Шанхая Смит, Скоггинс и Гаттон дочерью. Кто они такие, я сейчас не помню. Вместо них сел Симмонс, управляющий гонконгской трамвайной компанией. Он производил впечатление типичного среднего англичанина, думающего, что над ним, как и над Британской империей никогда не заходит солнце, но при более близком знакомстве оказался очень веселым и общительным человеком. Из прежних попутчиков осталась миссис МакГилкрист с двумя детьми и Миллер, которые ехали в Англию. Миллер, во всяком случае, так думал, пока в Сингапуре его не сняли с парохода. Но это отдельная история.
Я решил, что с Миллером путешествовать будет приятно. Инженер авиации, служивший в английской авиационной компании, он представлял собой типичный продукт английской высшей школы. Симмонс - образчик воспитанника английской средней школы - тоже знакомый мне тип, у меня было много таких, как он, английских пациентов.
От своего шотландского пациента Баллинголла я слышал, как в Англии выбирали людей для службы в колониях. Самое важное было знать, какую школу окончил молодой человек. Если школа была «приличная» (понимай -аристократическая, закрытая) - этого было достаточно и оставалось пройти только один важный тест. Ответственному и в свое время проверенному этим же тестом служащему поручалось провести эксперимент с юношей. Служащий приглашал кандидата в хороший ресторан, заказывал ужин и поил его виски и джином до состояния хорошего опьянения, все время наблюдая, как молодой человек себя ведет. Если он «переносил свой ликер как джентльмен» (английское клише), то все было в порядке. Если он начинал буянить, бить посуду и щипать проходивших мимо официанток пониже спины, все было кончено. Для службы в колониях он не подходил: таким поведением он мог уронить престиж белого человека. Очень простой и наглядный тест. Он доказывал, что молодого человека не научили в школе хорошим манерам, а главное - не научили пить. И это за пять лет среднего образования (не считая младших классов)! Значит, или молодой человек принадлежал к категории трудно обучаемых, или программа обучения в школе была поставлена из рук вон плохо.
Баллинголл много лет проработал в фирме на тиковых плантациях, где спиленные стволы деревьев перетаскивали слоны. Он рассказывал, что слоны часто страдали запорами и для их лечения использовалось кротоновое масло, самое сильное слабительное, известное медицине (сейчас оно для лечения людей не применяется из-за его, так сказать, чрезмерно взрывчатого действия). Доза для взрослого человека - одна капля. Слону давали чайную ложку. Через некоторое время он подымал хвост параллельно земле, а присутствующие разбегались на несколько метров во все стороны.
Море начинало успокаиваться, но все же весь день 18 декабря я еще не выходил из каюты. В Манилу мы пришли в пятницу утром, 19 декабря 1947 года, и в тот же вечер поплыли в Табако, так и не успев сойти на берег. Манильский залив имеет колоссальные размеры. Во время войны в гавани было затоплено двадцать шесть американских и японских военных судов, у некоторых из воды торчали отдельные части - мачты, нос или корма. Вдали виднелись очертания Коррегидора и острова Батан - мест жестоких боев американцев с японцами. Может быть, затопленные суда и помешали нам попасть в манильскую бухту. Во всяком случае, к нам подошли катера с почтой и таможенными чиновниками и привезли двух пассажиров: мисс Бленкинсоп (назовем ее так), англичанку, и американского адвоката, полковника морской пехоты Дьюи.
Мисс Бленкинсоп была привлекательной брюнеткой с несколько прыщавым лицом. Как нам доверительно сообщил стюард, она работала в Маниле в заведении для занятий древней профессией. Практического значения для нас это не имело: ее сразу же абонировал один из офицеров. Он ее опекал вплоть до приезда в Англию, где, по-видимому, ему пришлось начать свое лечение, которое в те далекие времена длилось, как я уже говорил, три года.
Блэр Дьюи, второй пассажир, который сел на корабль в Маниле, рассказал мне, что его двоюродный брат - губернатор Нью-Йорка, он выставлял свою кандидатуру на пост президента США, но на выборах провалился. После окончания войны Блэр Дьюи работал адвокатом на Филиппинах, где купил двухколесный прицеп к своему вездеходу и крокодила (собственно говоря, он моги не платить за крокодила деньги, так как этих тварей везде сколько хочешь, но крокодила голыми руками не возьмешь). На прицеп он поставил большой четырехугольный бак с водой, в котором возил крокодила по Филиппинам. Дьюи возвращался домой в США, но решил по пути посмотреть Францию и Англию и поэтому выбрал для путешествия английский пароход, о чем впоследствии сильно жалел.
Это был высокий, молодой, полный блондин с усами, в широких брюках. Дьюи страдал от жары, но, поскольку американцы тогда шорты не носили, никак не соглашался заказать их себе. Он был большим оригиналом. Его хобби была кулинария, и он писал книгу «Кулинарные рецепты всех стран». Меня он долго расспрашивал о секрете приготовления русского борща, но я этого секрета ему не открыл, во-первых, по политическим причинам (не знал, засекречен у нас борщ или нет), а во-вторых, я просто не знал, как его готовить. К обеду Дьюи неизменно появлялся с набором расфасованных по бутылочкам французских и американских соусов. От них и от американской привычки пить воду со льдом во время еды у Дьюи был хронический гастрит, и он страдал отрыжкой. Видимо, из-за этого его и посадили не за капитанский стол, где сидело большинство пассажиров, а за стол старшего помощника. С первого дня путешествия Дьюи и старший помощник возненавидели друг друга, и все их совместное продвижение по поверхности океана прошло во взаимной пикировке и выяснении, кто стоит выше -англичане или американцы - и кто из них сделал больше во Второй мировой войне. Эти словесные баталии происходили четыре раза в день: за завтраком, в обед, за чаем и во время ужина. Они, очевидно, не способствовали улучшению состояния здоровья больного гастритом Дьюи, и он горько жаловался мне, что старший помощник - «богом-проклятый-сукин-сын» и что до прихода в Англию он его непременно убьет.
Дьюи часто вспоминал о своем крокодиле. Оказывается, крокодил - очень умное животное, я этого не знал. Но вскоре после нашего знакомства тема воспоминаний Дьюи сменилась: он потащил меня к себе в каюту и показал буквально ворох фотографий своей филиппинской приятельницы, очень красивой молодой женщины, снятой в различных позах совершенно голой. На мой вопрос, почему на всех фотографиях она без одежды, Дьюи не моргнув глазом ответил: «На Филиппинах очень жарко», - и тут же рассказал мне о магическом ритуале, который исполняется филиппинками для сохранения любви мужа или любовника, но мое целомудренное перо отказывается его здесь воспроизвести.
Дьюи сразу вошел в нашу мужскую компанию и стал играть с нами в кости. Мы называли его судьей, чем он был чрезвычайно доволен. Симмонс как-то заметил: «У вас в Америке все или судьи, или полковники. Чтобы различать, кто есть кто, есть очень удобный и простой способ -по географической параллели: все живущие к югу - полковники, а все живущие к северу - судьи». Наш друг был одновременно и судьей, и полковником.
Дьюи постоянно проявлял недовольство плаванием. В Маниле он был счастлив со своей красавицей филиппинкой и с крокодилом, а тут у него каждый день случались неприятности с этим «богом-проклятым-сукиным-сыном» старшим помощником. Кроме того, его раздражали наши ежевечерние споры за стаканом виски или джина. Разговор обычно начинался с политики, и англичане ругали Советский Союз и США. Вначале Дьюи поддерживал англичан в их нападках на СССР, но вскоре заметил, что это ему невыгодно, так как в ответ я стал поддерживать англичан, когда они набрасывались на США. Тогда мы с ним заключили безмолвное соглашение: когда ругали Советский Союз, молчал Дьюи, а когда ругали США - я. Когда же англичане выдыхались, мы вместе с Дьюи начинали ругать Англию. После такой разминки начиналась следующая фаза: говорили о религии. Поскольку к ней все были одинаково безразличны, то и ругались все со всеми - просто так, из принципа или от безделья. К часу ночи разговор переходил на женщин - и воцарялось полное согласие.
В Табако мы прибыли на другой день вечером. О Филиппинах можно получить какое-то представление лишь в том случае, если проплывешь мимо всех островов - больших и крошечных. Посещение одного острова мало что дает. Филиппины - это архипелаг, насчитывающий более семи тысяч островов, из которых только две тысячи четыреста имеют названия. Больше половины островов вообще необитаемы. На остальных - двадцать миллионов жителей, которые говорят на семидесяти различных языках. На Филиппинах побывал английский мореплаватель сэр Франсис Дрэйк (кажется, одновременно пират: в те времена такое совместительство было в порядке вещей), затем островами долгое время владели испанцы и наконец американцы. По количеству людей, говорящих на английском языке, Филиппины стоят на третьем месте в мире после Англии с колониями и США. Конечно, английский язык филиппинцев объединяет, тут ничего не поделаешь.
Когда смотришь на карту Филиппин, конгломерат островов, где зарождаются тайфуны, то понимаешь, что надо быть хорошим мореплавателем, чтобы водить суда по этому ярко-зеленому лабиринту. Мы проходили мимо маленьких островков, мимо больших, но редко видели хижины на берегу. Везде ярко-желтый песок, ярко-зеленые пальмы, а за ними таинственные и темные заросли -тропические джунгли.
Подошли к Табако. Этот порт, так же как и Манила, находится на острове Лусон, но только в его южной части. В Табако заходят, очевидно, только за копрой. На обыкновенной карте его не найти, настолько это крошечный населенный пункт - его и городом-то не назовешь. Но вид, открывающийся, когда подплываешь к нему, неожиданно оказался впечатляющим. Обогнув какой-то островок, мы увидели почти прямо перед собой громадную темно-синюю гору, верх которой был закрыт длинной черной тучей, лежавшей параллельно земле, как большой, толстый блин. Это был вулкан Майон высотой около двух тысяч шестисот метров, который не упоминается ни в одном учебнике географии. Высота Везувия не превышает и тысячи трехсот метров, однако о нем знают все школьники. Правда, Везувий разрушил Помпею, но все же и о Майоне следовало бы упоминать в учебниках.
Табако расположен в глубине Албайского залива в лагуне. Это удивительно красивый городок, стоящий у самого подножия вулкана. Песок его пляжей не желтый, а черный, вулканический. Первое впечатление неприятное, как от всего непривычного, но песок мягкий. Местами растет кустарник, который заходит прямо в море, что довольно необычно. С гор текут прозрачные неглубокие речки, скрытые густыми зарослями бамбука, кокосовыми пальмами и банановыми деревьями. Много пальм ниппа, широкими листьями которых местные жители покрывают хижины, и море - буквально море! - ярких неизвестных цветов. Вода в лагуне бирюзовая. Набережная хорошо бетонирована и может принять, наверное, три океанских судна. Сразу от набережной тянется неширокая тихая дорога, по обеим сторонам которой расположены склады пеньки и копры. На некоторых складах еще остались написанные тушью большие иероглифы,- начинающиеся знаками «Великий Японский Морской Флот». Всюду запах кокосового масла. Если от набережной свернуть влево, то можно выйти к небольшому зданию муниципалитета, построенному в стиле греческого храма, с надписью по-английски. Перед ним находится площадь, на которой стоит старинная католическая церковь, почерневшая от времени, и отдельно от церкви - колокольня, а рядом - школа. Здесь начинается главная улица, которая носит название «Национальная», хотя на стене школы осталась мраморная плита со старинной испанской надписью «Calle Real» - королевская улица. За церковью - базар. Как и везде в Юго-Восточной Азии после войны, на нем торгуют американскими товарами: военными поясами, таблетками для дезинфекции воды, зелеными тюбиками с мазью, предохраняющей от сифилиса и гонореи, канистрами для бензина и вообще всяким хламом. Все постройки на базаре легкого типа, в основном, деревянные балаганы, но иногда обходятся и без них: товары разложены на растянутых американских походных кроватях.
Жилые дома на Филиппинах строят на сваях, поскольку всегда есть опасность наводнения от волн, которые с моря в любой момент может пригнать тайфун, однако иногда и сваи не помогают. Дома выглядят очень живописно: крыши из листьев пальмы «ниппа»; окна со вставленными вместо стекол пластинками перламутра от раковин, через которые, конечно, ничего не видно, но они пропускают внутрь немного дневного света; уютные резные балкончики, устроенные вокруг всего дома по периметру. На своих балкончиках филиппинцы разводят много цветов, словно мало им роскоши окружающей природы и мало моря всюду растущих цветов. Меня поразило, как часто среди горшков всевозможного типа, в которых выращивают цветы, встречаются ночные горшки европейского образца. Пикантно, тропический цветок - яркий и пышный, растущий из ночного горшка!
На ближайшей улице мы зашли в один из домиков с приусадебным участком. Главная забота хозяина такого участка состоит в том, чтобы каждый день полоть на участке дикую траву, бурно наступающую на городок из джунглей. Нам говорили, что если ее не выпалывать ежедневно, то через три недели участок становится непроходимым. Вся площадь участка занята кокосовыми пальмами. Одна пальма росла изогнуто, верхняя ее половина низко наклонилась и шла почти параллельно земле. Хозяин предложил кому-нибудь из нас забраться на пальму и сорвать кокосовые орехи. За десять сентаво рвать можно столько, сколько можешь с собой унести. Звучало заманчиво, а для гимнаста (я в то время им был) залезть было пара пустяков. Я без труда добрался до кроны, но, сорвав один большой кокосовый орех, сообразил, что другого мне уже не ухватить. Слезать надо было одной рукой цепляясь за ствол пальмы, а в другой - держа орех. В общем, обыкновенное мошенничество: на базаре такой орех я мог бы купить за пять сентаво.
В этот же день мы ходили смотреть петушиные бои. Довольно противное зрелище. На площади собралось много народа. Мужчины были одеты в рубашки навыпуск и белые грязные штаны. За плечами у некоторых женщин я заметил что-то вроде прозрачных сетчатых крылышек, прикрепленных к платью. Мне объяснили, что это метиски, а крылышки означают, что в их жилах течет и испанская кровь. Зрители сидели на корточках кругом, а два хозяина петухов науськивали их друг на друга. К лапам петухов были привязаны маленькие ножички, которыми они разбивали друг друга буквально в клочья. Зверское развлечение. Бой быков в миниатюре. Естественно, заключались пари.
Пассажиры и свободные от дежурства офицеры весь день провели на берегу. Мы бродили по черному песку, любовались цветами и наблюдали за купающимися в лагуне ребятишками. Они купались голышом.
Потом мы отправились в сторону вулкана Майон. Казалось, вершина его совсем рядом, но это, конечно, иллюзия. Если высота вулкана две тысячи шестьсот метров, то по его склону нужно подниматься, наверное, не меньше десяти километров. Сразу за хижинами, находящимися на окраине городка, начинаются джунгли. Они поднимаются от подножия вулкана вверх по склонам, и совершенно очевидно, что, если метров двести пройти вперед, можно окончательно заблудиться и вообще никогда не вернуться к цивилизации. Лианы опутали стволы деревьев, и в полутьме не разобрать, лианы это или змеи. Земля влажная. Под сенью листвы жарко и душно, как в бане. А из глубины леса доносятся зловещие незнакомые звуки: клекот, писк, шорохи и какая-то возня. Страшно. Нет, не гостеприимны джунгли.
Я прогулялся и в ту сторону городка, где расположилось «Китайско-филиппинское общество вдохновения». Что это означает, непонятно, но что-то безусловно китайское: китайцы любят такие названия, как «Павильон душистой старости», «Беседка десяти тысяч лет нескончаемого наслаждения»... Это была Китайская торговая палата, или пятая колонна Китая, отделения которой можно увидеть по всей Юго-Восточной Азии вплоть до Цейлона. Большой, чисто прибранный участок. На нем стоит несколько зданий. Первое здание - школа. Много китайских детей. Девочки одеты в белые блузки и синие юбки, мальчики - в белые рубашки и синие шорты. Филиппинские же дети ходят голышом, потому что море в пятидесяти шагах, а все время одеваться и раздеваться - требует много времени, хотя время здесь не считают.
«Китайская торговая палата — острие экономического и политического проникновения Китая в другие страны», -это строки из дневника, написанные в 1947 году; сегодня, в 1979 году, я думаю так же. Над главным зданием висит только китайский флаг. В Китае после войны иностранные фирмы обязаны были вывешивать флаг Китая наряду со своим собственным: надо уважать страну, в которой живешь. Но это похвальное правило, очевидно, не распространялось на самих китайцев, живущих в других странах. Филиппинцев, видимо, уважать не обязательно.
Пообедав на борту нашего плавучего отеля, мы снова ушли в город. Когда вернулись к вечернему чаю, на сходнях было вывешено объявление: «Всем вернуться на корабль к 8 вечера. Завтра уходим». Это было неожиданно, но мало нас удивило, хотя с корабля ничего не выгрузили и ничего на него не погрузили. На прощанье мы еще раз прошлись по Королевской улице и вернулись к набережной. У какого-то склада на мешках с копрой играл на гитаре филиппинец, около него сидели на корточках два молодых человека и курили манильские сигары. Превосходная вещь - манильская сигара!
Мы пробыли в Табако всего один день, 21 декабря, и, подняв якорь в 11 часов 22 декабря, направились в лагуны на юг, к Сингапуру. Через сутки мы вышли из архипелага, а уже 24-го, в английский сочельник, были на пути к Сайгону.
Католическое Рождество, 25 декабря, мы праздновали торжественно. Маленького МакГилкриста офицеры завалили подарками. Столовая была украшена английскими флагами и серпантином, везде летали воздушные шары. Утром в офицерском салоне мы с Миллером угощали офицеров виски и джином, а после обеда нас утащили к себе рулевые, чтобы напоить ромом, традиционным напитком английских матросов. Все рулевые были шотландцами, возможно, из шотландских горцев. Они плохо говорили по-английски. Их язык - гельский, одно из кельтских наречий, которое их предки привезли с собой из Ирландии много веков назад. Это черноволосые, черноглазые люди. Кстати, обилие брюнетов в Шотландии поражает. Мы привыкли думать, что брюнеты живут на юге, а блондины на севере. Блондинов и шатенов много на юге Англии, но англичане не кельты, а англосаксы.
Вечером был торжественный рождественский ужин с участием капитана Барклая. Впервые за двенадцать дней капитан соблаговолил отужинать в кают-компании (видимо, человеку с его званием не солидно слишком часто обедать со всякой шантрапой). За ужином он сообщил нам о гибели «Кины», того скандинавского корабля, который отплыл из Шанхая вслед за нами. Он зашел в лагуну Табако сразу после того, как из нее вышли мы. Наш капитан получил предупреждение по радио о приближении тайфуна и успел вывести корабль за пределы архипелага в открытый океан. А «Кина», покидая лагуну, где-то между этими островками попала в тайфун. Спаслось лишь несколько человек.
Ужин был обильным: фаршированная индейка и рождественский пудинг, баранина и кислое варенье - всего двадцать пять блюд. У меня сохранилось меню, на котором расписались капитан, старший помощник и все пассажиры. Сомерсет Моэм заметил как-то, что он не понимает англичан и их кулинарных предрассудков: где бы они ни находились - в Арктике или в тропиках, - но на рождество обязательно будут есть пищу, которая хороша в Англии, но в тропиках никуда не годится. Совершенно согласен с ним: есть индейку с яблоками на пути к Сайгону - гастрономическое преступление.
Через полчаса после начала ужина совершенно пьяным оказался наш судовой врач, пришедший к ужину на вид совершенно трезвым. Очевидно, успел зарядиться у себя в каюте. Ирландец с ярко-рыжими волосами и голубыми глазами, под тропическим солнцем он покрывался каким-то ярко-розовым загаром, упорно просиживая на надувном резиновом кресле бледно-зеленого цвета, которое ставил на одной из верхних палуб, все свое свободное время. А свободного времени у него было море. Он имел од-ну-единственную обязанность - ежедневное проведение приема в судовом госпитале, длящегося не более часа. На этом его работа заканчивалась. О медицине он ни с кем не говорил и, вообще, был немногословен, но виски пил регулярно и в достаточном количестве. Однажды он пригласил меня посмотреть его госпиталь на две койки. Это были довольно просторные каюты. Операционный стол. Лонгеты для укрепления гипсовых повязок при переломах костей, костыли, банки с гипсом, аптека, большая бочка английской соли (слабительное)... Наконец, очень вместительный склад с профилактическими резиновыми изделиями, их было так много, что он, наверное, смог бы обеспечить ими на одну ночь весь военно-морской флот ее величества королевы Великобритании.
На рассвете 26 декабря мы прибыли в Сингапур и пришвартовались довольно далеко от центра города - в грузовых доках, рядом со складами каучука. Здесь было жарче, чем в Табако: уже в семь часов утра я сидел в каюте без рубашки, правда, тело было совершенно сухим.
За два дня до Нового года ко мне на корабль зашел мистер Юстас, родственник семьи Дин, моих шанхайских пациентов, и пригласил меня встретить Новый год с ним и его друзьями в Танглин клубе - самом фешенебельном клубе Сингапура. Как мне рассказывал доктор Андерсон, английский писатель Ноэул Кауард, побывав в Танглин клубе сказал: «Теперь я понимаю, почему в Англии так не хватает кухарок», - после чего вход для него туда был закрыт. Ноэул Кауард сказал не просто глупость, это было почти оскорблением, которого женщины Танглин клуба совсем не заслуживали. Они являлись, между прочим, членами клуба, были хозяйками, а он - их гостем.
Сомерсет Моэм, который хорошо знал женщин из британских колоний и который почти никогда о женщинах хорошо не отзывался, не позволял себе ничего подобного ни при никаких обстоятельствах. У замечательного английского поэта Ричарда Киплинга, известного своими консервативными, ретроградными взглядами и сословными предрассудками, в одном из стихотворений есть замечательная фраза: «И жена полковника, и солдатская жена Маша - все же сестры в глубине души своей» (привожу ее достаточно вольный перевод, передавая только смысл). Я и сам за четырнадцать лет работы видел сотни этих женщин - англичанок, шотландок, женщин Уэллса. Ноэул Кауард был к ним несправедлив. О таких людях, как он, говорит хорошая русская пословица: ради красного словца не пожалеет и родного отца.
Накануне Нового года Юстас заехал за мной в восемь вечера, и мы покатили по мокрым улицам Сингапура за город. Танглин клуб - это большое здание, вернее, колоссальная веранда, а может быть, несколько смежных веранд - я не рассмотрел, так как была ночь. Стен нет, но во время тропического дождя, а ливень льет каждый день, опускаются соломенные шторы, чтобы дождь не попадал на веранду. Я не взял с собой в дорогу смокинга, но Юстас сказал, что сегодня это не важно, так как будет костюмированный бал и в пестрой толпе на мой внешний вид никто не обратит внимания. В большом зале не было места. Тут были и раджи в богатых костюмах, усеянных драгоценными камнями, возможно, даже неподдельными, и дамы в костюмах времен королевы Елизаветы (это в тро-пическую-то жару!), пажи, гренадеры, адмирал Нельсон с заклеенным глазом и подзорной трубой в руке, маркитантки времен герцога Уэллингтона, которые плелись в хвосте его армии для нужд солдат, был даже стоявший скромно у стены малайский полицейский, одетый в синий мундир, шорты, белый берет и белые краги. Его присутствие многих англичан шокировало, так как полицию в Танглин клуб не допускали. Потом выяснилось, что это был англичанин, вымазавший себе лицо сажей и нарядившийся в форму малайского полицейского. Я встретил доктора Андерсона, он приехал от больного, поэтому был в летнем смокинге. На голову он надел красную турецкую феску, изображая турецкого джентльмена.
Разошлись в три утра. Юстас одолжил мне свою машину с шофером-малайцем, чтобы добраться до корабля, и предупредил, что здесь, если иностранец едет один, сидеть рядом с шофером-малайцем не принято. Как праздновали Новый год у нас на корабле, не знаю.
В Сингапуре мы простояли девятнадцать дней. Сначала была забастовка докеров, и они не грузили резину, потом пошли дожди и резину грузить было нельзя. Затем погрузили большой ящик с питоном для лондонского зоопарка.
В Сингапуре мы потеряли нашего веселого Миллера. Накануне отплытия из Шанхая Миллер, инженер авиации английской авиационной компании, получил приказ о переводе в Лондон и срочном прибытии на новое место работы. Он мог лететь самолетами своей компании Шанхай -Гонконг и Гонконг - Лондон, в худшем случае - пятнадцать суток плыть на океанском лайнере Шанхай - Лондон. Но Миллер решил изобразить из себя наивного простачка и купил билет на корабль, который на тот же путь затрачивал более двух месяцев. Миллер не торопился на новую работу, и судьба жестоко его за это наказала. А случилось вот что. Из Батавии (Джакарты) пришел и встал рядом с нами большой голландский лайнер «Боиссевайн». Мы пошли посмотреть, что он собой представляет: делать все равно было нечего. Миллер пригласил нас в бар лайнера, собираясь угостить голландским джином, чтобы мы убедились, какая это дрянь по сравнению с английским джином. Лайнер был намного больше нашего корабля. Мы долго блуждали по широким, выложенным паркетом коридорам, в которых на полу, поджав ноги, сидели индонезийские слуги в пестрых национальных костюмах, и наконец мы попали в бар - большое помещение с длинной стойкой. Наше нахальное появление на чужом корабле никого не интересовало, для индонезийских барменов было достаточно, что пришли белые джентльмены. Миллер заказал всем по порции голландского джина «Боле» с тоником - газированной водой с добавлением небольшого количества сахара и хины. Многие живущие в тропиках иностранцы пьют джин с тоником из-за того, что хина предупреждает малярию. Чушь, конечно. В стакане тоника хины столько, что не хватит вылечить от малярии и даже малярийного комара. Однако в такой микроскопической дозе хина придает напитку еле уловимый приятный вкус горечи.
«Вот видите, джентльмены, - сказал Миллер, когда мы сделали по глотку, - какая это дрянь по сравнению с английским джином «Гордон». Только такие дураки, как голландцы, могут глотать эту отвратительную жидкость».
«О, хелло, Миллер!» - раздался вдруг за нами голос. Мы обернулись. Миллер встал: «Доброе утро, сэр», - ответил он подошедшему господину. - «Что вы здесь делаете? А, плывете на «Сити оф Лакнау». Ну, я вижу, вы сейчас заняты с этими джентльменами. Не буду вам мешать. Завтра в десять часов зайдите ко мне в офис», - холодно проговорил господин, в знак приветствия поднял указательный палец вверх и вышел. Миллер пробурчал: «Проклятье!» - и, заказав двойную порцию джина, выпил ее залпом.
А на другой день Миллер пришел выпить с нами прощальную порцию джина «Гордон», спустя несколько часов он вылетал в Лондон, и, угощая нас, ворчал: «На кой черт я полез на этот проклятый голландский корабль? Сидел бы у себя в каюте. А тут только вышел подышать свежим воздухом, как напоролся на управлявшего нашим сингапурским отделением. Будь все это проклято!»
Гуляя по городу, мы обнаружили на линии железной дороги, связывающей Сингапур с севером Малайи, интересный вокзал: его потолки, стены и пол были оклеены разноцветной резиной, а на стенах изображены еще и сцены из малайской жизни. В буфете через двойные стекла витрин холодильников видны разложенные плитки прекрасного голландского и английского шоколада. Но как только вы купите такую плитку, ее нужно сейчас же съесть, иначе через десять минут у вас в руках будет пригоршня коричневой жижи. Чересчур жарко. Американцы, правда, во время войны придумали добавлять в шоколад какие-то высокомолекулярные жиры. Такой шоколад не тает в тропиках, но есть его невозможно, хорошо им только заколачивать небольшие гвозди. Ужасная дрянь.
Пассажиры скучали. Девятнадцать дней сидеть в Сингапуре около каучуковых складов с упакованным в ящик питоном в трюме! На набережной - ни одной пальмы, ни одного цветка. А тут еще забастовка. Порт весь вымер, как после эпидемии чумы. Никого, ни души.
Адвокату Дьюи пришла в голову естественная для его профессии идея посмотреть Дворец правосудия, и он пригласил меня. «Надо посмотреть, как эти проклятые англичане вершат правосудие, иначе мы сдохнем от скуки на этом богом проклятом корабле», - сказал он, и мы пошли. Пешком, конечно. Своей машины мы не имели, а в трамваях вместе с малайцами и китайцами белым людям было не принято ездить. На рикшах - можно, потому что рикша - человек с другим цветом кожи, но рикш в порту не оказалось, наверное, тоже из-за забастовки.
Дворец Правосудия находился в центре города. Большое белое здание с куполом - совсем как вашингтонский Капитолий. Дежурному-малайцу, стоявшему у входа во Дворец, Дьюи пояснил, что мы американские адвокаты и путешествуем вокруг света, изучая формы правосудия в различных странах. Малаец поклонился и открыл перед нами дверь. Мы вошли в очень большой двухцветный зал. Наверху была галерея, идущая под самым куполом вокруг всего круглого зала. Это были места для публики. Мы же, благодаря «находчивости» Дьюи, устроились внизу, в зале, прямо перед судьей, на местах для официальных лиц.
Разбор дела не представлял для меня никакого интереса. Судили индуса. Судья задавал вопросы по-английски, переводчик переводил. Довольно скучная процедура. Интересен, на мой взгляд, был только сам судья: в красной мантии до пола и в парике - трудно сказать, как это можно выдержать в сингапурскую жару.
Вдруг судья заметил нас - двух иностранцев, жующих американскую резинку (и это в зале британского суда!). По его указанию к нам подошел чиновник-малаец и вежливо осведомился, кто мы такие. Дьюи ответил, что американские адвокаты, и повторил все уже сказанное у входа. Чиновник доложил судье, и тот удовлетворенно кивнул головой. Он понимал, что все американцы хамы, и наше появление в зале суда без его разрешения не удивило его, а то, что мы жевали резинку, доказывало наше стопроцентное американское происхождение.
Именно в этот напряженный момент произошло землетрясение. Весь корпус здания с его гигантским куполом качнулся сначала в одну сторону, потом в другую. Все присутствующие в зале подняли вверх головы. Дьюи шепнул мне: «Док, пошли отсюда к черту, пока на нас не обвалилась эта богом проклятая крыша. На сегодня с меня хватит британского правосудия». Мы встали, поклонились судье и вышли.
Возле нашего корабля мы встретили капитана Барклая. «Вы знаете, сэр, - обратился к нему Дьюи, - мы с доктором сегодня пережили землетрясение в самом центре Дворца Правосудия». Капитан посмотрел на нас и изрек: «Наверное, вы оба были пьяны».
«Богом-проклятый-сукин-сын», — воскликнул Дьюи, и мы отправились в наш салон. Бар был открыт, заказав виски с содовой, мы сели играть в кости. Вскоре принесли вечернюю газету. В ней была небольшая заметка: «Землетрясение в Сингапуре. Сегодня в 10:50 утра на острове Сингапур произошло землетрясение. Длилось оно пять секунд. Сотрудники метеостанции говорят, что, хотя у них нет инструмента для измерения силы землетрясения, его можно считать незначительным». Дьюи оживился, послал боя за пароходными бланками для писем, специально отпечатанными для пассажиров, вырезал заметку из газеты, приклеил ее на бланк, а под ней написал: «Повторяем: мы не были пьяны. Доктор Смольников. Полковник Дьюи», - и сбоем отослал письмо капитану. Вечером мы получили назад наше письмо, на котором внизу карандашом было приписано: «Я был на берегу и ничего не заметил, значит, пьян был я. Барклай». Этот документ я сохранил.
Дьюи все еще ходил в своих длинных брюках и снова стал жаловаться мне на жару. Мы возобновили нашу дискуссию. «Вы не понимаете, судья, - сказал я, - как хорошо в шортах. В длинных брюках под коленями мокро, складка не держится. Почему вы не наденете скафандр водолаза? Ведь это одно и то же. А в шортах - прелесть. Легко. Складка на штанах не мнется, потому что штанов практически нет. Вокруг ног играет свежий эфир».
Дьюи сдался. Он пошел к портному, и назавтра в его каюте лежали шесть пар белоснежных шортов. Он очень смущался, когда на ужин пришел в кают-компанию в шортах. Но никто этой перемены не заметил: теперь он был одет, как все. Уже будучи в Пенанге, мы случайно столкнулись с группой американских миллионеров, которые зафрахтовали океанский лайнер «Президент Монро» и совершали на нем кругосветное путешествие. Они разговорились с нами. Все начало беседы Дьюи держался несколько в стороне, как будто у него была особенно заразная форма проказы, но когда очередь здороваться дошла и до него (все американцы были в мокрых от пота, мятых, длинных брюках), он сказал: «Леди и джентльмены, прошу извинить меня за шорты, я стопроцентный американец». Потом отвел меня в сторону и шепнул: «А вы правы, док, насчет эфира. Действительно играет».
Вечером 14 января 1948 года мы покинули Сингапур и рано на рассвете пришли в порт Суаттенхам. Река, ведущая в порт, так заросла в устье какой-то высокой травой, что для непосвященного было неясно, как капитан мог ориентироваться. В самом порту река похожа на Вампу в Шанхае, с той лишь разницей, что там у самой воды по глинистым берегам бегают многочисленные крабы, а тут прямо под сходнями лежат и нежатся десятки крокодилов, не очень больших, длиной с раскладушку, может, чуть длиннее, но совсем не приятных. Дьюи, увидев их, очень обрадовался. Еще бы! Старые знакомые.
Сам порт - удивительно симпатичный городок. Одна широкая асфальтированная улица ведет неизвестно куда, а вдоль нее - большие подстриженные лужайки, скорее, целые поляны. На них на довольно большом расстоянии друг от друга (во избежание пожара) стоят бунгало - летние домики на сваях, с большими верандами. Поляны с домиками разделены узкими асфальтированными улочками, никаких заборов нет, и создается впечатление, что весь городок состоит из ста бунгало и ста лужаек.
В порту мы простояли пять дней: что-то сгружали, что-то нагружали - нас это перестало интересовать. У нас были свои заботы: кончилось пиво. А еще пишут, что при современной технике мореплаватели не терпят никаких лишений! Вообще непонятно, почему пиво для пассажиров не могли купить в порту. Старший стюард сказал, что капитан отказался это сделать, поскольку впервые в его практике пассажиры за такой короткий срок выпили на корабле запас пива, которого должно было хватить до Лондона. Но возможно, старший стюард сказал неправду, предполагая как-то извлечь из этой ситуации собственную выгоду. Ведь старшие стюарды склонны к коммерческим сделкам. Ричард Гордон в своей книге «Доктор в море» авторитетно заявляет, что они с удовольствием продали бы и трубы парохода, если б думали, что это сойдет им с рук. Как бы там ни было, двинуться без необходимого запаса пива в Индийский океан - все равно, что выйти в море без запасных якорей. На удачу, рядом стоял английский корабль, на котором, как оказалось, кончилось виски, и Симмонс, договорившись с нашим старшим стюардом, организовал обмен бутылок виски на ящики с пивом.
В порту нашего пребывания около набережной теснились ряды маленьких лавочек, торгующих всем чем угодно, но, главным образом, листьями бетеля, которые здесь жуют все. Тут же продавали учебники малайского языка - жалею, что не купил, говорят, очень легкий язык. Мне показали «пальму путешественников». Ее листья растут вертикально, поэтому на их поверхность не падают прямые солнечные лучи и испарение влаги сводится к минимуму. Между корой и древесиной скапливается вода, и достаточно кору проткнуть, чтобы утолить жажду. Мне, правда, не посчастливилось увидеть людей - малайцев или, тем более, англичан, - которые утоляли бы жажду таким способом.
Сразу за городом в роще, где росли пальмы и бананы, находился индуистский храм, таинственный и прекрасный. Перед храмом располагался довольно большой бассейн, наполненный голубой водой. От берега к центру шли широкие ступени, уходящие под воду. Очевидно, бассейн предназначался для религиозных омовений. Дело шло к вечеру. Один индус разделся и, освещенный косыми солнечными лучами, потихоньку сошел в воду - картина, достойная кисти Рериха.
В Суаттенхаме мы пробыли пять дней, наконец, вышли в море и повернули прямо на север к Пенангу, куда и пришли через двенадцать часов. Широкий пролив отделяет порт от Малайского полуострова. Прямо из порта, если сесть в вагончик подвесной дороги, можно попасть на вершину Пенанг Хилла (холм около тысячи метров высотой). Вагончик вмещает около десяти пассажиров, окна его открыты, и пассажирам приходится отворачивать лицо от попадающихся на пути ветвей деревьев, усыпанных цветами. Несколько раз вагончик останавливался на станциях. От конечной остановки начиналась неширокая хорошо асфальтированная дорога длиной километра два, ведущая к самой высокой точке острова, на которой находился, естественно, ресторан — большая беседка с прекрасным обзором окрестностей. На востоке виднелись черносиние Малайские Альпы, у подножья которых распростерся порт Баттеруорт, на западе - просторы Индийского океана. Внизу прямо от холма начиналась райская долина, на которой раскинулся город Джорджтаун. Сам город легкий, белый и чистый. Мусор, гонимый ветром по улицам, состоит не из обрывков газет, а из облетевших лепестков белых и розовых магнолий и цветов «огненных деревьев». Природа такая же, как в Сингапуре, но в Сингапуре больше города, а в Пенанге больше природы. Еще в Сингапуре я заметил, что дома в Малайзии без труб, а в окнах нет стекол. Вместо них в окна вставляют жалюзи, которые закрывают на ночь и при косом дожде. Кухни строят в саду, чтобы в доме от них не было жарко.
В Пенанге есть Храм Змей. Это индуистский храм с большой площадкой, выложенной камнями. Над частью площадки - навес, под ним ползают змеи всяких родов и видов, отгороженные от зрителя не особенно высокой стеной. Интересно, конечно, но противно. Начинают здесь работать рано, возможно, и до восьми утра. После часа дня иностранцы вообще, кажется, не работают. Все едут обедать и отдыхать часов до пяти, а затем - в клуб. Меня пригласили отужинать в Пенанг клубе. Хозяин рассказал мне, что недалеко от берега у клуба имеется свой плот на якорях, на котором загорают пловцы. Плот соединен с рестораном клуба стальным тросом, и, если вы нажмете на имеющуюся там кнопку звонка, из ресторана прямо на плот спустят для вас полдюжины бутылок холодного пива.
В одном городском банке я наблюдал, как в час дня сторож-индус устраивался на ночлег. Между колоннами учреждения, вверенного его бдительности, он поставил кровать, под нее засунул миску с пищей и металлический сосуд с водой: его обстоятельные приготовления выдавали намерение отдыхать до следующего утра. В магазинах такая же сонная атмосфера: никакой спешки и полное отсутствие покупателей. Да и вообще, никто никуда не торопится.
Я купил себе в книжном магазине «Пармскую обитель» Стендаля на французском языке и книгу Виктора Перселла «Малайзия». Автор приводит много любопытных фактов о географии и климате страны. Искажения начинаются в политическом разделе книги. Там есть намек на то, что разгром британской армии в Малайе был чуть ли не специально запланирован Британским генеральным штабом. Самый пикантный аргумент: падение Сингапура дало возможность Англии помогать России оружием и таким образом косвенно обеспечило победу СССР. Очень великодушно, без сомнения, проиграть всю малайскую кампанию, отдать Сингапур — и все только для того, чтобы помочь русским. В истории такие случаи встречаются, наверное, не слишком часто, во всяком случае, я узнал о подобной жертвенности одной страны ради другой впервые из книги Виктора Перселла.
Автор также выступает в защиту плантаторов и зачем-то пишет, что они пьют очень умеренно, не больше двух порций виски и только по вечерам. Ну, если Перселл акцентирует на этом внимание читателя, значит, имеются и другие наблюдения. Сомерсет Моэм, например, пишет совсем другое. Есть плантаторы совсем непьющие - а почему бы им и не быть? - есть пьющие по две порции виски в день (Plantator purcellicus L., редкая разновидность в зоологии, названная в честь ее первооткрывателя Перселла), а есть и много пьющие. Всякие есть. Но все-таки пишет Перселл интересно, книга читается легко, хотя, как я уже сказал, в интерпретации стратегии Британского генерального штаба в Малайе он несколько запутался.
В Пенанге мы пробыли три дня и покинули его в семь часов утра 23 января 1948 года, взяв курс на запад в сторону Цейлона. Стояла прекрасная погода.
Мы начали осваивать Индийский океан. Остались на юге черно-синие очертания гор Суматры, и все пассажиры, готовясь к долгому и скучному переходу вытащили свои атласы, чтобы каждый день отмечать на карте пройденный путь. Я купил в Шанхае самый последний универсальный атлас мира американского издательства «Хаммонд»: девяносто шесть прекрасно отпечатанных карт. Великобритании отведено в нем четыре страницы, а на каждую европейскую страну - по одной. На европейскую часть СССР - тоже одна страница (масштаб для Англии восемьдесят километров в сантиметре, для СССР - триста), на азиатскою часть СССР - ни одной: она включена в общую карту Азии (масштаб - тысяча двести), и на ней ничего полезного нет. На Канаду отведено восемь страниц, в два раза больше, чем на Великобританию, а на США с ее колониями (хотя американцы говорят, что у США таковых нет) - сорок девять страниц. Конечно, это не универсальный атлас мира, а просто атлас США, в который между прочим включены карты остального мира. Недаром один англичанин уныло заметил, что среднему англичанину (да, наверное, и среднему американцу) из русской географии известно только то, что в России имеется восемь городов: Москва, Ленинград, Омск, Томск, Минск, Пинск, Одесса и Владивосток (с ударением на первое «о»).
За сутки прошли 428 морских миль, то есть около 793 километров. Одна морская миля равна 1852 метрам. Читать серьезные книги просто невозможно. Книги по медицине, которые я прихватил с собой, ни разу не взял в руки. Другие пассажиры читали старые номера английских и американских журналов. Читал купленную в Сингапуре «Пармскую обитель» Стендаля на французском языке. Странно, на таком большом корабле не было библиотеки. Пассажиры обменивались имевшимися у них книгами.
Симмонс дал мне почитать очень популярный тогда эротический роман «Амбер навеки», который показался мне настолько скучным, что я даже не запомнил фамилию автора. После «Дневника мисс Фанни Хилл» Джона Клиланда, «Гамиани» Альфреда де Мюссэ и романа Лоренса «Любовник леди Чаттерли» это был детский лепет. Западная литература только начинала идти от эротики к порнографии и намного позже подарила читателям такие перлы, как «Тропик рака» Генри Миллера и «Авантюристы» Гарольда Роббинса. (Кстати, один советский профессор купил в Женеве «Тропик рака», полагая, что это книга по онкологии). На фоне современных порнографических книг роман «Любовник леди Чаттерли» - действительно серьезное произведение, и я причислил бы его к классу «целомудренной порнографии», если такой класс существует. Да, там все есть и все названо своими именами, не научно-латинскими, а простонародными. Но и французский классик Рабле не особенно стеснялся, когда писал свой знаменитый роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». И «Похождения бравого солдата Швейка» целомудренным произведением не назовешь, но это один из крупнейших романов нашего времени. Французы приняли со смехом и гривуазными шуточками книгу Рабле, а англичане многие годы не разрешали печатать в Англии книгу Лоренса, и я впервые прочел ее на французском языке в 1932 году. В США эту книгу тоже не печатали, более того, генеральный почтмейстер США запретил даже ее пересылку по почте. Тогда издательство подало на него в суд. Судья для решения вопроса о том, порнографическая ли это книга, применил своеобразный статистический метод: подсчитал количество порнографических сцен и выражений и сравнил их с количеством не порнографических. Последних было больше, и он объявил книгу Лоренса непорнографической. После этого Англия вдруг решила, что она является «все позволяющим обществом», разрешила публиковать произведения Лоренса и заодно узаконила актом парламента гомосексуализм.
Вообще метод американского судьи не такой уж абсурдный. Действительно, можно сделать какие-то выводы, рассматривая соотношение фабулы романа с порнографическими сценами и выражениями. В романах «Тропик рака» и «Авантюристы» фабула банальна, она нужна только для того, чтобы иметь возможность вкрапить порнографические сцены и нецензурные выражения. В некоторых частях книги «Авантюристы» за каждой «нормальной» главой обязательно следует глава с описанием какой-нибудь сексуальной аберрации (сексологи начала XX века называли это «извращением»). Тут ясно, для чего книга написана.
Но Лоренс пишет об искренней любви двух молодых людей, которые не искали разврата, и его в книге нет, хотя все любовные встречи описаны с предельной натуральностью. Если эти сцены не нравятся Франсуа Мориаку, то это еще ничего не значит. Мориак - сугубо католический писатель, и ему Лоренс не может нравиться. Он даже пишет, что в сценах Лоренса так и сквозит первородный грех. Однако очень мало людей сегодня верят в первородный грех, и аргумент Мориака повисает в воздухе. В романе Лоренса много разговоров о социальном положении в Англии после Первой мировой войны. В серьезную фабулу романа вписаны любовные встречи двух главных героев, и Лоренс здесь достаточно откровенен.
Разврат можно искать везде, и при желании - везде его обнаружить. Наши моралисты нашли разврат даже в толковом словаре Владимира Даля, после чего выбросили все «неприличные» слова и сопутствующие им пословицы. К моему глубокому удовлетворению, цензоры нравственности пропустили одно слово и «безнравственную» пословицу к нему. Очевидно, не поняли ее. Слово это красуется и в последнем издании словаря.
Еще в этом плавании мне попалось «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма. В оригинале название звучит более лаконично: «О человеческом рабстве», или «О подчинении человека», или, точнее, «О зависимости человека». Русский перевод названия хорош и поэтичен, но после раздумий о творчестве Моэма, приходишь к выводу, что, весьма возможно, Моэм хотел вложить в название именно тот смысл, который вложил, и мы не вправе заменять его другим. Моэм был блестящим стилистом английской прозы и знал, что писал. Название, которое он дал своему автобиографическому роману, имеет смысл, мимо которого так просто пройти нельзя. Давайте представим себе, что Моэм писал свой роман по-русски и назвал его «Бремя страстей человеческих». Как это перевести на английский язык? Бремя - это тяжесть, вес, который давит на плечи, на душу, тяжесть забот. Тяжесть человеческих страстей? Да, очевидно, это довольно близко. В такой интерпретации названия скрыт христианский постулат о том, что страсти человеческие тяжелы, весомы, и их лучше избегать. Но посмотрите американский словарь Уэбстера: что означают слова «bond», «bondage»? Моэм пишет о рабстве, которого он пытался избежать, но его связывали цепи (bond). Он сам искал этих цепей, этого рабства.
Моэм - писатель, который не бросается словами. Одно и то же выражение, если оно его чем-то привлекло, часто повторяется в разных произведениях. В очень необычном для Моэма рассказе «Лорд Манутдрэго», где он как будто увлекается психоаналитическим методом, а на самом деле его развенчивает, мы не случайно, я повторяю - не случайно, встречаемся с тем же термином «bondage». В рассказе описан врач-психоаналитик, который помог многим больным, хотя сам в этот метод не верил: «... он смог вырвать ненормальный инстинкт и таким образом освободил немало людей от ненавистной им зависимости» (Моэм так и пишет: от ненавистной bondage). Это же слово есть и в названии большого романа. Так что, на мой взгляд, русский переводчик не понял смысла названия романа Моэма.
Когда я читал Моэма впервые - именно этот роман (его рассказы я знал раньше) - мне было тяжело читать о страсти Филиппа, хромого и бедного студента-медика, к отвратительной проститутке Милдред. Я говорю «отвратительная» не как моралист. Я убежден, что есть проститутки и привлекательные, но так оценивает ее сам Моэм. Он мучает своего читателя на протяжении всего романа, и только в конце, где описаны сомнения Филиппа в том, что ему делать, ехать искать счастье в Испанию в «кружевных замках Толедо» или остаться с совершенно необыкновенной Салли, простой, но такой чистой, честной, умной и красивой девушкой, Моэма как будто прорывает, и он вдруг пишет десятки страниц, полных самой высокой лирической поэзии. Трудность чтения книги Моэма в начале имеет простое объяснение. Если читатель принадлежит к психологическому типу автора, то будет читать роман с наслаждением с самого начала, а я принадлежу к другому психологическому типу, и мне это было тяжело, зато конец романа я прочел с наслаждением.
Чтение романа по пути в Англию склонило меня к решению обязательно посетить в Лондоне Национальную галерею, которой столько внимания уделяет Моэм в своей книге. Так я и сделал. Мне мало что удалось увидеть в Лондоне - надо было торопиться к началу занятий в Эдинбург, - но зато несколько раз я видел картины, которые с такой любовью описывает Моэм: и непонятные удлиненные фигуры Эль Греко с особенным атласным отсветом одеяний на коленях (много лет спустя я любовался этим на картине Эль Греко «Св. апостолы Петр и Павел» в Эрмитаже) и другие картины, любимые Моэмом, который, очевидно, тонко чувствовал живопись. Под влиянием его произведений раз десять я был в Национальной галерее в Лондоне, чуть ли не через день заходил в Национальную галерею Шотландии в Эдинбурге, а потом были Эрмитаж и Пушкинский музей с уже полюбившимися мне импрессионистами.
Такими были последствия первой стадии увлечения Моэмом. Потом я начал читать у него все подряд. Я перечитывал и продолжаю перечитывать романы «Раскрашенный занавес», «Луна и грош», «Театр», «На лезвии бритвы», «Тогда и теперь», «Подводя итоги» и все его короткие рассказы. Я много беседовал с моими английскими знакомыми - и почитателями, и ненавистниками Моэма. Некоторые дамы мне говорили: «Это мужской писатель», «Он всегда плохо отзывается о женщинах», «Он такой же, как Голсуорси и Бернард Шоу», «Он возмутителен», «Он просто свинья». Думаю, такие отзывы вызваны тем, что Моэм часто описывает женщин с отрицательной стороны. В «Письме» женщина убивает изменившего ей любовника, выпустив в него обойму из револьвера, она продолжает в него стрелять даже тогда, когда он мертв; в рассказе «Перед файф-о'клоком» жена малайским ножом перерезает горло своему пьяному мужу, когда тот спит; в «Нил МакАдам» распутная русская Дарья пытается соблазнить юного красивого и почему-то девственного шотландца; в «Человеческом факторе» описана английская аристократка, сведшая в могилу своего мужа и сбежавшая от общества в компании со своим шофером. Ну, ее еще можно понять. Смотря какой шофер. В «Падении Эдварда Барнарда» именно Барнард остается положительным героем, а его возлюбленная Изабелла Лонгстаф показана надутой, самовлюбленной эгоисткой. В «Источнике вдохновения» модная писательница с эзотерическими претензиями выведена последней дурой, над которой смеются близкие друзья и которую бросает муж, вполне порядочный человек; он женится на их кухарке, то есть на женщине со здравым смыслом. В «Завтраке» показана обжора (женщина, конечно), от которой пострадал сам Моэм, оставшийся после встречи с ней и без денег, и без ужина. В «Пустячном случае» хороший человек платит своей жизнью за любовь к никчемной, пустой и противной леди Кастеллан. В общем, женщинам от Моэма достается основательно. Но, неужели в его произведениях нет ни одной порядочной женщины? Есть. Например, в рассказе «Дверь возможности», но тут у женщины второстепенная роль - оттенить подлость мужчины (ее мужа). Есть у Моэма и рассказы, в которых о женщинах не сказано ни одного плохого слова, например: «На окраине империи», «Тайпан», «Французский Джо», «Поэт», «Мэхью», - но в них нет и женщин.
Почему Моэм писал о женщинах только так? В чем причина его мизогинии? Было бы весьма любопытно попытаться разобраться во всем этом, пользуясь его собственным советом, который он дает в самом начале рассказа «Пустячный случай»: «Как все было - описано точно, почему - об этом пришлось догадываться и, возможно, мои предположения покажутся читателю неверными. Тут никто не может сказать что-либо наверняка. Но для того, кто интересуется душой человека, нет более увлекательного занятия, чем поиски побуждений, вылившихся в определенные действия». (Перевод М. Литвиновой).
Для того чтобы высказать какую-то гипотезу о самом Моэме, кроме «Бремени страстей человеческих», надо прочесть еще и рассказ «Его превосходительство». Рассказ этот относится к тому периоду творчества Моэма, когда он, проработав во время Первой мировой войны в британской разведке, написал о ней семь прекрасных вещиц. «Его превосходительство» - одна из них. Так же, как «Бремя страстей человеческих», это произведение автобиографическое. Автор выступает здесь в образе британского агента Ашендена; его превосходительство, как и бедный студент-медик Филипп, - это сам Моэм.
Вчитайтесь внимательно в текст. Это рассказ о блестящем, подающем надежды молодом английском дипломате, влюбившемся во французскую акробатку Алике из бродячего цирка, проститутку не по профессии, а, очевидно, по небрежности (между прочим, Моэм обвиняет в этом некоторых чеховских героинь, которые отдаются не потому, что им это нужно, а просто потому, что иначе было бы хлопотней). Цирковой актрисе нравится английский юноша, хотя она и не подозревает, насколько он выше ее по положению, а выше Моэм ставит молодого человека для того, чтобы более эффектно показать всю глубину его падения. Моэм любит контрасты. Резкий контраст света и тени делает блистательным этот его рассказ. Отточенная техника письма писателя, а не моральные соображения -вот что заставляет восхищаться читателя.
Юноша из этого рассказа - блестящий тонко чувствующий аристократ, а девушка - пошлая циркачка, которая на первое свидание пришла в какой-то красно-зеленой шляпе, от чего его даже передернуло. Но он не может, не в состоянии от нее отказаться, его преследует какая-то слепая страсть, ради которой он готов бросить все: и блестящую карьеру, и общество, в котором вырос, и прекрасную невесту. Это повторение темы «Бремени страстей человеческих». Юноша берет отпуск и едет с цирковой труппой по городам, чтобы только быть рядом с этой женщиной. Над ним добродушно посмеиваются другие актеры, а он охотно выполняет любые работы, он даже» учится стоять на голове, этот будущий блестящий дипломат. У Алике неприятный хриплый голос, но он влюблен в этот голос (между прочим, у проститутки Милдред из «Бремени страстей человеческих» тоже был хриплый голос, возможно, от сифилиса голосовых связок). Она периодически уходит ночевать с хозяином цирка и уведомляет об этом заранее влюбленного в нее англичанина. Он страдает от ревности, но терпеливо все сносит.
При сравнении романа «Бремя страстей человеческих» и рассказа «Его превосходительство» у врача невольно возникает мысль, что в обоих случаях мы имеем дело с обычной алоголагнией - жаждой страданий, которая бывает пассивного (мазохизм) или активного (садизм) характера. Всякий нормальный человек послал бы к черту и проститутку Милдред, от которой страдает студент-медик Филипп, и акробатку Алике, от которой столько перенес «его превосходительство» (то есть тот же Моэм). Моэм так описывает встречу с Алике: «...она поздоровалась с вычурной вежливостью толстой тетки из табачного киоска. На ней было длинное пальто из поддельной норки и колоссальная яркокрасная шляпа. Она выглядела невероятно вульгарной. Она даже не была хорошенькой. У нее было широкое, плоское лицо, широкий рот и курносый нос. У нее было много волос, золотых, но явно выкрашенных, и большие сине-зеленые глаза (заметьте, не синие и не зеленые, что было бы красиво, а именно сине-зеленые - В.С.). Она была сильно нарумянена». В общем, хуже женщины и быть не может. Но вот здесь-то и возникает страсть. И лишь после многих страданий и унижений, которые переживает юноша (что также характерно для мазохиста - страдание доставляет ему удовольствие), он наконец с ней порывает, женится на приличной девушке и портит жизнь и себе, и ей, потому что не испытывает от всего этого никакой радости.
Прочтите рассказ «Человеческий фактор», где герой такой же утонченный дипломат, автор изысканной английской прозы (и это опять Моэм), много лет влюбленный в невероятно красивую и умную женщину, которая живет со своим шофером, вульгарным полуобразованным английским солдатом (здесь женщина умная и благородная, в отличие от Милдред и Алике, но схема отношений та же). Дипломат был вне себя от горя, когда случайно увидел их ночью обнаженными, купающимися в заливчике около ее виллы. Он презирает ее за эту связь, но все же хочет спасти ее даже ценой своего полного уничижения. Он предлагает ей (уже в который раз) выйти за него замуж, говорит, что ему ничего не нужно, он будет только молча страдать ради нее. Но ведь это классический пример мазохизма.
Еще одним доказательством наличия в характере Моэма черт мазохизма является сюжет рассказа «Нил МагА-дам». Герой рассказа, молодой красивый девственный шотландец, приехал в малайский город к Монро работать заведующим музеем. У Монро была русская жена Дарья, которая влюбилась в Нила и стала искать с ним близости. Нил был возмущен: он не мог и помыслить так отплатить Монро за его хорошее отношение и гостеприимство. Дарья наступала. Разговор между ними закончился признанием Дарьи в том, что она изменяла Монро и раньше. Нил спросил ее: «А вы не боитесь, что Монро узнает об этом?»... Она ответила: «Я иногда задаю себе вопрос, знает ли он об этом, если не умом, то сердцем. У него женская интуиция и женская чувствительность. Иногда я была уверена, что он подозревает, и в его боли и муке я чувствовала странную духовную экзальтацию. Я думала: не находит ли он в своей боли бесконечное, тонкое наслаждение. Вы знаете, есть такие души, которые чувствуют сладострастную радость от своих терзаний». По-моему, тут можно поставить точку в рассуждениях о влечении Моэма к душевному мазохизму. Какие еще нужны доказательства?
И Филипп, и «его превосходительство», и сам Моэм преодолели влечение к мазохизму, но у писателя осталась ненависть к тем, кто его так долго мучил, и он начинает мстить, и мстить очень остроумно, а для читателя - всегда интересно и неожиданно. Он впадает в противоположную разновидность алголагнии: из мазохизма в садизм - и, наверное, в этом есть логика. Ведь одно состояние является зеркальным отображением другого. Это, как в биохимии, где существуют оптические изомеры, обладающие одной и той же формулой, но одни отклоняют луч света влево, а другие вправо. Пусть читатель не думает, что садизм — это истязания только физические: драки, раны и синяки. Есть много разновидностей психологического садизма, когда другому человеку можно наставить столько психологических «синяков», что тот и жить после этого не захочет. В английском бракоразводном праве есть термин «умственная жестокость», являющаяся поводом для развода, то есть садизм или жестокость психологическая. Яркий пример такого типа жестокости вы найдете в рассказе Моэма «Змей», где садистка-мать портит жизнь своему любимому сыну, чтобы через него испортить жизнь молодой невестке, которую ненавидит.
Теперь должно быть ясно, почему первые три четверти книги «Бремени страстей человеческих» мазохист будет читать с удовольствием, а нормальный человек - с трудом.
Кстати, следует заметить, что, кроме мазохизма и садизма, есть еще и садомазохизм, когда человек испытывает удовольствие и причиняя страдания другому человеку, и сам испытывая страдания. А термин «алголагния», если его искать в сексологических словарях (например, словарь Шмидта «Либидо») или в соответствующих книгах по сексологии, всегда означает желание сексуального удовлетворения через ощущаемую или причиняемую боль. Но это частный случай. В широком понимании, это удовлетворение от страдания - или испытанного, или причиненного - любого происхождения, необязательно сексуального, хотя, конечно, и любовь, и страдание, и секс психологически тесно связаны. Но, пусть читатель из мо-
его анализа творчества Моэма не делает для себя далеко идущих эротических выводов. Сомерсет Моэм - большой художник слова, сложный философ, и пытаться подойти к нему с банальных позиций нельзя. А размышляя над его произведениями, попробовать понять, почему он был таким, а не другим, можно, и это увлекательное занятие.
Прав я в своих предположениях или это изощренная игра ума, пусть судит читатель. Но повторим слова Моэма: «Для того, кто интересуется душой человека, нет более увлекательного занятия, чем поиски побуждений, вылившихся в определенные действия».
Произведения Моэма так интересны потому, что он все время делится с читателем своей собственной философией. Он проникновенно пишет о своих двух учителях, великих мастерах короткого рассказа, Чехове и Мопассане. Он говорит, что Мопассан хорош своей фабулой. Его «Пышку» можно рассказывать как анекдот, и ее все равно будет интересно слушать. Когда Мопассан пытается философствовать, замечает Моэм, он говорит плоскости. Мопассан сексуален потому, что в его время была такая мода: каждый мужчина должен был стараться попасть в постель к любой женщине моложе сорока лет. Например, «в наше время, -добавляет Моэм, - все едят черную икру не потому, что они голодны, а потому, что она дорогая». Опять мода! Чехова он оценивает гораздо выше других писателей. Но Чехов, по его мнению, плох, когда берется за длинные рассказы, его сила в предельной лаконичности.
Как внимательному читателю мне хочется сказать о Моэме много хорошего. Его стиль великолепен. Количество определений, которыми он изящно жонглирует, вызывает восхищение. Его рассказ всегда сжат, краток, и сюжет не банален. Часто его сюжеты как будто нарочно обострены, но ведь он и не просит вас верить в то, что это правда. Это искусство. Когда оперный певец поет о своей любви к прекрасной примадонне, то вы наслаждаетесь пением, но ведь никто не наклонится к уху соседа, чтобы прошептать: «Скажите, а он действительно ее так любит?»
Моэм прежде всего английский писатель, затем европейский и американский. Часто фоном для его рассказов служит тропическая природа, туземные женщины и мужчины, но это только фон. Его герои, хотя и живут в Малайе, на Борнео и в Китае, главным образом, англичане. Если англичанин живет с малайской женщиной, Моэм не поскупится сказать о ней добрые слова, как о хорошей картине, но без глубокого психологического анализа. Подробно он пишет лишь о своих английских героях, их он знает. Он верно чувствует американцев, французов, итальянцев, но все-таки главное для него - свои, англичане. Это английский писатель.
Описания внешности героев у Моэма несколько примитивны. Салли из «Бремени страстей человеческих», - конечно, белая и розовая, «молоко и мед», плантаторы - часто с красными загорелыми лицами и обычно веселые - от виски. Но вот поразительно много лиц с болезненно-желтой, светло-коричневатой кожей. Когда читаешь его рассказы подряд, то создается впечатление, что в моэмовской империи свирепствует пандемия хронического запора.
Моэму ненавистны ложь и ханжество английского истеблишмента, отсюда его смех над человеческим притворством, чванством, глупостью. Он не раз спрашивает себя, как надо судить об отдельном человеке: это плохой человек, делающий доброе дело, или хороший человек, совершающий дурной поступок? И сам не дает ответа и не хочет выносить суждения.
На обложке книжек с его короткими рассказами мы видим портрет усталого человека с умными, печальными глазами. Это Моэм. Его правая рука подпирает подбородок, указательным и средним пальцами он так сдвинул вверх кожу на лице, что она сморщилась, но ему все равно. Он уже пережил период старческого кокетства, когда семидесятилетние джентльмены отдают печатать свои фотографии тридцатилетней давности. А его усталые глаза как будто говорят нам: дураки вы, дураки...
В своем творчестве он не раз возвращается к своей любимой теме: успех в жизни заключается не в том, чтобы получить официальное признание, ученые степени и медали, а в том, чтобы прожить жизнь полноценно и счастливо. Моэм, по-моему, не получил ни одного ордена, его не сделали «сэром», да ему этого и не надо было; не это было для него главным. В «Падении Эдварда Барнарда», в «Счастливом человеке» и других рассказах он говорит о своем понимании сути и важности человеческого счастья. Иногда он кажется снобом, особенно в рассуждениях о том, кто какой костюм может носить (например, послеобеденный костюм сидит хорошо только на мужчине, у которого вогнутый, а не выпуклый живот - «Чужое семя»), или о том, кто стоит выше на социальной лестнице, а кто ниже, однако уже в следующем абзаце готов все это высмеять. Такой блестящий портрет Уорбертона в рассказе «На окраине империи» он дал, очевидно, потому, что какими-то чертами сам похож на него. Он не прочь, хотя и довольно редко, употребить рискованное выражение на французском языке, но делает это так, что читатель, незнакомый с языком, проходит мимо, ничего не заметив («Брак по расчету», «Внешность и действительность»). Нет, конечно, он очень интересный писатель.
К религии Моэм относится иронически, когда это касается богословских теорий («Трон суда»), и с безжалостной иронией, когда речь идет о ханжестве и тупоумии представителей официальных религий («Дождь»). Он смотрит с беззлобной насмешкой на человеческую глупость до тех пор, пока она никому не вредит, кроме самого глупца, но самоуверенной глупости не выносит. С какой убийственной иронией он разделался с надутым английским чиновником из Гонконга, который вообразил, что Моэм в своей книге «Раскрашенный занавес» имел в виду именно его. Моэм в следующем издании этой книги написал в предисловии: «Помощник секретаря колонии вообразил себя оклеветанным и пригрозил подать на меня в суд. Я был поражен, так как в Англии мы можем показать премьер-министра на сцене или использовать как действующее лицо в романе архиепископа Кантерберийского или лорда канцлера, и занимающие эти высокие должности люди и бровью не поведут. Мне показалось странным, что человек, временно занимающий такой незначительный пост, мог подумать, что имели ввиду именно его». А с какой симпатией Моэм относится к малайцам и как хорошо отзывается о них устами своего героя Уорбертона в рассказе «На окраине империи». Необразованный бурбон Уокер («Макинтош») с необыкновенной человечностью относится к своим «подданным» самоанцам, хорошо знает их обычаи и язык. Поразительная наблюдательность, прошедшая через лабораторию ума и таланта, делает Моэма выдающимся писателем. Как и всякий писатель, он очень любит книги, о чем пишет в рассказе «Книжный мешок», единственном, где затронут вопрос кровосмешения между братом и сестрой.
Моэма обвиняли в цинизме. Но что такое цинизм? По словарю Ушакова - это «вызывающе-пренебрежительное и презрительное до наглости и бесстыдства отношение к правилам нравственности и благопристойности, культурным ценностям и т.д.». Написано круто, слишком категорично - и неверно. Если цинизм относится к категориям этическим, то он уже поэтому не может быть понятием абсолютным. То, что цинично для европейца, может быть безразличным для полинезийца. Легкомысленное отношение Моэма к религии и к богу цинично для верующего, но вполне приемлемо для неверующего. Моэм ко всему относится иронически и любит делать парадоксальные заявления - «эпатировать» читателя. Но это любили делать и Оскар Уайльд, и Честертон, и Шоу. Вряд ли это можно считать цинизмом. Вернее, цинизмом это будет считать всякий, чье ухо режет моэмовский стиль.
Моэм — рассказчик. Его цель — развлечь читателя, а не читать ему мораль. В рассказе «Нитка бус» собеседница Моэма описывает случай, как гувернантка, служившая в одной богатой семье, неожиданно получила триста фунтов стерлингов. Она решила поехать в Париж и прокутить их. Хозяйка ее отговаривала, но та настояла на своем. Уехала. Подцепила сначала богатого аргентинца, затем другого и «сейчас, - возмущенно добавила собеседница Моэма, - это самая шикарная кокотка Парижа». Моэм спросил ее: «А вам это не нравится? Как бы вы хотели, чтобы это все закончилось?» - «Я хотела бы, чтобы она влюбилась в бедного банковского клерка, которому на войне отстрелили ногу или хотя бы половину лица. Они бы поженились. Купили маленький домик, взяли его престарелую матушку. Он бы все время болел, а она самоотверженно ухаживала бы за ним». - «Но это было бы очень скучно», - заметил Моэм и услышал в ответ: «Да, но зато нравственно».
Моэм не скрывает своих взглядов. Он всегда искренен и высказывает свои мысли, не стесняясь. Это что, тоже цинизм? Ну, тогда ханжество - добродетель!
Вот, кстати, пример из его рассказа, который так и называется - «Добродетель» (по-моему, в русском переводе его нет). Прочтите только начало этого рассказа: «Есть мало вещей на свете лучше гаванской сигары. Когда я был молодым и очень бедным и курил сигары только тогда, когда кто-либо меня угощал, я решил, что, если когда-нибудь у меня будут деньги, я буду курить сигары каждый день после обеда и после ужина. Это единственное нравственное решение моей молодости, которое я выполнил. Это единственная цель, которой я достиг и которая никогда не была омрачена разочарованием». Пурист может воскликнуть: «Какой цинизм! С одной стороны возвышенные чувства, а с другой - сигара». Конечно, возможно, что пурист никогда не курил гаванских сигар. Ведь писал же выдающийся английский поэт Редьярд Киплинг: «Женщина всего-навсего женщина, / А хорошая сигара это курево!»
Дальше Моэм пишет: «...я люблю сигару мягкую, но полную аромата, не очень маленькую, которая выкуривается, прежде чем вы почувствовали ее, и не очень длинную, которая раздражает, и так свернутую, чтобы можно было тянуть дым без сознания усилия, что ты это делаешь, и с твердым наружным листом табака, который не прилипает к губам и находится в таком состоянии, что вкус остается до самого конца».
«Но когда вы сделали последнюю «затяжку» (здесь использовано слово, на русский язык не переводимое, так как сигарой и трубкой не затягиваются, как папиросой. Возможно, из-за этого у нас и не привились сигары и трубки - В.С.), положили бесформенный окурок и посмотрели на последнее облачко дыма, растворяющееся синим цветом в окружающем воздухе, невозможно, если у вас чувствительная натура, не почувствовать легкой меланхолии при мысли о всей той работе, о заботе и усилиях, которые были истрачены, о мыслях, о работе, о сложной организации, которые понадобились для того, чтобы доставить вам получасовое удовольствие. Из-за этого долгие годы люди исходили потом под тропическим солнцем, а корабли рассекали все семь морей. Эти мысли становятся еще более острыми, когда вы заказали себе дюжину устриц и половину бутылки сухого белого вина, и становятся почти непереносимыми, когда дело доходит до телячьей котлеты».
Что это? Телячье-котлетный цинизм? Полагаю, Моэм тут просто пишет изящную ерунду для своего и нашего развлечения. В этих строках не следует искать ничего, кроме блестящего стиля и юмора. Если читателя не трогает стиль, то он должен обладать хотя бы юмором.
В отношении Моэма говорили то же, что и в отношении многих людей с выдающимся талантом.
Гений и безумие - любимая тема обыкновенных людей. Она основана на элементарной статистической ошибке. В качестве примера берут двух-трех талантливых писателей со странностями и говорят: вот вам доказательство. Гений и безумие! Если вы возьмете мировую популяцию сумасшедших, то есть всех душевнобольных, находящихся в психбольницах (поверьте, их немало), и всех, туда еще не попавших (их еще больше), то увидите, что подавляющее большинство - вовсе не гении. А то, что гении иногда сходят с ума, не доказывает, что существует обязательная корреляция между гениальностью и безумием. Приводят в пример Достоевского. Достоевский был гениален, но одновременно страдал эпилепсией. И что это доказывает? Ничего. Возьмите всех эпилептиков мира и поищите среди них гениев. В большей части вы обнаружите людей с пониженным интеллектом. Приводят пример гения, который в старости сошел с ума. Но любые мозги поражаются старческим атеросклерозом, однако у обычного человека старческое слабоумие слабо заметно, а у гения — сильно. Выдающегося умом человека обязательно у нас назовут шизофреником или, более обтекаемо, шизоидом. Такой диагноз легко ставится людьми, ничего не понимающими в психиатрии. С кондачка: непохож на меня, значит, шизоид.
Гениальных и талантливых людей можно назвать ненормальными лишь в том смысле, что нормальные люди не гениальны и не талантливы. Они - здоровые, нормальные люди, и для большинства здоровых нормальных людей это и есть эталон, а то, что выходит за их рамки, аномалия.
...Книги, и особенно книги Моэма, помогли скоротать скучные дни в Индийском океане. Удивительно! Мы покинули Пенанг 23 января 1948 года, а спустя трое суток были уже в Коломбо, столице острова Цейлон. Подумать только: Индийский океан пересечен за три дня! Когда подходишь к Коломбо с юга, то вначале на линии горизонта, отделяющей светло-зеленую воду Индийского океана от бледно-лазурного безоблачного неба, видишь, как прямо из воды вырастают ярко-зеленые пальмы. Так кажется потому, что низкого песчаного берега еще не видно. Я никогда не видел миража, но, по-моему, это выглядит, как мираж. Потом начинает появляться берег и город.
В первый день приезда мы бродили по улицам Коломбо и по набережной. Коломбо мало чем отличается от
Сингапура, разве что в нем больше тамилов и сингалезцев. У набережной вывеска на всех языках - и на русском тоже, но в старой орфографии, - гласящая, что тут обменивают деньги всех государств мира.
Все пассажиры купили слонов из черного дерева. Живые слоны на Цейлоне тоже черные, а в Индии серые. В Сиаме есть белые слоны. В Европе свиньи белые, а в Китае - черные и белые. Вот поди и разберись тут. На другой день мы решили поехать в горы, чтобы посмотреть Канди, древнюю столицу цейлонских королей, наняли два такси на целый день и отправились в путешествие. Вернулись лишь в семь часов вечера, проехав в общей сложности около ста пятидесяти миль.
Дорога в горах очень красива, но из-за обилия тропической растительности довольно однообразна, потому что сквозь заросли все равно ничего не видно. Горные речки чистые и веселые. В них, охлаждаясь, валяются под водой черные слоны, для дыхания высунув хоботы над водой.
По обе стороны дороги домики цейлонцев. Они небольшие, выкрашены в белый цвет, с дверьми, закрывающими только середину проема, чтобы хозяева могли разгуливать дома голыми, а ветер проникал в хижину свободно. Сразу по обе стороны дороги плантации чая, кофе, каучука, кокосовые пальмы. Тут каждое дерево приносит деньги. Недаром англичане раньше называли Цейлон «жемчужиной британской короны».
По дороге мы останавливались два раза: на резиновой фабрике и на чайной. На резиновой фабрике нам показали, как делают толстые белые резиновые подошвы, тогда очень модные. Большие тонкие простыни резины склеиваются одна с другой при помощи электрического утюга, пока не будет достигнута нужная толщина (два сантиметра). Когда мы проходили между рядами работниц, сидевших на полу, они за спиной надсмотрщика протягивали к нам руки и, жалостливо улыбаясь, просили милостыню.
В Канди мы приехали в полдень. Город построен на высоком плато, посередине города вместо площади - большое озеро, обнесенное резной каменной решеткой. Я так и не понял, естественное оно или нет. Вокруг - гостиницы. Мы отправились в одну из них пообедать. Нам объяснили, что все официанты в ней - потомки цейлонских королей. Ну что ж, при многоженстве и гаремах это не так уж и невероятно. Потомки были одеты в длинные юбки, для прохлады, волосы у них были стянуты гребенками, и бегали они по каменному полу босиком. Нам пришлось обменять английские фунты на рупии. В январе 1948 года один фунт стерлингов стоил четыре американских доллара. Так записано у меня в дневнике. А сегодня (весна 1976 года) один американский доллар стоит что-то около восьмидесяти наших копеек, а так как фунт еще упал и стоит около полутора американских долларов, то это выходит около одного рубля двадцати копеек. Sic transit...
Пока мы обедали, к гостинице подкатили автомобили, из которых вышла группа английских дам с адъютантами. Судя по торжественности ансамбля, это могла быть и жена верховного комиссара Цейлона (высший британский чиновник) с сопровождающими. Все дамы в летних платьях. Естественно, лица напудрены, подмышками чисто выбрито. Все как полагается. Один из адъютантов был великолепен. Высокий молодой человек с черными волосами и синими глазами, в белом мундире с золотыми аксельбантами. У него было красивое продолговатое лицо, напоминавшее Оскара Уайльда, и восторженная ясная улыбка. На руках он держал противную белую болонку, очевидно, любимицу миледи. Весь вид его говорил, что он польщен этой ответственной работой. Мне его стало жалко. А может быть, он и действительно думал, что это почетная обязанность -носиться с паршивой болонкой из-за прихоти старой дамы.
После обеда мы поехали в Храм Зуба Будды. Это древний красивый храм, который за один раз осмотреть невозможно. Около храма мы столкнулись, очевидно, с аббатом буддийского монастыря, который, опираясь на посох, шел в сопровождении монахов, одетых в ярко-желтые буддийские одеяния. У аббата было сильно заплывшее бледное лицо человека, страдающего последней стадией нефрита (болезнь почек). У входа нас встретил старый монах с пышными седыми волосами. Он сказал, что из уважения к святыне мы должны снять обувь. Разувшись, мы поставили башмаки в ряд, и монах повел нас в первый храм, скорее, в часовню. В ней был алтарь, на котором стояла статуя Будды. Монах спросил, нет ли у нас желания принести жертву Будде. Мы точно не знали, хотим ли это сделать, но отказываться не стали. Старик сказал, что жертва обойдется по три рупии с человека. Мы заплатили. Монах пошел в угол часовни, где лежала охапка цветочных лепестков, слетевших с деревьев, какими усыпаны все улицы Юго-Восточной Азии. Взяв в руки пригоршню лепестков, он положил их перед статуей Будды. Не такие уж мы были и скряги, но нам показалось, что брать по три рупии за горсть лепестков, которые и так валяются на улице, не то что дороговато, а просто неприлично, однако спорить не стали. Старик повел нас по длинному коридору, остановился под изображением слона на потолке и объяснил нам, что слон сделан из девяти голых дев. Это было уже интересно: монастырь-то ведь был мужской. Когда мы присмотрелись внимательно к слону, то увидели, что монах сказал чистую правду. Дев было действительно девять, и они были голые. Одна из них была искусно вписана в хобот, другая — в хвост. Весьма поучительно! За это с нас денег не взяли. Бесплатный стриптиз.
Зуба Будды нам не показали. И слава богу. Он, наверное, обошелся бы каждому из нас не меньше, чем в двадцать рупий. Выносят его раз в год, естественно, в праздник зуба. Очевидно, на этот праздник приезжает много верующих стоматологов. Осмотрев все, что нам хотели показать, мы вернулись в комнату, где лежали наши ботинки. Монах сказал, что за хранение обуви каждый из нас должен заплатить три рупии. Тут мы не выдержали и зароптали, но делать было нечего. Босиком не пойдешь. На этом наше знакомство с буддизмом закончилось. Возмущенные наглостью поборов, мы сели в машины и приказали ехать на окраину города, но не успели тронуться с места, как были тут же остановлены. Узенькую дорогу преградил большой черный слон, на голове которого сидел хулиган-мальчишка. Наши водители весело заулыбались и сказали, что нужно заплатить пять рупий, тогда мальчишка повернет своего слона и даст нам проехать. Заплатили. Полноценными английскими ругательствами мы не ругались - с нами были дамы, - но девальвированные исторгали до тех пор, пока не доехали до чайной плантации.
На Цейлоне каждая крупная чайная фирма содержит красивый легкий домик с большой верандой, на которой проезжающие иностранцы могут отдохнуть, выпить свежезаваренный чай, собранный на плантации, - вот здесь действительно все бесплатно, - и расписаться в книге гостей. После чая нам принесли книгу. Я начал было расписываться, но Дьюи выхватил у меня ручку и написал: Гарри Трумэн и Вячеслав Молотов. Тогда это были самые известные политические фигуры, а кто в горах Цейлона будет проверять, пили они чай на этой плантации или нет!
На корабль мы приехали усталые и полезли в ванны мыться, а на следующий день покинули Коломбо и пошли в сторону Красного моря. Качало прилично. Весь день прошел в общей скуке. Телеграф ежедневно приносил сообщения о девальвации франка. А 30 января в семь часов вечера радио сообщило об убийстве Ганди. Утром довольно противный английский чиновник из Сингапура заявил мне за завтраком в кают-компании, что, как сообщили по радио, «святой человек» Ганди убит коммунистами и в этом виноват Советский Союз. Я ответил чиновнику, что не верю такой информации, и ушел из-за стола. Через час он пришел ко мне в каюту с извинениями. Очевидно, остальные англичане и Дьюи «дали ему по шее».
После обеда на судне для пассажиров вывешивались сообщения радио. Я пошел прочесть листок. Там было сказано, что Ганди был убит коммунальными анархистами. Болван-чиновник понял это как «коммунисты». В Индии в то время были так называемые «общинные анархисты» (по-английски «общинный» будет «коммунальный»), которые с коммунистами ничего общего не имели.
В воскресенье первого февраля мы были уже у острова Сокотра, у входа в Аденский залив. Погода стала прохладной, и я надел легкий костюм. Встречалось много судов, большей частью нефтеналивных. Солнечные ванны были забыты, и все мужчины, к великой радости Дьюи, надели длинные брюки. О дамах сведений в дневнике нет. На востоке показались горы Синайского полуострова. Дул сильный встречный ветер.
В семь часов вечера встали на якорь в Суэце. На носу корабля электрики поставили громадный прожектор для освещения канала ночью. Канал очень узкий, разойтись два судна не могут, и на всем его протяжении через определенные интервалы созданы маленькие бухточки, в которые может зайти встречный корабль, чтобы переждать, когда пройдет в обратную сторону другой. Очевидно, есть какие-то правила, кто кому уступает дорогу. Идти можно только очень медленно, чтобы не размывать волной берегов. В девять часов вечера пришли в Порт-Саид. Берега неинтересны. Кустарники. Маленькие мазанки. Верблюды, и довольно холодно. Это в Африке-то!
На другой день вышли в Средиземное море и взяли курс на запад. Уже двенадцатого февраля я любовался берегами Испании и грядой Сьерра-Невада. Затем проходили Бискайский залив - залив штормов. На сей раз он не соответствовал сложившемуся о нем мнению: был очень спокоен. Погода теплая. После Азии Европа показалась поразительно маленькой.
В воскресенье восемнадцатого февраля прошли остров Ушант и завернули в Ла-Манш, который английские моряки называют «Дэи чаннел», каналом, а точнее - Английским каналом. Англичане говорят, что от волнения при приближении к дому многие страдают расстройством кишечника, которое так и называют - «дэи чаннелс». По радио передавали английскую музыку из Лондона.
В полчетвертого дня увидели берега южной Англии и в пять часов вечера бросили якорь в Плимутской бухте. Это было на шестьдесят пятый день путешествия. На набережной стояла очередь у ларька, в котором продавали кофе. Потом я узнал, что это чай. Англичане любят заваривать себе чай именно такой крепости. Ко мне подошел англичанин невысокого роста в черном котелке. Он протянул визитную карточку, удостоверявшую, что является служащим транспортного агентства «Томас Кук и Сын», и сказал: «Сэр, ваши вещи мы отправим сегодня по адресу: Эдинбург, девять, Карлтон террас. Ваш заказ по телеграфу из Шанхая был получен». Никакой расписки он мне не дал, что меня несколько встревожило. (Через две недели, когда я прибыл в Эдинбург, все вещи уже были на месте.)
Билеты до Лондона были для нас заказаны, и мы сели в поезд - миссис МакГилкрист с детьми, Дьюи, Симмонс и я. Меня поразили зеленые поля в феврале месяце. Весь путь из Плимута до Лондона - это нескончаемая цепь красивых домов и домиков, садов, просто нет пустого места. В Лондоне поезд остановился на станции Паддингтон, а в пять часов вечера прибыл на станцию Ватерлоо, где меня встретила миссис Лорна Дин. Еще в Шанхае она пригласила меня погостить у нее в английской деревне Кобам.
Дальше мы поехали на электричке и уже через полчаса прибыли на место. Дины снимали верхний этаж двухэтажного дома с большим садом. В доме было прохладно, и, чтобы согреться, мы сидели на диване около камина. Дин и его жена - мои пациенты по Шанхаю. Сам Дин -нервный и напряженный человек интеллектуального типа. Говорил он все время о коммунизме и СССР, много читал по этому вопросу. Он не скрывал своего членства в партии независимых - такая партия существовала в Англии в 1948 году, она славилась тем, что в ней было меньше членов, чем в любой другой политической партии Англии. По-моему, политической роли она не играла никакой, и сейчас о ней что-то не слышно.
На другое утро мы пошли с миссис Дин в полицию, чтобы зарегистрировать меня по месту пребывания. Дежурный сержант долго рассматривал мой паспорт, а потом сказал: «Регистрируйтесь лучше в Эдинбурге». Затем мы пошли выписать на меня карточки: карточная система в Англии еще не была отменена.
Кобам - прелестная деревня. Главная улица называлась, конечно, Хай стрит, то есть Высокая улица. Уютные маленькие одноэтажные и двухэтажные домики с садами, кругом деревья и кустарники, а на деревьях - синие сойки и малиновки. В окне одного дома торчал кусок белого картона, на котором было написано большими буквами: «Где бог?» На второй день кто-то выставил в окне новую картонку с надписью: «Кто бог?» На третий день -очередная смена надписи: «Бог - это я сам». Я спросил миссис Дин, что это означает, она рассмеялась и сказала, что не знает, скорее всего, этим занимается какой-нибудь сектант или просто сумасшедший.
Обедали в ресторане «Белый Лев»: форель и пиво. На следующий день поехал в Лондон. Впечатление от города было огромным. Проехал в лондонском метро, очень грязном после войны. Посетил Национальную галерею, видел картины, о которых пишет Сомерсет Моэм. В этот же день нанес визит сэру Морису Кассиди, дяде одной моей пациентки в Шанхае, оказавшемуся лейб-медиком королевы, председателем Королевского медицинского общества Англии. Он тоже много говорил о СССР, в частности, рассказывал об ужине, устроенном в честь советской женщины-врача, члена делегации Верховного Совета, приехавшей в Англию. Сказал, что она умная тетка и задавала умные вопросы. Англичане попытались ее напоить и узнать что-нибудь о медицине в СССР. Она много выпила, но ничего не рассказала. Англичане обиделись. Сэр Морис дал мне письмо для профессора Давидсона из Эдинбурга и охарактеризовал его как старого маньяка.
Пошел снег. Газеты вышли с большими заголовками: «СИБИРЬ ВТОРГЛАСЬ В АНГЛИЮ». Все жаловались на холод. Дело в том, что у англичан нет теплой одежды. Водопроводные трубы проведены по наружным стенам домов, нет никакого отопления, кроме каминов, которые красивы, но бесполезны: семьдесят процентов тепла уходит в трубу.
Двадцать первого февраля я съездил в Сток д'Абернон, осмотрел церковь, которой около тысячи лет (правда ли?). Церковь стоит якобы на фундаменте, сложенном из римских картин, и в ней находятся самые старые в Англии медные надгробия. Снова посетил Национальную галерею. По дороге купил «Хождение по мукам» Алексея Толстого на английском языке. Обедали с Динами в отеле «Медведь», попробовал баранину с мятным соусом.
В десять часов утра я сел в поезд и отбыл в Эдинбург. Было уже 23 февраля 1948 года. Видел Линкольн, Йорк, Дерам, Бериксон Туид. Красивая страна, уютные домики - и нет пустого места. Такое впечатление, что все время едешь по одному большому пригороду.
«Сегодня День Советской Армии, 23 февраля 1948 года. Я приехал прямо с вокзала в пансион мисс Бетти Дине. Шофер такси как-то странно на меня взглянул, когда я сказал ему адрес: оказывается, пансион находится прямо за углом от вокзала. Бетти Дине - веселая толстушка, лет тридцати, с черными глазами и волосами. У меня хорошая комната на третьем этаже. Ужинал с другими обитателями пансиона. Со мной за столом сидит доктор Майн, он держит экзамен на действительного члена королевского колледжа хирургов (Эдинбурга), и молодая бельгийка графиня де Марнефф, специализирующаяся по анестезиологии у известного шотландского анестезиолога профессора Гиллиса».
Это запись из моего дневника. Об Эдинбурге я буду рассказывать, опираясь частично на записи, а частично на собственную память. Думаю, читателю будет интересно, хотя сейчас в СССР издана удивительно хорошая книга
Людмилы Николаевны Воронихиной, которая так и называется «Эдинбург» (Издательство «Искусство, 1974, Ленинград). Автор не только хорошо разбирается в живописи, но является, по-моему, авторитетом и в архитектуре. Я же рассказываю только о своих личных впечатлениях.
На следующий день после приезда в Эдинбург я проснулся рано, встал и посмотрел в окно. Оконные рамы здесь совсем не такие, как в остальном мире: они держатся на каких-то веревках, и их надо как-то двигать не то вверх, не то вниз. Я так и не понял, что с ними надо делать, и открыть окно без посторонней помощи не сумел.
Из моего окна хорошо виден замок Холируд, в котором жила королева Мария Стюарт и ее любовник, итальянец Риччио. Правда, наш писатель Е.Б. Черняк в своей книге «Секретная дипломатия Великобритании» пишет, что это не доказано. Интересно, какие еще нужны доказательства, если доподлинно известно, что ночью Риччио был в спальне Марии Стюарт и шотландские лорды закололи его у изголовья постели королевы? Что же он делал ночью в спальне королевы? По мнению Черняка, очевидно, доклад о международном положении.
Книгу Черняка я прочел с удовольствием, хотя и не понял, почему он назвал ее «Секретная дипломатия Великобритании». В ней много интересных исторических анекдотов, не имеющих, по-моему, никакого отношения к английской разведке. Последние две-три главы прямо отвечают названию книги, но и тут все очень любопытно, но не всегда по теме: например, интереснейший английский шпион Сидней Рейли преподнесен читателю, главным образом, как соблазнитель жены английского пастора.
По рекомендации Морриса Кассиди первый визит в Эдинбурге я сделал к профессору Давидсону, который должен был представить меня профессору Персивалю. Давидсон принял меня очень сухо (вспомнились слова Кассиди о старом маньяке), прочел письмо и вернул его мне, прямо на подоконнике написав на обороте записку Персивалю. В письме сэра Морриса были обо мне, вообще-то, хорошие слова, в том числе такие: «Смольников, несмотря на то, что является советским гражданином, по-моему, весьма порядочный человек». Потом я отправился к сэру Джеймсу Лирмонту, хирургу королевы в Шотландии. Лирмонт воевал с моим шефом Бертоном в Первую мировую войну. Сэр Джеймс принял меня радушно. Внешне он больше походил на американца, чем на шотландца, а жена его как раз и была американкой, ненавидевшей Советский Союз, чего ничуть и не скрывала. Странно, как образ мужчины зависит от женщины, на которой он женат. Лирмонт отнесся ко мне очень хорошо, как и его секретарша, мисс Норри. Потом я пошел к профессору Персивалю, но его не оказалось дома. Тогда я решил зайти в полицию и зарегистрироваться.
Полиция в Эдинбурге небольшая. Меня направили в отдел, который назывался «Иностранцы и опасные лекарства», где я получил удостоверение личности. Поскольку в Советском генеральном консульстве в Шанхае умудрились перепутать мое отчество: «Прокопьевич» заменили на «Прокофьевич», я решил в Эдинбурге это поправить и указал в анкете «Прокопьевич». Но полиция всегда придерживается официальных документов, и мне в удостоверении написали «Виктор Прокофьевич, кличка - Прокопьевич», как обычно пишут бандитам. Это удостоверение я храню до сих пор. В нем есть правила для иностранцев, и в одном из них сказано, что я имею право передвижения по всему Соединенному королевству, но если в каком-либо городе решу задержаться более чем на три дня, меня просят почтовой открыткой известить об этом отдел «Иностранцев и опасных лекарств» полиции Эдинбурга.
Дома меня ждало письмо с приглашением на ужин к Мисс Когхилл, приятельнице жены сэра Морриса Кассиди. Прежде чем идти в гости, зашел в университет. В проходной висело много объявлений о продаже старых книг студентами, которые выдержали экзамены и больше в книгах не нуждались, зато нуждались в пиве. Я обратил внимание и на несколько объявлений в университетской библиотеке, которые информировали уже о краже книг студентами и врачами, занимающимися на курсах усовершенствования. В университете был анатомический музей, и я как-то зашел туда. Рассматривая книгу посетителей, я увидел, что в 1896 году там расписался некий Г. Гирш, лейб-медик российского императора, в июле 1942 года - Колесников и Лариксов, которые после подписи пометили: «Москва, СССР», и в 1943 году - Андрей Михельсон, русский корреспондент. За пятьдесят лет пять человек. А на момент моего пребывания в городе было всего два советских гражданина - Анна Симеонова и я. Симеонова - уже пожилая дама, ее адрес мне дали в нашем посольстве в Лондоне. Я был у нее один раз, вдоволь наговорился по-русски, но больше не заглядывал.
Двадцать пятого февраля снова посетил Национальную галерею. Видел «Св. Иеронима» Эль Греко. Опять красномалиновые и желтые краски и «модернизированный стиль». Вначале я все время путал стиль Эль Греко с импрессионистами, хотя их разделяет почти четыреста лет. Хороши картины Пепло (шотландский импрессионист) «Тюльпаны», «Натюрморт», «Черная бутыль». В последствии меня обрадовало, что в своем разборе картин Национальной галереи Л. Н. Воронихина отметила «Черную бутыль» Пепло. А вот насчет «Женщины в постели» Рембрандта я все же думаю, что это портрет «верной его подруги Хендрикье Стоффелоо», а не Гертье Дирко, няни его сына Титуса, как утверждают искусствоведы. Лицо у нее, как пишет Л.Н. Воронихина, «светится радостным ожиданием», что естественно для «верной подруги» и неожиданно для няни. Интересно, что у Рембрандта есть еще одна картина (я видел репродукцию), кажется, «Купальщица», на которой изображена, по-моему, та же женщина, что и на картине «Женщина в постели», - очень похоже лицо. Приподняв сорочку выше допустимых пределов, она осторожно ступает в воду. Тут сразу возникает ряд вопросов. Если на этих двух картинах изображена нянька Титуса, то почему у нее «радостное ожидание на лице» и почему Рембрандт решил писать именно ее сначала в постели, а затем в виде купальщицы? Почему у няни край наволочки на подушке отделан широкой каймой кружев, а полог постели из тяжелого красного бархата с узором на краю? Почему правая грудь почти открыта? Как относилась «верная подруга» Рембрандта к позированию няни в постели и у ручья? И, наконец, как сам Рембрандт относился к няне? Если в обоих случаях это Гертье Дирко, то ее лицо не следовало изображать с выражением «светящегося радостного ожидания». Рембрандт должен был проявить большую осторожность при создании своих портретов. Он совершенно запутал и Л.П. Воронихину, и меня.
Вечером я посетил миссКогхилл, которая жила в аристократическом районе Морэй плэйс (где живут почему-то все адвокаты). Старушке восемьдесят лет. Она надела черное платье, отделанное белыми кружевами. Квартира наполнена старинным фарфором и портретами, только горничная молодая и хорошенькая. Говорили, конечно, о России. Ни о чем другом со мной никто не разговаривал.
Вскоре я начал стажироваться в дерматологической клинике Персиваля. Помимо английских докторов, здесь работало несколько иностранцев: Стрингер из Австралии, Рахим из Багдада, который писал диссертацию о полутора тысячах случаев грибковых заболеваний кожи, Агиус-Ферранте с острова Мальты, англичанин, родившийся в Уругвае (сейчас он, кажется, профессор ортопедии в лондонском университете). Англичане были со мной подчеркнуто любезны, но держались сухо. Влияло, видимо то, что в самом разгаре тогда был берлинский инцидент и все газеты писали о героических летчиках США, которые каждый день возили на самолетах уголь для замерзающих западных берлинцев, так как «нехорошие русские» не пропускали через восточную зону поезда. Иногда холодное отношение я встречал и со стороны тех людей, к которым имел рекомендательные письма. Так, у меня было письмо от Баллинголла к его племяннице, которая жила в Эдинбурге. Когда я пришел к ней с визитом, эта очень красивая молодая женщина, узнав, что я советский гражданин, приняла меня не просто сухо, а даже неприязненно (я думал, она вообще спустит меня с лестницы). Через четверть часа я, откланявшись, ушел, но решил ей отомстить. В день моего отъезда из Эдинбурга я зашел в цветочный магазин, купил большую корзину роз и отослал ей с моей визитной карточкой, на которой написал: «Уезжаю сегодня в Шанхай. Хочу поблагодарить вас за гостеприимство». Часа четыре спустя от нее пришла телеграмма: «Дорогой доктор, сожалею миллион раз, не оценила вашего визита». Месть женщине всегда приятна.
Был в гостях у Лирмонта, который очень гордился своим родством с М.Ю. Лермонтовым, но поразил меня своим заявлением, что Лермонтов был плохим человеком, так как соблазнил чужую жену. Заявление было сделано в присутствии миссис Лирмонт, что значительно снижает его ценность. Я подумал, что лучше бы он поговорил о нравственности своих соотечественников, и в частности, о Марии Стюарт, которая заложила бог знает сколько пороха в замок Керк о'Филд и, проведя в нем ночь со своим супругом, велела замок взорвать, чтобы избавиться от надоевшего ей мужа, так как она полюбила другого. Это было уже после ее романа с итальянцем Риччио. Но вообще Лирмонт принял меня очень хорошо.
Вместе со мной у него в гостях был лорд Сетон, мы познакомились и после чая вместе пошли пешком в центр города. Лорду было лет под пятьдесят, и одет он был, как всякий лондонский дэнди, в черный пиджак, серый жилет с отворотами и серые в черную полоску брюки. Общение с ним развлекло меня, потому что лорд долго сокрушался, что теперь нет дуэлей: в политике, дескать, много дурно воспитанных людей, склонных «обкладывать» оппонента в ходе парламентской дискуссии, а оппонент не может вызвать обидчика на дуэль. Кроме того, лорд Сетон блистал эрудицией и прекрасным французским произношением.
Лирмонт был так любезен, что предложил мне приходить заниматься в его личной библиотеке, которая находилась рядом с кабинетом в здании университета. Так я потом и делал, а Лирмонт заходил повидаться со мной, неизменно с гаванской сигарой во рту, чтобы поболтать о России и, конечно, о Китае, всякий раз, когда я появлялся в его библиотеке после посещения клиники Персиваля и обеда в студенческом ресторане.
В студенческом ресторане кормили неважно. В 1948 году Англия еще была на военном пайке, и в любом ресторане, если вы спрашивали хлеб, вам автоматически снимали одно блюдо. Правда, когда официантка уже знала вас, она выписывала счет на двоих и можно было поесть досыта. Если были деньги, можно было просто ходить из ресторана в ресторан и обедать в каждом из них. Питание в тот год не было хорошим. Правда, шотландская похлебка из перловой крупы показалась мне очень вкусной, но мяса давали самую мизерную порцию с гарниром из вареной тыквы или репы (ужасная дрянь), зато сладкое было великолепным. Виски и табак стоили так дорого, что сигаретами даже не угощали друг друга. Резкий контраст с Сингапуром и другими колониями, где утром каждый курящий англичанин открывал свежую банку сигарет (пятьдесят штук), запечатанную под вакуумом, и потом таскал ее с собой целый день, угощая знакомых. К вечеру сигареты заканчивались и банка выбрасывалась.
В день первого посещения Лирмонта ужинал я у какого-то банкира «в отставке» по фамилии Юане (в дневнике у меня нет даже пометки о том, как я к нему попал). Старик дожил до семидесяти одного года, но выглядел на пятьдесят. Он закатил чудесный ужин с виски и джином, на протяжении которого жаловался на тяжелую жизнь: вместо ста двадцати яиц в неделю (неужели можно съесть столько яиц!?) он теперь съедал только одно, вместо трех человек прислуги остался один (как и яйцо); на магазины положиться было нельзя - присылали то, что есть. Все это делало жизнь банкира невероятно тяжелой, так как он не мог заранее составить меню. Кошмар какой-то!
Забавные знакомства возникали и в стенах пансиона, где я жил. Однажды вечером после ужина я остался в гостиной пансиона с двумя другими его обитателями - архитектором Паркинсоном и владельцем какой-то фабрики Скофилдом, - в которых тотчас распознал шотландцев. Мы встали у нетопленого камина, и они начали расспрашивать меня об Англии. Зная, как шотландцы терпеть не могут англичан, я особенно не стеснялся. Мои собеседники меня горячо поддержали, и мы около часа разбирали по косточкам англичан и их порядки. Расстались очень довольные друг другом. Шотландцы - славные ребята, искренние и непосредственные. На другое утро я узнал у хозяйки пансиона, что Паркинсон и Скофилд - англичане.
Свободное время я иногда посвящал достопримечательностям Эдинбурга и его окрестностей. Эти походы приносили новые знания об истории и культуре Шотландии или новых знакомых. В один из погожих дней я поднялся на самую высокою гору - «Трон Артура» и встретил там ки-тайца-студента, который, узнав, что я прибыл из Шанхая, пригласил меня на заседание Эдинбургского китайского института и китайско-шотландского общества дружбы. Оказалось, что в Эдинбурге жили тридцать четыре китайца, которые учились на курсах усовершенствования. Кстати, в шотландских университетах в 1948 году не было преподавания ни восточных языков, ни русского языка.
Когда я осматривал Эдинбургский замок, то побывал в башне Аргайл, где в средние века томились заключенные, в часовне св. Маргариты, в палатах Марии Стюарт, в комнатке, где родился король Джеймс первый, в зале банкетов, видел драгоценности шотландской короны. Все очень красиво, но многое я, по-видимому, уже перерос. В двенадцать лет я зачитывался рыцарскими романами Вальтера Скотта и Конан Дойла: «Айвенго», «Сэр Найджел», «Белый отряд», «Михей Кларк». Рыцарские гербы, старинное оружие, рыцарские латы, казематы увлекали меня. Я стал взрослым, попал в овеянные романтикой места и, глядя на тяжелые рыцарские латы, вспомнил, что рыцарю для процедуры одевания нужно было иметь пару оруженосцев. Я думал уже не о приключениях, описанных в романах, а о том, что рыцари не могли самостоятельно снять латы для отправления естественных надобностей. А теперь, в 1976 году, во французском журнале я прочел, что самая важная проблема для космических полетов - при высадке, скажем, на Луне - та же, что и для средневековых рыцарей: герметический скафандр на Луне не снимешь. Как-то я читал американскую книгу «Всемирная история войн». Описывалась битва где-то в Италии. С утра и до захода солнца сражались закованные в латы рыцари, и за весь день погиб всего один: он свалился с лошади в мелкий ручеек, но из-за тяжести лат встать не моги просто захлебнулся. Вот и вся романтика.
В соборе св. Джайлса, где я побывал в один из дней, пастор проводил меня в часовню Рыцарей чертополоха. Чертополох - национальный цветок Шотландии. Пастор показывал мне место королевы Елизаветы, магистра ордена, особенно подчеркивая, что все в часовне сделано из шотландского дерева руками шотландских мастеров. Орден Рыцаря чертополоха дается, кажется, только членам королевской фамилии. У герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы, после его имени стоят английские буквы «К.Т.», что означает - Рыцарь чертополоха.
Был в театре, где шла «Веселая вдова». Очень слабая постановка. Сцену с качелями вообще выбросили. Почти все зрители пришли с мешочками, из которых доставали сладости, и жевали, а время от времени зевали.
В один из последних дней пребывания в Шотландии посетил дом Джона Кокса. Ветхий домик, низкие потолки, старинная мебель и запах затхлости. Мне Джон Нокс не нравится и поэтому от посещения его дома я не получил удовольствия. Но вообще-то, нельзя писать о Шотландии, не упомянув имен двух человек, которые сыграли в истории шотландского народа большую роль - один хорошую, другой плохую. Первый - поэт и любимец Шотландии Роберт Бернс, а второй - старый ханжа Джон Нокс. Что думают сами шотландцы об этих двух людях понятно из того, что день памяти Бернса празднует вся Шотландия, но я что-то не слышал, чтобы отмечали день памяти Нокса. Бернс - великий поэт, гуманист, близкий людям своими человеческими слабостями, которые он и не думал скрывать в стихах, его творчество понятно бедным и обездоленным, которых он защищал. Наш поэт Самуил Маршак сделал из Бернса русского поэта, а другие переводчики, воспользовавшись переводами Маршака, сделали его советским поэтом. Почитайте стихи Бернса в переводах Маршака, и вы увидите, кто такой Бернс.
Нокс, помешавшись на религии, не придумал ничего лучше, чем поездку в Женеву к другому ханже - Кальвину. Кальвин тогда уже прославился тем, что отравил жизнь веселой Швейцарии и сжег на костре Михаила Сервета, испанского врача и богослова. Широкое распространение во многих странах кальвинизма как богословской доктрины не является заслугой самого Кальвина. В большей мере это объясняется протестом католиков против тупого деспотизма церкви, а отчасти и глупостью человечества вообще.
Вернувшись в Эдинбург, Нокс настойчиво проводил в жизнь идеи Кальвина, которые до такой степени повлияли на быт шотландцев, что это ощущается и сегодня. Стендаль, описывая в книге «О любви» свой визит в Эдинбург, между прочим заметил, что воскресенье в Эдинбурге дало ему представление о том, что такое ад. Он шел из церкви со знакомым шотландцем в воскресенье, и тот попросил его: «Пойдемте побыстрее, а то могут подумать, что мы прогуливаемся». В воскресенье закрывались места развлечений, пивные бары, магазины. Это я застал еще в 1948 году. Пить разрешалось только путешественникам, поэтому единственный открытый ресторан - на вокзале Уэйвер-ли. Жители Эдинбурга, которые хотели выпить, шли на вокзал и напивались там под видом путешественников
Прогуливаясь по городу, я заметил, что на площади около Национальной галереи часто можно слышать уличных ораторов. Несколько раз послушал - все говорили об одном и том же: ругали СССР. Мне показалась удивительной одна особенность здешней свободы слова: каждый человек имел право ругать Советский Союз, но никто не рисковал выступить публично в его защиту, настолько взвинчено было против СССР общественное мнение.
В газетах печаталось все, что угодно, но антисоветские настроения тоже были очевидны. Ниже привожу несколько примеров, записанных у меня в дневнике.
Объявление о лекции: «Отношение господа бога к современной всемирной политической ситуации».
Де Голль произнес воинственную речь (8 марта 1948 года): готов идти войной на Советский Союз, если его поддержат США.
В газете «Ивнинг Диспатч» председатель «Шотландской лиги европейской свободы» потребовал, чтобы Россия «убиралась назад в Азию, где ей и место».
Интересно, что шотландцы гораздо реакционнее англичан. Например, лорд Соутон сказал мне, что он поддерживает выступления некоторых политиков, ратовавших за отделение Шотландии от Англии и за переезд монарха в Шотландию, так как в Шотландии больше людей, верных его священной особе, и они смогут лучше охранять его, а в Англии люди к монарху безразличны. Неудивительно, что шотландцы резче англичан относились и к СССР.
Мне представлялось, что антисоветские настроения хотя бы немного ослабит прибытие в ближайший к Эдинбургу порт Лит впервые после окончания войны советского торгового судна. Но все вышло не так.
Двенадцатого марта советский корабль «Вторая пятилетка» вошел в гавань, он привез ячмень, из которого шотландцы гонят виски. Я видел, как осторожно катер проводил на буксире наш корабль сквозь лабиринт узких рукавов, в которые большое судно, казалось, едва ли могло протиснуться. Зрелище было красивым. Бросалась в глаза широкая красная полоса на трубе корабля, правда, без серпа и молота. Зато флаг был с большими серпом и молотом, сверкающими золотом. Порт Лит, по сравнению с Шанхаем, просто маленькая серия причалов. На набережной собралось человек двадцать пять - тридцать встречающих. Я познакомился с журналистом МакКорри, корреспондентом какой-то правой газеты, и его спутницей. Они сказали, что все корреспонденты ожидают какого-нибудь скандала, и указали мне на Тома Меррэя, секретаря Шотландско-советского общества дружбы. МакКорри выразил пожелание, чтобы Меррэя сбросили с парохода, - вот тогда была бы сенсация. Стоявший тут же полицейский офицер выразил общее настроение словами: «Когда ячмень разгрузят, хорошо бы пустить торпеду в корабль при выходе его из порта». Я поднялся на корабль вместе с журналистами и попросил позвать судового врача. Тот пришел, но, отговорившись занятостью, предложил перенести встречу на завтра. Разговора с членами команды не вышло: отвечали на вопросы очень коротко, сдержанно, холодно и неохотно. Я-то думал, что, представляя собой пятьдесят процентов советской колонии Эдинбурга, буду принят соотечественниками с распростертыми объятьями. Ничего подобного не произошло.
На другой день я снова пришел на корабль. На этот раз все было лучше. Провел на пароходе четыре с половиной часа. Пришлось поработать переводчиком у старшего помощника: беседовал с поставщиками, таможенными чиновниками и санинспектором, со случайными посетителями и журналистами. Потом обедал в кают-компании. Ел ржаной хлеб. Атмосфера была совсем другой, чем накануне, — намного теплее. Угощали «Казбеком» и «Катюшей». Вечером и в газете «Ивнинг Диспатч» появилась статья, более дружелюбная по отношению к советскому кораблю. На следующий день члены шотландско-советского общества дружбы на автобусах возили моряков по городу. Пригласили их на концерт самодеятельности с чаем и бутербродами, но те не пришли. Я чувствовал себя препротивно.
В Бристоле, судя по газетам, наш капитан отказался встретиться с представителями общества англо-советской дружбы, и те очень обиделись. Тут виноваты обе стороны: ни та, ни другая не понимали поведения противоположной стороны. Чересчур разными были взгляды.
Мое настроение с каждым днем становилось все хуже. Вот одна из дневниковых записей: «Четверг, 18 марта. Был в замке Холлируд. Сегодня газеты полны цитатами из речи Трумэна. Англичане взвинчены и говорят о войне. У меня настроение неважное. Советских газет нет. Поговорить не с кем. Я приехал сюда под влиянием сталинских слов о том, что для войны сейчас объективных условий нет... Может, объективные условия изменились... одиночество и враждебный тон газет изрядно действуют на нервы. Если бы не мое желание получить новые знания в медицине, я послал бы все к черту и уехал сегодня же».
Двадцать восьмого марта вместе со Стрингером я поехал в Лондон. Остановились на ночь в Грайт Норзерн, а пообедали в каком-то итальянском ресторане. Сходил в посольство, где в паспорт мне вшили сорок страниц. Не удержался от очередного посещения Национальной галереи. Снова смотрел картины Эль Греко, Паоло Веронезе, Манэ, Сезанна и Ренуара. Гулял в Гайд Парке, прошелся вдоль Роттен Роу, по которой ездят любители верховой езды, полюбовался искусственной речкой Сер пантайн.
В отель меня пускали только ночевать, утром я выметался оттуда, свой чемоданчик пристраивал на день в наше посольство, а к вечеру возвращался назад и просил сдать мне комнату на ночь. Это детали «холодной войны».
Вскоре у меня начались лихорадочные дни. Я зашел к Дину, и узнал от него, что судно «Бен Ломонд», на котором я должен отбыть домой, уходит семнадцатого апреля.
Сходил в гости к секретарю королевского общества Эдвардсу. Мы вместе пошли в бар, сидели на бочонках из-под вина, ели сандвичи с сыром и пили херес. Эдвардс предложил мне вступить в Королевское медицинское общество. Я согласился, за меня поручились сэр Моррис Кассиди, лейб-медик королевы в Англии, сэр Джеймс Лирмонт, лейб-хирург королевы в Шотландии и Колин Дафо, живший со мной в одном пансионе. Во время войны Дафо был в Югославии, и, так как он хорошо отзывался о югославах, его подозревали в тайном пристрастии к коммунизму.
Тридцатого марта приехал в Кобам попрощаться с четой Динов. Миссис Дин пригласила меня посмотреть парники общества садоводов Англии в Уизли. Обедали в гостинице на берегу небольшого озера, в котором плавали лебеди.
На следующий день вернулся в Лондон, заплатил за билет на «Бен Ломонд» и отправился в собор св. Павла, который посещают все иностранцы и не посетил ни один лондонец (так мне сказали). Собор, создание известного архитектора Кристофера Рана, к счастью, от гитлеровских бомбежек не пострадал, но вокруг было немало разрушенных зданий. На некоторых двухэтажных зданиях висели вывески, гласящие: «Древние окна». Надписи означают, что это старинные постройки и перед ними нельзя строить многоэтажные дома, которые бы их закрыли.
После обеда позвонил Симмонсу и Хью Миллеру и был приглашен в клуб дальневосточников, Хауз клуб, на улицу Сайнт Джеймс, где расположены почти все клубы Лондона. Сначала мои приятели привели меня в бар - огромную комнату с длинной стойкой, над которой висела большая картина, изображавшая обнаженную женщину. Я спросил Симмонса, откуда эта картина. Симмонс ответил, что никто точно не знает, как эта картина сюда попала: когда их клуб покупал здание у первого владельца, картина уже висела. И продолжил с типично британской страстью к безобидной лжи в подобных ситуациях: «Это было примерно лет сто пятьдесят назад. Неправда ли, Миллер?» - «Да, - ответил Миллер, - сто пятьдесят семь лет назад». - «Вы совершенно правы, Миллер. Сто пятьдесят семь лет назад. Хозяин здания переезжал в меньшую квартиру, и у него просто не хватило места повесить эту картину. Он попросил нас купить ее. Мы заплатили за нее что-то около трехсот фунтов стерлингов. Не так ли, Миллер?» - «Да. Триста фунтов, двенадцать шиллингов и шесть пенсов». — «Опять вы правы, Миллер. Именно триста фунтов, двенадцать шиллингов и шесть пенсов. Но члены клуба так к этой картине привыкли, что никто на нее и не смотрит. Я бываю в клубе три раза в неделю и, хотите верьте - хотите нет, ни разу на нее не взглянул».
Когда Симмонс и Миллер закончили пикировку чисто английскими шуточками, мы пошли в ресторан «Пиноли» на Уордор стрит, поужинали и поехали на вокзал. Поезд отошел в Эдинбург в половине одиннадцатого вечера. Спальных мест не было, и мне пришлось сидеть в полузабытьи девять часов. Сидело восемь пассажиров. Многие дремали. Молодой солдат всю ночь целовался с девушкой.
В воскресенье, четвертого апреля, вместе с Колином Дафо осмотрели дворец Холируд, в котором в свое время развлекалась Мария Стюарт со своим Риччио. Маляры специально закрашивали ярко-красной краской то место у изголовья кровати королевы, где был заколот Риччио. Я подумал: а Черняк все еще сомневается! Смешно.
Потом я посетил зоопарк. Он построен в скалах, и животные там содержатся в естественных условиях. Впечатление на меня произвели пингвины: отгороженные от посетителей невысоким заборчиком, они выстроились вдоль забора и разглядывали посетителей. Забавные птицы.
Наконец пришло извещение, что «Бен Ломонд» уходит четырнадцатого апреля, и я успел съездить еще в Или (графство Файф), где жили жена моего шефа, доктора Бертона, и его брат. Они свозили меня на машине в университетский городок Сайнт Андрьюс - прелестный городок, расположенный на берегу Северного моря, высоко на скалах. Весь он построен из белого камня и на фоне покрытых снегом шотландских гор выглядит очень красиво. Мы поехали за город в сторону моря и оказались около тюрьмы, которая получила название «Бутылка». Она представляет собой помещение в два человеческих роста, выдолбленное под скалой, то есть пещеру, а в центре пола пещеры выскоблено подземелье, имеющее внутри форму гигантской бутылки. Горлышко вверху довольно узкое, метра четыре в диаметре, а книзу стены расходятся. Брат Бертона пошел за сторожем и сказал ему: «Здесь приехал советский джентльмен, интересуется тюрьмами». Сторож принес керосиновую лампу, привязанную к длинной веревке. Подойдя к «горлышку бутылки», он опустил лампу вниз и начал крутить веревку, чтобы дать нам возможность рассмотреть все помещение тюрьмы. Страшное зрелище. Гладкие стены, мокрые от сырости. Никакой параши нет. Дно этого каменного мешка около тридцати квадратных метров. Слышно, как эхом отдается внутри шум волн, бьющихся о скалы Северного моря. Выбраться из такой тюрьмы совершенно невозможно.
В Или у Бертона был свой дом, который он назвал «Марна» в память о битве, в которой потерял ногу. В Англии не принято пользоваться номерами для домов, хотя они, конечно, есть в крупных городах. Как правило, англичане свои дома довольно романтично называют, например: «Три дуба», «Яблоневый сад», «Марна», «Верден», «Нежная Нэлли», а бедные почтальоны все эти названия должны помнить. В тот день, когда я приехал в Или, стояла ясная погода, и из города был хорошо виден залив Ферт оф Форт и «Старый дымящийся», как шотландцы любовно называют Эдинбург.
Вернулся я в Эдинбург уже поздно вечером. На другой день пошел покупать отвертку. У одного моего чемодана из шарниров на крышке вылезли винты. В южной части графства Йорк находится город Шеффилд - гордость английской сталелитейной промышленности. Шеффилдская сталь известна всему миру. Я купил небольшою отвертку с надписью «Сделано в Шеффилде» и, вернувшись в пансион, принялся за работу. Когда винт зашел достаточно глубоко и пришлось применить силу, случилось неожиданное. Винт дальше не проворачивался, а отвертка вся перевилась, и получился хорошенький небольшой штопор. Но так как кончик у моего штопора оставался плоским, как у отвертки, то мне пришлось это творение шеффилдских умельцев выбросить.
До отъезда надо было успеть попрощаться с Лирмон-том, и я поехал к нему. Он был настроен пессимистически, ждал войны и очень возмущался тем, что советский самолет сбил над Берлином английский. Вечером в пансионе на Карлтон Террас Харри и Бетти Дине, хозяева пансиона, устроили прощальный вечер, на котором были все обитатели пансиона, а кроме них - две прелестных шведки, Грета и Шастин Оберг (дочери обувного короля Швеции), кухарка и ее муж. Вот в этом шотландцы демократичнее англичан, те бы кухарку на танцы не пригласили. Вечеринка продолжалась далеко за полночь. Пели песни и плясали почти до рассвета.
Часа в четыре утра, когда я уже лег спать, ко мне без стука вошли Колин Дафо и графиня де Марнефф. Графиня устало опустилась на один из упакованных чемоданов, а Колин начал ходить по комнате и уговаривать меня разыграть графиню в кости. Полина (так звали графиню) сидела на чемодане и с безразличием в голосе повторяла: «Сукины вы дети, а не мужчины. Сукины дети».
Утром всей компанией в последний раз пошли на «Трон Артура». Пансион закрывался. Харри и Бетти Дине уезжали в Южную Африку, Дафо и Дарлимпл отбыли сразу после обеда, не знаю, в каком направлении. Что сталось с неразыгранной графиней, не знаю.
Я уехал в Лондон одиннадцатого апреля в десять часов вечера. На этот раз у меня было отдельное купе и даже с умывальником. Утром сдал вещи транспортной компании, которая должна доставить их мне на квартиру в Шанхае, потом заехал в советское посольство попрощаться с Филипповым, который был, по-моему, секретарем консульского отдела. В связи с этим визитом вспомнился довольно забавный случай. Как-то приехав в посольство, я увидел нецензурное ругательство, написанное мелом на воротах. Я сказал об этом Филиппову, тот послал уборщицу стереть его, а потом подошел ко мне с маленьким англо-русским словариком и сказал удивленно: «А вы знаете, этого слова в словаре нет». Еще бы! Его нет и в Энциклопедии «Британика». Такие слова были только в словаре Владимира Даля, пока не решили его «подчистить».
Среди суеты, связанной со сборами в дорогу, я все же выбрал время для поездки на велосипедах с миссис Дин. Мы выехали тринадцатого апреля утром по направлению к Кландону, а оттуда - в Шир (шекспировское местечко), Абинджер, Фрайдай стрит, Уоттон, Данли Хилл, Эф-фингхам и, наконец, в Кобам. Таким образом нам удалось посмотреть значительную часть графства Сэррей -живописной части южной Англии. Завтракали прямо в поле: сандвичи с сыром и сидр - легкий алкогольный напиток из яблок. Англичане его пьют из кожаных кружек. Да, именно из кожаных. А пиво из металлических кружек - сплав олова и свинца. У старинных кружек дно из стекла. Это нужно было для того, чтобы пьющий кружку до дна, мог видеть своего собутыльника, который нередко вытаскивал в этот момент шпагу и прокалывал своего собеседника. Веселая старая Англия! А на севере Франции из сидра гонят крепкий алкогольный напиток - кальвадос, вдохновивший Ремарка не на один роман.
Утром четырнадцатого апреля я уже снова был в Лондоне. Отнес чемодан своим транспортным агентам, господам «Киллик, Мартин и Ко», и остальное время до посадки на корабль посвятил приобретению вещей, которые могли понадобиться в пути. Зашел в магазин, купил ручные часы за семнадцать фунтов и авторучку. На Каллом-стрит забрел в маленькую грязную лавчонку, хозяин которой, окруженный корнями вереска, тут же резал трубки любой формы, по желанию заказчика. Купил себе еще одну трубку и отправился в порт.
«Бен Ломонд» - грузовое судно с двумя каютами на четырех пассажиров. Не то что «Сити оф Лакнау». Со мной едут три молодых англичанина: Уаллакот, Крамден и Хоппер. Хоппер - со мной в каюте. По профессии он механик, конечный пункт его путешествия - Гонконг, где он собирается работать в английской пароходной компании, служащие которой являются нашими пациентами в Шанхае. Другие двое едут на каучуковые плантации в Малайю.
Уаллакот тут же рассказал ставшие ему известными детали столкновения в воздухе британского и советского самолетов в Берлине. В английских газетах подняли шумиху по поводу того, что советский летчик нарочно таранил британский самолет, поэтому Лирмонт страшно возмущался. Оказалось, что Уаллакот за несколько дней до отплытия беседовал со знакомым английским летчиком из Берлина и тот ему рассказал, что трагедия с самолетами произошла по вине англичан. Английский самолет летел по советской зоне на четыреста ярдов (около четырехсот метров) левее от предписанного курса, а советский летчик летел «вслепую», с автопилотом. Когда он заметил английский самолет, было уже поздно. Он тоже погиб.
Четырнадцатого апреля, в среду, «Бен Ломонд» покинул Лондон.
Запись из дневника: «15 апреля 1948 года, пятница. Хорошая погода. Качка средняя, я ее переношу хорошо, очевидно, приобрел то, что англичане называют «морские ноги». Пассажиров посадили за стол с капитаном и старшими офицерами. Все офицеры - шотландцы, большинство из Эдинбурга. Славные люди».
«Бен Ломонд» - шотландский корабль. Он меньше, чем «Сити оф Лакнау» и менее комфортабелен, но он «счастливый корабль». Так англичане называют корабли, на которых хорошие капитаны. Если капитан хороший, справедливый человек, то и вся команда довольна и работает слаженно. Нет ни дрязг, ни кляуз.
О нашем капитане следует сказать особо. Капитан Синклер - типичный шотландец: высокий, красивый, худощавый брюнет, с черными глазами и доброй улыбкой. Если во время моего путешествия в Англию пассажиры каждый день изводили меня недружелюбными разговорами о Советском Союзе, то на «Бен Ломонде» капитан сделал в высшей степени тактичный и гостеприимный жест. Он велел на палубе выключить динамики и запретил разговоры о Советском Союзе в кают-компании - вовсе не потому, что был за коммунистов. О политике я с ним никогда не разговаривал, но, весьма вероятно, он был настроен против Советского Союза. Однако я был в Шотландии, и он считал своим долгом оказать мне гостеприимство на шотландском корабле. Что думала Англия по этому поводу, его не касалось, на корабле он один в трех лицах представлял и бога, и королеву, и компанию, в которой служил. Здесь он был хозяином и мог запретить передачу радиотелеграмм. В команде были одни шотландцы, только радист - англичанин; потихоньку на палубе он рассказывал мне последние новости, которые были тревожными и неприятными. Англичане ждали войны, но шотландцы молчали.
Капитан периодически приглашал нас к себе в каюту на коктейль. Он провел четыре с половиной месяца в плену у итальянцев в Сомали (Восточная Африка) и изучал там жизнь муравьев. Итальянцы потопили его корабль в самом начале войны где-то в Средиземном или в Красном море - не помню. Пленных англичан они работать не заставляли (в отличие от японцев). Лагерь представлял собой огороженный кусок пустыни, на котором были построены здания для офицеров, казармы для солдат, офицерский клуб и барак для пленных англичан. Англичан кормили и полностью игнорировали. Капитан Синклер после завтрака садился где-нибудь в тени около муравьиной кучи и наблюдал за муравьями. Он очень много узнал об их жизни и устройстве муравейников, но говорил об этом нехотя. Муравьи ему надоели.
Старший механик в соответствии с традицией разделять «настоящих» моряков и инженеров, сохранившейся в английском флоте, жил на корме в каюте, наполненной батареями бутылок шотландского виски и ветошью, запачканной машинным маслом. У него было много книжек с анекдотами, большей частью неприличными, как и полагается у моряков. Каждый день он вычитывал оттуда два-три анекдота и затем рассказывал нам их за столом.
Старший помощник Найсмит просидел всю войну в японском концлагере, сначала в Шанхае (о концлагере для военных я никаких подробностей не знал, я только слышал, что он существует), затем в Пекине и в конце войны в угольных копях в Японии. В шахтах с ним работал капитан Полкингхорн, командир канонерки «Петерел», которую, как я уже писал, потопил японский флагман «Идзумо» в первый день Тихоокеанской войны на реке Вампу в самом центре Шанхая.
В Бискайском заливе старший офицер пригласил нас, пассажиров, на мостик и показал нам радар. На его экране мы рассмотрели маленькие черные точки - это были португальские рыболовные суда. Прошли траверс Лиссабона. Проплывали мимо берегов Испании, а справа был виден Танжер, который в то время находился под контролем четырех великих держав: СССР, США, Великобритании и Франции. Я вспомнил только одну историю, связанную с этим городом. Несколько лет назад там заболел норвежский генеральный консул. Его поместили в больницу, а из больницы украли. Кто украл - неизвестно. О Танжере мне тоже больше ничего неизвестно.
За обедом капитан спросил нас, хотим ли мы увидеть Гибралтар на более близком расстоянии. Мы, конечно, сказали, что хотим. Он круто повернул судно, и мы прошли совсем близко от берега. Нам дали бинокли и подзорную трубу, и мы с капитанского мостика смогли рассматривать порт и город-крепость во всех видимых деталях. Вертикальным расположением домов Гибралтар напоминает Гонконг, но он почти совсем лишен растительности. На юго-восточной стороне города на скалах отчетливо виднелись зацементированные желобки для стока дождевой воды в резервуары. Скалистый мыс, на котором стоит Гибралтар, соединен с материком, то есть с Испанией, узкой полоской земли, и на испанской территории вплотную к нему примыкает город Ла-Линеа. Гибралтарская крепость на ночь запирается на ключ (за эти сведения я не отвечаю: так мне рассказали англичане, но они любители пошутить), дежурный караула под звуки барабана несет этот ключ к губернатору крепости, а тот кладет его себе под подушку. Вранье, конечно.
Тунис мы должны были пройти ночью, а утром 26 апреля быть в Порт-Саиде, но пароход нарочно провел воскресенье в море, чтобы команда получила лишние полдня отдыха и лишнюю (совсем нелишнюю) зарплату. Ползли со скоростью одиннадцать узлов в час, а океанский лайнер способен развивать до двадцати узлов.
В Порт-Саиде арабы меня не выпустили на берег из-за советского паспорта. Я попросил Хоппера купить мне газет. Он принес «Ле леттр франсэз», литературную газету французской компартии. Капитан нервничал. Он хотел скорее выйти в Красное море, чтобы быть вне власти египтян. Но вот уже Горькие озера и, наконец, Красное море.
Второго мая прошли группу островов «Двенадцать апостолов». Капитан пригласил нас на коктейль. Привожу здесь его рецепт: 400 г сухого молока, 2 яичных желтка, 2 чайных ложки сахара и полбутылки французского коньяка. Вспомнилось: у Станюковича есть рассказ. Капитан хвалит старшему офицеру своего вестового за то, что он хорошо готовит напиток «Медведь». Вестовой ухмыляется про себя: «Так это же просто. Надо, чтобы коньяка было больше полстакана, вот и весь секрет».
Третьего мая пришли в Аден. Скучная круглая бухта. Ночью ничего не видно. Вокруг корабля плавали гигантские розовые и белые медузы. Четвертого мая я помогал старшему офицеру отбивать на палубе ржавчину. Женщин на пароходе нет, поэтому мы ходили в грязных шортах, брились, когда захочется, и над кораблем, как голубой туман, висела трехэтажная ругань.
Неожиданно запретили принимать душ больше одного раза в день. Не хватало воды. Так перегрузили корабль, что воды пришлось взять в Порт-Саиде меньше, чем нужно.
Запись из дневника: «7 мая 1948 года. В двенадцать часов дня мы увидели арабские «дау» - маленькие парусные суда, на которых арабы возят грузы из Аравии в Африку. Кто-то махал флагом с верхушки мачты. Паруса были спущены. Капитан круто развернул корабль и застопорил машины. К нам подошли лодки (одна была просто выдолбленным куском большого дерева). В большой лодке пятнадцать человек: дюжина негров и три араба. Все были почти голые, только в набедренных повязках, лишь их капитан, наверное, ради официальности визита, был одет. Старая английская солдатская рубаха была длинновата для его маленького роста, а так как ноги у него были голые, то создавалось впечатление, что капитан был без штанов. Но во время бедствия не до этикета. Оказалось, что они попали в штиль. Десять дней здесь не было дождя, и трое суток люди не пили ни капли воды. Хорошо, что они оказались на траверзе парохода. Будь они километров на сто южнее, их бы никто и не заметил. А это смерть.
Лодка у потерпевших была настолько стара, что все время наполнялась водой, и шесть негров были заняты только тем, что непрерывно вычерпывали воду банками из-под керосина. Наш капитан дал им воды (просто налили воду из шланга в их лодки, и они, сидя в пресной воде, так и поплыли), а также сто сигарет «Вудбайн» - любимые сигареты английских матросов. Их капитану он показал на карте, где их «дау» находится. Дело в том, что арабы плавают только по компасу и по звездам, а может быть, и по старому будильнику. Вообще, удивительно, как эти «Синдбады-мореходы» находят путь в океане. Их смелость достойна уважения. Они уходят из Аравии с северо-восточным муссоном и возвращаются с юго-западным, то есть находятся в плавании почти целый год. Чем и как они торгуют и оправдывается ли их торговля, известно лишь Аллаху и Магомету, пророку его.
Мы развернулись и взяли курс на Коломбо. Там должны взять масло для машин и долгожданную воду. Один душ в день в Индийском океане в мае месяце - это слишком! Все загорели, огрубели и стали походить на пиратов».
В эти дни у меня состоялась беседа с нашим боцманом, которую я почти дословно записал как рассказ под названием «Морской волк». Поскольку рассказ имеет прямое отношение к моему путешествию, я счел возможным привести его здесь полностью. Замечу, что некоторые эпизоды гиперболизированы, но, надеюсь, что читатель сразу это уловит. Слова «эдакий» и «разэдакий» — нецензурные английские ругательства, которые я не мог выкинуть из текста, иначе колорит разговора был бы начисто потерян, и из шотландского боцмана у меня получилась бы воспитанница благородных девиц города Санкт-Петербурга.
Уаллакот и я стояли на носу корабля и курили. Вокруг расстилалась монотонная синева Индийского океана. И ни морские лошади, как англичане называют пенистые гребни волн, ни летающие рыбы, ни лазурь небосвода, ни попутный нам юго-восточный муссон, ни ныряющие черносерые дельфины со свиными носами не радовали нас, изнывающих от безделья пассажиров. Команда корабля тоже была утомлена однообразием этого длинного пробега. Шла четвертая неделя, как мы покинули туманный Лондон.
К нам подошел боцман, дружески улыбаясь.
«Ну как, джентльмены, - спросил он, - подходящая для вас погода?» - «Прекрасная погода», - ответил Уаллакот. Я кивнул головой в знак согласия. Даже эта неизменно хорошая погода начинала казаться монотонной.
Боцман - человек уже пожилой, проведший сорок пять лет своей жизни на море, - был маленького роста: пять футов без излишка (полтора метра). Одет он был в грязную рваную рубаху и короткие штаны военного образца цвета хаки. (Да и мы были одеты не лучше, было лень стирать). На голове он кокетливо, на одну сторону, как французский берет, носил белый чехол от морской фуражки. Глаза добрые, желтые. Прямой нос. На носу около правого глаза сидели две небольших опухоли, обещавшие со временем переродиться в рак кожи, лицо в грубых морщинах, а кожа шеи, как китайский апельсин, в грубых складках. Ноги и руки, годами соприкасающиеся с машинными маслами, в светло-желтых и темно-коричневых пятнах.
Боцман был родом из Лита, порта и пригорода Эдинбурга, и говорил с приятным певучим акцентом - так говорят жители восточного побережья Шотландии. Издали этот говорок своей певучестью напоминает датский или норвежский язык.
«Да, погода неплоха, - продолжал он, стирая куском старого полотенца масло с пальцев, - уже второй день отбиваем ржавчину с этой разэдакой палубы. Работы военного времени этот разэдакий корабль. Железо такое, что палубу приходится чистить два раза в год. Считаю, что через три года от палубы ничего не останется».
Уаллакот протянул ему портсигар. Боцман двумя пальцами вежливо взял сигарету, манерно отставив в сторону мизинец: «Благодарю. Теперь и разэдакий имперский табак вызывает кашель, а платить приходится три шиллинга за двадцать штук. Это все наше эдакое рабочее правительство виновато». - «Разве вы против рабочей партии, боцман?» - спросил его Уаллакот.
Боцман сердито крякнул: «Я вообще против всякого правительства. Я старый моряк. Мне скоро шестьдесят стукнет, и я вижу, что дела в Соединенном королевстве идут все хуже. Посмотрите на молодых матросов сегодня! Возьмите любого. Вон того, что стоит у мачты с сигаретой. Вы скажете, что это матрос. Ничего подобного. Это разэдакий сукин сын, а не матрос. Работать они не хотят, вот что. Им нужна не работа, а дансинги и пиво. Да и пиво-то они пить не умеют как следует, бутылку выпили - и голова кругом пошла. Вот мой сын, например. Послал его в море. Шесть фунтов зарплаты в неделю. Стол великолепный и чистое постельное белье раз в неделю. Нет, не пожелал служить. Вернулся домой и поступил работать в галантерейный магазин на Принцевой улице. Купил американский галстук и думает, что стал лордом. Да и получает разэдакое маленькое жалованье. Зато проводит все вечера в баре Рудерфорда с намазанной разэдакой блондинкой. Мне, - говорит он, - нужно общество после ужасов войны. А какое у него общество? Все эти разэдакие девицы и кино. Да разве сейчас в Шотландии жизнь? Разве они знают теперь в торговом флоте, что такое морское дело? Вот ни разэдакой чуточки не знают. Всех бы их послать в армию на два года понюхать дисциплины. А если и идут в торговый флот, так опять только для того, чтобы избежать воинской повинности дома. А работать не желают. Им чистое постельное белье нужно. Вот в доброе старое время разве такая жизнь была при Эдуарде седьмом?»
Боцман заметно оживился. Затянулся глубоко последний раз и бросил окурок за борт.
«Никаких этих разэдаких глупостей не было. Мыла почти совсем не давали. Спали все в одной большой каюте на корме. Электричества не было. Этих разэдаких электрических вентиляторов не было. Холодильников не было. В Индийском океане, как бывало солнце заварит, так дышать нечем. Помню, раз капитан наш купил в Порт-Саиде заведомо гнилое мясо для команды. Он был разэдаким хорошим бизнесменом. Ну вот, в Красном море у нас и вспыхнула дизентерия. Тогда этих эдаких сульфапрепара-тов не было. Каждый день по два-три матроса загибались. Наш старик с ног сбился, читая отходные матросам, которые умирали по его же вине. Зато когда он подал в отставку, у него в банке было пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Скажите, откуда он их достал, если только теперь капитаны стали получать по шестьдесят фунтов в месяц? Да, славное было время. Помню раз я плавал на «Киркал-ди». Капитаном был Роберт Макларен. Ему еще в бытность младшим офицером выбили глаз в кабаке в Пенанге. Так он воображал себя разэдаким адмиралом Нельсоном. Все с подзорной трубой по мостику разгуливал. Со мной тогда служил паренек из Сайнт-Андрьюс по имени Макдугалл. Этот Макдугалл как-то попытался ночью спуститься на берег по канату. У него свидание с китаянкой было назначено. А дело было в Гонконге. Жарко. Никто не спал. Ну и разэдакий старик тоже не спал. Сидел голый на мостике и пил виски. Конечно, заметил, что кто-то лезет по канату. Схватил револьвер, подбежал и пальнул два раза. Так, больше из озорства. Макдугалл испугался и покатился по канату. Конечно, сжег себе веревкой ладони рук. На утро старик начал производить дознание и посадил парня на две недели в карцер на хлеб и воду и на слабительную соль. Все бы хорошо, да правая рука у парня сильно воспалилась. Тогда у нас пенициллина не было. Ну ничего, все обошлось без трагедии. Провалялся в больнице два месяца. Правую руку ампутировали по локоть, и хозяева велели вычесть стоимость лечения из его зарплаты, так как случай произошел по его собственной вине. Да, добрые старые времена были.
Помню, раз мы получили приказ вести груз пеньки из Бомбея в Ливерпуль. Хозяева решили нагрузить нас до отказа, ниже линии Плимсолля. Угля дали только до Адена и воду урезали. Вместо пятидесяти тонн воды дали пять. Понятно, хозяину нужен барыш, а британский матрос все выдержит. Старший офицер приказал не мыться. О’кей. Приказ есть приказ. Через неделю у людей началась какая-то кожная болезнь. Гнойные пузыри по телу пошли. Старший помощник лечил нас по регламенту: две столовых ложки слабительной соли натощак. Офицерам тоже тяжело пришлось. Мылись содовой водой. Виски пришлось пить в чистом виде. Ничего, перенесли безропотно. Зато хозяин смог купить себе двух новых лошадей. Одна из них «Летающая Победа» взяла первый приз на Дарби в одиннадцатом году. Может, слышали? Да, жизнь была иная. А сейчас рабочее правительство требует, чтобы у каждого матроса отдельная каюта была. Я, конечно, этому не верю. Эти ра-зэдакие политиканы только и знают, что разговаривают. Правда, построили «Бенкрухан» и дали каждому разэдако-му матросу по каюте. А что толку? Мы от этого становимся только мягче. Этот проклятый Монти3 заявил, что каждый солдат должен иметь лампу у изголовья, чтобы читать по вечерам. Скоро он обрядит их в разэдакие шелковые бюстгальтеры. В доброе старое время мы сидели на солонине, а ветчину получали по четвергам и воскресеньям. А теперь каждый разэдакий матрос желает получать мороженное к обеду. И все эти усовершенствования ни к чему. Радар и прочие разэдакие глупости. Вот капитан Джонсон с «Далмени» отказался пользоваться радаром. «Я, - сказал он, - сорок лет плавал без вашего разэдакого изобретения и еще столько же лет проплаваю. Можете засунуть ваш радар туда же, куда и рождественский пудинг». Славный был человек. Утонул два года назад в устье Темзы. Был сильный туман, и он наскочил на португальского купца. Ну, это уж судьба. Если тебе суждено бесславно погибнуть от разэдакого португальского купца, тут никакой радар не поможет. Слава богу, что и португалец с ним на дно пошел. Честная игра, прежде всего. А теперь: радио, барометры, термометры, атомные бомбы. Не успеет корабль выйти в море, как офицеры шлют телеграммы своим милашкам. Радист сидит и отшлепывает эти тысячи поцелуев по Морзе. Подумаешь, какие разэдакие нежности! Теперь пароход делает двадцать узлов в час. Не успел уйти из Англии и отдохнуть от своей старухи, как, смотришь, снова виднеются белые скалы Донвера. В мое время уйдешь, бывало, в дальнее плавание, вернешься через три года и узнаешь, что она успела сбежать с боцманом американского корабля. Да, славное было время.
А теперь что? Я на пароходе хорошо питаюсь, а жена дома получает одну унцию ветчины в неделю. А если будет война с Россией, лучше никому от этого не будет. Я войны не боюсь. Я старый матрос и повоевал немало. Британские моряки дерутся неплохо. Но русские тоже себя показали. Не вижу я никакой пользы от разэдакой войны.. Газеты пишут, что Россия хочет все захватить. Ну, а Америка что? Я разэдаким янки не верю. Газетам тоже не верю. Вот «Дейли Мэйл» кричала, что мы русскую команду «Динамо» разобьем. А что вышло? Разэдакий срам вышел. Да, Соединенное королевство идет по неправильному пути».
Раздался свисток. На мостике менялись рулевые.
«Пойду, помоюсь перед ужином, - сказал боцман, -приятного вам вечера, джентльмены».
Мы остались одни. Стемнело. Над горизонтом повис кособокий четырехугольник Южного Креста.
Этот рассказ был написан в Бенгальском заливе в мае 1948 года, но мне кажется, что и сегодня он интересен. Я не выдумал шотландского боцмана. Это был человек, который говорил то, что думал.
За исключением сильного шквала, в который мы попали в Бенгальском заливе, мы дошли до Пенанга без приключений. Отсюда в Шанхай я решил лететь самолетом, так как политическая обстановка становилась в Китае все тревожнее. (В Лондоне в нашем посольстве Филиппов показал мне карты военных действий в Китае. Армия Мао быстро приближалась к Шанхаю). Капитан посоветовал мне зайти в политическое отделение полиции Пенанга и сообщить о своих планах. Там меня принял офицер-англичанин в шортах и рубашке с расстегнутым воротом. Он пододвинул мне банку сигарет «Плэерс» и сказал, что ничего не имеет против, но по приезде в Сингапур мне также следует зайти в отделение полиции. Я купил билет до Шанхая на самолет британской авиалинии. День мне пришлось прожить в прекрасном отеле с идиотским названием - «Ис-терн энд Ориентал Отел», что в переводе на русский язык означает: «Восточный и восточный отель». Рано утром я вылетел из Пенанга. Мы сделали посадку в столице Малайи Куала-Лумпур и затем прибыли в Сингапур. Со мной летел англичанин, который рассказывал, что делают с советскими кинофильмами, которые приходят в Сингапур: «Мы не отказываемся их принять. Мы просто открываем коробки и ждем около года. Через год при сингапурской жаре и влажности они превращаются в желе».
В Сингапуре я снова встретился с Александром Андерсоном. Мне нужно было отметиться в полиции. Андерсон повез меня туда, но было воскресенье, и нам сказали, что нужный нам чиновник находится дома. По моей просьбе меня связали с ним, и я объяснил, в чем дело. Чиновник сказал, что все хорошо и, если его спросят, он подтвердит, что видел меня. Ужинали у Андерсона, ели кровавый бифштекс с бананами! В Сингапуре нет картошки и привычных для северных широт овощей.
Остановился я в поганой гостинице «Адельери», но зато спал с «голландской женой». «Голландская жена» (чисто английский термин, голландцы, наверное, называют эту штуку «английской женой») - это набитый соломой цилиндр, который ставят между ног, чтобы они не прилипали друг к другу от пота. Лежать надо на спине, раскинув руки, и лучше, если на потолке будет работать вентилятор. Спать в ту ночь было невозможно, несмотря на «голландскую жену».
Рано утром, когда на улице была еще сплошная тьма, ко мне зашел индус, дежурный, и сказал: «Саиб, вас ждет такси в аэропорт Калланг». Я поехал, собственно, не в аэропорт, а в порт, так как самолет, на котором мне предстояло лететь в Гонконг, был гидросамолетом. Когда он стартует из моря, волны закрывают иллюминатор, и чувствуешь себя совсем под водой. Мы пролетали над Вьетнамом, и я видел остров Хайнан.
Двадцать третьего мая, в понедельник, прибыли в Гонконг. Русский полицейский английской полиции посмотрел на мой паспорт и поставил штамп, предписывающий выехать из Гонконга в двадцать четыре часа. Сделать это физически было невозможно, и я пошел в главное полицейское управление. Меня принял офицер полиции, который оказался родом из Эдинбурга. Он очень обрадовался и, разговорившись об Эдинбурге, сообщил, что дом его родителей стоит около портновской фирмы Маклони. «Но это же рядом с пивным баром Рудерфорда», - заметил я. Полицейский слегка сконфузился: «Мне неудобно было это говорить вам, доктор». Он перечеркнул штамп в паспорте и сказал, что я могу улетать из Гонконга, когда захочу.
На сорок пятый день путешествия из Лондона, 27 мая 1948 года, я прибыл в Шанхай. Всего я пропутешествовал пять с половиной месяцев, из них девяносто девять дней морем, и много узнал о жизни моряков.
ПРИХОД АРМИИ МАО В ШАНХАЙ
Пишу эти строки московским дождливым июнем 1976 года. С тех пор, как я прочел книгу П.П. Владимирова «Особый район Китая - 1942-45», многое изменилось в моем сознании. Владимирова я несомненно встречал на приемах в советском консульстве в Шанхае. Он был генеральным консулом, наверное, после 1946 года, но я его не помню. В дневнике у меня о нем тоже ничего нет, однако, кажется, я давал наркоз его супруге по поводу острого аппендицита.
Сегодня могу только сказать, что Владимиров был абсолютно прав в том, что он писал о Мао и о Китае. Уж, кто-кто, а он-то знал Мао, так сказать, из «первых рук». Но Москва не только «слезам не верит», она не верит и своим людям, пример тому - Рихард Зорге.
Тогда все происходило сумбурно, как в романе Каверина «Освещенные окна». Но у Каверина описан древний город Псков в момент революции, а мне пришлось наблюдать международный Шанхай.
Шанхай второй раз переживал «второй Сталинград» (как это было в первый раз, я упоминал в истории, случившейся с моим другом, доктором Данцигером). «Вторым Сталинградом» японцы называли ту битву, которую собирались устроить, обороняя Шанхай. Теперь это же хотели сделать гоминдановцы. Один их генерал объявил, что устроит в Шанхае «второй Сталинград», но никогда не сдаст его народно-освободительной армии. Каким способом предполагалось удержать город? Рецепт был простой: объявили, что каждая иностранная семья, проживающая в Шанхае, должна послать на работу по обороне города одного слугу-китайца, а если это не будет выполнено - уплатить воинственному генералу один серебряный доллар. Конечно, слуг никто не посылал, а все уплатили деньги. Так на оборону Шанхая генерал получил, грубо говоря, двести тысяч серебряных долларов и на эти деньги начал строить частокол вдоль линии шанхайской железной дороги. Я видел это странное сооружение у переезда через железную дорогу. Частокол шел метров приблизительно на двести в обе стороны от переезда. Да-да, я не оговорился, именно частокол, то есть ряды палок в человеческий рост.
Гоминьдановская армия разлагалась. Солдаты заходили в квартиры иностранцев и просили денег. Дальше этого не шло: каждый иностранец получил от своего консульства бумажку на английском и китайском языках, что квартира является собственностью гражданина такого-то государства. Благодаря этому дома все они были в безопасности, но выходить ночью на улицу боялись. На ветровом стекле моей машины был китайский знак и иероглифы, обозначающие, что я врач. Врачей солдаты не трогали.
В моем дневнике сделаны лишь отдельные записи, относящиеся к этому времени. Было не до них. Вот запись от 21 апреля 1949 года: «С 9 утра до 6:30 вечера проработал в Кантри Госпитал с ранеными английскими моряками. Дал шесть наркозов пентоталом. Двадцать пять раненых. Англичане возмущены, обвиняют коммунистов. За три дня дал около двадцати наркозов». Речь здесь идет о раненых с английской эскадры, обстрелянной частями народно-освободительной армии Китая, когда она двинулась вверх по реке Янцзы в сторону Нанкина.
А вот запись от 14 мая 1949 года: «Уже второй день слышна артиллерийская канонада. Сегодня она доносится особенно четко. По слухам, коммунисты атакуют Вузунг. По-моему, это еще не значит, что они возьмут Шанхай на днях. Скорее, они хотят закрыть выход к морю, чтобы воспрепятствовать вывозу из Шанхая богатств. Логичнее ожидать бомбардировок аэропортов Лунгхуа и Кианг-вана. Настроение в городе нервное...»
Запись от 16 мая 1949 года: «Ходят слухи, что бои идут около Хунгджаосского аэродрома».
22 мая 1949 года: «Сильный артиллерийский огонь ночью. Дом дрожит от взрывов. У жены начались родовые схватки в 1:00 утра. Готовлю инструменты и кипячу воду. В 6:30 утра увез ее в Кантри Госпитал. В 3:00 дня родилась дочь Марина».
23 мая 1949 года: «Довольно тихо. Коммунисты заняли Хунгджаосский гольф-клуб. Собственно говоря, там и занимать было нечего. Это просто поле для игры в гольф».
24 мая 1949 года: «Весь город украшен гоминдановскими флагами. Правительство велело праздновать победу над коммунистами. В 11:45 коммунисты прорвали кольцо обороны и заняли две телефонные подстанции. Позвонила Роберта Фрайер и сказала, что ей звонил отец и сообщил, что коммунисты вошли в институт для слепых детей, которым он заведовал... Пришел Александр Наставин и сказал, что все мосты через Суджоусский канал закрыты. Около Райс-клуба идет перестрелка. Это уже в самом центре города. Еще Наставин сказал, что форма у обеих армий одинаковая, но наша няня-китаянка сказала, что у коммунистов на рукавах другие иероглифы». В общем, гоминьдановская армия бежала. Битву выиграл только генерал, получивший двести тысяч серебряных долларов.
Рано утром я вышел из дома погулять к памятнику Пушкина около моего дома. Напротив памятника в тени лежал солдат народной армии освобождения в зеленой форме. К нему подходили китайцы из соседних домов, предлагали пищу и сигареты. Он ничего не брал. Во второй половине дня к нему пришли солдаты. На бамбуковых палках они принесли чипы с рисом и зеленью, выдали солдату его порцию и пошли дальше.
Ко мне зашел мой пациент, Вадим Робустов, один из самых блестящих спортсменов Шанхая, и рассказал, как шла война в большом многоквартирном доме, где он жил. Рассказ был так интересен, что я попросил его все это подробно описать. Он пообещал, что пришлет мне копию письма, которое напишет другу в Австралию. Вот выдержки из этого письма, датированного 31 мая 1949 года.
«... Вечерами наблюдали пожары в окрестностях города, которые освещали весь Шанхай: горели нефтяные склады... Шанхай готовился к уличным боям. Окна магазинов забивались досками, стекла оклеивали бумагой. В том числе и мы, то есть Эмбанкмент Билдинг («дом на набережной», в котором жил Робустов, - В.С.), не зевали. Организовали комитет: на каждом этаже был начальник и двенадцать здоровых мужчин. Все двери, кроме главного входа, замотали колючей проволокой. В Эмбанкмент билдинг двести семьдесят две квартиры, свыше тысячи иностранцев. (Китайскую прислугу Робустов, очевидно, не считал, - В.С.). 24-го в час ночи патруль сообщил в комитет, что группа гоминдановцев хочет попасть в здание и поставить пулемет на крыше... Утром меня разбудил звонок: приятель сообщал, что французская концессия уже в руках народно-освободительной армии (НОА). Весь день 23 мая, в среду, мы были на осадном положении. НОА продвигалась по всему фронту в сторону Суджоусского канала (по-английски - «Сучау крик», по-русски «Сучий крик»)... Днем приблизительно сто пятьдесят гоминьдановских солдат заняли первый и второй этажи, чтобы отстреливаться через канал. Стрельбы было много, но трудно было рассмотреть, кто куда стреляет. После обеда в наше здание попала первая пуля (первая и последняя)... Весь день шли бои, партизаны в штатском обошли Эмбанкмент билдинг с тыла по Тиенгдон роуд... Потом мы увидели, что над зданием главной почты взвился белый флаг, потом над Бродуэй Мэншонс... Наш комитет начал вести переговоры с гоминдановским офицером, чтобы он тоже сдался и отступил, пока можно уйти. Но нам попались упрямые вояки, которые заявили, что они год будут защищать здание и не сдадутся, пока их всех не перебьют. (Думается, что они не хотели «потерять лицо» перед иностранцами. Как бы они питались целый год? - В.С.)... Самое наше большое затруднение было в том, что у нас в здании засели три части с тремя майорами, и они друг с другом никак не могли договориться.
Все солдаты перемешались и никто не слушался... Кое-как мы рассортировали всех вояк (Прелестная сценка! Заморские черти рассортировывали китайских солдат, -В.С.), каждый майор побеседовал со своими солдатами и убедил их, что сопротивляться ни к чему. Все три майора собрались у нас в комитете, и мы с большим трудом договорились по телефону, чтобы встретиться на Хо нон роуд для переговоров о перемирии и сдаче оружия. От нашего комитета на встречу отправились два представителя, а вместе с ними один майор с белым флагом. Стрельба тем временем продолжалась. Наша делегация далеко не ушла, поскольку ее остановили гоминдановцы, пригрозив перестрелять всех, кто пойдет дальше. Вернувшись обратно, опять начали звонить по телефону. Ночью добились согласия НОА не применять тяжелых орудий. Тут пошел дождь, • и все гоминдановские солдаты спустились с крыши на седьмой этаж, так как у них не было зонтиков. А кто же без зонтиков воюет?! Стало темно, все устали, но некоторые энтузиасты все еще продолжали стрелять. Часам к десяти вечера наконец договорились прекратить стрельбу и решили, что утром наши три майора выведут строем свои войска сдаваться с белым флагом, но с почетом и помпой, потому что представители НОА обещали всех взять в свою армию, сохранив им чины. Все обрадовались. Мы организовали кухню, чтобы накормить солдат. Разделили их на три группы и разместили на разных этажах - седьмом, шестом и первом. Солдаты сели есть, а мы с майорами пошли в комитет. Пока мы там пили виски, прибежал один из наших патрульных с криком, что пришли коммунисты. Я побежал на седьмой этаж и увидел, как пять солдат и офицер НОА спокойно и мирно обезоруживают гоминдановцев, которых было там сто двадцать человек. Дело в том, что, пока мы пили виски, части НОА вошли в здание и начали разоружать врагов, но только успевших уже поесть, а ожидавшим своей очереди было сказано: сначала поешьте - мы подождем. Наши три майора, конечно, встали на дыбы. У них больше не было войска, с которым они могли бы выйти строем, чтобы сдаться. В это время вошли три солдата НОА, которые хотели взять наших майоров под арест. Мы объяснили им положение, они отдали честь и ушли. На следующий день все ждали представителей НОА, чтобы сдать им наших героев, но никто не явился, и только на третий день после трех часов переговоров за ними приехали».
В дни битвы за Шанхай британское генконсульство открыло свою радиостанцию и передавало местные новости и сообщения для населения. Когда бои шли уже в самом городе, британский генеральный консул выступил по радио и сказал: «Сделайте эту среду воскресеньем и не выходите из дому без особенно важных причин». А до его выступления англичане поставили популярную в то время пластинку «Я всю ночь не мог сомкнуть глаз». На следующий день английскую радиостанцию закрыли новые власти.
В первые дни после установления нового режима иностранная колония Шанхая не почувствовала никаких политических перемен. НОА начала вести борьбу с инфляцией. Купцы бросились спекулировать товарами первой необходимости и продуктами питания. С этим коммунисты справились очень быстро: они расстреливали спекулянтов. Очень часто можно было увидеть закрытые лавки, а на досках большие листы бумаги со списком расстрелянных лиц (фамилии были обведены красными кружками). Я видел, как по главной улице сеттльмента тихо шли грузовики, в них стояли на коленях китайцы в белых халатах (у китайцев белый цвет - цвет траура) с завязанными за спиной руками. Их везли через весь шестимиллионный город к месту казни - на расстрел.
Из Шанхая уезжало много китайцев. Богатые стремились попасть в Гонконг и Макао. Дома продавались за бесценок. Город бурлил. Но «бурлили» не все. Как-то на углу я столкнулся с пожилым англичанином, который стоял на перекрестке двух улиц в тропическом шлеме (они давно вышли из моды), с трубкой в зубах, в шортах. Мы разговорились. Он уже вышел в отставку, прослужив около тридцати лет в какой-то английской фирме. Я спросил его, куда он думает податься. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал: «Никуда. Я так долго прожил в Шанхае, что решил остаться здесь». - «Ну а все эти перемены?», - спросил я. - «Нонсенс. Ничего не изменится. Все вернется к старому».
Именно эта психология «неприятия изменений» в большой мере, мне думается, определяла политику англичан в Китае. Они не верили в китайские перемены так же, как не верили в Октябрьскую революцию.
Начались воздушные налеты на Шанхай. Гоминдановские самолеты почти беспрепятственно летали над Шанхаем и бомбили то, что им было нужно - в основном, окраины города, где находились заводы. Авиация и зенитная артиллерия у НОА были слабы и не могли обеспечить безопасность города. Многие жители Шанхая всерьез опасались возможных воздушных атак.
Так, Гай Уильямс, муж нашей секретарши Пегги, служивший в большом английском концерне Азиатской нефтяной компании, не раз говорил мне, что боится окна в своем кабинете. Он работал в большой комнате, где стояло несколько письменных столов. Его стол располагался перед окном с видом на реку, а стекло было во всю ширину комнаты. «Это настоящее море стекла», - повторял он. В конце концов он велел поставить между столом и окном большой сейф. Не прошло и недели, как средь бела дня два гоминьдановских самолета подлетели с запада к набережной и сбросили в реку несколько бомб. У домов, стоявших на набережной, от взрывов вылетели окна. Здание Азиатской нефтяной компании находилось очень близко от того места, где упали бомбы. Окно в кабинете Уильямса разлетелось на мелкие куски, а его спас сейф. Наше здание находилось через три-четыре дома от этой компании, тоже на набережной. Во время налета я был в кабинете. Я услышал взрывы, звон стекла, и на мой письменный стол полетели мелкие осколки. Окно прикрывала лишь соломенная занавеска от солнца. В ней я нашел осколок снаряда, еще горячий, он застрял в соломе.
Потом китайские коммунисты обратились за помощью к СССР. В Шанхае появились советские военные - в защитной форме без знаков различия. Они наладили противовоздушную оборону Шанхая, и когда был сбит первый гоминьдановский самолет, налеты прекратились.
Придя к власти, Мао Цзэдун объявил компанию по «промыванию мозгов», что-то вроде «три за и пять против», не помню, иностранцев она не касалась. Это странным образом сочеталось с решением Мао о создании национальной буржуазии. Речь шла о привлечении в страну капитала китайцев, живших за рубежом. В журналах печатались лирические цветные фотографии таких «национальных буржуев», вернувшихся в Китай: красивьИ виллы, сады, детишки катаются на трехколесных велосипедах. Фабрики частных владельцев забирало государство, но самих владельцев назначало здесь же управляющими с большой зарплатой. Одновременно натравливали рабочих на интеллигенцию. На предприятиях и в учреждениях города проходили митинги. В большой английской больнице для китайцев (больница св. Елизаветы) на митинге служащие постановили посадить всех врачей в клетки и провезти их в таком виде по городу, чтобы показать свое презрение к буржуазии. Но в это дело вмешались власти, и спектакль был отменен.
То и дело проходили массовые демонстрации: шли представители рабочих, крестьян, купцов. Купцы шагали молча, и каждый из них нес в руке по цветку - не знаю зачем. Выглядело это довольно глупо. Демонстрации продолжались по несколько часов подряд, и чтобы все прохожие это видели, перекрывались перекрестки улиц. Переходить улицы запрещалось, и толпы людей, непосредственно не принимавших участия в демонстрации, становились ее невольными участниками, часами ожидая возможности перейти улицу.
Потом начинались исповеди. Вызывали какого-нибудь богатого фабриканта и заставляли его всенародно признать все свои прегрешения. На такие прочищения мозгов на каждом предприятии уходило несколько дней. В городе распространилась эпидемия самоубийств, происходивших по шаблону: капиталисты бросались с высотных зданий. Один самоубийца упал на прохожего и убил его. Было время, когда шанхайцы перестали ходить по тротуарам и ходили посередине улиц.
Перед приходом в Шанхай Мао Цзэдуна в Китае царила беспрецедентная инфляция. «Китайская национальная валюта» (как тогда назывались китайские деньги), или КНВ, катастрофически падала. В декабре 1947 года за один американский доллар давали сто двадцать тысяч КНВ - это когда я уезжал в Шотландию, а в мае 1948 года, когда я вернулся, - уже миллион двести тысяч, то есть в десять раз больше, а в июне того же года один дол- . лар стоил уже четыре миллиона семьсот тысяч КНВ. В первых числах июля курс КНВ «стабилизировался», но не из-за остановки инфляции, а просто потому, что в китайских банках не хватило бумажек, чтобы рассчитываться на бирже. Случай сам по себе анекдотический.
Все это отразилось и на благополучии работников нашей фирмы «М», хотя она и хорошо зарабатывала весь послевоенный период. Мы собирались в доме шефа Бертона каждые две недели и обсуждали один и тот же вопрос: как платить служащим. Я продолжал оставаться секретарем фирмы и вел протоколы заседаний. Мой протокол одного из таких заседаний выглядел так: «Дата. Присутствовали такие-то. Отсутствовали такие-то. Повестка дня: ни о чем не говорили».
После прихода Мао были введены новые деньги, но и они начали падать в цене. У меня нет конкретных записей об этой финансовой вакханалии. Но доктор Данлап подробно отмечал каждый день падающий курс китайской валюты и описал это в своей книге «За бамбуковым занавесом». В этой книге, чтобы не навредить мне, он назвал меня законспирировано: «мой русский друг доктор С.». По его мнению, это должно было ввести в заблуждение китайскую разведку: вроде бы в Шанхае был еще один «доктор С» - доктор Сунгуров, который, правда, не говорил по-английски и не был другом Данлапа.
Положение становилось все хуже. Доктор МакГолрик написал из Англии, что в Шанхай не вернется. Рансон уехал. В апреле 1950 года уехал Торнгэйт, а 15 мая - Уэд-дерберн.
Последнее заседание фирмы «М» прошло 15 мая 1950 года. Присутствовали Бертон, Ие и я. Через год, 1 апреля 1951 года, из состава фирмы «М» вышел Ие, так как китайцу уже нельзя было работать в британской поликлинике, а 25 апреля сотрудники китайского налогового бюро пришли к нам, произвели обыск в помещении фирмы и забрали бухгалтерские книги с записями сумм денег, полученных нами в гонконгских долларах в Гонконге. Это являлось экономическим преступлением.
На другое утро, 26 апреля 1951 года, очень рано ко мне примчался бой Бертона и сказал, что не может разбудить хозяина. Я побежал к нему, предварительно позвонив Данлапу: мы все жили почти рядом. Бертон был без сознания, зрачки сузились, кисти рук «горели», изо рта шла белая пена. Давление (я смерил пальцами) было двести двадцать. За несколько дней до этого я мерил ему давление: сто шестьдесят на девяносто пять. Прибежали Данцигер и Розенкевич, и все решили, что нужно пустить кровь. Я вскрыл бритвенным лезвием вену и выпустил около четырехсот миллилитров крови... Бертон перестал дышать в два часа сорок минут пополудни.
На нашем консилиуме обсуждался вопрос о возможном самоубийстве, но это предположение было отвергнуто. Конечно, визит чиновников из налогового бюро сыграл свою роковую роль. Дело в том, что у Бертона были деньги в Гонконге, заработанные в Шанхае, и он знал, что это противозаконно. Этого, думаю, было достаточно, чтобы случилось кровоизлияние. Страх, который испытывал Бертон, в равной степени мог обусловить как кровоизлияние, так и самоубийство. Китайские судейские чиновники решили, что это было самоубийство. Один из них сказал мне: «Зачем он это сделал? Ведь кончилось бы все только штрафом». Но это лишь мнение судейского чиновника.
В этот сумбурный период я и начал писать свою книгу «Простой эфирный наркоз». Я долго колебался, о чем писать: о сифилисе или о наркозе. У меня была уже издана первая часть книжки «Лечение сифилиса» на французском языке, но книги по лечению венерических заболеваний на русском языке были, а по анестезиологии мне что-то не попадались. А так как я надеялся, что когда-нибудь получу визу в СССР, то решил написать книгу по наркозу. Когда она была закончена, я попросил секретаршу найти китайскую типографию с русскими шрифтами. Она нашла. Пришел молодой китаец и принес образцы шрифтов и бумаги. Встал финансовый вопрос, который я разрешил очень просто. У меня в гараже лежал второй гарнитур для столовой: обеденный стол, стулья, серванты. Секретарша отправила гарнитур на аукцион и его продали. Очень дорого стоила бумага для обложки книги. Из этого положения тоже нашелся выход: истории болезни мы держали в простых папках из плотной желтой бумаги; я отобрал шестьсот папок, и они пошли в дело. В Китае не было никакого Главлита и никаких редакторов. Через неделю я уже получал гранки для корректуры. Необходимые иллюстрации для книги сделал мой шофер Лю Сын-фу, который был очень доволен тем, что под каждым рисунком стояла его фамилия. Секретарша нарисовала обложку. Через два месяца я получил все пятьсот экземпляров книги. Штук двадцать я отнес в книжный киоск граждан СССР. Выглядели они очень внушительно.
Успеха книга не имела, был продан один экземпляр: его купил мой студент В.А. Чибуновский, теперь известный анестезиолог в Алма-Ате. Надо сказать, что и моя первая книга «О контроле деторождения», изданная в 1937 году, когда я был еще студентом третьего курса, тоже не принесла никакого дохода: на ней прогорел мой школьный друг Б.И. Степанов, оплативший ее издание из собственного кармана. Однако, если с чисто коммерческой точки зрения издание книги «Простой эфирный наркоз» закончилось полным провалом, то с точки зрения расширения моих связей с СССР она оказала мне совершенно неожиданную услугу. Советское генеральное консульство послало книгу в Москву на рецензию, и я получил два весьма положительных отзыва - от президента Академии медицинских наук академика А.Н. Бакулева и от академика П.А. Куприянова. Кроме того, я сам послал ее профессору Е.Н. Мешалкину, книга которого «Техника интубационного наркоза» вышла из печати в том же году. Позже мы объединили наши труды и в 1959 году опубликовали книгу «Современный ингаляционный наркоз». В 1962 году она была переведена на немецкий язык и издана в ГДР.
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» В ШАНХАЕ
Иностранцы не верили, что Мао продержится в Китае долго и решили выжидать. Интересы всех иностранных капиталистов полностью совпадали, и они дружно объединились против китайцев. А китайцы в ответ решили с ними не торговать. Китайское правительство запретило иностранным компаниям увольнять китайских служащих или снижать им зарплату. Это привело к тому, что к концу каждого месяца иностранные компании должны были переводить из-за границы большие деньги на содержание китайского персонала.
Когда мне случалось заходить в Чартеред банк, где лежали деньги фирмы, я наблюдал странную картину. Банк походил на греческий храм. В колоссального размера зале за многочисленными столами сидели китайские служащие, которых от клиентов отгораживала длинная медная решетка. Служащих было много, они читали газеты, грызли семечки, играли в китайские шашки, пили зеленый чай или просто болтали, никто не работал, а клиентов практически не было - иногда я один, иногда еще один-два человека. Работы не было. Была только зарплата.
Вначале иностранцы ничего не предпринимали, но потом начали увольнять других иностранцев, взятых на службу в Шанхае (португальцев и русских), с ними было проще, а своих служащих переводить в отделения фирмы вне Китая. В результате у иностранных компаний опустели дома, одни из которых принадлежали домовладельческим компаниям, сдававшим их внаем, а другие - крупным компаниям, построившим в разных городах восточных стран эти дома для своих служащих с таким расчетом, что при переводе в другой город служащий не должен затрачивать времени на обустройство семьи. Приехав, например, из Сингапура в Шанхай, он получал ключ от дома, принадлежавшего компании, и въезжал туда прямо с парохода, так как все помещения в доме были обставлены мебелью, везде лежали ковры, на кухне имелась вся необходимая посуда, были припасены керосиновые лампы, керосин и свечи - на случай, если погаснет электричество. Квартира подготавливалась вплоть до того, что в буфете стояли стаканы для виски, вина и джина, бокалы для шампанского и кружки для пива, а в знак гостеприимства со стороны компании кровати в спальной и детской были застелены и края одеял отвернуты: раздевайся и ложись спать. Таким образом, если служащего внезапно куда-нибудь перебрасывали, ему не надо было волноваться. Он собирал три-четыре чемодана личных вещей и отправлялся в новое путешествие. В городе назначения его также ждал ключ от дома, полная чаша и отогнутый край одеяла на кровати. Безусловно, в этой системе был свой raison d’etre (смысл), который исчез вместе с отъездом из страны иностранных служащих.
Китайцы, увидев последствия этих отъездов, объявили, что пустые дома они забирают, и иностранцы стали предлагать свои дома русским, португальцам, кому угодно, только для того, чтобы их заполнить. Трехэтажные дома с садами, в которых росли пальмы и олеандры, сдавались за десять фунтов стерлингов в месяц, причем вместе с мебелью и домашним скарбом. Конечно, многие иностранцы среднего достатка воспользовались случаем и выехали из своих дорогих трехкомнатных квартир в более дешевые трехэтажные особняки с садами и олеандрами. Но как только освободились квартиры, также принадлежавшие иностранным компаниям (главным образом, сэру Виктору Сассуну), китайцы посягнули и на них. Компании ответили снижением квартплаты, и те иностранцы, которые жили почти в трущобах, переселились в эти квартиры. «Холодная война» продолжалась. Все шло против общепринятых правил капиталистической экономики.
Иностранным управляющим компаний и их заместителям отказывали в выездных визах, если они не находили себе заместителей с полным юридическим правом их замещать. Когда управляющему не могли подыскать замену в Шанхае - например, директору какого-нибудь банка было неудобно назначать своим заместителем русского вахтера банка (хотя он и был полковником царской кавалерии, но в финансах не смыслил), - то руководство компании шло на хитрость. Как правило, все сводилось к тому, что из метрополии выписывали своего служащего невысокого ранга и делали его директором.
Вот пример из истории одного французского банка. В Париже в главном управлении этого банка служил бухгалтер, не из высших, назовем его Дюран. Как-то утром к нему подошла секретарь генерального директора и сказала: «Мсье Дюран, вас просит к себе мсье директёр же-нераль». Дюран страшно испугался, поскольку никогда в глаза не видел генерального директора, вскочил и пошел за секретаршей. Она проводила его в большую храмообразную комнату, по середине которой на дорогом китайском ковре стоял большой стол, а за ним сидел приветливого вида господин с небольшой холеной бородкой. Он радостно встретил Дюрана и, не давая ему опомниться, произнес речь примерно следующего содержания: «А, мсье Дюран! Садитесь, прошу вас... Сигару?.. Так вот, мсье Дюран, дирекция навела справки и составила о вас очень хорошее мнение. Вы аккуратный работник, и на вас можно положиться. Сейчас директор нашего отделения в Шанхае мсье Ляфесс серьезно заболел, и его нужно немедленно сменить. Мы долго думали о кандидатуре, и наш выбор остановился на вас. Как вы знаете, никаких крупных операций с китайским правительством мы сейчас не ведем, но свой грамотный человек нам там нужен. Вы назначаетесь директором нашего шанхайского отделения. Вы отдаете себе отчет, какое это повышение? Идите домой, соберите необходимые вещи, билет на самолет вам заказан. Наша машина заедет за вами в три часа и отвезет на аэродром. Пункты остановок: Бомбей, Сингапур, Гонконг. А оттуда - на пароходе в Шанхай. Директора наших отделений предупреждены по телеграфу и лично встретят вас в каждом порту... Ваше молчание я расцениваю как согласие. Желаю вам всяческих удач и благодарю от имени дирекции, о’ревуар».
«Мерси, мсье директёр», - пробормотал Дюран.
В Бомбее, в аэропорту, его встретил директор местного отделения банка вместе с женой. «Дюран, мон шер, как я рад вас видеть. Разрешите мне представить вас моей жене. Ваш самолет вылетает через три часа, так что у вас есть время пообедать у меня дома. Анжелик, у тебя найдется, чем покормить мсье Дюрана?» Анжелик ответила очаровательной улыбкой... Так Дюран еще никогда не ел и не пил... Лучшее шампанское, лучшие коньяки... Когда он заикнулся о своей работе в Шанхае, директор ответил ему: «Дюран, мон шер, об этом вам расскажет директор вашего гонконгского отделения. Он ведь ваш ближайший сосед». Пьяного Дюрана отвезли на аэродром. Пьяным он и прилетел в Сингапур. Тот же ритуал был повторен, и пьяный Дюран прибыл в Гонконг.
В Гонконге ритуал несколько изменился. Пароход в Шанхай отходил рано утром на другой день. Директор гонконгского отделения сначала повез Дюрана в банк на коктейль в его честь. Присутствовали французы, ответственные работники банка, которые были счастливы познакомиться с Дюраном. Тост за тостом. Потом поездка на машинах для осмотра острова Виктория. Затем ужин с возлияниями. Дюран и не заметил, что сотрудники банка все время менялись, а он пил с каждым за свое здоровье. В итоге на пароход, отплывающий в Шанхай, его внесли.
Дюран лишь утром очнулся в прекрасной каюте. Погода была замечательной. Слегка и приятно качало - и Дюрана, и пароход. Он прошел в ванную, побрился, принял душ, оделся и отправился в кают-компанию. В кают-компании уже был накрыт стол для завтрака. Белоснежная скатерть, белоснежный английский стюард в белом пиджаке с черным галстуком-бабочкой, сзади китайские бои в белоснежных халатах.
Стюард подошел к Дюрану: «Доброе утро, сэр», - и протянул ему меню. Заказав завтрак и с удивлением заметив, что в кают-компании больше никого нет, Дюран поинтересовался, где остальные пассажиры. «Других пассажиров нет, сэр, - спокойно ответил стюард, - все сейчас уезжают из Шанхая. Только вы едете в Шанхай».
Другой случай произошел в городе Тяньцзине с моим школьным другом Дмитрием Александровичем Теляков-ским, который двадцать лет прослужил в бухгалтерии одного из отделений большой французской компании «Оливье-Шин», имевшей отделения во всех крупных городах Китая, и был уже главным бухгалтером. Как-то его вызвал шеф и сказал: «Мсье Теляковский, я получил приказ о вашем переводе в Шанхай, на более высокую должность. Поздравляю и собирайтесь». Теляковский обрадовался и отправился с семьей в Шанхай, где его встретил генеральный директор компании.
Генеральный директор снял для него квартиру в центре бывшей французской концессии, купил машину, короче, проявил крайнюю чуткость. Теляковский начал работать. Прошло несколько месяцев, и вдруг шеф вызывает его и говорит: «Мон шер, я серьезно болен, и мне придется ехать лечиться во Францию. Я получил из Парижа распоряжение о назначении вас генеральным директором нашей фирмы во всем Китае. Поздравляю вас». Но Теляковский был не Дюран. Он хорошо понимал, чем это пахнет, и от чести отказался. Тогда генеральный директор начал орать: «Теляковский ... или вы будете генеральным директором, или ... я вас вышибу____». Полный текст речи директора привести не могу, так как в моем франкорусском словаре этих слов нет. Ну разве это не похоже на сюжет из «Алисы в Стране чудес»?
Китайское правительство обязало дирекции иностранных фирм следить за сохранением всего недвижимого имущества и товаров. Одна английская компания, торговавшая винами и коньяками, охраняла имущество следующим образом: директор и его заместитель утром направлялись на склады, прокалывали там длинной иглой со шприцем бочки с виски и коньяком и откачивали для себя необходимое им количество живительной влаги - суточный рацион, так сказать. Оба они уже с утра были в превосходном настроении. Кстати, сотрудники П.П. Владимирова, как он пишет в своей книге «Особый район Китая», пользовались таким же способом. Способ отнюдь не новый, но полезный и приятный.
Управляющие иностранных фирм каждое утро приезжали к себе в конторы на работу, то есть не на работу, так как никакой работы не было, а так просто, от нечего делать, чтобы как-нибудь убить время. Один такой управляющий, англичанин, однажды пришел ко мне. Он рассказал, что, когда сидел у себя в кабинете и, опершись подбородком о кончик карандаша, о чем-то размышлял, карандаш как-то соскочил, попал ему в ноздрю, пропорол слизистую носа и прошел под щеку в сторону скулы. Образовалось небольшое отверстие, и каждый раз, когда он сморкался в платок, воздух попадал под щеку, и щека, к удивлению окружающих, раздувалась, как мячик. Около недели он забавлял этим феноменом своих знакомых, пока рана не затянулась.
Управляющий одной американской фирмой, по фамилии Канади, попал в китайскую тюрьму за то, что сообщал кому-то в Гонконг курс американского доллара на шанхайском «черном рынке». После нескольких месяцев тюрьмы тяжело больного Канади привезли домой: он был практически при смерти, и, видимо, китайские тюремные врачи отказались его лечить, скорее всего, по политическим мотивам. Дело в том, что Канади попал в тюрьму за экономическое преступление, и его смерть там выглядела бы весьма неприглядно. Французский хирург, которого вызвали к больному на дом, отказался его лечить, так как случай был терапевтический, и тогда пригласили меня. Молодой человек, ростом около двух метров, страдал сердечной формой бери-бери (авитаминоза В^) и анемией, наверное, в тюрьме китайцы держали его впроголодь: кормили одним очищенным рисом. Я прописал ему витамины (Bj и В12)> а также хорошее питание и ежедневно ездил делать уколы. За все платил его приятель-американец из другой компании. Хотя Канади находился дома, его охраняли два молодых китайца, а я каждый день должен был писать отчет о состоянии его здоровья для тюремных властей. С лечением я не торопился, так как Канади не спешил возвращаться в тюрьму. Но через два месяца он совершенно поправился, и в один прекрасный день, когда я приехал к нему, как обычно, китаец, открывший мне дверь, сказал, что Канади нет и я могу больше не приезжать. Потом его выслали из Китая. Надеюсь, и сейчас он жив и чувствует себя хорошо.
Приятель Канади, который оплачивал его лечение и питание, был управляющим одной из американских нефтяных компаний. На работе в его кабинете стояло два больших сейфа: в одном до самого верха лежали деньги (в его доме одна комната также была забита деньгами), а во втором стояли десятки бутылок виски и джина. Утром он приезжал со своим заместителем на работу, они садились за стол около второго сейфа и «работали»: играли в карты. Как-то меня вызвали к нему поздно вечером: он выходил из ночного клуба и свалился с лестницы, а мне пришлось накладывать ему на голову швы.
«Холодная война» носила чисто экономический характер. Так, к Теляковскому пришла комиссия, обследовала склады компании и заявила, что крыши складов опасны для рабочих, поэтому он будет оштрафован на большую сумму, после чего должен сменить все крыши.
В этот период британскую колонию внезапно захлестнула волна крайнего демократизма, что немедленно отразилось на отношениях в британском генеральном консульстве. В отдел эмиграции консульства пришел работать бывший сотрудник политического и криминального отдела международной полиции (он знал всех жуликов, поэтому его назначение на этот пост было вполне логичным). Но если бы раньше генеральный консул называл его просто Смит, а тот обращался бы к консулу почтительно, то теперь все вдруг переменилось. Для произнесения маленькой речи на коктейле генконсул вдруг встал на стул. Смита он стал называть просто Джоном, а тот его - Аланом. Глаза невольно увлажнялись слезами умиления при таких трогательных демократических сценках.
Иностранцев в Шанхае становилось все меньше. От служащих международного и французского муниципалитетов избавились еще гоминдановцы (при Мао их уже не было). Правда, французских полицейских, например, китайцы не увольняли: их перевели в главное здание полиции на территории международного сеттльмента, отвели им там несколько комнат со скамьями без спинок и приказали отсиживать по восемь часов в день без всякой работы. Через два месяца все французы уволились сами.
Иностранный Шанхай постепенно исчезал. Не очень богатые фирмы быстро поняли, что ежемесячно переводить деньги в Китай без видимой надежды на возобновление торговли накладно. Некоторые из них написали китайским властям письма с просьбой забрать их дома и фабрики бесплатно (опять сюжет из «Алисы в Стране чудес»). Это тоже было следствием продолжающейся политики бескровного удушения капитализма - политики Мао Цзэдуна. В книге П.П. Владимирова очень достоверно нарисован портрет Мао: среди народа - в заплатанных штанах, заношенной ватной куртке и дранной шапке ест похлебку из чумизы, которой его угостили солдаты и которую он запивает водой; а дома - голландский джин и сигареты «Честерфилд». Все это чести ему не делает.
Политика медленного удушения набирала обороты. Если раньше иностранцы в течение ста лет переводили деньги из Китая на родину, то теперь механизм начал работать в обратную сторону. Увольнение, вернее перевод иностранных служащих из Шанхая, продолжался. Оставляли только самых необходимых. Англичане называли это «скелетон стафф» - скелет кадров. Торговли уже не было никакой. Когда у моего рентгеновского аппарата перегорела трубка Крукса, я пошел к управляющему Гонконг-Шанхайским банком и попросил его помочь мне выписать трубку из Гонконга. Он ответил мне, что ничего не желает импортировать в коммунистический Китай. Ответ более чем странный, так как рентгеновский аппарат работал главным образом на британскую колонию. Мне помог доктор Данлап. Американское консульство оставило ему много разной аппаратуры, и среди прочего была рентгеновская трубка. Данлап отдал мне ее бесплатно.
Такие резко негативные реакции, как у руководителя банка, стали довольно обычным явлением и, к сожалению, естественным в тех условиях, которые создавались в Китае иностранному бизнесу новым политическим режимом. Прямо или косвенно, но все это отражалось и на отношении ко мне. Одна моя пациентка на коктейле беседовала с каким-то важным управляющим британской компании. Разговор зашел обо мне, и она сказала ему, что я собираюсь ехать в СССР. «Ах так, - ответил он, -ну, если Смольников будет подыхать здесь в канаве, я и пальцем не пошевельну, чтобы ему помочь». Она любезно передала мне этот разговор. Конечно, так относились ко мне не все. Врачи, вообще, как-то стояли в стороне от всего этого безобразия по поводу политических предпочтений, а наши отношения между собой в большей степени определялись профессиональными интересами. Другие же люди, становясь моими пациентами, начинали относиться ко мне лучше, потому что теперь я был прежде всего их врачом. Так случилось с одной немецкой четой. Я встречался с ними иногда на коктейлях, и они подчеркнуто меня игнорировали. Но как-то раз немецкий врач, у которого они наблюдались, допустил ошибку в лечении их ребенка. Мать пригласила меня (выбора в Шанхае уже практически не было) и осталась моей пациенткой вплоть до моего отъезда в СССР. Помню прекрасного глазника Шварценбурга, немца, у которого лечились почти все советские граждане, страдавшие заболеваниями глаз. Замечательным человеком был доктор Бирт, глава немецкой медицинской фирмы. Одновременно он занимался бизнесом и был чересчур занят делами своей молочной фермы «Люцерн Дэйри», приносившей ему дохода больше, чем все его не всегда удачные операции. В общем, классифицировать врачей по политическому и национальному признаку в таком городе, как Шанхай, было трудно.
Вместе с тем политика выдавливания иностранцев из Китая, проводимая Мао, медицинских учреждений касалась в той же мере, как и всех остальных. Но здесь, поскольку за короткий промежуток времени в Шанхае я трижды пережил смену китайского политического режима, у меня напрашивается любопытное сравнение. Японцы в первые же дни оккупации заняли Дженерал Госпи-тал, который принадлежал муниципалитету, то есть главным образом англичанам. Они считали его вражеским имуществом. Но все же они придерживались каких-то юридических норм и с Кантри Воспитал долго ничего не могли поделать, так как эта больница никому не принадлежала. Когда она была построена много лет назад -для иностранцев и на деньги иностранцев (это были пожертвования), - то в целях управления ею был избран совет директоров, работавший бесплатно. Зарплату получал только главный врач и обслуживающий персонал. Члены совета менялись, некоторые умирали, но юридически у больницы никогда не было владельца, и японцы долгое время не могли придумать, как и у кого ее конфисковать. Правда, в конце концов они ее присвоили. После японцев, когда Шанхай перешел в руки гоминдановцев, Кантри Госпитал снова приобрел свою шаткую независимость, и в нем опять лежали иностранные больные. Однако с приходом Мао все изменилось. Китайцы сразу забрали Кантри Госпитал и вышвырнули оттуда всех иностранцев.
С потерей Кантри Госпитал в британской колонии возникли трудности: некуда стало девать больных. В китайские больницы иностранцев, кажется, не принимали, во всяком случае, я не слышал ни об одном случае нахождения иностранца в китайской больнице. Независимой от китайцев оставалась только еврейская больница, как и все другое, что принадлежало еврейской общине: во-первых, эта община была богатой (имела клуб, больницу, спортивный клуб), а во-вторых, объединяла людей не по политическому, а по конфессиональному признаку. В ней были евреи из разных стран - и американские, и британские, и советские, какие хотите, - такой орешек раскусить юридически было не так-то просто, и некоторое время китайцы не могли этого сделать. Все больные-иностранцы стали поступать в небольшую, но хорошо оборудованную еврейскую больницу. Главным врачом здесь был прекрасный хирург и замечательный человек - доктор Бронштейн, года на четыре раньше меня окончивший университет «Аврора» и прошедший специализацию по хирургии в Марсельском университете. Он был очень религиозен, это ощущалось во всем: у входа в операционный блок на косяке двери была привинчена филактерия (маленький серебряный цилиндрик, в который запаяна бумажка с еврейской молитвой); перед началом разреза кожи он всегда произносил «Cum Deo» (С Богом)... В этой больнице оперировали британец Бертон и нацист (по-моему, поневоле) Шварценбург.
Содержать больницу было трудно, так как китайцы постепенно увеличивали налоги, а инфляция требовала постоянного повышения зарплаты обслуживающему персоналу. Плата от больных полностью не окупала расходов. Самыми «доходными» были, конечно, хирургические койки, поэтому все восприняли как катастрофу, когда в операционном блоке сломался автоклав, в котором стерилизовали инструменты и перевязочный материал. Нет автоклава - нет стерилизации - нет хирургии. Экстренно собрался совет директоров больницы, в состав которого входили несколько наиболее крупных еврейских бизнесменов, а также доктор Бронштейн и доктор Розенкевич. Совету было доложено, что починить автоклав нельзя и надо покупать новый. Решили искать, где его можно купить. На следующем заседании членам совета сообщили, что есть новый американский автоклав, но за него просят что-то около десяти тысяч американских долларов. Начался диспут. Сумма была очень большая, и в разгаре спора нервы участников не выдержали. Один из директоров, бизнесмен, воскликнул: «Неужели нет более дешевого способа стерилизации?» Розенкевич, доведенный до белого каления, отрубил: «Есть! Надо просто кастрировать всех членов директората». Аргумент показался логичным и убедительным, и новый автоклав был куплен - преодолена очередная трудность.
Однако и по отношению к еврейской общине и всем ее учреждениям китайцы использовали свою обычную тактику экономического удушения. В этом им помог, сам того не ведая, мой пациент Слоссман, который во время войны служил в британской армии (он не уточнял мне свой чин, а я и не спрашивал - во всяком случае, фельдмаршалом он не был). Видимо, в признание военных заслугой был избран в совет старейшин еврейского клуба. Со своим британским подданством Слоссман носился как с писаной торбой, что тотчас отразилось на жизни еврейского клуба: он установил там порядки, царившие в британской армии. Старший повар клуба был произведен им в майоры, другие повара стали лейтенантами, старшие официанты (бои) - старшими сержантами, младшие -младшими сержантами. Почему остальные старейшины клуба не сообразили вовремя, что Слоссман подкладывал им бомбу замедленного действия? Неизвестно. Во всяком случае, когда в связи с введением налогов на клубы еврейская община уже не могла содержать клуб, встал вопрос о его ликвидации. И тут выяснилось, что, кроме выплаты денег за выслугу лет и трехмесячного пособия при увольнении, - что должны были делать все иностранные организации, - «слоссмановская армия» стала требовать себе еще и денег за чины, особенно кричали майор и лейтенанты. На беднягу Слоссмана посыпались проклятия всей еврейской колонии. Не знаю точно, чем закончилось дело, но авторитет Слоссмана как военачальника сильно упал.
Вскоре закрылась и еврейская больница. Британская колония начала переговоры с одной фешенебельной частной китайской больницей о сдаче британцам одного из ее отделений, которое британская колония бралась отремонтировать за свой счет и отделить стеной от остальной части больницы, чтобы иностранцы не мешали китайским больным (то есть, чтобы китайцы были отделены от иностранцев). Так как за этим предложением стояли большие деньги, то владельцы больницы согласились. Там я и лечил своих пациентов до своего отъезда в СССР.
При Обществе граждан СССР были организованы трехгодичные курсы медсестер, где я был директором и читал «кожные и венерические болезни». Курсы просуществовали ровно три года, и один выпуск мы все-таки сделали. Сестры учились прилежно, хотя были и исключения. Одна девица, не отличавшаяся особым умом, на выпускном Экзамене на вопрос, как лечить острую гонорею, ответила, что нужно сначала хорошенько промассировать больного. Все было бы ничего, но экзаменаторы не могли удержаться от хохота, и бедняга на нас очень обиделась. Но и это еще ничего. Оказалось, что на курсах три года училась совершенно глухая девица, а мы этого не знали. Выяснилось это только при проведении практики в больнице, на третьем курсе. Больные вызывали дежурную сестру не звонком, а красной лампочкой, которая зажигалась в дежурке. Эта сестра прибегала в палату, будила всех больных по очереди и спрашивала, кто сигналил. Естественно, во всем виноватым оказался я, так как не предусмотрел медицинский осмотр учащихся. Диплом ей все же дали. А что было делать?
В последний год моей жизни в Шанхае у меня неожиданно прибавилось работы. На празднике, устроенном для детей в английском клубе, ко мне подошел мой пациент Меллор, отвел меня в сторону и сказал, что после смерти Бертона в совете директоров Калти Дэйри (большое акционерное общество, торговавшее молочными продуктами и владевшее несколькими стадами коров) нет врача, а по уставу общества врач непременно должен быть в числе членов совета. Он попросил меня занять место Бертона и стать членом совета директоров их общества. Я согласился и около года был директором коров и быков. Мои обязанности заключались в следующем. Один раз в месяц я получал толстый пакет от секретарши, в котором подробно описывалось состояние моих подопечных: сколько родилось телят, сколько коров беременны, как поживают быки, сколько сделано противотуберкулезных прививок и т.д. На прочтение этого документа уходило часа два. Один раз в месяц я получал чек на довольно крупную сумму - мой гонорар за ничегонеделание. Наконец, один раз в месяц я присутствовал на заседании совета директоров. У компании было несколько ферм, и мы собирались на главной ферме в центре города. Заседание проводилось в административном здании, где находился кабинет управляющего - это был ветеринарный врач, норвежец. В этом же здании располагался и зал совета директоров. Длинный стол, покрытый зеленым сукном, и кресла. Против каждого кресла на столе лежали карандаши и несколько листов бумаги (на них можно было рисовать рожицы и всякую ерунду). Около управляющего стояла непочатая бутылка виски «Белая лошадь» и стаканы, серебряная чаша с кубиками льда и бутылки с содовой водой. «Белая лошадь» - прекрасный виски, но почему именно «Белая лошадь»? Я думаю, главная причина в названии. Если бы была марка «Белая корова», то директора пили бы только ее. Бой разливал виски с содовой, а управляющий минут на двадцать делал доклад - на самом деле, просто резюмировал отпечатанный отчет, который все директора уже получили. Потом болтали о том о сем. На этом заседание заканчивалось. Директора садились в свои машины и уезжали. Когда все стало ясно с моим отъездом на Родину, я написал письмо в совет директоров о выходе из его состава и получил краткий ответ, подписанный секретаршей, о том, что мое письмо получено и принято во внимание. Англичане гневались.
В это же время я открыл новый химический индикатор «робертин». Будучи врачом семьи Фрайер - отца и дочери, я довольно часто посещал их, и однажды Роберта Фрайер угостила меня вареньем из ягод «huckleberry» (в словаре говорится, что это что-то вроде черники или брусники, но я никогда не слышал, чтобы в Шанхае росла брусника). Это было вкусное варенье красноватого цвета. Роберта сказала, что если его намазать на «скон» (шотландские булочки, в которых очень много соды), то оно станет зеленым. Мне все стало ясным - растительный индикатор. Я попросил у Роберты немного варенья и, вернувшись в нашу лабораторию, начал эксперименты. Действительно, мои предположения полностью оправдались: индикатор при определенной щелочности раствора менял цвет с красного на зеленый. Я был в восторге. Но, поговорив с одним опытным химиком узнал, что очень многие ягоды, содержат вещества, меняющие цвет при изменении кислотности или щелочности среды. На этом я свое открытие закрыл.
Но если только вдуматься в то, что вся прелесть цветов и изменение их цвета от цветения до увядания зависят просто от кислотно-щелочного равновесия, если вспомнить, что алмаз, из-за которого люди идут на преступления, всего только сильно спрессованный углерод, а сапфиры и рубины просто-напросто триоксид алюминия, являющийся составной частью обыкновенной глины, то становится смешно, что род людской готов перегрызть друг другу горло из-за углерода и глины. Сейчас у нас есть великолепные сплавы, которые выглядят, как золото. Мельхиор - сплав меди, никеля и цинка - мало чем отличается от серебра, латунь (медь, олово и цинк), томпак (медь и цинк) прекрасно имитируют так называемые драгоценные металлы.
В моей жизни была интересная история, связанная с алмазом. Я купил большой (не помню, во сколько каратов) бриллиант чистой воды - не таиландский голубоватый бриллиант, который стоит дешевле, а именно «чистый ». Он был вставлен в платиновое кольцо - очень тусклый и некрасивый, хотя и дорогой металл. Когда ситуация с моим отъездом в СССР прояснилась, я решил бриллиант продать. Не потому, что мне были нужны деньги, а потому, что казалось неприличным ехать в СССР с таким буржуазным камнем.
Моя секретарша устроила его оценку в большом ювелирном магазине. Когда мы приехали, нас уже ждали человек пять оценщиков: один в европейском костюме, все другие - в китайских халатах. Друг с другом они почему-то не разговаривали.
У каждого из оценщиков были маленькие весы, лупы, бумага и кисточки. Они по очереди рассматривали камень со всех сторон в лупу, малейшая трещина сильно обесценивала бы его, взвешивали (как они учитывали вес кольца, я не знаю), что-то писали, передавали кольцо друг другу и снова проверяли, провозившись с этим проклятым куском углерода около часа. Наконец, они сверили свои записи и назвали цену - сделка состоялась. В то время маоцзэдуновские деньги сильно упали в цене, и банки упаковывали банкноты в пачки по миллиону ЖМБ (жень мин бао). Пачки перевязывались веревкой, и на куске бумаги, подложенной под веревку, писалось, что в пачке миллион ЖМБ и банк гарантирует точность суммы. Это скреплялось печатью банка. Мой шофер отнес все эти пачки на заднее сиденье моей машины, и оно оказалось заваленным деньгами. Осталось только место для секретарши.
Состав пациентов у меня, как и у всякого врача, был довольно пестрым. Да и каким он еще мог быть в международном городе? За свою врачебную практику в Шанхае я видел всяких людей, но большинство из них оставили самое хорошее впечатление. Правда, врач всегда видит своего пациента с лучшей стороны - в этом и заключается мудрость медицины. Встречаясь с больным, врач не требует характеристику с места работы, а начинает оказывать помощь. Гиппократ учил: врач должен принести облегчение. То же самое говорил и знаменитый французский терапевт Поль Сави: «...если исцелить врач не всегда может, то облегчить страдания он может всегда». Врач должен идти к больному с открытой душой, без всякой предвзятости. Он больше других знает людей, но, как ни странно, ему труднее всего их осуждать. Правда, я, вспоминая свои встречи с людьми, никогда не могу отказать себе в удовольствии описать их с некоторой долей иронии.
Так, один русский спекулянт пригласил меня как-то к жене. Пригласил ночью, когда на каждом углу стояли японские часовые и ездить было опасно. Спекулянт был прилично пьян и ходил по комнате в пижаме; он ел мандарин и называл меня в рифму - «докторин». Возможно, в душе он был поэтом, хотя и скупил в Шанхае всю соль, перепродал ее по неимоверной цене и стал очень богатым. Редкое сочетание поэтичности натуры и прагматизма.
Надо сказать, что в мире много смешного и надо только уметь его увидеть и оценить. Вот еще одна история из моей богатой на смешные случаи жизни. Мне довелось присутствовать на большом приеме в честь дня рождения норвежского короля, который устроил генеральный консул Норвегии Мартин Болстад. Это был красивый человек, ростом - настоящий викинг, только одет в современные штаны. Многочисленные гости, приглашенные на прием, сгруппировались вокруг веранды на английской лужайке. Прислуга обнесла всех напитками. Болстад вышел к нам, чтобы произнести речь и... забыл, о чем хотел сказать. Он задумчиво смотрел в небо и молчал. Так же молча стояли и все мы со стаканами виски и джина в руках. Мне в душу закралась свинская мысль, что он забыл имя своего короля. Потом я сообразил, что он мог забыть его номер. Ведь почти все короли Норвегии были или Олафы, или Га-аконы. Представьте себе, что Болстад мог произнести тост: «Леди и джентльмены, предлагаю вам выпить за здоровье его величества короля Норвегии Олафа третьего. Ура!» - а Олаф третий умер еще в третьем веке нашей эры. Скандал! Какой-нибудь негодяй написал бы в Осло письмо и сообщил бы, что консул забыл имя своего государя. Болстада выручил его китаец-бой. Он подошел к нему с серебряным подносом, на котором стоял стакан виски с содовой. Болстад взял стакан и сказал: «Леди и джентльмены! Сегодня день рождения короля Норвегии. Я приглашаю всех выпить за его здоровье. Ура!» Этикет был соблюден. А был ли королем Олафом или Гааконом никто из присутствующих гостей, кроме норвежцев, не знал. Да и Болстад, по-моему, не помнил. Кстати, когда-то он служил в норвежском посольстве в России, о чем мне сам рассказывал, правда, точно не помнил, было это до революции или после. Ну, запамятовал человек, чего с него возьмешь. И у него была русская подруга, прелестная брюнетка. Интересно знать, всегда ли помнил он ее имя.
Когда Болстад узнал, что я скоро уезжаю в СССР, то устроил ужин в мою честь. Очень милым человеком был Мартин Болстад, хотя и немного забывчивым.
Перечитывая сейчас протоколы заседаний нашей фирмы, я поражаюсь, что все последние встречи сводились к обсуждению финансовых вопросов. В одном протоколе появилась характерная для того времени запись: «Получен хороший гастроскоп. Заплачено 126 фунтов (это около трехсот американских долларов). Доктор Чен знает врача, который мог бы его купить». Гастроскоп - очень полезный инструмент для диагностики болезней желудка. Мы его заказали в Англии для себя, но когда получили, то уже думали, кому бы его продать. «Фирма» явно шла к завершению своей деятельности.
О политике на заседаниях никогда не говорили. Лишь один раз разгорелся спор за ужином между мной и американцем Торнгэйтом. Вопрос коснулся советско-американских отношений. Торнгэйт заметил, что СССР вмешивается в чужие дела. Я не выдержал и спросил, а что он думает о поведении кардинала Спеллмана. Этот американский кардинал недавно был в Сингапуре, и газеты писали, как он, сев в машину, развернул американский флаг и, проезжая по улицам, махал им в знак приветствия приветствовавшим и не приветствовавшим его сингапурцам. Я сказал, что, с моей точки зрения, представителю церкви не следовало бы заниматься политическими демонстрациями. Спор разгорелся, но Бертон его тут же притушил, заметив, что разговоры о политике за столом вредят пищеварению.
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ НА РОДИНУ
«Холодная война» продолжалась. ИРО (Международная организация для беженцев) партиями отсылала русских эмигрантов на остров Самар (Филиппины), где те должны были ожидать визы для въезда в избранные ими страны (США, Австралию, Канаду и пр.). Начался отъезд из Шанхая и граждан с советскими паспортами, пожелавших уехать в вышеупомянутые страны, а не в СССР. Формальности для них в советском генеральном консульстве были предельно просты. Приходил такой гражданин и предъявлял свою визу. В его паспорте ставили сразу печать: снят с учета в связи с выездом в такую-то страну.
В марте советским консульством было объявлено, что советские граждане, желающие поехать в СССР на освоение целинных и залежных земель, могут подавать заявления об отъезде. Мне позвонили из генерального консульства и спросили, собираюсь ли я ехать. Я ответил, что да. С этого момента все мои неприятности с поликлиникой отошли на задний план. Со всеми служащими я успел уже расплатиться. Оставалось передать кому-то из врачей мою практику, причем такому врачу, которому я верил. К счастью, по личным обстоятельствам, не собирался уезжать из Шанхая доктор Ренэ Сантелли, французский хирург, он и согласился взять моих англичан. Я переговорил с британской торговой палатой (странная, как я теперь вижу, палата: ведь торговли-то вообще не было) и с британским консульством. Они согласились с кандидатурой Сантелли. Собственно говоря, у них не было другого выбора.
Я хорошо знал Сантелли, потому что он приглашал меня давать наркоз его больным. Он был веселым человеком, его любили и ассистенты, и медперсонал. Несколько настороженно к нему относились только монашки-медсестры, так как он, не стесняясь их присутствия, часто изъяснялся на звучном, полнокровном языке Рабле. Как-то он оперировал женщину по поводу рака матки. Нисходящая толстая кишка у больной была спаяна с опухолью, и Сантелли осторожно отделял ее от опухоли. Неожиданно стенка кишки порвалась, и ее содержимое полилось в брюшную полость. «А, дерьмо! - весело воскликнул Сантелли. - Запомните, господа, дерьмо является абсолютно верным признаком разрыва стенки кишки».
Я передал Сантелли карточки с историями болезней пациентов, их было около тысячи, и официально уведомил британское консульство о прекращении практики.
Прощальный ужин по поводу моего отъезда, кроме норвежского генконсула Мартина Болстада, устроил индийский генконсул Муругесан. А еще Сантелли достал мне приглашение во французское генконсульство на празднование четырнадцатого июля - Дня взятия Бастилии.
Стояло жаркое и поразительно дождливое лето. Каждый вечер клуб граждан СССР был переполнен. Около секретаря клуба всегда толпилось много посетителей-мужчин. Дело было в том, что по правилам во всех помещениях клуба можно было находиться с расстегнутым воротничком, а вот в ресторан без галстука вход был воспрещен. Многие члены клуба, пришедшие без галстука, шли к секретарю, который держал в шкафу ворох галстуков и выдавал их безвозмездно, под честное слово, безгалстучным членам. Кроме клуба, у нас еще была советская школа, общежитие для бедных детей, которое занимало два здания, и кинотеатр, представлявший собой большой навес из циновок.
Советский спортивный клуб к тому времени уже закрылся. Любопытна история его создания, примерно лет за семь до его закрытия. Для строительства клуба обществу граждан СССР понадобились деньги. Решено было поступить по принципу Робина Гуда: ограбить богатых. Генеральный консул СССР пригласил группу наиболее состоятельных лиц советской колонии в консульство на просмотр фильма «Сказание о земле сибирской», еще не вышедшего на шанхайские экраны. Сначала показали фильм. Эффект от него был ошеломляющим. Потом был ужин, тоже ошеломляющий: тогда еще подавали красную икру. За кофе консул встал и произнес небольшую речь. Он сказал, что Обществу граждан СССР нужны деньги на постройку спортивного клуба. Тут же все полезли за чековыми книжками. Моя соседка по столу сняла свои золотые часы с массивным золотым браслетом. Короче, деньги нашлись сразу.
Перед отъездом мне нужно было продать свою английскую машину «Остин-Ю» и мотоцикл «Ройал Энфилд». Общество китайско-советской дружбы организовало комиссию, через которую отъезжающие в СССР советские граждане могли продать вещи, и, надо сказать, эта комиссия, действительно, оказывала большую помощь. В отличие от советских граждан, ехавших в СССР по визе, для которых существовал целый ворох советских таможенных правил и всяческих ограничений, нас ничем не ограничивали ни по количеству, ни по качеству ввозимых с собой вещей. А так как правительство СССР брало на себя транспортировку имущества на целину, то и эти заботы были с нас сняты.
Свою английскую машину я решил не везти с собой не потому, что знал об отсутствии для нее в СССР запчастей. Этого я как раз не знал. Но я знал, что у английских машин слабые аккумуляторы. Даже в мягкую шанхайскую зиму (никогда не ниже плюс пяти градусов) мой шофер каждый вечер выпускал из радиатора воду, а утром наливал в него кипяток, иначе мотор не стартовал.
Один англичанин, принимавший участие в туристическом «кроссе» богатых бездельников зимой через Италию, рассказал мне по этому поводу забавную историю. Джентльмены и леди всех национальностей ехали на машинах самых различных марок с остановками в фешенебельных гостиницах с заранее забронированными номерами. Директор английского банка, специально купивший себе для этой поездки последнюю модель «Ягуара» (дорогая английская машина), каждое утро, когда вся компания рассаживалась по машинам и отправлялась в путь до следующей выпивки в следующем отеле другого города, не мог на своем «Ягуаре» сдвинуться с места. И это в Италии! А я ехал в Сибирь.
Приготовления длились более трех месяцев. Так, наверное, было рассчитано в Москве, чтобы мы приехали на место еще летом. Дважды с отъезжающими беседовал генеральный консул Шестериков, отвечал на многие вопросы, часто неожиданные, а иногда просто глупые. Один преуспевающий коммерсант задал такой вопрос: «У меня есть двести штук китайского шелка. Имеются ли на целине склады, в которые я мог бы их поместить?»
У индийского генконсула в Шанхае. Прощальный ужин по поводу нашего отъезда на Родину. 1954 г.
Последний прием в Шанхае, на котором мы были с женой, был вечером 14 июля в саду французского генконсульства по случаю Дня взятия Бастилии. А 16 июля нас посадили в вагоны второго класса, и мы поехали на запад в сторону Нанкина. Сразу за Шанхаем мы увидели, что такое наводнение. Поезд шел по очень высокой насыпи, но колеса были в воде, а кругом - горизонт и сплошная вода. Виднелись только крыши домов и верхушки деревьев. Вся равнина на сотни километров была под водой, и на сушу мы выбралась лишь на подступах к Нанкину, так как он стоит в гористой местности. В Нанкине для переправы через Янцзы наши вагоны закатили на громадный понтон. После переправы мы двинулись прямо на север в сторону
Тяньцзиня. В Тяньцзине стояли дня два, чтобы дать время сесть в поезд «целинникам »-тяньцзиньцам. Многие пошли смотреть город. Я не пошел. В Тяньцзине я прожил около тринадцати лет, для меня это были счастливые годы, и мне не хотелось портить впечатления юности.
В Харбине два дня к нам присоединяли вагоны с «советскими» харбинцами. Здесь я родился и хорошо помнил небольшие районы города, где жил в детстве. Но вспоминать прошлое я не захотел, тем более, что в годы моего детства Харбин был совершенно русским городом.
По всей Манчжурии, вплоть до советской границы, мы останавливались на самых крупных станциях, чтобы собирать «целинников». Была остановка в Хайларе, это уже недалеко от границы. Я вышел из вагона и узнал знакомый с детства запах цветов и травы. На юге Китая трава и цветы так не пахнут.
Потом была станция Манчжурия - последняя станция на китайской земле. По перрону ходили советские железнодорожники в форме, мы их видели впервые в жизни. Здесь предстояла пересадка в советские вагоны. Целая бригада китайских носильщиков переносила наши вещи, а мы в это время пошли на базар, который был устроен тут же, около железнодорожных путей. Нам было сказано, что все китайские деньги мы должны истратить на месте. Моих денег хватило на дюжину бутылок маньчжурского вина.
Наконец состав тронулся. Мы договорились, что вино выпьем на государственной границе. Как только показалась вспаханная пограничная полоса, мы наполнили стаканы вином. Все пассажиры вагона встали и выпили за приезд на Родину.
Начиналась новая жизнь.
КАРТИНКИ ИЗ ШАНХАЙСКОЙ ЖИЗНИ
Сыпной тиф передается обыкновенной платяной вошью, и до открытия его возбудителя люди думали, что это одна из форм мора, который бог посылает им за грехи. Сыпной тиф называли «тюремной лихорадкой», причем такое название вполне оправдано, поскольку именно в тюрьмах чаще всего возникали его эпидемии. Мне тоже пришлось столкнуться в своей врачебной практике с эпидемией сыпного тифа в тюрьме международного сеттльмента
Во время японской оккупации Шанхая двое русских полицейских получили приказ поехать в тюрьму, находившуюся на территории французской концессии, и перевезти оттуда группу китайских заключенных в тюрьму сеттльмента. Я запомнил их фамилии: Крутья и Бурмакин. Когда они подъехали к серому мрачному зданию муниципальной тюрьмы на Уорд роуд и позвонили, им открыли ворота двое других русских полицейских (назовем их Павлов и Иванов), которые несли дежурство на посту «Ворота и ключи», так англичане называют пост у ворот тюрьмы.
На регистрацию вновь прибывших заключенных, а ей занимались все четверо полицейских, понадобилось совсем немного времени, но этого было достаточно: через неделю все они заболели почти одновременно. Бурмакин быстро умер. Крутья болел тяжело и долго, я за время его лечения сам свалился с тифом, к счастью, с крысиным, от которого люди редко умирают, успел поправится и вернуться в больницу, а он все еще болел: начался гнойный плеврит, некроз левой пятки, волосы поредели. Павлов был без сознания, но к третьей неделе молодой организм переборол болезнь, и он начал поправляться. Павлов и Иванов лежали у меня в отдельной палате для двоих.
Когда Павлов пошел на поправку и был уже в сознании, наступил кризис у Иванова. Иванов умирал, в этом не было никакого сомнения. Антибиотиков в то время не было, и мне пришла в голову мысль перелить ему кровь выздоравливающего Павлова. Кровь оказалась одной группы. Я подошел к Павлову и сказал: «Иванов умирает, могли бы вы дать ему кубиков двести вашей крови? Может быть, это ему поможет». Павлов сразу согласился. Я уже собирался обратиться к жене Иванова, которая не отходила от постели больного третьи сутки, чтобы спросить ее разрешения, но в этот момент ко мне подошла сестра и прошептала: «Доктор, вас спрашивает Павлов».
Я вернулся к нему. «Доктор, - сказал он мне, - у меня был сифилис, и я не успел закончить лечения до того, как заболел сыпняком. Имеет ли это какое-нибудь значение?» Я ответил ему, что это никакого значения не имеет, но все же сообщил об этом жене Иванова. Она вспыхнула и наотрез отказалась дать разрешение на переливание. Меня это несказанно удивило. В конце концов лучше иметь мужа-сифилитика, но живого, которого можно сразу начать лечить, чем покойника не сифилитика. Но у нее была своя точка зрения и право выбора. Наш разговор произошел около семи часов вечера, а на рассвете Иванов умер. Крутья же поправился.
Тихоокеанская война продолжалась. Больных у меня стало меньше. Собственно говоря, число их в двух английских больницах не уменьшилось, но это были не больные, а «хроники» или престарелые люди, которых мне посылали из концлагеря с намеком держать их подольше. Раз в месяц я должен был писать отчеты об их состоянии в японскую жандармерию, но японцы, по-моему, этих документов не читали. Им было все равно, где находятся их враги: в концлагере или в больнице. Убежать из Шанхая они все равно не могли.
Я продолжал ездить в кабинет регулярно, но дел, связанных с медициной, там почти не было. Поэтому я решил найти себе другое занятие и для начала вскрыл наш сейф, который представлял собой внушительное сооружение, оборудованное двумя дисками с цифрами: один диск был наложен на другой и надо было найти комбинацию, открывавшую замок. Я занимался этим делом около месяца, записывая все испробованные варианты. Вообще, если диск вертеть очень осторожно, то можно пальцами почувствовать легкий щелчок, свидетельствующий о том, что цифры совпали. Через месяц кропотливой работы я нашел шифр. Он оказался очень сложным: надо было вертеть диск вправо, потом влево, потом - снова вправо, каждый раз до определенной цифры. Раньше мне никогда не приходилось вскрывать сейфы. Я чувствовал себя победителем, но сейф был пустой.
Тогда я решил, что у меня есть время выучить еще два иностранных языка. Я решил освоить один романский и один скандинавский. Выбрал итальянский и шведский. С итальянским все было очень просто. Я купил учебник Вергани на французском языке, несколько раз его перелистал и не выучил ничего.
Со шведским дело вышло сложнее. Я позвонил в шведское консульство, где работал мой бывший пациент фон Штриндберг, раньше он служил в английской полиции (позже выснилось, что он не швед, а немец, и к тому же нацист), и сказал, что хотел бы заняться шведским языком. Штриндберг охотно пообещал мне найти учителя. На следующий день он позвонил мне и сказал, что у него есть человек, который мне нужен. Фамилия его, условно, Луне, он служит матросом на шведском судне, но при этом прекрасный пианист (каковым он действительно и оказался) и очень интеллигентный человек.
В период войны много нейтральных судов застряло в Шанхае. Их консульства списывали комады судов на берег и снимали для них дома, поскольку дешевле было отапливать трехэтажный дом, чем корабль. Штриндберг дал мне адрес, и на следующий день я поехал к моему учителю, предварительно купив учебник шведского языка.
Луне оказался молодым черноволосым человеком, довольно полным, чуть ниже среднего роста. Он прилично говорил по-английски. Для начала я пригласил его отобедать во французском клубе. Мы отправились туда. Увидев пианино на эстраде, Луне прошел к нему и к удовольствию посетителей прекрасно сыграл несколько вещей.
Первый урок меня очень обрадовал. Оказывается шведы настолько прогрессивный народ, что за последние двадцать лет раз шесть упрощали свою грамматику, так что, по уверению Лунса, сейчас шведской грамматики почти не существует. Есть там несколько правил - и все. Великолепный язык. В конце урока Луне учил меня чтению, чтобы сразу поставить произношение.
На втором уроке он был довольно сильно пьян, разговаривал со мной на немецком языке и долго разглагольствовал о том, что немцы непременно разобьют русских и что Гитлер великий человек. Так стала понятной связь Лунса со Штриндбергом, этим псевдошведом. Шведским языком в этот день он заниматься не захотел, махнул рукой и сказал: «Займемся в следующий раз».
Третий и предпоследний урок был самым интересным. Дело было летом, и мы оба были в белых шортах и рубашках. Незадолго до моего приезда Луне, очевидно, упал в угольную яму в подвале и походил на маскарадное домино: половина одежды (и лица) была черной, другая - белой. Очень эффектный вид. Снова он был пьян, но уже так, что не мог говорить даже по-немецки. Урока не получилось. Теперь мне стало ясно, как он ухитрился дослужиться до звания простого матроса.
Состоялся и четвертый - последний урок. Луне был трезв и прогуливался перед садиком своего общежития. Из его комплиментов в мой адрес я быстро понял, что он пассивный педераст. Эта часть программы меня не интересовала, я сел на велосипед и уехал. Так закончились мои занятия шведским языком.
В английских колониях жизнь евразийца была нелегкой. Евразийцем называли человека, у которого отец был англичанином, а мать азиаткой (китаянкой, японкой, кем угодно, но не белой). Англичане называли таких людей «британскими евразийцами», и отношение к ним было иное, чем к чистокровным англичанам. Это накладывало отпечаток и на служебную карьеру, и на личную жизнь. Англичане, женившиеся на китаянках, жили обособленно от чистокровных английских семей. Дети от смешанных браков создавали семьи тоже чаще всего между собой. Англичане и русским не простили татарского ига. У них есть даже поговорка: «Поскреби русского, найдешь татарина».
Британский евразиец редко занимал ответственный пост в колониально-административной системе. Молодые англичане, приехавшие из Англии, быстро обгоняли по службе местных британских евразийцев, и те не могли не чувствовать своей «второсортности». Некоторые из них искали спасение в британском ура-патриотизме («джингоизм»), другие - в религии, третьи - в азартных играх и в вине.
Иногда это вело к драмам, одну из которых мне пришлось наблюдать при ее развязке. У меня был пациент Джон Н., британский евразиец, лет тридцати пяти. Это был высокий, полный человек с черными, как у всех евразийцев, волосами и с обезображенным серной кислотой лицом, на котором глазные впадины были затянуты рубцами кожи. Глаза он потерял, когда служил в английской газовой компании в должности надсмотрщика над китайскими рабочими: чем-то им очень досадил, и они плеснули ему кислотой в глаза. Случай был уникальным. Газовая компания назначила ему пожизненную пенсию и предоставила большую квартиру. Двое его маленьких сыновей все время болели, и я довольно часто бывал у него. Квартира была расположена на пятом этаже, и добираться до нее приходилось по целой системе лестниц, прилепленных снаружи дома из серого кирпича, построенного совсем рядом с газгольдерами.
Шла война, и все англичане были уже интернированы. Джон Н. оставался на свободе. Как-то вечером меня срочно вызвали в приемный покой Дженерал госпитал. Там меня ожидала жена Джона, она была в слезах, а с ней двое плачущих малышей - лет, так, десяти и восьми. У обоих мальчиков на правых кистях рук были ровные поперечные разрезы. Я начал осмотр и увидел, что сухожилия не задеты и можно ограничиться наложением кожных швов, а потом спросил мать, что случилось. Она попросила меня пройти в соседнюю комнату и рассказала, что руки ребятам разрезал ее муж. Он обратился к японцам с просьбой-посадить его вместе с семьей в концлагерь, но те отказали, сославшись на то, что он не англичанин, а китаец. Это его глубоко оскорбило, и он решил убить себя и детей.
Он подозвал ребятишек к себе и начал резать им руки, но, поскольку был слепым, то не видел, что делал. Я живо представил себе эту сцену: слепого отца с бритвой в руках и малышей, покорно подставляющих ему руки. Если бы они сопротивлялись, у них были бы множественные порезы. Видимо, он как-то уговорил их. Может быть, сказал, что английские мальчики должны быть храбрыми. «Затем, - добавила жена, рыдая, - он подбежал к окну и выбросился из него». Это с пято го-то этажа! «Боже мой, - сказал я, - он убился». «О нет, доктор». Под окном столовой далеко вперед выходила крыша четвертого этажа, о чем слепой не знал. Пролетев всего метра полтора, он свалился на асфальт этой крыши, разбил лицо и содрал кожу с рук. «О нет, сэр, слава богу, он жив».
Психически Джон Н. был совершенно нормальным человеком. То, что японцы не признали его англичанином, оказалось для него последней каплей, переполнившей чашу терпения. Однако почему рабочие плеснули ему в лицо кислотой? Я назвал этот случай уникальным, потому что не слышал ни об одном другом подобном случае. Была ли тут месть? За что? Может быть, несчастный чересчур притеснял рабочих, желая быть хорошим англичанином, а внешностью он ничем не отличался от китайцев и говорил по-китайски. Вот и вызвал недовольство рабочих: вроде бы китаец, а ведет себя как неумный англичанин. Но все это предположения. Больше этой семьи я не видал. Может быть, японцы все-таки пошли ему навстречу и посадили в концлагерь. И тогда он, наверное, почувствовал, что счастлив.
«НАШ МИЛЫЙ МАЛЬЧИК»
Среди моих пациентов была хорошая латышская семья, которая жила в том же высотном здании, что и я. Отец семейства, высокий, худощавый старик, был лютеранским пастором. Я знал и его жену, она была тоже высокого роста, и дочь - девушку лет двадцати, которая жила с ними.
Однажды меня вызвали к старику. Я нашел его в гостиной на кушетке с параличом правой половины тела, речь была утрачена. Все говорило за кровоизлияние в мозг слева. Предупредив жену, что ему сейчас нужен покой, я прописал лекарство - больше ради нее - и пообещал заглянуть снова завтра. Когда я пришел на следующий день, то увидел ее радостно улыбающейся. Старик сидел в кресле и тоже весело меня приветствовал. Оказалось, что у него был просто спазм сосудов головного мозга слева, который за ночь прошел. Спазм сосудов может полностью симулировать кровоизлияние. Все мы были очень довольны и разговорились.
Гостиная, где мы сидели, была настоящим антикварным музеем: вдоль стен стояли стеклянные шкафы, почти сплошь забитые старинными фигурками из слоновой кости; на потолке висела большая хрустальная люстра, везде, где только возможно, стояли вазы из фарфора. Семья собиралась уехать в США и там все это продать. В разговоре мы коснулись того, что за вывоз изделий из слоновой кости китайцы взимают большую пошлину: во-первых, все эти фигурки людей и животных имеют большую художественную ценность, а во-вторых, слоновая кость сама по себе дорогая. Я рассказал историю, произошедшую с моим покойным шефом, доктором Бертоном, который в течение многих лет также собирал коллекцию вещей из слоновой кости, рассчитывая затем продать ее в Англии. Когда его супруга отправлялась в Шотландию, он послал нашего китайца-бухгалтера со всей коллекцией в налоговое бюро, чтобы узнать сколько ему придется заплатить государству. Бухгалтер очень быстро вернулся и сказал: «Доктор, вам ничего не надо будет платить. Это не слоновая кость, а подделка. Они думают, что это собачья кость».
К этому времени война уже кончилась, и в Шанхай и другие порты Китая направлялся американский флот. «На одном из этих кораблей едет наш милый мальчик, -сообхцила жена старика со счастливыми слезами на глазах, когда я уже собрался уходить, - он служит матросом на американском военном флоте, и мы все так ждем его. Я не видела его уже лет десять».
Наконец «наш милый мальчик» приехал, и я был приглашен на чашку чая, чтобы с ним познакомиться. На меня он не произвел приятного впечатления. Такой недружелюбный кретин с волосами, подстриженными по-американски. Но мать вся сияла от счастья.
Вечером прибежала его сестра вся в слезах. Оказывается, «милый мальчик» так напился, что она боялась ночевать дома. Утром девушка попросила меня зайти, чтобы посмотреть ее маму, так как та плохо себя чувствует.
Я был просто поражен, когда вошел в гостиную. Создавалось впечатление, что тут только что произошла гибель Помпеи: весь пол был усеян осколками стекол от разбитых стеклянных шкафов и черепками от фарфоровых ваз, везде валялись фигурки из слоновой кости, а посередине комнаты лежали остатки хрустальной люстры. «Наш милый мальчик» храпел на кушетке. Отец сидел в кресле и был спокоен, а мать лежала на диване с холодным компрессом на голове и тихо плакала. Да, дорого им обошелся «наш милый мальчик».
Американские психологи объясняют такое поведение психологической реакцией на нервное напряжение, вызванное войной. У человека накапливается в организме много агрессивности, которая ищет выход. «Наш милый мальчик» нашел выход в битье хрустальной люстры и стеклянных шкафов.
Больше я их не видел. Они уехали в США.
Валентин Лубков был веселым и легкомысленным молодым человеком и, пока его папа был в состоянии платить за его образование, ничего не делал, учась на каком-то факультете американского университета св. Иоанна. Однажды в хорошее апрельское утро он сидел в своей комнате у открытого окна и читал спортивные новости. В дверь постучали, и вошел его приятель, китаец.
«Лубков, - сказал он, - хотите заработать сто долларов?» - «Хочу, - ответил тот. - Будут ли еще глупые вопросы?» - «У меня дядя умирает от рака желудка, и после того, как врачи сказали, что больше ничего не могут сделать, семья обратилась к религии. Сначала пригласили буддийских монахов, потом даоистских, затем католиков и, наконец, протестантского пастора. А вчера тетка попросила меня достать русского священника. Не согласились бы вы сыграть его роль, а деньги разделим пополам». - «Чудесная мысль!» - воскликнул Лубков. Он позвонил своему другу - такому же лоботрясу, - который пел басом в хоре русского православного собора, и заручился его помощью. На другой день Лубков надел темный костюм, пристегнул крахмальный воротничок задом наперед, как носят протестантские пасторы, его напарник взял с собой Евангелие, и трое авантюристов отправились к умирающему.
Многочисленные члены семьи, встретив их у главных ворот с поклонами и улыбками, провели в дом, в комнату больного, где уже было много народа.
Лубков не стал терять времени даром. Он открыл наугад Евангелие и прочел первую попавшуюся главу. Потом они с приятелем дуэтом спели «Жили двенадцать разбойничков». Это очень красивая старая русская песня, и звучит она церковно-торжественно, хотя и повествует о том, как бесчинствовал в свое время Кудеяр-атаман. Затем Лубков прочел еще что-то из Евангелия, после чего последовала песня «Эй, ухнем!». Здесь они, по-моему, сильно рисковали, потому что китайцы уже слышали эту песню. Правда, они могли не знать, церковная это песня или нет, а в исполнении Лубкова она могла быть и вообще неузнаваемой.
Все сошло, однако, хорошо. Лубков подошел к больному, похлопал его по голове Евангелием и дал поцеловать свой перстень: большую серебряную лягушку с выпученными зелеными глазами. На этом церемония окончилась. Лубков раскланялся со всеми и, почтительно поддерживаемый под руки своими приятелями-хулиганами, торжественно вышел из дома. Все поехали в ресторан.
У меня был русский пациент, лет за шестьдесят, с легочным свищом после ранения в легкое, полученного во время Первой мировой войны. Очень милый, спокойный человек. Он служил сторожем на какой-то фабрике и снимал с женой маленькую комнату в двухэтажном домике в районе, где ютилась русская беднота. Когда ему становилось худо, я приезжал, чтобы облегчить его страдания. В то время легочные свищи хирургическим путем не лечили, да и с момента ранения прошло около сорока лет. Но не в этом дело. Все дело было в его супруге. Я никогда не видел такой сварливой бабы: она его ругала день и ночь, а он только отмалчивался. Вот уж если кто и заслуживал иметь свищ, так это она, только не в легком, а на языке.
Как-то их район бомбила эскадрилья американских самолетов. Недалеко от дома была разрушена еврейская школа, а у них в комнате от детонации обвалилась вся штукатурка с потолка и стен. Большой кусок штукатурки попал этой бабе в рот, из чего я заключил, что она в тот момент, как всегда, ругалась. Кусок был настолько велик, что залепил рот до отказа. После извлечения штукатурки женщина с перепугу легла в постель и полдня молчала. По-моему, этот случай является доказательством того, что высшая справедливость существует.
Как-то меня вызвали к русской пациентке, проживавшей в районе, где снимали жилье самые бедные люди. Здесь хозяева домов, обычно трехэтажных, старались сдать каждый угол. На втором этаже я попал в узкий темный коридор, и один из квартирантов, указав на стенку из фанеры, сказал: «Вот эту дверь надо отодвинуть». Я отодвинул в сторону часть фанерной панели и увидел узкую доску, прикрепленную к стенам открывшегося моим глазам помещения, похожего на щель. Напротив входа была половина окна, другая же половина приходилась на вторую щель, рядом, которая тоже сдавались как комната. Под доской, служившей кроватью, было место для вещей обитательницы этой щели. Это была молодая женщина, больная туберкулезом в последней стадии. Я позвонил в больницу Русского православного братства и попросил ее принять. Ее приняли, там она и умерла.
Когда я работал у доктора Лемперта, у него была русская секретарша - молодая и красивая женщина. Как-то она заболела, и Лемперт попросил меня съездить и посмотреть ее. Я поехал. Дом находился в том же районе и на той же улице, но тут подобная щель была расположена на первом этаже под лестницей, где обычно находятся туалет и кладовка для всякого хлама. Хозяйка сдавала эту каморку как комнату. Я вошел. Окна не было вообще, на узенькой койке лежала наша секретарша. В каморке еще вместились маленький столик и стул, сбоку на стене - небольшое зеркало. Естественно, горела лампочка. А над столиком висела картина: красивый садик с ярко-зеленой травой и мальвами. Картина эта заменяла окно. Летом в такой норе, наверное, невозможно было жить, так как в июле температура воздуха в Шанхае колеблется между тридцатью восемью и сорока двумя градусами Цельсия.
Эпиляция - термин медицинский, означающий удаление волос вместе с корнем (с луковицей). Когда волос удаляется с корнем, он больше не растет. Бритье, например, не является эпиляцией, так как лезвие бритвы срезает волосы, не трогая корня, и волосы растут вновь.
Фирма «М» купила маленький высокочастотный аппарат для косметических операций на коже: им можно было выжигать бородавки, закрывать маленькие расширенные артерии и вены на лице, а также делать эпиляцию волос. Наша секретарша Пегги Уильямс, прелестная брюнетка, попросила меня удалить ей волосы подмышками. Я согласился и сразу сделал две грубейших ошибки. Во-первых, эпилировать волосы подмышками нельзя: их там несколько тысяч. Аппаратом легко произвести эпиляцию, скажем, пяти-шести волосков, растущих на бородавке на лице. Для эпиляции подмышечной области нужно потратить, по крайней мере, год, если не больше. В общем, затея нереальная. Но об этом я узнал позже. Пегги пришла в процедурную и легла на операционный стол. Я тщательно протер ей волосы спиртом, и это была вторая глупость. Эпиляция проводится при помощи микроискры, и стерилизовать кожу при этом излишне. Когда я включил ток, вся подмышечная область вмиг вспыхнула. Я начал тушить пламя рукой. Потушил, но все волосы сгорели. Пегги встала и сухо сказала: «Благодарю вас, доктор, на первый раз достаточно».
Это была не эпиляция, а подмышечный пожар.
Корнет Савин был известным авантюристом. Судя по его чину (самому младшему), он учился в кавалерийском училище. За рубежом издавали небольшие книжечки с описанием его похождений. Вот одно из них.
Юнкерам не разрешалось посещать оперетту, а Савин со своим приятелем все-таки пошел. Их увидел главный полицмейстер Москвы Трепов, прибывший в театр в сопровождении своего адъютанта, и спросил: «Что вы здесь делаете господа?.. Как ваша фамилия?» - обратился он к Савину. Тот назвался. Трепов бросил через плечо своему адъютанту: «Запиши». «А ваша как фамилия?» - спросил, в свою очередь, Савин Трепова. Тот так опешил, что пробормотал: «Моя? Трепов». - «Запиши», - бросил через плечо своему приятелю Савин.
Рассказывали и множество других историй. Например, о том, как Савин пытался продать группе английских бизнесменов дворец московского генерал-губернатора -нынешний Моссовет. Или, как он чуть было не сел на болгарский престол, поскольку походил лицом на царя Фердинанда. В общем, это был еще тот жулик и нахал.
В Шанхае он жил, когда я был студентом. Его можно было встретить на главной улице французской концессии прогуливающимся в светло-сиреневой офицерской шинели и фуражке. Это был уже глубокий старик с белой бородой.
Потом он попал в Гонконг и там угодил в больницу -и опять-таки в очень удачный момент: перед коронацией английской королевы Елизаветы (1953 г.). В день коронации всем больным было выдано по бокалу вина. Главный врач больницы обходил всех больных, каждому подносил стакан вина и поздравлял с праздником. Подошел он и к престарелому корнету. Тот улыбнулся главврачу и сказал, что за здоровье ее величества может пить только «Шампанское». Врач рассмеялся и велел принести ему бутылку. Это было последнее известие о корнете Савине, появившееся в газетах.
В бесплатное отделение нашей больницы поступил филиппинец средних лет с симптомами «острого живота», так хирурги называют любую катастрофу в брюшной полости, требующую немедленного вмешательства. Но симптомы у вновь прибывшего не были настолько острыми, чтобы торопиться, и доктор Гонтлетт, осмотрев его, решил оперировать на следующее утро. Я сделал все назначения, а когда пришел пораньше на следующий день, то увидел, что кровать моего филиппинца пуста. Я спросил китайского фельдшера, где больной, и получив ответ, что ушел в операционную, поспешил туда. Операционные у нас были на четвертом этаже, и больного полагалось до самой операционной везти на каталке, которую поднимали на этаж в большом лифте. Филиппинца я увидел идущего по лестнице пешком уже на площадке четвертого этажа. Я хотел сказать ему... много чего я хотел ему сказать, но он не понимал английского языка.
Вскоре все подготовили к операции, и я дал наркоз. Гонтлетт вскрыл живот и увидел белые пятна «сальной свечки» на поджелудочной железе - признак острого панкреатита. Кроме того, в животе было довольно много кровавой жидкости. Гонтлетт счел случай безнадежным и зашил брюшину, но не слой за слоем, как это обычно делается, а большой иглой захватывая все слои сразу, как зашивают животы после вскрытия трупов. «Тут делать нечего», - сказал он. Я разбудил больного и отправил его в палату. По моим прогнозам ночью он должен был умереть. На другой день во время обхода я увидел в палате моего филиппинца живым: он стоял рядом с кроватью и перетряхивал свой матрас. Выругав его за это, я объяснил, что ему нельзя вставать - я-то знал, что его зашили, как труп.
Через три недели он выписался. Здоровый - не здоровый, но выписался. А месяца через три вызвал меня к себе домой, оказалось, для того, чтобы поблагодарить меня, но при этом сказал, что чувствует себя плохо и уезжает на Филиппины умирать.
У меня был пациент, полицейский, по фамилии Корбут, по национальности, кажется, поляк, а женат был на русской. Как-то осенью его жена вызвала меня рано утром, сказав по телефону, что у мужа странные отеки. Я приехал и с трудом его узнал. Корбут лежал в постели закрытый теплым одеялом - утро было прохладным, - уши у него были раздуты, приобрели форму груш и лежали на подушке, как у спаниеля, лицо было слегка отекшим. При этом он ни на что не жаловался и чувствовал себя вполне здоровым, только из-за ушей не мог идти на дежурство. Это была, конечно, аллергия. Но на что? Я стал выяснять, какие перемены произошли в обстановке, в его образе жизни и питании. Никаких, все то же самое. После долгих расспросов выяснилось, что его супруга купила летом резной камфарный ящик. Так называют красивые китайские ящики, покрытые рисунками, которые делают из разных сортов дерева, иногда обычных, иногда очень дорогих, йзну-три эти ящики выстилают тонкими пластами камфарного дерева, запах которого отпугивает моль. В таких ящиках можно хранить вещи без нафталина. Жена уложила в ящик на лето зимние одеяла, а за день до происшествия вынула и одним из них накрыла своего мужа. Корбут оказался чувствительным к камфаре, и на утро проснулся вот в таком виде. Одеяла проветривали несколько дней, и больше реакция на них не повторялась.
Аллергия - причудливая болезнь, ее могут вызвать самые неожиданные причины. Я знал человека, у которого начиналась экзема, если он ложился спать на тонкую плетеную из соломы подстилку: такие подстилки летом в Шанхае кладут поверх постельного белья - спать прохладнее.
Еще у меня был пациент-англичанин, страдавший бронхиальной астмой. Для ее лечения были испробованы все известные в то время средства - безрезультатно. Тогда я решил назначить ему французский коньяк. Две столовых ложки коньяка снимали ему удушье уже через пять минут. После этого он жил только на коньяке.
Другой мой пациент, тоже астматик, мог жить лишь после внутримышечного введения раствора адреналина в масле. Это давало ему облегчение на шесть-восемь часов. После одного такого укола он умер.
А один русский больной не переносил обыкновенный лейкопластырь. У него был маленький фурункул на лбу, и я сказал сестре, чтобы она смазала прыщик йодом и налепила сверху полоску лейкопластыря. На утро вокруг этой полоски у него вздулся весь лоб.
Ко мне привезли грузина по фамилии Микеладзе. У него были переломы чашечки правого колена, трех ребер с левой стороны и каких-то костей указательного пальца на правой руке. Я обработал ему ссадины на груди, заклеил лейкопластырем, а потом стал накладывать гипсовые повязки на колено и палец. Он запротестовал: «Гааспадин доктор, на палец не накладывай. Я не перенесу. Это стесняет мою свободу». Я его не послушал и наложил гипс вокруг дощечки, поддерживающей палец. На другой день у него палец вспух так, что мне пришлось срезать повязку по кусочкам. Его палец не переносил ограничения свободы!
А переломы Микеладзе получил следующим образом. Он пошел к своему другу-грузину, содержавшему кондитерскую, в которой работали шесть русских продавщиц -молодых девиц. Там он поссорился со своим приятелем и сказал ему что-то такое, от чего тот схватил обрезок водопроводной трубы - в кондитерской шел ремонт радиаторов - и сломал ему ребра, коленную чашечку и палец. Русские продавщицы остановили драку, когда хозяин кондитерской собирался ударить Микеладзе по голове. На другой день мне позвонил человек с ярко выраженным грузинским акцентом. «Доктор, — сказал он, — говорит одно заинтересованное лицо. Как дела у Микеладзе?» Я ответил, а потом как-то спросил у одного моего пациента-грузина, что могло вызвать такую яростную реакцию у кондитера. Тот подумал и сказал: «А знаешь, может быть, он назвал его армянином».
Я не понимаю, почему мы должны относиться иронически или откровенно насмешливо, или с нетерпением, или со злобой к старческому слабоумию? Ведь это состояние ждет практически каждого из нас. Атеросклероз мозга не щадит никого — ни идиота, ни гения. Просто некоторым людям удается умереть раньше его наступления. Я также не понимаю, почему медицина описывает это состояние в учебниках по психиатрии. Ведь это не болезнь, а нормальное состояние для старческого мозга. «Второе детство», мне думается, более справедливый термин.
Американское генеральное консульство в Шанхае закрылось, кажется, сразу же с началом Тихоокеанской войны, потом открылось после ее окончания, а затем снова перестало работать перед приходом армии Мао в Шанхай. А вот Британское генеральное консульство не закрылось при Мао и приняло на себя функции по защите интересов и американских граждан, оставшихся в Шанхае. При этом англичане взяли к себе на службу американца, я не помню точно его фамилии, может быть, Перри. Это был довольно полный невысокого роста человек всегда веселый, как и многие толстяки. Однажды он позвонил мне и попросил приехать к старушке-американке, которую нужно было поместить в дом престарелых, так как она сошла с ума. Она не буйная, но с ней живет десять кошек, поэтому соседи жалуются на страшную вонь и просят что-нибудь предпринять. Психбольниц для европейцев в то время уже не было, только еврейская община держала два дома для больных и престарелых людей и принимала в них иностранцев.
Я поехал по данному мне адресу. Старушка занимала одну комнату на первом этаже с дверью на веранду в большом трехэтажном доме. С веранды лестница вела прямо в сад. Это была довольно древняя старушка, но очень живая и приветливая. Одета она была в какой-то балахон или в ночную рубашку: дело было летом. Я прошел в ее комнату и чуть не задохнулся: атмосфера была пропитана кошачьей мочой. Кошки различных мастей прыгали по ее кровати, грязной до невероятности, а также лежали на веранде. На полу были расставлены блюдечки с молоком. Когда я сказал старушке, что ее хотят положить в больницу, где ей будет лучше, потому что там за ней будут ухаживать, старушка охотно согласилась и даже обрадовалась, но добавила, что поедет только со своими кошками, так как кошки без нее жить не могут. Я позвонил в один дом для престарелых, который находился в ближайшем районе, и сказал, что прошу одну койку для американской гражданки, платить за нее будет британское консульство. Затем позвонил толстяку, чтобы приезжал забирать старушку, но только с кошками. Американец расхохотался и ответил: «Ладно, я это как-нибудь улажу».
На другой день американец позвонил мне и спросил злым голосом, почему я не сказал ему, что есть два дома для престарелых у евреев (второй дом у евреев действительно был, но совсем на другом конце города, более часа езды на машине). «Я забрал эту старую дуру с ее вонючими кошками и повез через весь город в дом для престарелых, - возмущался он. - Там мне сказали, что они знать ничего не знают и просят меня убираться вместе со старухой и кошками. Тогда я вспомнил, что есть еще один дом и поехал туда. Там подтвердили, что вы звонили, но что о кошках ничего не знали. Вы что, нарочно это устроили, док? Старуху я положил, но кошек не взяли. Мне пришлось дать взятку китайцу-сторожу, чтобы он временно взял их себе. В общем, вся эта история сидит у меня в зубах. Гуд бай», - и он бросил трубку.
Есть ли врачебная интуиция? По-видимому, есть. Мой шеф, Бертон, готовил к операции одного английского пациента с хроническим аппендицитом и послал меня осмотреть его перед наркозом. Я сделал это после обеда в тот же день. У него был вполне компенсированный митральный стеноз (болезнь сердца), но вообще он был в хорошем состоянии, и с моей точки зрения никаких противопоказаний не было. Однако мне почему-то не хотелось давать ему наркоз, и я в тот же вечер сказал это Бертону. «Хорошо, - проворчал Бертон, - сделаю под местной анестезией».
На другое утро он и доктор Ие начали делать операцию под местной анестезией, а я сидел у изголовья больного и болтал с ним. Он рассказывал мне, как до войны ходил на своей яхте в Японию просто ради спортивного интереса и как это было прекрасно. Операция закончилась, небольшая банальная операция, и Бертон начал стягивать с себя хирургические перчатки. Ие марлевым валиком выжимал остатки крови из уже зашитой раны, прежде чем наложить повязку. В этот момент больной посинел, замотал головой и умер. Почему, неизвестно. Дай я ему наркоз, это и сочли бы причиной смерти, потому что операция была ерундовой.
На той же неделе один вполне квалифицированный хирург удалял миндалевидные железы под местной анестезией. Операция самая простая, но больной внезапно умер. А еще через неделю другой хирург производил такую же операцию еще одному больному - тоже внезапная смерть Это было настолько необычно, что заподозрили какой-то подвох с новокаином, но ничего не нашли, да и другие операции с тем же новокаином прошли как обычно.
Во всей этой истории была одна любопытная деталь, не имеющая к медицине отношения: первый больной был должен крупную сумму денег второму. Как только должник умер, кредитор немедленно последовал на тот свет за своим должником.
Мне позвонил английский адвокат и сказал: «Доктор, умер британский подданный такой-то. В своем завещании он просит, зачитываю: «Пригласить квалифицированного врача, который должен всадить мне скальпель в сердце и, таким образом, удостовериться, что я не сплю летаргическим сном. Заплатить ему за это двадцать пять фунтов стерлингов». Труп уже три дня находится в морозильнике похоронного бюро, - добавил поверенный, -так что, думаю, вам ничего не стоит проехать туда и всадить ему в сердце скальпель».
Я ответил ему, что не буду выполнять такую дурацкую просьбу. Если труп уже три дня находится в морозильнике, он просто превратился в кусок льда, и смешно что-нибудь пытаться в него вонзать.
«Значит, вы не хотите получить двадцать пять фунтов стерлингов?» - «Нет. Не хочу». - «Ну хорошо, доктор, -услышал я в ответ. - Я позвонил вам в первую очередь, потому что вы врач британской колонии. Что ж, придется поискать другого врача».
Он нашел другого врача, и тот, скорее всего, за двадцать пять фунтов стерлингов сломал скальпель об лед.
У меня был русский пациент, очень хороший инженер и поэтому весьма состоятельный человек. Мы были хорошо знакомы, и я часто заходил к нему в его прекрасный двухэтажный домик, который он построил по своему проекту. Когда он собрался уезжать из Шанхая за границу, то пришел ко мне и сказал: «Мне нужно вывезти американские доллары, китайцам я их оставлять не собираюсь. Для этого жена сшила мне длинный жакет с карманами, и я хочу положить туда деньги. А вас прошу наложить мне корсет из гипса, в таком виде меня и внесут на корабль».
Я ответил ему: «Спасибо. У меня уже были неприятности с банком Китая из-за гонконгских долларов Бертона, и я не собираюсь впутываться в новую историю». Инженер на меня обиделся и ушел. Больше я его не видел. Я только слышал, что какого-то тяжело больного инженера, с переломом позвоночника, внесли на носилках на корабль, отплывавший в Гонконг. Думаю, что это и был, конечно, мой знакомый, начиненный американскими банкнотами.
Это случилось в первые дни моей работы в фирме «М». Ко мне в кабинет вошел молодой англичанин, сел в кресло и спросил: «Скажите, доктор, можно узнать, способен ли я зачать ребенка?» - «Да, - ответил я, - для этого нужно взять у вас семя на анализ. Вот вам направление в лабораторию, пройдите туда и через несколько дней приходите ко мне за результатами».
Анализ, который я получил из лаборатории, был неутешителен. Количество сперматозоидов было намного ниже нормы, и все они малоподвижны. Этот молодой человек не мог стать отцом, и я не знал, как ему об этом помягче сказать. В учебнике урологии была описана одна операция, которую делают в таких случаях, но, как говорил сам автор, результаты ее совершенно ненадежны. А для меня, тогда совсем молодого врача, убить надежду у больного было тягостно.
Когда молодой человек снова пришел на прием, я начал издалека: говорил, что со временем, может быть, что-то и придумают, но пока радикального лечения нет.
Он слушал внимательно, наконец, прервал меня: «Скажите все же точно, доктор, может жена от меня забеременеть или нет?» Вопрос был поставлен прямо в лоб. Он требовал прямого ответа, и я вынужден был сказал: «Думаю, что не может». Молодой человек страшно покраснел и отрубил: «Вы знаете, моя жена беременна».
Он воспользовался моим заключением как свидетельством в суде и развелся с женой по причине ее измены.
Томсон, англичанин семидесяти лет, высокий, стройный голубоглазый и веселый, страдал гипертонией: нижний показатель давления у него доходил до двухсот двадцати, а верхний - выше шкалы моего тонометра. В то время только что вошел в моду новый метод лечения абсолютно бессолевой диетой. Он заключался в том, что больной питался одним сваренным без соли рисом и пил воду. Я решил попробовать этот метод. Через неделю Томсон пришел ко мне с жалобами на сильнейшие припадки грудной жабы, которой до этого у него никогда не было. Пришлось прописать нитроглицерин, который ему помогал, но ненадолго. Американские учебники по геронтологии советуют не стесняться с дозировкой нитроглицерина и назначать его даже по тридцать таблеток в день. Я увеличивал Томсону дозу, и скоро он уже принимал сто таблеток с утра до пяти часов вечера, то есть практически за полдня, а покупал их сразу по тысяче штук. Как человек невоенный я могу ошибиться, но мне кажется, что таким количеством нитроглицерина можно взорвать небольшой двухэтажный домик. В фармакологии не было упоминаний о такой дозе, и я побоялся ее увеличивать дальше, а посоветовал пить водку, которая хорошо снимает боль. Так он и поступил. Схема его лечения была фантастически проста: с утра до пяти вечера сто таблеток нитроглицерина, а с пяти и до отхода ко сну пол-литра водки. На этом он держался более года, вплоть до моего отъезда в Советский Союз.
Томсон жил с молодой русской дамой лет тридцати и каждый вечер после водки танцевал с ней фокстрот и вальс. Как-то она пришла ко мне очень рассерженная и стала рассказывать: «Вчера прихожу домой и вижу, что мой старый дурак гоняется за нашей молодой китайской служанкой. Я набила ему морду. Вот результат вашего лечения». Естественно, такого результата я предвидеть не мог.
Кофе является антидотом (противоядием) алкоголя. Сильно опьяневшего человека можно вернуть почти в трезвое состояние, дав ему чашки две черного кофе. Через полчаса его мозг вполне прояснится.
Как-то вечером меня срочно вызвала к больному жена индийского генерального консула. Я приехал и увидел человека в состоянии крайнего возбуждения: тремор (дрожание) не только рук, но и почти всего тела. Оказалось, что у него были какие-то неприятности по службе, и за рабочий день он выпил около десяти чашек черного кофе, после чего и почувствовал себя плохо. Я подумал, что если кофе является антидотом алкоголя, то и алкоголь должен быть антидотом кофеина, и велел пациенту выпить стакан чистого виски. Бой принес бутылку виски и стакан граммов на двести пятьдесят, жена налила ему виски, и тот выпил его залпом. Через полчаса на моих глазах он заметно опьянел, но тремор и чувство крайнего возбуждения исчезли. Еще через час он захрапел, а на другой день был совершенно здоров.
Мы с Лю И-тэ в один и тот же день начали учить французский язык на специальном курсе в университете и в один день получили дипломы докторов медицины. Лю И-тэ был человеком с типичным китайским лицом, среднего роста, худым как спичка, очень подвижным, с быстрой речью, молниеносной реакцией на все происходящее вокруг и необычайно умным. Знания он впитывал в себя, как губка. Женился он до окончания университета. В то время мы жили с ним в комнате для дежурных студентов-акушеров. Однажды Лю И-тэ сказал мне, что хочет сдать кровь на реакцию Вассермана (на сифилис).
«А что, у тебя разве был сифилис?» - спросил я. Лю И-тэ рассердился: «Не говори глупостей. Я никогда ничем не болел». - «Тогда зачем тебе сдавать эти анализы?» - полюбопытствовал я. - «Так. В Америке все молодые люди, собирающиеся жениться, должны сдать кровь на эту реакцию. Ясно?» - «Ну и что. В Ассирии, Египте, и черной Африке делали обрезание, а евреи и мусульмане до сих пор его делают. Так сделай себе и обрезание перед свадьбой», - посоветовал я. - «Ты идиот», - ответил Лю И-тэ и пошел сдавать кровь в университетскую лабораторию.
В конце недели он пришел ко мне расстроенный и молча протянул ответ из лаборатории. На нем резиновой печатью были проставлены три жирных фиолетовых креста: сильно положительная реакция на сифилис.
«Да, для жениха совсем неплохо», - заметил я. -«Что теперь делать?» - спросил Лю И-тэ растерянно. -«Выброси эту бумажку в туалет. Ты же сам сказал, что у тебя ничего никогда не было».
Лю И-тэ так и поступил. Он лихорадочно готовился к свадьбе. Для проведения брачной ночи он купил новую подушку и решил ее простерилизовать в автоклаве для собак. Собачьим автоклавом заведовали не сестры, а мы сами - студенты. Если бы Лю И-тэ сунулся со своей подушкой к автоклавам в хирургическое отделение, его бы просто спустили с лестницы.
«Зачем тебе стерилизовать подушку? - удивился я. -Никто, покупая новые подушки или одеяла, их не стерилизует». - «А я простерилизую. Мало ли что в ней может быть», - заметил Лю И-тэ. - «Ты что думаешь все микробы из подушки полезут сразу на твою супругу? Ей и тебя одного хватит. И вообще, имея такую реакцию на сифилис, ты мог бы и не быть таким щепетильным», - поддел его я. - «Ти es unsale cochon! (ты грязная свинья!) -заорал Лю И-тэ. - На этой подушке буду спать я, а не моя супруга». - «Ах, значит здоровье твоей супруги тебя не интересует», - парировал я. - «Женщины более резистентны к инфекции, чем мужчины», - ответил Лю И-тэ и потащился в автоклавную со своей подушкой.
Когда вскоре мы собрались в нашей большой экспериментальной операционной в очередной раз оперировать несчастных собак (после операций погибали сто процентов животных), из автоклавной повалил дым и запахло жженными перьями. Подушка Лю И-тэ сгорела. Ему пришлось вступить в священный союз без подушки, но зато с сильно положительной реакцией Вассермана. К его счастью, этот анализ, как и множество других вещей в этом подлунном мире, оказался ложным.
После окончания университета Лю И-тэ решил стать психиатром и уехал на год в США. Вернувшись оттуда, он стал главным врачом психиатрической больницы в Мингхонге под Шанхаем.
У него был насмешливый и критический ум. Не знаю, что стало с ним потом. Боюсь, что человек с его складом ума вряд ли пришелся ко двору «Великого кормчего».
Выходила замуж моя давнишняя пациентка. Она пришла ко мне и спросила, могу ли я что-нибудь сделать с ее будущим мужем: у него дурно пахнет изо рта. Я согласился его посмотреть. Что бы это могло быть? Кариозные зубы, скопление гноя в носу или в гайморовых полостях, какой-нибудь нарыв во рту, хроническое воспаление желудка? После осмотра - одни вопросы и никаких ответов. Сделали все анализы - они показали, что молодой человек совершенно здоров. А запах был, хоть святых вон выноси. Тогда я стал детально расспрашивать его о питании.
Оказалось, что он покупал себе сливочное масло сразу по десять килограммов и держал его в холодильнике несколько месяцев, каждый день съедая положенную дневную порцию. За эти месяцы масло, естественно, портилось. В нем развивались бактерии, которые издают противный запах, мешавший невесте насладиться романтическим периодом ухаживания. Я велел ему выбросить это масло, на что он с сожалением сказал: «Но там еще почти пять килограммов». Тогда я сурово спросил его: «Что вам дороже: ваше проклятое масло или невеста?» Он выбросил масло, и молодые, поженившись, были счастливы.
Это было после войны. В Шанхай прибыла американская организация УННРА, с которой приехал английский хирург, действительный член Королевского колледжа хирургов Англии. Звали его, кажется, Белл. Он был типичным английским военным врачом, носил полувоенную форму УННРА, а темно-рыжие усы щеткой придавали ему особо британский вид. Наш хирург Рансон предложил Бертону принять Белла в нашу «фирму», и вскоре он начал бывать на заседаниях фирмы, хорошо пил виски и много рассказывал о войне. Приняли его тепло. Но настал день, когда Рансон и Бертон захотели посмотреть, как он оперирует. Во время этой операции я давал больному наркоз и видел, как выходил из себя Рансон, наблюдая за ошибками Белла. Наконец, Рансон не выдержал и, не очень вежливо попросив Белла встать на место ассистента, закончил операцию. Больше мы Белла не видели. Он действительно был членом Королевского колледжа хирургов Англии, но оперировать совершенно не умел. Это вообще что-то непонятное. Очевидно, он был хирургом-теоретиком, то есть никому не нужным человеком, а тем более нашей «фирме», где была сплошная практика и никакой теории.
Мне позвонила жена моего русского пациента, которому я прописал капли с медным купоросом для глаз, и сказала: «Доктор, я закапала мужу ваши капли в глаза, и сейчас он катается по кровати и кричит от боли». Я ответил ей: «Промывайте ему глаза холодной кипяченой водой до тех пор, пока он не успокоится».
Через час позвонил муж: «Доктор у меня все хорошо. Но жена решила проверить капли на себе. Теперь она катается по кровати и вопит благим матом. Что делать?». Я повторил свой совет и попросил принести мне рецепт. Когда он принес, оказалось, что дозировка сульфата меди в рецепте в десять раз превышает позволенную. Это была моя грубейшая ошибка, но и аптекарь, между прочим, не имел права изготовлять лекарство по такому рецепту. Он должен был позвонить мне и спросить: «Доктор, вы действительно имели в виду именно такую дозу сульфата меди?». Он этого не сделал. А жена моего пациента была все же настоящей дочерью Евы.
Ей я давал наркоз во время операции по поводу злокачественной опухоли слепой кишки. Лежала она в палате первого класса. На ее ночном столике рядом с золотым браслетом и золотыми часами стоял термос с холодной водкой. Она ненавидела ночную сестру-монашку. Та действительно не была привлекательной личностью - это я хорошо знал, потому что лечил и ее. После того, как миссис X. сняли швы, она напилась, упала с постели и сломала себе вставную челюсть. Через несколько дней она вновь напилась и, выйдя вечером в коридор, встретила своего мнимого врага - ночную сестру. Она решила дать ей по физиономии, но монашка быстро присела, а миссис X., провернувшись на одной ноге, шлепнулась на пол и сломала себе еще и руку. Боевая была женщина.
Генералиссимус Чан Кайши рано понял, что для достижения власти нужны деньги и поэтому удачно породнился с двумя архимиллионерами Китая - Суном и Куном. Сун и Кун распоряжались финансами, а генералиссимус пушками и пушечным мясом. Сун и Кун делали деньги всеми допустимыми в капиталистическом мире способами, то есть, я хочу сказать, буквально всеми. В связи с этим мне вспоминается одна любопытная история.
Однажды меня вызвал английский пациент с загородным адресом, и я выехал к нему. Шофер повез меня по Ханьджау роуд - длинной и практически единственной улице за городом. По обеим сторонам ее стояли «бунгало» и виллы богатых иностранцев и китайцев. Шофер остановился около дома с большим садом, в котором только что начали расцветать розы и желтели дорожки, посыпанные свежим песком. Посередине сада стояло совершенно круглое двухэтажное здание, и нигде не было ни души. Я вышел из машины и направился к дому. Дверь мне открыл китаец-бой, и я оказался в большом двухцветном зале величиной во весь дом и таком же круглом. На уровне второго этажа по всему зданию тянулся балкон с балюстрадой, тоже круглый. Там были видны многочисленные окна и двери. Две лестницы вели из зала на балкон. В центре большого зала стоял большой круглый кожаный диван - такие диваны раньше стояли в аптеках, на них, обычно, сидели клиенты, ожидающие лекарств. В центре дивана - круглый стержень или круглая спинка. Но если в аптеках такие диваны были рассчитаны на десять-двадцать человек, то здесь он мог бы свободно вместить человек семьдесят. Вдоль стены располагался гардероб - довольно внушительный, дальше - длинный бар, за стойкой которого не было бармена, а на полках - бутылок, еще дальше шли какие-то двери.
Бой показал мне на лестницу, и я поднялся за ним. Он повел меня по балкону и постучал в одну из дверей. Я вошел. В комнате стояла кровать, письменный стол, кресла, одна дверь (она была открыта) вела в ванную комнату, другие - очевидно, в боксы. За большим окном был виден балкон. На кровати лежал молодой англичанин, лет двадцати пяти, с небольшими усиками. У него ничего особенного не было. Грипп, возможно. Я удивился, что он живет в таком необычном доме и спросил его: «Это что? Общежитие?» -«Нет, док, - рассмеялся он, - это публичный дом. Но вы не бойтесь, здесь никто, кроме меня, не живет».
Он рассказал мне, что Кун собирался открыть в этом здании фешенебельный публичный дом, очень дорогой - ему нужны были деньги, видимо, чтобы помогать генералиссимусу на войне, - но с приходом Мао все рухнуло. Дом он не то продал, не то сдал в аренду английской компании, а так как в силу изменившихся в Шанхае условий англичане публичный дом тоже открыть не смогли, то в нем жил только один их служащий. В доме было около семидесяти комнат с отдельными ваннами и балконами, расположенными по кругу.
Красивый дом, красивая идея, прелестная мечта, так и не воплотившаяся в реальность.
Японцы, в своем шовинистическом угаре стремясь японизировать все вокруг, заставили всех корейцев носить японские фамилии. Кояма, по всей вероятности, был Ким, я точно не знаю. Его маленький сын лежал у меня в детском отделении Дженерал Госпитал. Он был привезен с бациллярной дизентерией в безнадежном состоянии, пролежал в отделении несколько дней и умер. Кояма пришел поблагодарить меня за то, что я лечил малыша. На другой день он позвонил мне домой: «Доктор, звоню от гробовщика. Хочу поблагодарить вас». Через два часа вдруг позвонил от продавца цветов: «Доктор я покупаю венок на могилу моего сына. Хочу поблагодарить вас». После обеда - уже с кладбища: «Доктор, сейчас я на кладбище. Скоро начнутся похороны. Хочу вас поблагодарить». Через два часа второй звонок с кладбища: «Доктор, похороны состоялись. Хочу вас поблагодарить». Вечером опять звонит телефон. Снимаю трубку и снова слышу слова благодарности. Я чуть с ума не сошел от этих звонков.
Шанхай, 1954 -Москва, декабрь 1976
Виктор Смольников
Записки шанхайского врача