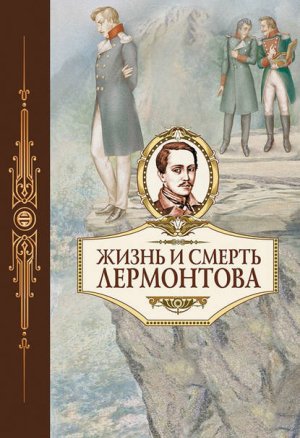
Составитель серии Давид Рудман
© Издательство «Человек», оформление, издание, 2007
От издательства
С жизнью и творчеством Лермонтова, казалось бы, все знакомы со школьной скамьи. В младших классах – «Парус» и сказка «Ашик Кериб», затем «На смерть поэта» и «философская лирика» и, наконец, пресловутый «лишний человек» Печорин, о котором ежегодно пишутся десятки тысяч сочинений. А потом – кроме горстки филологов и узких специалистов, к Лермонтову, как, впрочем, и к большинству писателей набившей оскомину школьной программы, во взрослой жизни мало кто возвращается.
Между тем Лермонтов в нашей литературе – явление в каком-то смысле уникальное и до конца может быть оценен как раз более зрелым читателем. Он прожил неполных двадцать семь лет, из которых ровно половину занимает его творческая жизнь, где, в общем-то, не было этапов и периодов, – совершенствовалась лишь художественная форма, мысли же, чувства и характеры словно были даны ему от рождения.
Его личность представляется замысловатым переплетением самых разных и часто противоречащих друг другу качеств. Называя жизнь «глупой и пустой шуткой», он с удовольствием пользовался всеми ее благами; презирая светское общество, изо всех сил старался иметь в нем успех; доводя окружающих своей непомерной язвительностью, иной раз граничащей с откровенным оскорблением, имел в то же время доброе и чуткое сердце.
Какой он был в жизни, таков он был и в своем творчестве – настолько субъективном, что, пожалуй, невозможно отыскать ни одного произведения, которое так или иначе не относилось бы к личности и биографии самого поэта, сумевшего не только предсказать свою раннюю кончину, но и за год до смерти почти в точности описать ход и место роковой дуэли.
Предлагаемая вниманию читателей книга дает полное представление о жизни и смерти великого поэта и в какой-то мере ключ к пониманию его произведений. Биографический очерк, написанный дореволюционным критиком и историком литературы А. М. Скабичевским (1838–1910) в конце прошлого века – это первое в России популярное жизнеописание Лермонтова, появившееся отдельной книжкой, и до сих пор оно выгодно выделяется среди прочих исследований своей исключительной объективностью и живостью изложения фактов. Скабичевский ни с кем не вступает в полемику, избегает чрезмерной политизированности, свойственной многим советским лермонтоведам, не углубляется в литературоведческий анализ, не всегда интересный неспециалистам, и тем не менее рисует яркую картину жизни и творчества гениального человека, которого сравнивает в русской литературе с «каким-то непредвиденным метеором, внезапно пронесшейся по небу звездой, неизвестно откуда взявшейся и исчезнувшей без следа».
Вторая часть нашей книги посвящена гибели Лермонтова на дуэли с Н. С. Мартыновым и представляет собой собрание уникальных исторических документов – оригинальных материалов следствия и военно-судного дела 1841 г., которые дают возможность час за часом восстановить ход трагического поединка и поближе познакомиться со всеми его участниками и их дальнейшей судьбой.
М. Ю. Лермонтов. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк А. М. Скабичевского
Глава I
Рождение и детские годы Лермонтова. Поездка на Кавказ
Бабушка Лермонтова по женской линии, под крылом которой он провел все свое детство, Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, а по мужу Арсеньева, была из старинного дворянского рода и представляла собою типическую личность помещицы старого закала вроде Татьяны Марковны Бережковой в «Обрыве» Гончарова: она была высока, стройна, со строгими, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли всех окружающих ее. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила «ты» и не стеснялась высказывать в глаза правду, хотя бы самую горькую. Прямой, решительный характер, привычка повелевать, доходившая порою до сурового деспотизма, были причиною, что товарищи Лермонтова по юнкерской школе прозвали ее Марфой Посадницей; в обширном же круге ее родства и свойства ее называли просто «бабушка».
Муж Елизаветы Алексеевны, Михаил Васильевич Арсеньев, умер совершенно неожиданно от удара, в самую веселую минуту, на святках, будучи в костюме могильщика из шекспировского «Гамлета», и она осталась вдовой с единственною пятнадцатилетнею дочкой Марьей. Это было крайне болезненное, хрупкое, эфемерное создание; тем не менее у нее нашелся жених, в которого она была страстно влюблена, – Юрий Петрович Лермонтов, живший с сестрами в своем имении Кроптовка Тульской губернии Ефремовского уезда, по соседству с родственниками Елизаветы Алексеевны, Арсеньевыми. Он происходил от древней шотландской фамилии, переселившейся в Россию в XVI веке, и предки его занимали видные должности при первых царях из дома Романовых, но род их обеднел, и средства оскудели. Сам Юрий Петрович, получив воспитание в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, потом служил в нем, но принужден был выйти в отставку в 1811 году, с чином капитана, так как пять сестер его, проживавших в Кроптовке, не могли одни справиться с хозяйством.
При таких условиях Юрий Петрович не представлялся блестящей партией для дочери в глазах Елизаветы Алексеевны, и как сама она, так и вся богатая ее родня смотрели неблагосклонно на брак Марьи Михайловны с бедным отставным армейским офицером. Тем не менее брак состоялся. Юрию Петровичу было предоставлено управление имениями тещи, селом Тарханы и деревнею Михайловское Пензенской губернии; он и распоряжался этими имениями до смерти жены полным хозяином.
Когда молодая почувствовала себя беременною, она отправилась с мужем и матерью из Тархан в Москву, и здесь, в доме на Садовой близ Красных ворот, со 2 на 3 октября 1814 года у нее родился сын Михаил. Малютка и мать были окружены всевозможными заботами; из Тархан заранее были высланы две мамки, из которых была выбрана Лукерья Алексеевна, долго потом жившая на хлебах в Тарханах: Лермонтов уже взрослым не раз навещал ее и привозил ей подарки. Из Москвы Лермонтовы вернулись в Тарханы, и Юрий Петрович выезжал из них лишь по хозяйственным делам то в Москву, то в тульское имение.
Мир, любовь и согласие недолго царствовали в семье Лермонтовых. Трудно в точности определить, что было главною причиною семейного разлада. Юрий Петрович, красавец, блондин, сильно нравившийся женщинам, привлекательный в обществе, веселый собеседник, «bon vivant» по выражению воспитателя Лермонтова Зиновьева, в то же время вспыльчивый до самодурства и грубых, диких проявлений, совершенно выходящих из пределов приличий, тем не менее был человек добрый, мягкий, и крепостные люди отзывались о нем как о барине «очень добром».
Неизвестно, женился ли он на Марье Михайловне по любви или по одному расчету; опостылела ли она ему вследствие своей крайней болезненности и нервности, или же недоброжелательство тещи и ее властное вмешательство во все семейные дела были причиною его охлаждения, – но только у Юрия Петровича объявилась вскоре новая связь. «Старожилы, – читаем мы в биографии Лермонтова г-на Висковатова, – рассказывают, что между супругами Лермонтовыми вышли недобрые столкновения из-за проживавшей у Юрия Петровича особы и что разгневанный Юрий Петрович весьма грубо обошелся с женою. Факт этого грубого обращения был последнею каплей полыни в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая открытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкою в Тарханах».
Слабая и болезненная от природы Марья Михайловна совсем была подкошена охлаждением мужа и ссорою с ним. «Она стала хворать, – читаем мы в биографии г-на Висковатова, – в Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому, с утешением и помощью; помнили, как возилась она и с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головою. Посадив ребенка себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно; звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику».
Память о матери глубоко запала в чуткую душу мальчика; как сквозь сон грезилась она ему потом. В детстве звуки песни, петой ему матерью, всегда доводили его до слез; позже он не мог уже вспомнить слов ее, но утверждал, что, если бы услыхал эту песню, она произвела бы на него прежнее действие.
День ото дня таяла убитая горем женщина. Пока она держалась на ногах, люди видели, как она бродит по комнатам господского дома с заложенными назад руками. Трудно ей было напевать обычную песню над колыбелью Миши. Наконец она слегла в злейшей чахотке. Муж в это время был в Москве. Ему дали знать; он прибыл с доктором, но спасти больную было уже нельзя, и она скончалась на другой день по приезде мужа.
Что произошло между Юрием Петровичем и тещею, неизвестно, но он по смерти жены пробыл в Тарханах всего девять дней и затем уехал к себе в Кроптовку, оставив трехлетнего сына на попечении бабушки.
Со смертью дочери вся любовь Елизаветы Алексеевны сосредоточилась на внуке; она не расставалась с ним ни днем, ни ночью, – он и спал в ее комнате; наблюдала за каждым шагом его. Малейшее его нездоровье приводило ее в крайнюю тревогу и было таким событием в доме, что даже дворовые девушки освобождались от работы и должны были молиться об исцелении молодого барина. А здоровье мальчика действительно могло внушать опасения: очевидно, он от матери наследовал крайнее худосочие, был ребенок и золотушный, и рахитичный, вечно покрытый то сыпью, то мокрыми струпьями, так что рубашка прилипала к его телу. Кривизна ног, составлявшая впоследствии источник сокрушений Лермонтова при его претензии на роль женского сердцееда и приравнивавшая его несколько в этом отношении к колченогому Байрону, была прямым следствием английской болезни.
Суровая и строгая ко всем окружающим, бабушка к одному внучку выказывала бесконечную нежность и доброту, беспрекословно исполняя все его прихоти, ни в чем ему не отказывая и ничего для него не жалея. Все ходило кругом да около Миши; все должны были угождать ему, забавлять его. Зимою устраивалась гора, на ней катали Мишу, и вся дворня, собравшись, потешала его. На святки каждый вечер приходили в барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, играли кто во что горазд, нарочно для этого освобождаясь от урочных работ; на святой неделе мальчика забавляли катаньем яиц.
Нельзя сказать, что положение всеобщего баловня благотворно отражалось на характере ребенка. Оно развивало в нем деспотические наклонности, необузданное своеволие, привычку ни в чем себе не отказывать, не терпеть ни малейшего отпора своим прихотям и капризам и даже некоторую жестокость. Так, во втором отрывке из неоконченной повести Лермонтов, описывая детство Саши Арбенина и подразумевая в нем до некоторой степени самого себя, изображает своего героя «преизбалованным и пресвоевольным ребенком»… «Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу». Нет сомнения, что теми тяжелыми, антипатичными чертами характера, которыми впоследствии отличался Лермонтов, он был обязан именно этой вредной системе воспитания, весьма заурядной в дворянских, помещичьих семьях того времени.
Но были в детстве Лермонтова и добрые влияния, до известной степени парализовавшие дурные наклонности и смягчившие его душу. Так, со дня рождения к нему была приставлена бонна-немка, Христина Осиповна Ремер, безотлучно находившаяся при нем. Это была, по словам биографа Лермонтова г-на Висковатова, женщина строгих правил, религиозная. Она внушила своему питомцу чувство любви к ближним, не исключая и крепостных. Избави Бог, если кого-либо из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит. Не любила этого Христина Осиповна, стыдила ребенка и заставляла его просить прощения у обиженного. Вся дворня высоко чтила эту женщину; для мальчика же ее влияние было как нельзя более благодетельно. Вторым смягчающим обстоятельством была болезненность мальчика. Сам Лермонтов говорит о себе в той же повести, описывая того же Сашу Арбенина, что «Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь – болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении; он не мог ходить, не мог приподнять ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если б не получил от природы железного телосложения, то, верно, отправился бы на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он охватывал все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привык побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником, среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури».
Мечтательность мальчика была еще более развита немецкими сказками и легендами, которые ему рассказывала Христина Осиповна. Русских сказок почему-то он не слышал в детстве, если судить по тому сожалению об этом, которое он впоследствии высказал в одной из своих записных тетрадей (1830 год): «Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская – я не слыхал сказок народных; в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». Но очень странно, как это могло случиться с русским дворянским мальчиком, окруженным дворнею; и к тому же сам Лермонтов, по-видимому, противоречит себе, говоря все о том же Саше Арбенине: «Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую. Саше было с ними весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно в его детскую кроватку»… «Когда я был мал, – говорит Лермонтов в той же своей записной тетради 1830 года, – я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее; будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства».
М. Ю. Лермонтов в детстве. 1822 г.
Когда Лермонтов вступил в отроческий возраст, были набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и Миша занимался с ними военными экзерцициями, играми в войну и разбойников. Кроме дворовых сверстников друзьями детства его были также жившие по соседству в усадьбе Апалиха родственники, дети племянницы бабушки Марьи Акимовны Шан-Гирей – дочь Екатерина и три сына, старший из которых, Аким Павлович, воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях.
«У бабушки, – говорит этот самый А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях о Лермонтове («Русское обозрение», 1890, № 8), – было три сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща; летом простору вдоволь, зимой – немного теснее, зато на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; потом с сердечным замиранием смотрели, как православный люд стена на стену (тогда еще не было запрету) сходился на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий садовник выбрался из свалки с губой, рассеченной до крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде…»
Когда мальчику было одиннадцать лет, в 1825 году, бабушка, беспокоясь о его слабом здоровье, повезла его на Кавказ. Поехали многочисленным обществом: с ними были и кузины Столыпины, и родственник Пожогин, и доктор Ансельм Левис, и гувернер-дядька, monsieur Капе. В начале лета приехали в Пятигорск. Впечатлительный, мечтательный, нервный ребенок с чрезмерно развитым воображением был так сильно потрясен кавказскою природою, что потом на всю жизнь глубоко остались в нем эти первые детские впечатления Кавказа, любимого поэтом до гроба.
В то же время потрясенное красотами Кавказа отроческое сердце Лермонтова впервые забилось тогда недетскою страстью. Вот как он сам описывает эту свою первую, столь преждевременную страсть:
«Кто мне поверит, что я знал любовь, имея десять лет от роду? – Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкою лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату, не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда? И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованью, это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видел, или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в этот раз. Горы кавказские для меня священны… И так рано! С десяти лет. Эта загадка, этот потерянный рай – до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно – и я готов смеяться над этой страстью, но чаще – плакать. Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить священные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».
Предвидение, что до могилы будет терзать ум поэта эта детская первая страсть, не было одною экзальтацией. Действительно, образ девушки не оставлял поэта – и когда с Кавказа он вернулся с бабушкою в Тарханы, и пять лет спустя, как мы можем судить об этом по приведенной выписке из его записной тетради 1830 года, и, наконец, за полтора года до смерти (см. стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен…»)
Глава II
Воспитание Лермонтова. – Поступление в Московский благородный пансион. – Первые поэтические опыты
Поездка на Кавказ ради укрепления здоровья мальчика была предпринята, конечно, потому, что наступали годы, когда надо было подумать о более серьезном образовании Миши. В умственном отношении к десятилетнему возрасту он был совсем уже почти готов к этому. Ничего не жалевшая для внука бабушка тратила на его воспитание до пяти тысяч рублей, и когда отец его изъявлял желание взять сына к себе, она указывала ему на эту сумму, которую он не в состоянии был бы тратить на сына. Более всего, по общедворянскому обычаю того времени, обращалось внимания на языки. В то время как знакомая уже нам Христина Осиповна обучала Мишу с пеленок немецкому, для других языков нанимались гувернеры. Так, первый гувернер Капе был полковник наполеоновской армии, взятый в плен в 1812 году и оставшийся в России. Миша более всех гувернеров любил его, особенно за его восторженные рассказы о Наполеоне, о всех его войнах и сражениях, между прочим и о Бородинском сражении. По смерти Капе поступил в гувернеры еврей Левис, знакомивший питомца с немецкою словесностью. Он не ужился и должен был уступить место проживавшему в России со времен первой французской революции эмигранту Жандро. Последний сумел понравиться избалованному питомцу, особенно же бабушке и ее московским родственницам, безукоризненностью манер и любезностью обращения старой версальской школы. Пробыв в доме Лермонтовых около двух лет и желая овладеть воспитанником, он стал мало-помалу открывать ему «науку жизни». Без сомнения, Лермонтов в поэме «Сашка» изображает Жандро под видом парижского Адониса, сына погибшего маркиза, пришедшего в Россию «поощрять науки». Юному впечатлительному питомцу нравился его рассказ «про сборища народные, про шумный напор страстей и про последний час венчанного страдальца»…
Из рассказов этих Лермонтов почерпнул свою нелюбовь к парижской черни и симпатию к невинным жертвам, из которых на первом плане стоял, конечно, Андре Шенье. Но вместе с тем этот же наставник внушал молодежи довольно легкомысленные принципы жизни, и это-то, кажется, выйдя наружу, побудило бабушку ему отказать, после чего в дом был принят гувернером англичанин Винсон, бывший гувернер в доме графа Уварова. Винсон оставался у Арсеньевой несколько лет; им очень дорожили, платили три тысячи рублей и поместили с русской женой и детьми в особом флигеле. От него Миша приобрел знание английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром.
Не забыли и об эстетическом развитии мальчика. Он был обучен игре на фортепиано и на скрипке, отлично рисовал, лепил из крашеного воска целые сценки, вроде охоты за зайцами с борзыми, перехода через Граник и сражения при Арбелах со слонами и колесницами, украшенными стеклярусом и косами из фольги. В то же время одной из любимых забав ему служил театр марионеток. Так, мы видим, что в письме из Москвы он просит тетку выслать ему воску, потому что и в Москве он «делает театр, который довольно хорошо выходит и где будут играть восковые фигуры». А. П. Шан-Гирей хорошо помнил эти куклы с вылепленными Лермонтовым головами. Среди них была кукла, излюбленная мальчиком-поэтом, носившая название «Berquin» и исполнявшая самые фантастические роли в пьесах, которые сочинял Лермонтов, заимствуя сюжеты или из слышанного, или из прочитанного.
Наконец в 1828 году бабушка повезла Лермонтова в Москву, с целью определить его в Благородный университетский пансион. В пансионе существовал обычай, что каждый ученик отдавался на попечение одного из наставников. Выбор предоставлялся родителям. Родственники бабушки, Мещериновы, рекомендовали Алексея Зиновьевича Зиновьева, занимавшего в пансионе должность надзирателя и учителя русского и латинского языков. Зиновьев приготовлял мальчика к вступительному экзамену, и затем, по принятому выражению, Лермонтов оставался «клиентом» Зиновьева во всю бытность свою в пансионе.
Поступив в 4-й или 5-й класс полупансионером, то есть с правом ночевать дома, Лермонтов учился блистательно, был вторым учеником. «Как теперь смотрю на милого моего питомца, – рассказывает Зиновьев в своих воспоминаниях о нем, – отличившегося на пансионном акте, кажется, 1829 года. Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского «К морю» и заслужил громкие рукоплескания. Тут же Лермонтов удачно исполнил на скрипке пьесу и вообще на этом экзамене обратил на себя внимание, получив первый приз в особенности за сочинение на русском языке».
По традиции, сохранявшейся со времени Новикова, в пансионе особенно процветали между воспитанниками занятия литературою. Воспитанники собирались на общее чтение, издавался рукописный журнал, в котором многие из них принимали участие. Лермонтов, уж конечно, являлся деятельным сотрудником школьного журнала. Им тогда уже писались стихотворения, на которые было обращено внимание учителей. Так, он показывал свои переводы из Шиллера, любимому же своему учителю Александру Степановичу Солоницкому подарил тщательно переписанную тетрадку своих стихотворений. Особенно поощрял занятия литературою инспектор пансиона, известный московский профессор Михаил Григорьевич Павлов. Он предполагал даже собрать лучшие из опытов воспитанников и издать в виде альманаха. Намерение это осталось невыполненным, но Лермонтов в 1829 году, в письме в Апалиху к тетке своей Екатерине Алексеевне, с восторгом говорил о нем: «Инспектор хочет издавать журнал Каллиопу (подражая мне), где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется: Павлов мне подражает, перенимает у… меня!.. Стало быть… стало быть… Но выводите заключения, какие вам угодно».
Кроме Павлова большое влияние на воспитанников имел учитель словесности в старших классах, известный поэт (автор песни «Среди долины ровныя») Алексей Федорович Мерзляков. Он отличался живою беседой при критических разборах русских писателей и прекрасно читал стихи и прозу. Он тем более должен был оказать большое влияние на Лермонтова, что давал ему частные уроки и был вхож в дом бабушки. О влиянии этом можно судить по тому, что когда Лермонтов был арестован по поводу стихотворения своего на смерть Пушкина, бабушка воскликнула: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе! Вот до чего он довел меня!»
К эпохе поступления в Благородный пансион относятся и первые проявления творчества Лермонтова. Оставшиеся после Лермонтова записные тетради, которым г-н Висковатов совершенно справедливо придает важное биографическое значение, показывают нам, с какою органическою постепенностью развивался поэтический талант Лермонтова и как даже в своих первоначальных детских подражаниях он оставался уже верен характеру будущей своей поэзии и если брал чужое, то лишь то, что соответствовало этому характеру, было ему сродни. Так, первоначально он ограничивался лишь тем, что переписывал те произведения любимых авторов, какие ему наиболее нравились. Такими любимыми авторами, впервые пробудившими в мальчике его поэтический гений, конечно, были Жуковский и Пушкин. Но из Пушкина он переписал не что иное, как «Бахчисарайский фонтан», из Жуковского – «Шильонский узник». Последнее произведение – перевод поэмы Байрона; первое написано в байроновском стиле. Затем поэма Пушкина «Кавказский пленник», пробудившая в мальчике личные воспоминания о Кавказе и тем более очаровавшая его, побудила его уже не к одной переписке, а к подражаниям. Первым таким подражанием является поэма «Черкесы». Лермонтов писал ее в 1828 году, когда ему не было еще и четырнадцати лет, в городе Чембаре, находящемся в двенадцати верстах от Тархан, за дубом, с которым связывалось дорогое для мальчика воспоминание. По крайней мере, рукою поэта на заглавном листе переписанной им начисто поэмы помечено: «В Чембаре, за дубом». Здесь вы находите целые стихи, взятые из поэмы Пушкина. Вторым подражанием поэме Пушкина является «Кавказский пленник», поэма, написанная им тоже в 1828 году, но уже в Москве. «Шильонский узник», в свою очередь, не остался без подражания, и к тому же 1828 году относится поэма Лермонтова «Корсар», начинающаяся почти теми же словами:
К тому же периоду, то есть к четырнадцати годам, относит начало поэтической деятельности Лермонтова и Шан-Гирей в своих воспоминаниях. «Тут, – говорит он, – я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля – Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина; тогда же Мишель прочел мне своего сочинения стансы К*** (три звездочки); меня ужасно интриговало, что значит слово стансы и зачем три звездочки? Однако ж я промолчал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма «Индианка» и начал издаваться рукописный журнал «Утренняя Заря», на манер «Наблюдателя» или «Телеграфа», как следует, с стихотворениями и изящною словесностью; журнала этого вышло несколько номеров…»
Е. А. Арсеньева, бабушка М. Ю. Лермонтова
От Жуковского был один шаг до Шиллера, с которым Лермонтову тем легче было познакомиться в подлиннике, что он знал немецкий язык. И здесь он начал переводами («К Нине», «Встреча», «Перчатка», сцены трех ведьм из переделанного Шиллером шекспировского «Макбета» и пр.), а затем увлекся драмами Шиллера, особенно «Разбойниками» и «Коварством и любовью», тем более что эти драмы около того времени давались в Москве с участием Мочалова и Лермонтов видел их на сцене. Это увлечение было так сильно, что затем все, что ни замышлял Лермонтов под впечатлением от различного чтения, принимало драматическую форму. Прочитывал он «Аталу» Шатобриана, и в тетрадях являлась заметка: «Сюжет трагедии. – В Америке. – Дикие, угнетаемые испанцами. – Из романа французского Атала». Знакомился ли он с русской историей, сейчас же являлся драматический сюжет – «Мстислав черный». Читал «Жизнеописание Мария» Плутарха, – задумывал трагедию «Марий», оканчивающуюся смертью Мария и самоубийством его сына. Затем в той же тетради говорит он о желании написать трагедию «Нерон».
Но все эти замыслы оставались без исполнения, по всей вероятности потому, что были не под силу пятнадцатилетнему мальчику, так как требовали знания нравов, жизни, этнографии, истории. Наконец воображение юноши остановилось на Испании. «Ни одна страна, – по справедливому замечанию г-на Висковатова, – не могла представить данных, более удобных для составления драм. Тут, казалось, и не требовалось особого изучения нравов и жизни. Молодой фантазии услужливо представлялись гордый своими предками, закоренелый в сословных предрассудках кастилец, инквизитор, иезуит, невинный убийца, преследуемый жид. Тут убийства, кровь, зарево костров и благородная отвага, луна, любовь и балкон, с ангелом на балконе и с певцом под ним». К тому же существовало предание, что род Лермонтовых происходил от испанского герцога Лермы, который во время борьбы с маврами бежал из Испании в Шотландию. С этим преданием носился в то время Лермонтов, утешаясь им, когда окружающие его люди пренебрежительно отзывались о его отце как о незнатном и бедном армейском офицере. Долгое время он и подписывался под письмами и стихотворениями «Лерма».
Это увлечение Испанией, проявившись, между прочим, и в относящемся к 1830 году первом наброске «Демона», в котором действие происходит в Испании, наиболее выразилось в трагедии «Испанцы». В драме этой сказывается влияние не только «Разбойников» и «Коварства и любви» Шиллера, но и «Натана Мудрого» Лессинга; влияние это наиболее ощутимо в образах старого еврея, его дочки Ноэми и старухи Сарры, напоминающих семью Натана. Как у Лессинга, в «Испанцах» герой оказывается братом Ноэми, сначала относится с брезгливостью и презрением к «жиду», а затем склоняется перед мудростью отца и добродетелью дочери.
Вслед за «Испанцами» Лермонтов написал еще две драмы, именно «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти») и «Странный человек», но чтобы понять значение этих драм, имеющих особенный автобиографический интерес, следует познакомиться нам с той страшной и мучительной драмой, которую в это время пережил Лермонтов в самой жизни, – драмой, которая, по общему мнению всех биографов, наложила глубокую печать на всю его судьбу, обусловив и болезненную нервность его характера, и мрачность его произведений. К этой драме мы теперь и обратимся.
Глава III
Борьба бабушки с отцом Лермонтова, и как эта борьба отразилась на всей жизни поэта
Драма заключалась в той ожесточенной борьбе, которую вела бабушка с отцом поэта Юрием Петровичем из-за внука, и в той страдательной роли, какую пришлось юноше играть в этой борьбе своих родных. Мы видели уже выше, что когда умерла мать Лермонтова, отец недолго оставался в усадьбе тещи; неизвестно, что было между ними, но он скоро уехал, оставив сына на попечении бабушки лишь временно, пока мальчику нужен был женский присмотр. Но он не отказался совсем от своего сына, чувствуя к нему живую привязанность. Разлука с ним терзала его, и он начал приезжать порою в Тарханы, чтобы видеть сына и следить за его воспитанием. Но каждый раз, когда он приезжал, он встречал самый недоброжелательный прием со стороны бабушки и всех богатых и знатных родных ее, выказывавших не только пренебрежение к его незнатности и бедности, но и страх, как бы не заявил он свои права на сына. Страстно привязавшаяся к внуку бабушка постоянно трепетала за потерю его. Ей представлялось, что вот-вот нагрянет отец и увезет Мишу. Поэтому мальчика берегли и хранили очень строго. Когда Юрий Петрович приезжал навестить сына, тотчас же посылали на почтовых за Афанасием Алексеевичем Столыпиным в Саратовскую губернию, звать его на помощь для защиты, на случай похищения. Впечатлительный, вспыльчивый Юрий Петрович не мог хладнокровно выносить такое отношение к нему и, выходя из себя, позволял себе выходки, которые еще более увеличивали взаимные недоверие и неприязнь; к тому же и наговоры, нашептыванья и застращиванья услужливых родственников подливали масла в огонь. Первоначально Юрию Петровичу было обещано, что он будет продолжать владеть имением, оставшимся после жены, и сделается опекуном своего сына, которому должно достаться это имение. И вот родственнички нашептали ему, что бабушка хочет отнять у него имение, а бабушке, – что Юрий Петрович уступил ей сына только временно, пока не заберет денежки в руки, а там Мишу и возьмет, – значит, силу из рук нельзя выпускать. Бабушка решила, что Юрий Петрович действиями своими утратил право на данное ему обещание, и объявила, что, если Юрий Петрович возьмет сына, она лишит его наследства.
Юрий Петрович, сообразив, что воспитать ему сына не на что и что, если заупрямится, он сделает его нищим, победил в себе гордость обиженного человека, смирился, затаил злобу и для блага сына согласился оставить его у бабушки до шестнадцати лет, сохранив за собою лишь право следить за его воспитанием и принимать участие в решении связанных с этим вопросов. Конечно, в первые годы, пока сын жил с бабушкой в Пензенской губернии, а Юрий Петрович в Тульской, условия эти были невыполнимы. Но когда Мишу повезли в Москву, отец начал наведываться чаще. По рассказам Зиновьева, он наезжал в Москву из Кроптовки с двумя незамужними сестрами, Натальей и Александрой, останавливался с ними на особой квартире, и сын навещал его, особенно же часто проводил у него праздничные дни. Воспитатели, может быть под влиянием бабушки, говорили, что отец баловал сына и имел на него дурное влияние. Сын же очень был привязан к отцу. От чуткого, восприимчивого мальчика, столь быстро и преждевременно развивавшегося, не мог укрыться семейный разлад, и не могло не поразить его болезненно резкое различие между гордою, богатою бабушкой и бедным, захудалым отцом, на которого все смотрели с таким высокомерным презрением. Доброе, отзывчивое сердце мальчика инстинктивно потянулось к обижаемому и пренебрегаемому старику, а позже заговорила в нем и гордость, заставившая его, нарочно с целью возвысить отца в глазах родных, превозноситься древностью рода Лермонтовых, выводя его не только из Шотландии, но и из Испании. Как сильно любил мальчик отца, мы видим из письма его к тетке в Апалиху в котором он, между прочим, пишет: «Папенька сюда приехал, и вот уже две картины извлечены из моего портфеля; слава Богу, что такими любезными мне руками».
Но вот наконец пошел Лермонтову шестнадцатый год. Срок, на который Юрий Петрович оставил мальчика у бабушки, приходил к концу, и он мог потребовать сына обратно. Начались переговоры. В это время университетский пансион был превращен в гимназию. Многие поспешили взять из него детей своих. Лермонтов, бывший уже в старшем отделении высшего класса, тоже послал прошение об увольнении и получил его 16 апреля 1830 года. Речь зашла о том, где ему продолжать воспитание. Думая везти его за границу, бабушка мечтала о Франции, а отец о Германии.
Чем более приближался роковой для бабушки срок, тем более обострялось взаимное нерасположение тещи и зятя. В Юрии Петровиче прорывалась накопившаяся годами злоба и желание вознаградить себя за долгую разлуку с сыном; бабушка вся преисполнилась трепета от возможности потерять самое дорогое в жизни. Борьба эта всецело обрушилась на шестнадцатилетнего мальчика, находившегося как раз в таком переходном возрасте от отрочества к юношеству, когда нервы бывают особенно чувствительны и раздражительны, и ему пришлось выдержать страшную нравственную пытку, когда два любимых им существа начали положительно разрывать его на части, так как каждый старался перетянуть его на свою сторону.
Лермонтова еще более потянуло к отцу, и он совершенно охладел в это время к бабушке, – до такой степени, что в трагедии «Люди и страсти», изобразив всю эту пережитую им драму, он обрисовал свою бабушку самыми мрачными красками, а отца, напротив, в идеальном свете. От бабушки не могло укрыться это охлаждение, и, ревнуя внука своего к отцу, глубоко огорченная, она жаловалась своей поверенной: «Все там сидит, сюда и не заглянет! Экой какой он сделался!.. Бывало, прежде ко мне он был очень привязан, не отходил от меня, как мал был. И напрасно я его удаляла от отца, – таки умели его уверить, что я отняла у отца материнское имение, как будто не ему же это имение достанется… Кто станет покоить мою старость? И я ли жалела что-нибудь для его воспитания? Носила сама Бог знает что, готова была от чая отказаться, а по четыре тысячи платила в год учителю… И все пошло не впрок… Уж, кажется, не всяким ли манером старалась сберечься от нынешней беды… Ах, кабы дочь моя была жива, не то бы на миру делалось…»