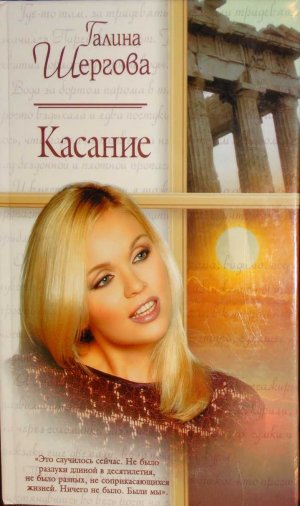
ПРОЛОГ
Где-то там, за тридевять земель или тридевять морей означился Пирейский порт. Тонким ожерельем огней он охватил горловину черной воды.
Вода за бортом парома в темноте не была видна. Она просто вздыхала и едва постукивала о плоть судна. И казалось, что паром не плывет, а непонятным образом движется над бездонной и плотной пропастью.
И вместе с паромом я тоже бесшумно двигалась над пропастью, способной поглотить меня, уничтожить паникой приближающегося конца.
Однако никто из пассажиров парома, видимо, подобного чувства не испытывал. Для них приближение порта было просто концом путешествия. Концом, в котором нет конечности «никогда», а лишь завершение этапа, сулящее многозначность наступающего вскоре дня.
Я отошла от борта и вошла в салон. Пассажиры, лениво развалившись на мягких диванах, беседовали, курили, тянули через соломинки различные «коки-соки», их сумки и рюкзаки еще дремали, вяло понурив шкуры.
Пассажиров было немного, оттого кое-кто просто спал, растянувшись во весь рост на сиденье.
Катя тоже спала. Спала безмятежным сном восемнадцати лет. Ее голова лежала на коленях у Панайотиса, он время от времени подбирал ее светлые волосы, струйками сбегающие на плечи.
Открытая близость этих почти детей, беззастенчивая и невинная, уже не может никого удивить или покоробить. И меня тоже. Сама не знаю как, но я приняла сегодняшнюю манеру молодого общения как нечто естественное. Будто иначе не может быть, будто иначе и не было никогда. Разумеется, я приняла эту свободу не для себя — для меня уже никакая скрытая или доступная обозрению близость — не существовала. Давно перестала существовать. Но для них…
Еще там, на пляже, на острове, я поймала себя на том, что даже не дернулась, глядя на Катю и Панайотиса. В двух метрах от меня они целовались, сомкнув загорелые тела. И охранная бдительность бабушки вовсе не побудила даже деликатно нарушить зрелище. Мне нравилось, что она молода, красива и, как они говорят теперь, «без комплексов». А знакомы-то всего неделю.
Сегодняшний мир не разгорожен для них десятками кордонов, неодолимых кордонов, с которыми не могут справиться ни любовь, ни смерть. Они не знают непререкаемости границ, расстояний, общественных статусов и языковых барьеров. Им все просто, будто так и должно быть. Будто так было от веку.
Где-нибудь в аэропорту они запросто машут друг другу: «На летние каникулы встретимся в Мадриде!» Какие проблемы! Нет денег? Можно на месяц-другой устроиться официантом в кафе или развозить на велосипеде пиццу. В разговорах они панибратски перебирают имена далеких городов, эти юные аборигены мира. Им и в голову не приходит, что для кого-то Трафальгар-сквер или Пляс-Пигаль были только атрибутами литературы. Что мир за рубежами твоей собственной страны был почти нереальным.
В силу моей профессии я-то мир повидала. Для журналиста-международника странствия — работа. И все-таки. Каждый раз, в десятый, двадцатый раз пересекая границу, я ощущаю странное состояние перемещения из быта в повествование. Оно могло мне нравиться, я могла не принимать его, но все равно это была не обычная жизнь, а повествование, поведанное мне чужеземным рассказчиком.
А запреты, заслоны, барьеры?.. Сколько их встало на моем пути, неодолимых, убийственных.
Им просто все. Целоваться на незнакомом пляже и спать, положив голову на колени почти незнакомого юноши.
Что же касается меня — то уж от кого-кого, а от «модерновой бабки», как величала меня Катя, ей таиться никаких резонов нет вовсе. Со мной она обсуждала любые повороты собственной жизни во всех подробностях. Может, оттого, что я никогда «не гундела» и не тянулась учить ее уму-разуму.
Кате всегда импонировала моя моложавость, стройная худоба, современный «прикид», то есть одежда, что было непременной данью профессии. Она ужасно веселилась, когда представляла меня своим друзьям: «Знакомьтесь: моя бабушка Ксения Александровна». А новый знакомый ахал: «Бабушка? Ну не может быть! Ты меня разыгрываешь!»
Помню, как на Новый год за ней зашел какой-то парнишка. Я открыла ему дверь. В вечернем туалете, в украшениях и прочем полагающемся к случаю.
Потом он пытал Катю: «Кто эта дама?» «Моя бабушка». «Ну, ты даешь», — охал он.
Но вот сейчас, глядя на ее светлые волосы, струйками стекающие с колен Панайотиса, я вдруг ощутила, как что-то больно ударило мне в грудь. И произнесла про себя: «Никогда, никогда мы не имели на это права. Мы — я и он».
Вчера Катя с Панайотисом ездили куда-то в горы.
— Пикник-массовка на двоих! — сказала она.
Вернувшись, плюхнулась рядом со мной на тахту, потянулась блаженно:
— Молва не соврала: греки — лучшие в мире мужики.
— Ты переспала с ним? — я старалась говорить спокойно.
— А то! Он же мне жутко нравится. Мне давно говорили — лучшие… Тебе неизвестно?
— Откуда мне знать, — я точно извинялась перед ее наглым всеведением.
Действительно: откуда бы мне знать? Откуда?
— Бедная ты моя бабка-скромница, — пожалела меня Катя.
Когда-то, входя в любое помещение, еще не зная, там ли Мемос, я мгновенно чувствовала его присутствие. Пространство обретало особое состояние, оно напрягалось, становилось естественным и живым. Без Мемоса комната оставалась комнатой, просмотровый зал просмотровым, мое жилье будничным местом обитания.
Но когда это было! Сто лет назад, двести… Время без него тоже утратило границы и четкость. Хотя я знаю: прошло без малого тридцать лет.
Но здесь, в Греции, после нашей тридцатилетней разлуки я не почувствовала, как меняется пространство, окружающее его. И, может быть, именно это отсутствие чудодейственно внушило мне: все кончилось, ушло, расставание было слишком долгим и слишком многое вместило в себя. Даже прошлое, которым я жила столько лет, представлялось выдуманным, литературным. Подобно миру за границами моей страны — тогда.
Сколько раз я рисовала себе эту встречу, до которой — не дотянуться рукой, не увидеть во плоти! Сколько раз? Да все вечера, когда я перебирала свое богатство: Память, Голос, Письма.
Я так и сяк перебирала, тасовала подробности, звуки, строчки. Только они были подлинной жизнью, эти вечера. Днем все шло своим чередом: редакция, работа, командировки, возвращения из командировок, Кирюхины страсти, школьные, потом студенческие, потом мужские… Но была еще моя вечерняя жизнь, в которой существуют только Память, Голос, Письма. Были вечера, которыми управляла я.
И потому что все вечернее было подвластно моим прихотям и моей тоске, я могла представить встречу во всех желанных подробностях.
На этой встрече мы долго смотрели друг на друга, не узнавая и узнавая каждую мелочь. Нет, едва увидев, я бросалась к нему, Мемос обнимал меня, и земля, ее надежная будничность, все рушилось в тартарары. Все летело к чертовой матери, крушилось, уничтожалось, и оставались только мы. Не он, не я, а некое нерасторжимое «мы».
Ничего этого не случилось. Мы встретились, как два добрых знакомых. «Это мой сын» — сказал Мемос, показывая на Панайотиса. «Это моя внучка», — сказала я, показывая на Катю.
Только слегка екнуло сердце.
Как-то моя редакционная подруга встретила мужчину, которого любила когда-то.
— Ну и как? — допытывалась я.
Она выдохнула:
— Ёка нет, но впечатление потрясающее.
Тут был легкий «ёк», а вот потрясения не было.
И всю неделю, которую мы вместе прожили на Эгине, присутствие Мемоса не производило с пространством никаких чудес.
Но когда я сейчас вошла в салон, то ощутила то, давнее: я еще не вижу его, но он здесь. Конечно, я знала, что присутствие Мемоса на пароме — очевидно: ведь мы путешествовали вместе. Однако не в этом было дело. Пространство стало напряженным, овеществленным, обрело смысл.
Впрочем, Мемоса я не видела. Салон жил своей жизнью, жизнью путника, которому для перемещения не требуется усилий пешехода или велосипедиста. Да и путник ли тот, кого волочет на своем горбу некая посудина, волочет над плотной черной пропастью? Он странный перемещенец, не меряющий дорогу, не ощущающий ее.
Видимо, из этих самых соображений, желая стать путником истинным, какой-то седовласый мужчина в темном костюме, белоснежной рубашке с красным шнурком вместо галстука выхаживал по салону взад-вперед. Доходя до стены, он замирал на мгновение, резко поворачивался и шел обратно. Он проделывал это тщательно и как бы вдумчиво. Ни один волосок в его белой шевелюре, похожей на торт «безе», не менял положения.
Когда его белая голова впервые мелькнула в глубине салона, мне показалось, что это — Мемос. Но я тут же поняла: чужой. Чужой двигался туда-сюда.
Мужчина вершил ритуал. Вроде бы так.
Нечто похожее я видела однажды в пригородной электричке, идущей в Троице-Сергиеву лавру. Мимо меня все время шныряли люди. Я заметила: одни и те же, туда-сюда. Сосед объяснил мне: «В лавру-то пеше идти нужно, паломничество ведь. А этих электричка везет. Вот и шастают. Едут, а вроде идут».
Может, таким же манером и этот седовласый пассажир совершал свое паломничество в свою Лавру, свою Мекку. А ведь так положено было двигаться мне. Тридцать лет Афины служили мне Лаврой, Меккой, Иерусалимом. И подобно заклинанию праведных иудеев: «В будущем году в Иерусалиме» у меня было: «В будущем году в Афинах». Но будущий год не наступал. Потому что у моих заклинаний и надежд не было будущего. Просто не было, и все.
А паром тем временем плыл в Пирейский порт, именно в Афины.
Заурядное плавание, рейс по расписанию.
Компания подвыпивших греков режется в карты, и самый шумный из них, хлопая картой о стол, победно выкрикивает какое-то слово. Расстегнутая до штанов рубашка открывает толстый волосатый живот, энергично вздрагивающий при каждом выкрике. И снова: карта-слово, карта-слово. Что он говорит? Я так и не выучила греческий, хотя бралась много раз. Может, потому что привыкла разговаривать с Мемосом по-английски, английский был языком нашей любви.
Катя спит на коленях у Панайотиса.
В глубине салона пульсируют разноцветные огоньки бара. Крошечный бармен, похожий на пуделька, вставшего на задние лапы, перебрасывает из руки в руку пестрые банки, от чего они тоже, вроде, пульсируют. Меж банок вспыхивает красный барменский жилет.
Мне почудилось даже зазывное бульканье в банках, отчего сразу захотелось пить.
Я подошла к бару и заказала сок.
— А я потерял тебя. Куда ты делась? — Мемос возник рядом неожиданно. От контраста с загорелой шеей его белая рубашка казалась фосфоресцирующей. И белые волосы тоже.
— Стояла на палубе. Порт уже близко.
— Это — кажется. Еще верных полчаса.
— Значит, Катьку будить еще рано? Пусть спит.
Мемос посмотрел в сторону ребят и улыбнулся:
— Похоже, над нами нависла угроза породниться.
— Не волнуйся. У них все просто: через неделю они уже не будут помнить друг о друге. Так что угроза — не смертельна.
— А я и не боюсь, — он продолжал улыбаться. — Это было бы здорово. Разве нет?
Разговор был как бы ни о чем, простая болтовня у стойки бара.
— Какие из нас с тобой родственники! — сказала я и внутренне сжалась. Фраза могла показаться ему началом выяснения отношений. А не было, не было уже никаких отношений, и говорить о них так нельзя. Но, взглянув в его лицо, я не обнаружила на нем ничего, кроме безмятежности. Однако сделала попытку развеять опасность:
— Катька в восторге от путешествия. Впрочем — заслужила. Я обещала ей поездку, если сдаст сессию на пятерки. Она лезла из кожи вон.
— А на Панайотиса все радости свалились с неба. Он из-за своего баскетбола еле-еле управился с экзаменами. Но этот дурень уверен, что его баскетбольная звездность — охранная грамота от всех житейских забот. Все равно из университета местную звезду не выпрут.
— Он уже звезда?
— Конечно. Играет в юношеской сборной. Греция же помешана на баскетболе. Когда наши выиграли матч с Россией, фанаты на радостях чуть все Афины не сожгли.
Разговор, слава Богу, выруливал в безответственность болтовни. И я храбро хихикнула:
— Ну вот! А ты говорил, что не произвел в жизни ничего путного! Может, прославишься как лучший делатель звезд.
Я даже погладила Мемоса по груди. Он поймал мою руку и задержал, прижав крепче.
Земля, ее предметность, ее надежная беспечная будничность, все обрушилось в тартарары. Все летело к чертовой матери, крушилось, уничтожая годы, наш возраст, сегодняшнее наше бытие, в котором нет места даже для воспоминаний. Тут были только мы, оглушенные и онемевшие. Двое немолодых пассажиров у стойки бара в пароходном салоне.
Но ни стойки, ни бара — тоже не было.
Что произошло? Да не знаю я, Господи! За эту неделю, что мы с Катей прожили в летнем доме Мемоса на острове Эгина, мы вовсе не чурались дружеской близости. Было естественным и безопасным, когда он подавал мне руку, помогал выйти из моря и одолеть крупную прибрежную гальку. Он мог даже поцеловать меня в щеку, благодаря за московский холодный свекольник, который я готовила. Даже когда мы вместе заплывали в море далеко от берега, и вода, рассекаемая сильными движениями его тела ударялась о меня, я не испытывала волнения, будоражащего чувства «в одной волне». Да и какие волнения могли быть в нашем возрасте от толчка воды или пожатия руки? Ни разу я и, уверена, он не испытали чувственной близости в этих местах. Она осталась там, за годами, за временем, ставшим иным, как иными стали и мы.
Там, на Эгине, это были просто жесты. Не прикосновения, не касания, чья легкость сокрушительней ударов.
Это случилось сейчас. Негаданно, бездумно обнажив: не было разлуки длиной в десятилетия, не было разных, не соприкасающихся жизней. Ничего не было. Были мы. Те же, что в день горького прощания. Те же, кому казалось, что это — навсегда. Кому не смешны романсовые уверения «до гроба».
Разумеется, эти годы, после того, как я узнала, что Мемос уже не мой, что он принадлежит другой женщине, я не прожила безгрешной монахиней. И вот что интересно: я никогда не ревновала к незнакомой мне «его жене». Наши отношения казались мне не только из другой жизни, у которой нет аналогий, они были из мира с иной системой измерений.
Я никогда не ревновала его и к прошлому «до нашему». Напротив, все его подробности имели бесценный смысл, узнавание их — щемящим сердце открытием. Я даже Катю назвала так в честь первой возлюбленной Мемоса.
Разумеется, я не жила монашкой.
У меня были ни к чему не обязывающие романы, даже короткие приключения в командировках. Как положено. Как положено свободной, моложавой женщине, вращающейся «в кругах».
Может, оттого, что я никогда не хотела выйти замуж, мои поклонники, чувствуя, что их вовсе не собираются «оседлывать», как раз и хотели на мне жениться. Женская свобода всегда полагает жажду замужества, сколько бы героини романов ни уверяли партнера в своем неприятии брака. Свободная женщина всегда источает флюиды этой жажды. Мужчины чуют. Они начинают бессознательно бояться женской привязанности.
И тогда женские достоинства мгновенно обращаются в пороки. Красота становится демонстративной доступностью, доброта — навязчивостью. Самое опасное — домовитость. Казалось бы, женщина, любящая дом, — как раз то, что нужно для женитьбы. Ан нет.
Один мой приятель рассказывал: «Как только вижу, что она рвется постирать рубашки, понимаю: все, надо завязывать. Рубашки — верный признак грядущей неволи». Эти «рубашки» я даже описала как-то.
Я не хотела стирать рубашки. Я не хотела замуж. Я вообще со своей работой, разъездами и неустроенным бытом не годилась на роль жены. И все они хотели на мне жениться.
Оттого, что я была свободна в выборе и уходе, все мои романы и связи были в радость. Не в счастье, но в радость. Я могла позволить себе роскошь — не ложиться в постель с нежеланным мужчиной.
Но никогда, никогда не рушилась земля, не летело все в тартарары, я не глохла, не слепла, превращаясь в одно желание.
Такое было лишь в той, прошлой жизни. И еще теперь у стойки бара на пароме, влекущем меня от Эгины в Афины. Такое могло быть только с Мемосом. И ни с одним другим мужчиной.
— Пойдем на палубу, — сказал он хриплым непослушным голосом.
…Мы стояли на палубе, и навстречу нам надвигался Пирейский порт. Он уже не виделся ожерельем бледных огоньков, он взрывался, подобно праздничному фейерверку, изобилием цвета, света, их перекличкой, переброской, перемигиванием, слиянием и разобщением. Неоновые рекламы и вывески, точно великанские шутихи, обрызгивали многоцветьем отсветов плотную черноту неба, разбивались о плотную черноту воды.
Порт ликовал, и чудилось, что пестрые толпы танцуют на асфальте под грохот музыки.
Но я-то знала, что это празднество прощания, прощания навсегда, даже если нам предстоит еще встреча. А порт силился скрасить его веселым карнавалом нарядных огней.
Мы не целовались, не сжимали друг друга в объятиях. Просто стояли, и Мемос держал меня за плечо, едва прижимая к себе.
Но палуба все равно рушилась из-под ног, огни Пирейского порта то вздымались разом, то меркли до черноты, и мы, оглушенные и немые, смотрели на них, не видя.
— Как ты жила? — наконец произнес Мемос.
Я не ответила.
Что я могла сказать? Чтобы ответить на этот коротенький вопрос, надо было отвести его в ту мою жизнь, где я так и сяк тасовала три составляющих: Память, Голос, Письма.
Память, которой он был обязан служить, как служила я.
Голос, его голос и так оставался с ним, не становясь плотью прошлого.
Письма, бесконечные письма, что я писала, не зная адреса, не отправив ни одного.
Чтобы ответить, нужно было перенести Мемоса в те вечера, которыми управляла я. В одиночку моей тюрьмы, не его.
Чтобы ответить, нужно было отбросить годы, возраст, наши теперешние жизни.
Я не ответила, только сказала, помедлив:
— Вот и Пирей. Завтра — Москва.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
— Назначь мне свидание, — попросила я. — Не синандисис, а именно рандеву.
Мемос стоял на два шага впереди меня, глядя перед собой, на храмы. Я видела только его спину, обтянутую синей рубахой, и кисти рук, обхвативших торс.
Греческое слово, втиснутое в английскую фразу, должно было, по моему замыслу, произвести впечатление. Я готовила эту фразу. Я отыскала «синандисис» в словаре. Но он обернулся и ничего не сказал.
Совсем жалобно я попросила еще раз:
— Ну пожалуйста…
— Пойдем туда, — сказал Мемос.
Мы пошли вверх по розовой дороге, натертой крошкой армянского туфа. Теперь храмы Гегарта придвинулись к нам вплотную.
Ежедневно мой вечер может начинаться так. Я могу повернуть голову и увидеть за окном деревья Чистопрудного бульвара, точно обрызганные из пульверизатора первой мелкой листвой. Но все равно мы будем идти к храмам Гегарта. А в проеме окна мне может открыться изваяние Грибоедова, и я замечу, как ранняя осень прикрепила снежный воротник к застывшим складкам его плаща. За окном, моим московским окном, могут хлестать неутомимые дожди и проноситься недолговечные листопады. Но все равно мы будем идти вверх по дороге, розовой дороге, натертой крошкой армянского туфа.
«Поверхность грязи была гладкой, будто ее катком укатали. И только когда ты вытаскивал ногу, возле нее дыбились коричневые волны. Они так и замирали на секунду-другую. Гладкая грязь упиралась в горизонт, и он все полз и полз, дальше и дальше. Сзади, слева от меня, Сотирос снова закричал:
— Вы идиоты! Вы слепые! Вы что, правда ничего не видите? Вон же деревня. Вот, вот, смотрите, там огни…
Теперь я уже понимал: его начали мучить миражи…»
Каждый вечер Мемос может рассказывать мне об этом, и каждый вечер только его голос заполняет мою комнату. Если вдруг зазвонит телефон и Бося, мой редактор, начнет торопливо отчитывать меня: «Ты бы еще на десять страниц развела. Ведь номер смонтирован, и, я говорил, нужен материал на пять страниц. Там же фотография на полполосы. Что я, слепой текст буду ставить?» — все равно он не заглушит голос Мемоса. Прервет на минуту — и все. Может случиться — Кирюха откроет дверь и заорет: «Физичка накрылась. Раздобыта задачка из спецшколы. Два доктора наук, решая, испустили дух. Завтра смотрите представление «Позор Евдокии, или Утро стрелецкой казни». Ваш сын, мадам, в роли палача-мстителя». Так может случиться — ведь мой сын за семнадцать лет своей жизни не приучился стучать в дверь и не врываться ко мне, даже когда я работаю. Но и это ничего не значит. Мемос повторит для меня: «Теперь я уже понимал: его начали мучить миражи…»
«Дорогой, это почти невероятно, но однажды я уже шла с тобой по той афинской улице, над которой плыли медленные гробы. И горели костры, и люди плясали у костров всю ночь, и на площади Конституции толпа стояла на коленях, а две девушки в черном держали забрызганное кровью полотнище. Две девушки в черном, как два тоненьких древка этого странного флага.
Сейчас, дорогой, это кажется мне почти невероятным, как встреча душ в иных веках и иных воплощениях. Ведь когда я писала тот очерк об Аспасии Папатанасиу, я даже не знала, что ты существуешь на свете, хотя сегодня мне кажется, что мое существование без тебя ирреально и что я была не я, а кто-то, носивший мое имя.
Я посылаю тебе вырезку с этим очерком. Может быть, и тебе покажется, что я шла тогда по той афинской улице…»
Каждый вечер я могу сесть к столу и начать так письмо к Мемосу. Рядом могут быть разложены блокноты и листки с началом очерка, привезенного из последней командировки. Я допишу очередную фразу: «Он достал карманный фонарик и лучом света ощупал стену блиндажа. Луч уперся в слова, выбитые штыком в бетоне: «Амаяк Манукян».
А потом я отложу страницу и буду писать на другой: «Дорогой, это почти невероятно, но однажды я уже шла с тобой по той афинской улице…»
Каждый мой вечер теперь слагается из этих трех составляющих: Память, Голос, Письма. Уже год, как моя жизнь разъята на дневное существование, в котором все идет своим чередом: редакция, работа, Кирюхины отметки, редакция, работа, Кирюхины школьные страсти, командировки, возвращения, командировки; и моя вечерняя жизнь, в которой существуют только Память, Голос, Письма.
Все, что происходит со мной днем, сплошь и рядом от меня не зависит. Тут течение событий обусловлено, как принято говорить в печати, «своими объективными закономерностями». Но вечерами управляю я.
Я могу так и сяк тасовать это имущество, на которое обладаю монопольными правами и которое у меня нельзя ни отнять, ни даже покуситься на него. Больше у меня ничего нельзя отнять. Больше того, что отнято. У меня отнят Мемос. Я не знаю, возвратят ли мне его. Два должника обычно не склонны возвращать долги: смерть и история. Смерть необратима, а история на своих гигантских маршрутах не успевает оглядываться по сторонам, чтобы заметить кого-то торчащего у обочины, кого она однажды обобрала.
Я не знаю, жив ли он. Но он существует в моей памяти, и ее хватит на всю мою жизнь, хотя календарное измерение событий, связавших нас, укладывается в один тот месяц.
Я не знаю, жив ли он. Но его голос, окруженный прерывистым дыханием, изъеденный никотиновым кашлем и годами молчания, — его голос существует во плоти рядом со мной. Магнитная пленка нисколько не изменила даже тембра, хотя Мемос и не подозревал, что я записываю его.
Я благословляю ту минуту, когда в тот вечер мне пришло в голову включить магнитофон. Теперь голос существует, существуют эти теплые связи бытия, если они даже тянутся за край физического существования.
Я не знаю, жив ли он. Но я пишу ему письма и педантично вкладываю в конверты вырезки с моими очерками, потому что он просил присылать ему все. Я пишу письма, хотя не знаю точно, куда нужно адресовать их. Но если бы я и могла написать: «Афины. Тюрьма асфалии», или: «Остров Юра. Концлагерь», — письма не могут достичь адресата.
Но я пишу письма, они часть моего вечернего существования. А вечерами управляю я.
Я могу сто раз так и сяк тасовать Память, Голос, Письма. Я могу сто раз слушать о том, как закричал Сотирос, я могу снова и снова подниматься по розовой дороге и заново писать: «Дорогой…» Я могу делать это в любом порядке, потому что нельзя ничего отнять и потому что вечерами управляю я.
— Потянемся, — сказал Влад и решительно встал со стула.
— Потянемся, — сказал Саня и вынул из кармана спичечный коробок.
— Могли бы хоть раз в жизни вспомнить, что вы мужчины и освободить меня, — сказала я.
— Напротив, — возразил Генка, — на этот раз нет нужды тянуться. У шефа сидит грек, на которого тебе сама судьба уже вытянула жребий.
— Ладно. Тяните. — Саня швырнул коробок на стол. Плоскую спичечную коробку с изображением зеленого петуха.
Когда в редакцию приезжал какой-нибудь гость, мы всегда тянули жребий — кому «гидовать» его. Вообще-то, в наши корреспондентские обязанности это не входило, но шеф наш из зарубежной поездки привозил обязательства пригласить в Москву очередного деятеля, и заботы по его московскому времяпровождению ложились на нас. Шеф наш, Борис Иванович, в просторечии — Бося, считал такие контакты «лучшим каналом информации». Однако рытье таких каналов для самого Боси как заведующего международным отделом было обременительным. Тут требовались мы, чернорабочие-землекопы.
Первым тянул Влад. Вытянул обгорелую.
— Мимо, — сказал он.
У Сани спичка тоже оказалась обугленной. Свободен.
Когда Генка вытянул такую же, он удовлетворенно покосился на Саню:
— Вот разгадка причин твоего беспросветного безденежья: ты суешь в коробок слишком много горелых спичек. Это же плохая примета.
Теперь предстояло тянуть мне. Единственной женской привилегией было право тянуть последней: спичка с головкой могла достаться кому-то раньше. Отвернувшись, как положено, от коробка (мы тянули не из рук, а прямо из коробка), я схватила спичку. Спичку с головкой. Нет, с двумя головками — с обоих концов ее венчали красные шарики.
— Но ведь этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, — сказала я.
— Может, — мрачно кашлянул Саня. — Загранспички. Гримасы капитализма.
Генка весь завибрировал:
— Ну? Кто предсказал? Кто у нас Кассандра? Я лично, товарищ Замков… Сидит наш грек и не ведает, что его уже разыграли, как островскую Бесприданницу. «Я вещь, я вещь! Наконец слово для меня найдено!» В путь, голубка!
— Черт с вами! — Я швырнула Сане коробок и пошла в кабинет Боси.
— Две головки, как у гидры! Я же говорил, что судьба! — крикнул мне в спину Генка.
У дверей Босиного кабинета я опять услышала его голос:
— Я вещь! Я вещь! Смелей, голубка!
Мемос встал, когда я вошла. Нет, еще не Мемос, а тот безымянный грек, которого пригласил в Москву Бося и которого я вытянула спичкой с двумя головками, — будь он неладен, у меня в эти дни и без него дел хватало. Грек встал, сразу заполнив собой малогабаритное пространство Босиного кабинета. Бося тоже встал. В присутствии иностранных гостей он всегда вставал навстречу женщинам, чего не делал, когда, скажем, я просто заходила к нему с материалом. Бося просиял.
— О, вот и госпожа Ксения Троицкая, ведущий корреспондент нашего отдела! Дорогая, разрешите вам представить Агамемнона Янидиса, героя греческого Сопротивления.
Хотя большинство наших иностранных гостей не понимали по-русски, почему-то при них Бося начинал проявлять повышенную галантность. Ты всегда имел шанс вдруг выйти в «ведущие» или получить право на то, чтобы в соответствии с этикетом гостя представляли тебе как женщине.
— Наша беседа была несколько лапидарной, — еще лучезарнее улыбнулся Бося. — Господин Янидис говорит только по-гречески и по-английски. Мы взываем к вам, дорогая.
Несложно было представить степень этой лапидарности: в Босином арсенале иностранных языков значился один немецкий.
— Кофе! Еще кофе! — Бося вдавил в стол кнопку звонка, хотя журнальный столик был уже уставлен опорожненными чашечками. Видимо, лапидарная беседа «затянулась далеко за полночь».
Сразу же, точно она ждала за дверью, вошла Лариса с подносом. Невесомый подол желто-зеленого платья высоко реял над ее коленями. Я видела: Янидис оценил эти колени, он одобрительно улыбнулся Ларисе. В ответ, разливая кофе, Лариса обмахнула плечо Янидиса черным веничком прямых волос.
«Секретарша международного отдела должна быть на уровне мировых стандартов», — так считал Бося. Наша Лариса была на уровне.
Нужно было что-то произносить, и я произнесла каноническое:
— Вы надолго в Москве?
— Еще не знаю. Может, дня на четыре, может, на неделю. Как пойдет. — Янидис начертал сигаретным дымом в воздухе знак вопроса.
— Какого рода у вас дела?
— Еще не знаю. Может, просто похожу по городу. Может, наткнусь на что-нибудь стоящее.
— Что может стать стоящим? — Меня уже раздражала эта демонстрация безразличия и к собеседнику и к поездке.
— Не знаю. — Вероятно, уловив что-то в моем голосе, он усмехнулся. — Я вообще мало знаю, что интересно, что нет.
— В Москве?..
— Нет, вообще.
Тут в разговор включился Бося. Он обладал редким даром по интонациям почти точно определять смысл разговора на неведомом ему языке. Видимо, срабатывал музыкальный слух; Бося занимался в семинаре самодеятельных композиторов. Сочинял романсы.
— Друзья мои, я предлагаю следующий план действий: мы в редакции посоветуемся и завтра предложим господину Янидису список мест и тем, которые могут его заинтересовать. Ксения Александровна подумает об этом.
Я перевела.
Мы оговорили завтрашнюю встречу и распрощались.
— Ксения Александровна, минутку, — задержал меня Бося.
Едва спина Янидиса, заслонившая на мгновение дверной проем, сменилась прямоугольником двери, Бося опустился в кресло и, откатившись назад, вытянул ноги — жест внутреннего недовольства.
— Ну что это, ну что это? Мы же сотни раз договаривались: с гостями тон только самый приветливый. А ты будто пережевываешь жабу. Тем более такой парень. Ты знаешь, кто он?
— Нет. Ты же не предупреждал даже, что он приедет.
— Этот парень почти двадцать лет оттрубил в концлагере Макронисос и прочих. Он меньше года как вышел.
— А зачем он приехал?
— Знакомиться с миром. Хочет видеть, что стало с планетой за эти двадцать лет. Надо помочь. Ты подумай.
— Подумаю.
Когда я вышла в «предбанник» — комнату, где сидела Босина секретарша, — Янидис был еще там. Лариса обрушила на него багаж, приобретенный на второй год обучения на курсах иностранных языков. Все у них складывалось прекрасно, беседа текла рекой, время от времени замирая в глубоких омутах неправильных глаголов. Увидев меня, она сказала Янидису:
— Вас будет ждать машина через десять минут. — Сказала нежно и грамматически безупречно.
— До завтра, — я помахала ему рукой.
В коридоре мы столкнулись с Генкой, и он жарко выдохнул у меня над макушкой:
— «Я вещь»! Но какая вещь! Ведь сильная вещь? Да?..
«Дорогой, я послушная и аккуратная. Я делаю все, что ты просил. Меня стоит пожалеть: я тону в грудах рукописей, журналов, вырезок, как «демон» у Станислава Лема, захлебнувшийся в потоке информации.
Может быть, все, о чем я писала когда-то и что ты просил прислать тебе, мало послужит твоим представлениям о бытии земли — земли, отторгнутой тюремными стенами, колючей проволокой, ограждением моря. Отторгнутой на двадцать лет, таких одиноких и безысходных, что ты, вероятно, и не мог представить, что где-то люди свободно передвигаются по дорогам, и маршруты их измерены не азбукой шагов, а тысячами километров.
И все-таки я сижу на полу, заваленная бумажными сугробами, и пытаюсь извлечь из их глубин необходимые страницы. Я делаю это потому, что просил ты, и для тебя я послушная, я аккуратная до педантизма, который всю жизнь ненавидела.
Впервые за эти годы я перечитываю то, что сделала когда-то. Многое мне не нравится, теперь бы я писала иначе. Но я не буду ничего переписывать — это смахивало бы на попытку подлатать собственную биографию и отослать тебе мою отредактированную жизнь. Просто вырежу и вложу в очередной конверт.
Однако в этом чтении постепенно появляется особый смысл. Нечто, адресованное уже мне самой. Осколки впечатлений и наблюдений, осевшие в очерках, сами по себе не способны сложиться даже в разрозненную мозаику жизни мира в эти годы. Но их пронзила одна биография, одно человеческое существование, один голос — твой голос. И абзацы путевых блокнотов вдруг стали обретать связи, пока еще ломкие, но — связи! — во времени и пространстве.
Постепенно я наощупь начинаю осязать эту паутину нитей, тянущихся от года к году, от страны к стране, и пытаюсь подобраться к пограничной вехе, за которой лежат координированные территории Осмысления.
Я знаю, дорогой, ты улыбаешься, представив, как некая дама в подоткнутой для удобства юбке ползает по полу, обремененная гамлетовской задачей поисков связи времен. Господи, я бы так хотела, чтобы ты представил меня любой, лишь бы думал обо мне.
Я-то только и делаю, что пытаюсь представить тебя — в эту минуту, ту, в твой день, в твою ночь.
Я брожу по нечетким тропинкам газетных сообщений, собираю обрывки рассказов (кто-то вернулся из Парижа, видел афинских беженцев, кто-то на научном конгрессе говорил с греческим делегатом), я пытаюсь сложить из этих клочков твое жизнеописание. Я тщусь, чтобы обрывки склеились в чертеж тюрьмы, поглотившей тебя. Я всегда жду известий.
Так, в этом колючем ожидании, я шла по Будапешту. Шла к Макрисам. Они могли что-то слышать о тебе. И еще. Макриса зовут Агамемноном, как тебя. И мне предстояло вслух произносить твое имя. Вслух я могла обращаться к нему: «Мемос».
«Теперь оно висит у меня над столом, это странное дерево, дерево без породы. То ли это пальма, у которой вместо кроны распадается многоцветье салютного залпа. Но, по-моему, не растут там пальмы. Оно похоже на хохломскую роспись. Но кто в Греции знает про Хохлому? Когда я спросила Зизи: «А что это за дерево?», она сказала: «Просто тюремное дерево».
Если бы Зизи была обыкновенной заключенной афинской женской тюрьмы, она, вероятно, знала бы породу дерева. Однако художники не развешивают на подробностях мира бирки с узаконенными наукой названиями.
Оттого на странной цветной гравюре Зизи странное дерево.
Я хочу рассказать тебе о моей подруге Зизи Макрис и о художнице Луизе Серник. Эти два имени носит одна женщина, а может быть, это два существа, заключенные в одном. В разных случаях мне удобнее называть ее по-разному.
Каменные глыбы человеческих тел лежали ничком на земле, и шею каждой фигуры стягивала веревочная петля. Это было жуткое зрелище. Фигурам предстояло встать в композицию памятника над пеплом Маутхаузена. Те, кого должен был увековечить этот камень, уже умерли однажды. А веревка на шее будто обрекала их на вторую смерть.
Памятник героям и жертвам Маутхаузена сооружался по проекту греческого скульптора Агамемнона Макриса.
— Снимок сделан во время установки. Фигуры подтягивались на канатах. — Зизи показала на фотографию, где все это было запечатлено. — Для Мемоса памятник в Маутхаузене — это и реквием по друзьям, погибшим на Макронисосе.
Мемос — домашнее имя Агамемнона Макриса. Зизи — его жена. Я пришла к ней в Будапеште не потому что собиралась писать о гравюрах Луизы Серник или скульптурах Макриса. Когда мы рассматривали фотографии и рисунки, мы говорили о другом: о наших общих друзьях в Греции, которые снова были в тюрьме, которых снова пытали, которых снова ждала смерь. Я говорю «снова», потому что почти все они уже однажды прошли через преисподнюю концлагерей. Это было их наградой за сражение во имя свободы Греции.
Вот почему фотография каменных фигур с веревкой на шее символизировала для меня вторичную смерть узников.
Вот почему с особой пристальностью я стала рассматривать гравюрную серию Луизы Серник «Афинская женская тюрьма». Зизи тоже была в этой тюрьме, хотя не участвовала в Сопротивлении. Это было позднее. Ее арестовали как гречанку.
Родилась она француженкой. Но с тех пор как в Париже познакомилась со студентом Института искусств Макрисом, Зизи могла считаться гречанкой — не только потому что выучила греческий и приняла греческую фамилию. Скорбная и мужественная история этой страны стала ее личной биографией.
Как гречанку ее вместе с мужем выслали в 1951 году из Франции. Тогда французское правительство решило очистить страну от испанских и греческих политэмигрантов. В сорок восемь часов. Макрисам предоставила убежище Венгрия. И теперь уже трудно было решить, какую национальность писать, посылая на выставки свои работы. Впрочем, когда гравюры Луизы Серник завоевывали премии и дипломы на международных фестивалях молодежи, когда работы Зизи экспонировались в Англии, Мексике, на Кубе, она ставила свою фамилию, а в скобках указывала: Венгрия. Такая географическая ссылка, может быть, не столько подразумевала местожительство художницы, сколько была актом ее признательности стране, давшей ей кров и возможность работать.
Но Греция призвала ее. Для Мемоса путь на родину был закрыт. Однако родина остается родиной, покуда жизнь твоих друзей и единомышленников составляет смысл твоего собственного существования. А многие друзья были в тюрьмах, многих преследовали. Мемос хотел узнать все, попытаться помочь. В Грецию поехала Зизи. Как француженка.
Ее арестовали на второй день пребывания в стране. Ее заставляли назвать свое истинное имя, заговорить по-гречески. Она молчала, молчала целый год, пока шло следствие. Потом состоялся процесс. О том, как он проходил, мне рассказывал человек, присутствовавший в зале. Зизи не стала вдаваться в подробности, описывая этот день.
Прокурор произнес по-гречески: «Я требую для обвиняемой десять лет.»
И тут же к Зизи кинулись фотокорреспонденты: полиция надеялась, что фотография искаженного ужасом лица (они все-таки считали, что Зизи выдаст знание греческого) станет самым неопровержимым обвинением. Зизи, как говорится, и бровью не повела. Спросила переводчика: «Что он сказал?»
Ей дали полтора года тюрьмы плюс штраф.
Пол в мастерской Луизы Серник завален пестрым листопадом пестрого ватмана. Пол в потеках краски; ножи, кисти, куски линолеума обступают Зизи. Это повседневность искусства. Я сижу в углу, боюсь вступить в это таинство непонятного мне хаоса, а она свободно движется в этом нагромождении. — А что с Димитросом? — спрашиваю я.
— Его до полусмерти избили в тюрьме и принесли к жене умирать…
— А Георгис, а Альки?
— Кажется, им удалось бежать… Но Микис совсем плох, его пытают… И Эли в тюрьме, она уже полжизни в камере…
— А… Мемос? — наконец отважилась спросить я. — Ты что-нибудь о нем слышала? «Нет», — ответила она.
Мы перебирали всех друзей в Афинах, и выходило что-то вроде поверки на тюремном дворе. И каждая из нас думала о том, что такая же перекличка шла там, у вас.
Серия гравюр «Афинская тюрьма» тоже разложена на полу. Преодолевая боязнь нарушить гармонию этого беспорядка, я все-таки подхожу ближе: мне необходимо пройти через тюремные ворота внутрь, мне необходимо представить, как ты там.
Подхожу к стене, ограждающей каземат. На гравюре она из круговращения серых точек, монотонно следующих по замкнутым орбитам, как знаки безвыходности. Такие же знаки вместо лиц заключенных. Или круглые пятна вместо лиц.
— Там нет человека, нет лица, только номер и страдание, — говорит Луиза Серник.
Тени падают от фигур, тени переплетаются. От гравюры к гравюре тени меняют свое положение, фигуры — нет.
— Мне казалось, что мы неподвижны даже на тюремной прогулке, за нас перемещаются наши тени, то, что осталось от нас, — говорит Луиза. — Тенями управляет солнце, оно может упасть на камни двора, а может уйти за стену. Все остальное неподвижно — церковь, тюрьма, мы.
Но вот как столбик — фигурка ребенка. У него нет тени и есть лицо.
— Он родился в тюрьме и не знает другой жизни. Там многие сидят с детьми, — говорит Зизи.
Я брожу по серому тюремному двору, по монотонным орбитам точек на камне и на лицах. И вдруг что-то вспыхивает предо мной. Это дерево. Одинокое, странное тюремное дерево. Оно то зеленое, то желтое, то красное. И к нему тянутся женские фигуры, ибо оно символизирует жизнь.
— Что полиция могла поделать с деревом? У него свои законы соприкосновения со светом и сумерками, с весной и осенью. Оно могло принимать на свои ветки птиц, и те могли улетать через стену без пропусков. Какое можно вынести обвинение, чтобы приговорить дерево к покорности режиму? — спрашивает Зизи, а может, Луиза. Я не знаю, кто в этой женщине задает вопрос — художница или бывшая заключенная.
Дерево вспыхивает на цветных гравюрах. Луиза Серник прибавляет цвет к черно-белому репортажу своих гравюр.
Дерево, одинокое, странное тюремное дерево — то ли пальма в павлиньем оперенье, то ли мазок хохломской росписи — вспыхивает на листах. А я смотрю снова на монотонное вращение пятен, заменяющих людские лица. Неужели у них уже нет лиц — у Эли, Альки, Микиса, Димитроса, Мемоса. Твое — только страдания? Но я ведь вижу их в лицо. Как же могут стереться лица живых, даже искаженные страданием? Твое лицо, которое я знаю наизусть?
В общем-то, это старая и хрестоматийно известная история. Может быть, она началась с того, что Прометей, украв на Олимпе огонь, принес его людям. (Кстати, событие тоже греческое.) Опять-таки, как известно из хрестоматий, боги расправились с героем, пытавшимся уравнять их со смертными. Прометея приковали цепями к скале. Однако уже тогда акция богов была жестом бессилия: огонь, поселившийся не в тесном приюте очага — в человеческих душах, — дал истинное бессмертие людям. С тех пор все, мнящие себя богами в мрачных олимпах имперских канцелярий, президентских и королевских дворцов, мстят тем, кто обладает бессмертным даром. Нищенской фантазии божков за долгие столетия хватило только на усовершенствование цепей и скал для пыток. Фантазия Прометея дала миру поэмы, симфонии, полотна.
Прометеи, открывающие людям истину свободы, всегда были для бездарных божков последовательно врагами, обвиняемыми, заключенными. Но ни одному карателю не удалось казнить человеческий дух и творческую мысль. Даже физическим уничтожением их носителя.
Разве можно было взять под стражу высокий дух Томаса Мора, Габриэля Пэри или уничтожить стихотворный ритм в Назыме Хикмете, очистив его камеру от малейших обрывков бумаги?
— Пятно страдания вместо лица на гравюрах — вот твоя ошибка. Ты смогла бы так нарисовать автопортрет? — Я выжидательно смотрю ни Зизи.
— Но ведь я рисовала и тюремное дерево, с которым невозможно ничего поделать, — говорит она.
Я молчу; может быть, Луиза Серник понимала и раньше все, что я пытаюсь растолковать сейчас. Может быть, она только хотела, чтобы мы помнили и о страданиях, которые принимают на себя те, кто идет отстаивать истину. Чтобы, говоря об их мужестве, мы помнили и о страданиях. Но ведь главным героем гравюр было странное тюремное дерево. То зеленое, то красное — в монотонном вращении острожных точек, подвластное только своим законам цветения и увядания.
Сквозь ряды тюремных стен на гравюрах, мне кажется, я вошла в ограды концлагерей, где сейчас заключены наши друзья. Номер и пятно вместо лица. Для фашизма и великий поэт XX века Яннис Рицос — номер… Ибо таким образом фашизм пытается внушить самому себе иллюзию бесстрашия перед человеческой мыслью, перед свободным духом, перед творческим началом — главными своими врагами.
Но для мира люди в полосатых одеждах номеров — это новые стихи, это имена, становящиеся синонимом призыва к борьбе.
Их невозможно заковать в регламенты лагеря строгого режима. Как странное тюремное дерево».
Сейчас я вложу листки в конверт. Мне дали пятиминутное свидание с тобой. Но в тюрьмах обычно такие встречи разгорожены плотной сеткой. Через тесные ее ячейки я все всматриваюсь, хочу разглядеть твое лицо, но оно тает, разъятое на миллион точек, как на растре газетного клише. Я не могу дотронуться до него рукой. Но у меня есть ощущение, что я коснулась твоего душевного мира. И не ты у меня, я у тебя черпаю твердость.»
Июнь работал, как трудолюбивая пряха: мириадами тополиных веретен он прял лето, расточительно забивая очесами все закоулки бульвара. У бетонированной кромки пух вскипал девятым валом, и Бурик, нырнув в пышную пуховую гряду, сразу перестал быть жесткошерстным фокстерьером. Он превратился в пуделя. Или даже в болонку.
Видимо, внешняя трансформация повлияла и на собачий характер — без обычного наглого лая Бурик подошел к скамье и почтительно уставился на человека, сидевшего там.
Я увидела человека еще раньше, я обратила внимание на его позу — согнутый, спрятавший лицо в ладони, упиравшийся локтями в высоко поднятые колени. Высоко поднятые, потому что пространство между землей и сиденьем было мало для его длинных ног. Мне показалось, что на голове сидящего тюбетейка. Черная с белым крестом в центре.
Хотя собака стояла беззвучно, человек ощутил ее присутствие, поднял голову. Посмотрел на Бурика, на меня.
— Наконец-то, — сказал он.
— Что наконец-то?
— Наконец пришли. Я уже час вас жду. — В голосе Мемоса просачивалось нетерпеливое недовольство.
Странно, что я не узнала его сразу. Но, видимо, дело было не в том, что после знакомства в Босином кабинете я напрочь забыла о его существовании: завтра Кирюха сдавал геометрию устную, и ни о чем другом в доме не говорилось.
— Случилось что-нибудь непредвиденное?
Я села рядом.
— Ничего. Просто собаку надо было вывести час назад.
— Верно. Но это обязанность моего сына. Я ненавижу гулять с собакой.
— Но если парень занят, зачем же мучить пса? Тем более вам известно, что я торчу здесь.
— Я совершенно забыла, что каждый вечер вы сидите у меня под окнами. Извините. — Я отвечала покорно.
— Как это вы вдруг забыли? Двадцать лет подряд человек только то и делает, что сидит на бульваре и отсчитывает по фасаду ваше окно.
— Извините. Завтра у меня у сына геометрия устная. Он трусит, совсем заморочил мне голову. Тут про все забудешь.
Наконец Мемос расхохотался.
— Молодец, — сказал он. Он похвалил меня за то, что я приняла игру, а не стала допытываться, как это он вдруг очутился здесь. Теперь он мог спросить:
— Вы живете в этом доме?
— В этом.
Мемос наклонился к Бурику и погладил пух, облепивший пса. Никакой тюбетейки не было у него на голове. Это на черном бобрике волос белело крестообразное клеймо седины. Точно удар креста припечатался; я никогда не видела такого.
— Осторожнее, — предупредила я, — он только по форме болонка, а по содержанию — злобный фокс.
— И у него мертвая хватка? Все владельцы фокстерьеров горды их мертвой хваткой.
— Я не владелец. Но сын, правда, приобрел его за мертвую хватку. Тут на бульваре гуляет какой-то человек, он дает своему фокстерьеру поводок, и тот хватает его намертво. Человек крутит собаку над головой. Сыну очень хотелось гулять по бульвару, небрежно покручивая собаку над головой.
— Мне бы тоже очень хотелось, — сказал Мемос. — Это замечательно: идешь и крутишь собаку над головой.
— А вам некого крутить?
— Некого. У меня в жизни только раз была собака. В детстве, когда мы жили на улице Бубулинас. Пропойная была собака, всегда таскалась к соседскому кафе и вылакивала остатки вина из таза. — Он говорил, не поднимая головы, перебирая пальцами собачью шерсть.
— Эта предпочитает кофе. Когда мы забирали Бурика от прежних хозяев, там уже изнемогали от его сибаритских замашек, но, тем не менее, хозяйка и дочь напутствовали: «Он также любит кофе». Хозяин дома мрачно добавил: «Только очень мелкого помола». Видно, Бурик был у него уже в печенках.
— А вы и в детстве жили в этом доме? — Мемос кивнул в сторону моего двора.
— Нет. Это квартира мужа. Я жила на Арбате, вернее, в одном из арбатских переулков. Там гнездилась самая старая и тихая Москва, переулки будто специально созданы для детства. Взрослые уже не чувствуют их недосказанности. А в детстве недосказанное можно придумать.
Оторвавшись от Бурика, Мемос снизу вверх покосился на меня, выжидательно и недоуменно рассматривая. Мне показалось, что его несколько покоробила литературная нарочитость фразы о недосказанности переулков. Но он сказал:
— Пошли на Арбат?
— Это далеко. Почти половину бульварного кольца нужно пройти. И потом — собака. — Мне не пришло в голову, что Кирилл будет беспокоиться о том, куда я пропала. Я только представила, что Бурик начнет тянуть поводок, устремляясь под скамейки и к урнам, а это очень мешает идти.
— Ничего, пошли. — Мемос встал, разминая затекшее от сидения тело. — Пошли. И дойдем до перекрестка Арбата и улицы Бубулинас.
— Кто вам обещал, что они пересекутся? — Я сказала это, еще пытаясь протестовать против прогулки, но тоже встала и намотала поводок на руку.
— Ничего не известно. Вот ведь я пошел просто побродить по Москве, а вышел к вашему дому, и вы тут же вышли навстречу. Ничего не известно. Но думаю, они пересекутся: мы прекрасно поговорили о собаке.
Мы шли бульварами, и поздний июньский закат вбивал алый клин между обширными кронами деревьев, темневших по обе стороны дорожки. Закат реял на высоком небе, встречая день солнцестояния, закат гнал к нашим ногам раскаленные рыжие вихры тополиного пуха. Подчиняясь регламенту, далеко над деревьями задрожали, наливаясь светом, ненужные фонари, и сиреневые льдинки повисли в пекле зарева.
Мы все время говорили, но я не могу вспомнить ни слова из этого разговора. Впрочем, это и неважно. Разговор состоялся там, еще у моего дома. Мы прекрасно поговорили о собаке.
Я не помню, о чем мы говорили потом. Я только помню клин заката, вбитый в кроны, и льдинки фонарей дневного света, которые не таяли в этом пекле. И у меня теперь всегда болит сердце, когда на алом полотнище неба загораются фонари.
Через пролом в стене мы выбрались на тротуар. Неровно обитый край кладки выдавался острым углом, и я шепнул Георгису, который лез вторым: «Осторожней!» Но он, конечно, все равно зацепился за выступ плащом, навалился мне на спину.
Я выбросил руки вперед и уперся во что-то гладкое, теплое, вздрогнувшее от моего прикосновения.
Прямо на тротуаре стояла лошадь, впряженная в деревенскую телегу. Зрелище было почти фантастическое: в эту голодную зиму 1941/42 года живая лошадь на афинской улице уже стала идиллическим архаизмом.
Лошадь еще раз вздрогнула, не поднимая головы. Из-под полуопущенных век тяжелой синей каплей набухало сонное глазное яблоко. Возница, державший вожжи, тоже не шевельнулся. На телеге был свален какой-то груз, прикрытый брезентом.
Надо было торопиться — до комендантского часа оставалось минут сорок, — но я обошел телегу и откинул брезент: мне почему-то показалось, что там сложено оружие.
Телега была нагружена трупами.
Неестественно прямо вытянувшиеся и скорчившиеся, те, кто вчера были женщинами и мужчинами, лежали вповалку друг на друге, а поверх всех, раскинув руки, как в полете, или словно желая защитить тех, что под ним, — мальчик лет пяти-шести.
За полгода афинского оккупационного голода я уже привык к подобным зрелищам: ежедневно в городе умирало семьсот-восемьсот человек. И все-таки мне стало не по себе. Я задернул брезент, сказав через плечо Георгису:
— Растолкай возницу.
— Он мертвый, — сказал Георгис. Потом он поправил очки, точно желая удостовериться в сказанном, и прибавил: — Я знал этого человека, он жил на окраине. Это его лошадь. Он караулил ее по ночам, боялся, что ее заколят и съедят. Он нанялся в морг возить трупы.
— Ладно, надо расходиться, — сказал я. — До завтра. Пока.
Я перебежал на другую сторону, в ворота проходного двора. Там оглянулся: Георгис стоял неподвижно, глядя на мертвого возницу. Потом он погладил лошадиную морду и снова замер.
Я всегда беспокоился за Георгиса и немного гордился тем, что могу опекать его: как-никак, а еще недавно он был моим гимназическим учителем, преподавал мне классическую литературу. А сейчас я как старший подпольной группы (в группу входили он и я, по цепочке мы знали только еще одного человека, от которого получали приказы) отвечал за его безопасность. Георгис меньше всего подходил для нашей нынешней деятельности: его мечтательная сентиментальность, рассеянность делу не помогали.
— Георгис! — я крикнул шепотом, именно крикнул и именно шепотом. — Ну что ты замер? Уходи! — Он послушно закивал головой и побежал, путаясь в своих длинных ногах.
Я прикинул: до места явки, куда мне предстояло доставить пачку листовок, дворами минут тридцать ходу. До комендантского можно было не успеть. Я поднажал, но, когда посмотрел на часы, было уже без пяти восемь. Черт с ним, пойду улицей.
Я обогнул дом и нос к носу налетел на патруль: двое в форме греческой внутренней полиции. Третий шел шагах в двадцати сзади.
— Куда разбежался? — Патрульный уперся мне в грудь пятерней. — А ну подними руки!
Он стал ощупывать мои карманы, хлопать по ляжкам. Я понимал: сейчас — все, сейчас он ощупает пояс, вокруг которого под рубахой распиханы листовки.
И тогда подошел третий, старший группы. Подошел Апостолос Цудерос.
— Ну что ты тискаешь его, как девчонку на танцах? Откуда такие нежности? — Цудерос откинул руки патрульного и сам начал жестко и быстро шарить по моему телу. Он шарил, не отводя взгляда, своего дерзкого и веселого взгляда, который я знал так хорошо и столько лет любил.
Я вспомнил: гимназистки звали его иронично и жеманно: «Фиалочка». Правда, глаза у него были лиловые — я сроду таких глаз не встречал. Самый красивый мальчишка в гимназии. Когда мы подросли, мне стала льстить дружба с таким красавцем.
Цудерос нащупал пачку. На какое-то мгновение пальцы его запнулись, потом больно ущипнули мне кожу под ребром.
— Куда же ты торопишься, мой мальчик? — Он улыбнулся мне.
— Домой, — сказал я.
— И где же твой дом?
— Здесь, — я кивнул на дверь дома, у которого мы стояли.
— Здесь? — ласково переспросил Цудерос. (Мы жили с ним на расстоянии квартала друг от друга, мы всегда возвращались вместе домой.)
— Здесь, — упрямо повторил я, уже сам веря в истинность этого нелепого утверждения.
— Ну если так, беги, дорогой. Мама, вероятно, уже накрыла на стол. Что у вас к ужину сегодня? Пот-о-фэ-крутопо? Кстати, ты знаешь, чем отличается пот-о-фэ-крутопо от обыкновенного пот-о-фэ? Только тем, что в него добавляется заколерованная курица. Только и всего. Беги, беги, сынок. — Цудерос захохотал.
Мне ничего не оставалось, как войти в дом.
Я стоял в темном коридоре чужого дома, еще не понимая, что произошло, не веря в неожиданную свободу. Я даже не мог собраться с мыслями. Я думал только о Цудеросе.
Я видел: мы лежим, закопавшись в песок, и только наши головы торчат над желтой плоскостью пляжа. Головы без туловищ. Мы играем в мексиканскую революцию. Так закапывали каратели мятежных пеонов. И на афинском берегу торчат две головы мятежных пеонов. Возле моей — голова Апостолоса, голова пеона с лиловыми глазами.
И еще я видел: по гимназическому коридору идет Цудерос в форме ЭОН (это молодежная фашистская организация, возникшая у нас перед войной во время диктатуры Метаксаса). Синяя рубаха с белым галстуком, синяя пилотка. И глаза теперь не лиловые, а темно-синие.
Он подходит ко мне:
— Ты, видимо, считаешь, что тебе такая форма будет не к лицу?
(На днях директор гимназии потребовал от нас вступления в ЭОН.)
— Я считаю, что мне не к лицу будет такая дружба.
Он смеется:
— Дружбу не рвут меморандумами! Она проверяется делом.
…Значит, сегодня он делом проверял нашу дружбу? И я принял эту проверку?
В темноте за моей спиной послышалось какое-то шуршание. Я застыл.
— Кто тут? — спросил из темноты детский голос.
Я выхватил из кармана электрический фонарик и направил луч на голос.
Обмотанный бесформенным рваным тряпьем, в углу сидел крохотный мальчуган. Я сделал шаг в его сторону, но он истошно закричал:
— Нет, нет, не отдам! Она моя! Я сам нашел ее на помойке у Сарафисов. Они не нашли, а я нашел. — Он стал обеими руками что-то запихивать под себя.
— Да я не собираюсь у тебя ничего отбирать, — сказал я как можно более спокойнее.
Но он продолжал всхлипывать, правда, уже тише:
— Не отдам, она моя. Я ее спрятал. Теперь съем. Она моя.
— Да я и есть-то не хочу. Ты зря меня боишься. Если бы у меня была с собой еда, я бы сам тебе ее отдал.
Стоило мне заговорить про еду, как сразу начало сосать под ложечкой: постоянное чувство, про которое я забывал только в минуты напряжения или опасности.
Но он успокоился. Успокоился и сказал доверительно:
— Меня будут кормить. Я сам слышал. Мать с отцом говорили. Сказали: надо кормить меня и Cacy. А Никоса кормить ни к чему — он все равно умрет. Они сказали: мы как-нибудь, хоть этих двух спасти. Меня будут кормить и я не умру. И еще я лучше всех умею копать помойки. Я не умру?
— Не умрешь, — сказал я.
— А что такое умереть? — уже весело спросил он.
На улицу выходить было самоубийством. Но я вышел. Я не мог с ним оставаться.
«Сегодня, милый, я прошла первый квартал по пути к нашему перекрестку. Я решила так: нужно подойти поближе к тому времени, которое привязывает тебя к улице Бубулинас, а меня к Арбату. И там, вероятно, можно будет отыскать точку пересечения.
Но для нашего поколения начало жизни размечает не география, а история. Почему-то все мы начинаем вспоминать жизнь от рубежа войны. Для меня это конец детства, а для тебя уже почти юность. И хотя дом твой стоит на Бубулинас, он почти пуст. И ты, и сестра Мария, и младший брат Антонис уже сменили его на калейдоскоп подпольных ночевок.
Фашистская оккупация Греции была старше нашей на полтора месяца. Но роковым был тот же — 41-й. Немецкому вторжению в Грецию предшествовала война с Италией. Диктатура генерала Метаксаса, утвердившаяся в 36-м году и уповавшая на дружбу со странами оси, оказалась подмятой военной армадой «друзей». Правда, Италия не смогла противостоять народному греческому сопротивлению. Войска Муссолини были вышвырнуты в пределы Албании. Для Греции это была истинно народная война (Метаксас тут был ни при чем) — недаром этот период истории зовут Албанским эпосом.
Однако, как сказала, я ищу связи.
В первые же дни нападения Гитлера на Советский Союз подпольные рации Афин приняли голос Москвы: «Греки! Теперь и наша Родина испытывает те же ужасы войны, которые испытали и вы. Враг тот же, и его методы те же. В священной борьбе, которую мы и все свободолюбивые народы ведут против фашизма, ваш пример воодушевляет нас…»
Несмотря на то, что Греция была оккупирована, здесь нацистские войска встретили истинное сопротивление. 4 мая 1941 года Гитлер, выступая в Рейхстаге, должен был признать: «Среди врагов, которые противостояли нам, греческие солдаты сражались с наибольшей храбростью».
Некоторые историки утверждают, что греческое Сопротивление «спасло Москву от захвата гитлеровцами в октябре — ноябре 1941 г.».
Ты знаешь, Мемос, что спасло Москву. Мы не хотим умалять ничьей роли, но тогда мы выстояли один на один. И тем не менее чувство единения с вами, с вашим подвигом прибавляло нам сил.
Далее.
Греческое правительство, сотрудничавшее с Гитлером, устами квислинговца Годзаманиса требовало по примеру других сателлитов «объявить войну России».
Моя страна стала водоразделом, разъявшим твою. По ту сторону, что обращена к России, оказалась почти вся Греция. Когда оккупанты объявили мобилизацию, Греция ответила многотысячной демонстрацией протеста. Ни один греческий солдат не был отправлен на Восточный фронт.
Решающие события подмосковной осени стали определяющими и для страны на Балканах.
Тогда был создан ЭАМ — Национально-освободительный фронт.
От первого победного декабря под Москвой ведет свою летопись и рожденная в эти дни ЭАС — Народно-освободительная армия Греции.
В те дни, когда первый разгром обрушился на, казалось бы, безупречно действующий механизм вермахта, значительные немецкие оккупационные войска, находившиеся в Греции, были отправлены на Восточный фронт…
Мемос, дорогой! Я снова брожу по мерзлым московским улицам моего детства, по улицам Афин, где на тротуарах лежат трупы убитых голодом, я заглядываю в окна, пытаясь отыскать то тебя, то себя. Теперь, через столько лет, вдруг эти улицы приблизились друг к другу, и мне все кажется — еще квартал, еще поворот — и они пересекутся.
Но, как убегающие рельсы, они сходятся только подвластные перспективе. Иди, иди — и ты не дойдешь до точки реального пересечения…»
Я сидела в фотоотделе, разбирая снимки, привезенные из последней командировки, когда туда позвонил шеф и попросил меня к телефону:
— Ксения Александровна, поднимитесь, дорогая, в отдел. Наш друг господин Янидис уже здесь, и мы готовы к собеседованию.
Впрочем, готовность шефа к собеседованию на этом и исчерпалась: он встретил меня на лестничной площадке и зашептал жарко и проникновенно:
— Он там с Саней. В общем, по-моему, порядок. Он доволен. Тобой доволен, всем доволен. У него есть план действий.
— А ты куда? — Я уже подозревала куда.
— Ну не могу, — застонал Бося. — Пойми: хоровой коллектив клуба «Рассвет» принял к исполнению мой последний цикл романсов. Сегодня первая репетиция.
Легко неся от ступеньки к ступеньке свое большое овальное тело, Бося побежал вниз. Едва я взялась за ручку кабинета, как совершенно неожиданно обнаружила, что сердце у меня подпрыгнуло и провалилось. «Идиотка», — сказала я себе и вошла.
Как и при первом свидании, Мемос поднялся мне навстречу. Сердце выплыло из-под диафрагмы и застряло где-то под горлом.
Слава Богу, ни Мемос, ни Саня ничего не заметили. Мне казалось: я разговаривала довольно связно и даже пыталась вносить конструктивные предложения.
Но когда говорил Мемос, и я вынуждена была смотреть на него, я не очень следила за ходом его мысли. Я только рассматривала его лицо. Я видела шрам, рассекающий левую бровь и приподнимавший ее, отчего у него все время было какое-то ироническое выражение лица. Я видела, что у него ярко-зеленые глаза и думала: «Ему нужно носить не синюю рубаху, а цвета хаки». А в это время он говорил. Все-таки я поняла: теперь он поступил в Афинах работать на киностудию и задумал документальную картину. Кажется, она должна строиться так: автор, он же лирический герой фильма, сражается в отряде Сопротивления. В 45-м его бросают в концлагерь на двадцать лет. А в это время в мире продолжается жизнь. И он, отрезанный от жизни, связан с ней. Вроде, так.
— Итожим, — сказал Саня. Наш Саня любил порядок. — Первое: связь со студиями и киноархивами. Второе: знакомство с операторами, которые снимали интересующие вас события. Третье: отсмотр киноматериалов. Это все мы обеспечим.
Перед Саней лежали мелкие листочки бумаги, и каждую свою фразу Саня заносил на отдельный листок.
— Мы подписываем соглашение? — улыбнулся Мемос.
— Для памяти, — строго ответил Саня и пересчитал бумажки.
— А материалы, связанные с нашей страной, вас интересуют? — Я старалась участвовать в беседе.
Мемос как-то испытующе посмотрел на меня, пожевал нижнюю губу.
— Вы, видимо, не совсем меня поняли. В вашей стране за это время не произошло ни освободительных войн, ни революций. Смысл картины в том, что прерванная борьба моего героя продолжается в разных концах земли как ее логическое развитие. Это не региональный процесс, это единая земная история.
Он произносил слова раздельно и отчетливо, будто объяснял ученице азы. Но, может, от постоянно иронического выражения, припечатанного к его лицу, тон казался мне насмешливым. Вроде бы он понимал, что со мной происходит.
— Ясно. — Саня взял новую стопочку листков. — Съемки наших операторов во Вьетнаме, в Алжире, в «португальской» Гвинее… — Он все перечислял и записывал.
— Кофе? — в дверях возникла Лариса.
— Нет, — Янидис ласково улыбнулся. — Шампанского.
— Спиртные напитки держать в редакции запрещено, — Лариса адресовалась к Сане. — Объясните товарищу.
— Лариса, не врывайтесь. Тут совещание, — недовольно сказал Саня.
— Все поняла. — Я сделала голос посуше. — Я договорюсь на студиях и в архивах.
Сказать бы еще что-то значительное, пусть он не думает, что я не способна осмыслить его идею.
— Но если уж говорить о единстве процесса, надо проследить общие черты земного поколения — того, во вторую мировую, и сегодняшнего, в разных странах. И сопоставить их. — Кажется, в этом моем заявлении был некий смысл.
— Ксения, — Саня пресекающе затасовал листочки, — идеи — дело автора. Мы не должны навязывать свою концепцию. Хотя, если вас интересует лично мое мнение, могу сказать: исторические особенности каждой страны, так же как и социальные, воспитывают национальные поколения сугубо индивидуально. Так что идею общности нахожу искусственной. Это же отношу и к общности поколений предшествующего и нынешнего. Есть традиции, конечно. Но самосознание изменено ходом истории.
Для лаконичного Сани такая пространная речь — событие. Он, видимо, выговорил свой недельный запас. И, точно подчеркивая завершенность спича, подобрал локти и вытянулся над столом восклицательным знаком.
— Разве? — наивно вскинулся Мемос.
— Это лично мое мнение, — подвел черту Саня.
— И вы тоже думаете, что между мной и моим московским сверстником нет общности? — Теперь он смотрел на меня.
— Нет, не думаю. Я же сказала.
— Ну я же предполагал, что мы договоримся. Еще когда мы прекрасно поговорили о собаке.
— При чем тут собака? — Саня насторожился.
— При том, — сказала я. — При всем при том, при всем при том, при этом, — сказала я, и мы с Мемосом захохотали.
Здание вздрагивало от топота бежавших. Гул сотрясал лестницу за моей спиной, будто урчало в гигантской утробе какого-то зверя.
Я вбежал в комнату первым. Передо мной выросла фигура чиновника с зеленым от ужаса лицом. Над его столом висел типографский плакат, такой, какие были расклеены по городу. Приказ главы оккупационных войск генерала Шпейделя. Все последние дни мы сдирали эти плакаты с городских стен, я уже выучил написанное там наизусть: «Каждый житель Греции в возрасте от 16 до 45 лет обязан, если обстоятельства требуют того, состоять на немецкой или итальянской службе… Нарушитель… наказывается: а) неопределенным денежным штрафом; б) тюремным заключением; в) концлагерем с принудительным трудом… 19 февраля 1943 года». И сверху эпиграф — цитата из Геббельса: «Германский народ отдает войне свою кровь, пусть остальная Европа отдаст свой труд».
Отпихнув чиновника, я рванул лист.
— Осторожнее, прошу, — обиженно сказал чиновник.
Я захохотал: в этих условиях только и было, что заботиться о вежливости.
В этот момент толпа вломилась в комнату. Буквально через минуту там стало тесно, как на вокзальном перроне во время посадки. Меня оттиснули от чиновничьего стола и прижали к подоконнику. Я почувствовал, что стекло треснуло, выжатое моей спиной, но звук этот потонул в общем гвалте. Я попробовал упереться руками в оконный переплет, но створки легко поддались, и окно распахнулось.
Вся улица под окнами здания была заполнена народом — и прилегающие переулки тоже. Люди стояли, плотно прижатые друг к другу, отчего сверху были видны только бесконечные точки голов, точки, как на поверхности воды во время сильного дождя. И, будто под порывами ветра, это скопление точек мотало то вправо, то влево.
Меня оттер какой-то человек в разодранном от плеча пальто и высунулся по пояс на улицу. Он крикнул туда:
— Граждане! (точки голов метнулись к голосу). В этом здании спрятаны списки людей для «гражданской мобилизации», подписанные председателем Логофетопулосом. Сейчас мы обнаружим их и уничтожим. Граждане…
Он не договорил, потому что из соседних комнат ударила волна голосов: «Списки! Списки!» Все находившиеся тут рванулись дальше, в глубь здания. Человек тоже рванулся, пальто затрещало и разъехалось вдоль спины. Человек стащил оторванную половину, остался в одном рукаве, в одной поле. Секунду он растерянно вертел в руках вторую часть одеяния, потом обмотал вокруг поясницы и связал рукав с полой, как кушак. Бросился за бежавшими, я — за ним.
На дворе уже поднялись костры — жгли списки. Беспорядочные груды бумаги пламя обняло со всех сторон, а люди, обступившие огонь, все швыряли и швыряли новые стопки, бумага разлеталась. И, поднятые потоком горячего воздуха, над огнем парили белые стаи. Только в одном костре стопы были аккуратно уложены, как поленница в камине. У этого огня стояли двое мальчишек лет по шестнадцати. Каждый из них держал в руке бильярдный кий, — приставив один конец к ноге, а другой отведя на вытянутой руке, стояли точно средневековые алебардеры. Время от времени они киями помешивали огонь. И опять замирали. Карманы одного из мальчуганов были чем-то набиты, и штанины кругло топорщились, как галифе.
Дурачки, для них еще и такие дела оставались игрой.
Огонь тискал пачки. Но, плотно слежавшиеся, они горели неважно. Вдруг мальчишка, тот, с оттопыренными штанинами, выхватил из кармана бильярдный шар, запустил в сердцевину костра, пачка распалась, и огонь взметнулся, как от взрыва.
Теперь горело споро. Но белый шар из слоновой кости, омываемый огнем, оставался чист и нетронут. Он глядел на меня цифрой «3».
Вчера английская радиостанция передала: над Европой повис чад нацистских крематориев. Я принимал по рации последние известия. Я принимал и видел: люди, тысячи людей входят в печи. Я видел: они входят туда живыми. Обнаженные люди с синим клеймом — номером концлагеря.
В пламени костра светился белый шар с цифрой «3». Неподвластный огню, как голова святого.
Я смотрел на белую неуязвимую голову бильярдного шара, запеленутую в огонь, и думал о гитлеровских душегубках.
Мальчишка вынул из кармана еще шар.
— Прекрати, черт тебя возьми! — заорал я. — Нашел развлечение!
Он застыл с шаром в руке и недоуменно вытаращился на меня. Но я должен был разогнать гнетущее чувство хоть этим срывом.
— Где вы кии сперли?
Тут мне кто-то положил на плечо руку:
— Ты что свирепствуешь?
Это подошел Георгис. Он улыбался, очки его были подняты на лоб, а в руке он держал лист бумаги, очередной лист из очередной пачки.
— Нашли игры… — буркнул я и посмотрел на листок.
Он сразу смутился, начал пихать бумажку в карман. Сейчас мы поменялись ролями: с такой же смущенной мордой я совал в парту Поля де Крюи, когда на уроке Георгис заставал меня за чтением.
— Что ты там прячешь?
— Понимаешь, — Георгис снова вынул листок и расправил, — вот: Еврипиди Альки, двадцать два года, адрес. Значит, она жива. Странно, так приятно просто читать: Еврипиди Альки, двадцать два года.
— Кто это — Еврипиди Альки, двадцать два года?
— Одна девушка. Учительница. — Он, низко наклонившись к листку, близоруко поводил длинным своим носом по строчкам, засмеялся. — И сестра — Еврипиди Ирина, двадцать четыре года.
— Значит, двойной от борта? — спросил его мальчишка. — С победой, маэстро! Партия — ваша! — Он торжественно преподнес Георгису шар.
Георгис взял из его рук кий и спокойно, точно осуществляя заранее продуманную операцию, поставил шар на землю и, орудуя кием наподобие клюшки для гольфа, залихватски и сильно вогнал шар в самое пекло.
— Благодарю вас, — галантно сказал он парню и, не прощаясь, ушел. Только подмигнул.
А я должен был остаться. Я должен был видеть своими глазами, что эти списки сгорели. Ведь это нашей подпольной организации было поручено узнать, где они хранятся, и направить демонстрантов к зданию. Мы узнали. И мы направили. Так что я должен был увидеть, что эти чертовы списки сгорели все до единого.
«Все-то он выучился измерять, наш многоопытный век. Как самонадеянный первокурсник, презревший школярские клеточки таблицы умножения и метрических систем, он попытался втиснуть бытие в координаты новых школ. Он для всего пытается создать эталоны измерения. Даже познанию он нашел отсчет: единицу информации. И не хочет признаться, бедняга, что беспомощен. Временам никогда не изобрести мер наполнения любви. Чем отсчитывать ее — днями? Годами? Событиями? Но любовь может обезглавить исторические катаклизмы и возвести на трон вечности мимолетность.
Все было в моей любви к тебе, Мемос, мой Мемос, многое просто невозможно перечислить. И почти ничего не было. Это преследует меня всякий раз, когда думаю о наших днях. Я разучилась даже просто читать. Вот так, открыть книжку и читать. Я все время соизмеряю: вот у героев было то-то и то-то. А у нас не было.
Сегодня целый день твержу строчки:
Целый день твержу. И целый день думаю: и этого у нас не было. Я не могла взять тебя за руку и ввести в прохладное обиталище пастернаковской строфы, мы не могли ощутить за спиной скифский цокот погони блоковских ямбов. Ты не мог разделить со мной звучания Янниса Рицоса. Одно из самых больших лишений в любви — лишение сопереживания.
Целый день думала об этом, а сейчас вдруг запнулась на самом бескомпромиссном смысле строк. О том, что старость (да и зрелость тоже) уже не терпят декламации и прозы.
Но мы странное поколение. От нас и юность требовала полной гибели, всерьез, даже когда возрастное легкомыслие отстаивало право на игру.
Может, оттого и любовь наша не похожа на любовь прошлых веков. Она исполосована, нашпигована Историей. Собственной и мировой. Мы в капкане у Истории. Но теперь, с тобой, я узнала: и загнанная туда, наша любовь не становится прирученной или умаленной. Похоже, в ней возникают особые черты и величины. Господи, о чем я философствую! Господи, как я люблю тебя! Как мне невыносимо! Наверное, я просто ищу спасения в чем угодно — в работе, в этих письмах, в попытках что-то осмыслить. А на самом деле все просто, как свечка: нет мне жизни, нет мне жизни, нет мне жизни…»
Колокола буквально надрывались. Они гремели над Афинами, но я все время различал в этом исступленном хоре голос колокола Кафедрального собора. Может, мне только казалось, что я слышу этот басовый стон отдельно от других, но мне казалось так.
Так же мне показалось утром, что я слышал голос Антониса, когда к стрельбищу Кесарьяни проезжали грузовики. Немцы везли на расстрел двести заложников, и ребята пели свою последнюю песню, чтобы их слышал город. Мне еще три дня назад сказали, что Антонис арестован и находится среди заложников.
Мать ничего не знала. Она ничего не знала ни об Антонисе, ни о Марии, ни обо мне.
Сейчас она уже стояла у окна за спущенными жалюзи и ждала. Она ждала, потому что над Афинами надрывались колокола.
У нас была договоренность: после каждого события в городе — демонстрации, облав, расстрелов мы — брат, сестра и я — должны были пройти мимо нашего дома. Мы проходили по другой стороне улицы, а мать из-за спущенных жалюзи следила, когда мы все пройдем мимо. Так она узнавала во все годы оккупации, живы ли мы.
Я знал: сейчас она уже стояла у окна, хотя грузовики еще не вернулись со стрельбища.
По всем кромкам тротуаров торчала плотная стена людей. Они стояли с утра, с тех пор, как грузовики шли к Кесарьяни, и так и не тронулись с места. Я тоже стоял и смотрел то на мостовую, то в даль улицы, откуда должны были вернуться машины. Кто-то сказал рядом со мной:
— Ладно, нечего глазеть, расходитесь, — совсем рядом сказал, и я увидел Цудероса.
Мы не виделись почти всю войну, но до меня часто доходили слухи, что он стал крупной шишкой в «охранных батальонах».
— Ты здесь? — Я спросил так, будто мы расстались час назад. — Зря ошиваешься по улицам. Я думал, ты на Кесарьяни. У тебя же там тьма работы: немцам уже трудно управляться без помощи твоих бандитов.
— Но ведь и ты здесь, — Цудерос рассмеялся почти беззаботно, — а ведь тоже мог быть на Кесарьяни. Я думал, ты там, у стенки. Или, по крайней мере, в Хайдари.
— Решил оставить это место для тебя, — сказал я. — Ничего, скоро встанешь.
Цудерос посмотрел мне в глаза пронзительно и даже весело, как он умел смотреть в критической ситуации.
— Не злоупотребляй галантностью: твое место за тобой, я не претендую на него. Тем более что излишняя галантность не менее опасна, чем излишняя политическая близорукость.
— Не знаю, — я тоже попытался ухмыльнуться, — по-моему, каждый и без очков видит, что вам и немцам крышка. Так что я на твоем месте облюбовал бы в каком-нибудь концлагере камеру поуютней, пока это в твоей власти.
— Одна бригада в Александрии тоже так думала. Однако, — он щелкнул пальцами, — где эта наивная бригада? В концлагере. И не в немецком, а в английском. Так что забеги к окулисту, пока еще бегаешь по городу.
Цудерос отвернулся, будто заскучал от никчемной беседы, и стал что-то насвистывать. Кажется, из Моцарта. Потом сказал:
— Ну, пока… И не надрывай сердца беспокойством о моей судьбе. Меня сама фамилия прикроет. — Цудерос намекал на то, что был однофамильцем премьера эмигрантского правительства.
Он отступил на шаг назад, и толпа замкнула разъявшееся пространство.
Пожалуй, еще никогда мне не было так худо. Ни в те голодные зимние дни, когда мы подбирали на улицах мертвецов, а лица у них были похожи на выветренные горные породы; ни в ночи облав, когда утром недосчитывались кого-то из своих; ни в те месяцы, когда я ничего не знал о матери и близких. Никогда. Никогда ощущение полной безысходности и почти бессмысленности всех наших усилий не подступало так близко, не высасывало так сердце.
Господи, это ведь не 42-й, не 42-й. Сегодня 1 мая 44-го года. Почти вся страна под контролем ЭЛАС. Еще немного — и немцев уже не будет в Афинах! А наших, четыреста человек наших (кроме заложников, они отвезли в Кесарьяни еще двести коммунистов, заключенных лагеря Хайдари) ведут на расстрел, там где-то Антонис, а Цудерос толкует мне о политической близорукости как ни в чем не бывало.
Мне было худо, но я не знал, что предстоит более тяжкое.
В конце улицы появился грузовик, головной в эшелоне, и толпа дрогнула вправо.
Грузовики шли по мостовой, оставляя за собой алый след — из кузова капала кровь.
Грузовики шли мимо, но теперь никаких песен не было слышно. Только колокола ревели и бились над городом. Но я уже не различал голос колокола с кафедрала. Кровь пятнала мостовую, и люди бросали с тротуара цветы на эти алые пятна. Майские цветы папарунас ложились в кровь и рядом, и вся мостовая уже была сплошь красной.
Майское цветы папарунас — черт его знает, как это по-английски, я забыл.
Я прошел мимо нашего дома, одно окно было зашторено.
В том месте, где стоял наш дом, улица вроде бы обрывалась вниз. Он один был одноэтажный, по бокам — высокие корпуса. Фасад дома был лохматый от дикого винограда, как зеленая козья шкура. Виноград достигал верхнего уровня окон. Осенью это была красная шкура. Сейчас — зеленая. Только один побег красный. Он ушел вперед от других, и казалось: кто-то с окровавленными ладонями полз по стене, и остались следы.
Осенью дворик остро пах уксусом — там у нас была самодельная давильня: сестра матери привозила из деревни виноград, и мы делали домашнее вино.
Я втянул воздух и ощутил острый винный запах, хотя, конечно, сейчас, в мае, ему неоткуда было взяться.
На одном окне были опущены желтоватые жалюзи. Я физически ощутил присутствие матери за плотными линейками. Я дошел до угла и остановился. Зашел в подъезд. Никто больше не прошел по улице — ни Мария, ни Антонис. Я все смотрел и смотрел на окно, чувствуя, как мать стоит там, вцепившись руками в подоконник. Потом пошел обратно и прямо против нашего дома столкнулся с Марией. Мы кивнули друг другу и разошлись. Я вернулся в подъезд.
Становилось темно, но я стоял не шевелясь, подпирая плечом дверной косяк. Я знал, что она тоже стоит там и будет стоять, пока не пройдет Антонис.
И вдруг в окне вспыхнул свет, и за линейками жалюзи я увидел силуэт матери — с нечеткими очертаниями, похожий на фигурку, сложенную из палочек детского конструктора. Почему она зажгла свет? Почему была так неосторожна? Наверное, не выдержали нервы.
Антонис все не проходил.
Я решил еще раз миновать окно. Или даже войти в дом, хотя правила конспирации это категорически запрещали. Но я знал, как мучается мать, не увидев Антониса. Чем-то я должен был помочь ей.
Улица была уже пустынной. Вдруг я услышал шаги. Шаги и свист.
Я сразу узнал его. Цудерос, не спеша, шел по другой стороне улицы, там, где всегда проходили мы трое — Мария, Антонис и я. И мать видела нас.
Цудерос насвистывал что-то из Моцарта. Кажется, тему соль-минорной симфонии.
Комната у Влада была большая — метров двадцать пять, и вся белая: белые стены, белый потолок. На высоте человеческого роста ее опоясывала деревянная струганная полка, сплошь уставленная керосиновыми лампами: Влад уверял, что их там больше полусотни. Редакции было известно его странное хобби, и, возвращаясь из дальних командировок, все ребята волокли ему эти отсветившие свое провинциальные «люстры».
Влад, наш «русский умелец», сам выстругал лавки прилепившиеся к стенам, длинный, как для Тайной вечери, стол. Единственным несамодельным предметом обстановки было тут старинное кресло на качающихся пружинах, но и его Влад собственноручно обил синим материалом.
Я помнила эту комнату еще обычной, населенной заурядными сервантами и диванами с валиками, похожими на дремлющих поросят. Я помнила обои в красных капустных листьях, помнила мать и отца Влада, его сестру.
Когда родители умерли, а сестра вышла замуж, Влад, теперь единственный квартиросъемщик, раздал обстановку соседям, содрал обои и оборудовал комнату на свой лад. Так как книжный шкаф тоже перешел к кому-то из жильцов, книги занимали обширное пространство пола — корешками к потолку; Влад свободно ориентировался в этой таинственной дислокации.
Я видела: Генка разочарован. Он надеялся потрясти Мемоса необычностью обстановки, поэтому предложил провести вечер в комнате Влада, а не у меня или у себя. Генка вообще любил эффекты, но в его «странных пристрастиях» всегда ощущалась нарочитость, которую Саня, человек ясный и без затей, никак не принимал. А во Владе он нарочитости не ощущал. Владу так нравилось.
Для себя нравилось, а не для зрителей. Саня это понимал.
— Да. — Генка был разочарован.
Мемос походил по комнате, сел на лавку и сказал:
— У тебя хорошо.
Влад спокойно подтвердил:
— Да, у меня хорошо.
Он поставил на стол бутылку вина, колбасу и сыр на глиняной тарелке, хлеб.
— Поедим или сначала послушаем музыку? — спросил он.
— Мы совместим. Мы будем, как патриции. Хочу быть патрицием. — Генка лег на бок, подперев голову рукой. — Пусть льется вино, и льются звуки. Возлежим, наслаждаясь искусством. Ты, как единственная женщина, можешь изобразить гетеру, — сказал он мне.
— Не совместим, — отрезал Влад, — или есть, или слушать.
Мемос пошел вдоль полки с лампами. Одну, медную и непримечательную на вид, он снял и начал придирчиво разглядывать.
— Давай послушаем музыку, — предложил он.
Влад подошел к нему и погладил лампу.
— Настоящую заметил. Это моя королева.
— Королева в изгнании, наряд уже сносился, приходится прикрывать срам свитком родословной, — засмеялся Генка, но Влад огрызнулся:
— Ты молчи! Если твои представления о ламповой родословной уткнулись в электрическую лампочку «миньон», ты уж молчи.
— Какая у тебя музыка? — спросил Мемос.
— Я хочу вам поставить грегорианские хоралы. — Влад наклонился над проигрывателем.
Сначала комнату сковала тишина, какая всегда наступает за минуту до начала музыки, напряженное молчание ожидания. Потом тишину разомкнуло вдруг вырвавшееся вверх песнопение.
Мемос снял с лампы стекло, чиркнул зажигалкой и поставил горящий светильник на полку. Потом он выключил электричество.
В темноте, рассеченной плоским, прижавшимся к стене пластом света, колебались древние хоралы. Казалось, в этой темноте для звуков открыто только узкое русло и оттого музыка не может выйти из отведенных для нее тесных мелодических берегов. В мнимом однообразии мелодии хор был и просительным, и требовательным, в нем была и почти бытовая простота повествования: разговор, в котором человек и Бог на равных.
Горлышко лампы, из которого тек свет, оставляло на потолке белую круглую луну. Я сидела в углу, в кресле, а пружины беззвучно подавали мое тело вслед за движением хорала, навстречу луне. Мемос сидел по диагонали от меня, но через всю комнату, через полумрак мне было видно, что он смотрит на меня, смотрит неподвижно и неотрывно. И это мешало слушать. Я старалась отвернуться к топчану, где замерло газелье тело Генки и где нагромождением теней вырисовывалась коренастая фигура Влада в бесформенном свитере с «головой, как стог во дворе». Так говорил про него Генка, цитируя Киплинга.
Я не хотела, но я переводила глаза в противоположный угол и видела, как смотрит на меня Мемос. Видела только этот взгляд, не глаза его, а именно взгляд, и не могла ничего уже расслышать.
Потом движение голосов снова начинало раскачивать подо мной пружины кресла, и с каждым взлетом мелодии у меня холодело где-то там внутри, в самой сердцевине, как холодеет от необоримого страха.
Когда кончилась вторая сторона пластинки, Влад сказал:
— Вот таким путем. Между прочим, двенадцатый век.
Генка откликнулся:
— Ты хочешь сказать — смотрите, а они тоже кое-что понимали про человеческие чувства?
— Да, — медленно произнес Мемос. — Почему-то всегда, когда люди слушают старинную музыку или смотрят античную трагедию, они говорят: странно, как это похоже на наши страсти. Оказывается, тогда уже знали это. И никогда не думают о том, что наш усовершенствованный мир успел многое растерять из того, что было доступно тем, не поднимавшимся на высоты новых цивилизаций.
Генка намеренно громко захохотал:
— Что это мы растеряли? Религиозный дурман? Это ты брось! Мы не допустим, чтобы нас втянули в болото мистицизма.
— Заткнись! — зло кинул ему Влад: его всегда раздражало, когда Генка начинал балаганить.
— Нет, — так же медленно сказал Мемос, — не религиозный дурман, а монолитность чувствований. Чистую догматику чувства. Догматика тоже бывает прекрасной.
У меня снова все похолодело внутри. Потому что мне показалось — он говорит сейчас не о музыке, а о чем-то, имеющем отношение только к нам — к нему и ко мне.
Но сейчас Мемос смотрел на Генку, а не на меня.
— Хотите Моцарта? — спросил Влад. — У меня есть Бруно Вальтер. Симфония C-moll.
И грянул Моцарт. Грянул всеми колоколами света. И как только взорвались эти первые аккорды, Мемос встал.
Он шел вдоль стены, зажигая лампу за лампой, будто звуки вздували один за другим огни, наполнившие комнату и мир.
— Света, больше света, как требовал господин Гёте. — Генка вскочил на топчане, но, покосившись на Влада, боязливо и смиренно лег опять.
Моцарт ликовал всеми огнями ламп, луны на потолке слились в единое светлое зарево. Свет ликовал. Горели все. Пятьдесят.
«Помнишь, милый, как они горели? Все пятьдесят. Помнишь, как гремел Моцарт? О чем ты думал тогда: о том, что Моцарта насвистывал и Цудерос?
Что ж, руководитель «гитлерюгенд», любимец фюрера фон Ширах писал стихи. Палач из афинской асфалии Ламбру известен как знаток Гегеля. А Курт Кристман, начальник зондеркоманды СС 10-а, руководивший массовыми казнями в Краснодаре, хвастался: «Я выходец из Зальцбурга, города, где родился Моцарт. Это кое-что значит».
Что — кое-что? Да ровным счетом ничего, кроме того, что пристрастия в литературе или музыке вовсе не выдают нравственных индульгенций. Никому. Ни нам, ни им. И Моцарт, гремевший в комнате Влада, вовсе не знаменовал нашу всеобщую праведность. Он принадлежал миру, он был безучастен к тому, что кто-то объявит себя его земляком.
Ты думал об этом, когда горели все пятьдесят? Нет, нет, я не хочу, чтобы ты думал о чем угодно, кроме меня. Я ведь видела, как ты смотрел на меня. Я видела только твой взгляд, и что-то внутри меня холодело от необратимого страха.
Тот Моцарт принадлежал только нам двоим.
Когда музыка стихла, ты сказал: «Жаль, что я никогда не был в Зальцбурге».
Теперь ты побывал там, дорогой. Я ведь взяла тебя с собой, когда недавно ездила в Австрию. Я беру тебя с собой всюду, где тебе может быть интересно. Я не умею расставаться с тобой ни на минуту. И, конечно, мне захотелось пройти вместе с тобой по набережной Зальцах — реки, засыпанной медной октябрьской кленовой листвой.
Сейчас я снова иду рядом с тобой, как хожу по десяткам городов, там, где когда-то мне было хорошо. Мы идем, а школьницы в широких пелеринах и матери, везущие в колясках детей, движутся нам навстречу. Шины колясок шелестят в сухой листве, деликатно, как страницы книг в зале публичной библиотеки. А колокола передают от колокольни к колокольне свою звонкую эстафету.
И в ту же минуту я ощутила, как зябкая изморозь поползла у меня по спине: вдруг я услышала и колокола Афин, под стон которых ложились на мостовую майские цветы папарунас, и ликование света соль-минорной симфонии, воспламеняемое все растягивающейся шеренгой ламп на стене Владовой комнаты. Я испытывала почти мистический ужас от голосов, слитых воедино и так непредвиденно и, наверное, неоправданно. И страх так и не отпустил меня, когда я шла с тобой по Зальцбургу.
Снова грянули колокола собора на Домпляц. Нет, звон шел не с барочных высот университетской церкви, глядевшейся в окошко прокопченной средневековой кухни. Но казалось, этот звон рядом и эхо его сейчас начнет аукаться в медных утробах ковшей и чанов. Я уверена, это медное «тутти» окликало по утрам Вольфганга, и он слышал, как переговаривались колокольни и домашняя утварь. Он слышал всегда и все. И не мог не прийти на память тот, другой, титан. Я снова увидела тесное окошко бетховенского домика в Вене, из которого глухой музыкант следил за стрелками часов на ближней колокольне, исступленно ожидая: вот сейчас он услышит бой… Стрелки подползали беззвучно. Все звуки были заперты навсегда в нем самом.
А Моцарт видел стрелки университетской башни и слышал, как они высекали бой.
И весь Зальцбург два столетия звенит и звенит для каждого созвучиями, в которые Моцарт сложил голоса жизни. И колокола собора на Домпляц грянули сейчас литаврами симфонии «Юпитер» — мажорным торжеством финала, за которым все начала.
Теперь Зальцбург весь пронизан его именем, и слава маленького австрийского городка в предгорьях Альп написана на домах и уличных табличках: «Моцартеум», «Дом семьи Моцарта», «Дом, где родился Моцарт», «Памятник Моцарту», «Фестиваль-холл», где проводятся ежегодные моцартовские фестивали. И еще и еще. И еще «Домик «Волшебной флейты».
Крошечный черный сарайчик, крытый дранкой, похожей на черную черепицу, помахивал кисейными флажками занавесок. На подоконниках буйствовала герань. Когда-то домик стоял возле Венского оперного театра, и там Моцарт сочинял свою последнюю оперу. Он писал ее безнадежно больной, усталый и несчастный, хотя еще не знал, что умрет спустя десять недель после премьеры. Гений, похороненный в общей могиле для бедняков, вступал в эту могилу щедрым другом и филантропом. «Волшебная флейта» писалась безвозмездно. Вольфганг выручал из беды своего приятеля Шиканера, прогоревшего театрального антрепренера, автора либретто «Флейты».
Летом, когда открыты окна, из них на тротуар сыпется бисерный дождь моцартовских пассажей, Домпляц превращается в концертный зал. Зальцбургское небо — неверный свод для такого зала, оно то и дело опускает скучные дожди на площадь, и тогда сотни зонтиков прикрывают музыкантов, слушателей и музыку. Моцартовскую музыку, в которой солнце всегда расшвыривает облака. Нет музыки, которая вмещала бы для меня больше жизнеутверждения, чем его. Я знаю, что всегда могу призвать на помощь земной юмор Лепорелло и Папагено. Я могу поверить в то, что жизнь не конечна, как не конечен круговорот ее света в кольце моцартовского рондо. Но, пожалуй, самой солнечной оставалась для меня соль-минорная симфония. И мне хотелось увидеть ее. Сейчас я видела эту музыку.
Солнце подпалило город и горы. Там, вдалеке, пологие склоны Альп были утыканы, как именинный пирог, свечками стволов с язычками золотого пламени крон. Бронзовые вязы вдоль набережной сыпали на тротуары звонкий металл листвы со своих ширококронных наковален. Старинный город был коронован венцом средневековой архиепископской крепости, обведенной золотым ободком леса. Пики колоколен в багряных гроздьях плюща гремели воскресными колоколами, и казалось, воды Зальцах-реки подгоняемы этим звоном. Солнце не вмещалось в тесные улицы и пировало над городом и миром. Как в симфонии C-moll.
Каждый хоть однажды переживал это чувство личной причастности к чужой жизни, держа в руках рукопись великого человека. Можно «тронуть почерк, как тронуть руку». Хотя, в общем, не всегда в рукописи запечатлен ее автор. Моцартовские сочинения и письма — наиболее точный его портрет. Беззаботно прыгающие по нотным линейкам аккорды черновиков экзаменационной работы в Болонской филармонической академии похожи на повзрослевшие клавиры поздних сочинений. В них та же неудержимость «легкого» пения, беспрепятственность движения. Это ощущение легкости и вседоступности не снимается даже строчкам письма: «Милая мама, я не могу тебе много писать, потому что у меня очень болят пальцы от писания речитативов». Даже зная его сложную жизнь, думаешь о том, что этому человеку все должно было быть просто. Просто, как записать на слух знаменитое «miserere» Аллегри в Сикстинской капелле. Как разом порвать с тиранией архиепископа, сделавшего гения слугой. Чтобы выковать солнце для людей, самому нужно быть вечно солнечным. Я снова думала об этом в моцартовском домике, застигнутая колоколами собора на Домпляц. Сюда, к моцартовском истокам, мне захотелось прийти в последнюю очередь. Он смотрел на меня с портрета — беспечный мальчик, замурованный в золото придворного мундира. Такой, каким увидел его четырнадцатилетний Гёте. И все предметы вокруг — концертный рояль, клавикорды и крохотная скрипка, — казалось, были вместилищами этой же легкой радости. Особенно скрипочка. Это на ней семилетний Вольфганг просил разрешения дублировать второго скрипача в трио. «Только так, чтобы тебя почти не было слышно», — сказал отец. «А через пять минут, — писал друг семьи, музыковед Шахтнер, — я, отложив мою скрипку, слушал мальчика и смотрел на отца, чье лицо было влажным от слез восхищения».
И родственная моцартианской солнечная гениальность Пушкина продиктовала ему единственно точные слова: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь…»
Я прошла последнюю комнату. Низкая, почти пустая, она не задерживала взгляда. И вдруг на стене я увидела лицо. Выступающее из темноты недописанного портрета лицо Моцарта. Последний прижизненный портрет, написанный за два года до смерти родственником Вольфганга — Иозефом Ланге.
Безысходно печальный, всевидящий и всепонимающий. Моцарт склонял голову в ту обступившую его темноту, в заклинания Реквиема. Наверное, так он услышал трубу, возвещающую о том, что покачнулись жизнь и смерть, что открылась Книга судеб. Это лицо не скрывало всех страданий. Но потом… потом люди услышали даже в Реквиеме светлый лиризм. И поняли, как я сейчас, что суть гениальности не в том, чтобы щедро и легко раздавать заключенную в тебе радость. Если радость и солнце отданы миру ценой своих страданий, тогда ты Бог, хоть сам того не знаешь.
Мы вернулись, мой любимый, из Зальцбурга, города солнечной скорби. И мы можем говорить о нем, и о колоколах, и об искуплении страданием. О чем угодно. У нас много времени».
«Кирилл — ангел с душой дьявола». Вот заразы девчонки: неделя, как отполирована кабина лифта, а уже нацарапали. Хоть бы писали обыкновенные записки и бросали их в почтовый ящик.
Мы с Генкой ехали ко мне домой, на шестой этаж. Нам предстояло завтра сдавать совместный репортаж с международного симпозиума «Наука и современное общество».
Ключи я забыла. Они остались на телевизоре, теперь-то я вспомнила: лежат там, в двадцати сантиметрах от двери, но по ту ее сторону.
Я вызванивала позывные дверным звонком, хотя прекрасно знала: Кирюха в школе — на консультации по литературе.
Дерматиновая обивка, разрезанная кем-то уже полгода назад, пучилась диагонально через плоскость двери, вата лезла из прореза, как пена из-под крышки с кипящим супом. «Плохо в доме без мужика, вот крышу залатать некому, забор на огороде починить…» — подумала я и запихнула вату под дерматин. Пойду к Кирке в школу за ключами. Погуляй, — сказала я Генке.
Консультация кончилась, ребята стайками роились на этажах.
Кирилл обнял меня за плечи и повел — так, в обнимку, по коридору.
— Слушай, неудобно, что за публичные ласки? — Меня всегда удивляли Кирюхины проявления — на мой взгляд, в этом возрасте ребята должны стесняться родителей.
— Пусть знают все. Пусть не думают, что я круглый сирота. Им же невдомек, что у меня есть матушка. Если не ошибаюсь, за восемь лет моего обучения это третье материнское посещение. Из них два — в связи с забытыми ключами. — Кирилл притиснул меня к своему боку.
Правда. Мамаша у Кирилла не того. Даже на родительские собрания не ходит. А что ходить — с отметками и прочим у него порядок. Про все необходимое он мне рассказывает, с ребятами его дружу. Что ходить?
— Троицкий! Вы, кажется, перепутали школу с танцплощадкой? — Перед нами выросла тяжеловесная фигура Людмилы Петровны, литераторши.
Я ее в глаза не видела, но узнала сразу по Киркиным описаниям.
— Это мама, — представил меня Кирилл. — Классическая русская литература учит нас любви к матерям. «Великое, святое слово — мать». Некрасов Н. А.
— Извините, — я сбросила Киркину руку с плеча, — действительно, неприлично.
— Извините, я не поняла, — сказала и Людмила Петровна. — Но в нем есть эта разболтанность. Я давно хотела с вами поговорить. Юноша накануне жизненного пути, а разболтан.
«Плохо дело с обучением русскому языку, — подумала я. — «Накануне жизненного пути». Вслух сказала:
— Да, я виновата. Но, знаете, то командировки, то работа до ночи. Но я зайду, непременно.
— Зайдите. Нужно сделать наказы. Юноша уходит в большую жизнь… Клочков! Вы что, перепутали школу с парком культуры? — Не прощаясь, Людмила Петровна двинулась к группке ребят, где Сева Клочков рвал «Girl» на воображаемой гитаре.
— Никто тебя за мамашу не держит. Никакой внушительности. Ну ладно. Салют! Со лонг. Пока. Арриведерчи. — Кирилл поцеловал меня в щеку и ринулся к Севе.
Напротив школьных ворот сутулился старинный особняк. Облупленные колонны его портика были забраны в леса — уже год, как особняк подлежал реставрации в качестве памятника архитектуры. Лепные амуры фриза вонзали покалеченные стрелы в некогда розовую штукатурку, время от времени посыпая прохожих ее бледными чешуйками.
В тесовой клетке, сжимавшей портик, всегда торчали мальчишки-старшеклассники: там было принято поджидать девочек.
И сейчас там тоже стоял юноша. Там стоял Мемос. Он спросил, когда я поравнялась с клеткой:
— У вас уже кончились уроки?
— Да. Должно было быть комсомольское собрание, но комсорга вызвали в райком.
— Прекрасно. Я как чувствовал: я сегодня вообще в гимназию не ходил.
— Где же вы пополняли свое образование?
— А мы с приятелем с ночи уехали на остров. Там у его родителей маленький рыбачий домик. Этот приятель, помните — Апостолос Цудерос, — красавец с лиловыми глазами? Мы вместе были в кафе на набережной, когда познакомились с вами. Помните?
— Еще бы! Мы с подругой только на него и глядели. Что же вы делали на острове?
— Всю ночь резались в карты, а на заре ушли рыбачить. Как вы относитесь к рыбалке?
— Никак. Я в жизни не нашла ни одного гриба и не выловила ни одного малька. Меня презирала вся экспедиция — в прошлом году под Новым Иерусалимом.
— Какая экспедиция?
— То есть как какая? Я же юный археолог. Нет, правда, Я занимаюсь с шестого класса в историческом клубе Дома пионеров. В прошлом году во время летних каникул мы ездили копать вятичские курганы.
— При чем тут Дом пионеров? Вы ведь уже в восьмом классе?
— Ну и что? Там до десятого.
— Забавно, мой брат тоже помешан на истории. Он еще малыш, но лично знаком со всеми дальними родственниками Ахилла и Энея. У вас есть братья?
— Нет. Никого у меня нет. Я поздний ребенок. Мои родители воевали в гражданскую, они врачи. И потеряли двух детей на эпидемиях холеры и сыпняка. Я появилась на свет после долгих дискуссий. Считали — поздно.
— А нас трое: брат Антонис и сестра Мария. Я бы хотел вас познакомить с Марией, но вам с ней будет неинтересно — она ничего в жизни не признает, кроме Боба Тейлора и джаза Эллингтона.
— Он красивый — Боб Тейлор?
— Неистово красивый. Красивее Цудероса.
— Ну и пусть. А я не признаю девчонок с такими ограниченными интересами.
— Я же говорю — вам с Марией будет неинтересно.
— А что интересно вам?
— Скучные материи. Разные скучные материи. Например, политическая литература. Мы с Цудеросом читаем Маркса. Мы даже на остров брали с собой «Капитал». Вы слышали, вероятно, про такую книжку?
— Вероятно, все ваши знакомые девочки вроде Марии. Как это можно про «Капитал» спрашивать — «слышали»?
— Я не разговариваю с девочками о «Капитале». И с вами не буду, и не изображайте из себя, пожалуйста, искушенного политика. Это неженственно.
— А я и не стремлюсь быть женственной. Я всегда жалею, что я не мальчик.
— А это заурядно. Не демонстрируйте свою заурядность. Я хочу думать, что вы особенная.
— Ну и думайте. Для плодотворных размышлений оставляю вас в одиночестве. Пока.
— Позлитесь еще, позлитесь. Вы прекрасно сердитесь. «Гнев, о богиня, воспой…»
Тут из-за угла вышел Генка и закричал:
— Вот чертов грек! Я встретил его на бульваре и послал за тобой. Сказал, где школа, чтобы он поторопил тебя. А вы прохлаждаетесь!
Генка прокричал это по-русски, но тут же перешел на английский, обращенный к Мемосу:
— Сэр, вы довольно странно поняли мое предложение поторопить мадам.
— Школа оказалась очень далеко, за тридцать лет пути, — сказал Мемос и добавил уже мне: — Завтра у нас в гимназии литературный вечер, наш класс показывает отрывки из «Антигоны». Георгис Каратоглу, преподаватель литературы, поставил. Можно привести гостей. Вы пойдете?
— Если не будете злить меня.
— Я зайду за вами.
— О! — вскинул брови Генка. — Персонажи заговорили на языке подпольной явки.
— Да, да… — Мемос похлопал его по плечу.
Я спросила:
— А где находится ваша гимназия?
— Ерунда, совсем близко. Надо идти по Бубулинас, там скверик такой с чугунной оградой, пройдешь — и третий переулок направо.
— Нет. Это далеко. Я сколько раз пробовала дойти до того района — немыслимо далеко.
Генка все-таки смекнул что к чему и слинял, послав нам вслед воздушный поцелуй.
— Пошли, — сказал Мемос. Как в тот раз, когда мы впервые шли вдвоем по Москве, занесенный тополиным пухом, и Бурик рвался с поводка.
— Куда на этот раз? — спросила я, стараясь удержать в голосе щегольскую независимость. — На Арбат или на Бубулинас? Но ведь я сказала, что до Бубулинас ужас как далеко.
— Ничего подобного. Вон с того бульвара виден их перекресток.
С бульвара, с площади, с задворок, с огородов, от черта на куличках — какое это имело значение? Он шел рядом. Остальное — подробности. Или, вообще, без подробностей.
На бульваре мы сели на скамейку. Мимо нас двигались редкие прохожие, какой-то алкаш уверял кореша, что «на красненькую — хватит», дама в соломенной шляпе образца 30-х годов спешила, то и дело прикасалась к полям шляпки, точно проверяя, не сдуло ли с них вискозные васильки; расхристанная старуха пихала в неподатливого отпрыска пухлый бутерброд и причитала: «Ешь, ешь, чтоб ты сдох, какой ты худой».
Нельзя сказать, чтобы все они не отмечались моим сознанием. Но, даже издающие звуки, они казались безмолвными рыбами, проплывающими мимо меня в каком-то аквариуме.
Да что же это за напасть такая! Нельзя же превращаться в дебилку, только оттого, что Мемос сидит рядом!
Нужно было что-то произносить и я попыталась:
— Потрясающая идейность: в нежном возрасте читать «Капитал»!
— А, ерунда… Я и не понял в нем ни черта. Я любил другие книги. Тогда я еще читал книги.
— Что за книги? — Слава Богу, хоть нашли тему.
— О, замечательные книги! Старые романы, вроде «Рукописи, найденной в Сарагоссе» или «Мельмота скитальца».
Читала, читала я эти книги. Вернее, листала перед экзаменами. Оттого это былое «скорочтение» и не подбрасывало сейчас в голову ничегошеньки.
Мемос мне помог, не стал допытываться, что я думаю на сей счет:
— Знаешь, что самое замечательное в этих старых романах? Конструкция. Похоже на ваши «матрешки».
Ага. Кто-то уже вручил ему неотвратимый русский сувенир.
— Это — здорово. В один сюжет упаковано несколько других, даже не имеющих отношения к основному повествованию.
Меньше всего я ждала от Мемоса подобных литературоведческих экзерсисов. Вот так Мемос, вот так узник…
— Когда-нибудь напиши такой роман, — сказал он.
— Я не пишу прозы. Я скучный архивариус действительности.
— А — вдруг? Вдруг напишешь.
Мы сидели, не касаясь друг друга. Но пространство между нами было плотным, осязаемым. И это мешало говорить, думать.
Да я и не хотела говорить. Я хотела, чтобы он протянул руку и обнял меня за плечи.
На площади Конституции толпа опустилась на колени. Гробы, двадцать семь гробов, только что проплывших над головами по протокам улиц, на минуту замерли. Мне представилось, что это темная вода разлилась по площади и вдруг ушла, как при отливе. А гробы еще висят в воздухе. Но они тоже ушли в глубину.
Около меня опустился один из гробов, люди, перебирая коленями по асфальту, расступились, освободив для него место. И сразу какая-то женщина припала к деревянному ящику и начала обнимать покойника, пытаясь поднять его голову, прижимая к груди негнущееся тело.
Я увидел лицо мертвого. Сначала мне показалось, что я знаком с ним. Но тут же вспомнил: нет, я просто видел этого юношу. Два раза видел. Первый раз — 12 октября, в знаменитый день 12 октября 44-го года, когда английские войска вошли в Афины, уже освобожденные ЭЛАС, 12 октября, в день всенародного ликования. Все тогда целовались, обнимали англичан, черт-те что творилось в городе. А парнишка этот выделывал вовсе несусветное — на него все обращали внимание. Щуплый и с виду малосильный, он таскал на руках английских солдат, передавал их в толпу и кричал: «Качать союзников! Бросайте повыше, чтобы Парфенон обозревали с птичьего полета!»
И вчера я его видел на демонстрации. Через полтора месяца. Когда полиция открыла стрельбу по колоннам, он выскочил вперед, как обезьяна вскарабкался на фонарный столб. Одной рукой он обнимал чугунный стебель светильника, другая порхала над головой:
— Вот что значит приказ Скоби сдать оружие! Теперь видите: им надо перестрелять нас, безоружных. Вот вам теперь — сдать оружие! — Он ткнул в пространство костлявый кукиш.
После того как в него выстрелили, он другой рукой обхватил столб и замер. Потом медленно стек вниз.
Женщина все еще пыталась поднять из гроба худенькое тело.
Вдруг, поднявшись с колен, над площадью встали две девушки в черном. Они развернули полотнище с пятнами крови. На нем было написано: «Когда перед народом встает призрак тирании, народ выбирает оружие».
Встали и застыли два черных древка этого флага с пятнами крови.
«Дорогой, это почти невероятно, но однажды я уже шла с тобой по той афинской улице, над которой медленно плыли гробы. И горели костры, и люди плясали у костров всю ночь, и на площади Конституции толпа стояла на коленях, а две девушки в черном держали забрызганное кровью полотнище. Две девушки в черном, как два тоненьких древка этого странного флага.
Сейчас, дорогой, это кажется мне почти невероятным, как встреча душ в иных веках и в иных воплощениях. Ведь когда я для какой-то давней работы делала выписки, я даже не знала, что ты существуешь на свете, хотя сегодня мне кажется, что мое существование без тебя ирреально и что это была не я, а кто-то, носивший мое имя.
Теперь я читаю книги, читаю документы по греческой истории того времени. И, как сказала, мне кажется, я осмысляю наше общее с тобой прошлое.
Недавно я шла опять по тем афинским улицам, над которыми плыли гробы. Я шла по афинским улицам и слушала смертную тишину оккупационных ночей. Это было, когда в Москву приехал на гастроли Пирейский театр.
Вот тот очерк. Я посылаю его тебе.
«На скале над театром вздымается Парфенон. Иногда по ночам он высвечен прожекторами, и их свет, отнимая у скалы мерцающий абрис портала, поднимает здание над землей, вычерчивая его на темном небе. Тогда каждый, кто сидит на скамьях амфитеатра, чувствует себя коронованным золотой короной Парфенона…
В Москве после спектаклей Театра греческой трагедии я слышала, как люди говорили о том, что ощутили превращение Концертного зала имени Чайковского в древний театр Афин. Видимо, так и было. Кое-кто повидал эти спектакли в Греции — в древнем театре Ирода Аттика, к кому-то пришли эти ощущения из школьных хрестоматий. Главное же было в том, что греческие актеры сумели воскресить дух античной трагедии.
Античность, воспевшая своих богов, не подарила им вечной жизни. Но сумела дать божественное бессмертие человеческим чувствам.
Не знаю, кому больше обязаны москвичи этим чудом прикосновения к живому телу искусства древности — режиссеру Пирейского театра Димитриосу Рондирису, «повелительнице» хора Лукин или знаменитой трагической актрисе Аспасии Папатанасиу. На спектаклях Пирейского театра я тоже была во власти переживаний и чувств еврипидовской Медеи и софокловской Электры. Но извечность греческой трагедии приходила ко мне не в театральных одеждах.
Я не бывала в театрах, сохранившихся со времен Древней Эллады. Но я видела Колизей и театры городов Римской империи. Я помню чувство, возникшее у меня в одном из таких городов Северной Африки. На просцениуме стояли изваяния богов, и казалось, что это актеры несут здесь свою вахту в столетиях. Каменные своды кулис походили на казематы — актер выходил на сцену как на заклание, чтобы отдать всего себя искусству.
Громадность искусства была равна громадности страстей древних.
История Греции, нареченной Пушкиным страной героев и богов, остается историей страны героев.
…И вот я сижу на спектакле Пирейского театра. Рядом со мной девочка-москвичка, не знающая языка актеров, вытирает слезы, а сама Аспасия — Электра не вытирает их, они заливают ее лицо, и голос ее бьется под сводами. «Какой голос!» — вздыхает маленькая москвичка. Она плачет над этим голосом, которому тесно в зале от жажды мщения.
А я думаю о том, что когда-то такие же девочки в Афинах плакали, слыша этот голос, который нес им надежду.
…Оккупационные ночи второй мировой войны были похожи одна на другую. В их темени трудно было различить в лицо Смоленск и Афины, Белград и Льеж. Все эти ночи говорили на одном языке — лающим криком «Хальт!» и автоматными очередями.
Тогда над ночными Афинами и прозвучал этот голос. Этот самый.
Каждую ночь то с одного, то с другого холма, расширяясь в раструбе самодельного рупора, голос расходился над замершим городом. Голос произносил слова не из античных трагедий, а из последних известий. Из Москвы и Лондона. В сухих информациях были и гнев обличения, и жажда мести, которым мог завидовать Софокл. И надежда. И смерть… Смерть за произнесение этих слов.
Эсэсовцы открывали стрельбу. Они стреляли в темноту, в голос. Им отвечали те, кто оборонял этот голос. Люди, распахивая окна, каждую ночь ждали встречи с этим голосом и гадали, не убит ли он. Голос был для них частью их жизни, хотя они не знали, что он принадлежит Аспасии Папатанасиу — майору армии Сопротивления. Эта армия носила имя, звучащее так же, как имя ее родины, — ЭЛАС.
…Электра метнулась по сцене. И хор женщин повторил ее движение, в поразительном унисоне открывшись героине. «Как одна!» — выдыхает девочка рядом со мной. И я вспоминаю очень похожую фразу: «Как один!..»
Трагический вопль Электры разрезает пространство… Критики будут писать: «Такой крик рождался на сцене Древней Эллады». Но и недавние трагедии рождали такой стон.
В годы, уже ставшие историей, был организован театр, сродни нашим фронтовым агитбригадам. Там играли Аспасия и многие лучшие актеры Греции. Крик Аспасии прозвучал впервые в пьесе «Похороните мертвых», крик матери, встретившей мертвого сына. Это был крик всех матерей Греции. Всех военных матерей, чьи дети лежали непогребенными на чужой и своей земле.
На спектакли этого театра люди приходили издалека. Когда места не хватало, люди говорили со слезами:
«Мы двадцать километров шли пешком. Хоть в щель дайте посмотреть!»
Декорации этого нищего театра иной раз затмевали роскошью академические храмы искусств. На задниках был шелк, Парашютный шелк. Его присылали партизаны. Каждый спектакль был сражением. И сражением не в переносном смысле. Когда актеры подвергались нападению фашиствующих бандитов, зрители становились дружинами, обороняющими свой театр.
В одной из пьес была такая сцена: актер говорил со сцены, как пойдет борьба завтра — не в пьесе, а на улицах.
Почему думаю об этом сейчас, на спектакле?.. Нужно смотреть на сцену! Вот Клитемнестра — грешная мать Электры — воздевает руки в молитве. Как странно движется ее рука — точно актрисе трудно вскинуть эту царственную длань…
Я знаю ее, Клитемнестру, — нет, актрису, которую однажды подняли из лужи крови. Она держала руку, перебитую осколком. Тогда не было молитв и рук, воздетых в исступлении, все было проще и трагичнее…
Давно шагнула трагедия с театральных подмостков Греции в греческую историю. Эллада, преданная огню римским консулом Мумием. Турецкие янычары, казнящие Грецию; храмы Акрополя, превращенные в турецкий арсенал. Английские дельцы, грабящие Грецию… Байрон сказал: «Шотландец сделал то, чего не сделали готы». Гитлеровские штурмовики, расстреливающие каждого второго и гадящие в Парфеноне. И, наконец, снова англичане, на этот раз «союзники».
И всякий раз Греция бралась за оружие. Во имя Греции.
Наверное, были правы Софокл и Еврипид: их народу были дарованы неукротимые страсти.
Мы смотрели на сцену театра античной трагедии и говорили: «Вот истинно греческое искусство». А разве не истинно греческим искусством дышала подпольная театральная студия в голодных Афинах 1941–1942 годов!
Собрания труппы больше напоминали подпольную сходку. Люди приходили туда с боевого задания — иногда у них под ногтями была еще свежа краска, которой писали призывы на стенах, а карманы были набиты листовками.
Это преданность искусству до конца, говорим мы. Да. До самого конца. Этот конец мог настичь любого из них на улице. И книга Станиславского в нагрудном кармане так же обрекала человека на расстрел, как и прокламация свободы.
Я иду домой и думаю о глыбах страстей античной трагедии. Откуда вошел в нее этот гигантизм чувств? От народа. От древних народных обрядов, празднеств бога Диониса. Ритуальные жертвоприношения и плач над мертвым героем — «трагический тренос», венчающий трагедию.
В государственный календарь древних Афин включались празднования дионисий в марте и декабре. Тогда и пиршества, и жертвоприношения, и плачи были официальны. И всенародны. Может быть, именно всенародность и сообщила трагедии Софокла размах чувств?
Календарь, по которому жили Афины 1944 года, не намечал на декабрь официальных обрядов. Ни песен, ни плачей. Предписания календаря заменил приказ англичан: всем грекам сдать оружие.
3 декабря Афины вышли на демонстрацию. Демонстрация была расстреляна. 4 декабря Греция хоронила героев. Двадцать семь гробов плыли над мостовыми. А ночью на площадях полыхали костры. Вокруг костров пели и танцевали юноши и девушки. Черные силуэты стариков и старух застыли у белых стен домов. Старые благословляли молодых на это пиршество непреклонности! Наутро молодые выходили в бой.
Дионисии XX века были полны песен и плачей над телами героев: триста тысяч афинян умерли от голода в дни оккупации. А сколько тысяч расстрелянных и погибших за свободу!
Это не античная давность. Это Греция середины нашего столетия.
Не знаю, как выглядели жертвоприношения на древних дионисиях. Когда я сегодня, в 1967 году, пишу слова «жертвы Греции», за ними встают для меня решетки казематов, в которых заживо погребены тысячи героев Греции. И распятые горем жены и дочери героев, приникшие к решеткам».
Дорогой! Я перечла сейчас этот очерк, прежде чем вложить его в конверт, который, наверное, никогда тобой не будет вскрыт.
И правда — мистика, ясновидение. Я ведь тоже распята на тюремной решетке, хотя вольно передвигаюсь по улицам и никому мое распятие неведомо.
Честно говоря, сейчас стилистика этого очерка мне показалась излишне приподнятой, даже высокопарной. Видимо, котурны античных трагедий излишне впечатлили меня.
Все проще, обнаженней. И более мучительно».
Сигарета лежала у меня в нагрудном кармане рубахи. Дешевая сигарета из английского солдатского пайка, какие, шаря по карманам, находят смятыми и полувысыпавшимися. Но эта была целехонькая, я кожей ощущал ее тугое круглое тельце. Почти веря в ее одушевленность. Такой она была желанной.
Двести раз за день я представлял себе, что затягиваюсь. Даже языком отирал с губ бесплотные табачные крошки. Но закурить предстояло только к вечеру. Сделать одну затяжку. И то нелегальную. По правилам требовалось запалить сигарету и, не затягиваясь, прижечь ею конец разрывного шнура. Английские сигареты не гасли. И шнур успевал разгореться.
Катина сказала:
— Покрышка готова. Стоит в подъезде.
За три недели городской войны с англичанами мы успели изобрести свои методы сражения. Приходилось изощряться: у англичан были танки, самолеты летали над Афинами, едва не касаясь крыш.
У нас десяток пулеметов. И все-таки чуть не весь город был нашим. Они удерживали только дорогу Афины — Пирей и центральный холм Ликавитос. Зато с Ликавитоса просматривались и простреливались почти все улицы. Население покинуло ту часть города, где шли бои.
Так как для подавления английских огневых точек, установленных в зданиях, у нас не было ни артиллерии, ни самолетов, мы и придумали эту штуковину с покрышками.
Старая автомобильная покрышка набивалась взрывчаткой, подпаливался шнур, как я говорил, и шину выкатывали из ближайшего подъезда на дом с дотом.
Но подобраться к доту тоже было непросто. Дома тут стояли тесно — плечом к плечу. Мы проделывали дырки в стенах и шли сквозь шеренгу зданий, сквозь их утробы, прикрытые безмятежными фасадами.
— Теперь надо перебегать в подъезд, — сказал я Катине.
— Я первая, — сказала Катя.
— Нет уж. Я проверю, потом ты.
Но она не ответила и как в воду нырнула в обнаженное пространство улицы. И сразу по мостовой зачиркали брызги автоматных очередей.
Я видел, как Катя петляет на бегу, и мне показалось, что ее ранили. Но нет, она вскочила в подъезд напротив дома, где я сейчас прятался, в подъезд с нашей покрышкой.
Полагалось выждать минут пятнадцать-двадцать, а я ринулся почти сразу. Меня всегда тянуло двигаться в том же направлении, что и она.
Сейчас я говорю «всегда». А мы знакомы-то были две недели. Но, наверное, так и определяешь, что влюблен, когда тебе начинает казаться, что все, связанное с этим человеком, существовало в тебе всегда.
Ее привел в нашу организацию Костас, сказал: «Моя однокурсница». И все. Будто это было высшей аттестацией.
Помню, мы сидели на явочной квартире у кузины Георгиса. В комнате было человек шесть, когда они вошли. И все замолчали. Замолчали и смотрели на них: двое высоких, бледных, оба в черном; на фоне белой двери они походили на старинную и в то же время модернистскую гравюру.
Костас носил странную разлетающуюся крылатку. А под мышкой, вернее — у талии, как держат на приемах военные кивер, стопка книг. Он был нашим разведчиком. Носясь в открытую по городу, он доставал любые сведения — англичанам почему-то не приходило в голову даже останавливать его. Может, из-за крылатки и книг.
О Кате я тогда же подумал то, что думал потом всякий раз, глядя на нее: узкое ее тело вонзалось в воздух, как длинное веретено, будто накручивало на себя невидимые нити воздуха. Или будто легкий смерч заматывал ее.
И сейчас, когда она бежала через мостовую, столбик смерча перемещался туда-сюда. И еще это походило на стремительное метание черного ферзя по шахматному полю.
Я не очень-то склонен к метафорическому мышлению, но о ней я всегда думал так.
Перебежал я спокойно. Ни одного выстрела. И только у самых дверей, как длинный язык кнута, за спиной взвизгнула очередь. Изогнувшись, я подался в глубь подъезда и ощутил, как пули прошли совсем рядом. И у самого своего лица увидел лицо Кати.
Наверное, это было неизбежно. Уже позднее я осознал, что с самого утра, слизывая несуществующие табачные крошки, я чувствовал ее губы.
Я поцеловал ее.
— Ты не должен был этого делать, — сказала Катя. — Нужно было выждать, а потом бежать.
Она будто бы и не заметила, что я поцеловал ее. Поцеловал в губы, глубоко и взволнованно. Она была странная, эта Катя. Самые неожиданные вещи принимала как закономерное, без улыбки расставляя все на свои места. И вдруг поражалась чему-то, что другому показалось бы вполне ординарным. Вокруг нее был ясный, понимаемый мир, взрывавшийся только ее внезапными открытиями. И тогда она казалась растерянной, радостной и потрясенной.
Поцелуй мой таким откровением не стал. И я почувствовал себя довольно глупо.
— Я торопился к тебе, — сказал я.
— Я никуда не могла уйти отсюда. Я ждала тебя. И мне вовсе не страшно одной. — Она была по-прежнему невозмутима.
Но я не сдавался:
— Когда ты выбежала, и я почувствовал, что тебя нет рядом, меня как кнутом подстегнули. Наверное, потому мне и автоматная очередь за спиной напоминала удар длинного цыганского кнута.
И тут она удивилась:
— Правда? Просто поразительно! А когда я бежала, мне представлялось знаешь что? Вода, и по ней рикошетом летят камешки. И бросают их дети. Но — кнут! Поразительно!
Она выглянула из-за дверного косяка на улицу и уже без удивления добавила:
— Вон идет Костас.
Я тоже выглянул.
Уж если что и было поразительно, так это Костас и его свободное парение под темными парусами крылатки. В абсолютной тишине. Тишине без единого выстрела.
Поравнявшись с подъездом, он, не меняя положения корпуса, точно втянутый потоком воздуха, влетел в нишу, где мы стояли.
— Откуда тебя занесло? — спросил я.
Он не ответил. Он смотрел на Катю.
— Ты олл райт? — Он провел пальцем по Катиной щеке.
— Да. Вон покрышка, — сказала она.
— Взрыв придется отменить. — Наконец он обратил внимание и на меня. — В том доме, где английский дот, в подвале люди. Они не выехали. Есть даже дети. Всего там человек пятьдесят.
— Какого черта они застряли? — Я разозлился: этот дот сковывал все наши передвижения по улице.
— Значит, не смогли выехать. Это неважно — почему. Конечно, взрыв отменяется. — Катя говорила так, будто заранее догадывалась о том, что в подвале люди.
— А куда покрышку? — буркнул я, хотя, конечно, понимал, что в этих условиях ни о каком взрыве речи быть не может.
— Покрышку перекатим через проходной двор. Я знаю где, — сказала Катя.
Костас снова обернулся к ней, лицо его жестко дернулось, он произнес, вроде бы преодолевая внутреннюю неприязнь к самому себе:
— Мне нужно идти. — И, улыбнувшись: — На этот раз книжки не атрибут реквизита. Родители тоже сидят в каком-то чужом подвале. Надо развлечь маму. Я достал ей Пруста.
Я взглянул на книжку, лежавшую верхней в стопке. На истертой обложке с трудом читалось: «Под сенью девушек в цвету». Костас снова провел пальцем по Катиной щеке:
— Ты будешь олл райт?
— Невероятно! — Тут она уже не удивилась, а была явно потрясена — расстрелянный город, пустой. Просто Некрополь. И в подвале кто-то читает «В поисках утраченного времени». И что такое утраченное время по сегодняшним меркам?..
Костас выпорхнул на мостовую. Мы стояли молча и слушали звук его шагов по асфальту. Снова в абсолютной тишине.
Когда раздались выстрелы, нас обоих швырнуло к двери. Мы увидели: посреди пустой улицы летит в распластанной на бегу крылатке Костас. Летит все быстрее и быстрее.
Выстрелов больше не было. Но он упал, и крылатка чернильной лужей растеклась по мостовой.
Разумеется, просмотровый зал был занят. И этот — на четвертом этаже, и директорский, и нижний. Олегу хотелось показать нам материал в нижнем просмотровом — он был просторным, предназначенным для заседаний худсоветов, экран там был во всю ширь стены, а не куцая простынка, как на передвижке.
Но на студии всегда битвы за зал, и Олег с трудом вырвал этот, на четвертом, и то после того, как досмотрит свое дубляжный цех.
Мы торчали в чутком дозоре под дверьми уже сорок минут, хотя дубляжники заверили, что у них только два ролика.
Олег забарабанил в запертую дверь зала и крикнул в щель:
— Вы что, по шестьсот метров в коробку умудрились засунуть?
— Спокойнее, — просочилось из заточения, — в коробках триста метров, и я не сяду на проектор верхом, чтобы понукать его. Не мешайте.
С Олегом, оператором, вернувшимся из Вьетнама, нас свел Влад. Он был его приятелем, и Влад сам пришел на студию посмотреть, что тот наснимал.
Наконец вошли в зал, туго набитый сигаретным дымом, сквозь студенистую гущу которого робко проглядывали таблички «В зале не курить».
Я принялась суетливо расставлять стулья, хранившие в своем неуклюжем перестроении отзвуки только что смолкнувших споров. Так бывает в заводском красном уголке, когда там закончилось бурное цеховое собрание. Хотя тут, в зале, до нас было всего человек пять. Крышку от пленочной коробки, превращенную в пепельницу, мне Олег не разрешил вытряхнуть: «Будем курить, и пусть пожарники думают, что это дубляжники».
— Прошу иметь в виду, — сказал Олег, — материал немонтированный. Я только дубли выкинул и приблизительно подмотал.
— Но ты комментируй под экран, — сказал Влад.
Олег нагнулся к переговорнику:
— Если зарядили Вьетнам, давайте на экран.
Откуда-то из стены вырвался механический голос с присвистом: «Мы готовы».
…Дорога идет по краю карьера, земля там точно вынута гигантским ковшом экскаватора. Но когда камера наезжает, мы видим, что это не карьер, а цепь почти сомкнувшихся воронок от фугасных бомб.
Камера панорамирует одну из воронок. Из комьев перепаханной земли торчит оглобля крестьянской повозки. Объектив движется дальше — маленький окопчик, в нем, стиснув в кулаках землю, лицом вниз убитый крестьянин.
Рядом еще один окопчик — развороченная туша мертвого буйвола…
— Это я снимал сразу после налета, — сказал Олег. — Видите, буйвол в щели. Они там для буйволов роют отдельные бомбоубежища.
…По дороге женщина катит ручную тележку. Крупно — босые ноги, быстро семенящие по дороге, колесо, с трудом проворачивающееся в грязи.
Женщина катит тележку. Длинные планы: мимо рухнувшей пагоды, где Будда, сидя прямо под открытым небом, наивно, недоуменно смотрит перед собой; мимо школьного здания, где к остаткам крыльца прибило вспоротый череп глобуса, катит женщина тележку.
Расположение зенитной батареи. Орудие, прикрытое пальмовыми ветвями, бойцы, к каскам которых тоже прикреплены листья.
Крупно: детали воинского быта.
Женщина подкатывает тележку к батарее. Бойцы обступают ее.
Заросли неподалеку от зенитки. Женщина стирает белье. Крупно: ее руки, растягивающие гимнастерку. Гимнастерка распорота от ворота осколком, у разрыва запекшаяся кровь. Руки женщины, отмывающие кровавое пятно…
— Это продавщица ханойского подземного универмага, — сказал Олег. — Она возит продовольствие на батареи. И делает там что надо — сготовит, обстирает. Это не ее обязанность, она это делает по доброй воле.
— А ее семья где? В Ханое? — спросил Мемос.
…Американский бомбардировщик идет в небе.
Батарея. Разворачивающееся дуло зенитки. Крупно: портреты расчета, руки, приводящие орудие в готовность. Самолет идет на бомбежку. Разрывы. Двое бойцов убиты, их тела крест-накрест, одно на другом возле зенитки. Крупно: похожая на вспученный спелостью плод граната, разорвавшаяся шариковая бомба.
Женщина у зенитки, она помогает уцелевшим членам расчета.
Заросли, разбитый таз, разметанное белье. Одна гимнастерка взрывом распята на кусте, как повешенная для просушивания, она вся в перфорации мелких дырок: следы пуль шариковой бомбы…
— Мне повезло по-своему, — сказал Олег, — удалось снять целый эпизод, будто по сюжету.
— Ты вообще везучий, — мрачно пробубнил Влад.
…Дорога. В обратный путь женщина катит пустую тележку. Крупно: колеса, на которые уже не давит тяжесть, легче проворачивают грязь. Босые ноги женщины, они двигаются медленнее, будто приняли на себя отданную повозкой тяжесть…
В зале зажегся свет, Олег недовольно крикнул в переговорник:
— Зачем вы остановили? Я же просил без перерыва все четыре ролика!
Голос на стене просвистел:
— Даем с одного проектора. Второй механик — на обеде. Надо перезарядить.
Влад полез за сигаретами, достал пачку, ее разобрали сразу, и все закурили.
— У вас еще есть что-нибудь про нее? — спросил Мемос.
Олег кивнул:
— Есть. Синхронное интервью. В следующей коробке, сейчас увидите.
Влад, сидевший по своему обыкновению сильно ссутулившись, подобрал скрещенные в коленях ноги к самому подбородку, сказал, не поднимая головы:
— Вот что, ты возьми меня писать текст. Давай сделаем об этой женщине отдельную двухчастевку. Тут нужно такой текст присочинить — нутро будет выворачивать. Возьми меня. Мне сейчас необходимо писать про это. Возьми.
— Давай, — согласился Олег.
Стена откашлялась:
— Мы готовы.
…Женщина — совсем крупно, почти во весь кадр — ее лицо. Она произносит раздельно и, как может показаться, безучастно…
Олег переводил, видимо, он уже знал наизусть этот монолог: «В ту ночь американцы убили Нгуен Конг Лыу — моего отца, Нгуен Тхи Неу — мою мать, Нгуен Конг Хая — моего сына, Нгуен Тхи Ша — мою дочь, Нгуен Тхи Там — младшую сестру, Нгуен Тхи Хуэ и Нгуен Тхи Май — моих племянниц, Нгуен Динь Тху — моего племянника».
Лицо женщины задрожало, поплыло и метнулось за грань экрана. Как неимоверно увеличенное стекло микроскопа с мечущимися инфузориями, белесое месиво задвигалось по полотну.
— Обрыв пленки, — сказала стена, — давайте монтажницу склеивать.
— Где я им возьму монтажницу, — огрызнулся Олег. — Ладно, пойду клеить сам. — Он поднялся.
Влад тоже встал. В спину уходящего Олега он сказал:
— Не нужно тут никакого текста. Оставь только это интервью. В конце. А весь эпизод давай на немую. Под одни шумы. Я такой текст, как у нее, не напишу. И никто не напишет. Пока, — он кивнул нам и тоже вышел.
Мы сидели с Мемосом и молчали. Мы сидели рядом, касаясь друг друга плечами, и молчали. Но я только сейчас почувствовала, что касаюсь его, хотя в любом другом случае само его присутствие в комнате физически ощущалось мной. А сейчас я касалась его плечом и даже не заметила этого.
— А кто твой муж? — спросил Мемос. Голос его надломился, и я отпрянула, потому что вдруг близкое присутствие его плеча стало волнующим, и все мысли у меня в голове как-то сразу расползлись.
— Он журналист.
— А где он?
— Он умер. Разбился на вертолете во время полета в Антарктиде.
— Когда?
— Четыре года назад.
— Ты очень любила его?
— Не знаю. Он был моей самой близкой подругой. Как ни странно, он был тезкой того мальчика, которого я очень любила еще в детстве. Его тоже звали Сережа Троицкий. Он погиб под Москвой.
Этот разговор должен был когда-нибудь состояться, хотя я боялась его: пока я не сказала вслух, что Сережи, моего мужа, уже нет, он был моей защитной броней, моей обороной от самой себя. Но я ведь сама ежедневно возводила надолбы, противотанковые рвы и заграждения этой обороны, чтобы одержимо и подсознательно ежедневно прорывать ее.
Странно, что именно тогда возник этот разговор. Но, вероятно, в этом была своя необратимая закономерность. Именно тогда и именно там.
Улица круто уходила вверх. Наша крутая улица Фемистокла, которую до конца своих дней я буду видеть только такой — ночной, перечеркнутой посередине белым крестом прожекторных лучей.
В этом кресте мы встречались с англичанами. Мы — офицер и двое солдат — спускались сверху. Они — офицер и двое солдат — шли снизу. По крутой ночной улице Фемистокла. В кресте мы сходились, передавали из рук в руки конверт с ультиматумом, козыряли и расходились. Мы — вверх. Они — вниз. Потом прожекторы гасли. И это было сигналом к обстрелу. И те, и другие палили в темноту, в звук шагов.
Я много раз спускался по улице Фемистокла, я шел к месту, отмеченному, как на карте, крестом. Крестом лучей. И в 1945 году я тоже шел. В эту первую ночь года, в одну из наших последних ночей в Афинах. Мы получили приказ тайно оставить город и уйти в горы. Слишком неравные были силы.
Обычно, когда гасли прожекторы, мы пускались бегом что есть силы, прижимаясь к домам. Но сегодня я даже не прибавил шагу, я шел посередине мостовой. И пули меня не тронули.
Я дошел до расположения наших и, хотя времени было в обрез, зашел в пустующий дом и сел на подоконник. Больше не мог сделать ни шага. Сейчас. Хотя знал, что встану, и пойду, и пройду сотни километров по незнакомым дорогам, по обледенелым горным уступам. Пойду. Но не сейчас, не сию минуту.
Мы оставляли Афины, и здесь оставалось все. И мать, и Мария, и Катя. И тротуары.
Мне трудно было думать, что мы уйдем, а англичане и «охранники» будут ходить по городу и врываться в дома, в дом моей матери. Но самое страшное: они будут ходить по тротуарам, и под их ногами будут лежать наши товарищи. Они пройдут по Кате. По ее голове, по ее телу.
13 декабря мне было приказано сформировать студенческий батальон. Созванные рупором, ребята из разных студенческих организаций собрались в школьном здании района Кипсели. Это был свободный от англичан район.
Прошел митинг, мы раздали обмундирование. Вернее, детали обмундирования: кому достались брюки, кому — гимнастерка, кому — башмаки. Выходили во двор строиться. Над школой все время висел английский самолет, но мы уже привыкли к тому, что самолеты торчали буквально внутри улиц.
Мне из военной формы попались штаны. Я натянул их и обнаружил, что штаны без пуговиц. Ремня у меня не было. Подтяжки были, а ремня не было. К чему было цеплять подтяжки?
Катя мне сказала:
— Сейчас достану нитки и пуговицы. У Василики есть.
Мы шли с ней по длинному школьному коридору, и она на ходу пришивала мне пуговицы. Шла сзади меня, и руки ее касались моей поясницы — там, где она пришивала пуговицы для подтяжек, — и я понимал, что никогда такого счастья не переживал, хотя к тому времени знал и менее целомудренные отношения с женщинами.
— Если есть еще пуговицы, пришей штук пятьдесят, — сказал я.
Она ответила совершенно серьезно:
— Василики дала только четыре.
Я обернулся к ней через плечо:
— После войны я каждый день буду спарывать с одежды все пуговицы и приходить к тебе.
Она грустно покачала головой:
— Для меня пришить пуговицу — подвиг. После войны я уже не буду способна на подвиги.
— Тогда я буду просто приходить каждый вечер, — сказал я. — И если хочешь, сам буду пришивать пуговицы на твоих пальто и платьях. Хочешь?
Ее пальцы, уводившие нитку, невесомо припали к моей спине, и я отвернулся, чтобы выждать, пока она скажет: «Да, хочу». А она сказала:
— Знаешь, я вдруг поняла, какие платья будут после войны. Вовсе не будет никаких пуговиц. Платья — как короткие, просторные туники, античные туники. Чтобы можно было идти по морскому песку или по траве босиком, а платье свободно развевается. Мне кажется, после войны я все время буду ходить по траве или по морскому песку.
Школьный коридор был изрезан окнами, выходившими во двор. В эту минуту мы проходили стенной проем. Поэтому, когда там, снаружи, раздался взрыв и вылетели стекла, они брызнули сзади нас и перед нами.
Я инстинктивно рванулся вперед, на миг запнувшись, удержанный, как поводком, Катиной ниткой. Но она резко оторвала ее и, опередив меня, выбежала во двор.
Я думал: самолет сбросил бомбу. Но оказалось, нет — била артиллерия с Ликавитоса. Самолет только корректировал.
…Сидя на подоконнике в чужом, оставленном доме, я тупо рассматривал картину на противоположной стене — плохую репродукцию «Похищения Европы». Но видел двор, убитых и раненых, и Катю, мечущуюся между лежащими, и легкий смерчик, взметающийся вокруг ее тела.
И еще я видел Катю на носилках в больнице, куда мы притащили ее и Костаса. Это было через две недели после того сбора в школе. Ее ранило, едва мы, выбежав из подъезда, бросились к нему, лежащему в чернильной луже крылатки. Почему-то я сразу понял, что она ранена смертельно, что она умрет, хотя она была жива и в сознании.
В доме неподалеку были наши. Они тоже выскочили, и мы унесли Катю и Костаса. И притащили в больницу. Он был ранен в живот, она — в грудь.
В больнице он кричал, не хотел, чтобы его несли в палату, он хотел быть возле нее. Но его отправили в мужскую палату. Она умерла в коридоре, ее не успели донести до операционной.
Я стоял над носилками, и она сказала мне:
— Если я умру, ты говори Костасу, что я в порядке. Что я поправляюсь дома. И принеси ему цветы, будто это я послала. Достань где-нибудь.
— Обязательно, — сказал я, — да и ты будешь в порядке. И я скажу ему, что ты его любишь.
— Нет. Это не говори. Потому что я его не люблю. Я люблю тебя.
Она произнесла эти ошеломившие меня слова просто, будто констатировала всем известный факт. Потом начала:
— Странно…
Но я так и не узнал, что поразило ее на этот раз.
Я отнес Костасу цветы. Медицинская сестра пожертвовала мне колбу, и мы поставили цветы на окно, рядом с его кроватью, чтобы Костас мог смотреть на них, когда его немного отпускала боль.
Днем, накануне этой ночи, я забежал к нему еще раз. Цветы почти увяли, но он не разрешал их убрать. Ему было очень худо, он все время просил пить, а пить при ранении в живот категорически запрещалось — это смерть.
Без своей привычной крылатки, в белом, больничном, он был почти бестелесен — тело растворялось под простынями, теряя контуры.
— Катя умерла? — спросил он.
Я растерялся:
— С чего ты взял? Она дома.
— Умерла, — уверенно сказал он. — Ты плохо врешь.
Я не нашелся, пытался что-то промямлить. Тогда он попросил:
— Дай сюда цветы, пожалуйста.
Меня немного покоробила эта открытая театральность, но я взял колбу и передал ему.
Костас выпростал из-под простыни бледные, плохо слушающиеся руки, выдернул цветы из колбы и, обливая простыни, судорожно глотая воду, выпил ее всю.
Мы похоронили его рядом с Катей. В том же тротуаре. Мы тогда всех хоронили в тротуарах. К кладбищу было не пробиться — англичане отрезали дорогу.
Мы снимали с тротуаров плиты, зигзагами рыли траншеи и в них хоронили наших товарищей.
…Сидя на подоконнике в чужом брошенном доме, я думал о том, что оставляю Афины и оставляю все — мать, Марию, Катю. И тротуары, афинские тротуары, по которым будут ходить люди и тогда, когда никого из нас уже не будет в живых. Афинские тротуары, вымощенные телами тех, кого мы любили.
«Я все думаю, дорогой, и все завидую. Я завидую этой девочке Кате, прожившей в твоей жизни менее моего и похороненной в афинском тротуаре. Похороненной там и оставшейся непогребенной в тебе. Ведь что бы ни было, она существует в тебе и легкий смерч вьется вокруг ее тела. Только о тех, кого любишь, можно думать, представляя их так. Я никогда не испытывала ревности к живым. Я не могу ревновать к мертвым. Я просто завидую, потому что думаю: наверное, я кажусь тебе женщиной без примет, и, рассказывая обо мне, ты не скажешь, что я шла по бульвару в облаке тополиного пуха или что-нибудь в этом роде.
Знаешь, я даже попробовала за тебя придумать слова обо мне. Я стояла у зеркала и все примеряла твои слова, как долгожданную обновку. Но что ты обо мне скажешь? Я говорила за тебя: «Она вечный подросток, и кажется, что волосы у нее должны нависать над тетрадкой по геометрии, отчего кончики их перепачканы в чернилах, как рыжая колонковая кисточка». Потом так: «Глаза у нее были почти что прозрачные, цвета небосклона перед рассветом». Ничего этого ты обо мне не скажешь, потому что ничего примечательного во мне нет. Просто очень хочется, чтобы ты рассказывал обо мне, как говорят о любимых.
И еще я завидую ей, потому что она разделила с тобой судороги истории, перевернувшие вашу общую юность.
Вот уже столько дней и месяцев я плутаю по дорогам из настоящего в прошлое. Дорожные указатели то и дело либо стерты годами, либо лежат опрокинутыми на обочинах. И мне трудно находить места наших с тобой несостоявшихся встреч. У меня нет с тобой общих военных воспоминаний, общей биографии. В моем распоряжении только нечеткие аналогии и лукавые пути сопоставлений. Твой приход в мою жизнь наградил меня вполне щедро, но, пожалуй, самое большое приобретение чувство совместного обладания житием планеты, оно-то у нас общее. Раньше моя жизнь была более региональной. Несмотря на то, что я много ездила и о многом писала, у меня не возникало ощущения, что все происходящее на земле сейчас и раньше имеет ко мне лично такое непосредственное отношение. А ты сблизил для меня страны и годы; у нас ведь не было общего дома, наш общий дом — этот крохотный земной шар. Когда любишь, жажда единой крыши безусловна».
Когда мы перевалили через гору Парнис, я перекрестился: теперь до самого горизонта лежала равнина. Я даже ощутил в подошвах желание ступить на ровную поверхность. Наверное, все ребята испытывали такое, они тоже начали суетливо и смущенно креститься. Хотя набожностью никто не отличался.
Я пошел вперед и на втором шаге провалился по колено — перед нами стыло море жидкой грязи.
Поверхность грязи была такой гладкой, будто ее катком укатали. И только когда ты вытаскивал ногу, возле нее дыбились коричневые волны. Они так замирали на секунду-другую, а за последним идущим снова ложилась гладкая, словно укатанная равнина.
Справа от нас торчала отвесная стена скалы, перед нами — грязевая равнина до горизонта. В грязь были воткнуты редкие, уже облысевшие по осени деревья. Тут, там. И еще — тут, там.
Мы с Георгисом шли первыми. Все молчали, только тяжелое чавканье было слышно за спиной.
Я сказал Георгису:
— Читай что-нибудь.
— Что?
— Что хочешь. Какие-нибудь стихи. Чтобы хватило до следующего дерева.
Он начал:
— От жажды умираю над ручьем…
Я вытащил ногу.
— Вот так: строчка — шаг, строчка — шаг…
— Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя…
Я представил, как вырываю строку из цепкой глубины, я вынул тонну груза, висевшую на ноге, и ногу снова затянуло. Но мы так двигались:
Мы двигались. Медленно, но двигались, и Франсуа Вийон подгонял нас. Когда дошли до дерева, еще две строчки остались в запасе.
До следующего дерева было метров сто, и я сказал:
— Выбери что-нибудь подлиннее.
— Трудно читать на ходу, дыхание перехватывает, — Георгис замялся.
Идиот я: забыл про его астму.
Минут десять мы шли молча. В какой-то момент мне показалось, что чавканье за спиной стало реже, будто половина отстала. Я оглянулся.
Небо вылиняло к закату, и на нем черное безлистное дерево торчало, будто его гроза обуглила. А на ветках висели люди, они висели, как висят большие летучие мыши. Обхватив ветви руками и раскачиваясь на ветру.
За эти месяцы войны я видел уже много привалов. Мы спали на школьных партах первоклассников и на острых камнях ущелий, мы научились сидеть на коряге, болтающейся над пропастью. Но всюду была твердая почва или хоть какой-то твердый предмет. Тут была только грязь в метр глубиной, и в нее нельзя было ни лечь, ни сесть. И люди отдыхали, как большие летучие мыши, обхватив руками ветки и раскачиваясь туда-сюда.
Начало постепенно темнеть. А равнина по-прежнему упиралась в горизонт. Мы шли все медленнее, но шли. Уже молчали и мы с Георгисом. Вдруг сзади, слева от меня, кто-то захныкал:
— Вы жрете, жрете, вы от меня прячете, а сами жрете.
Георгис сказал мне:
— Это Сотирос. Ему еще в горах начало казаться, что мы тайком от него едим.
Сотирос закричал уже в голос:
— Сволочи! Ну дайте хоть крошку! Вы же все время жрете!
Георгис повернулся к нему и не закричал. Он улыбнулся. Георгис иногда так улыбался: свесив голову набок, отчего очки тоже сползали вбок, и тогда его лицо становилось снисходительным и добрым. Наверное, он так отчитывал учеников, не знающих, где путешествовал Одиссей.
— Дурачок ты! Откуда у нас еда? Уже три дня ни у кого ничего. Ты же знаешь.
— Врете! Вы прячете! Я вижу, вы все время жуете! Сволочи! — опять заорал Сотирос.
— Ну обыщи нас. — Георгис распахнул пальто и откинул шарф. Как только он откинул шарф, он сразу закашлялся. Я испугался, что у него начался приступ.
И я прикрикнул на него:
— Закройся, ты, рыцарь! Нашел кому доказывать. Он же сам знает, что все голодные. Замотай шарф.
Георгис послушно замотал горло, закрыл грудь, и кашель вправду прекратился.
Сумерки густели. Но там, на горизонте, куда упиралась равнина, светилась яркая полоска заката. Горизонт полз и полз от нас все дальше. Это было безнадежно.
Как-то неоправданно громко Георгис начал опять читать стихи. Он с остервенением вытягивал свои длинные ноги и точно вколачивал в грязь строчки:
Я подумал: «Или грязь?»
Мы ушли из рая давным-давно, и сколько нам еще пребывать в аду?
Он не успел еще произнести последнее слово, потому что Сотирос вдруг начал громко бормотать:
— Деревня, деревня, вот, наконец, деревня.
Перед нами было пусто.
— Вы идиоты! Вы слепые! Вы что, правда не видите? Вон же деревня. Вот, вот, смотрите — там огни! — Он кричал и дергался, медленно оседая в грязи.
Мы поняли: его начали мучить галлюцинации.
Вдвоем с Георгисом мы подхватили его под руки и доволокли до ближайшего дерева. Я попытался прижать его плечом к стволу, но Сотирос бился и кричал все исступленнее:
— Там деревня! Вы хотите бросить меня тут, а рядом деревня! Вы будете дрыхнуть под крышей.
— Ну что ты, кто тебя бросает, — сказал Георгис, — там действительно деревня. Но тебе нужно отдохнуть. Иначе ты не дойдешь.
— Я отдохну, я отдохну, только не бросайте меня. — Сотирос снова начал оседать в грязь. Ноги его не держали.
Тогда Георгис снял с шеи шарф, и мы связали Сотиросу кисти рук. Потом мы приподняли его и подвесили на ветку, продернув ее в кольцо рук, как вешают корзину с оливками. Он сразу перестал сопротивляться, стих и совсем покорно и беззлобно продолжал бормотать:
— Там деревня. Вон огни. Я отдохну. Я повишу чуть-чуть, отдохну, и мы пойдем в деревню. Вон огни…
В конце концов, мы сделали из этого игру: по очереди то я, то Мемос тыкали пальцем в какой-нибудь дом и говорили: «Ставлю на этот». Не только все дома в новом районе были одинаковые, но и нумерация квартир по подъездам точно такая же, как в других.
Район походил на склад холодильников — белые призмы в не очень четком порядке подпирали белое небо. В каком из них жил мой шеф — догадаться было непросто, а я куда-то сунула записку с адресом.
Очередной просмотр кончился к шести часам, мы смотрели в тот день съемки по Лаосу. Мне никуда не хотелось ехать, но делать было нечего: у шефа были материалы, необходимые мне для работы, — завтра надо сдавать заметку.
Хорошо еще, что Мемос вызвался сопровождать меня, а то блуждание среди этих керамических айсбергов было бы совсем унылым.
Обойдя с тыла один из кубов, мы вышли на зады стройки — туда, где, видимо, еще недавно лепились домики подмосковной деревни. Сейчас только чудом выжившие две хибарки цеплялись за откосы котлованов и рвов. Казалось, бульдозеры тут отрыли странное кладбище для деревеньки — в просторные могилы котлованов предстояло лечь избам в бревенчатых гробах собственных стен.
На одном из уцелевших домишек болталась жестяная плашка с надписью «Парикмахерская». И табличка у двери: «Работает: вторник, четверг, суббота. Выходной день — воскресенье».
Я прочла и захохотала.
— Что там написано? — спросил Мемос.
Я перевела.
— Мистика, — сказала я. — А куда они дели понедельник, среду и пятницу?
— Мистика, — сказал Мемос и тоже засмеялся.
С фасада дом-холодильник был обжит, у каждого подъезда разбит палисадник, и в зарослях золотых шаров на скамеечках сидели жильцы, как в каком-то далеком провинциальном городке, за тридевять земель от Москвы.
И у первого же подъезда мы увидели Босю. Он тоже дышал прохладой под сенью золотых шаров. Шеф — в вязаном жилете и в тапочках. Рядом с ним сидел сильно подвыпивший старикан.
— О, господин Янидис! — воскликнул Бося, обнимая руками свои полные плечи. Этим жестом он, видимо, пытался компенсировать отсутствие пиджака. — Какими судьбами?
Бося вскочил, но тут же снова сел, пряча ноги в тапочках под скамейку.
— Конвоирую даму, — сказал Мемос.
Услышав иностранную речь, старикан крикнул: «Пардон!» и сунул руку Мемосу: «Будем знакомы. Мир — дружба».
Бося мучительно поморщился.
Мы присели на скамейку.
— Вы долго плутали? — спросил Бося. — Идиотская планировка. Мы жертвы типового строительства.
Мемос улыбнулся:
— Во время войны это очень удобно. Ни один оккупант не сможет засечь явочную квартиру.
— Ничего, лучше такие дома, чем жилищный кризис, мне вдруг стало обидно за Москву, — вы не жили в одной комнате впятером, так что не иронизируйте.
Старик все время напряженно слушал и, как видно, сгорал от желания вступить в разговор. Вдруг он выпалил:
— Мадам, их либе… ди шуле…
— Николай Егорович… — простонал Бося.
Но Мемос совершенно серьезно повернулся к старику.
— А их либе нихт… Никогда не любил, — прибавил он по-английски. — Это очень трогательно до преклонных лет сохранить любовь к школе.
Старик, похоже, не понял, когда я переводила Босе, но сказал: «Точно», — и похлопал Мемоса по колену.
— Мы сейчас видели очень страшную табличку, — сказал Мемос Босе. Он рассказал про надпись на бывшей парикмахерской.
Шеф загрохотал: «Шутники!» Но на этот раз Мемос не засмеялся, а грустно покачал головой:
— Я вот тоже веселился вначале, а сейчас думаю: это страшно. Ведь сплошь и рядом из твоей жизни изымается время — дни, годы, — как ни в чем не бывало, и ты уже начинаешь верить, что их вообще не было, и пишешь в автобиографии: «1945 год», потом сразу «1965-й». И тебе кажется, что не было двадцати лет.
Бося печально смотрел на Мемоса, и когда заговорил, меня поразила его интонация.
— Они вот надо мной смеются. — Шеф кивнул в мою сторону. — Международник, сочиняющий романсы! Но, понимаете, у меня тоже из жизни вынуты какие-то годы: война, еще всякое… Мне просто необходимо чем-то восполнить потерянные годы. Понимаете…
— Мадам, — снова выкрикнул старик, — их либе… дас бух! — он осекся — школьные познания в немецком на этом истощились.
— Николай Егорович, погуляйте, — сурово предложил Бося, и старик попятился к подъезду, посылая мне на ходу воздушные поцелуи и приговаривая: «Пардон, пардон, пардон…»
Мемос обнял Босю и сказал совсем тихо:
— Странный век, в котором мистические манипуляции со временем и пространством становятся жизненными закономерностями. И ты живешь по формуле, что отпущенное тебе время обратно пропорционально твоей ответственности перед ним. Странное время…
— Мемос, ты должен сделать свою картину, — растроганно сказал Бося. Мы все сделаем, чтобы помочь тебе. Ты должен…
— А как же с Арменией? — спросила я. — Вы же обещали ему поездку в Армению.
— И в Армению поедет. Посидит в киноархивах, отберет, что надо, потом поедет в Армению. С тобой. Проветрится. Хочет он?
— Хочет, — ответила я за Мемоса, — и там мы проживем понедельник, среду и пятницу, которые были мистически украдены из недели.
Мы говорили сейчас по-русски, и Мемос не понял:
— О чем вы говорите?
— Я объясню вам потом. В Армении. Про исчезнувшее время, — сказала я. — Про недожитое время.
Шаланда должна была ждать меня в маленькой бухточке, отгороженной от дороги невысокой песчаной дюной.
Я слез с велосипеда, ссадил Марию, которую вез на раме. Как я ни возражал — ничего не вышло: она настояла на том, чтобы проводить меня. Сказала: «И велосипед я заберу. А то куда ты денешь велосипед? Бросишь на дороге?»
— Ну ладно, все. Приехали. Дальше пойду один, — сказал я.
— Напиши сразу, — попросила Мария. Попросила, наверное, уже в двадцатый раз. Уже двадцать раз мы оговаривали, что я постараюсь написать из Италии на чужой адрес, Если, конечно, все будет в порядке, и мы доплывем.
— Вирон зайдет к вам, как вернется, — пообещал я.
Вирон, хозяин шаланды, делал не первый рейс, тайно перевозя наших в Италию.
— Ты живи там на юге, все-таки больше похоже на дом, — Мария обняла меня и прижалась лицом к моей щеке.
Я почувствовал, как за воротник мне поползла теплая капля.
— А что мне там особенно обосновываться, — голос у меня был до идиотизма бодрый. — Ты что думаешь, это здесь на веки веков? И англичане и их порядки?
Мария судорожно потерлась лицом о мою шею, размазывая по ней слезы и причитая:
— Мы не увидимся больше, я знаю — не увидимся…
— Глупышка ты, — сказал я, — вот глупышка… Воспитывал я тебя, воспитывал, а в политике все равно ничего не понимаешь. Ну иди. А то кто-нибудь… Иди…
Мы поцеловались, и она, больше не сказав ни слова, села на велосипед.
С гребешка дюны я увидел шаланду — она стояла наискосок и не то задумчиво, не то сокрушенно покачивала мачтой.
Песок уходил из-под ног, нежный и неверный, не сберегая следов, как вода. Оттого было особенно странным, что склон дюны пересечен цепочкой крестиков — следами какой-то птицы, будто эти птичьи следы были прочнее и надежнее, чем печати человеческого шага. Ерунда, конечно. И смешно было сейчас обращать внимание на птичьи следы, но я думал об этой несправедливости и о том, что все стало несоразмерным в мире. И мне было до черта обидно, что птичий след на песке прочнее моего.
Разве еще полгода назад, когда победа уже была видна во плоти, мне могло прийти в голову, что с ЭЛАС будет покончено, что по всей стране пойдут аресты и нас, бойцов Сопротивления, будут хватать жандармерия и переодетые «охранники». Хватать и бросать в концлагеря, как при немцах. Что нам придется покидать страну, покидать тайком, как преступникам, нам, освободившим ее.
Сначала мне показалось, что на шаланде никого нет. Я разулся, связал ботинки шнурками, перекинул их через плечо, вошел в воду. Подойдя к лодке, оперся руками о борт и постарался качнуть пузатое тело шаланды. Вирон поднялся с палубы, где он лежал, и неспешно повел головой: «Давай сюда!»
— Проходи на корму, — сказал он, — там увидишь: из обшивки вынута доска. Влезай.
— Как влезай? — не понял я.
— Очень просто. — Он хмыкнул. — Ты что, рассчитывал на каюту первого класса? Так все билеты распроданы миллионерам-туристам. Поедешь в обшивке. Там между двумя стенками всунешься, а я поставлю доску на место.
— А я помещусь?
— Поместишься. Все помещаются. Твой долговязый Георгис и то влез.
Я проделал все, как он сказал, Вирон заложил дыру доской, и я остался в туловище шаланды.
…Наверное, оттого, что доски почти касались меня, мне показалось, что кто-то наступил мне прямо на лицо, и я услышал:
— Давай выволакивай его, а то мы распорем весь твой дредноут.
И голос Вирона:
— Да нет тут никого — ищите. Сказал — еду за скумбрией. Вон сети.
— Ладно, довольно прикидываться. Нам известно: возишь их.
Человек постучал каблуком об пол, — как в череп мне постучал. Голоса отдвинулись, слов я уже не различал, потом услышал надсадный крик Вирона, потом грохот. Суетливо и растерянно следуя за ударами, шаланда замоталась из стороны в сторону. Я понял: Вирона бьют.
Когда все-таки они извлекли меня, жандарм помоложе (их было двое) молча смазал меня кулаком по скуле. Злился: им пришлось проковыряться полчаса, пока нашли.
Я не сдержался и тоже врезал ему. Он пошарил глазами по палубе, увидел: на корме, свернутый в бухту, лежал канат. Жандарм схватил конец и канатом ударил меня поперек груди, так что я отлетел к борту и чуть не грохнулся в море.
После этого жандарм брезгливо отшвырнул конец за борт. Свешиваясь к воде, я видел, как конец шлепнул по мелкой зыби.
Мы поднимались по песчаному откосу дюны. Я заметил, что птичьи крестики еще невредимо помечают гладкий, как натянутый выцветший брезент, скат. Потом жандарм наступил на цепочку, и она вся торопливо заструилась вниз, слизывая знаки.
На шоссе у обочины стояла легковая машина; шофер, открыв дверцу, повернувшись к нам корпусом, ждал. Когда мы подошли, я увидел, что это Цудерос.
— Он? — Старший жандарм боднул воздух в мою сторону.
— Грузитесь, — сказал Цудерос и включил зажигание.
Чтобы не смотреть на него, я отвернулся. Отвернулся к морю. И тут с пронзительным, режущим все нутро чувством я понял, что мне нужно запомнить это море. Это море и солнце, по-утреннему вполнакала работающее в раннем, бледном еще небе. И мачту над шаландой, похожей на перевернутый маятник старых домашних часов, — бронзовый блик солнечного диска покачивался равномерно на мачтовом острие. Я почувствовал, что должен запомнить все это в подробностях, как видел сейчас, — твердую упругую поверхность воды, посыпанную нетонущими медяками бликов, и детскую игру в догонялки прибрежной гальки, где камешки бросаются взапуски друг за другом за пятящейся волной, и конец каната, шлепающий по воде с меланхоличностью ослика, отгоняющего хвостом мух. Я должен замуровать в себе это бездумное наполнение человеческим счастьем, эту бескрайность моря, его надежность, его неподвластность изменениям земного пейзажа.
Я должен, потому что — черт его знает, — может, вижу все в последний раз.
Странно, но, скажем, под обстрелом я ни разу не задумывался над тем, увижу ли еще когда-нибудь эту улицу, эти горы.
— Грузитесь, — повторил Цудерос.
«И я тоже всматриваюсь в это утро и в это солнце над шаландой — в этот последний день твоей свободы. Я перебираю даты, предшествующие твоей трагедии. Я теперь знаю их наизусть, чтобы сетовать и проклинать. 9 января 1945 года. Ты был в горах, а руководство ЭАМ, желая избежать кровопролития, попросило у англичан перемирия. Шаг к концу. И конец — 12 февраля, когда в местечке Варкиза ЭАМ подписало соглашение, фактически зафиксировавшее капитуляцию ЭАМ. Подписало приговор тебе, Мемос. Именно тогда, а не позднее, когда ты был приговорен к двадцати годам тюремного заключения.
ЭАМ наивно полагало, что за содержащиеся в соглашении пункты о чистке государственного аппарата, амнистии для политзаключенных, свободе слова и печати стоит заплатить роспуском ЭЛАС. Но выполнено было только это последнее. Вместо свободы пришел террор. Он настиг тебя там, у песчаной дюны, в это последнее утро, когда ты, подобно тысячам бойцов Сопротивления, должен был избрать себе участь политэмигранта, эмигранта из страны, которую ты спасал.
Нам не хватило с тобой времени, милый, и ты не успел мне рассказать о двух десятилетиях заключения, о лагерях и о том, что ты ощутил, вернувшись, наконец, в мир. Я пытаюсь представить все сама и возвращаюсь к рассказам тех, кто прошел через твою Голгофу.
Яннис Рицос искал город своей юности и своей борьбы в городе мрака и террора, хотя у обоих городов было одно имя — Афины.
Он повторял эти строки на афинских мостовых 1952 года, Тогда многие искали свой город и не могли найти.
По-своему тебе «повезло». В 1965 году, когда ты пришел на свидание с городом и миром, в нем уже было больше знакомых по твоей юности черт. Двадцать лет твоего заточения — двадцать лет выхода из заточения духа свободы, распятой трагедией поражения.
Вас раскрепостили почти одновременно — тебя и Грецию, 1965-й.
И всего два года было отпущено вам — тебе и городу.
Как это ничтожно мало рядом с двумя десятилетиями заключения. Как это предательски мало перед необозримостью новой неволи.
И как ничтожно мало слов для утешения. Мало, но все-таки есть.
Я часто писала тебе о повторах в истории. Порой может возникнуть ощущение: жертвы бессмысленны, все возвращается на круги своя. Нет, дорогой. Нет, нет и нет! Опыт трагедии не бесплоден. Человечество не зря получает это кровавое образование. Трагедии могут возвращаться, но человечество с каждым разом все искуснее и дееспособнее в противлении им.
В 1936-м, после первого прихода к власти фашизма в Греции, Метаксас провозгласил наступление Третьей эллинской цивилизации. Другими словами — удушение культуры по установленным уже фашистским образцам. Тогда только крохотная группа греческой интеллигенции нашла в себе силы для протеста.
Когда в 1965 году король Константин в нарушение конституции устранил выбранное народом правительство, лишь один поэт Георгиас Новас согласился подыграть королю. И был предан всенародному остракизму.
В 1967 году в Греции власть захватила хунта «черных полковников». «Полковники» оказались в еще более трудном положении: их призывы «о служении нации» напоминают митинг в пустом зале.
Трагедия небесполезна. Память обретает плоть не только в эпитафиях на могильных надгробиях. Она слагается — равно — в строфы гимнов и строки лозунгов.
Мир не зря познал этот запрет на рождение гения, познал иссушающий паразитизм свиней, высасывающий духовные силы отчизны. Увы, еще не раз жестокость и тупость будут прикладывать к груди народов своих выкормышей, чтобы обречь на нравственную и физическую гибель ее истинных детей.
Но Фидии будут рождаться. Они превзошли эту мудрость трудного рождения и трудного мужания. Перед ними ничтожны тюрьмы и концлагеря, хоть опоясай полземли колючей проволокой, жги книги и дроби в прах ваяния.
«Лишь мудрец свободен. Все остальные рабы. Свободный духом и мыслью превосходит Зевса: Бог находится вне страданий, мудрец — выше страданий».
Где-то там, у стен твоей тюрьмы, Мемос, двадцать три столетия назад стоики провозгласили этот меморандум нравственной свободы.
Или это сказал мне ты?..»
— Назначь мне свидание, — попросила. — Не синандисис, а именно рандеву.
Мемос стоял на два шага впереди меня, гладя перед собой, на храмы. Я видела только его спину, обтянутую синей рубахой, уведенные вперед плечи, кисти рук, обхватившие торс.
Греческое слово, втиснутое в английскую фразу, должно было, по моему замыслу, произвести впечатление. Я готовила эту фразу. Я отыскала «синандисис» в словаре. Но он обернулся и ничего не сказал.
Совсем жалобно я попросила еще раз:
— Ну пожалуйста…
— Пойдем туда, — сказал Мемос.
Мы пошли вверх по дороге, розовой дороге, усыпанной крошкой армянского туфа. Теперь храмы Гегарта придвинулись к нам вплотную.
Здесь природа, разъяв горы на обрывах гигантского ущелья, выточила призраки крепостей, храмов, городских стен. Природа действовала раскованно и бесконтрольно: она лепила только идеи строений, которые обретали подробности в воображении зодчего. И так увлекателен был этот дерзкий почерк мироздания, что человеку хотелось вступить в неизбежное соперничество со строительным гением хаоса. Иначе отчего бы ему пришло в голову еще шестнадцать веков назад врубить в глубину горных монолитов внутрискальные храмы?.. Лишь одно из этих святилищ выступает из тела горы, соприкасаясь с небом, с воздухом. Остальные замурованы в чреве камня.
В спину Мемоса я произнесла:
— Ну, скажи: «Спасибо редакции, которая организовала поездку в Армению. Спасибо, Ксения, что ты привезла меня в это удивительное место».
Не оборачиваясь, он повторил:
— Спасибо, Ксения, что ты привезла меня в это удивительное место.
Дорога сжалась и узкой тропкой поползла к проему, ко входу в храм.
Нас замкнула просторная полость, каменное дупло.
Я никогда не могу преодолеть в себе страх перед замкнутым пространством, я боюсь подземелий. Я не езжу в метро. Во время войны для меня не было более пугающего места, чем бомбоубежище.
Здесь мне тоже стало страшно. Но впервые в жизни я не боялась непроницаемых стен. Я ощущала страх и беспомощность оттого, что осталась с Мемосом одна, отдельная от мира, и не знала, как вести себя, что говорить.
Колонны, тяжкими лилиями распадавшиеся у потолка, базальтовый алтарь, похожий на эшафот, были увиты нечеткой каменной резьбой. Свет шел только через прорезь в куполе: гладко выструганный луч, упиравшийся в алтарь.
Чтобы не смотреть на Мемоса, я задрала голову к куполу.
— Агамемнон, — сказала я, — вот видишь, здесь твое античное имя даже не звучит пародийно.
Слова ударялись о выступы стен, о выбоины в камне, множились, эхо летело рикошетом, будто говорили сразу десять человек. И от этого фальшивый кретинизм произносимого мной тоже казался удесятеренным.
Про себя я сказала: «Мемос, подойди, пожалуйста, и поцелуй меня. Мне необходимо, чтобы ты поцеловал меня». Про себя я ответила за него: «Мне тоже необходимо поцеловать тебя немедленно». И он обнял меня, и я прижалась щекой к нагрудному карману его рубахи, из которого торчала авторучка. Ручка впилась мне в скулу, и это было блаженное ощущение, потому что ручка принадлежала ему, и рубаха была его, и весь он был рядом.
Мемос стоял, как там, на дороге, выдвинув вперед плечи и обхватив длинными руками торс. Он даже не пошевельнулся.
Вслух я сказала:
— Вот что, давай учиним какой-нибудь языческий ритуал. Давай принесем меня в жертву, и ты заколешь меня на алтаре авторучкой.
— Вот что, — сказал он, — прекрати это. Прекрати этот провинциальный театр. Я ненавижу тебя.
Мне вовсе не показалось, что он ударил меня, и у меня вовсе не оборвалось сердце. Просто я почувствовала, как прохладная тишина, стоявшая вокруг, вдруг переместилась внутрь меня и там все пусто, прохладно и пусто.
Мемос подошел ко мне вплотную, и авторучка, торчавшая из нагрудного кармана его рубахи, впилась мне в скулу. Он целовал мои волосы, и лицо, и куртку, и его голос был где-то надо мной и за мной, и слова, ударяясь о стены и выбоины в камне, множились, будто говорило десять человек.
Он повторял опять и опять:
— Ненавижу. Я ведь себя знаю: ты мне теперь уже до конца. И ты мне — главное в жизни, а я бесправный: женщина не должна быть главным для меня. И ничего я тебе не могу дать, даже года жизни не могу обещать… Ты понимаешь это? Ничего ты не понимаешь…
А я только твердила:
— Ну и пусть, ну и пусть.
Мы стояли у самого алтаря, у каменного помоста, похожего на эшафот. Луч, тянущийся из прорези в своде, упирался в лицо Мемоса. Я могла рассмотреть в подробностях это лицо, я могла выучить его наизусть. Но тогда я еще не знала, что мне нужно затвердить каждую черточку, как учат строчки стихов, чтобы повторять их, когда у тебя навсегда отнимут книгу. Ничего я тогда не знала. Только твердила:
— Ну и пусть, ну и пусть…
Я не помню, я ничего не помню. Это чудовищно, нелепо: ведь все, что связано с Мемосом, малейшая подробность, черточка, звук чужого случайного голоса, облики пейзажа — все не просто живет во мне. Оно высечено с особым тщанием, озвучено без помех.
Я же разглядела дорогу, идущую вверх, к храмам розовую дорогу, усыпанную крошкой армянского туфа. Даже слышу щебет камешков, секретничающих под подошвами.
Я же не была слепа или беспамятна, чтобы не разглядеть, как там, внутри горы, колонны тяжелыми лилиями распадались у потолка, как базальтовый алтарь, похожий на эшафот был увит нечеткой каменной резьбой. Если напрячься, я могу восстановить в памяти и прихоти каменного орнамента. Я знаю отчетливо: свет шел только через узкую прорезь в куполе, и гладко выструганный луч упирался в алтарь.
Но дальше я не помню ничего.
Как мы добирались до Еревана? Конечно, на машине, которая ждала нас. Но я не помню, что это была за машина, как выглядел шофер, сколько времени заняла дорога. Час или минуту. Дорога была бесконечной и, вроде бы, мгновенной.
Я не помню, как тогда выглядела площадь перед гостиницей и каким было само здание.
У портье, давшего нам ключи от номеров, не было лица, возраста, роста, одежды.
Впрочем, нет. Одно я помню отчетливо: ключ в моей руке никак не мог отомкнуть дверной замок. Пока Мемос не понял, наконец, что я пытаюсь орудовать его ключом, ключом от его номера.
Мы не зажгли света. Еще стеснялись друг друга, боялись предстать новыми в своем обнажении? Нет. Поиски выключателя заняли бы какие-то минуты, а мы не могли отнять их у нашего всепоглощающего желания.
Сколько раз в нашей разлуке я повторяла строчки:
— и не могла понять, какая же из этих «памятей», моя — память сердца твердила мне, перебирала частички нашего недолгого совместного бытия. Но ведь я пыталась осмыслить каждую из этих частиц, и уже невозможно было разглядеть память и различить, что чему принадлежит.
В тот вечер, в ту ночь мне открылась иная память. Память тела, память ощущений. Ее нельзя отследить мыслью, и сердце, способное на воскрешение радости и тоски, может только замирать.
Эта память заставляет меня в бесконечных снах чувствовать его тело, мое тело, она внезапным обрывом сна заставляет вскакивать в постели и шарить на подушке его голову. И не верить: где же ты, где, я же осязала тебя мгновения назад…
Эта память дома, на работе, в людской толпе может прихлынуть и на какие-то минуты затопить сознание, уничтожить все вокруг. Перед этой памятью я беспомощней, чем перед памятью рассудка, даже памятью сердца.
Мы не зажгли света, но наши руки, наши губы были зрячими, им не нужен был свет, чтобы узнать, разглядеть, запомнить… Да и все мое тело исполнилось пронзительного смысла, я почти слышала, как моя кровь гулко салютует сердцебиению Мемоса. Это было томительным и неудержимым восхождением к вершине, за которым собственное тело переставало существовать самостоятельно, и наступал тот миг «когда рушится мир водопадом последнего счастья, коронованный нимбом из радуг, деревьев и брызг».
Я никогда не писала стихов, только дважды в жизни мне привиделись строчки. Однажды, уже в разлуке, когда я вскочила ночью от удара оборвавшегося сна. Вот эти. И еще один раз. Когда строчки освободили меня от Мемоса.
Мы не зажгли света, в моем гостиничном номере стояла непроглядная темень. Но мне казалось, что луч, идущий откуда-то сверху, упирается в лицо Мемоса, и я могу выучить его наизусть.
«Дорогой, я была там. Я снова была в Гегарте. Потребовалось два года, чтобы набраться храбрости прийти туда. Ведь когда я повторяла недолгие маршруты наших прогулок по Москве, я могла слово в слово восстанавливать все произнесенное тобой, и мне становилось радостно и надежно. Все слова были живыми, им предстояла долгая жизнь перевоплощения, они знаменовали исток. И хотя лучшие мои минуты были прожиты в Гегарте, эта скальная утроба стала первым пристанищем безнадежности, конца, обрыва… Там ты сказал мне впервые: «Я не могу обещать тебе даже года жизни. Я бесправный…»
Ты говорил о бесправии, которое сам избрал для себя, видя в нем высшее право: право на единственное назначение в жизни. Право на служение идее, исключающее права на ежедневное счастье, на уравновешенность сегодняшнего дня и мирную обязательность завтрашнего.
Не знаю, способна ли я на такое самоотречение, вероятно, нет. Но мне и раньше хотелось понять душевный механизм людей, которым дано это право. Я всегда пыталась разгадать, почему какой-то человек после многолетнего заточения, истязаний, нравственных и физических, обретя, наконец, свободу, способен вернуться к тому, с чего начал, — к служению своей идее, зная, что это несет ему. Снова может принести.
Теперь размышления о людях такого рода исключают для меня абстрагирование. Теперь это — ты, моя любовь, моя жизнь, мое вчера и мое завтра, даже если его нет.
Когда думаешь о чем-то неотступно, всегда возникает ощущение, что жизнь подсовывает тебе то и дело какие-нибудь вариации именно этой темы — то в разговорах, то на книжной странице. Как нарочно. Дело, пожалуй, в том, что, незаметное в другом состоянии, оно вдруг захватывает внимание, когда ты сосредоточен именно на данной теме. Но, кажется, в природе заговор: все вокруг твердит об одном.
Сейчас вдруг в «Красной печати» у Альфреда де Виньи наткнулась на фразу, которая просто вступала в диалог с моими терзаниями, силясь принести разгадку. Я даже откинула книжку и бросилась писать тебе. Вот: «Наблюдая изо дня в день, как белокурые юнцы и седовласые старцы без труда переносят непривычные тяготы, как люди… отважно ставят на карту свое обеспеченное будущее, я, разделяя, в свою очередь, то удивительное душевное равновесие, которое дает любому человеку убежденность в том, что он не может уклониться ни от одного из обязательств, налагаемых честью, я понял, что самоотречение — это нечто более простое и более обычное, чем принято думать».
Видимо, мне трудно и не просто переступить через слепоту собственного горя. Не просто понять тебя. Тут и другое. Видимо, мы отделены разностью душевной формации. Я по-прежнему воспринимаю бескомпромиссную отреченность как что-то исключительное, требующее сложного осмысления, а для тебя она — «нечто более простое и более обычное, чем принято думать», и именно в этом заключено обретенное «удивительное душевное равновесие».
Но, как сказано: «Я не волшебник, я только учусь».
Среди газетных окаменелостей типа: «Сделав два плавных круга, наш самолет приземлился…», или: «Города, как люди: у каждого есть свое лицо» — сентенция: «Жилище — визитная карточка человека» — одна из самых стойких.
Но штампы точны только в промышленности. В журналистике контуры их так истерлись от ежедневного применения, что точность утрачена давным-давно. Так и с «жилищем — визитной карточкой». С тех пор как мебельная «модерняга» проникла в дома, квартиры стали похожи на гостиничные номера.
Моя комната не исключение. Нет в ней никакой индивидуальности, и портретом владельца она не является. Может, единственный аксессуар, по которому можно установить, кто тут живет, — карта земных полушарий. На ней красными линиями отмечены мои разъезды с вынесенными на поля названиями очерков, которые я привозила из того или другого места. Синими чертами мои друзья помечают их маршруты, и каждый тоже что-нибудь пишет на полях. «Париж стоит не только обедни, как утверждал Генрих IV, но и того, чтобы остаться без обеда, как утверждает Генрих Замков». Конечно, Генка.
«Романтика меж тем водила поезд девять-семь (на Абакан — Тайшет). Р. Киплинг — В. Борисов». Это Влад.
Комната Кирилла куда как больше смахивает на него самого. Во всяком случае, по обилию портретов Шекспира, облепивших все стены, литературные пристрастия владельца устанавливаются немедленно. И по тому, что над кроватью прикреплен игрушечный индейский скальп рядом с фотографией обратной стороны Луны, можно определить и возраст владельца. По вечному беспорядку и отсутствию зеркала — его пол.
Когда Мемос первый раз вошел ко мне, я вдруг заметалась: сейчас он скажет: «Ты не путаешь свою комнату с чужими?»
Но он ничего не сказал.
Он сел на тахту. А я, как в гостях, ткнулась в кресло напротив — на самый краешек сиденья.
— Сейчас будем пить чай. Ладно? — сказала я.
— Мы не будем пить чай. У нас нет времени на чаепития. Мы еще ни о чем не разговаривали, — сказал Мемос.
Утром он улетал. Домой. Надолго. Или совсем. Он улетал, и я ни о чем не могла думать. Во мне, как запертый в клетку зверек, металось: «Завтра — все, скоро — все».
— Мемос, завтра — все, — сказала я.
Он наклонился вперед, протянул руку через неудобное чопорное пространство, разделявшее нас, и запустил пальцы в мои волосы. Он прикрыл глаза и покачал головой.
— Ничего не все. Все только начинается. У нас впереди еще тысячи свиданий. И первое — на углу Арбата и улицы Бубулинас. Мы сейчас отправимся туда. И ты выйдешь первая. Ты мне все про себя расскажешь: ведь я даже не знаю, кого я полюбил.
Я испуганно запротестовала.
— Нет, нет! Ты будешь рассказывать. Про меня нечего разговаривать. Пошли. — Я взяла его ладонь, обнимавшую мой затылок, подняла его с тахты, и мы пошли к карте полушарий.
— Что это за кабалистические знаки? — Мемос показал на красные и синие линии.
Я объяснила. Он достал авторучку и прочертил неровную дорожку из Афин до Москвы. На полях написал: «Арбат — Бубулинас. Я люблю тебя. М.»
Наверное, именно с этих минут моя комната утратила свою безликость. Ведь теперь вещи приобрели свою единственность и неповторимость: не было в Москве другой географической карты, отмеченной его почерком, и не существовало тахты и кресла, которые пришли в великое противостояние оттого, что мы сидели друг против друга и пальцы Мемоса, как в воду, были погружены в мои волосы.
Дверь в комнату с прерывистым кряхтеньем распахнулась, и ввалился Кирка. Закрыв глаза, шаря перед собой вытянутыми руками, он добрался до тахты и, сделав отличный каскад на спину, рухнул.
Он слабо простонал:
— Пить! И если можно… есть!
Ну я подыграла, конечно:
— Что с вами, дитя мое?
Он беспомощно уронил голову к плечу и прошелестел:
— Незнакомые, но милые лица склонились над юношей. «Где я?» — еле слышно произнес герой.
Я продолжала:
— Не волнуйтесь, вы среди друзей. Поднимите голову. Чашка крепкого бульона подкрепит вас.
Кирилл простонал:
— Лучше две пачки пельменей, добрая леди.
Мемос, конечно, не понимал ни слова, но наш тон не оставил сомнений по поводу сцены. Мемос деловито вставил:
— Бедняга, видимо, вырвался из рук преследователей.
Только тут Кирка понял, что я в комнате не одна. Покраснев, он метнулся с тахты.
— Знакомься, это Мемос, — сказала я.
Мемос пожал Киркину руку, назвался «Янидис» и спросил его:
— Вы говорите по-английски?
— Да, то есть немного… — Кирка знал язык довольно прилично, однако разговаривать стеснялся.
— Говорит он неважно, но все понимает, — сказала я. — И про тебя все знает. Я привыкла ему все рассказывать.
— Все? — переспросил Мемос.
Кирка ответил за меня, как-то по-взрослому ответил:
— Все. И я рад, что наконец вижу вас. — Он поискал слова: — Я мечтал познакомиться с вами.
— Вот и я мечтал. — Мемос обнял Кирку за плечи.
Тот покраснел еще гуще.
— Вы напрасно смеетесь. Я правда мечтал.
Русской скороговоркой Кирка пробубнил мне:
— Ма, ну я пойду. Я помешал, наверное.
Мне очень хотелось провести этот последний вечер вдвоем с Мемосом. Я никому не желала подарить ни его жеста, ни звука голоса, я не могла делить его ни с кем. Пока в ожидании его прихода я металась по комнате, переставляя книги на стеллаже, я уже сто раз пережила этот вечер, придумала миллион слов за себя и за него. Хотела только безраздельного владения этим вечером. И все-таки я сказала Кирке:
— Нет, не уходи. Мемос будет рассказывать про свою жизнь. Нам обоим будет рассказывать. Садись.
Теперь, когда по вечерам мою комнату наполняет голос Мемоса, чуть глуховатый, изъеденный никотинным кашлем и годами молчания в одиночке, я всякий раз благодарю минуту, в которую мне пришла мысль включить магнитофон. Мемос не заметил. А Кирка заметил и понял. Он даже умудрился, не привлекая внимания, менять кассеты, когда кончалась пленка.
Господи, что бы я делала без этого голоса сейчас? Но теперь он со мной, и я могу прожить с Мемосом его жизнь столько раз, сколько захочу. И Кирка может. Нам обоим это важно, важно по-разному.
В этот последний вечер мы с Мемосом не были вдвоем. А я ни разу не пожалела об этом — ни тогда, ни после. То, что Кирке из рук в руки была вручена жизнь, которой он мог следовать, наверное, драгоценнее минут женского счастья, отнятых у меня.
Мемос начал:
— Когда мы вылезали через пролом в стене…
«Дорогой! Я уже писала тебе, что была в Гегарте. Да, нужны были два года, чтобы я отважилась на поездку в Армению, открывшую мне суть стертого и непознаваемого понятия «счастье».
Наверное, нет более примелькавшихся слов, чем «счастье» и «любовь». И, наверное, нет более употребляемой сентенции, о том, что для каждого человека она — впервые на земле. Ведь, действительно, невозможно вообразить, что свершившееся с тобой могло быть пережито, даже похоже на то, что с кем-то уже происходило, кем-то ощущалось.
Опыт познаваемого мыслью в науках и знаниях, опыт «шестого чувства» в наслаждениях искусством — передаваем. Опыт открывателей и мыслителей — достояние стремящихся к овладению им.
Любовь не знает опыта поколений. Не знает множественности, кальки. Всегда думаешь: «А ведь то-то и то-то не происходило ни с кем. Откуда им знать, как это было со мной».
Любви нельзя научить. Все прекрасные книги и строфы только подпускают тебя к чувствованиям авторов или героев, только великодушно разрешают созерцать и сопереживать. Пусть даже вскрикнешь: «Это же — я, это — со мной!». Или попытаешься повторить в своем поведении поступок героя. Ты не сможешь стать им, в лучшем случае сумеешь лишь подражать. Но никогда твоя судьба, твои чувства не отразятся точно в зеркале книжной страницы.
Книги, у которых стоит учиться, вовсе не «зеркало жизни». Это школьные училки внушают обществу трюизм, насчет реалистической зеркальности. Какую жизнь отражают страницы Гёте, Пруста или Фолкнера? Строки Пушкина или Гомера? Бытие, в котором жизнь — лишь материал. Не слепки — создания новой субстанции, лишь отчасти схожей с жизнью.
Потому и наше обманчивое сходство мало что значит.
Можно восхищаться или негодовать по поводу какой-то выписанной любви, но научиться — нет. И счастью обучить нельзя.
Господи, хоть бы кто-нибудь выучил меня быть счастливой!
Я была в Гегарте, я была в Ереване, я путешествовала по Армении.
Теперь я узнала, что плоское блюдо центральной площади обрамляют здания, похожие на нарядные настольные часы.
Когда-то эти часы вели отсчет времени, и время принадлежало нам. Часам было поручено пробить сигнал прощания с Ереваном. Не утробный же голос репродуктора: «Самолет, вылетающий рейсом Ереван — Москва…» мог принять на себя эту обязанность! Это провозгласили каменные настольные часы с Ереванской площади. Иначе отчего бы у меня так заболело сердце?
Теперь здания, обнимающие площадь, служили своему прямому назначению. Они перестали быть часами. Сохранилось только внешнее сходство.
Ты замечал, дорогой, как обстоятельства выхолащивают суть предметов, сберегая только их оболочки? Что, скажем, дом, в котором обитает твоя Любовь, лишь похож на дом ее былого обитания? Воспоминания, увы, всего лишь воспоминания. В них может жить грусть, но они никогда не обладают мистической силой живого присутствия.
И это говорю я, я, для которой Память — составляющая моей живой жизни. Да. Незачем лукавить с собой. Памятью можно жить, но прожить ее заново невозможно.
Впрочем, это, наверное, я от тоски, от невозможности возврата и обретения. Мне кажется то так, то так…
Я путешествовала по Армении. Она была иной. Опустевшей и безучастной. Иным было и время года. В долинах весна уже вынула из почек робкие листки. В горах лежал снег.
Друзья отвезли меня в горы, сказали: «Поболтайся, наконец, без дела. На лыжах покатайся. Крутани курортный романчик». Даже снабдили горнолыжной экипировкой.
Я любила горные лыжи. Я любила игривую обстановку пансионатов и «домов творчества», где меньше всего творили.
Гагры, зимнее Подмосковье, горные приюты. Мгновенные знакомства, которые кажутся уже дружбой навсегда. Пляж или лыжи. Вечерние посиделки, когда в чей-нибудь номер набивается куча народа, булькает нехмелящая водка, и какой-то непременный бард распевает только что изготовленную песню. А то и бардовское состязание затевается.
Мне нравилось пришествие живописных незнакомцев, на которых все присутствующие дамы «делали стойку». И мне хотелось поймать оценивающий взгляд «персонажа» из глубины посиделок, а завтра где-то на лыжне обменяться ничего не значащими словами. И знать, что если захочу, могу завести ни к чему не обязывающий романчик. И доказать прочим красоткам, что вот — могу всех обскакать.
Конечно, они станут пожимать плечами, небрежно поражаясь: «Подумать только! Ничего в ней нет экстрового, а мужики клюют», «Стремится показать, что и ее не на обочине нашли. У этих неприметных всегда так».
Однако мое-то стремление довольно быстро гасло, и я «выходила из игры», не сделав «решительных ходов». Сама курортная круговерть была самодостаточной.
Но я все это любила. Любила — «до». До твоего прихода в мою жизнь. Любила, не подозревая, что без тебя любые пристрастия окажутся пустыми и никчемными.
На этот раз тоже все шло своим чередом.
Шумели утренние сборы на гору, шумела обеденная столовая, шумели вечерние посиделки, шумели пешие походы в расположенный неподалеку ресторан. И многочисленные стремительные романы и возникающие связи обсуждались шумно.
Но я была всего лишь зрителем в этом шумном цирке-шапито, который, казалось, завтра снимется с места, поменяв труппу, но оставляя неизменной программу.
Да и на лыжах кататься не хотелось. Погода стояла мерзкая, сыпал мелкий предвесенний снег, все приходили с горы притомленные, вымокшие путники в непогоду.
Сидя у окна в своей комнате, я смотрела на снег. Снег валил, набивая пространство матовыми алюминиевыми монетами, и уже не было видно за ним ни дальней горы, ни ближней, и даже домик канатной дороги отгородился, отступил в эту белую замять.
И вдруг мне захотелось записать этот пейзаж, задержать его на листе бумаги. Наутро он мог исчезнуть, стертый обнажившимся солнечным светом, яркостью неба.
Мне захотелось задержать мокрые фигурки на склоне горы, их голоса, их повадки, их отношения. Им ведь тоже грозило исчезновение.
Попросту мне захотелось написать рассказ, не подозревая, что это называется именно так. Я же сроду не писала прозы. Помнишь, ты как-то сказал мне: «Когда ты будешь писать роман…», а я ответила: «Я не пишу прозы. Я же скучный архивариус действительности». А ты сказал: «А вдруг? Вдруг запишешь…»
Это ты мне велел: запиши снежный пейзаж, людей на горе, их повадки и отношения. Ты, кто же еще. Ты знал, что я с тобой послушная, что мне в радость все твои желания.
И я написала: «Снег валил, набивая пространство матовыми алюминиевыми монетами». Я не задумывалась — хорошо ли это, тонко ли ухвачено зрелище. Записала и все. И потом, всю неделю в горах садилась и писала.
Мне хотелось прочесть написанное тебе. Первому. И, может, никому больше. Поэтому я написала:
«Снег валил, набивая пространство матовыми алюминиевыми монетами, и уже не было видно за ним ни дальней горы, ни ближней, и даже домик канатной дороги в трех шагах за спиной Пегова отгородился, отступил в эту белую замять. Снежинки двигались не по отвесной, а почти горизонтально над плешью горной вершины. Сыпало неравномерно, а то гуще, то слабее, будто кто-то там, в близких бесцветных небесах, вытряхивал снежные запасы из мешка, а когда они исчезали, брался за новый.
Немного прояснилось, и сразу проступили неправдоподобно яркие фигуры горнолыжников у ледового «желоба» и обозначилась синяя крыша над серым облупившимся домиком канатки. А потом стало видно и гору рядом, и торчащие по склону деревья. Но снег все шел.
— Давайте спустимся обратно, — сказала Ася. — Я уже вся мокрая.
— Точно, — поддержала Бурмина. Помолчав, она сказала: — Они слепые от ветра и снега. Наклонили вперед головы, раскинули руки и идут сквозь снегопад на ощупь. Щупать снегопад.
Пегов поймал взгляд Бурминой, обращенный к деревьям на склоне горы, подумал: «Правда», — и опять удивился, словно не поверив, что все это — она же, Бурмина.
Три дня назад Пегов приехал в горы. В помещении писательского Дома творчества проходил всесоюзный симпозиум по АСУ. Конечно, автоматические системы управления имели к писательскому ремеслу довольно отдаленное отношение, и сам симпозиум можно было бы собрать в каком угодно месте равнинного Нечерноземья, но ученые ратовали за эту точку земли. Когда съехались, как-то само собой выяснилось, что все до одного участники научного собеседования — горнолыжники. Пегова тоже соблазнила возможность недельку покататься и заодно подновить загар. Потому и поехал.
Круглогодичный пеговский загар был постоянной темой восхищения всего женского состава НИИ. Впрочем, как и сам Пегов. Пегов был звездой НИИ, его легендой, его гордостью. Когда где-нибудь заходила речь об их институте, мужчины-сослуживцы говорили: «Мы с Пеговым», а женщины «со стороны» заглядывали в глаза собеседнику: «А вы Пегова хорошо знаете?»
Пегов любил свою славу, любил, когда после его докладов коллеги в кулуарах тискали пеговское плечо и то ли сокрушенно, то ли почтительно вздыхали: «Ну, ас!» Он любил во время летнего отпуска, выходя на пляж, замечать, как все песчаное пространство у воды вдруг дыбилось мгновенной волной поднимающихся навстречу его движению женских голов. И трудно сказать, что любил он больше.
Из этого вовсе не следовало, что в науке Пегов был поверхностным краснобаем, а в отношениях с женщинами проводил, как говорил Александр Георгиевич Строев, «политику выжженной земли», сражая направо и налево. Нет. Отнюдь нет. Просто мужской успех, как и научный талант, был для Пегова естественным условием его пребывания на земле.
Александр Георгиевич тоже приехал на симпозиум. Он был содокладчиком по теме Пегова.
Три дня назад, после утреннего заседания, войдя в толовую, Александр Георгиевич сказал ему:
— Кинь глаз на угловой столик у окна.
— Кинул, — строго сказал Пегов. — Ну и что?
— Лично Татьяна Бурмина. С косой. И я уже — косой.
Александр Георгиевич считался в НИИ главным и неиссякающим каламбуристом.
Они сели за угловой столик, где обедала Бурмина с подругой, а два места были свободны.
— Возражений не последует? — весело осведомился Александр Георгиевич.
— Что вы, что вы, пожалуйста, — ответила подруга и, взглянув на Пегова, залилась краской.
Бурмина ничего не ответила, как, наверное, и было положено ей, известной поэтессе. Она только потянула себя и косу, свисающую через плечо к столу. Такую несовременную и даже претенциозную для ее возраста косу. Но, может, и косу могла позволить себе известная поэтесса.
— Давайте взаимопредставляться, — Строев привстал. — Мой друг — прославленный ученый Леонид Эдуардович Пегов, известный в кругах, — он очертил в воздухе круг, — под кодом «ЛЭП-500». Меня можете звать просто — герцог Альба. За сходство с портретом кисти…
И «ЛЭП-500» и «герцог Альба» были в НИИ изобретением Строева, хотя авторство своего прозвища тот и отрицал.
Подруга Бурминой засмеялась, оценив строевское остроумие:
— Это — Таня Бурмина, а меня зовут Ангелина Николаевна. Впрочем, по-курортному можно — Ася.
Бурмина по-прежнему молчала, и Пегов вдруг ощутил и безвкусную нелепость кличек для двух серьезных сорокалетних мужчин, и даже отчество свое, особенно в устах Строева, покоробило его. Что-то фельетонное было в этом «Эдуардовиче». И он понимал, что Бурмина неизбежно это почувствует.
Весь обед он исподтишка разглядывал Бурмину, и ее молчаливая задумчивость, и блестящая темно-каштановая коса, и зеленые глаза с легкой косинкой, отчего взгляд ее, казалось, перешагивает предметы и вбирает их в себя, вызывали в Пегове нарастающее почтительное восхищение. Даже то, что Татьяна была одета не как все, не по-горному в свитер или джинсовую куртку, — а утопала в клубах широкой черной газовой блузки, подчеркивало для Пегова ее исключительность, некую отторгнутость от вещного прозаического мира. Пегов знал стихи Бурминой, действительно талантливые стихи, и думал сейчас, что она и должна была оказаться именно такой.
После ужина показывали фильм. А потом они вчетвером пошли гулять.
Снег валил и тогда, и свет уличных фонарей в селении был неспособен раздвинуть на ширину улицы снежную завесу.
— А почему — «500»? — вдруг спросила Бурмина. — ЛЭП — это ваши инициалы. Так? А почему — 500?
— Моя прекрасная, моя далекая от земной прозы! — Александр Георгиевич обнял Татьяну за плечи. — По-нашему, по-скучному, ЛЭП не только инициалы Лени, но еще и линия электропередачи. А 500 — это высоковольтная. Он у нас ведь высочайшего напряжения.
— Смешно, — мрачно произнесла Бурмина. И Пегов опять восхитился ее чуждостью простых и непоэтичных понятий, сопротивлением этому сомнительному остроумию.
— Вы сделали очень интересное сообщение, — Ася обратилась к Пегову. — О проблемах надежности, по-моему, еще никто так не писал. Так что о «высоком напряжении» Александр Георгиевич не без основания…
— А вы были на вечернем заседании? — Пегов удивленно повернулся к ней. — Что это вас потянуло? АСУ интересуетесь?
— Так ведь я тоже на симпозиуме. Таню я уговорила сюда поехать. А я — на симпозиуме. В некотором смысле, ученая дама…
Строев засмеялся:
— Деточка моя, ученая женщина…
— Вы хотите сказать: «Ученая женщина, как морская свинка: не морская и не свинка. Не ученая и не женщина». Да? — Ася грустно посмотрела на Строева, и тот заметно для всех смутился, ибо именно это и собирался произнести. Но Ася покачала головой, точно ободряя его:
— Я действительно очень посредственная ученая.
— Зато прелестная женщина. — Пегову стало жаль ее и досадно за строевскую бестактность.
— Вы-то откуда знаете? Вы ведь даже меня не видите. Вот даже не заметили, что я бываю на всех заседаниях. — И как-то слишком серьезно Ася попросила: — Не говорите ничего не значащих для вас слов, пожалуйста. Ведь их можно и за правду принять.
Неожиданно для себя Пегов, как только что Александр Георгиевич, тоже почувствовал смущение, будто и он был в чем-то уличен. И чтобы оправдаться перед Асей, повел ее к близкому фонарю, приговаривая:
— А вот и вижу. Все вижу. Вижу, что тоненькая, женственная. И синие глаза вижу, и что шапочку голубую надела нарочно — вижу. Чтобы глаза стали еще синей. Все вижу.
— Ладно, завели, — осевшим вдруг голосом сказала Бурмина. Она подскочила к Пегову и, резко дернув за рукав, повернула к себе: — У меня вон дубленка тоже новая. Идет мне?
Пегова резануло это грубоватое «Ладно, завели» и нескрываемое раздражение Татьяны. Но он улыбнулся.
— Потрясающе. И как сказано в одних прекрасных стихах: «Штопором шел снег над фонарями, в свете возникавший ниоткуда».
Татьяна согласилась охотно, даже с энтузиазмом:
— Да, это у меня — гениальные стихи.
«Господи, как можно сказать о своих стихах — гениальные!» — изумился Пегов.
Они двинулись дальше и дошли до магазина «Продукты», стеклянного ящика, одиноко поблескивающего среди темных кубиков жилых домов, сложенных из тесаного туфа. Темные столбики консервных банок в витринах были подсвечены желтым лучом, выползающим из задних помещений магазина.
— Слушайте, герцог Альфа, — Бурмина хлопнула Александра Георгиевича по спине, — сунулись бы в магазинчик с того хода. Хорошо бы бутылку сухого и конфет. Может, дадут.
Это самое «герцог Альфа» привело Строева в состояние буйной эйфории. Сгребя в кулак свою испанскую бородку, он затанцевал:
— Ну, девочка! Ну — восторг! «Герцог Альфа»! Альфа! Каламбурина! Каламбуретта! — Увлекая Татьяну, Строев побежал за магазин.
А Пегов вдруг понял, что Татьяна вовсе не имела в виду никаких каламбуров, а просто слышала имя Альбы впервые, так же как ничего не знала о «ЛЭП-500».
Симпозиум длился неделю, и все свободное время они проводили вчетвером. Пегов, Строев и Ася катались на лыжах. Татьяна, безучастная прежде к горам и горным лыжам, тут вдруг решила приобщиться к спорту и, хотя была довольно неуклюжей, лезла на нижнюю горку. Строев взял на себя тренерские обязанности, сбился с ног, разыскивая для нее лыжи и амуницию. Достал. Отказавшись от собственных радостей, торчал возле Бурминой, ставя ей ногу, ловя при бесконечных падениях.
Пегова раздражала эта строевская суетливость, раздражала и Татьяна: было совершенно очевидно, что лыжи ей понадобились только для того, чтобы сосредоточить на себе внимание. Впрочем, Пегова раздражала уже не только эта ее жажда притяжения интереса к своей персоне, жажда, которую он обнаружил еще на первой прогулке, когда Татьяна явила свое неудовольствие по поводу его непритязательных комплиментов в адрес Аси. Пегов не мог себе простить первый свой восторг перед Татьяниной, непривычностью образа поэтессы, который был тем загадочнее, что «живых» поэтов, да еще известных, ранее он не встречал. Теперь он дергался и от ее жаргона дворовых подростков, и от безвкусицы ее туалетов, и от невежества, которое лезло на каждом шагу.
Чтобы досадить Бурминой, поставить ее, так сказать, на место, Пегов пустился во все тяжкие, ухаживая за Асей.
Последнее заседание кончилось в пятницу днем. После обеда залегли поспать, и так как опять мело, кататься решили не ходить, а к вечеру пойти пешком в поселок, посидеть в местном ресторанчике. Как сказал Строев, — «Провести операцию «чао — ариведерчи — со лонг». И, заглянув Татьяне в глаза, прибавил:
— Это «чао» приводит меня в отчаяние.
— Мужчины всегда в отчаяньи, когда со мной расстаются, — серьезно ответила Бурмина.
Они вышли засветло — до конца поселка, где располагался ресторанчик, было километра три. Когда проходили мимо здания местной школы, из ее дверей высыпала стайка ребятишек, которые, увидев проходящих, мгновенно зашушукались, захихикали и швырнули им вдогонку мокрые, каменной плотности снежки. Один снежок угодил Асе в висок, и она, вскрикнув, покачнулась.
— Сейчас схлопочешь по шее, — крикнул мальчишке, бросившему снежок, Пегов и, взяв Асю за плечи, поцеловал ушибленное место. «У кошки — боли, у собаки — боли, у Строева — боли, у Асеньки — заживи», — сказал он и, еще раз поцеловав Асин висок, почувствовал, как она тревожно замерла у него в руках.
Ребятня у школы снова зашушукалась и, вдруг вырвавшись из стайки, мальчишка, что бросил в Асю снежок, подбежал, схватил Татьяну под ручку:
— Разрешите проводить? — Он победно оглянулся на школьную компанию. Вся юная команда взвыла, ликуя и восхищаясь, а Татьяна ответила степенно:
— Проводи.
Ободренные успехом заводилы, еще пятеро подлетели к идущим.
— Как тебя зовут? — спросил мальчишку Пегов.
— Саркисян Ваган, — крикнул тот, — а это — мои братья.
Парень явно врал — мальчишки, без сомнения, были сверстниками лет по одиннадцать-двенадцать, но в общем энтузиазме тут же по очереди представились:
— Ашот! Рафаэль! Рачик! Сурен! — И самый маленький опять: — Ваган!
— Что же это у вас в семье два Вагана? — засмеялась Ася.
— Два! — хором крикнули мальчишки.
— И все в одном классе?
— В одном! — в ликующем унисоне заорали все шестеро.
— Врете? — спросил Пегов.
— Нет! — гаркнула шестерка.
— Ну и что — решили закадрить взрослых тетей? — Татьяна варежкой махнула Вагана-большого по носу.
— Хотим! — Это уже походило на полковое «ура!» в победном строю, хотя мальчишки вряд ли поняли смысл вопроса.
— Ну и как? — хмыкнула Бурмина.
— Дайте телефон!
— Телефон? Зачем? Мы же из Москвы!
— Мы собираем телефоны. Кто больше, — объяснил Ваган, а остальные закричали: — Мне! Мне! Мне!
Строев даже заплясал от восторга:
— Стервецы! Каков нюх на знаменитостей! Танечка, осчастливьте это племя молодое, незнакомое. Ведь на склоне лет в родном ауле они будут рассказывать об этом потомкам.
Ко всеобщему изумлению, Татьяна серьезно назвала номер своего московского телефона, и мальчишки полезли в портфели за тетрадками и ручками, а записав, развернулись к Асе:
— Вы, тетя!
— Я не знаменитая, мой телефон не надо «собирать», — улыбнулась она.
— Все равно! — рванули мальчишки, будто приветствуя верховного главнокомандующего, возникшего в расположении безвестного взвода.
И Ася тоже назвала номер. Назвали и Пегов со Строевым.
— Вы бы уж просто на шоссе вышли и у всех телефон спрашивали, — оскорбленно сказала Бурмина ребятам.
— Меня можно записать на букву «З» — «знакомый Бурминой». — Пегов уже не мог сдержать раздражения, и Татьяна подозрительно покосилась на него. Правда, тут же Александр Георгиевич пришел на помощь и снял возникшее напряжение:
— Мы его куда-нибудь на «Щ» — по рекомендации сеньора Маяковского. «Щастливый знакомый».
…На вершине недалекой горки присел старинный храм в островерхой горской шапочке, окольцованный тяжелой каменной оградой. Все четверо вошли во дворик.
Храм был неухоженный, с глубокими язвами в кладке и в снегопаде казался потерянным и зябнущим. На крыше там-тут торчали вихры увядшей травы, прорвавшейся сквозь щели прошлым летом. И одинокое трепетание на ветру этих пожухлых травинок еще больше усиливало ощущение неприютного старчества строения.
— Мне тут страшно, — сказала Татьяна и, взяв за руку Строева, увела его из дворика.
А Ася с Пеговым остались.
В маленькой часовенке с сорванными дверями было тесно холодной теснотой промозглости, пол покрыла грязная наледь, свисающая с алтаря по ступеням. Всюду в лед вмерзли какие-то яркие тряпицы, облепившие маленькую площадку алтаря — то ли ритуальные знаки, то ли следы неведомого побоища.
И вдруг сквозь дверной проем в часовню ворвалась звонкая и лихая музыка — с той горы, где крутились горнолыжники, видимо, из репродуктора канатной станции. Хотя до станции было далеко, музыка беспрепятственно и легко перешагнула сюда по вершинам гор.
Ася оглянулась на дверь, будто музыка была зримой:
— В древнем храме — эти поп-звуки! Какой-то немыслимый ритуал!
— Это — наше обручение, — сказал Пегов и, привлекая к себе Асю, поцеловал ее в губы. Так же, как в первый раз у школы, она замерла у него в руках. Но он поцеловал ее вновь, и она сама, прижавшись к нему, стала целовать его нежно и благодарно, все повторяя: «Не может быть! Не может быть!»
Ася не скрывала поразившей ее мимолетной близости с человеком, которого, видимо, считала недостижимым для себя. И он тоже был благодарен этой ее безыскусности.
Музыка рокотала, ударяясь о близкие стены.
— Это — лучший ритуал в моей жизни — храм, музыка и ты. Такой ты мне подарок, — говорил Пегов, — наверное оттого, что тут небеса так близко.
Ася целовала его и спрашивала все время:
— Это правда? Это правда?
— Клянусь перед алтарем! — смеялся Пегов и сам верил, что это правда.
Она потрогала вмерзшую в лед алтаря тряпицу:
— Как тут красиво! Правда? И все-таки — не может быть!
— Почему — не может? Может. И будет. И долго.
Она вдруг отпрянула и прижалась спиной к скользкой стене:
— Не может. Тебе просто хочется сейчас верить, что может. Но ты сам знаешь, что — нет. Ты знаешь, что вечером скажешь, и я останусь у тебя, тебе хочется, чтобы это был не «случай в горах», а что-то истинное и красивое, и ты сейчас веришь. Но знаешь, что — нет. И нету — «будет». И нету — «долго».
Пегов был почти готов признаться вслух, что снова удивлен ее таланту чувствовать чужие мысли, но сказал:
— Не в этом дело. Просто в Москве все круто заверчено. Я ведь хоть и вольный вдовец, у меня же парни-близнецы, и я весь — в них.
Ничего нелепее сейчас сказать было нельзя, но Пегов привык произносить эту фразу, стараясь оградить себя от обязательств по отношению к той или иной женщине. А они все хотели за него замуж, хоть и уверяли, что брак им ни к чему.
Но сейчас это было глупо. Неуместно и глупо. Она и сказала:
— Господи! О чем ты говоришь!
Они вышли из храма, вступив в пышную кипень снегопада, объявшего все пространство за пределами каменных стен. Беззвучно и медленно двигаясь сквозь бесплотное тело заграждения, они увидели размытые очертания фигур Бурминой и Строева за серой оградой храма. Те стояли неподвижно, прижатые друг к другу, точно спеленутые веселой пургой.
Хотя Асю и Пегова отделяли от приятелей какие-нибудь триста шагов, путь этот оказался долгим, потому что пока шли они, снегопад редел, обнажая окрестности — не сразу, а постепенно, все дальше и четче, — и именно эта смена зрелищ делала дорогу долгой, разнообразной. Наконец очистилась почти летняя синева неба, и голое солнце ударило с соседней горы, сообщая предметам их первоначальный чистый цвет: сосны были зелены, подтаявшая дорога черна, синей новизной горела крыша приземистой канатной станции. И музыка, что шла оттуда, тоже вдруг освободившись от одежд снегопада, стала звонче и чище, точно обрела четкость линий.
Татьяна и Александр Георгиевич не повернулись к подошедшим, не изменили позы, не заговорили — они открыто оставались там, во владениях близости, объединившей их кружением снега. Оттого Пегов вдруг почувствовал смущение от своего почти школярского грехопадения. И тоже не мог выдавить из себя ни слова.
Татьяна смотрела перед собой на горы. Вдруг она произнесла, ни к кому не обращаясь:
— Сначала они были нарисованы мелом, потом углем, потом — акварель. А вот — масло. Яркое, иконописное.
В который раз Пегов подумал о том, как точно она видит — вот этот поэтапно редеющий снегопад тоже, — и как странно в ней соединяется эта образность зрения и все ее непривлекательные нелепости.
— Ты моя Андрюшенька Рублева, ты моя бог-мать, бог-дочь и бог-дух святой в одном лице. Притом — прекрасном! — Александр Георгиевич осыпал это самое лицо поцелуями, но Татьяна осталась неподвижной, будто и не к ней был адресован порыв.
Она смотрела на горы.
В ресторане все много пили, много ели и много танцевали. И народу было много. Кто-то за соседним столиком — там гуляли приехавшие на «уик-энд» из города — узнал Татьяну (видимо, по портретам в книгах или по телевизионным передачам) и послала ей бутылку шампанского. Она шумно поблагодарила, сама пригласила на танец приславшего вино.
Пегов видел, как в танце у нее тяжело и некрасиво дергается в низком вырезе красной с блестками кофточки тяжелая грудь, а сама кофта все время поднимается на спине, открывая белесую полоску тела над юбкой.
— Мне иногда кажется, что это ты за нее стихи сочиняешь, — сказал он Асе и взял через стол ее руку.
Ася весь вечер была грустна и растерянна, Пегову хотелось ободрить ее. Она закрыла глаза:
— Я же предупреждала, что бездарна. Бездарный ученый, бездарная женщина. А она — поэт. «Веленью божию», — как сказал бы Александр Георгиевич… Иногда у нее в одной строке все, чему я не могу найти имени целую жизнь.
— Просто ты до несуразности добрая. И талантливая. Подруга талантливая. И женщина талантливая. Все понимаешь.
— Не надо жалеть меня. Я ведь и вправду все понимаю. — Ася отняла руку.
Татьяна неумело плясала «шейк», и ее толстая коса неритмично болталась по широкой простонародной спине.
«Скучно, девочки», — подумал Пегов.
— Я позвоню тебе в Москве, — сказал он Асе. — Я же «собрал» твой номер.
— Зачем? — удивилась она. — Ведь ничего не случилось. Если бы случилось — позвонил бы, не предупреждая.
Москва была Москвой, календарь швырял недели (понедельник-пятница), и Пегов уже забыл и горы, и храм в клубах снегопада, и Асю. Лишь иногда, во время редких свиданий с какой-нибудь женщиной, когда та в отсутствие его сыновей-близнецов «просачивалась», как говорил Александр Георгиевич, в пеговскую квартиру и начинала домовито мыть посуду или вызывалась постирать рубашку, Пегов пугался, что это уже симптом того, что женщина собирается утвердиться в его доме надолго. Рубашки его особенно страшили и настораживали. И тогда откуда-то из дальних далей подкорки всплывали Асины слова: «Нету — «будет». «Нету — «долго». И он твердил их про себя, как текст охранной грамоты.
В НИИ уже все знали про строевский «гремящий роман с поэтессой», Александр Георгиевич рассказывал мужчинам подробности и, понизив голос, говорил:
— Понимаешь, я не хочу называть ее имени… — и тут же, цитируя какую-нибудь известную строчку Бурминой, заливался гордым смехом: — Да, это — «Шекспир — XX век»!
Пегов не поддерживал разговоров на эту тему, и тот в конце концов отстал от него. Хотя, рассказывая о Бурминой другим, продолжал повторять: «Пегов не даст соврать».
Прошли май, и июнь, и июль.
Август вдвинулся в комнату лаборатории махиной липкой жары. Жара была тем нестерпимее, что система «эйр-кондишн», всю зиму гнавшая в помещения арктический холод, перед которым были беспомощны техники-смотрители, сейчас поддавала жару. Пегов сидел над страницей отчета. Непорочная белизна ее была нарушена лишь одинокой строкой: «За отчетный период лаборатория…» Вывести следующую не было сил, Пегову хотелось написать только: «Была жара, жара плыла. В июле было это». И мысленно поправлял себя: «В августе».
— Наш ЛЭП во власти нелэпости климата. Картина кисти… — Александр Георгиевич распахнул дверь лаборатории.
Пегов сделал вид, что углублен в работу, но Строев, уже шагнув к нему, увидел девственную чистоту страницы:
— Температура воздуха не благоприятствует любви, а также научной деятельности. Хотя, впрочем, моя-то!.. — Он ждал вопроса, но Пегов сонно молчал. И тогда Александр Георгиевич опустил на лист отчета раскрытый журнал. Пегов увидел: цикл стихов Бурминой. И заголовок первого стихотворения: «Апрельский снегопад».
— Художественное чтение у нас — в коридоре, — сказал он.
— Ну и глупо, — обиделся Строев, — ты лучше почитай, — и вышел. От двери крикнул: — Только не потеряй журнал. Единственный экземпляр.
Пегов перевел взгляд на раскрытую журнальную страницу.
«Действительно — кто?» подумал Пегов и вдруг увидел склон горы за храмом. И впрямь похожий на пухлое белое одеяло, простеганное острыми каплями, срывающимися с сосновых веток. Он читал, и к нему возвращалось все, что он забыл, а может, и не заметил даже тогда.
Какая-то веселая отвага причастности к этой свободе от календарей, нелепице и неподвластности привычному ходу событий наполняла его, и уже точно собственное утверждение он произнес вслух:
— Что вы сказали, Леонид Эдуардович? — отозвалась стоящая у прибора лаборантка.
— Вот дура! А хвасталась чем? Новой дубленкой! — сказал Пегов.
— Кто? Директорская секретарша? — спросила лаборантка.
— Секретарша, секретарша…
— Это точно, она — дура, — согласилась лаборантка.
Стихи были о любви, которая застигает вопреки прогнозам и уверенности, подобно этому апрельскому снегопаду, попирая резоны и привычки и, подобно снегопаду в апреле, может отхлынуть, но все равно беспримерность ее повадки будет преследовать тебя всякий раз, когда размеренная походка календарей и дел старается приучить тебя к незыблемости распорядка жизни, который ты предписал себе.
И уже не было ни жары, ни лаборантки у прибора, и прохладное ощущение полета вдруг наполнило все пеговское существо.
…Ася ответила сразу, в телефонной трубке даже не прозвучал гудок. А может, и прозвучал, но Пегов услышал только ее голос.
— Что случилось? — спросила она.
— Случилось. Апрельский снегопад, — ответил Пегов и теперь услышал еще, как колотится у него сердце.
— Нет, — сказал Ася, — уже август.
— Значит — апрельский снегопад в августе, — сказал Пегов».
Вот написала. Вот прочла тебе. Ну и — как? Не говори, не говори ничего, пожалуйста. Не понравилось? Но рассказ-то еще ученический, первый. А сочинять, оказывается, жутко интересно. По неведомому зову, приказу к тебе сбегаются предметы, люди, обрывки разговоров, стихи, прочитанные московским поэтом на вечерних посиделках, давние воспоминания… И люди на обыкновенном листе бумаги начинают править бал своих поступков.
Все это не про нас с тобой, и в чем-то — про нас. Уже закончив рассказ, я поняла, что в нем — отзвук, отголосок наших бесед об искусстве. Это ты мне сказал: «Искусство не управляет людскими чувствами. Но оно может высвободить их из заточения в нас самих»? Ты? Или я хотела в каком-то письме написать тебе об этом. Значит, все равно, ты.
А еще ты как-то сказал, что любишь старинные романы, похожие на русские «матрешки», где разобщенные сюжеты упакованы один в другой.
Может, если я начну сочинять, мои придумки будут оседать между страницами повести моей любви.
Я буду читать их тебе первому. Сейчас я представила, как это заманчиво. Ты сидишь в моей комнате, а я читаю тебе. Или где-то в лесу. Ты лежишь, закинув руки за голову, а я читаю. Или в дальней автомобильной дороге. Твои руки на руле, ты смотришь вперед, не видя меня, а я примостилась рядом и читаю.
Длинное вышло письмо.
Это оттого, что у меня все меньше и меньше остается Памяти. Что твой Голос уже иссяк. Что я могу уже только так и сяк тасовать их, что мне остаются письма, одни письма.
Впрочем, один осколок Памяти еще выпал мне».
Почему-то я наметила Староконюшенный. Казалось, что именно на его углу произойдет чудо. Я еще не знала точно, что это будет за чудо, но с каждым шагом приближение к нему было все ощутимее.
Магазин «Ткани» я еще миновала спокойно, но у «Украинской книги» сердце начало так колотиться, что я замедлила шаг, — я была уверена, что прохожие слышат этот грохот внутри меня. А у антикварного я просто остановилась и бессмысленно уставилась на какую-то псевдокитайскую фарфоровую безделушку в витрине.
Я пошла сюда, на Арбат, потому что день этот был годовщиной. Годовщиной нашего знакомства с Мемосом, нашего прохода через Москву — от Чистопрудного бульвара к Арбату. Сначала я хотела дождаться часа, когда над городом повиснет алый закат, но не выдержала и пришла раньше.
Я стояла у антикварного и рассматривала китайского фарфорового божка, в одеянии которого пестрели подробности туалета придворного Людовика XIV. Я даже улыбнулась этому, хотя в общем-то разглядывала фигурку довольно тупо.
Вот я пришла на Арбат. На Арбат, который теперь никогда уже не пересечется с афинской улицей Бубулинас. И нет, значит, в мире перекрестка, на котором Мемос будет ждать меня. И я не подойду и не уткнусь лицом в его рубаху, и авторучка не воткнется мне в скулу. Нет такого перекрестка.
И все-таки я наметила Староконюшенный, и я ждала чуда, и сердце грохотало, как мотор без глушителя.
Никакого чуда не произошло. На углу Староконюшенного стоял тот же детский универмаг, и единственным событием в нем была «Выставка-продажа одежды для ползунков». И, как всегда, из отделения ОРУДа в переулке вырывались гневные мотоциклы, и выходили печальные автоводители с отобранными правами.
Я произнесла про себя:
— Здравствуйте, Ксения. Вы меня не помните? Я Димитрос Александракис. Нас с вами знакомил Янидис.
Господи, как я могла его не помнить? Разве я могла забыть что-нибудь, что связано с Мемосом? И помнила и знала, знала, что Александракис жил в Москве как политэмигрант, а когда в Греции началось «полевение», уехал на родину, конечно, Господи, помнила. И знала.
Александракис сказал:
— Как странно, что я встретил вас именно на Арбате.
— Что же странного?
— Мемос просил найти вас в Москве. И он сказал, чтобы вы пошли на Арбат.
— Мемос? Когда вы видели его?
— Сразу после переворота. В тюрьме Асфалии. Нас взяли одновременно, и в первую ночь мы были в общей камере. Он сказал: «Если тебя отпустят и ты вернешься в Москву, найди ее и попроси пойти на Арбат. Скажи, что я на Бубулинас. И жду там».
— На Бубулинас? Почему на Бубулинас?
— Как почему? Тюрьма Асфалии находится на Бубулинас.
— За что арестовали Мемоса?
— А как они могли не взять его? Он же сразу после выхода из концлагеря взялся за то же: митинги, организации, выступления в левых газетах. Но вообще-то этим, из охранки, немного нужно поводов, чтобы брать людей. Хотя Мемоса им было за что хватать.
— А вас выпустили?
— Нет. Я бежал, когда нас переводили в лагерь на острове.
— А Мемос?
— Не знаю. Думаю — он там. Я ничего больше не знаю.
Наверное, если бы я услышала все это вчера, позавчера, час назад, дома, в редакции, в любом другом месте, у меня подкосились бы ноги, оборвалось сердце, может быть, я грохнулась тут же, не знаю. Но сейчас я была совершенно спокойна. Ведь произошло чудо, а я готовилась к нему, знала, что оно произойдет.
Чудом был возникший именно у Староконюшенного Александракис, возникший неизвестно откуда — может, вышел из детского универмага, может, догнал меня, но он возник, чтобы свершилось это: пересеклись Арбат и улица Бубулинас. Так долгожданно, неожиданно и горько пересеклись.
— Опишите мне: какая она, тюрьма на Бубулинас? — попросила я.
Мы стояли посреди тротуара, толпа обтекала нас, то и дело ударяясь о наши тела, как вода о запруду, нас толкала, но нам было все равно.
— Какая она? — повторила я.
— Как вам сказать? Такое старое здание, серое, оно стоит на углу, а напротив — маленький скверик за чугунной оградой. В этом здании раньше было министерство труда.
«Ох, так я ведь уже была с Мемосом в этом доме. Министерство труда! Ведь в этом здании хранились списки на гражданскую мобилизацию. Это туда ворвались демонстранты… А он не сказал, что это было на Бубулинас…»
— Дальше, пожалуйста.
— На каждом этаже — свой отдел. Там, скажем, уголовный, отдел студенчества и прочие. Лестница идет маршами, образуя колодец. Это и есть колодец — вниз на два этажа, туда бросают особо провинившихся. И камеры — шириной в дверь, для опасных — за решеткой.
— Слушайте, а где там пытают?
— А… это на крыше. Обычно оттуда сносят уже на тюремном одеяле, сам человек идти не может.
— А его пытали?
— Ну что вы… Я не знаю… Нет, с ним все в порядке. Зачем вам эти подробности?..
— Мне нужно. Говорите. А что было в тот день, когда вы были вместе?
— Это было забавно. Нас продержали ночь в общей камере, а на рассвете выгнали в тюремный двор. Народу была тьма. И политические, и проститутки — вечером и на них была облава. Так все эти барышни были в платьях и пальто, надетых наизнанку. Мемос еще спросил одну: «Что, теперь такая мода или это униформа для профессии?» А она: «Дурак, тебе твоих порток не жалко, а мне в этом платье еще работать, что, я его по тюремным лавкам буду тереть?» Забавно, правда?
— Да, а дальше?
— А дальше во двор пришел сам Цудерос — это у них крупная шишка. Показал охраннику на Мемоса, и его увели.
— А дальше?
— Дальше — все. Я его не видел больше. И ничего не слышал потом. Это все.
Я сказала:
— Спасибо. Вы придете ко мне? У вас есть мой адрес?
— Да, мне Мемос дал.
— Спасибо. Придите обязательно.
Я не вернулась к Арбатской площади, откуда мне было удобней ехать домой. Ведь мне нужно было бы снова пройти мимо антикварного, «Украинской книги», магазина «Ткани». Мимо мест, где я ждала чуда.
Ежедневно мои вечера начинаются так. Я могу повернуть голову и увидеть за окном деревья Чистопрудного бульвара, точно обрызганные из пульверизатора первой мелкой листвой. Но все равно мы с Мемосом будем идти по розовой дороге, натертой крошкой армянского туфа.
Может открыться дверь, и Кирюха закричит: «Питаться! Питаться! Питаться! Мозг, испытывающий недостаток в фосфоре, не способен к сдаче экзамена по геометрии устной!» У него снова экзамены, теперь выпускные.
Кирюха прокричит свое, и я дам ему ужин, а потом сяду к столу, чтобы снова писать: «Мемос, дорогой…»
Каждый вечер я включаю магнитофон, и голос Мемоса рассказывает мне об афинских тротуарах, под которыми лежат его товарищи, или о колоколе Кафедрального собора, отпевающем расстрелянных на Кесарьяни.
И каждый вечер я безуспешно блуждаю по улицам Москвы и Афин, пытаясь набрести на перекресток Арбата и улицы Бубулинас, хотя знаю, что они уже никогда не пересекутся.
Теперь Бубулинас не просто улица твоего детства, Мемос. Это улица твоего мужества, улица испытаний и стойкости тысяч твоих друзей, где в аду пыток они сберегли верность первой заре свободы.
Арбат и Бубулинас уже не пересекутся для меня.
Но у меня остались Память, Голос и Письма. Я могу так и сяк тасовать их.
Я могу сто раз слушать о том, как закричал Сотирос, я могу снова и снова подниматься по розовой дороге и заново писать: «Дорогой…» Я могу делать это в любом порядке, потому что у меня нельзя ничего отнять и потому что вечерами управляю я.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Ксения Троицкая
От Боси ушла жена. Событие это казалось неправдоподобным, как снег на раскаленном пляже или, напротив, как тепловой удар в Антарктиде при минус 50 градусах. Любую семью мог подстеречь подобный катаклизм, любую, кроме Босиной. Старосветская идиллия, царившая в его доме представлялась как «лакировка действительности», если следовать классификации советского литературоведения. А сама Ляля, «моя жена Ляля» (только так именуемая Босей) — Боже мой! Кто бы мог предположить подобное!
Так или иначе, но Бося, Борис Иванович, мой заведующий международным отделом, в одночасье осиротел.
Еще недавно, нескрываемо целуя белокурые кудряшки супруги, Бося нежно пришепетывал строчки Ильи Сельвинского: «У-ти такие домашние, как чайница полная квитанций…» Домашней, восторженной пленницей семейного приручения являлась Ляля свободному миру, гармонией отрешенности от его соблазнов.
Как уютно порхала по квартире пухленькое голубоглазое создание, отороченное оборочками и воланчиками, неподвластное диктатам моды. Шляпки с вуалетками! Ну кому приходит такое нынче в голову? Лишь это создание (что гораздо точнее, чем «женщина») носило атрибуты старых времен с абсолютной естественностью.
— Моя кукла! — возвещал Бося. — Не зря по-украински «лялька» — кукла.
Особый шарм Лялиному очарованию сообщала также и ее глупость. Поверьте, именно так. Было бы чудовищно, безвкусно, если бы из этих пухлых уст вдруг полились сентенции, умозаключения и прочая интеллектуальная чушь. Но, слава Небесам, сознание Босиной супруги не замутняли эти излишества. Сплошь и рядом Ляля даже не понимала смысла витавших вокруг нее слов. Пленительное отсутствие того, что древние называли «рацио», дополнялось в Ляле и полным отсутствием чувства юмора. Что, кстати, занятно, ибо была она безудержной хохотушкой, повод или неповод для веселья не имели значения.
Я очень любила Лялино общество, особенно в Босином доме. Такое раскрепощение от забот мира сообщала она, такой добротой, домовитостью, хлебосольством обдавала приходящего! Любо-дорого.
И вдруг. Вдруг Ляля влюбилась в некоего дипломата и через две недели после знакомства сказала мужу: «Босик, ты, конечно, замечательный. Но со мной вышло — так».
Ляля даже пообещала продолжать заботиться о бывшем муже, но Бося гордо отверг предложение, поставив Лялю в известность, что вычеркивает ее из сердца, из мыслей, из жизни.
Я, между прочим, была свидетельницей рокового знакомства. На одном из приемов, куда нас как журналистов-международников время от времени приглашали, этот гром и грянул.
В компании мидовцев мы распивали коктейли, когда к нам присоединился их коллега, щуплый, с седеющей бородкой и полыхающими черными глазами. Собственно, эти глаза и были единственным, что придавало его заурядной внешности хоть что-то отличающее.
Когда он представился: «Чернов, Виктор Семенович», я вспомнила, чем еще кроме горящего взора был известен обладатель бородки. Коллеги говорили про него: «Чернов — гремучая смесь цыгана и еврейки». Еврею, даже полукровке, попасть в МИД было делом непростым. Но Чернова взяли. Может, отделу кадров требовался процент цыган.
— За нерушимую дружбу народов Советского Союза и экваториальной Африки, — с легкой печалью произнес Чернов, приподнимая бокал.
— Не слышу энтузиазма в голосе, — откликнулся один из наших собеседников. — Да и вообще, чтой-то ты, Витюша, кислый. Ухайдакал тебя третий мир?
— Не столько третий мир, сколько начальство. Они все думают, что я молодой цыган, а я старый еврей.
Все засмеялись, Ляля тоже. И тут же спросила:
— А где это — третий мир?
— Ляленька, — вступил Бося, — третий мир — термин западный. Мы называем это — развивающиеся страны. Это сфера деятельности Виктора Семеновича.
Ляля захохотала пуще прежнего. Мужчины отвлеклись каким-то разговором, а я шепнула Ляле: «Ну что ты залилась? Что тут смешного?» — Мне не хотелось, чтобы малознакомым людям Лялина дурость стала так быстро очевидной. Ведь это только меня она так умиляла, для случайного собеседника… Но Ляля нисколько не смутилась: «А — неважно, мне идет смеяться». И как в воду глядела, Чернов уже не сводил с нее огненного взора и повторял при каждом взрыве хохота: «Господи, как завораживающе вы смеетесь! Ну еще, пожалуйста, еще. Ты счастливец, Борис Иванович! Такое слушать каждый день! Везучий ты!»
Как развивались закулисные события этой внезапной любви — мне неведомо. Просто однажды Бося сказал мне: «Все кончено. Ляля ушла от меня. Как дальше жить?»
Бося впал в транс. Он с трудом выполнял редакционные обязанности. Даже писание романсов забросил. Мы все, как могли, старались развеять его грусть, не оставлять одного, вытащить куда-нибудь в людное место, на зрелище, он отнекивался.
Но однажды, когда я предложила ему пойти со мной в Дом кино, Бося неожиданно легко согласился.
Шла-то я туда не для полировки утлой нашей светскости, чему для многих некинематографистов служил данный ковчег, а за делом. На собственный творческий дебют. Знаменитый режиссер-документалист Артем Палада предложил мне написать текст к его новому фильму «Будущее ныряет в прошлое». Фильм был посвящен возрождению фашизма в Европе и, видимо, я понадобилась как «спец в вопросе».
Надо сказать, что согласилась я не сразу, а, рискнув, жутко мандражировала: сотрудничество с живым классиком — раз, неискушенность моя в новом деле — два.
Как бы то ни было, Палада сотрудничеством нашим остался удовлетворен, даже хвалил: «Текст нетрадиционен, подходы новые, манера ни с кем не схожая». Но я-то знала — все это от моего невежества в ремесле. Какие традиции, какие-такие манеры? Я о них и понятия не имела. Правда, еще говорил Палада: «Очень эмоционально. О социальных или политических явлениях мало кто говорит, как о личном». Откуда ему было знать, что явления эти и есть мое, личное.
Мы с Босей поднялись по просторной лестнице, венчаемой сочным витражом, выполненным по рисункам Леже. Вправо и влево от него, точно распахнутые руки, обнимающие витраж, шли лестницы, ведущие в зрительный зал. Зал где-то невидимо нависал над фойе, однако чудилось, что именно за ярким многоцветьем лежевской фантазии, как за нарисованным очагом во владениях Карабаса Барабаса, скрывались волшебные подмостки Искусства.
Мерещилось мне эдакое не без вычурности воображения. Однако — простительно. Новобранец вступал в непознанные владения кинематографа. Не гостем, соучастником.
А надо было делать вид, что все это для тебя — будни, приход в свой дом, премьера. Мы и прохаживались с Босей по фойе, подходили к буфетным стойкам походкой старожилов. Внезапно Бося вкрадчивым движением взял меня под руку и почти томно зашептал, склоняясь к моему уху: «Проблема неофашизма сегодня гораздо актуальнее, чем это кажется непосвященным. Я очень горячо поддерживаю, что ты не оставляешь этой темы». Я ничего не понимала: тема вовсе не требовала такой интимной оценки. Что это его повело? Уж не решил ли он таким странным образом одеть романтическим флером наши служебно-дружеские отношения? Смешно.
Развить тему Бося не успел. К нам направлялся мужчина, облик коего выдавал в нем чиновника дипломатических или внешнеторговых сфер. Загранкостюм на таких сидел особым, обливающим фигуру манером. Незнакомец распахнул Босе объятия:
— Борис Иванович! Дорогой! Вот уж, как говорится, на ловца. Завтра собирался вам звонить: есть интереснейший материал для публикации в вашем уважаемом издании.
— Буду рад, буду рад! Всегда готовы к сотрудничеству, — с повышенным энтузиазмом забормотал Бося.
— А как, вообще, живете? — осведомился незнакомец, и Бося картинно просиял:
— Прекрасно! Благодарю вас, прекрасно. Вот — женюсь. На той неделе свадьба. Прошу познакомиться: моя невеста, почти жена — Ксения Александровна Троицкая. Наша звезда. Вы, наверное, знакомы с ее работами.
— Еще бы! Читаешь и зачитываешься. Но я даже не предполагал, что столь серьезные работы принадлежат перу такой очаровательной женщины. Вы счастливчик, Борис Иванович! Поздравляю.
Я протянула незнакомцу руку, он ее поцеловал, склонившись в этикетном поклоне. Я несколько подобалдела от Босиного заявления, но почему-то подумала: «И Чернов заверял Босю, что он счастливчик». Вслух же я не знала, что надо говорить. Слава Богу, мужчина скоро откланялся, отозванный кем-то. Но Бося, почти вслед ему успел крикнуть: «А у Ксении Александровны сегодня премьера», и тот тоже крикнул: «Поздравляю. Лестно знакомство с автором», хотя уверена — он не врубился, о чем шла речь.
— Ты что это выкинул? — набросилась я на Босю. Он жутко покраснел и почти просительно выговорил:
— Понимаешь, это сослуживец Чернова и его друг.
— Ну и что?
— Понимаешь, мне захотелось, чтобы они знали, что я тоже счастлив и прошлое закрыто.
«Они», надо понимать, были Ляля и Чернов. Теперь было понятно — нежный шепот о неофашизме, вкрадчивое движение… Завидев черновского дружка, Бося кинулся демонстрировать личное счастье.
— Но я ведь тоже не собака. А если мне не нужны такие разговоры? — обиделась я. Но Бося отмахнулся:
— Ах, оставь. Тебе же все равно. Ты же — одна.
Он даже не понял, как горько и оскорбительно звучало подобное утверждение. Будто я уже совсем сброшена со счетов, не женщина. И мне о своей репутации заботиться ни к чему. Но объяснять это Босе не имело смысла. Сама же я похолодела от мысли: как я могу верить в любовь Мемоса, если даже друзьям кажется, что я как женщина уже «вне игры». Одна, без надежды на интерес ко мне мужчины.
Именно вера в любовь Мемоса сделала меня безучастной к женскому успеху в его реальных, будничных проявлениях. Мне никто другой не нужен, зачем же искать чьего-то внимания. Потому и дождалась… Но ведь для Мемоса, для Мемоса я обязана оставаться женщиной. Желанной, достойной любви не только его одного.
Об этом, а не о Босиных хлопотах думала я, пока мы шли в зал, усаживались.
Артем Палада пригласил на сцену творческую группу, почти насильно вытащил и меня. Он произнес вступительное слово к фильму. Об опасности возрождения фашизма. Говорил, как всегда, горячо и убежденно, хотя, честно говоря, мне показалось, что зал воспринимал все эти тревоги довольно безучастно, как если бы речь шла о деяниях Навуходоносора или событиях в сельве Амазонки, от нас далеких и почти вымышленных.
Мне даже стало обидно за Паладу и за весь наш труд. Конечно, вряд ли среди зрителей были люди, для которых, подобно мне, события эти оборачивались сегодняшней судьбой. И все-таки. Их безучастие настораживало, смахивало на беспечность предгитлеровских немцев, которым пивные шабаши нацистов виделись глупой и просто безвкусной игрой. Хотя по-своему сидящие в зале были правы: с чужим фашизмом давно покончено на войне. Собственный нам грозить не может.
Ведь и в диком сне не привидится русский мальчишка, превративший свое жилище в музей-храм гитлеровской атрибутики, где с религиозным исступлением он с друзьями-подростками учит наизусть «Майн кампф». А именно такой немецкий оболтус был снят в нашем фильме. И это было страшнее, чем марши престарелых абверовцев.
Слава Богу, не про нас, слава Богу далеко, как сельва Амазонки.
Палада хотел, чтобы я тоже что-то сказала, но я благополучно избежала роли оратора. Выбежавшие на сцену девочки вручили всем нам по вялой гвоздике, и мы вернулись в зал.
Когда я уселась, кто-то тронул меня за плечо и произнес: «С премьерой, Ксения». Я обернулась. Рядом выше пламенела рыжая шевелюра тележурналиста Романа Визбора, приятеля ребят из нашего отдела. Возле него сидел высокий красивый блондин лет тридцати. Он тоже сказал: «С премьерой. Поздравляю». Роман представил парня: «Василий Привалов. Кинорежиссер. За которым будущее и, отчасти, настоящее».
— А вас тоже завлекла борьба с неофашизмом? — спросила я.
— Отчего бы и нет? — сказал Роман. Но блондин безыскусно развеял это утверждение:
— После вашей картины — игровая. Моего друга. Но в связи с нашим знакомством обязуюсь смотреть и вашу работу с повышенным интересом.
— И на том спасибо, — сказала я.
И все. Никаких разговоров больше. В зале погас свет, на экране пошла обложка нашего фильма.
Мне и в голову не приходило, что мимолетные знакомства этого вечера сыграют в моей жизни такую серьезную роль, что совершенно непредсказуемо они продлятся.
Сейчас главным было другое: моя первая премьера в кино.
Василий Привалов
Перед самым носом моей машины шел грузовик, волоча на прицепе пузатую цистерну «Русский квас». На ходу цистерна виляла неуклюжим толстым задом, как безвкусная кокетка. Я постарался запомнить: «безвкусная кокетка». Записная книжка лежала в кармане брюк, но записывать на ходу невозможно, а останавливать машину было лень. Я обогнал «Квас». Справа на меня выскочил вертолетный аэродром. Ближе к шоссе там сутулилось сонное стадо старых вертолетов, отлетавших свое. Их горбатые серые тела с отстающими лохмотьями краски и перистыми хвостами лопастей напоминали доисторических чешуйчатых птеродактилей. Кажется, птеродактили были чешуйчатыми? Я подумал: «Вероятно, эволюция на земле шла двумя путями. Один — через обезьяну к человеку, другой — прямо от динозавров и птеродактилей к машинам. К бульдозерам и вертолетам».
Я подумал теми словами, которыми потом запишу это. Так уж я приучил себя: фиксируя наблюдение, думать словами для записи в книжке.
Считается, что «художники слова» и прочие там художники экрана, холста, созвучий как-то особенно воспринимают мир. Шестым чувством. Иррационально и непостижимо. Не знаю. Думаю, что это вранье. Просто мир для этого самого «художника» — вечная работа. Работа без продыху. Слушать, как говорят люди, и думать, куда это пригодится тебе. Всматриваться в предметы и искать слова для их определения. Пытаться расставлять дома и деревья в нужной композиции, чтобы они «легли в кадр».
Иногда мне очень хочется, чтобы, скажем, лес или скала над морем просто вошли в меня, наполняя единственным счастьем природы. Иррационально и непостижимо. Но тут же начинаешь искать — на что похожа эта проклятая скала, и в каком ракурсе должен повернуться этот лес. С тех пор как я начал писать сценарии и ставить фильмы, мне уже нет жизни.
Я сам пишу сценарии для своих картин, потому что считаю — так называемый «авторский кинематограф» — наиболее полный и современный способ самовыражения. Ромка всегда иронизирует, когда я говорю об этом: «Васисуалий, ты просто модняга. Это тебя персонально предупреждал Оскар Уайльд — нельзя быть слишком модным, рискуешь выйти из моды».
Но это глупость, конечно. Не в моде дело. Нельзя с современным человеком разговаривать александрийским стихом и записывать сценарии ассиро-вавилонской клинописью. Чувство современности — главная пружина работы. Вот и все.
Где-то у меня за спиной в поле трудился дождь. Здесь, на подступах к городу, было чисто и просветленно, но машина еще лоснилась, как взмыленный конский круп, отчего город, сжавшись, лег на капот и начал карабкаться по ветровому стеклу на крышу по мере того, как я приближался к окраине.
Город начинался еще не одушевленным нагромождением новостройки. Прямо перед шоссе топорщился дом, похожий на обглоданный скелет гигантской рыбы: вправо и влево раскидывал не связанные между собой ребра этажей, а по хребту поблескивали несодранными чешуйками уже вставленные тут и там стекла. Дом мне не нравился. Я не хочу в нем жить. Я никогда не поселю в нем своих героев. И вдруг я увидел необычайное. Я даже притормозил. Поперек шоссе метрах в двадцати над землей было натянуто голубоватое полотнище тумана. Туман не клубился, не стлался клочьями, он был тонок и плотен. И подвешен над землей. Такая туманная эстакада, перекинутая над дорогой перед городом. По зеленой разделительной полосе шоссе шли к городу мужчина и женщина. Мужчина обнимал женщину за плечи. Шоссе уходило вверх, к этой туманной эстакаде, и мужчина с женщиной тоже шли вверх, к ней. Потом они вступили на голубоватое полотнище и дальше двигались уже по нему, над землей, — маленькие, трудно различимые. Но видно было, как он держал ее за плечи.
Если бы еще вчера — как я уже делал это три месяца подряд — я искал концовку для своего фильма, я не смог бы придумать такого. Бело-белый город на светлом фоне экрана, перечеркнутый этой бесплотной полосой по горизонтали. И герои, идущие над землей по эстакаде тумана. Видны только их силуэты, но диалог мы слышим совершенно отчетливо.
Но как они должны разговаривать? Такой диалог необходимо написать математически точно. Кадр так современен графически, что всякая старомодность в диалоге будет просто безвкусна. Нужен такой разговор на подтексте — иронический и вроде бы незначительный. Сегодня люди стесняются сильных слов и досказанности. Сегодня невозможно представить, что Он говорит Ей: «Я люблю вас безумно». Высокопарность смешна, чувства прячутся за иронию.
Не заезжая домой, я поехал прямо на телевидение.
Останкинская башня предостерегающе подняла из жаркого марева свой остроконечный перст. Этот простейший в начертании иероглиф нашего столетия всегда наставительно твердит мне: «Помни — ты дитя века».
— Помню, помню, — успокоил я башню. — Я человек сегодняшней профессии, вот и работаю в этом гигантском аквариуме — нашем телецентре. И весь объят электроникой.
Преодолев сумрачную пустыню вестибюля, я вошел в лифт, но кнопку шестого этажа, где расквартировано наше кинообъединение, не нажал. Поехал выше, к эфирникам. Сам не знаю почему — было мне смутно и захотелось повидать Ромку.
У Ромки сидела некая дама — автор, и недозрелый помидор рыжей Ромкиной головы обреченно свисал над рукописью.
— Салют, Романсеро! — сказал я.
Дама-автор посмотрела на меня с ненавистью: я отвлекал Ромку от чтения ее труда. Чтобы подчеркнуть неуместность моего вторжения, дама-автор, приосанившись, вытянулась прямо-прямо, выдвинув вперед гигантский бюст, по которому от лацкана к плечу тянулись цепи с брелоком.
— Салют, Базиль! — сказал Ромка.
Это у нас такая игра. Мы не зовем друг друга просто — Василий и Роман. Мы играем в производные, кто больше исхитрится. Раньше мы звали друг друга женскими именами. Но, когда святцы исчерпались Поликсеной и Евстафией, перешли на производные от своих имен. Мы всегда с Ромкой во что-нибудь играем.
Ромка дочитал рукопись.
— Если Кинг Видор будет ставить широкоформатный супербоевик с погонями и патрицианскими бассейнами, — Ромка посмотрел на даму-автора с неотвратимой решительностью, — ваш сценарий станет для него просто находкой. Но мы — телевидение. Мы скудны и нищи. Крохотный экран не может вместить необъятность ваших замыслов, understand?[1]
Дама оскорбленно встала, и цепи на ее груди надменно лязгнули.
— Я понимаю только одно: телевидение и творчество — «две вещи несовместные», — дама-автор тоже хотела быть саркастичной. — Во всяком случае, пока, — это значило «пока тут вместо редакторов сидят самовлюбленные невежды». Она сгребла листки и ушла.
— О-о! — застонал Ромка. — Две недели я выдерживаю эту осаду. Сегодня она представила пятый вариант. В моем положении защитники крепостей уже чертили на стенах прощальные надписи. Но я выстоял, Базилик, я выстоял.
— Ты можешь? — Я изобразил рукой порхание.
— Могу ли? Я вынужден. Я обязан. Иначе я задохнусь в атмосфере телевизионных катакомб. Два часа можем отсутствовать — в восемь у меня эфир. Надо вернуться.
Ромка разбросал по столу какие-то листки, написал на одном из них неоконченную фразу и положил на листок авторучку. Потом он вытянул из ящика письменного стола старый пиджак и повесил его на спинку стула. Это была излюбленная Ромкина мизансцена на тему: «Только что вышел, где-то тут…»
Но исчезнуть нам не удалось. Мы сделали только несколько шагов по коридору, как сзади нам в бицепсы ввинтились толстые пальцы Тарского-старшего.
— Начальство бдит, оно стоглазый Аргус, — Ромка жалостно пытался смягчить факт своей «самоволки».
Тарский действительно был Ромкиным начальством: он заведовал отделом «Трибуна». В последнее время на телевидении пошла такая мода: нарекать отделы звучно и замысловато. Можно подумать, что от этого их работа приобретет неведомую до той поры вдохновенность.
Тарский проиграл на пышных губах «зорю» и впихнул нас в свой кабинет.
Тут я увидел наконец знаменитого тарского Росинанта. Двухтумбовый стол, бывший, видимо, вершиной искусства фанеровщиков первых пятилеток. Стол переезжал за Тарским из редакции в редакцию. Говорят, во время войны этот стол попал в редакционное бомбоубежище, а потом комендант здания обменял его у какого-то крестьянина на пять кило картошки.
Тарский как раз приехал с фронта, когда мужик грузил стол на подводу.
Он водворил стол в бомбоубежище и вернул мужику картошку. Говорят, до конца войны он высылал коменданту часть денежного аттестата, чтобы тот охранял стол. Средства, полученные комендантом, во много раз превышали стоимость стола. Тарский был человеком стойких привязанностей.
Я рассказываю все это потому, что о Тарском вообще интересно рассказывать. Он персонаж. Когда-нибудь я напишу его и сниму как прототип.
Росинантом стол прозвали за кавалерийское прошлое Тарского. Тринадцатилетним мальчонкой он попал в Первую Конную и проделал с конниками весь их песенный маршрут. Потому он играл на губах «зорю».
Тарский положил на стол пухлые ладони с растопыренными пальцами и снова прошлепал губами «зорю».
— Блистательная идея, блистательная идея, — после многозначительной паузы выпалил он и уперся в нас взглядом.
— Создаем серию «Люди и страсти XX века». На документальной основе. Основа — вот книжка очерков Вадима Раздорского. Но мы углубляем, мы углубляем. Каждый очерк, каждый персонаж — проблема современности. — Не отводя от нас взора, Тарский по локоть окунул руку в утробу тумбы стола и выбросил оттуда книжку.
Мы молчали.
— Парируйте! — воскликнул Тарский. В нем жил площадный трибун 20-х годов и вечный боец профсоюзных собраний.
— Ну, надо полистать, — промямлил Ромка.
— А вы, Привалов? — Тарский нацелил на меня оптический прицел двустволки своих очков.
Я сказал:
— А при чем тут я? Я режиссер игрового кино. Меня вообще документалистика занимает постольку поскольку. Она может быть только компонентом современного кинематографа.
— Абсолютная ерунда, абсолютная ерунда, — он даже не вслушивался в мои доводы, — вы без сценария еще Бог весть когда начнете снимать. Это вас обогатит. Вы задумаетесь над истинными страстями века.
Я знал эту его привычку повторять слова и фразы, но сказал:
— Мы, Пал Палыч, довольно смекалистые ребята и улавливаем смысл с одного раза. Для чего это вы повторяете?
— Для пущей убедительности, для пущей убедительности.
Он и бровью не повел. А я сказал насчет повторений, чтобы немного сбить его постоянный неуемный пафос. Пафос меня всегда раздражает. Пафос — прерогатива старого театра.
— Берите и думайте. — Тарский протянул Ромке книгу. Теперь оптический прицел был наведен в самое Ромкино сердце. — Возможно привлечение и других авторов, и других авторов.
Когда мы вышли в коридор, я сказал Ромке:
— На что мне приснились эти передачи? Я хочу снимать мой фильм… А что это за Раздорский? Так, что ли? — Я заглянул на обложку книги, которую держал Ромка.
— А, это дружок его сына, Пашки… Но вообще-то парень способный. Сейчас где-то в долгосрочной командировке.
— И он мне приснился, — сказал я.
— Все-таки надо полистать, — сказал Ромка.
Он будто извинялся передо мною, что вот так же легко не отбрасывает предложение Тарского.
Наконец мы уехали.
Мы сидели в открытом кафе, разбитом, как походный лагерь, прямо на асфальте под брезентовым навесом, и пили пиво. Дождь до города не добрел, жара стояла невыносимая. Муть так и не выветрилась у меня из души — встреча с Ромкой не помогала. Может быть, дело в сценарии, который не вытанцовывался в главных кусках, а может, из-за Талы. С ней в общем-то, все шло как надо, и я понимал, что лучшей женщины мне не найти. Все я понимал. Но радости в этом не было и волнений не было.
Я хотел рассказать Ромке о том, что увидел концовку фильма — про туманную эстакаду. Когда мне удается вдруг придумать искомый эпизод, внутри у меня начинает плескаться от радости, и я вспоминаю Пушкина, который кричал, закончив «Годунова»: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Но сегодняшняя концовка почему-то ликования не порождала. Вероятно, оттого, что я так и не знал, о чем и как будут говорить мои герои, шествующие по туману над землей. И все-таки я хотел рассказать Ромке. Я очень верю его вкусу и его нелицеприятным оценкам.
Но в этот момент под навес вступило существо в розовом сарафане. Из-под сарафана выкатывались два золотых полушария коленок. «Похожих на макушки дынь-колхозниц», — подумал я. На макушке же самого существа темные волосы были стянуты жгутом и оттуда распадались, как нефтяной фонтан, как изобилие лепестков черной хризантемы, как… Ромка, наверное, знал — «как». Он тут же «сделал стойку». Существо обвело столики синим, обрамленным тушью взглядом.
— Я здесь, Инезилья, я здесь, как ты видишь, под окном, — позвал Ромка.
— И в то время, как ты изнемогаешь от жары, одета Севилья и мраком, — прибавил я.
— А одновременно и сном, — заключил Ромка.
Это тоже было нашей игрой. Общаться стихотворными строчками, перемежая их «презренной прозой». Особенно мы любили так играть в присутствии женщин. Они находили это очень остроумным и непонятным. А если женщина начинает тебя понимать, конец твоему величию. Женщины никогда не принимали участия в этой нашей игре, не могли соответствовать. Никто, кроме Талы, разумеется. Она играла в строчки — о! — еще нужно было ей соответствовать. Все она делала здорово. Все она понимала как надо. Наверное, я сам чего-то не понимал, раз не было радости и волнений не было.
— Глупости какие! — фыркнуло существо. — Инезилья. Ничего общего с нею не имею. Абстракт какой-то.
— Что-о? — протянул Ромка.
— Она имела в виду абсурд. Не волнуйся, — сказал я.
Существо село за соседний столик вполоборота к нам и заказало мороженое. Нефтяная скважина у нее на голове бурно фонтанировала под лезвием света, проткнувшем дыру в брезентовом навесе.
Однако Ромка уже, казалось, не видел нефтяного фонтана, черной хризантемы. Он отвернулся и говорил только со мной, так, чтобы девушка не слышала.
— Жизнь летит, как поток сознания, милый Вассо. Она увертлива и несправедлива. Вчера везу в какой-то дурацкий главк гарантийное письмо. А мимо проходит Светлана и излучает. Ты понимаешь, это недиалектическое противоречие: по земле ходит излучающая женщина, а я везу гарантийное письмо.
— А Инезилья — ваша знакомая или, может, скажете — двоюродная кузина? — спросило существо. Ромка знал, что делал. Когда, обратив на какую-нибудь девушку внимание, он тут же демонстрировал, что забыл о ее существовании, она сама возобновляла разговор. И все получалось так, будто он принял знакомство из вежливости.
— Что вы, Инезилья — это ваше воплощение в той, иной жизни… Бедняжка, с вами обычно знакомятся пошляки, уверяющие, что вы похожи на двоюродных сестер! Вы окружены подонками, дитя мое! — Ромка поднял глаза к небу и вздохнул.
— Ваш миманс тут ни при чем, — она отвернулась.
— Она имеет в виду мимику, не волнуйся, — сказал я.
И тогда Ромка, отогнувшись от нашего столика, взял ее за локоть и доверительно сказал:
— Вы великолепны. Более того, гениальны. Вы великий языкотворец, Хлебников и Крученых — мальчишки рядом с вами. Я нынче должен быть уверен…
— Что в случае нарушения трудовой дисциплины с вами днем увижусь я, — это уже я закончил. — Я имею в виду моего друга, конечно.
Несчастное неискушенное существо! Она не понимала — то ли мы ей льстили, то ли говорили непристойности. Она молча доела мороженое, расплатилась, намазала губы, а потом что-то написала на бумажной салфетке той же серебристо-розовой губной помадой. Проходя мимо нашего столика, она положила бумажку перед Ромкой. Там стоял номер телефона и имя: «Люка». У входа Люка обернулась, рассыпав брызги со своего черного фонтана, и сказала без улыбки:
— Я сегодня в вечернюю работаю, до девяти.
Я почувствовал облегчение оттого, что Люка наконец испарилась. Нужно обладать Ромкиной неиссякаемой энергией, чтобы заводить то и дело эти знакомства.
Мне хотелось побыть с Ромкой вдвоем, поговорить о сценарии.
— А ты зря отбрыкнулся от передач, — сказал Ромка. — В идее есть нечто. Тут можно повертеть земной шарик так и сяк, поразмышлять о том, что его занимает.
Я изобразил на лице терпеливую покорность: вот, мол, готов слушать, хотя ты отлично знаешь, что распространяешься попусту. Но Ромка — о, как он умел это делать! — точно и не видел моей полинявшей от великодушия физиономии. Он как будто даже почувствовал поощрение и стал развивать мысль о том, что необходимо говорить о духовной жизни сегодняшнего общества, пытаясь понять, какие нравственные и рациональные проблемы дают ему точную временную характеристику, какие страсти духа прошлых веков сохранились, какие прошли через трансформации, обретя новые векторы, что неведомое появилось в этой сфере чувственного существования.
— Возьми страсть познания, — Ромка сам себя разогревал в безответной полемике со мной. — У этой страсти тысяча веков биографии, но сегодня она почти тотальна. А проблема технической гегемонии? Искусство и технократия? Знание — Бог и знание — дьявол? Тут же сотни чисто сегодняшних вопросов.
Ромка завелся, с ним такое часто случается, если он чем-то загорался.
— Вот, — он выхватил у меня книжку Раздорского и начал листать, — вот имеется очерк о Станиславе Леме. Это, конечно, не все, так сказать, сюжетный каркас, на него можно вешать и вешать разные разности. Но Лем как раз та фигура, которая дает выход на разговор о познании, предвидении, интеллектуальных устремлениях человечества…
— Гадюка. Мелкий предатель, — констатировал я.
Ромка замер. Только тут он понял, что, запалившись, выдал себя. Оказывается, он и книжку читал, и, значит, с Тарским уже все обсудил. И разыгрывал водевиль простодушного неведения в кабинете Пал Палыча.
— Подлец. Лазутчик. Комедиант.
— Ну прочти хоть, — жалким дискантом попросил Ромка, и я захохотал:
— Прочту.
Он сразу обнаглел:
— А что ты изображаешь? Сам в простое — сидит на 60 процентах зарплаты, скоро совсем с получки снимут или утвердят на фильм о жизни пчеловодов-новаторов. Когда еще ты свой шедевр сочинишь! А тут дело. И для твоей картины польза. Хоть задумаешься слегка.
— Прав, — сказал я. — Кругом прав. Прочту и задумаюсь.
Если логика использует «доказательства от противного» и делает этот метод достаточно эффективным, видимо, для принятия решения часто необходимо не согласие с посылкой, а внутреннее противостояние.
Я тут же кинулся к Лемовой «Сумме технологий». Конечно, разыскал то, о чем действительно стоит говорить. В «Сумме» есть две интересные главы: «Конструкция жизни» и «Конструкция смерти». Привлекает уже сама постановка вопроса — конструкция. Это именно сегодняшний подход, научный техницизм сегодняшнего мышления. Именно с этих позиций надо рассматривать существование в XX веке. Вот она, страсть века — страсть чистой мысли, освобожденная от сентиментальной неразберихи прошлого. Особенно заслуживает внимания лемовская теория устаревания. В чем она и как я столкнулся с ней в жизни, я расскажу вам потом.
Но тут-то мышеловка и захлопнулась: я был пойман. Мне уже захотелось доказать им всем свою правоту, а значит, утлость их представлений о векторах века, как выражается Ромка. И я согласился на телевизионную серию.
Тем более, что со сценарием так и не получилось. Это им я мог внушать, что уже «вот-вот», а сам-то я знаю, что не мог «вылущить рациональное зерно» из импрессивной шелухи.
Конечно, было еще одно обстоятельство, которое побудило меня на то, чтобы согласиться. Тала — называлось оно.
Цикл, который она вела по телевидению, исчерпал себя за давностью, захлебнулся в тавтологии, а ей до смерти хотелось сиять в голубом квадратике. Гипноз этого квадратика оказался так велик, что она забросила свою прежнюю специальность архитектора. Хотя, говорят, была неплохим проектировщиком. Очень она меня упрашивала работать вместе.
И тут уже я опомниться не успел, как получил от Тарского писульку, в которой значилось: Цикл «Люди и страсти XX века». Группа:
Режиссер — В. Привалов (я).
Ведущий — Н. Зонина (Тала).
Редактор — Р. Визбор (Ромка).
Оператор — П. Тарский (Тарский-младший, Пашка — сын Тарского).
Звукооператор — X. Гутьерес (Хуанито, Пашкин друг).
Весь состав группы был обеспечен такими записками.
Тарский как Тарский: обязательства, обязательства, порядок, порядок!
Конечно, мы все знали друг друга вдоль и поперек, по диагонали и в сечении. С Пашкой я учился вместе во ВГИКе, правда, он был двумя курсами младше, и на операторском, а не на режиссерском. Собственно, он меня знал. Его я только в лицо помнил, он вообще тих, не громогласен и внешне мало приметен. О нем было лишь известно, что он тот самый парень, который доконал тихим упорством медицинскую комиссию. У Пашки был врожденный порок сердца, ему двигаться-то было трудно, не то что носиться с камерой. Пашка пошел на операцию, чуть не умер. Он желал быть оператором.
Однажды в июле, когда работала приемная комиссия, я пришел в институт. У входа остановился с приятелем. Вдруг из дверей вылетает какой-то тип в синем тренировочном костюме, будто им из катапульты выстрелили, и сшибает нас с ног. Я вскочил и тут же ему врезал. Тип промямлил: «Не смертельно». Пустил хороший русский комплект и рысью — к троллейбусу. «Дожили, — сказал я приятелю, — хоккеистов в кинематограф напустили. Хоть бы объяснили, что тут силовые приемы не помогают». Тот засмеялся: «Дурочка, это знаменитый профессор. Оперирует на сердце. Прибегал ругаться за своего пациента, во ВГИК мальчишку не принимают».
Видимо, силовые приемы спортсмена-профессора помогли. Пашку приняли. Позднее, уже познакомившись с Тарским-старшим, я спросил у него, как он допустил, чтобы Пашка занялся этим гибельным для него делом. Пал Палыч набрал воздуха, побулькал и сурово выдохнул:
— Призвание, призвание. Пресечь призвание хуже, чем разлучить влюбленных.
О-о! И это про единственного сына, любимейшего!
Почему Пашка дружил с Хуанито, точнее, находился в нежном родстве душ и сердец — сказать трудно. Хуанито, привезенный трехлетним в Союз из Испании в 1938 году, был гораздо старше Пашки и темпераментно полярен ему. Впрочем, темперамент этот был заперт в непроницаемых глубинах. Буднично он был тих — Пашке под стать. Но иногда взрывался, разражался речами, и можно было без репетиций снимать его в роли комиссара-агитатора республиканских батальонов под Гвадалахарой.
Говорили, что родители его погибли во время гражданской войны, а Хуанито с пятилетним братишкой должен был быть переправлен в Советский Союз. Но брат потерялся в толпе на барселонской набережной. Потерялся. А Хуанито — здесь.
Когда-нибудь я постараюсь разговорить Хуанито и записать его речь. Примечательно, что все одержимые идеей или несущие в себе так называемый гражданский огонь вненационально похожи в речевой стилистике. Хуанито может пригодиться как прототип.
Но не из-за него я согласился на серию. Из-за Талы.
Впервые я увидел Талу на экране телевизора, когда она вела передачу «Для вас, новоселы!». В конце диктор объявил: «Ведущий передачи — архитектор Наталья Зонина».
Архитектор Наталья Зонина смотрелась на экране отлично и разговаривала здорово.
— Я нашел героиню, — сообщил я Ромке. Он знал, что я решил не снимать профессиональных актеров.
Мне повезло, оказалось, что передача «Для вас, новоселы!» — в Ромкином ведении, и я приехал на телевидение к следующему выпуску. У дверей студии Ромка на ходу нас познакомил. «Надежда советского кинематографа, Василий Привалов», — сказал он про меня.
— Я буду надеяться вместе с кинематографом, — сказала Тала, и безнадежно толстая дверь студии проглотила ее.
Я стоял в очереди к телефону-автомату, вертя двухкопеечную монетку, когда туда пришла Тала.
— Не звоните ей, — сказала она, — позвоните мне.
— Когда?
— Сейчас, сию минуту.
Я бросил монетку в щель будочной двери и покрутил пальцем в воздухе, как бы набирая номер.
— Я слушаю, — сказала Тала и посмотрела сквозь меня, куда-то далеко, будто на другой конец невидимого провода.
— Говорит кинорежиссер Василий Привалов. Я видел вас только что по телевидению и хочу предложить пробу в моем новом фильме.
— А сколько вам лет? — спросила Тала.
— Тридцать два. Я уже достаточно зрел, но еще достаточно молод, чтобы представлять новое поколение.
— А как вы выглядите? Если вы коротконоги и чернявы, ничего не выйдет. Я не верю в творческие возможности скотч-терьеров. Она сделала вид, что пытается представить себе, каков я собой.
— Напротив, — ответил я, — блондин, рост — 185, длина ног — кондиционная, так что творческий потенциал весьма высок. Более того. Я холост. Точнее, разведен. — Это было правдой — в смысле развода.
— Я подумаю над вашим предложением. Но имейте в виду, что я сама телезвезда и требую изобретательного подхода. — Она повесила трубку на воображаемый рычаг и ушла.
Такой у нас был первый разговор. Мне он показался вполне забавным, чтобы записать его в сценарии. Я только поменял некоторые подробности — герои мои были биохимиками.
Две недели я был крайне изобретательным и придумывал различные подходы. Тала мне действительно очень нравилась, и я даже ни разу не полез к ней целоваться. А через две недели она привела меня в какую-то старую развалюху в арбатском переулке. В двух приземистых комнатах там были составлены разноликие вещи, не имеющие связей между собой: на сиденье надменного стула «чиппендейл» стояла красная современная табуреточка, а отечный секретер привалился к чешскому кухонному буфету. Все стены были увешаны старыми морскими атрибутами — компасами, рулевыми колесами и еще некими предметами, названий которых я не знал. Посреди одной из комнат стояла тахта. Тала села на тахту и сказала мне:
— Тут будет наш дом. Ты будешь моим Филемоном, а я твоей Бавкидой… «Они жили долго и счастливо и умерли в один день». Они будут жить долго и счастливо — целый вечер.
Уже позднее я узнал, что в тот вечер Тала ушла от мужа и поселилась у подруги в этой странной арбатской каюте. Почему она поступила так, не знаю, мне казалось нелепым допытываться у нее. Мы вообще никогда не говорили об интимных чувствах, диктующих людям поступки. Это смахивало бы на сакраментальное «выяснение отношений», которое всегда отяжеляет людские привязанности. Если люди нужны друг другу, они будут вместе.
Мы вместе уже полгода. Но она по-прежнему живет у подруги. У Талы вообще поразительный дар легкости в отношениях. Она ни разу не спросила меня: «Когда ты позвонишь?», или не сказала: «Будем вместе всю неделю».
В тот вечер она тоже сказала: «Они будут жить долго и счастливо — целый вечер». Наверное, уже знала, что это надолго. Но сказала только «целый вечер», чтобы я не почувствовал, что этот вечер обязывает меня. Обязательства вообще нельзя навязать, и она понимала это, чего другие женщины не понимали.
Когда я уходил, она подошла к двери, открыла ее и встала в дверном проеме.
— Ты не можешь дождаться, когда я уйду? — спросил я.
Она засмеялась и сказала доверительным шепотом:
— Нет. Я уже вышла к дверям встречать тебя, когда ты придешь следующий раз. Может, ты захочешь прийти. Я просто жду у дверей.
Я ушел легко, и мне захотелось прийти еще и еще, чтобы она и вправду встречала меня у дверей. А уходить всегда трудно, потому что хочется уйти, а нужно что-то говорить и обещать, что придешь, и быть ласковым, хотя у тебя уже нет на это настроя.
С Талой никогда не бывало мне трудно.
Героиню своего фильма я во многом писал с Талы, я знал, что именно такой должна быть сегодняшняя женщина.
Я спустился в телевизионный бар, где договорился встретиться с Талой: у нее через полчаса начиналась трактовая репетиция, и Тала стремилась выпить свой кофе.
Стена вестибюля перед входом в бар изукрашена могучим витражом — зеленоватые волны стекла вздыбили в напряжении скованного рывка медный тускловатый блеск на застывших гребнях. Когда я спускаюсь в бар, каждый раз меня охватывает ощущение, что я вхожу в подводную лодку, и этот девятый вал сейчас накроет меня с головой. А может, это не ощущение, а надоедливый, как повторяющийся сон, образ.
Тала уже сидела за двухместным столиком в красноватом полумраке подвала и махала мне рукой.
— Здравствуй, соавтор! — сказал я.
— Здравствуй, соавтор! — сказала Тала.
Я еще не сообщил ей, что согласен взяться за цикл. Но теперь все было ясно.
И она не стала расспрашивать, просто ответила: «Здравствуй, соавтор».
— Куда поплывем? — спросил я.
— Никуда. Просто погрузимся на дно, выключим моторы, и три минуты будет тихо-тихо, — сказала она.
И о подводной лодке ничего я ей не говорил никогда, но она умудрялась понимать все, о чем я только подумал.
— Уже тихо-тихо. — Я положил ладонь на ее руку, замершую на плоскости столика, как красивая бездыханная рыба на песке.
— Совсем тихо. И не будем разговаривать, — сказала она. Рука чуть дрогнула.
Так мы просидели минут пятнадцать, она допила кофе. Мы, правда, молчали, но будто поговорили.
— Очень устала, — сказала она. — От неразберихи особенно. Вчера нужно было выходить в эфир, нет оперативной пленки, только что отснятой. С ног сбились. Наконец смотрим, в монтажной какой-то ролик плавает в коробке с водой.
— Почему с водой? — не понял я.
— Откуда я знаю, «почему». Может, у монтажницы такие странные причуды купать пленку в воде. — Тала помолчала и, точно стесняясь, показала на сумку — там торчал корешок книги Раздорского. — Но я труженик. Уже прочла все. С какого очерка начинать, еще не знаю.
— Титан! — сказал я и поцеловал ее в щеку.
Однако вышло, что Тала со своей оперативностью просто опередила события.
Мы еще точно не решили, как будут строиться передачи нашей серии: где нужны документальные съемки, как включать архивные материалы кинохроники, в чем роль ведущего и прочее. Да и вообще, должны ли передачи строиться по единой конструкции. А конструкция для меня — решающий компонент.
Необычайное чувство — кристаллизация формы, оно возникает в тебе внезапно и вдруг начинает густеть, обретая почти плотские объемы, грани, зовя наполнить пустоты подвижным веществом действия. Форма — это мое владение, тут я не допускаю возражений, даже советов. Но еще необходимо было точно продумать проблемные акценты, очертить сферу мысли во всей программе.
Вездесущий Пал Палыч носился от одного члена группы к другому, атакуя нас идеями. Потом выкинул лозунг «Ломаем функциональные рамки, ломаем рамки. Каждый должен размышлять над содержанием. И оператор, и звуковик, и все». Вдохновенно всплеснул ручками: «Ничто оснастка корабля — без паруса и без руля».
Тут миру явился скрытый временем лик его поэтического прошлого. Когда-то, вернувшись из походов Конармии, боец Прокофий Корешко стал рабочим поэтом Павлом Пролетарским. Его песни распевали комсомольцы в продотрядах и на лесах первых строек. Плескались кумачи со стихотворными строками: «Поток рабочего металла — удар по миру капитала!»
Говорят, что уже во время Отечественной войны, когда после ранения Пал Палыч был в долгосрочном отпуске, он работал в выездной редакции одной центральной газеты на восстановлении Донбасса. К тому времени он уже не носил звучного имени Павел Пролетарский. В журналистике оно поскромнело. Просто Тарский. Так запечатлелось и в паспорте. Но это я между прочим. Не могу удержаться от фиксирования соблазнительных подробностей жизни Пал Палыча.
Сегодняшний лозунг Тарского-старшего был принят, и каждый из нас взял себе очерк для обдумывания. Все закрутилось.
И вдруг заклинило. На месяц выбывали из строя Пашка и Хуанито. Они давно пробивали себе командировку на Курильские острова. А теперь, когда они вошли в нашу серию, бац, разрешение пришло. Конечно, можно было начать готовить сценарии и без них, но мы хотели, чтобы оператор и звуковик всегда были под рукой на случай оперативной съемки.
Пашка явился ко мне домой в восемь утра, я только глаза продрал. Явился без звонка, и я злился:
— Надо хоть предупредить, что придешь возвещать зарю.
— Ну какая же заря? — удивился Паша. — Восемь часов. И я знаю, что никому не помешаю, ты же холостяк.
— Именно поэтому, — рявкнул я, но смягчился от его наивности, не допускающей даже мысли, что по утрам холостяки могут быть не подготовлены к приходу посторонних.
Пашка оглядел царивший у меня бедлам и вздохнул:
— А зря. Тебе нужна хозяйка.
— Ты что? — спросил я.
— Понимаешь, мы с Хуанито уезжаем. — Я промолчал. Всем известно. — А за нами разработка очерка. Вот мы сделали. — Он достал из кофра с камерой листки, где был перепечатан очерк.
— И для этого «я пришел к тебе с рассветом, чтобы сообщить сенсационное известие о том, что солнце встало»?
Но Пашка не знал нашей с Ромкой игры:
— Нет, но мы до отъезда будем заняты. Сейчас вот едем в Красногорск, смотреть старые фильмы о Курилах… А может быть, ты захочешь заняться сразу? — Он помялся, потоптался с ноги на ногу. — И потом, это нас очень заинтересовало. Хуанито и меня.
— Вы что же, и комментарии вместе сочиняли, попугаи-неразлучники?
— Нет. Хуанито свое написал, я свое… Пока, Вася. — Он ушел.
Я вовсе не собирался, едва проснусь, хвататься за очерки и за работу. Я люблю утром поболтаться без дела, пошарить по углам какую-нибудь мыслишку. Но Пашка выбил меня из этого состояния. Я сел на незастланную тахту и стал просматривать его бумаги.
Вадим Раздорский
Нет тут ни церквушки с лазоревыми куполами, ни голой колокольни. А колола бьются, денно и нощно всхлипывают колокола над лощиной. Оттого, когда солнце, скатываясь за рощу, подпаливает верхушки берез, они теплятся скорбно, как погребальные свечи, объятые рваным чадом черной на закате листвы.
Я пришел в лощину, над которой стонут колокола, когда солнце скатывалось за рощу.
И дорога сюда печальна, и печаль встречает тебя у шоссе.
У шоссе от Минска на Витебск висит странный указатель. Право, он странен уже самим своим обличьем: из черных, будто обугленных досок выложено подобие погорельской избы, облик стен и крыши складывается в буквы — Хатынь.
Потом ты идешь дорогой, где километровые столбы, точно белые могильные камни, стоят тяжело и настороженно, чтобы каждый шаг твой был отмечен и ощутим, ибо шаги твои — к трагедии и памяти.
«23 марта 1943 года специальный карательный отряд гитлеровцев ворвался в деревню Хатынь. Была сожжена вся деревня, а жителей — детей и взрослых согнали в колхозный сарай, обложили его соломой и подожгли. Когда крыша обрушилась, и люди пытались вырваться из пламени, по ним открыли автоматный огонь».
Ты прочтешь эту надпись на доске, там, где дорога впадает в лощину. Потом кто-нибудь расскажет тебе, что в этих краях, партизанских краях Белоруссии (хотя других в этой республике и нет), свирепствовал один из мрачных нацистских карателей — Занберг. Расскажут, что в тот день, 23 марта 1943 года, из-под гремящих в огненном вале балок выкарабкался живым лишь один старик, вынеся на руках мертвого ребенка.
Ты увидишь старика и мертвого ребенка, увидишь, как, увидел я, потому что они теперь уже не покинут Хатыни. Никогда.
Он стоит почти на самой земле, уперев в нее узловатые крестьянские ступни, уронив длинные руки, оттянутые смертной ношей. Ветра вздули бронзовую домотканую рубаху на острых его лопатках, бронзовые невидящие глаза смотрят за лес, и черный вихор волос, подобно вихру давнего дыма, застыл над вихром бора.
Бронзовый старик выносит тебе навстречу бронзового мертвого ребенка там, где дорога впадает в лощину. Там, где была Хатынь, там, где полыхал сарай.
У ног старика не вянут мохнатые лиловые колокольца сон-травы. Лиловые, как тлеющие четверть века угли того сарая.
Старик смотрит на лес пустыми глазницами и оттого не видит за своей спиной черный мраморный скат — прообраз треснувшей обугленной кровли, не видит справа от себя черные силуэты печей.
Сложенные из темного камня, обведенные темным венцом избяного основания, на месте каждого сгоревшего дома Хатыни теперь стоят памятники домам и людям. Памятники в образах печных труб, какие обычно торчат на пепелищах. В трубу каждой такой печи вмурована табличка с именами и возрастом обитателей дома — посмертный список жильцов.
И каждую трубу венчает колокол, колокол, присланный Хатыни одной из окрестных деревень. И колокола денно и нощно всхлипывают над лощиной, гудят и зовут на вечную тризну.
Каменные плиты дорожек ведут к печам, плиты похожи на могильные. Черные обрубки ворот ведут к печкам или во дворы, которых нет, — они ведут в никуда. Или в память.
Мир помнит французский Орадур, чешскую Лидице, сожженные дотла.
От Бреста до Смоленска — сплошь Лидице: 240 белорусских деревень, сожженных заживо.
Какой-то француз вслед за Тилем Уленшпигелем сказал: «Пепел Орадура стучит в мое сердце». В Хатыни мне казалось: я слышу грохот зольных погостов, колотящих в людские сердца.
По замыслу создателей мемориала, Хатынь будет памятником всем жертвам нацизма — и воинам, павшим в бою, и тем, кто подобно хатынцам сгорел в костре, разведенном карателями. В Хатыни думаешь обо всех них. Но вот взгляд упирается в табличку возле бывшего сарая: «Здесь было уничтожено 154 жителя, из них — 76 детей», и ты уже видишь только эту цифру: 76 детей.
Кажется, строчка эта извлечена из старинных манускриптов, повествующих о кровавой вакханалии Варфоломеевской ночи. Нет, буквы современны и свежи, как современен и свеж лист сегодняшнего отчета специальной комиссии по расследованию преступлений, совершенных иноземными агрессорами во Вьетнаме: «…На провинцию Куангбинь сброшено свыше миллиона бомб, обрушено 80000 артиллерийских снарядов тяжелого калибра… 19 общин и 112 деревень уничтожены и полностью сожжены… Убиты и ранены тысячи жителей, среди которых преобладают женщины, старики, дети… Сожжено напалмом и фосфором 77 больниц, более 100 амбулаторий, 131 школа…»
Я видел эти школы, разбирая кинохронику для фильмов, над которыми работал, на фотографиях. Мой товарищ, журналист Сергей Зинин, сделал во Вьетнаме снимки. На одном из них — израненная одинокая парта под клочковатыми сводами изодранной огнем кровли. Рядом мальчуган. На обороте фотографии значится: «Урок истории. Фам Беонь Шен, 11 лет, 3-й класс, школа им. Нгуен Чоя, Ханой». Фам Беонь Шен — это весь 3-й класс школы, живой класс.
«Урок истории» назвал свой снимок С. Зинин. Уже не первое десятилетие История дает человеку эти скорбные уроки.
К цифре, начертанной в Хатыни, «76 детей», пристраивается длинная вереница нулей, но участники трагедии те же: дети и их палачи, война и фашизм.
Фашизм, являющийся миру в новых обличьях, из уроков истории извлекает главным образом практический опыт своих предшественников-заплечников. Способы массового уничтожения и методология пыток совершенствуются на диво. Право, Гиммлеру стоило припасти связку железных крестов для своих духовных наследников.
В странах, где властвуют реакционные диктатуры, выросло целое поколение детей, уверенных, что со словом «детство» сопрягается только слово «тюрьма»: они родились там, они не видели иного мира, кроме замкнутого бетонной стеной пространства тюремного двора.
Однако насилие, столь плодотворно усвоившее номенклатуру средств физического глумления над человеческой личностью, приняло и другой завет своих родоначальников: необходимость умерщвления и обуздания человеческого духа.
Этот высокий Дух, как эстафета Прометеева огня, передается от поколения поколениям в нетленных томах прозы, будоражащей мысль, в строфах, раскрывающих истинное назначение человека. Греческая полковничья хунта начала правление, запретив школьникам читать Шекспира, Толстого, Достоевского, Чехова, Гюго. На земле Эсхила, Софокла, Аристофана эти имена были изъяты из обращения.
Стоит вчитаться в строчки приказов и инструкций, в обилии изданных хунтой, едва она пришла к власти. Они не претендуют на разнообразие стилистики — почти каждый из этих опусов начинается словом «запрещается». Среди многих запретов, на мой взгляд, один достоин специальных размышлений: «В газетах запрещается пользоваться народным языком. Язык газет должен быть языком официальных текстов».
Я читаю эти документы современного средневековья и вижу на земле Эллады пепелище Хатыни — прах и пепел человеческих душ.
Я вижу, как, закончив свою кровавую работу, хатынские каратели идут по земле Южной Кореи в форме солдат военно-воздушных сил оккупационной армии. Ведь именно там каратели расстреляли четырех мальчуганов, собиравших хворост. Дети просто собирали хворост.
Образ Хатыни является миру и тогда, когда внешне события и не схожи с мартовской трагедией 1943 года. Всякий раз, когда люди встают перед смертью и произволом в своей беззащитности.
Денно и нощно стонут над лощиной колокола Хатыни. Разновысокие голоса колоколов переговариваются старческим басом и ломким детским дискантом. Птицы заливаются над лощиной — птицам нет дела до памяти, до трагедии, они поют жизнь. И колокола Хатыни, вызванивая свой вечный реквием, гремят набатом, взывающим к памяти, взывающим к зоркости. Ибо звонят они и по тем, кого уже нет, и по тем, кого может настичь беда. И если ты, подобно декостеровскому Тилю, услышишь, как пепел стучит в твое сердце, распознай этот звук: это звонят колокола Хатыни.
Примечания Хуанито:
«Антифашизм — генеральная тема современности. Поэтому всякое возвращение к изобличению гитлеризма должно рассматриваться в его связях и его наследии в неофашизме. Отсюда: передачу нужно строить не как рассказ о хатынском мемориале. Это повод. Главное тематически:
1. Фашизм и человеконенавистничество. Теоретический постулат, сформулированный Альфредом Розенбергом: «Идее любви не свойственна типообразующая сила».
Это: а) отрицание гуманизма, проповедь любой жестокости, свобода физического уничтожения (на сегодняшнем опыте — итальянский неофашизм, ЮАР и т. д., а также деятельность неофашистов ФРГ, США, неорасизм сионизма. Методы, провозглашенные кандидатом в президенты Соединенных Штатов Джорджем Уоллесом: «Бам! Бам! Бам! Прямо в голову! Прямо между глаз! Насмерть! Наповал!» Это современные ученики хатынских заплечников);
б) о «типообразующей силе». Уничтожение и жестокость, противопоставляемые «идее любви», нужны как инструмент, способный превратить человечество из многообразия мыслящих индивидуальностей в единый покорный бездумный «тип». Отсюда:
2. Неофашизм и нетерпимость. Неофашизм и уничтожение личности. (см. в очерке о «необходимости умерщвления человеческого духа»):
а) сегодняшние проповеди нетерпимости к идейным противникам. Томас Андерсон, один из лидеров «Общества Джона Берча», призывает: «Каждый коммунист и прокоммунист должен быть арестован, сослан и повешен»;
б) нацистская наука ненависти, заменяющей мышление. «Прежде всего необходимо покончить с мнением, будто толпу можно удовлетворить с помощью мировоззренческих построений. Познание — это неустойчивая платформа для масс. Стабильное чувство — ненависть. Его гораздо труднее поколебать, чем оценку, основанную на научном познании». (Гитлер). Сегодняшняя практика неонацистов основана на этой формуле. Об этом писал Никифорос Вреттакос:
Как включается передача в цикл «Люди и страсти XX века»? Это страсть непрощения и страсть противостояния. Без них нет нашего столетия».
Ксения Троицкая
Я очень давно не бывала у Влада. Как-то так получилось — когда ребята из моего отдела решали собраться вне редакции, все приезжали ко мне.
Я очень давно не была в этой комнате с белыми стенами, белым потолком, опоясанной деревянной полкой, сплошь уставленной керосиновыми лампами. Очень давно, вечность. Ведь именно вечность, эпоха, эра прошли с того вечера? Пятьдесят лун сливались в единое светлое зарево. Свет ликовал. Горели лампы. Все пятьдесят.
Мемос говорил о прекрасной догматике чувств, а у меня все холодело внутри, казалось, что он говорит не о музыке, а о чем-то имеющем отношение только к нам — к нему и ко мне.
Ничего не изменилось здесь. Лепились к стенам деревянные лавки, на длинном, как для Тайной вечери, столе стояли глиняные миски с хлебом и толсто нарезанной колбасой.
Даже, будто и не двинулась с тех пор, громоздилась фигура Влада в бесформенном (по-моему, том же) свитере, с «головой, как стог во дворе».
Впустив меня, он снова уселся в своем углу.
А вот персонажи сменились. Закинув ноги на ручку кресла, в его утробе угнездился Роман Визбор, по комнате в крайнем возбуждении расхаживал Василий Привалов. Рыжая шевелюра Визбора негаснущей головней тлела в полумраке мягкого темно-синего убежища, что первым бросалось в глаза.
Не для общения с малознакомой публикой ехала я к Владу. Нам предстояло писать совместный материал. Лениво улыбнулась:
— Какие люди! Я разрушаю беседу?
— Что вы! Что вы! Очень приятно, — так же неискренне залопотали они, а Визбор вскочил:
— Садитесь, пожалуйста. Единственное кресло, разумеется, даме.
Но в комнате возникло невысказанное раздражение, которое воцаряется всегда, когда в интересный разговор внезапно врывается кто-то, не имеющий отношения к теме беседы.
Учуяв это, я тоже пробормотала: «Нет, нет, продолжайте, я посижу, поворошу бумажки, надо кой-чего подобрать». Но в кресло уселась. И блокноты вытащила.
Привалов только того и ждал. Продолжая спич, будто меня тут и вовсе не было, так, мол, мелькнула бесплотная помеха, и нет ее.
— Из всех Хуанитовых разглагольствований только одно, может, и стоит внимания. Мне лично интересна только гитлеровская цитата насчет того, что познание — неустойчивая платформа для масс. Проблеме современного познания можно дать такой ракурс: мыслящее человечество и механическая толпа.
— Так о том и речь. Познание как противостояние фашизму, — сказал Визбор.
Пружины кресла плавно подавали мое тело вперед-назад. Точно так же, как тогда, когда Мемос сидел по диагонали от меня, но через всю комнату, через полумрак мне было видно, что он смотрит на меня, смотрит неподвижно, неотрывно. Я против воли переводила глаза в противоположный угол и видела, как смотрит на меня Мемос. Видела только этот взгляд, не глаза, а именно взгляд, и не могла уже ничего расслышать.
Его взгляд мешал мне слушать и сейчас. Я не очень понимала, о чем витийствует Привалов. Но когда Роман произнес: «Познание как противостояние фашизму», я подняла голову. Точно собака, реагирующая на ключевые слова.
Привалов кинулся на Романа:
— Ах, и ты туда же! Чем не Раздорский: фашизм! ЮАР, Италия, Европа… Так уж у тебя сердце заныло по бедным африканским детишкам! Это же спектакли, которые вы все разыгрываете: надувание щек по причине мировой скорби. И прекрасно знаете, что ни к кому из вас это не имеет ни малейшего отношения.
Мне очень хотелось вступить в разговор, крикнуть: «Ко мне имеет прямое отношение!», — но я промолчала. Они предпочитали не замечать моего присутствия. И тут уж мне стало обидно не только за полное игнорирование моей принадлежности к женскому полу. Они и как «специалиста в теме» меня ни в грош не ставили. Иначе Влад или Роман поинтересовались бы моей точкой зрения. Визбор сказал без особой уверенности:
— А если и нас коснется? Что тогда?
Подойдя к нему, Привалов продолжал раздельно и напористо:
— Тогда? Не тогда, а теперь. Что же ты, борец за вселенское благополучие, не пишешь про родное государство? Чем, на твой взгляд, ГУЛАГ комфортабельнее нацистских или латиноамериканский лагерей? Теперь-то на неведение не сошлешься. Читал ведь Солженицына. Читал?
— Читал, — уныло ответил Роман.
— Читал. Спрятавшись под одеялом. А ведь такая манера получения информации тоже рисует строй нужным образом. Ан нет. Вы обливаетесь слезами по поводу того, что «черные полковники» запрещают читать Софокла и Еврипида. И так во всем. Раздорский, видите ли, о Вьетнаме или Корее печется, там детишек расстреливают… Однако американская армия — не фашисты. Не так ли? Просто — война.
— Вот это-то и страшно, — уже увереннее заговорил Визбор. — Фашизм, может, особенно страшен тем, что его нормы могут стать нормами тех, кто даже не исповедует фашистской идеологии как таковой.
— Между прочим, в той же Корее и наши воевали. И что ты думаешь — кидая бомбы, они сопровождали их инструкцией: «Детей не трогать?»
Молчавший все время Влад бросил из своего угла:
— В общем, ты, Вася, прав. Не пишем мы правды. Всей правды. Я все время об этом думаю.
Его подхватил Роман:
— Никто и не строит из себя непорочных девственниц. Все мы знаем, что играем по предложенным нам правилам. Нужно только стараться, чтобы внутри этих правил быть честным. Насколько возможно.
— Быть честным, насколько возможно — чушь. Можно или быть, или не быть, — сказал Василий. — Я, желая быть честным, беру только те темы, в которых могу говорить, что хочу. И в мировых процессах меня занимает только то, что имеет общечеловеческий смысл. Без политики, потому я и за серию взялся. — И, без перехода: — Ладно, пошли, Ромиро, Тарский уже бьет копытом.
Ромка в извиняющемся жесте развел руки:
— Вот так всегда. Обложит тебя с ног до головы и хоть бы хны — едем дальше. Извините, Ксения, что окунули вас в мутный сель наших разногласий.
— Отчего же — простите? Мне было очень интересно. Я ведь тоже, в некотором роде, из тех, кто надувает щеки по причине мировой скорби, — сказала я.
Они ушли, Влад прошел их проводить.
— Есть хочешь? — спросил он, вернувшись.
— Нет, давай потрудимся.
Трудились мы со скрипом. Я понимала, почему. Речи Привалова не прошли бесследно ни для меня, ни для Влада. Хотя сам Василий у меня особого расположения не вызывал.
Василий Привалов
Ромка вышел из телестудии вместе с Люкой. Понятия не имею, как она туда успела попасть. Наверное, он вызвал ее после работы, чтобы покорить магией своих телевизионных действ. Но держались они как старинные приятели.
— Вы на колесах? — Люка потрогала пальцем капот моего «москвича».
— Куда рванем?
— Фиесты! Мой малыш жаждет фиесты! — Ромка дунул в черный фонтан на Люкиной голове.
— Будет вам и фиеста, будет вам и свисток… Садитесь. — Я открыл дверцу машины.
Я очень люблю ехать ночью по Комсомольскому мосту. Там ветер раскачивает машину, поднятую в огромных ладонях над городом, и автомобиль становится катером, который швыряют волны. Где-то под тобой проползает река, нацепив себе на хребет пароходики и речные трамваи, набитые движением людских тел, смехом и шепотом. В этот момент я напоминаю себе героя «Моби Дика», спящего в каюте, положив щеку на футы воды, наполненные жизнью моря.
Фонари, отмечающие грань мостовой, тверди и пустоты, если смотреть на огни сквозь стекло, выпускают бронзовые стрелки из сердцевины светильников. Стрелки покачиваются с каждым движение твоей головы, будто сотня компасов подрядилась указывать тебе путь, не давая остановиться. А если смотреть на них не двигаясь, вокруг фонарей возникают свитые из серебристой финифти ореолы, и фонари глядят из них, как из старинных рам. Тогда мост превращается в протяженную картинную вереницу, и я понимаю, что город, силясь вырваться из скупости современных очертаний, вывешивает фамильную портретную галерею предков. Как в средневековом замке.
Есть мало мест, где я освобождаюсь от своего «рабства записной книжки» и ощущаю окружающее с болезненным волнением. Например, в лесах и полях со мной этого не бывает никогда. А вот на мосту бывает. И хотя в голову лезут всякие образы и ассоциации, мне не хочется их запоминать или записывать. И не хочется продлевать это мгновение, вспыхивающее где-то внутри и обреченное на потухание через минуту.
У светофора за лужниковской ярмаркой мгновение погасло.
— На Арбат? — спросил Ромка.
— Поздно, пожалуй, — промямлил я неуверенно.
— Но фиеста длится. И тебе будут рады.
Я понимал, что Тала уже, вероятно, легла спать. К тому же я обещал позвонить или заехать часов в десять, но Ромку унять было невозможно.
Тала открыла дверь, застегивая на ходу халатик. Волосы у нее были сколоты на затылке в смешной ощерившийся веничек.
Тала выпустила волосы из веничка, и они просыпались ей на плечи светлым грибным дождем. При этом она покосилась на свое отражение в стеклянной дверце шкафа, и я подумал, что она всегда кажется отраженной в стекле — с немного размытыми контурами и неожиданно вспыхивающими яркими бликами где-нибудь в глазах, на кофточке или на несуетной кисти руки.
Потом мы пили коньяк и разговаривали о нашей серии.
Я сказал, что начинать нужно с самой современной страсти — страсти познания.
Мне кажется, что процесс познания постепенно вытесняет из человека нашего столетия, а далее, может, вообще вытеснит все человеческие восприятия, составляющие так называемую «сферу эмоций». Постижение мира, постижение друг друга, постижение себя орудиями многорукой, как Будда, информации — вот суть духовной жизни современников и людей будущего.
— гумилевской строфой спросила Тала.
Ромка был тут как тут:
— Да, действительно — ведь ни съесть, ни выпить, ни поцеловать?
Когда дело касается важных для меня вещей, у меня нет охоты поддерживать эти игры. Я будто и не заметил их усилий.
— В том-то и дело, что познание всегда идет этими двумя путями — путем логических поисков и путем поэтического откровения. И тот и другой путь дан и ученому и художнику. Иногда художник в интуитивном озарении видит то, к чему ученый еще придет. А иногда метод научного познания может открыть поэту то, что считается уделом художнического вдохновения.
— Но что нам делать с розовой зарей? — упрямо повторила Тала.
— Розовая заря, — сказал я раздельно, — многозначна для разных времен и разных людей. Для кого-то она физическая закономерность или отличительность нашей планеты в системе галактик. Для кого-то поэтический образ, Потому в разные времена люди будут постигать розовую зарю по-разному. У древних путь поэтического откровения в науке был весьма действенным, а сегодня — нет, поскольку эмоции и мифотворчество становятся беспомощными не только в науке, но и в искусстве.
— Значит, поэтические откровения, порыв и прочее сдадим в архив? — с наглой наивностью сказала Тала.
Но меня не так просто было сбить. Я об этом обо всем думаю, слава Богу, не первых день.
— Нет, отчего же, — как можно спокойнее возразил я, — в человеке остаются оба начала, только соотношение их и применение меняются с годами. Может, поэтическое начало будет жить со временем только в ученом и будет служить расширению рамок познания. А может, поэт станет ученым. Найти меру этого соотношения для сегодняшнего дня — значит найти формулу современного человека.
— А зачем вам нужен спидометр? — спросила вдруг Люка и показала на старинный барометр. Витиеватой славянской вязью по его плоскому пузу было выведено: «Ясно… Ветрено… Буря…».
— Чтоб бури, закипающие в этой комнате, не застали меня врасплох, — смиренно объяснила Тала. А Ромка прибавил:
— Тала охраняет себя от нежданного шквала чувств.
— В настоящее время чувства — это тривиальная банальность, — раздельно произнесла Люка и вытянулась с ногами на тахте. Она скучала.
— Она гений. Великий языкотворец. И между прочим, — Ромка кивнул мне, — твой единомышленник. — Ромка поцеловал Люку в нос.
— Да. Это правда гениально, чувства — тривиальная банальность. Я просто не знала, как это формулируется, — серьезно сказала Тала.
Мне что-то не понравилось в этой серьезности, и я дернулся:
— Господи!
Потом мы собрались уходить, и Тала остановилась в дверном проеме. Мне снова показалось, что она отражена в стекле, так неясны были очертания ее фигуры и лица, но сейчас блики не вспыхивали на ней.
— У нас знаменательное событие, знаменательное событие! — выкрикнул Тарский-старший, едва мы с Ромкой переступили порог.
Тарский грипповал, но желал руководить нашей армией неотступно. Вызвал Ромку, меня, Хуанито, Талу к себе домой. Хуанито был уже там. Тала позвонила, сказала — не могу, занята.
О гриппе Тарского говорила только разостланная на топчане постель. Сам он в полной боевой готовности сновал по комнате.
— Приветствую скромных владельцев бауманского филиала библиотеки Британского музея, — сказал Ромка и широким жестом обвел стены тарского жилья. Собственно, стен там не было, одни книжные стеллажи.
В двухкомнатной квартире Тарских отец и сын занимали ячейчатую клетку, все жилое оснащение которой составляли два топчана, стол, задуманный автором как обеденный, но ныне и.о. письменного, несколько стульев.
Второй комнатой владела Поля. Прасковья Васильевна. Пашкина бывшая кормилица вырастила сироту-заморыша Пашку Тарского, когда умерла его мать. Поля осталась в семье Тарских. То ли домоправительница, то ли член семьи. Все роскошество домашнего быта было сосредоточено в ее комнате — бархатная скатерть, высокий ящик напольных часов, литография на стене — модернизированный вариант «Любви Амура и Психеи».
Почетных гостей Тарских Поля приказывала принимать у себя. С нас, по ее мнению, хватало и книжного ящика.
— Что за событие? — спросил я.
Пал Палыч вскинул очки на лоб и тихонько исполнил «зорю», вложив в напев все очарование тайны.
— Поясняю, — Тарский не мог нас долго томить, — отыскался брат Хуанито.
Хуанито Гутьерес сидел на одном из топчанов рядком с Пашкой.
— Какое счастье, какое счастье! — закружил по комнате Тарский.
— Да, счастье огромное: пятый год в такой тюрьме!.. — тихо сказал Пашка.
— Но ведь он мог быть расстрелян, а он жив. И поднята кампания в его защиту. — Пал Палыч ткнул меня в бок.
— По порядочку, Пал Палыч, по порядочку, — призвал его Ромка.
Оказалось, что в «Юманите» опубликовано открытое письмо французских артистов, призывающее усилить кампанию в защиту известного испанского певца Пабло Гутьереса, приговоренного к смерти за антидиктаторские выступления. Там же была напечатана фотография певца и краткая биографическая справка. Выходило, что это брат Хуанито, тот, который пятилетним остался в Барселоне, когда Хуанито вывезли в Советский Союз.
— И, как справедливо записал классик, — нас было двое — брат и я, — сказал Ромка.
Почти рефлекторно я продолжил, хотя сразу почувствовал неуместность нашей игры в этой ситуации.
Тут вошла Поля.
— Тарский, вам звонили, — объявила она. Поля неизменно звала Тарского по фамилии.
— Кто? — Он недовольно сморщил круглый нос: он весь был охвачен известием о Хуанитовом брате.
— Не то мужчина, не то женщина, — уточнила Поля. Тут она увидела Хуанито и двинула на него свое сухопарое негнущееся тело: — Здравствуйте, товарищ Ерес, — и затрясла руку Хуанито. Поля испытывала уважение к его непонятно звучащему имени. Нас с Ромкой она вроде бы и не видела.
— Вот всегда такая неопределенность, такая неопределенность, — застонал Пал Палыч, но Поле и до него не было уже дела.
— Прошу до гостиной, — жест в сторону ее комнаты, — а я мигом в магазин.
Широким строевым шагом Прасковья Васильевна проследовала из комнаты. Ромка проводил ее взглядом:
— И эта семья, следуя пушкинской традиции, звала Полиною Прасковью, — сказал он.
Но тут уж я не подхватил. Я смотрел на Хуанито и на Пашку, который грустно гладил колено своего друга. Ромка со своей барометральной чуткостью уловил, что «игрушки» бестактны, и сразу переключился:
— Слушайте, а может, сделаем передачу о твоем брате? Пленки найдем, записи. «Боец с гитарой». А? И Хуанито в кадре расскажет, как они расстались в Барселоне. А? — предложил Ромка.
— Что он расскажет? — печально хмыкнул Пашка. — Ему же три года было. С таким же успехом я могу рассказывать, как меня выкормила Поля.
Хуанито вдруг резко поднялся:
— Я уезжаю в Испанию. Я подал документы.
Последовала немая сцена. Первым опомнился Тарский-старший и брякнул не к месту:
— А как же наша серия, наша серия?
Пашка откликнулся, точно дальнее эхо:
— А как же Курилы? — Он спросил про Курилы, но я-то слышал: «Как же ты мог не сказать мне про такое?» И Хуанито, почувствовав свою вину, уже почти нежным голосом сказал ему:
— На оформление нужно много времени, успеем на Курилы.
Тарский-старший недовольно засопел, начал бормотать, энергично шевеля толстыми пальцами:
— Какие-то несуразности в стиле Поли, прямо в стиле Поли.
И Поля тут же возникла в дверях.
— Да, шоб не забыть, — строго сказала она Тарскому, — у четверг — конец свету! — И удалилась, оставив всю компанию в ожидании близкого Апокалипсиса.
Поля оставалась Полей, непредсказуемой, непостижимой, с только ей ведомыми фантастическими сведениями.
Прасковья Васильевна
Прасковья шла по ноябрьским колдобинам перепаханного дождями поля. В одной руке Прасковья несла узелок с байковым одеялком и чистыми кусками простыни, порванной на пеленки. Одеяльце она выменяла на буханку хлеба. Она все припасла. И одеялко, и харчи на дорогу. Другой рукой она держала живот. Остро, нелепо выпирающий под юбкой живот казался прилепленным к худому, плоскому телу.
Когда ребенок поворачивался в ней, Прасковья похлопывала пальцами по животу: «Ша, малец, ша. До мамки дойдем». И, улыбаясь, поправляла сама себя: «До бабки».
Мужские штиблеты на Прасковьиных ногах были просторны даже на обмотках, терли ступню. Наверное, на ногах уже выступили кровавые плеши потертостей, потому что на каждом шаге остро толкалась боль. Но Прасковья не думала о ногах и о боли. Она думала, как придет домой, в деревню…
Как придет с ребенком на руках в церковь и будет глядеть в лицо той, другой, тоже с мальчоночкой, выписанной над амвоном.
Прасковья с малых лет глядела на ту женщину с младенцем в их церковке. Единственной в округе церковке: посетителей было немного. А Прасковья ходила. Может, оттого, что значилась в деревне самой некрасивой и нескладной, на вечерки ее не звали, и когда уже всех однолеток засватали, все вековала.
Церковка ветхая совсем была, иконы пооблупились, отчего Богородица казалась нищенкой в лохмотьях. Прасковья жалела ее и завидовала: ребенок.
«Богородица-дева, радуйся…»
Из всех молитв одну строчку и знала. Радуйся. Вот ты дева, девка, мол, а мамаша. Радуйся.
Но та безрадостно глядела через Прасковью в церковные двери куда-то на улицу. Глядела поверх своих рваных, нищих одежд, поверх неприкрытого младенчика. И над головой ее стояло светлое зарево, будто вышла из огня невредимой.
Прасковья своего неприкрытым не понесет. Одеялко есть. И простыночки.
«Мужик с фронту атэстатом шлет одеял ко за одеялком, одеялко за одеялком. И все — одинакинькие». Так она скажет в деревне. И никто не догадается, что нету у нее никакого мужика (заночевал прохожий в сторожке, где она стрелочницей жила). Ребеночек есть, значит, не хуже других баб. И матке внук.
Прасковья шла и шла. У конца поля черной стенкой стоял лес, и она решила, что передохнет там.
Лес уже совсем подступил к ней, когда за деревьями, вдалеке, что-то рвануло, будто гром, но не по-громовьи, раз-другой, а сильно и часто: бах-бах-бах. От неожиданности она, словно ее подтолкнули, побежала вперед, к лесу и у первой же елки, зачерпнув штиблетом, плашмя рухнула на живот.
И сразу все ее тело пронзила мучительная судорога, шедшая как бы и не из живота, а из-под сердца.
За лесом все ухало, и с каждым разрывом тело сводило этой мучительной, тянущей судорогой. Царапая руками землю и оставляя коленями глубокие бороздки во мху, Прасковья поползла, корчась и воя, в глубь леска.
Некому было здесь помочь ей, она рожала одиноко. Дотянулась рукой, достала острый камешек, перерезала пуповину. У коровы теленка принимала не раз. Догадалась: надо так же.
Мальчонка это был. Маленький, недоношенный. И мертвый. Она поняла.
Прасковья сидела, уперев спину в ствол елки, и, завернув в подол ребенка, прижимала его к телу, которое стало вдруг пустым — пустым от дитя, от боли. Пустым.
«Ан, как одеялко есть и простыночки», — подумала Прасковья. Она развязала узелок, достала что нужно и завернула мертвого мальчишку в три пеленки и одеялко.
Положив сверток под дерево, Прасковья все на коленях полазила у елки, нашла щепку и стала рыть ямку. Но земля щепке плохо поддавалась, и пришлось выбирать чуть примороженную почву руками. Пальцы одеревенели, а она все рыла.
Ямка тесная вышла, но уж какая есть, сколько сил хватило. Прасковья опустила уголок одеяла на лицо мальчику и уложила в ямку.
Когда насыпала холмик, обломила у елки веточку крестиком и воткнула в изголовье могилки.
И сидела, гладя могилку, без мыслей, без чувств, без боли, пустая, как опустевшее ее чрево…
Лесок был небольшой, однако плотненький, сбитый. Оттого пламя, стоявшее над лесом, над железнодорожным полотном, вдруг разом ударило ей в глаза, едва Прасковья вышла из-за деревьев.
…Разбомбленный состав в корчах изогнулся, припав боком к насыпи, будто и его свела родовая судорога. Некоторые вагоны горели. Весь откос насыпи и полянка перед леском были усеяны людьми — лежащими, сидящими, бродящими. И оттого, что иные из них метались стремительно туда-сюда, а другие медленно, едва-едва двигались в разных направлениях, Прасковья не могла объять все взглядом и умом.
И вдруг у самой ноги ее заплакал ребенок. Прасковья дернулась и поглядела вниз, на землю. У елки, упирая спину в ствол, как только что сидела она сама, сидела женщина. Руки ее вытянулись вдоль тела, а рядом, видать, скатившись с ее колен, лежал завернутый в стеганое шелковое одеяло ребенок.
Прасковья подхватила ребенка и сунулась к женщине.
С лица той глянули открытые невидящие глаза.
— Товарищи, покойница тут! — крикнула Прасковья. Но никто не откликнулся. Только ребенок голосил.
И тут Прасковья почувствовала, как к ее грудям что-то сильно хлынуло, будто туда качнули всю кровь. И снова ее пронзила боль, но уже другая — тяжелая и сладкая.
Расстегнув крупные разнокалиберные пуговицы на своей вигоневой кофте, Прасковья освободила грудь и, приложив к ней ребенка, двинулась к насыпи. Ее догнала какая-то девушка и спросила, всхлипывая:
— Гражданка, вы взяли ребенка Тарской?.. Вот их документы, — девушка сунула в карман Прасковьиной юбки маленький газетный сверток. И вдруг, обняв Прасковью, поцеловала ее: — Спасибо вам… кроха ведь совсем…
— Так, товарищи… — начала Прасковья, но та уже убежала.
Подойдя к насыпи, Прасковья остановилась и оглянулась по сторонам. Тут и там лежали окровавленные и изуродованные человеческие тела. Стонали и кричали люди. И пожар не опадал.
Но Прасковье не было страшно. Ребенок тепло и нежно чмокал у твердой Прасковьиной груди, и сама она улыбалась. Даже не понимая того, что улыбается, улыбалась.
А над головой стояло светлое зарево, будто вышла она из огня невредимой.
Василий Привалов
В тот вечер мне не очень хотелось идти к Тале, но я еще накануне, говоря с ней по телефону, сказал, что буду. А я терпеть не могу этой дешевки: сказал приду, не прийти. Это Ромкины номера — назначить свидание и даже не отзвонить. «Ожидание, тем более бесплодное, рождает тоску, и тоска — главная нота любви». Его формула. Я никогда не испытывал необходимости разжигать женскую тоску.
Я не хотел идти к Тале, потому что все сильнее чувствовал монотонность ритма наших отношений, от которого кидает в скуку, как от раскачивания железнодорожного вагона.
И потом я знал, что начнется разговор о передачах. На кой черт я все-таки взялся? Фильм мне нужен, мой фильм. Но он уполз, как собака в будку, и я ничем не мог выманить его из себя.
Оттого вечер тянулся мучительно. Мы сидели рядом на тахте, запрокинув головы к стене.
Я смотрел на красную табуреточку — она приготовилась к прыжку. Ей явно надоело там, под конвоем чиппендейловской спинки, и она, видимо, изготовилась вскочить на нас. Рулевое колесо неуверенно покачивалось на стене — неуверенно, но бережно ведя нашу каюту по вздорным течениям московских асфальтов, обводя рифы табачных ларьков и киосков «Союзпечати». А стрелка на брюхе барометра путалась в славянской вязи слова «ясно», точно наматывала на себя затейливые петельки букв.
Сбоку я видел также, как капельки электрического света плавали в желтых Талиных глазах, а глаза были у нее вечно солнечны от этого цвета. И мне хотелось понять, все ли мы еще плывем в нашей каюте, или лежим на берегу после кораблекрушения. Наверное, мы уже были на берегу, на песке, раз глаза ее были солнечны, а мы полулежали, закинув головы, как лежат на пляже. И то, что каюту разнесло к чертям собачьим, — наплевать.
— Я хочу найти тебя после кораблекрушения, — сказал я, не поворачивая головы.
— А как ты меня узнаешь? Какая я буду? — она тоже не пошевелилась.
— У тебя коленки будут в песке, а кожа на груди похожа на срез груши — прозрачная и в крохотных белых точках.
— Еще, пожалуйста, еще, — тихо сказала Тала.
— Что еще?
— Еще рассказывай про меня. Я ведь могу себя тоже не узнать Я ничего про себя не знаю.
— Узнаешь. Пройдет какой-нибудь абориген в перьях и скажет: «Вот знаменитая Наталья Зонина. На материке ее показывают через стеклышко на тумбочке».
Тала уткнулась лбом мне в шею и попросила еще тише:
— Нет. Не так. Расскажи, милый, ты, ну пожалуйста! Чтобы были слова. Есть у тебя слова?
— Разумеется. «Слова, слова, слова». «Гамлет», акт III.
— Ну не надо, ну, пожалуйста! — как-то совсем жалобно сказала она.
Это было что-то новое. Я не мог представить себе Талу так жалостно выпрашивающей слов. Да и как я ей буду говорить «Ты очень красивая, любимая?.. Я ни с кем не могу так говорить, как с тобой?» Расписывать ее глаза, руки, плечи? Или перебирать дни наших встреч и вспоминать самые пронзительные детали. Я и не помню их. Господи, неужели и она не понимает, что все пойдет в тартарары и потонет в скучной трясине старомодных обязанностей, которые, по существу, никому не нужны. Ведь именно свобода от этих литературных одежд и делает наши отношения долгими и желанными. Вот даже сегодня, когда мне не очень хотелось приходить. А именно с ней, когда я знаю, что нет нужды в этом никчемном лепете, я могу неощутимо пересекать грань существования и вымысла, вдруг приходящего ко мне, моей работы. Тогда и распахивается это чувственное познание, диктующее тебе искомое. Потому я и сказал ей про кораблекрушение. Не из стремления же изящно объясниться. Вслух я сказал:
— Нет концовки для сценария. Диалога нет. Ничего не могу придумать. Ведь серия — это так. Не могу без фильма.
— Ну давай думать вместе, — Тала выпрямилась и совсем по-прежнему, как ни в чем не бывало, сказала: — Расскажи, что ты там увидел, и будем строить дом.
Не построили мы дома. А уж Тала трудилась в поте лица, возводя стропила для моего воображения. «Выше стропила, плотники!» Ничего я не мог из себя выжать и, естественно, разозлился на Талу. Ушел, едва выдавив: «Пока».
Уже на улице меня охватил почти панический ужас — со мной покончено. Никогда я не смогу написать нужной строчки, не придумаю ни одного пронзительного кадра. Ведь бывает, что человек иссякает творчески. Я опять начал костерить эту треклятую телевизионную серию, которая заставила меня переключиться. Дело не только в том, что изменилась тематика моих размышлений. Сам механизм процесса мышления меняется. Когда ты занят голой публицистикой, точно расставляя по ранжиру важности события и кадры, — одно дело. Это вовсе не похоже на томительные и интуитивные блуждания в дебрях психологии придуманных тобой героев. Хотя, честно говоря, такие минуты вычерчивания душевной кривой у меня не часты. Я и героев конструирую. Но всё-таки эта не сухая конструкция телепередачи.
Это я себя утешал так. Потом так утешал: в творчестве неизбежны вакуумы воображения, ощущение полной безнадежности. И даже обычно это предшествует творческому подъему. В утешительстве своем я дошел до того, что начал адресоваться к примерам из классики. Вот Чайковский чувствовал, что исписался, а потом грянули «Пиковая» и 6-я.
Но, видимо, не очень-то я себя уговорил, потому что зашел в автомат и позвонил Ромке. А к Ромке меня всегда тянет, как к спасению.
Ромка жил неподалеку — на Садовом кольце. Дом его стоит рядом с американским посольством, в глубине двора, зеленого, как пригородный лес. Дом отступает за эти выпестованные руками дебри, а вперед, к мостовой, выставлен старинный домик, принадлежавший некогда Шаляпину. Такая каменная избушка с четкой классикой вневременных линий. Домик нелеп и странен среди современных многослойных гигантов. Он всегда напоминает мне ребенка, убежавшего с детского маскарада и замершего перед толпой взрослых.
А Ромкин дом похож на корабль, его так задумал архитектор. Опоясывающие здание коридоры имитируют палубы, а крыша — верхний дек. До войны на этой плоской крыше были теннисные корты, и Ромкины родители-подростки (они оба жили в этом доме) резались — «больше-ровно-меньше».
Я всегда знал, что дом похож на корабль. Но сейчас меня эта мысль испугала: Талина комната-каюта, телевизионный бар — подводная лодка. Теперь корабль. Меня испугала не символика совпадений, зовущая к путешествиям, к штормам. Я подумал, что образная моя система скудеет. Вот все вертится вокруг одной темы, будто я не способен на разнообразие ассоциаций. Видимо, сейчас все меня будет пугать, раз уж заползла в меня мыслишка о собственной несостоятельности.
Мы сели с Ромкой на скамейку в неподвижной темноте древесных теней.
— Целый день проторчал сегодня в ОВИРе, оформлял Хуанитовы документы, — сказал Ромка, будто продолжая прерванный разговор, и мне сразу стало с ним спокойно.
— Выходит, решил твердо?
— Твердо. Просил все сделать, пока он в командировке.
Интересная штука: когда мы с Ромкой бывали вдвоем, без «публики», нас не тянуло заводить наши игры в имена, в строчки или во что-нибудь еще. И мы не боялись обыкновенного разговора, в котором каждый мог показаться другому вне «привычного образа».
Я сказал Ромке о том, в чем боялся признаться даже себе: если уж с Талой я не испытывал больше волнения, значит, в наш рациональный век любви в прежнем ее смысле не существует.
— Сегодня мне Троицкая звонила, — сказал Ромка, — спрашивала про Раздорского, он о греческих эмигрантах писал. — Ромка опустил мою тираду. — Раздорскому удалось повидать греков, бежавших из хунтовской тюрьмы. Об одном он написал очерк.
— При чем вдруг Троицкая?
— При том… при любви. При той самой, которой, как ты говоришь, нет в XX веке… Сюда накануне хунтовского мятежа приезжал один греческий деятель. Двадцать лет отсидел в концлагере Макронисос. Сейчас хунта его снова сунула в тюрьму. Агамемнон Янидис его зовут. Так вот: есть немыслимая любовь на белом свете.
— Ты откуда знаешь?
— Я дружу с ребятами из ее отдела… Между прочим, я ей конспективно рассказал про нашу серию и попросил материалы. Сказала, чтобы я подъехал, поищет.
— Съезди, — безучастно сказал я.
— Нет, ты съезди. С Талой. Тала очень хотела с ней познакомиться.
— Все-то ты знаешь, — я похлопал его по плечу, — и про Троицкую знаешь, и про Талу знаешь…
С привычной беспечностью Ромка запел:
— И про дедушку знаю, и про бабушку знаю, и про Раздорского знаю, и про Грецию знаю. А ты нет. Ты темный, самонадеянный и темный. Съезди, просветись. Только почитай про Грецию. Хоть Гомера почитай. Или Раздорского. Что одно и то же.
Только войдя в квартиру Троицкой, я по-настоящему оценил Талину «каюту». При всей ее нелепости и почти непригодности для будничного существования в ней была единственность. Ее хочется сделать декорацией в павильоне для съемок. В ней можно так и сяк изобретать мизансцены.
Ничего похожего здесь. Комната, как сошедшая с конвейера. Два предмета только и обращали на себя внимание. Огромная, во всю стену карта земных полушарий, исчерченная красными и синими линиями со множеством надписей на полях. А на другой стене — рекламный плакат, изображающий каменный амфитеатр афинского театра Иродоса Аттикоса и вверху над ним Парфенон. Английская надпись звала: «Посетите Грецию!» Плакат самодовольно выставлял все рекламное многоцветье современной полиграфии.
Я вспомнил, что в каком-то из очерков Троицкой что-то читал о Парфеноне. Там, кажется, было сказано, что, когда ночью Парфенон подсвечен лучами прожекторов, каждый зритель театра чувствует себя коронованным золотой короной Парфенона… Несколько вычурно и старомодно.
— Надеюсь, вы не обидели их отказом, — я показал на плакат, — и посетили Грецию?
— Нет, не посетила, — сказала Троицкая.
Она сказала это суховато, и, побоявшись, что разговор не получится, я укрепил взятую тональность:
— Надо уважать призывы.
Тут вступила Тала:
— Но ведь вы, кажется, занимаетесь Грецией?
— Занимаюсь, — сказала Троицкая. — Я ею или она мной. Как хотите. — И без перехода спросила: — Так что у вас за цикл?
Я объяснил, что за цикл. Я объяснил, что хотим мы, что хочет Тарский-старший, я рассказал про «зорю». Это чтобы расшевелить разговор и чтобы она понимала, что я способен чувствовать детали, что я не тупой поточный телевизионщик.
Мы посмеялись. Тала посмеялась, хотя знала все про «зорю». И Троицкая тоже посмеялась.
Тут вошел здоровенный парень, и Троицкая представила его нам: «Мое дитя». Дитя склонило голову: «Кирилл», потом жалобно вздохнуло, поглядев на мать:
— Зашиваюсь с матанализом. Ни бум-бум.
— Увы, — Троицкая развела руками, — от меня проку мало. Я и таблицу умножения уже помню нетвердо.
Кирилл обнял мать за плечи, и она почти скрылась у него под мышкой. Нам он сказал весело:
— Нарочно пошел в точные науки, чтобы мать не угнетала меня своей гениальностью… Ма, а как насчет пожевать чего-нибудь?
— Пельмени — в морозильнике. Обслужись самостоятельно.
Кирилл ушел. И Тала сказала:
— Вот надо сделать передачу про материнские страсти и про сыновнюю любовь. Это, наверное, прекрасно быть молодой матерью взрослого сына!
Что-то не понравилось мне в ее тоне: то ли завистливо, то ли льстиво сказала она это. Зачем ей подлаживаться к Троицкой?
— Сделайте просто передачу про любовь. Про очень большую любовь, — сказала Троицкая. — Это тоже страсти века.
— Видите ли, Ксения… — Я выжидательно помолчал.
— Александровна, — подсказала Троицкая и улыбнулась. Она поняла, что я нарочно дал ей почувствовать возраст. Несколько нелепо мамаше великовозрастного верзилы рассуждать про любовь века.
— …Ксения Александровна, — повторил я. А Тала отвернулась к карте полушарий. — Мы стараемся говорить не просто о страстях или идеях. А о страстях и идеях, характеризующих время. Неужели вы и вправду считаете, что любовь — характеристика нашего века? Для современного человека это не главное, чувства прячутся за иронию. Слова отмерли. Представьте, что какой-то физик говорит физикессе или биолог биологессе: «Я люблю вас безумно!» Нелепо. Верно?
— В самом деле? — спросила Троицкая. Спросила очень заинтересованно, будто только сейчас ей открылась истинность сообщенного мной.
— В самом деле.
Уж это-то я знал. Я достаточно думал о героях своего будущего фильма. Даже именно этими словами думал.
Стоя лицом к стене и продолжая рассматривать карту, Тала медленно произнесла:
Я решил, что она вызывает меня на нашу игру, и подхватил:
— И хаос опять вопреки современной научной мысли выползает на свет, точно так же, как во времена ископаемых.
— А кто-то утверждает, что эта формула распространяется и на собкоров, — все еще не поворачиваясь, сказала Тала. Она не приняла игру.
— Это чувства прячутся за иронию, — сказала Троицкая без выражения.
Они говорили о чем-то мне непонятном, будто между собой, и я подошел к карте. Тала держала палец у надписи на полях: «Любимая — жуть! Когда любит собкор… В. Б. Ала-Тау. Небеса».
Там были и другие надписи: «Париж не только стоит обедни, как утверждал Генрих IV, но и того, чтобы остаться без обеда, как утверждает Генрих Замков». «От Москвы до Владивостока — 10000 км, от Владивостока до Москвы — 8000 км. Из справочника. Верно — Л. Елагин». И так далее.
Каждая надпись венчала линию, проведенную красным или синим карандашом. Одна только линия, как я заметил, была прочерчена авторучкой. На ее конце висела фраза, написанная по-английски. Текст, однако, был немудрящий, и моих гомеопатически малых знании хватило, чтобы прочесть: «Афины — Москва. Я люблю тебя. А.».
Тала повторила:
— … влюбляется Бог неприкаянный…
— Видите, — сказала Троицкая, — женщины солидарны. Для них любовь вне времени, вне технического прогресса и машинной гегемонии. Женщина самой биологией приторочена к вечности. И современная физикесса всегда столкуется с Анной Карениной. Хотя современный физик, может быть, и не договорится с кавалером де Грие.
Тала ничего не сказала. Мне казалось, я знаю, почему она молчит: ей не хотелось огорчать Троицкую, подобно мне подчеркнув ее возраст, и тем самым сказать, что она просто ничего не знает о сегодняшних отношениях мужчины и женщины. О Бог мой, Тала, столковавшаяся с Анной Карениной… Да мы бы двух недель вместе не пробыли.
Троицкая отдала нам рукопись еще не напечатанного очерка. Я взглянул только на заголовок «Домик «Волшебной флейты». Что-то сразу насторожило. И это щебечущее «домик», и «волшебная», и «флейта».
Сю-сю, ля-ля.
Ладно. Мы ушли. Договорились, что созвонимся.
Дождь как включили. В темной безвестности неба гром с надсадным храпом повернул какой-то проржавевший кран, и дождь вырвался на бульвар. Вырвался, едва мы с Талой вышли из дома Троицкой.
Народ с бульвара смыло дождем. Все сбились под козырьком станции метро. Или попрыгали в трамвайные вагоны. Тут, между бульваром, который расширялся светлой площадкой, и станцией метро, был трамвайный круг. Один из водителей выскочил, чтобы в будке-автомате отметить час прибытия, и громко крикнул:
— Садитесь все, у меня там электросушка установлена! От конечной до конечной, и пассажир выходит сухим и отутюженным.
Водитель был веселый малый. Пока он отбивал «часы» на путевке, весь промок.
А мы с бульвара не ушли. Тала вскинула руки и заплясала у подножия памятника Грибоедову. Она двигалась небыстро, но ее особая пленительная медлительность сообщала движениям какую-то неправдоподобность, будто Тала рассекала не воздух, а плотные слои воды. Как в подводной съемке.
Я смотрел на дождь, стараясь запомнить подробности. Черная плотная листва под ветром стала слоистой. Такой она кажется, когда смотришь из окна стремительно проходящего поезда. Это я и раньше замечал. У меня была даже пометка в блокноте: «Поезд. Слоистая листва».
Струи сбегали по металлическим складкам грибоедовского плаща и словно пристегивали к нему шлейф или гигантские плавники рыбы-вуалехвоста.
Потом Тала сбросила туфли, босиком побежала к метро. У каменного полукружья, размыкавшего зеленый туннель, она снова надела туфли и вприпрыжку двинулась обратно, впечатывая оттиск подошв в землю рядом с босыми следами.
— Теперь нас никто не найдет, — смеялась Тала, — теперь мы можем сбежать ото всех в дождь. Они пойдут по следу, а след — туда-сюда!
Я рассматривал листву, и грибоедовские складки, и ее смываемые следы. Следы кружились туда-сюда — это было занятно. Даже изобразительно занятно.
Тала, как я понимал, ничего этого не видела. Она просто кружилась, запрокинув голову, и в свете фонарей кисти ее рук тоже шевелились, как плавники рыбы-вуалехвоста.
Мы углублялись в темный туннель бульвара. Тала вскочила на скамейку. Она была очень живописна в этот момент: высокая и тоненькая, в облепившем тело платье. Платье синее, сейчас черное, в белые огромные горохи. Эти горохи светились, будто образовывали светлые пустоты в теле. На ней всегда происходили какие-то чудеса со светом. Иногда она казалась отраженной в стекле, а сейчас вот — просвечивающей насквозь этими круглыми пустотами.
Так бы стояла и помалкивала. Но она сказала:
— Ну давай потеряемся в дожде. Давай, ради Бога, потеряемся. — И я разозлился.
Еще не хватало, чтобы она начала разыгрывать пасторальные свидания в духе мадам Троицкой и ее теории вневременной любви. Я сказал:
— Все-таки женщина должна понимать, в каком возрасте уместно распространяться о нежных чувствах.
— Ты имеешь в виду меня? — спросила Тала.
— Троицкую я имею в виду.
— Тебе кажется, если женщине сорок, она уже осколок античной руины? Так того и гляди я завтра одряхлею.
— Ну ты еще протянешь годок-другой, — я все больше заводился.
Честно говоря, Троицкая выглядела вполне моложавой — может, от общего хрупкого облика, может, светлые-светлые глаза, широко расставленные на бледном, без морщин лице, придавали ей нечто вроде бы несовершеннолетнее. Но меня восстановили ее разглагольствования и то, что Тала явно ими прельстилась.
— Обожаю этих многодетных Манон Леско на штатной должности пропагандиста, — сказал я и отвернулся.
— А я обожаю кавалеров де Грие и сожалею, что ты с ним никогда не сговоришься, — сказала Тала. Она все еще стояла на скамейке.
Почему-то мне послышалось, что она вот-вот заплачет, и я пошел на примирение:
— Зато я всегда сговорюсь с телезвездами. В частности, с Натальей Зониной.
— Не сговоришься, — Тала зло спрыгнула на землю, лучики брызг отлетели от ее ступней. — Она не желает сговариваться.
— Как изволите, — сказал я и первым пошел от скамейки не оглядываясь.
На светлой площадке перед станцией метро я все-таки оглянулся. Талы на бульваре не было.
Тут подошел трамвай, и я в него вскочил. Я даже не поинтересовался маршрутом. Куда он, собственно, шел?
Ксения Троицкая
Из капитанской рубки море выглядело зеленовато-жухлой трясиной в плотных кочках волн, поросших болотным мхом. Только линия горизонта обретала твердость. Казалось, наш китобоец может увязнуть в колышущейся бесконечности, но в то же время почти физически ощущалось: по морю можно пройти пешком, ощупывая поверхность посохом. Вместо посоха сгодился бы, скажем, китобойный гарпун.
Мы с капитаном Правдивцевым молча разглядывали хляби, тянущиеся от носа судна.
Невинное созерцание пейзажа. Невинное, оно было преступным: мало того, что капитан, нарушив все традиции, взял женщину на судно, он еще и в рубку позволил мне войти.
— Баба на судне — к плохому. Быть беде, — сказал мне, не стесняясь, гарпунер Щедров.
Но Правдивцев, изнемогший за месяцы рейда без женского общества, не устоял.
Вот как все вышло.
За неделю до того ко мне пришла Тала Зонина. После их первого посещения она стала звонить мне и даже изредка забегала. Не знаю уж, что ее тянуло. Мне казалось, что ей хочется поговорить о своих отношениях с Приваловым, не знаю также, почему она выбрала для этого меня, мало, в общем-то, знакомого человека. Но каждый раз разговор увядал, она сама же и сворачивала его. Только раз поговорили, как надо. Но то был особый разговор.
А так, просто болтали о моих редакционных делах, о ее телевизионных. Вроде бы она приходила за советами по поводу затеянной ребятами серии.
В этот раз Тала сказала, что работа у них затормозилась: Пашка и Хуанито улетают на Курилы.
— Зачем это? — спросила я.
— Собираются снимать охоту на китов, — Тала сделала как бы извиняющийся жест: что с них возьмешь — фанатики.
— На китов?
— Именно. «Идет охота на китов, идет охота…»
— Слушайте, это же великолепно. Величественно. Это вам не посиделки в кустиках, когда ждешь — поднимутся утки, не поднимутся. Это мы проходили.
И правда, проходили. Муж мой был охотником, таскал меня на тягу. Унылое занятие. Но — на китов!
— Хочу охотиться на китов, — сказала я.
Сказала так, ляпнула. Мы продолжали болтать, про китов и забыли. Но ночью я проснулась с твердым сознанием того, что если я не поеду с ребятами на Курилы, жизнь моя будет прожита зазря.
Я отчетливо представила, как опишу Мемосу это экзотическое занятие. Я просто не могла лишить его такой неповторимой возможности побывать в холодном океане один на один с фонтанирующим китом. Кит вздымает над черной тушей на древке струи пестрый флаг брызг. Кит, подобно всплывающей подлодке, поворачивает могучее тело. Гарпун, вестник победы, описав дугу, бросается ему навстречу. И море, море, море. Свобода без границ, свобода, на которую тщетно посягать.
Правда, подумав о бескрайности и неподвластности свободы, я почувствовала неуютный укол совести: говорить о свободе с человеком, замурованным в неволю! Но ведь теперь мои глаза, мой слух, мои чувства — единственные физические связи Мемоса с отторгнутым от него миром. У него остались только размышления, в которых я хочу, обязана участвовать. Мысли и чувства двух отгороженных друг от друга людей разъять невозможно. Их даже невозможно лишить обмена. Если бы я не верила в это, мне незачем было бы жить.
Но я так плотно, почти плотски ощущала присутствие Мемоса во всех моих скитаниях по миру, в вечерних бдениях за письменным столом, что о нашей расторгнутости давала знать только боль, сосущая сердце.
И в проклятье моего шумного одиночества я старалась быть вдумчивей, интереснее ему, я читала книги, о которых мы могли бы увлеченно беседовать, я размышляла о том, что составляло смысл его существования. Я даже никогда не усомнилась: мою-то жизнь составляли иные реалии! Реалии эти казались ничтожными аксессуарами его бытия, которое единственно и было моим.
Вырваться из редакции оказалось не так-то просто. Бося голосил: «Ты оголяешь отдел! Я не обязан отдавать международников для освещения внутренних тем!».
Но я убедила Главного, что международник, не знающий внутренней проблематики, неполноценен. И, вообще, не в Сочи же я прошусь, а к черту на кулички. Где еще может быть и опасно. Про опасность я провернула «для пущей убедительности, для пущей убедительности», как говорил Тарский-старший. (Ребята цитировали мне его перлы). Я знала, что нашего главного редактора хлебом не корми, дай загнать корреспондента в «сложные условия».
Хотя никакой опасности не ожидалось.
Добирались мы сложно. На рейсовом самолете до Владивостока, потом грузовым на Курилы, потом катером до китобойца «Вихрь», который и принял нас на борт. Длинная дорога позволила нам, — Пашке, Хуанито и мне — почти подружиться, несмотря на разницу в возрасте и характерах. И я уже ловила себя на материнской умиленности по поводу Пашкиной и Хуанито приверженности профессии, делу. Действительно, трогательно было наблюдать, как эти современные и, по идее, циничные ребятишки воспринимали обычную рабочую командировку как служение идее. Странные, милые, старомодные ребятишки.
Со мной Пашка и Хуанито держались дружественно-вежливо, но не запанибрата, как мои редакционные.
Впрочем, от моего противоправного по морским обычаям пребывания на судне им тоже прок был. Вряд ли Правдивцев стал бы печься об их удобствах. А так — и каюту для нас высвободили и кают-компанию приукрасили, как могли.
Несмотря на суровость общего антуража китобойца, кают-компания была довольно уютной: удобные стулья, полированный длинный стол, занавески на иллюминаторах. Одну стену целиком заполнял пейзаж березовой рощи, призванный в долгом однообразии моря напоминать о суше, тешить земными подробностями.
За ужином, сервированным вполне щегольски, прислуживали вахтенные матросы. Капитан сидел во главе стола. Он первым поднял бокал:
— Самое опасное, друзья, для капитана в море — недовольство команды. Она всегда таит в себе возможный бунт на корабле. Я рискнул возбудить в моих людях недобрые суеверные чувства. Буду откровенен: я и сам подвержен некоторой вере в предрассудки. И женщина на борту…
— Я не женщина, я корреспондент, — встряла я.
— Оно и видно, какая не женщина, — ухмыльнулся гарпунер Щедров, кивнув в сторону капитана.
Я думала, что такая фривольность вызовет капитанский гнев. Но, видимо, Щедров, знаменитый гарпунер, пользовался особыми правами. Правдивцев продолжил, как ни в чем ни бывало:
— Но какая женщина! Знаменитая, красивая, очаровательная, способная приносить только удачу. За вас, Ксения Александровна!
Все выпили. Однако Щедров не унимался:
— А помните, Андрей Иванович, как на «Буран» тоже одну кралю взяли, помните, какой у гарпунера Валохина конфуз вышел? Знаменитый, между прочим, гарпунер. Дамочка-то рядом с пушкой устроилась. А тут, аккурат, на китов вышли. Она как заорет: «Бей!» Валохин и промазал. А, между прочим, второй гарпунер на Охотском море был. Вот вам и дамочка.
— Второй? — поинтересовалась я. — А кто же первый?
— Ну, это надо, само собой, понимать, — Щедров скромно потупился.
— А что, Андрей Иванович, — спросил капитана Пашка, — вы действительно верите в приметы?
Тот улыбнулся:
— Знаете, на Северном флоте был знаменитый капитан Воронин. Блистательный капитан. И удачливый. Так его однажды спросили: правда ли, что он, веря в приметы, не выходит в море по пятницам. Воронин ответил: «Глупые суеверия… По понедельникам нельзя выходить».
Все засмеялись. Капитан всем явно нравился. Пашка даже сказал убежденно:
— Это очень правильно, что вы, Андрей Иванович, капитан китобойца. Я даже не могу представить вас на каком-нибудь рыболовецком судне. Что такое рыба по сравнению с китом!
— Ну, это какая рыба и где, — снова улыбнулся Правдивцев. — Я однажды в Одессе ходил по рыбному базару. Вижу, к торговке шаткой походочкой подруливает морячок. Берет за хвост рыбешку: «Мадам, сколько стоит эта мертвая рыба?» Торговка гневно вырывает унылую скумбрию и заявляет, сверкая очами: «Прошу не оскорблять. Это все-таки город-герой». Так что рыба рыбе — рознь.
Надо думать, у Правдивцева на все случаи была припасена морская история, и он развлекал нас на протяжении всей трапезы. Никак не ожидала отыскать посреди моря такого занятного собеседника.
И когда на горячее нам подали приготовленное особым способом китовое мясо, Правдивцев поведал историю одного сибиряка, мечтавшего о славе таежного охотника. Тот покупал в разделочной китовое мясо, а потом потчевал им заезжих гостей, выдавая кита за медвежатину. При этом бросал, будто между прочим: «Вчера в тайге завалил. Здоровый был Топтыгин. Зверь!»
Паша, склонный влюбляться в героев своих репортажей, уже смотрел на капитана влюбленными глазами. Даже сдержанный Хуанито время от времени бил ладонью по колену.
Надо отдать должное Правдивцеву — ни одна из рассказанных историй не живописала его собственных подвигов. А ведь похвальба — неотъемлемая черта охотников всех мастей, на кого бы ни охотиться, на кита или перепелку. Факт известный.
Да и вообще, капитан был, что надо, даже слишком. Слишком статуарен. Слишком красив. Слишком капитан. Будто невзаправдашный, а материализованный плакат: «Слава покорителям морской стихии». Даже фамилию имел, как персонаж романа или пьесы.
Когда кончился ранний ужин, Правдивцев предложил мне подняться в рубку, чем привел Щедрова уже в полное уныние. Да, пожалуй, и других членов команды, присутствующих за столом.
Итак, мы смотрели на море, а оно зеленовато-жухлой трясиной лежало перед нами. Надвигающиеся сумерки уже начали чернотой трамбовать кажущуюся вязкой водную равнину.
— А ведь и правда, мое неуместное присутствие того и гляди поведет экипаж на капитана, — сказала я. Надо же было что-то говорить.
— Ну, что ж, выхватим пистолет и пойдем усмирять. Как велят каноны.
— Да, канонически: «…бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыпется золото с кружев…»
Неожиданно для меня он закончил:
— «С розоватых брабантских манжет…»
Так! И в поэзии был искушен неправдоподобный капитан. Однако великим строфам в замыслах капитана места выделялось не так уж много. Взяв меня за плечи и развернув к себе, он сказал безгрешным голосом:
— Можно поцеловать вас?
Как говорится, типичный случай поведения профессионального красавца. Ведь это только считается, что мужчина, уверенный в своей неотразимости, грабастает женщину, зная, что та и не пикнет. Нет. Высший пилотаж — наивно дать ей волю, пусть кинется сама. Или, напротив, залопочет: «Нет, что вы…» да и то с надеждой, что мужчина не отступится.
И так, и иначе вести себя было бы глупо, оставалось отшутиться. И раз уж в ход пошли стихи, я засмеялась:
— «Я ж не весталка, мой дорогой. Разве ж мне жалко…» — я сделала паузу, чтоб он закончил «да боже ж мой». Но он не произнес ничего, просто поцеловал меня долгим выразительным поцелуем. Мастерски.
— Ты останешься у меня? — Его голос потеплел.
— Нет.
— Нет? А что нам мешает, весталка?
— Завтра придет катер.
— Ну и пусть приходит. Ты уедешь на Большую землю, а частичка тебя останется кочевать в море. Разве это не прекрасно?
— Наверное — прекрасно.
И, в самом деле, разве не было бы прекрасным такое приключение с роскошным капитаном в бушующем (или смирном) море? Разве не нелепо было лишать себя будущих живописных воспоминаний? Нелепо. Для нормальной свободной женщины. Но я не была свободна. Дело даже не в том, что совесть или ум мешали мне изменить Мемосу. Я была мертва для всех мужчин. Не только нравственно, но и физически. Я поняла это, поняла с ужасом, когда Правдивцев поцеловал меня. Я ощутила, что мое тело умерло. И один Мемос способен воскресить его.
Но объяснять это капитану не имело смысла.
Утром нас ждала охота на китов.
Охоту сейчас вспоминать не буду, позже. Теперь, думая о тех последних днях на Курилах, я вижу только одно, одного — Пашку.
Днем за нами пришел катер.
Прощание было шумным. Пашка перецеловался со всей командой, долго бил по спине Щедрова: «Ну! А кто говорил, что женщина на борту — беда? Охота-то была роскошная!» Хуанито жал всем руки, приговаривая: «Удачи в море! Удачи в море!»
Даже ко мне экипаж стал благосклонен, а Щедров и пуще того, обнял: «Опиши, красавица, все в натуре. Своим же глазом наблюдала. Из ваших — таких мало».
Подсаживая меня на катер, Правдивцев (а он вышел на церемонию в ослепительной парадной форме, как и был запечатлен Пашкиной камерой), тесно приблизился ко мне и произнес вполголоса:
— Хотите вы или нет, частица вас все равно будет путешествовать по Охотскому морю.
Театрально-жарким шепотом я ответила:
— Хочу. Жажду. — Теперь-то любые слова меня ни к чему не обязывали.
Капитан поцеловал мне руку и помог спуститься.
В дороге начало штормить, наша утлая лодчонка барахталась между водными валунами, и меня жутко укачало. Я уж не чаяла, когда дойдем до берега.
Но это были еще цветочки. Ягодки ждали, когда пришло время швартоваться. Катер никак не мог приблизиться к пирсу, и нужно было ловить мгновение, чтобы успеть спрыгнуть на твердую сушу. Мы побросали на пирс поклажу, Хуанито и Пашка успели соскочить.
Настала моя очередь.
— Прыгай, — дал мне команду матрос, — давай руку, я подстрахую. — И к Хуанито: — А ты там ее лови, тяни крепче.
Я прыгнула. Хуанито успел меня ухватить. Но в этот момент катер отшвырнуло от пирса, и я осталась распростертая в «шпагате» над ревущей стихией. Слава богу, матрос тоже не отпустил меня, а катер отбило не очень далеко.
Смешно, но единственное, что пронеслось у меня в голове, была мысль: «А вот об этом я уже никогда не смогу написать Мемосу. И никто ему не расскажет про мой конец».
Однако небеса сжалились: катер снова прибило к пирсу, я успела прыгнуть.
А вскоре мы уже сидели в домике старпома Дедкова, примостившемся на берегу одного из Курильских островов, пили чай из закопченного медного чайника и с бывалостью мореходов разглагольствовали о китовой охоте.
Все, что случилось часом позже, произошло не со мной, На моих глазах, но не со мной. Но я не могу назвать это воспоминанием. Мне и сейчас кажется, я существовала не сторонним наблюдателем, а жила внутри Паши, прочувствовав его последние минуты и приняв вместе с ним его смерть. Я была им. Так мучительна память о том урагане на Курилах.
Может, оттого чувство это было столь явственным, что я верила: беду принесла я. Женщина в этих краях несет беду.
Старпом Дедков покосился на лавку, где спал Пашка, увидел, что тот лежит с открытыми глазами, сказал:
— Ветерок будет, ты из хаты не вылезай.
Пашка смиренно моргнул: «Хорошо». Дедков ушел. А Пашка продолжал жить на узкой жесткой лавке в домике на берегу океана. Океан плюхал за стеной волнами о слип — огромный деревянный помост для разделки китовых туш. Впрочем, от слипа осталось только название, китов тут уже давно не разделывали, китобазу прикрыли.
Пашка слушал это плюханье волн, и ему представлялось, что какой-то пекарь-богатырь швыряет с размаху тесто на месильную доску, как в его детстве делала Поля, когда они жили в деревне.
— «Слип», — произнес вслух Пашка, — по-английски — спать… И «слип» — «скользить». — Он сейчас как бы скользил по еще не растаявшему сну. Ему виделся китобоец «Вихрь», на который нас взяли в рейс. Было раннее утро, и океан был бирюзово-прозрачный за кормой, а вдали густо-зелен, как тенистая кладбищенская хвоя. И вдруг там, над этой густой зеленью, округло, точно темный валун, взошла спина кита. Одна, другая, третья. Океан порос черными валунами.
Что-то сместилось в ритме судового хода, и Пашка ощутил, как внизу, в машинном отделении, по-особому запульсировало. Сейчас китобоец был как живое, объятое нетерпеньем охоты существо, и машины дрожали, предвкушая бой.
Пашка, прижимая к груди камеру, бросился к гарпунной пушке, где уже прохаживался тучный гарпунер Щедров. Сейчас он был главной персоной на китобойце, и отсвет этой значительности исходил от него.
Пашка спросил Щедрова:
— А вы не промахнетесь?
Тот хмыкнул, даже не взглянув на Пашку:
— На фронте снайпером был, а тут в такую фигуру не попасть!
Пашке стало неловко за наивность своего вопроса, и он прильнул к глазку кинокамеры.
Валуны росли перед глазами. «Стопори!» — махнул рукавицей Щедров, и китобоец замер.
Выстрел грянул нежданно, но Пашка поймал камерой и полет гарпуна, и четкую траекторию этого полета, прочерченную тросом, которым гарпун крепился к телу китобойца.
Кита лебедкой подтащили к судну. Теперь он был распростерт тут весь, и темная его кровь расплывалась в зеленоватой бирюзе воды.
На какое-то мгновение «Вихрь» явился Пашке гриновским «Секретом» в оперенье алых парусов — их отсвет лежал багряно на зелени воды. Но Пашка старался не давать волю мечтательности и отогнал видение.
Он снимал на цветную пленку. Взял кита и воду. И Щедрова снял. Крупно, очень крупно.
Но тут у Пашки перехватило сердце, и кровавые пятна на воде поплыли на палубу. Пашка выругал свое штопаное сердце и страх, который он никогда не мог побороть в такие минуты. Страх, прогнавший его с палубы и засунувший в каюту.
Теперь в домике старпома они ждали, пока транспортный самолет не перекинет их на материк. Но самолеты не летали третьи сутки: синоптики пророчили ураган.
Пашка, свесившись с лавки, поглядел на пол, и, снова растянувшись на лавке, заскользил в своем полусне.
Опять поплыли пятна китовой крови, они карабкались по волнам, но волны стали вдруг черными и пологими, и Пашка вспомнил, что это насыпи песка. Вчера он видел их за домиком: на черном сухом песке багровели пятна, неподвижные пятна лепестков шиповника, отлетевшие с соседнего куста. И тишь стояла над островом, и лепестки точно приклеило.
Океан все месил волны на слипе, но вдруг — будто всю квашню вывернуло на берег — за стеной ахнуло так, что домик испуганно вздрогнул.
Пашка вскочил с лавки («ветерок» — мысль поспешно царапнула сознание), схватил камеру и ринулся на берег. Но новый накат, не достигнув Пашки, взревел и отбросил его от слипа к стене дома. Пашке открылись черные холмы песка, уже не запятнанные малиновыми брызгами лепестков шиповника. Холмы осели, песок с них смело, и перед Пашкиными глазами встал огромный, в человеческий рост куст лопуха. Такие растут только на Сахалине и на Курилах. Ветром лопуховые листы выгнуло, обнажив изнанку, изборожденную вздутыми зелеными жилами. Казалось, эти травяные вены набухли от напряжения, с каким лопух держался за почву под порывами ветра.
Пашку тоже швыряло, но он кое-как наладил камеру и уперся ее глазом в натужный лист лопуха. Камеру рвало из рук, палец не держался на спусковом крючке, однако Пашка, вновь исхитрившись, повернул переключатель, переведя камеру на автоматическую съемку, и, обнимая ее, жал к животу. Слава Богу, дуло в спину.
И тут его подхватило, оторвало от земли и, как соринку, понесло вдаль и вверх. Наверное, не было страшнее минуты за короткий Пашкин век, но Пашке не было страшно: он даже не думал — он всем телом ощущал стрекот камеры и небывалое свершение своего ремесла: он ловит для людей мгновения, которые еще никто не сумел схватить, запечатлеть. Этот безграничный ураган, готовый сорвать с океана острова, застрял теперь навсегда в маленькой утробе его камеры.
Пашка в вихревом полете пронесся над островом, и оттого, что находился он в этом сверхстремительном движении, если бы кто-нибудь глядел на него с земли, то не мог бы заметить, когда у Пашки остановилось сердце.
Василий Привалов
— Как только пройдут заставка, титры, третья камера сразу берет фотографию старика с ребенком на руках и наезжает до самого крупного плана… Берешь глаза старика, — я повернулся к оператору у третьей камеры.
— Мы же хотели начать с комментария, — сказала Тала. Она произнесла это суховато и отстраненно: наша размолвка на бульваре не растворялась и здесь, в многомерном пространстве студии, пронизанном светом «юпитеров».
Я ответил спокойно, однако тоже, так сказать, без личного отношения к собеседнику:
— Нет, сначала пойдет изображение на музыке. Чисто эмоциональный ввод. — И тут же крикнул осветителю: — Свет на ведущую, как вы светите!
Да, размолвка, первая наша размолвка висела в воздухе, подвешенная на лучах «юпитеров».
Хотя порядок передач и весь облик серии еще не был найден, мы решили записать на видеопленку отдельные части цикла.
Начали с «Хатыни» — до отъезда на Курилы Пашка успел побывать в Белоруссии и отснял мемориал. Хуанито записал на месте звон колоколов, интервью с посетителями. Получилось здорово, материал впечатлял, даже монтажница сказала: «Прямо мороз по коже».
Комментарий все-таки они решили строить по плану, предложенному Хуанито, прослеживая связи гитлеризма и неофашизма. Я рылся в хронике, Тала сидела в библиотеке, но как именно она собиралась написать текст, я не знал. Сказала: «Прикинем на первом тракте». На репетиции то есть. И вот мы прикидывали сейчас.
— Кадр ушел… так… Давайте кинопленку — дорогу от шоссе к Хатыни…
Но кино не дали.
— Вы меня слышите, аппаратная? — Я задрал голову туда, где за стеклом над входной дверью, точно на огромном экране испорченного телевизора, колыхались силуэты ассистента, звукорежиссера и Ромки.
— Мы вас слышим, — рупорным голосом ответил ассистент. — Минуточку.
— Я вступаю после пленки? — по-прежнему безучастно спросила Тала.
Она сидела в выгороженном для ведущего интерьере у столика в глубоком кресле, и вся ее поза выражала причастность к работе и непричастность ко мне. Начиная злиться, я буркнул оператору. Я адресовался не к ней. Ее нет, раз нет человеческого общения.
— После пленки вторая камера берет ведущую.
— Берет, — невнятно ответил оператор Пахомов.
— 22-й светильник опять уплыл, — я обрушил на Пахомова все раздражение против Талы. — Можем дать кино?
Пленка пошла.
— Музыка! — заорал я. — Где музыка?
Пошла и музыка, торопливо, будто догоняя изображение и извиняясь за опоздание.
— Стоп! — я уже вопил. — Кто отыскал этот шейк для таких кадров? Нужна медленная, тяжело ступающая мелодия. Чтобы зритель, идя по этой дороге, чувствовал, куда он движется, чтобы казалось, что он встречает всех, кто здесь умер…
Вдруг тот же рупорный голос прогромыхал в поднебесье из-за стекла аппаратной:
— Как умер? Ты с ума сошел!..
В студии повисла тишина замешательства.
— По-моему, сошли с ума вы. Или уже уволились с телевидения. Что там у вас происходит? — На этот раз я отчеканил все почти шепотом, но еще тем — шепотом, которым только крайнюю ярость можно выразить.
Аппаратная молчала. Я слышал щелчок, они отключили микрофон.
Я снова посмотрел на стекло вверху: там возникла еще чья-то тень, но чья, я не мог разобрать.
Снова щелкнул выключатель микрофона, и я услышал Ромкин голос:
— Умер Паша Тарский… Погиб во время урагана на Курилах.
Павильон сразу опустел: все бросились наверх, в аппаратную.
А я не мог выйти из студии, не мог подняться туда и вместе со всеми задавать вопросы — как, и что, и почему. Потому что я не мог поверить, что Пашки нет.
В дальнем конце павильона стояла декорация, выстроенная для другой передачи, после нас отсюда шла трансляция спектакля.
Я переступил нарошечную дверь нарошечной спектаклевой комнаты. Декорация изображала чей-то старомодный кабинет с настоящим старинным столом и намалеванными на стенах корешками ненастоящих книг.
Опустившись на диван у стола, я уставился в эти корешки. В этом старомодном игрушечном покое мысль о каком-то урагане, о реальном гудящем пространстве казалась особенно неправдоподобной. И я боялся уйти из выстроенного чужого спокойствия, будто понимая: я перешагну грань декорации, и все станет правдой. А тут — нет.
Потом вошла Тала, села рядом со мной на диван, обняла меня и прижалась щекой к моему плечу.
Дня через три-четыре после того, как мы узнали о Пашиной гибели, в редакции появился капитан краболова, прилетевший с Дальнего Востока, и передал мне письмо от Хуанито. Довольно-таки лаконичное письмо, прямо скажем:
«Вылет мой задерживается: Пашу можно переправить только в цинковом гробу, а организовать все это оказалось сложно в условиях Курил. Будьте все с Павлом Павловичем, не оставляйте его.
В Пашиных бумагах я нашел записку, адресованную тебе: вкладываю ее в конверт».
Когда умирает человек, все жизненные подробности, связанные с его былым существованием, наполняются особой значительностью, и никогда не знаешь, какая мелочь вдруг станет способна ранить тебя. Не цинковый гроб и не отчетливо представляемое путешествие мертвого Пашки через всю страну оказалось для меня самым гнетущим в этих Хуанитовых строчках. Он написал о Тарском — «Павел Павлович», будто и тот, утратив фамильярность живой скороговорки своего имени, отходил в стан мертвых, чьи имена выписываются в свидетельствах о смерти с отстраненной точностью.
Паша писал:
«Вася! Мне очень жаль, что тут нет времени для подробных описаний — я снимаю все время, а к вечеру мы с Хуанито уже мертвые от усталости…»
Я ткнулся взглядом в это «мертвые», и у меня нудно засосало под ложечкой.
«Но когда я приеду, я расскажу тебе об охоте на китов, уверен, именно тебя это должно захватить, и ты используешь сцену охоты в каком-нибудь из своих будущих фильмов.
И все-таки, знаешь, самое потрясающее, с чем я столкнулся здесь, это удивительные человеческие отношения. Какая-то необыкновенная высокая их нравственность, бескомпромиссность моральных норм. Может быть, такие нормы определяются постоянным присутствием общей опасности. Я подумал, что, говоря о страстях века, мы прежде всего должны размышлять о нравственной основе, на которой они рождаются.
Я знаю, ты усмехнешься, потому что считаешь мои, как ты говоришь, «неконтактные ассоциации» беспочвенными, но ты…»
Тут письмо обрывалось. Я не усмехнулся. Ни по поводу «неконтактных ассоциаций», ни даже по тому поводу, что предложения почти всех членов группы непременно содержали рекомендации начать именно с той темы, о которой они писали. Вроде все оказывалось самым главным и заключало в себе ключ к пониманию остального. По-моему, рекомендуя «Хатынь», Паша тоже считал это главным.
Я вспомнил утренний Пашкин приход тогда ко мне, перед их отлетом на Курилы, и то раздражение, с каким я читал очерк, — вовсе мне было не до него в то утро. А сейчас я чувствовал, что виноват перед Пашкой за эту неохоту читать. Даже большую вину чувствовал я, чем за то, что таким нерадушным был мой прием и последний разговор с Пашкой.
Ксения Троицкая
У самого моего лица поднялся лифт, унося незнакомого пассажира. Он медлительно возносился, минуя сферы, забранные узорчатыми решетками, некое особое пространство, пронизывающее помещение подъезда от первого этажа до крыши, а может, и над ней, там, где ему предстояло уйти ввысь, минуя нависшие над домом облака. И пассажир тоже возносился, как античный «бог на машине», плавно и величественно, теряя земную заурядность, даже, похоже, сменив сезонные одежды на подземные одеяния.
Но в этом доме дореволюционной постройки лифт был величав, и кабина его виднелась сквозь металлическую вязь.
Дом пытался удержать облик былой респектабельности, безуспешно сражаясь с запустением. Ступени лестницы еще сторожили воткнутые тут-там медные шары. Некогда шары служили креплением металлических прутов, удерживающих ковер, стекающий по лестничному каскаду. Теперь от этого великолепия осталась лишь надменная пологость выщербленного камня.
Но, видимо, знаменитый архитектор, с которым мне предстояло беседовать на порученную Босей тему, предпочитал эти лохмотья былого бездушным «секциям» своих собственных творений, раз жилья не менял.
Я вызвала лифт, и он с той же шелестящей неторопливостью поплыл из невидимых высот.
— Подождите меня! — крикнул кто-то от двери подъезда. Заторопились шаги.
Я подосадовала: мне очень хотелось в одиночестве божества пронзить пустоты лестничной клетки, медлительно и отрешенно.
Человек подоспел, и я сразу узнала его — Василий Привалов.
Он, как полагается в этих случаях, изобразил радостное удивление: «Ксения Александровна! Какая неожиданная встреча! Вы тут живете? Нет? По делам? Вот и я к своему художнику по фильму, надо кое-что прикинуть».
Мы вошли в лифт. Усилия дома сберечь изначальный комфорт ушедшего обозначались и тут. По обе стороны кабины были расположены две встроенные скамеечки, их некогда алое бархатное покрытие теперь сменили серые плешины. Странно, что строители лифта думали о возможной усталости пассажиров в кратком путешествии. Возносимые боги не должны знать утомления.
Замкнутое пространство со случайным спутником не предполагает определенной беседы, два этажа мы миновали молча. Но тут лифт встал.
— Вот это номер! — Привалов ударил кулаком по металлической решетке. — Не хватало еще заночевать, как в зоопарке.
От растерянности я не поняла, что он имеет в виду.
— В клетке, в вольере, подвешенном над землей. — Василия раздражала ситуация, раздражала моя тупость, неспособность принять такую нехитрую ассоциацию. — И сколько тут торчать? В этой ветхозаветной машине нет даже кнопки для вызова диспетчера.
— Ничего, кто-нибудь пройдет. Известим. — Мне не хотелось, чтобы в нашем положении на меня еще обрушилась злость Привалова, будто я всему виной. Мне-то его общество тоже не доставляло удовольствия. Но я ведь помалкивала. — Кто-нибудь обязан пройти, время живое.
И правда, минут через пять сверху сбежала девчушка лет одиннадцати-двенадцати. И, остановившись у лифта, сунула нос в ячейку решетки:
— Сидите? Тут всегда сидят, на этом этаже. Что-то у лифтика тут не получается. Ну ничего, не бойтесь. Я сейчас лифтерше скажу. Она, наверное, в котельной чай пьет.
— Пожалуйста скажи, будь добра, — жалостно попросила я.
— Ждать так ждать, — уже миролюбиво сказал Привалов и плюхнулся на вытертую скамеечку. Потом хозяйским жестом указал на противоположную и мне. Он во всех обстоятельствах чувствовал себя хозяином.
— Вы были с Пашей. Расскажите, как все произошло.
Наверное, такое желание Привалова было вполне закономерным, но странность мизансцены, а более того, именно хозяйская его повадка даже в определении темы разговора, покоробили меня. А если мне неприятно говорить о том, как все произошло? Привалова это не занимало.
Пришлось кратко и невыразительно рассказать про «Вихрь», китов, про Дедкова и ураган. Впрочем, Привалов не оценил моей терпимости.
— Ну, это все я знаю, китобойщик рассказывал. — И через паузу прибавил с грустной досадой: — Паша, как всегда, жертва неадекватности жизни.
— Что вы имеете в виду? — Мне стало обидно за Пашку, что бы ни имел в виду Привалов.
— Впрочем, это у вас цеховое. У Паши только особенно все было оснащено иллюзиями и наивной доверчивостью. А так-то это — цеховое. Издержки ремесла журналистского цеха.
— Чем же не угодил вам цех?
— Вы все придумываете себе некие реалии, псевдодействительность и пускаетесь в битвы со злом и во имя добра, делая вид, что действительность взаправдашная, и добро и зло вовсе не определены для вас идеологами ЦК КПСС, а выстраданы вами, сердешными, лично. Недаром у Пал Палыча и девиз имеется: «Все положительное в нашей жизни нужно рассматривать и показывать через увеличительное стекло. Так же, как недостатки противника».
— И вам не приходит в голову, что, скажем, то же зло может быть для нас и личным?
— Это вы о своем пресловутом фашизме? Я знаю, что для вас это и личный вопрос. Но тем ужаснее, что даже в таком случае вы все равно филиппики и сетования свои произносите не выходя за отведенные вам свыше пределы.
Я не совсем поняла смысл произнесенного Приваловым, так как сразу испугалась сообщения о том, что «он знает». Что он знает о Мемосе? Кто рассказал ему? Мои ребята? Но что им известно? Только догадки… Не было охоты продолжать, я сказала резко:
— Я пишу то, что думаю, во что верю. И мне непонятно, почему вы тогда у Влада сказали, что это «надувание щек по причине мировой скорби». Для меня фашизм, — не некая псевдодействительность. Это реальность, в которой все решает только кровь и нетерпимость.
— Лукавите. Опять лукавите. Да, кровь и нетерпимость. Для меня лично нетерпимость страшнее крови. Прежде всего нетерпимость к возможности кого-то самостоятельно мыслить. Однако не где-то за тридевять земель, а везде и в своем государстве в том числе. А ваши хлопоты — о дальних призраках. Да и о них-то вы имеете право говорить только положенное. Нетерпимость? А расовая нетерпимость, краеугольный камень фашизма? Что-то эту тему вы обходите. А почему? Да потому, что в таком случае надо говорить об антисемитизме. Но! В нашем родном государстве тема эта — запретная. Сами власти грешны, но с лозунгами — не совпадает.
— А кто вам сказал… — начала я, но в это время откуда-то снизу раздался старушечий голос:
— Живы там? Щас ослобоню, не журитесь…
И правда, через минуту-другую лифт ревматически дернулся и пополз вниз.
Мы даже не простились. Черт знает откуда то и дело возникал в моей жизни этот злой гений, заставляющий сомневаться в моей любви, горевать по поводу ее возрастной смехотворности и объявляющий мою работу никчемной полуправдой?
А ведь еще полчаса назад мне хотелось быть вольным божеством, возносящимся над миром в узорчатом экипаже старомодного лифта.
Василий Привалов
Входная дверь в квартиру Тарских была приоткрыта, как бывает на новоселье и похоронах. Я тоже вошел, не позвонив.
Я думал, что там полно народу, но в Полиной комнате обнаружил только Тарского и Прасковью Васильевну. Я подумал: «Вот Тарский. Просто Тарский. Не Тарский-старший. Теперь просто Тарский».
Они сидели за круглым столом, покрытым бархатной скатертью, положив на нее руки, сидели прямо и напряженно, в телестудии перед камерой так сидят неумелые выступающие.
— Заходите, Привалов, — сказала Поля.
«Смотри — запомнила фамилию!» Тарский ничего не сказал, он поглядел на меня беспомощно, точно извиняясь невесть за что.
Поля достала из дряхлого, звякнувшего квадратиками стекол буфета графин с водкой, две рюмки, хрипло произнесла:
— Выпейте, Привалов, с Пашенькой выпейте, — и пошла из комнаты шагом отличника боевой подготовки, впервые представшего перед командиром дивизии. Я решил, что она о Тарском сказала «Пашенька», испытав в общем горе прилив родственной нежности. Но у двери Поля остановилась и сурово бросила Пал Палычу:
— Тарский! Только не чокайтесь, Христа ради. Такое нарушение!
Мы выпили не чокаясь, как и полагается за мертвых. Я подумал: «А вообще-то он пьет? Никогда не видел его в подпитии…»
Пал Палыч больше не смотрел на меня, он смотрел на свои руки, и пухлые его пальцы то сжимались, то разжимались, словно тиская невидимые мячики. И я смотрел на его руки, не зная, что сказать, что нужно вообще произносить в этих случаях. Он сам заговорил:
— И все-таки хорошо, что это было так.
Комок злобного раздражения толкнулся у меня в горле: черт его подери, и в этой трагической ситуации он старается по своему обыкновению углядеть «все-таки хорошо». Черт его подери, этого оптимистического идиота.
«Интересно, были у него женщины после жены?» — подумал я.
— Ведь он мог умереть недостойно, умереть недостойно. — Тарский сжал оба мячика-невидимки, сплюснув их в кулаках. — Случается, что и прекрасные люди умирают недостойно… А он умер, делая свое дело…
— Пленку проявили, говорят — отличная съемка, портреты есть потрясающие.
Наверное, не нужно было заводить о съемке. А может, нужно.
— Мне говорили, мне говорили, — закивал Тарский.
«А у Паши тоже вроде девиц не было… Или, кажется, Лера, негативная монтажница. Она все время ходит зареванная».
— Мне говорили, — повторил Тарский, — именно про портреты. Он очень большое значение придает портрету. Он говорит: «Человеческое лицо — лучший пейзаж».
Я хотел сказать: «Это не он говорит, это Хайновский и Шойман говорят. Можете прочесть у Раздорского в очерках». Но я не произнес этого вслух.
Потом я подумал: «А откуда у Тарского взялись такие роскошные напольные часы? Прямо осколок «Дворянского гнезда» в изложении Михалкова-Кончаловского… Вообще этот фильм загроможден изяществом аксессуаров. Слишком красиво. Кинематограф не должен быть красивым…»
— Это прекрасно сказано, прекрасно сказано: «Лицо — лучший пейзаж». — Тарский даже оживился.
«Надо будет спросить про часы. Вероятно, тоже какая-нибудь история вроде Росинанта… Жаль, сейчас нельзя спросить…»
Вернулась Поля, села с нами.
— Тарский! — Она вдруг решительно схватила Пал Палыча за рукав. — Я год просила… Возьмемте кредит.
Я не понял:
— Какой кредит?
Она вскинулась на меня, как на недоумка, которому неведомо очевидное:
— Пашеньке на день ангела матацокол приобрести. Теперь больше — все. — И без перехода тонко, по-деревенски всхлипнула. — И мы с Тарским отжились. Больше — все.
Отправляясь к Тарскому, я собирался утешить старика, побыть с ним. И понять, как теперь они будут существовать. А ничего не вышло — ни утешений, ни наблюдений. Ничего заслуживающего внимания. Дурацкая конструкция: «больше — все».
И «больше — все». С этим и отбыл.
Потом я начал думать о Станиславе Леме. Каждый читающий ищет в писателе свое, «свою книжку». «Моей» у Лема была «Сумма технологий». И сейчас я понял, как это от Пашки, от Тарского, от Прасковьи мысль привела меня к краковскому мудрецу.
Конструкция «больше — все» — конструкция смерти. Вот каким нехитрым оказалось наполнение лемовского термина. Сочиняя свою «Сумму технологий», Станислав Лем сбросил со счетов трагические обрывы жизни, Пашкину смерть. Для Лема существовали только проблемы старения и их финал. Более того, не просто старения индивидуума, а преобразования видов в потоке эволюционных смен. По его утверждению, все мастерство эволюции было обращено на то, что она стремилась к долголетию видов, к бессмертию надиндивидуальной жизни в масштабах планеты.
Пашка твердил о десяти секундах бессмертия для каждого.
А может быть, нет не только десяти секунд, нет даже утвержденного общественной моралью бессмертия гениев и героев? Может быть, и иллюзорность их вечного существования — лишь слабые стежки в вышиваемом узоре надиндивидуального бессмертия?
Я думал, что сегодняшнее состояние познания уже способно откинуть мифическую зыбкость морального бессмертия.
Сегодня стоит задуматься над другим. В свое время я выписал из «Суммы технологий» абзац, поразивший меня совпадением с моими собственными мыслями: «Не только бессмертие, но даже мафусаилово долголетие в эволюции не оправдывает себя. Организм, хотя бы и не стареющий индивидуально (то есть «не портящийся»), стареет в рамках эволюционирующей популяции в том смысле, в каком прекрасно сохранившаяся модель «форда» 1900 года является ныне совершенно устаревшей как конструктивное решение, не способное конкурировать с современными автомобилями».
Вот-вот! Очень даже можно сегодня оказаться «фордом» 1900 года.
…Все эти мои рассуждения казались мне весьма интересными, поэтому позднее я изложил их Ромке. Он все выслушал со вниманием, однако восторженной реакции, на которую я рассчитывал, не последовало.
— Все не так, — сказал Ромка. — По пунктам. Во-первых, то, что ты называешь «надиндивидуальным бессмертием», по сути, бессмертие человеческого прогресса. И оно немыслимо без личного бессмертия мысли и поступков гениев и героев. Идеи и деяния истинных гениев и героев ведут общество, и не будь в истории этого движения, о каком надиндивидуальном бессмертии в историческом смысле можно вообще говорить? А во-вторых, ты заигрался словами и выдвигаешь теории, которые бьют тебя же самого. Ты художник, создатель, так сказать. Тебя же жутко заботит твоя индивидуальность и необходимость самовыражения. Ну, в общем-то, это закономерно. Иначе зачем работать в искусстве? Да и не только в искусстве. А мешая принципы биологической эволюции с путями развития общественного сознания, ты ратуешь за людскую унификацию. Стремясь стать не «фордом» 1900 года, а «кадиллаком» с электронным устройством, пытаешься стать одним из стада этих «кадиллаков», как ты сам изволишь выражаться. Это ведь стремление не к современности, а к модели сегодняшнего дня, или, попросту, к моде. А сегодняшняя модель завтра все равно станет устаревшей. Только индивидуальная неповторимость не знает старения. Конечно, для века важна та индивидуальность, которая вобрала в себя высоты времени. Но не подравнялась под него, а выразила его в наиболее значительном. И если ты поразмыслишь как следует над собственным призывом к развитию лишь внутри «популяции», по ее нормам поймешь, что картинка получится довольно скучная. Каждый человек превратится во взаимозаменяемую деталь по законам технологии века. Чего уж хуже!
Впервые за все годы проживания тут меня покоробила пустота моей квартиры. Пустынность смерти, коснувшаяся меня в студии на репетиции «Хатыни» и у Тарских, делала незаселенность моего собственного жилища настороженной и гнетущей.
Я пытался найти какое-нибудь стоящее или даже бессмысленное занятие. Я прибрал бумаги на столе, застлал тахту. Я пробовал читать. За сценарий я и не рискнул взяться: если уж ни черта не выходило до этих дней, сейчас моя беспомощность способна была вовсе ввергнуть в отчаяние.
Опять взял книжку. Полистал «Сумму технологий», но мысли, которые кое-как копошились в голове по дороге от Пал Палыча, тут свернулись и залегли сонно где-то на обочинах мозговых извилин. Разорванно, с назойливой монотонностью возникало: «Только не чокайтесь, Христа ради. Такое нарушение…» «Интересно, были у него женщины после жены?..» «Такое нарушение…» «И мы отжились. Больше — все…» «Такое нарушение…» «Человеческое лицо — лучший пейзаж…» «Больше — все…»
Пашкина смерть переломала привычность нашего существования и как-то опустошила его. С виду все было, как было, но и сама работа, и наши размышления над ней вдруг стали схоластическими и почти ненужными. А вскоре и работа застопорилась. Группа распадалась. Тарский лежал с гипертоническим кризом. Хуанито совсем замкнулся — для него потеря Пашки была тяжелей, чем для любого из Пашкиных друзей. Тала уехала в Будапешт на международный семинар, посвященный работе журналиста в кадре.
Вообще-то для нашей серии Талина командировка была желанной удачей: один из очерков Раздорского строился на будапештском материале, и мы хотели снять на пленку комментарии Талы прямо на месте событий. Но сейчас и это никого особенно не воодушевило.
Острей всего я ощущал Ромкино отсутствие. Уже две недели Ромка торчал в Грузии.
Мне эти две недели показались бесконечными: раньше, даже уезжая на несколько месяцев в экспедицию, я никогда так о Ромке не тосковал. Но, может быть, дело было в том, что в экспедициях я вкалывал с утра до ночи, а иногда и ночью. Тут уж не до тоски по ближним. Однако, вероятнее всего, причина заключалась не в моей теперешней незагруженности и освобожденности для дружеских сантиментов, а в том, что я не мог выйти из непроходящего ощущения неверности собственной жизни, чувства — «все не так». И Ромка мне нужен был позарез.
Ни на одно свидание я не мчался так, как на аэродром встречать Ромку, истязая дряхлеющий мотор моего «Москвича». И присутствие ни одной женщины не вселяло в меня такого счастья обретения, как сознание того, что Ромка уже вот — растянулся рядом на сиденье.
— Ямщик, — сказал Ромка нежно, — если этого не требует подорожная, не гони лошадей! — Он блаженно подставил лицо ветру, рвущемуся к нам над опущенным стеклом.
Меня пронзил восторг вернувшегося нашего единения:
— А разве вам некуда больше спешить и кадры мира исчерпаны настолько, что вам некого больше любить?
— Напротив, — Ромка сладостно прикрыл глаза, — именно есть.
Так. Значит, прихватил очередной «кадр».
— Знаешь что, останови своего коня, пойдем поболтаемся по лесу, — сказал Ромка.
Я подумал, что вот — лето на исходе, а я почти не видел настоящей зелени.
Мы оставили машину у обочины и ушли в глубь леска. Мы шли и шли, и лес все уплотнялся, и деревья становились все выше и уверенней, будто там, у дороги, их собратья чувствовали дискриминирующее присутствие человека, отчего робели, сгибались, разбегались, лишь кое-где сбиваясь в боязливые группки.
Мы легли навзничь на траву, и над нами свет возвел желтовато-белесую новостройку: широкие лучи его, подобно гладко выструганным доскам, так и сяк проткнули чашу, громоздя в выси это бесплотное строение. Воздух был видим, легко колеблемый в этих тесинах света.
Я терся щекой о томительно-тонкое острие травяных стеблей, трогающее кожу, подобно тому, как утром холодок трогает зрачки, опережая прикосновение света. Я блаженствовал.
— Вот единственно вечная категория, — я погладил, как шкуру зверя, зеленый мех травы, — все остальное — мадам Литература.
— Что остальное? — лениво переспросил Ромка.
— Они мне жутко надоели со своим лепетом по поводу вечности. Прямо психоз какой-то: Лем — вечность человеческого духа. Раздорский, и тот туда же. Вечные категории! Это же от тухлости мозгов, не способных понять сегодняшнее.
— Считай меня среди тухлых, — сказал Ромка. — Я тоже за вечные категории. Отныне я рыцарь вечных ценностей, Я за вечные ценности, — повторил он. — Я даже считаю, что смысл нашей работы в том, чтобы отстаивать вечные ценности и вечные категории. Мы должны быть бродячими проповедниками эфира.
В тоне его уже пробудилось нечто проповедническое. Но мне была смешна сама мысль об электронном миссионерстве Ромки и он в этой роли.
— Ну и что же: ты сложишь балладу о рыцарстве души, о борении добра и зла?
— Нет. Для начала женюсь.
— Что? — Я даже перекинулся на живот со спины.
— Женюсь на простой неземной женщине. На Мадонне с младенцем, двадцати семи лет от роду, проживающей в городе Тбилиси, по профессии чертежнице. — Все это было исполнено в привычной для Ромки манере «между прочим», но при произнесении спича он покраснел — рыжий вихор готов был воспламениться.
— Ты это без дураков?
— Без дураков.
Наверное, надо было его поздравлять или расспрашивать о невесте, а я не мог выдавить из себя ни слова. Меня крючили злость и обида, и беспомощность перед предательством. Именно предательством представлялась мне Ромкина женитьба: он предал наш мужской союз, нашу нерасторжимость. И горше всего я чувствовал, что предана моя радость ожидания сегодняшней встречи, то нетерпение, с которым я несся на аэродром, и то ликование, которое я испытывал от нового обретения Ромки, сидящего возле меня в машине. И я молча вновь перевернулся на спину.
Кузнечики все заводили слабеющие пружины лесного тиканья.
И Ромка откинулся на спину. Он сказал:
Господи! Только Ромка умел произнести вслух то, что я думал, и одновременно со мной поймать образ, строчку. Моя утрата делалась мучительней с каждым его словом.
— Сам сочинил? — спросил я мрачно.
— Сам.
Подобно Тарскому, Ромка тоже некогда был поэтом. Он даже кончил поэтическое отделение Литературного института. В отличие от Тарского, Ромка, став редактором и журналистом, никогда не возвращался к стихам. Его поэтическое прошлое обернулось лишь нашей игрой «в строчки».
И игры теперь не будет. Ничего теперь не будет. Будет Мадонна с младенцем и рейсшиной.
Уехал Хуанито. Его провожал только Пал Палыч. Еще не совсем выздоровевший, он все-таки поехал на аэродром. Это Хуанито сам захотел, чтобы никого больше не было при его отъезде. И мы не настаивали: ему бы было непереносимо видеть всех нас, кроме Пашки. Пал Палыч был частью Пашки.
Уехал Хуанито, вероятно, навсегда. Мне он передал через Тарского записку:
«Вася! Ты понимаешь, что я должен ехать. Должен. Я должен найти брата и сделать все, чтобы спасти его. Если уже поздно, я буду делать то, что делал он. Борьба продолжается, и я не могу не участвовать в ней.
Мы хотели сделать серию о страстях века, о борьбе, о бессмертии. Но, понимаешь, мало твердить о язвах века, о мракобесии, о сражении с ним. Нужно жить так, чтобы не было стыдно перед теми, кого ты воспеваешь. Это главный закон нашей профессии.
Доделайте все, что мы задумали. Это наш общий долг. Перед людьми и перед Пашей.
Я очень люблю Москву и всех вас, и мне ужасно горько, все внутри болит. Но я должен ехать.
Ваш X.».
Не очень хуанитовская по стилю была записка, особенно последний аккорд с этим «все внутри болит». Но уж если наш размеренный Хуанито написал такое, значит ему и в самом деле было нелегко.
Я бы про себя никогда не написал так, но на душе у меня было погано.
— Давай не будем говорить о делах, о командировке, — попросила Тала. — И поцелуй меня, пожалуйста. Я очень соскучилась.
Я поцеловал ее. Наверное, она ждала, что я тоже скажу: «Соскучился». Наверное, она ждала, что я приеду на аэродром встретить ее из Будапешта, раньше я всегда встречал, непременно.
Но не хотелось. Ни ехать, ни говорить. Если бы еще не история со встречей Ромки и мои обманутые надежды на этот счет, можно было бы и съездить. Но мне сама дорога на аэродром была противна, хотя тогда я ехал во Внуково, а Тала прилетала в Шереметьево. Все равно.
Однако Тала, как всегда, оказалась молодчагой: сделала вид, что и не заметила моего отсутствия в аэропорту. Просто позвонила из дома, и я пошел к ней.
Все было на своих местах — и красная табуреточка, и чиппендейловский стул, и барометр путался стрелкой в славянской вязи букв «Ясно» и «Буря». И мы сидели на тахте, откинувшись головами к стене, точно выброшенные на этот плюшевый берег после кораблекрушения. «Я красивая? — улыбнулась Тала. — Венгрия задыхалась от восторга».
Она стала еще красивей, чем до поездки, но я не видел световых чудес, с ней происходящих, и красота эта не волновала. Раздражение нарастало. Теперь оттого, что она сама заговорила о своих прелестях. Так не похоже было на Талу — хвастаться успехом. Она всегда принимала мужские восторги безучастно, как естественную составляющую часть ее жизни.
И оттого, что я молчал, Тала беспомощно заполняла паузы, шире и шире раздвигая пространство, теплое пространство тахты, разделяющее нас.
— Я вот что установила: существуют определенные географические зоны, где пользуешься успехом. Вот Скандинавия для меня — мертвая земля: ни один норманн и не покосился в мою сторону. А Италия, Венгрия — мой плацдарм.
Глупости. И норманны на нее косятся. И венгры, и всякие прочие шведы. А я что-то не замираю.
Про все мы уже переговорили, Тала рассказала про семинар, про Цепной мост, который сторожат каменные безъязыкие львы, про встречу с Мадаи и Папом. Это герои очерка Раздорского, которых мы хотели отснять в Будапеште. Я думал, что ни черта со съемками не выйдет, группа не в том настрое. Но Тала привезла коробку с пленкой — и ее комментарий тоже отснял наш венгерский оператор-корреспондент.
— Рано мы встретились, — Тала поднялась и пошла к двери. — Давай растянем разлуку.
— Не сердись на меня, — сказал я, — я сам себе омерзителен, но что-то со мной не в норме. Не сердись. Наплюй на меня, исправлюсь.
Но я не остался, а тоже поднялся с тахты.
Тала улыбнулась — простодушно, необиженно.
— Ну конечно, наплюю. Иди.
Я отнял ее от дверного косяка, прижал щеку к ее волосам и сказал нежно, точно про другое:
— Я посмотрю пленку, мы завтра все обсудим.
Она поцеловала меня в глаза и так же тихо-тихо, нежно-нежно что-то сказала.
А через несколько дней что-то случилось. Может, беда.
А получилось все вот как. Приехала в Москву Майка, Ромкина жена. Уже жена. Ромка еще днем позвонил мне и попросил «продумать вечер, чтобы развлечь мою жену Майю».
Ромка вообще был на удивление внимателен и нежен к Майке.
Мы решили отужинать вчетвером — Тала, Майка, Ромка и я — где-нибудь в ресторане, а перед тем проехаться по городу. Во время пятиминутной стоянки на смотровой площадке против университета Майка посмотрела вправо и сказала:
— Ребята, у кого-то загорелся керогаз.
Мы все обернулись в ту сторону: апельсиновый вихор огня бунтовал над зеленым перманентом парка, покрывшим затылок оврага.
— Керогаз был равен по мощности домне малой металлургии, — сказал Ромка. Майка засмеялась.
— Я домохозяйка. У меня других образов не бывает. Или только еще: огонь похож на чубчик моего Кирочки.
Майка умиленно называла Ромку «кирпичиком» за его цвет волос. Или сокращенно — Кира. Я дергался от этой их манеры разговаривать друг с другом.
— По коням! — скомандовал я. — На место происшествия.
Ромка предупредительно открыл дверцу машины и усадил Майку. Для Талы он дверцу не открыл.
— Подними стекло, на Майку дует. — Это указание относилось ко мне.
Пожар оказался неподалеку, мы доехали туда очень быстро. Горел деревянный дом рядом с одним из институтов Академии наук. Мы пробирались от шоссе через какие-то колдобины, по сухим тесовым гатям, устлавшим неглубокое днище начатого котлована. Майкин каблук застрял между досками, и она грузно присела. Ромку, как из катапульты, стрельнуло к ней.
— Ну что? Ну что? — причитал он, сидя на корточках. — Вот глупыш. Ну не умеет ходить, и все. Ну что с ней делать!
— У меня ноги не укреплены в щиколотках, — улыбнулась ему Майка.
— Но какова галантность, Ромиро! Не успела дама оскользнуться, он тут как тут. Большой тренинг, — не без ехидства сказал я.
А Майка посмотрела на меня уже без улыбки:
— Не говори так про Киру. И вообще оставь его в покое с дамами. Если ему нравятся дамы или он им — значит, он того стоит. Важно, чтобы ему было хорошо. Не приставай к нему никогда.
Она говорила о Ромке так, будто он был ее вторым ребенком. Дуреха эта Майка. Но, наверное, так и надо. В этом, может, и есть женская мудрость. Если вдуматься-то. И дипломатически — нежная покорность отнюдь не такой уж ветхозаветный стиль поведения. Пришло на ум поучение блистательного Паркинсона: «Когда современные женщины изучат искусство брака с такой же доскональностью, как их прабабушки, они поймут, что милой уступчивостью они добьются куда больше, чем воинственным отстаиванием своих прав». А уж Паркинсон понимает толк в действии пружин современного общества. Недаром этот англичанин стал автором публицистических и сатирических бестселлеров.
Надо бы учесть и Майкину систему. Это в дело пойдет.
Дом полыхал прекрасно. Мы сели на бревна и смотрели на него. Только Тала отошла в темноту, туда, куда не подступили потеки света на траве, и прислонилась к дереву спиной. Я внимательно смотрел на огонь, стараясь запомнить, как это бывает.
Огонь лишил деревянный сруб тяжелой плоти. Бревна казались прозрачными розовыми трубами, по которым бегали редкие черные письмена. Дом был плотно набит огнем, и с подветренной стороны туша огня, не вмещавшаяся в нутро дома, вываливалась из окон тяжелыми алыми глыбами. С той стороны, откуда дул ветер, окна были плоско остеклены багряно-белыми, оскольчатыми витражами.
Вокруг дома уже собралась кучка зрителей. Какие-то ребята с девушками, тетка в войлочных туфлях и байковом халате. Поясница ее была замотана шерстяным платком, как казацким кушаком. Все молчали, глядя на огонь.
Вдруг со стороны института в световой круг вскочил какой-то долговязый парень. Он возник из темноты, как из небытия, и закричал:
— Ну почему вы все стоите? Нужно же тушить! Что вы стоите?
— Ни к чему его тушить, — спокойно сказала тетка. — Дом сносовый. Его сам владелец, небось, и подпалил. Ему квартеру выделили, а он хотел дом на сродственника переписать. А райотдел-то: вот тебе. Ах, вот тебе! Так вот и вам. А дом-то сносовый. Эта площадь институтская.
Парень, видимо, удовлетворился этим пространным объяснением и сразу затих, уставившись на огонь. Он стоял совсем близко к пожару, и я рассматривал его очень внимательно, сам не знаю, почему. Круглые развернутые его плечи обтягивала белая трикотажная рубашка с овальным вырезом, а длинные ноги были облиты синими узкими штанинами джинсов. Джинсы стягивали тонкие прямые бедра, очень низко был спущен пояс, и держались эти штаны непонятно как — вопреки закону всемирного тяготения. Так же как на киноактере Энтони Перкинсе. Ага, я понял, почему я так его рассматривал. Я ведь все искал героя для фильма. Героиня была, а героя я не нашел до сих пор. Честно говоря, парень этот мне годился еще и потому, что он немного смахивал на меня: он тоже был высоким блондином. А я всегда представлял себя на месте главного героя. И морда у него была занятная: короткий прямой нос, и к этой вертикали перевернутой елочкой наискось сходились брови, глаза и углы губ.
— Почему на огонь всегда смотрят молча? — вдруг спросил парень, ни к кому не обращаясь.
— Потому что красиво, и нечего тут разговаривать, — ответила Майка. Она сидела, высоко подняв колени и положив на них щеку, вся — круглый уютный клубок. Красный шарик.
Парень, не оборачиваясь, сказал:
— Нет, потому что робеют перед зрелищем непостижимого.
— Что ж тут непостижимого? — ухмыльнулся я. — Простейший процесс горения. Известный науке с давних времен. А наука, как известно умеет много гитик.
— Наука умеет. Но зрелище это для каждого многозначно, как всякая красота, как искусство.
— Искусство воссоздаст зрелище точными словами или образами, и оно будет единственным, как в науке. — Мне не хотелось, чтобы парень этот выступал от имени искусства. — Сэр — художник?
— Сэр — газетчик, — ответил парень, все еще не глядя на нас. — Нет, они никогда не будут едины. В искусстве мы вкладываем в слова несколько значений, потому что совместное присутствие этих значений в сознании может быть источником прекрасного. А в науке такую неясность можно сохранять только до тех пор, пока не доберешься до сути дела.
Меня злило, что парень так и не пожелал посмотреть на собеседника, будто мои сентенции ни черта не стоили.
— Люди так смотрят на огонь, потому что все немного язычники, только стесняются в этом признаться, — произнесла Тала своим особым телевизионным голосом и вступила во владения света.
И тут парень оглянулся. Он оглянулся, подошел к Тале и уставился на нее так же зачарованно, как глядел на пламя. Потом он улыбнулся и сказал:
— Здравствуйте, Наташа. Вы не удивляйтесь, что я улыбаюсь. Я всегда вам улыбаюсь, только там, в кинескопе, вы этого не видите.
— Здравствуйте. Теперь вижу и тоже улыбаюсь, — сказала Тала. Они замолчали и продолжали смотреть друг на друга. А мы трое глядели на них. Блики, Талины блики, сейчас метались по ней особенно рьяно, хотя она не двигалась.
В это время, наконец, прибыли пожарные. Они подтянули шланг и пустили воду. Я подумал: «Струя проткнула дом, как шампур, и красный сруб завертелся на нем, точно обугленный кусок шашлыка». Я даже произнес:
— Как шашлык на шампуре.
Но Тала и парень пропустили это мимо ушей.
А Ромка отметил:
— Мимо.
— Вы знаете, какие у вас сейчас глаза? — очень тихо спросил парень. Но я услышал. А Тала ответила громко, будто нас и нет тут:
— Сейчас вы скажете, что они как кусочки янтаря. Мне это всегда говорят.
— Нет. Они еще как капельки смолы. Им еще предстоит стать янтарем. И вся вы такая — вся предстоите.
— Нет. Я уже состоялась. Точнее, не состоялась. — Она грустно покачала головой, и желтый отсвет упал с волос на плечо.
— Вы — предстоите, — повторил парень.
— Ребята, есть хочется, — пропела тоненько Майка со своих бревен.
— Да, едем. — Ромка встал, они пошли к машине.
— Поехали, Тала, — сказал я хозяйским голосом.
— Я не хочу есть. Я не поеду. Отправляйтесь. — Теперь уже она разговаривала, не глядя на нас.
— Как же ты доберешься?
— Доберусь.
— Ну валяй, валяй, — сказал я как можно небрежнее и в подтверждение своей безучастности к этому неожиданному повороту дела спросил парня: — Как вас зовут? Вы мне понадобитесь.
— Меня зовут Дима, моя фамилия — Раздорский. Но вам я не понадоблюсь.
— Возьми у него координаты, — кивнул я Тале.
Я не хотел смотреть на них, и последнее, что я увидел, был дом. Вода лишила его прозрачности, и бревна отяжелели, стали снова плотными, точно обуглил их не огонь, а влага.
И только когда мы отъехали, до меня вдруг дошло: «Раздорский». Это был Вадим Раздорский.
— Ты знаешь, кто этот парень? — спросил я Ромку. — Это Раздорский.
— Правда? — отключенно удивился Рома. — Значит, он приехал. Вполне возможно. Я его живьем-то не видел никогда.
Я думал о Димкиной фразе: «Мы вкладываем в слова несколько значений, потому что совместное присутствие этих значений в сознании может быть источником прекрасного…» И дальше о науке.
Собственно, когда я ратую за подтекстный, может, иронический диалог, за разговор без прямой назывательности — это и есть поиски прекрасного. Особенно сегодня. А может, мне повести моих героев на туманную эстакаду и заставить их говорить о науке и искусстве этими словами? И там, где слова обретут единозначность, пойдет речь о науке, а где многозначность — о чувствах? Это и будет лирическая сцена, но на туманные мои подмостки выйдут сегодняшние персонажи — ученые, для которых жизнь ни в одном ее движении немыслима без их дела.
Я думал об этом по дороге на Арбат. С того пожара прошло шесть дней, и я ни разу не видел Талу, даже не звонил. Конечно, я объяснял себе это мое молчание тем, что нужно было уйти в работу, как говорится, «не рассредотачиваться». Но, если быть честным, дело было в Димке. Если он ее «впечатлил», вернуть интерес к себе можно было только этим исчезновением. Пусть помечется в догадках и поскучает. А вот сейчас я нагряну без звонка, и она будет рада, что я все-таки есть.
Но когда я вошел в Талин двор, я увидел, как в проеме подъезда исчезает Димкина фигура. Он шел к ней. И я остался во дворе.
Я стоял под ее окнами, представляя минуту за минутой там, внутри. Вот он входит, а она стоит, прислонившись к дверному косяку, и держит на плече светлый блик, и он стирает этот блик ладонью и целует ее.
Я мучил себя этими воображаемыми подробностями и твердил: «Ну ладно, хватит, надо отчаливать». И стоял. Стоял, ожидая, когда приглушится свет в ее окне. Свет не гас.
Наконец я заставил себя отвернуться и сделать два шага к воротам.
— Почему ты так поздно? — спросила Тала. — Я уже легла.
Ничего она не легла. Была причесана по-дневному, и лицо у нее было дневное. И то, что я после «столь долгого отсутствия» все-таки явился, не наполнило ее ликованием.
— Может быть, я войду? У меня есть ряд сюжетов для твоих сновидений.
Я прошел и сел на тахту. Потом протянул к Тале руку, чтобы усадить рядом. Но она сняла табуреточку с «чиппендейла», поискала для нее место и, так как на полу места не оказалось, поставила на тахту рядом со мной. А сама села на стул. Она вытянула ноги в синих брюках, и ноги эти, длинные-длинные, казались бесконечными, теряясь где-то под тахтой.
— Ну как, ты уже остудилась после пожара?
Она, точно проверяя, не теплятся ли еще жаркие отсветы на ее лице, провела ладонями по бровям, по вискам, и кисти рук уплыли под волосы, за шею:
— Я остудилась после пожара.
— Тогда я тебе расскажу, какой будет концовка картины.
— Не приходи больше, — сказала она безучастно.
— Никогда? — спросил я, стараясь сделать голос как можно более веселым.
— Никогда.
— Выходит, крикнул ворон: «Nevermore!», крикнул ворон: «Никогда»? А я и не слышал.
— Хватит! — закричала вдруг Тала и, выпрямившись на стуле, поджала под него ноги. — Эта вечная клоунада мне осточертела.
Я даже вздрогнул, отчего табуреточка пошатнулась и доверчиво припала к моему плечу. Я поцеловал табуретку в красную лысину и обнял ее паучьи ножки:
— Не пугайся, дружок, Тала сердится потому, что она устала.
— Да, устала! — в каком-то осатанении крикнула еще громче Тала. — Я устала от этих спектаклей, которые должны заменять чувства на манер «Новой волны». Я устала от твоей бездарности. Да, ты доморощенный гений и не подозреваешь, как ты бездарен в любви, как ты не способен ни на одно настоящее проявление… — Она замолчала, а потом сказала почти сочувственно: — Ты и в творчестве, наверное, бездарен. Я не верю, чтобы человек, сортирующий чувства на диалоги и подтексты, мог что-то настоящее сделать в искусстве.
— Ну, разумеется, теперь у нас в гениях мсье Раздорский. Он, уж бесспорно, способен на настоящее. — Я проклинал себя, произнося эту фразу, изобличающую мою ревность и мое мужское поражение, но остановиться не мог.
Но Тала не воспользовалась моей слабостью, она ответила очень серьезно:
— Видимо, да. Он органичен и един в том, что делает и как живет.
Я вспомнил Хуанито: «Это главный закон нашей профессии».
Нет, положительно нужно выдираться из их опасного единообразия.
А сказал:
— Что ж, переживи с ним свои десять секунд бессмертия в любви на манер госпожи Троицкой.
— Дай-то Бог, — сказала Тала.
— Ну и отлично. Вот и рабочая группа снова в сборе, и автор при деле. Можно запускать серию. Правда, без меня. Онэ унз, как говорят германцы.
— Конечно, — согласилась Тала. Согласилась с прежней легкостью общения.
— Видимо, ворон-таки крикнул. — Я все не хотел сдаваться, но на этот раз она даже не обратила внимания на мои слова.
— И еще я устала от вечных забот о своей современности, потому что мне тридцать лет и я все время могу стать старомодной. Иди, пожалуйста.
Она прошла к двери и остановилась в дверном проеме, как всегда. Но я понимал, что она уже не выходит встречать меня, а просто ждет, чтобы я скорее выметался.
Когда я шел к машине, на другой стороне переулка, против Талиных окон, я увидел долговязую фигуру.
— Добрый вечер! — сказал Димка и размяк в глупейшей улыбке.
— Салют, камарадо! Что за странный пост?
Димка улыбнулся еще блаженнее:
— Я ей сказал, что буду стоять тут все время. Если она вдруг проснется и посмотрит в окно, я всегда буду здесь. Пусть заснет, потом опять проснется и опять посмотрит, и я опять буду здесь.
Я хмыкнул:
— А потом она однажды проснется и скажет: «Мальчик, тебе не холодно? Иди погрейся на моей тахте».
Димка склонил набок голову, словно силился понять смысл сказанного мной. И как-то озабоченно и убежденно произнес:
— Вы безвкусны. В искусстве это очень опасно. Вы же работаете в искусстве.
Я не стал с ним прощаться. Я отвернулся и увидел телефонную будку. Я вынул из кармана двухкопеечную монету и когда открывал дверь будки, у меня томительно засосало под ложечкой, потому что вдруг эта чертова будка напомнила тот первый разговор с Талой.
— На проводе! — сказал в трубке Ромкин полубас.
Откуда-то из глубины его комнаты Майкин голос крикнул: «Если Василий — зови ужинать к нам».
— На проводе! — повторил Ромка.
Я повесил трубку.
Всю ночь я мотался на машине по городу. С городом что-то случилось. Началось это у телефонной будки и все длилось и длилось, не давая мне опомниться. Город вдруг утратил свои обычные очертания, он уже не был сложен из домов и располосован пустынностью улиц. Он превратился в какой-то зверинец, в котором то и дело распахивались двери клеток, выпуская мне наперерез стаи подробностей.
От памятника Пушкину на меня в шахматном строю двинулись осколки битого кирпича, которым посыпают дорожки. Когда-то Тала разложила их у подножия памятника, ожидая, пока я закончу разговор в редакции «Известии». «Вот какой у тебя был разговор, — сказала она, показывая на камешки, — вот так сидели литсотрудники, так завотделом, так ты и так они тебя атаковали. Дело плохо — от тебя остался щебень и прах. Точно?»
И сама Тала выходила мне навстречу в разных концах города. Она бежала через улицу к дверям дежурной аптеки, ловила такси посреди площади, вскакивала в десятки подъездов. Она бесконечно отражалось в витринных глубинах, возникая откуда-то изнутри, выкликаемая раскачиванием фонаря или светом уходящего троллейбуса. Это было самым мучительным, потому что я вдруг ощутил, что ее постоянное сходство с зыбким отражением утверждает бесплотность, недосягаемость для меня.
Хрестоматийно знакомая строфа прорвалась сквозь заслоны памяти, ошеломив меня новизной и точностью, будто я сам ее только что сочинил. Это не было игрой «в строчки», я не мог и не смел и не желал нарушить поэтическое целомудрие строфы иноплеменным словом. Мне это и в голову не пришло. Стихи открылись, как прибежище моих бед.
Я гнал машину сквозь шпалеры фонарей на сиротливых ночных проспектах, и Тала все перебегала мостовые и вскакивала в подъезды.
— Nevermore, — повторял я вслух. И произносил это слово еще и еще. То, что произошло, было заключено именно в этом слове, которое нельзя перевести нашим «никогда».
Оно было безысходнее и многозначнее. В нем и «никогда больше», и «непоправимость», и обреченное «прости меня», и что-то еще, чему нет названия в людских лексиконах. Но «совместное присутствие этих значений» не становилось источником прекрасного. Оно было источником моей боли и моей любви.
Но, может, прекрасное, то есть искусство, оттого и сродни любви, что оба они тысячеименны в каждом звуке и все-таки непознаваемы.
Непостижимость, всесильная перед познанием, таким беспомощным во всей своей современной вооруженности, — вот что мучило меня. Стена, смерть, которую не одолеешь пониманием.
Начало светать, и сизые капли фонарей дневного света одна за другой стекли и растворились в ясной бледности неба, росшей от горизонта. Мне захотелось поехать на окраину, к тем новостройкам, где я недавно выбирал «натуру» и где мне открылась туманная эстакада. Наверное, и сейчас, на рассвете, туман висел над шоссе. Я выехал за город и обернулся.
Над землей было чисто, но я представил себе голубое полотнище, натянутое поперек шоссе, и женщину с мужчиной, идущих в обнимку над землей.
Это были мои герои, и я узнал их — Тала и Димка. Они шли, плоские силуэты, и я — убей Бог — не мог расслышать, о чем они говорили.
Но я тут же оттолкнул Димку, я сбросил его вниз, на зеленую разделительную полосу, и сам встал рядом с Талой, и мы пошли на белом экране города, и было видно, как я держал ее за плечи.
— Тала, — сказал я, — не оставляй меня, ради Бога. Я же так люблю тебя. Я тебя безумно люблю. Я просто помру. Не оставляй меня.
Жаль, что для концовки фильма эти слова мои не годились. Такое уже было в кино тысячи раз. Надоело.
Ксения Троицкая
Пророчество домоправительницы Тарских Прасковьи сбылось.
После Пашкиной смерти я стала заходить к Пал Палычу, и странный дом бывшего рабочего поэта Пролетарского, несмотря на невыветривающийся воздух утраты, почему-то вносил умиротворение в мою душу.
Пал Палыч уже не играл на губах «зорю», он вообще потишал и сник, но своей привычки в каждом событии и явлении находить доброе начало не оставил. Как и манеры повторять слова.
Прасковья же Васильевна посуровела пуще прежнего, и круг приходящих, отмечаемый ее благорасположением еще более сжался. Как ни странно, под благоволение попала и я. Каждое мое посещение было означено церемонимейстерским оглашением:
— Прошу до гостиной!
Я робко сопротивлялась:
— Да ладно, я уж тут.
Но Поля была непреклонна:
— Нельзя. Вы человек промысленный. Не первый по второй, не второй по третьей.
В своей комнате, которую она и именовала «гостиной» Поля (как звали Тарские Прасковью Васильевну) водружала меня за стол, покрытый бархатной скатертью, и я смирно сидела под неусыпным оком старинных напольных часов.
Во время последнего моего посещения Поля уведомила:
— Щас моментом — чай. Только скатерку сменить. У соседей фасон срисовала.
Она убрала бархатное покрытие, и стол был одет в клетчатую скатерть, обрамившую круглую столешницу длинным, в пол, воланом.
— Я все на них удивляюсь, — пояснила Поля, — как такую скатерку изделали — в талию! Вот у них срисовала. Думала, Пашенька залетку приведет, а у нас хозяйственно. Теперь больше — все.
Отправляясь на кухню за чайником, она притормозила у двери:
— Да, шоб не забыть. У четверг конец света.
Именно в четверг я забежала пообедать в Дом журналиста. Просторный зал был битком набит, приткнуться было некуда. И тут с углового столика мне помахали:
— Ксения! Сюда, сюда! Есть место.
За столиком сидели трое известинцев, среди них Коля Васнецов, вчера мне сказали, что две недели назад он уезжал в Африку. Он и поманил меня.
Обед клубился. Бутылку водки ребята уже споловинили, жареная осетрина на блюде с маркой «общепит» вызывающе благоухала.
— Осетринки-с? — Предложил мне Коля. И подмигнул приятелям. — Так вот, представьте себе: провинциальный городишко, скука вселенская, тело швырнуть некуда… Ты извини, Ксения, я дорасскажу. Куда податься? Вижу афиша: концерт скрипачки N. Обозначим ее N. Пошел. Хотя предвижу: надо бы для профилактики беруши прихватить. И вдруг на сцену выходит некое явление, все исключительно тонкое и черное. Что туалет, что волосы. И дает «Рондо каприччиозо». Но как! Я так потрясся, что даже в личность вглядеться не смог. Но!.. — он со значением поднял указательный палец, — после концерта выяснилось, что в гостинице мы в соседних номерах. Детали опускаю, щадя слух присутствующих здесь дам. Скрипачка моя оказалась осетинкой с темпераментом, присущим жителям Кавказа. Ходила у меня потом под кодовым названием «осетинка на вертеле». Так что — кто еще осетринки желает?
Ребята хохотали, пошли встречные новеллы, мое присутствие внимания их не поглотило. И вдруг Коля схватил меня за руку:
— А мы же тебя сейчас в Афинах поминали!
— Кто — мы? — Мой голос сразу сдал.
— Да я там встретил твоего приятеля Мемоса Янидиса.
Сколько лет я ждала этой фразы от кого угодно, сколько раз представляла, как обрушу на собеседника тысячи вопросов, пытаясь разузнать все мельчайшие подробности, сколько раз чувствовала, как счастливо закружится мир. Я выдавила еле-еле, потому что все внутри меня окоченело:
— Ну и как он?
— О, мужик — молоток! Класс! Недавно из тюряги, а уже работает, женился, баба с пузом. Я у них и дома был. Баба у него — гигант, я таких просто не видел. Этакая воркующая великанша. Пузо — купол кафедрального собора, греки, между прочим, православные. Бюст — парфенонова колонна в горизонтали. Вошла — все пространство собой заполнила. Мемос о тебе расспрашивал, о ребятах твоих. Говорит, вы ему здорово в Москве помогли.
Коля говорил и говорил, я не вслушивалась. В виски билось: «Женился, баба с пузом, женился, баба с пузом…»
Сердце болело нестерпимо. Да, это не расхожий оборот «болит сердце». Кто-то воткнул в него ржавую спицу и сладострастно ею ковырял.
Я боялась закричать, расплакаться или, напротив, превратиться в библейский соляной столб. Я не могу выразить, что со мной было. Я только знала, что не в состоянии ни минуты оставаться на людях. Пробормотав что-то невнятное, я кинулась из ресторана.
И наступил конец света. Непонятно было, почему на улицах неподвижно стоят дома, почему прохожие передвигаются беспрепятственно, почему автомобили окликают друг друга редкими вкрадчивыми гудками? Ведь все обязано рухнуть, исчезнуть, жизнь должна прекратиться.
Жизнь пресеклась. Что же случилось? Мемос предал меня? Разлюбил? Полюбил другую? Или все эти годы я лелеяла несуществующее, придуманное? Но ведь для меня-то это и было жизнью. А для него?
Впрочем, все это не имело значения. Важно было одно-единственное: его нет у меня. Он отнят, отторгнут, и это отторжение, отнятие безысходней, безнадежней тюремных ограничений, расстояний, лет.
«Конец света» — было и любимым выражением моей подруги Кати Москвиной. Но в ее устах это было свидетельством высшего достижения в чем-то, знаком совершенства. Шла ли речь о талантливом полотне, книге или о ногах звукооператора Зины, работавшей с ней.
Катя, Екатерина Павловна, была редактором отдела искусств на радио, вела передачу-долгожительницу «Художник и время».
И все это безразмерное время художники, выступающие в программе, были по очереди влюблены в Екатерину Павловну. Что не удивительно. Я редко встречала женщин подобной красоты.
Статная, может, чуть-чуть полноватая Москвина была обладательницей дымчатого сквозь огромные очки, слегка нечеткого взгляда, профиля с античной геммы и золотых волос непомерной длины и густоты. Она укладывала их на затылке, сворачивая жгут из толстенной косы. Коса казалась невсамделишной, и Катю порой спрашивали завидующие дамы:
— Вы косу приплетаете?
Совершенно искренне, к удовлетворению любопытствующих, она говорила:
— Приплетаю.
Что, тем не менее, было правдой: чтобы как-то закрутить конец косы, Катя вплетала в него тонкий жалкий хвостик.
— Но ведь правда — вплетаю, — оправдывалась она в ответ на мое возмущение, и сигарета в ее длинных пальцах чертила в пространстве дымные узоры.
Мы познакомились на похоронах наших мужей. Катин муж, знаменитый физик, разбился в Антарктиде на вертолете вместе с моим Сергеем.
Об известном специалисте в области физики земли Алексее Москвине я читала в журналах и газетах. Вернее — о династии Москвиных. Так всегда и писалось «династия». Хотя речь шла только об Алексее и его отце академике Федоре Никаноровиче. Далее династийность не простиралась. Никанор Москвин не то что физике, грамоте не был обучен. Землепашествовал в тамбовской деревеньке.
К моменту гибели Алексея академик-отец уже умер. Так что научная ветвь Москвиных мне была известна только по публикациям и рассказам.
А вот Фриду Львовну, Катю и даже Тоську я узнала очень хорошо и даже нежно полюбила.
Ни в один дом так не тянуло меня, как в это прибежище трех одиноких женщин. Надо сказать, что прибежище, особенно по нашим московским меркам, было вызывающе роскошным. Академику Москвину была жалована пятикомнатная квартира на Сретенском бульваре в доме дореволюционного страхового общества «Россия». Избрать именно старый дом пожелала жена академика Фрида Львовна.
И обставляла квартиру она. Исключительно старинной мебелью. В каждой комнате царил свой стиль. В спальне академической четы — карельская береза. «Моя карелка», — как любовно именовала гарнитур Фрида Львовна. В гостиной, огромной, с мраморным, похожим на саркофаг камином — русский ампир. Вишневые полированные поверхности кресел и горок метили распахнутые крылья орлов из золоченой бронзы. И так далее…
Только молодые, Катя с Алексеем, втащили в свою комнату современную тахту и модерновый торшер.
Был еще кабинет. Но его я не видела никогда. Только знала: перешедший сыну по наследству от отца, после трагедии в Антарктиде кабинет был навсегда заперт вместе с хранящейся там огромной научной библиотекой.
— Если, даст Бог, будет у Катюши сын, и, помилуй Бог, будет физик, тогда раскупорим двери. Навзничь, — заявила Фрида Львовна.
Да, эта милая любительница русского дворянского уклада отнюдь не была потомственной аристократкой. Одесские интонации и постоянное употребление «красивых» слов не по назначению властвовали в ее речи.
Когда-то Василий Привалов рассказывал занятную байку про мимолетную визборовскую пассию, которая щеголяла словами, не понимая их смысла. Не знаю, как было это у той девушки, но речевая особенность Фриды Львовны просто восхищала меня непредсказуемостью. Но это так, по ходу дела.
Некогда шустрый рабфаковец Федька Москвин, приехавший в Москву за наукой, был сбит извозчичьей пролеткой, в которой восседали две в пух и прах разряженные дамы. Одна в возрасте, другая совсем юная. А именно: красотка Фрида и ее тетя Роза, привезшая племянницу в столицу для покорения подмостков Большого театра.
— Конечно, одесская опера это тоже не кафе-шантан, — сказал Фридин папа, — но Фридочкин голос! Ему подавай размах.
Считалось, что у Фриды голос, который уложит на лопатки мир.
Так вот. Опасаясь контактов со столичной милицией, а также того, что дорожное происшествие может «встрять во Фридочкину карьеру», тетя Роза велела извозчику погрузить жертву в пролетку и доставить в снимаемую одесситками комнату. Где пострадавшего выхаживали неделю.
Любовь, подобно науке, тоже «умеет много гитик». Как начиналась взаимная страсть белобрысого тамбовского парнишки и знойной покусительницы на Большой театр, а возможно и Да Скала, — неведомо. Но зажглась она и спалила все преграды на пути к счастью.
А преграды возникли немедля, едва тетя Роза отбила сестре паническую телеграмму. «Кошмар. Фриду увлек некто из рабфака».
Мама пила флакон за флаконом настойку корня валерианы, папа бегал по квартире, вздымая руки и вороша волосы: «Босяк! Гой! Заманить девочку измором!» (Папа, как и Фрида, любил употреблять слова не по назначению).
Все было тщетно. Дочка сказала: «Он — моя фактура». Имелась в виду «фортуна».
Конечно, прошло немало лет, пока затертый рабфаковец превратился в маститого академика. Но, нужно отдать должное Фридиным родителям, они в конце концов признали опрометчивость первых суждений. Было даже прощено, что ни Гранд Опера, ни Да Скала, ни даже Большой не дождались будущую приму. Хотя мама изредка вздыхала: «Такой соловей задохнулся в академской клетке».
Так или иначе, чета прожила долго и счастливо, в доме Фрида Львовна учинила салон, в котором царила путем изобильных обедов и романсов, исполняемых под аккомпанемент концертного «Бехштейна». Честно говоря, столь дорогостоящий инструмент мог рассчитывать на лучшую участь, чем переборы выпускницы Одесской музыкальной школы. Но! Во-первых Федор Никанорович ни в чем не мог отказать любимой супруге. А во-вторых, рояль был из красного дерева и так гармонировал с меблировкой гостиной, что смешно бы было отказаться от покупки. С этим нельзя не согласиться.
На учиняемых в доме приемах Федор Никанорович присутствовал как-то формально, погруженный в свои академические мысли, лишь изредка, поднимая глаза на жену, восторженно произносил:
— Ну испанка, чистой воды испанка.
Сонм приглашенных поклонников хозяйкиных талантов и прелестей откликался дружным шелестением согласия.
Катю в доме приняли с открытой нежностью, свекровь очень гордилась, когда в конце передач по радио объявлялось: «Редактор Екатерина Москвина». (Что вы хотите, — каждый раз отмечала Фрида Львовна, — Москвина — фамилия уникальная». Что имелось в виду — трудно сказать).
Даже когда обе женщины овдовели, Катя осталась в доме Фриды Львовны, и та перенесла на нее всю любовь и заботу, прежде делимую между сыном и мужем. Хотя сама находилась в положении довольно печальном.
Дело в том, что после трагедии в Антарктиде Фрида Львовна обезножила, совсем не могла передвигаться самостоятельно. Однако это вовсе не повлекло за собой развала дома, как института. А также потерю больной женского облика.
Фрида Львовна лежала под стражей своей «карелки» на белоснежных простынях, тщательно причесанная, в макияже и с безупречным маникюром. Маникюрша, она же парикмахер, посещала ее регулярно.
Но и это не все. Почти не выбираясь из спальни, Фрида Львовна умудрялась управлять хозяйственным механизмом с былой точностью. Все вещи знали свое место.
— Тося! — Фрида Львовна вызвала домработницу колокольчиком. — Возьми салфетки. Третья полка снизу, ты же забудешь.
Но Тоська, вымуштрованная в Москвинском доме, ничего не забывала и поддерживала идеальный порядок.
Я была очень привязана к этому дому. Любила бывать там, рассказывать о его милых и смешных подробностях. Может, контраст с моей безликой квартирой утолял подсознательное женское стремление к домашнему уюту. Может, дух доброжелательности и участия, царивший там, грел душу.
У Москвиных я бывала чаще, чем в других домах. Благо, жила по соседству.
Хотя, конечно, дело было в ином. Это был дом любви, где все были влюблены, все говорили о любви.
Фрида Львовна постоянно была влюблена в кого-нибудь из бывших коллег мужа — они продолжали навещать ее. И парализованная дама всегда с таинственным вдохновением сообщала мне: «Он, конечно, понимает мое положение. Но смотрит на меня косвенно. А это — признак».
Что касается Тоськи, то та вообще не вылезала из любовных историй.
На заре беспечной юности с Тоськой произошел инцидент. Она пала жертвой своего любвеобилия и прямодушия. Среди многочисленных ухажеров юной прядильщицы фабрики трикотажных изделий, кем и была Тоська в те поры, нашелся милиционер, отвергнутый ею во имя вагоновожатого с трамвайного маршрута «39», пролегавшего мимо фабричного общежития. О чем милиционер и был честно поставлен в известность.
Мент не стерпел поражения и донес в свое отделение, что некая «особа без определенных занятий занимается связями с мужчинами за деньги». То есть — занятия определенные. Все, конечно, вранье. Мужская злость. И работа на прядильном станке — вполне дело, а насчет денег — Тоська сама готова была всю зарплату на возлюбленного ухлопать. Но в отделении тут же отреагировали. Тоську судили, а как «аморальному элементу, представляющему угрозу обществу», дали два года.
На волю Тоська вернулась с твердой верой в то, что все мужики — гады, с неуемным желанием убеждаться в этом вновь и вновь, а также с татуировкой на двух ляжках. На одной значилось: «Нет в жизни щастья», а на другой «Пусть будит сон, что я любила Сашу».
После колонии какой разговор — ни прописки, ни работы. Только податься к мамке в деревню. А деревня для Тоськи уже не плацдарм. Кто-то случайно свел с Москвиными, у которых в это время домработница в деревню уезжала по причине безотцовской беременности.
Академик выхлопотал Тоське прописку, она осталась в семействе Москвиных. Очень подошла: была смекалиста, в руках все горело.
Да и комнату собственную заимела. Специальная комната для прислуги, рядом с кухней. Правда, водить туда кавалеров Фрида Львовна строго-настрого запретила, но крутить любовь на стороне — пожалуйста. Как же женщина без любви?
Управившись с делами, Тоська вечером начинала готовится к очередному свиданию. Усаживалась перед тумбочкой, на которой у зеркала были разложены краски и притирки, и начинала рисовать, как выражалась, морду лица.
Процедура длилась не меньше часа. Потом Тоська махала рукой и говорила:
— Ладно, пойду как есть.
Катя тоже любила. Любила самозабвенно, неистово. Пожалуй, только к ней применимы эти литературно-романсовые категории. И хотя к ее экзальтации, вспыхивающей по самым разнообразным поводам, я относилась с определенной иронией, постоянность Катиных чувств сомнений не вызывала.
Я уже говорила, что в Екатерину Павловну влюблялись все ее «подведомственные» художники. Самым пылким был Юрий Сивак. Смешной кургузый человечек. Его дергающийся по-кроличьи нос венчали очки, которые, следуя Маяковскому, можно было бы окрестить велосипедом. Только сломанным и допотопным. Редкие вихры торчали на голове, отмечая лысину вертикальным снопиком.
Да, призером конкурса красоты и элегантности Юрий Сивак вряд ли бы стал. Но был гением. Зачисленный в формалисты, Сивак не выставлялся, не издавался, подрабатывал на жизнь самыми неожиданными ремеслами. Но был гением. Затираемым властями, но почитаемым всеми серьезными художниками.
А Катя была узким специалистом по гениям. Это мне всегда нравились только красивые мужчины, что приводило ее в полное недоумение.
Помню, как-то, примерно за полгода до появления Мемоса, у меня возник легкий роман с мосфильмовским кинооператором.
Катя ужасалась:
— О чем можно говорить с этим дискоболом?
— Что, мне не с кем поговорить? Вот хоть с тобой, — отшучивалась я. Хотя хотелось спросить: «А как можно целоваться с плешивым умником?»
Но для Кати вне популяции гениев, на худой конец, выдающихся талантов, мужчин не существовало. Судя по фотографиям, покойный муж Алексей тоже Алена Делона не затмевал. Так что, по всем раскладкам, у Сивака были все шансы на взаимность. Тем не менее, сиваковское поклонение было отринуто.
— В чем дело? — недоумевала я. — Сивак — узаконенный гений. Это же — твой фасон, твой размер.
Дымок Катиной сигареты рисовал в воздухе робкую морскую зыбь:
— О, это немыслимо. Представляешь? Он прислал мне записку: «Вы моя женьщина». Вообрази: «женщина» с мягким знаком! Это же — конец света. В обратном смысле.
Однако не сиваковская неискушенность в премудростях правописания принесла ему неудачу в любви. И даже не то, что он на некоторое время исчез с московских горизонтов.
Катино сердце принадлежало другому, о чем я поначалу не знала. Я ей тоже не сразу рассказала о Мемосе. Тогда мы еще о собственных чувствах не говорили. Потом Катя открылась мне. Уже год, как у нее длился роман с другим гением. На этот раз — грузинским. Но тоже художником, Тенгизом Хорава. Любовь эта началась мгновенно и обоюдно. Когда Тенгиз привез в Москву свою персональную выставку. И все время, пока длилась выставка, Хорава и его многоголосое грузинское окружение не покидали Катю.
Сивак жаловался мне с горьким сарказмом:
— К ней не пробиться. Вокруг грузин целая хорава.
Роман был горьким, хотя воистину красивым.
Где бы ни находился Тенгиз, к каждому празднику, включая День международной солидарности трудящихся, Катя получала корзину цветов. По утрам ее будили междугородные звонки: «С добрым утром, моя красавица. Пожалуйста, до того как сядешь завтракать, подумай обо мне. И больше ни о чем, хорошо?»
Однажды Катя приехала на запись в Тбилиси, и Тенгиз учинял круглосуточные празднества в ее честь. Сажая ее в поезд, плакал, не стесняясь других провожающих. А когда и она, прорыдав всю дорогу, вышла на московский перрон, он встречал ее. Прилетел самолетом.
Да, роман был красивым, но все-таки горьким. Встречи редки, разная жизнь. Но самым печальным была невозможность соединиться: Тенгиз был женат, да еще две девочки-подростки, которых он обожал, не мог оставить. Но и решись он на развод, на переезд в Москву, это влекло за собой полный разрыв с Грузией во всех ее ипостасях, что для Тенгиза было бы мучительно. И все-таки мысли о переезде он не оставлял, слишком любил Катю.
Надежда то разгоралась у нее, то угасала. В такие часы безнадежности Катя навзничь ложилась на тахту и безжизненно замирала.
— Что с тобой? — каждый раз пугалась я.
Она произносила с трагической убежденностью:
— Я страдаю.
Да, дом Москвиных был домом любви. Единственным домом, где я говорила о Мемосе. Конечно, все, кто бывал в моей квартире, кто видел пресловутую карту и надпись «Афины — Москва. Я люблю тебя. А.», догадывались о некой романтической истории. Особенно мои редакционные ребята, бывшие свидетелями нашего знакомства. Влад иногда спрашивал: «О Янидисе ничего не слышно?» Генка заговорщически обнимал меня за плечи: «Мы раскуем твоего Прометея. Не боись». Бося сокрушался: «Ну что поделаешь, если эти гады не дают визы».
В визе правительство «черных полковников» мне уже дважды отказывало: я была для них персоной нон грата, так как много писала об их режиме. Конечно, в соответствующих тонах. Путь в Грецию мне был заказан, хотя я рвалась хоть что-то разузнать о Мемосе.
Однако я ни с кем о нем не говорила, и, разумеется, никто не подозревал, что со мной происходило.
Однажды лишь что-то сказала Кате.
— Рассказывай. Рассказывай абсолютно все. — Катя сжала тяжелый узел косы обеими руками, что было у нее знаком безоговорочной требовательности. — Это преступно, мучительно преступно держать все в себе.
— Что рассказывать-то? Наваждение какое-то, амок.
— Рассказывай, вместе мы поймем. Для этого и существуют подруги. Ты знаешь, почему это идиотки-американки таскаются по психоаналитикам? У них нет института подруг. Или стараются изображать перманентный «о’кей». А настоящий разговор с подругой? Это же — гениально, Это — конец света. Не замыкайся в себе.
— Я не замыкаюсь. Просто мне всегда казалось, что чувства рассказать вслух невозможно.
— Глупости, о Боже, какие несусветные глупости! — Катя замотала головой, а потом лукаво улыбнулась. — А зачем вообще нужны романы, если их нельзя обсудить с подругой?
— Наверно, настоящие романы не предполагают обсужденья или умолчанья. Они просто случаются, происходят ниоткуда, и все.
Я всегда отмечала женскую склонность говорить о любимом человеке с кем попало. Я даже видела: тот, кто выслушивает, сразу становится женщине близок, почти дорог. Но я считала свою любовь только моими владениями, в которые — ворота на замке. Да еще и страж у входа.
Я заблуждалась. Я не предполагала, какое счастье может принести разговор о любимом с понимающим и сопереживающим собеседником. Выяснилось, что в таком разговоре выпадает неправдоподобная возможность заново, как наяву, пережить все подробности и оттенки, прочувствованные когда-то.
Важно только, чтобы собеседник был достойным. Катя была таким слушателем, таким собеседником.
И еще я поняла, что сама хочу узнавать, узнавать, познавать, как любовь правит жизнью других людей. Что все хочу знать об этом.
Любовь как форма существования, как особая планета влекла постоянно и неотступно мое внимание. Ведь именно поэтому-то мне и захотелось написать для Мемоса рассказ об апрельском снегопаде. Я ведь не собиралась его печатать. Я хотела подглядеть и пожить чужим чувством. Поэтому же всматривалась в отношения Василия Привалова и Талы — как это у них? Что движет тем и другой? И Катин роман с Тенгизом я штудировала собственными чувствами и раздумьями. Мне стали интересны даже эфемерные любовные мечтания Фриды Львовны.
Любовь стала темой моей жизни.
Но тут-то и наступил конец света.
Наталья Зонина
Дождь как включили. Да, да, он так и сказал: «Дождь как включили». И еще что-то насчет заржавевшего крана в небесах. Именно так и именно здесь.
Надо же! Может, тут дождь всегда идет таким манером? Особая климатическая зона? А может, дождь хлынул тут, у памятника Грибоедову, специально, чтобы я вспомнила тот, другой.
Как же все было? Кажется, я бегала босиком к метро и обратно, плясала на скамейке… Помню даже, что на мне было синее платье в большие белые горохи… А что чувствовала тогда? Мы, кажется, поссорились, и я была в отчаянье. Вероятно, была. Всякая ссора с Василием становилась трагедией. Я знаю это. Знаю, но чувств не помню. Платье в горохи помню, а что, вернее, как чувствовала — не помню.
— Мадам, а ведь вы рискуете. — Кто-то сзади положил мне руки на плечи. — Такую былинку струи способны смыть сквозь решетку водосточного люка. — Руки подхватили и понесли с бульвара через трамвайные пути.
Я подняла глаза. Меня нес Василий. Я так оторопела, что не смогла произнести ни слова. Только когда мы достигли тротуара, сказала:
— Отпусти. — Но он продолжал держать меня.
— Здравствуй, это я. Ты вспомнила наш дождь?
— Это не наш дождь.
— Этот, может, и не наш. Но ведь был наш. Правда? И ты вспоминала его. И все вспоминала.
— Вспоминала. Только дождь. И больше ничего. Отпусти меня.
Он поставил меня на тротуар. И повторил:
— Здравствуй, это — я. А это — ты?
— Нет, не я. Ты обознался.
Я удивилась сухости тона, каким произнесла это. Он мог подумать, что я все еще сержусь за что-то. А мне было плевать, плевать на его таинственное возникновение из недр ливня, плевать на попытки затеять игру после двухлетней разлуки. И на его руках я не испытала ничего, кроме неудобства, поэтому почти дружелюбно продолжала:
— Что тебя занесло в эти края?
— Знак свыше. Тебя тоже?
— Я к Ксении Александровне иду. Пока. Я уже мокрая до печенок.
— Пока — обнадеживает. Значит, должно быть и потом. Возьми меня к Троицкой.
Он продолжал говорить, но я не дослушав, помахала ему и ринулась во двор.
В медленном, ползущем в поднебесье лифте я думала о странности своих воспоминаний на бульваре. Собственно, это не были воспоминания. Просто поминание факта. Как поразительно меняется наполнение слов от того, что владеет тобой в тот или иной период жизни! Одной приставкой «вос» любовь способна оживить прошлое во всех чувственных подробностях, сделав его почти настоящим. Вос-кре-сить. Вос-создать. Вос-полнить. А когда любовь ушла, все только просто-напросто помнишь или не помнишь, пытаешься создать, наполнить смыслом. И всегда бесполезно, уже не выходит.
— Господи, с вас же течет! — всплеснула руками Троицкая. — Заходите скорей. И быстро — в ванную. Там мой халат.
Обсушенная и обласканная, я была усажена в кресло перед журнальным столиком, на котором уже стояли чашки с чаем, печенье, какие-то сопровождающие предметы.
Что-то изменилось в комнате Ксении Александровны. Сначала я не разобрала — что. И вдруг поняла: со стены пропала ее знаменитая карта с маршрутами редакционных путешествий и автографами друзей. Красочный плакат, изображающий античный театр Иродоса Аттикоса с призывом «Посетите Грецию» тоже пропал.
— Где же знаменитая карта? — не могла не поинтересоваться я. — Где маршруты скитаний? Где автографы знаменитостей?
Она сказала грустно и просто:
— Нет карты. Нет маршрутов. Нет автографов. Ничего больше нет.
Расспрашивать я не рискнула, да она и не дала:
— Ну, что в мире телевидения? Чем заняты? К старому замыслу не вернулись? А что с Приваловым? Он ведь тогда ушел из программы?
Я ответила, как она:
— Нет старого. Нет замысла. Нет Привалова.
— Ну, так уж ничего нет?
— Отчего же, есть. Есть новые программы, есть Ромка Визбор. Есть Дима Раздорский, за которым я, в некотором роде, замужем.
— В том же роде, что и за бывшим ныне Приваловым?
— Нет, в ином, государственно освященном. Впрочем, и Привалов, оказывается, существует на белом свете.
И я рассказала ей о встрече под дождем.
— И что — совершенно чужой, как и не был? — спросила она.
— Именно, как и не был. Он мне безразличнее, чем незнакомый прохожий.
— Неужели так бывает?
— Бывает. И только так. У женщины. Пока она любит, по ней можно ходить ногами. Я ведь не верю, что существуют гордые красавицы, которых никогда не бросали, ни разу не обидели, не унизили. Со всеми бывает, только одни молчат надменно, а другие — все наружу. Но это — пока женщина любит. А если разлюбила…
— Тут уж как у Бунина: «Разлюбила, и стал ей чужой?..»
— И к рецидиву отношений женщины способны только в том случае, если чувства до конца не выветрились.
— А мужчина? — Троицкая как-то болезненно насторожилась.
— Мужчина почти всегда способен на рецидив, даже если разлюбил когда-то.
Троицкая наклонилась и погладила меня по колену:
— А вы ведь и правда знаток и теоретик любовных передряг. Недаром я когда-то вам предложила сыграть в интервью «Любовь и женщина». Помните?
Я вспомнила. Еще во времена правления Василия мы с Ксенией Александровной говорили о наших с ним отношениях, о том, что женщина — вневременное понятие в области чувствований. Она тогда засмеялась:
— Слушайте, Тала, такие суждения достойны фиксации. Давайте я возьму у вас интервью. Никогда не брала интервью о любви.
Сейчас она отыскала в шкафчике для кассет пленку и зарядила в магнитофон. Я услышала наши голоса двухлетней давности.
Вопрос: С вами мне хотелось бы иметь чисто женский разговор. Поэтому, как призывал Пушкин, «поговорим о странностях любви». Василий Привалов избрал вас для своего будущего фильма, называя «типично современной женщиной». Считаете ли вы, что сами особенности XX века предопределяют смену привязанностей, их нестойкость?
Ответ: Привалов как-то оставил у меня заметки к своему фильму. Там выписана цитата из английского психолога Кортни Толла: «Дальнейшее увеличение мобильности и развитие способности быстро завязывать, а затем так же быстро обрывать или низводить до уровня знакомства близкую дружбу приведут к тому, что в будущем каждый данный индивидуум станет завязывать вместо нескольких долголетних дружеских связей, характерных для прошлого, множество более кратковременных дружб». Он относит это к привязанностям любого характера, так как сегодняшнее время пропускает через нас такое количество людей, образов, географических точек, какого прежний человек не знал. И мы не можем противостоять влиянию этого потока.
Вопрос: Да, но это позиция Привалова. А что говорили вы, когда он развивал вам эту мысль?
Ответ: Не знаю, как вам ответить… Во мне иногда поднимается протест против каких-то его утверждений… Но мне так хочется быть созвучной с ним. И потом — ведь это говорит Он. А вы как женщина понимаете, что у человека, которого любишь, есть сила убеждения большая, чем логические аргументы.
Вопрос: Раз уж вы позволили мне говорить о ваших личных чувствах, сказав, что вы любите этого человека, я буду с вами до конца откровенна. Мне кажется, что способность разделять даже заблуждения любимого (а я не могу согласиться с Василием) — верный знак большой, даже ослепляющей любви. Любовь имеет право на ослепление, от этого никуда не денешься. Значит, и «типично современная женщина» проходит через эту «старомодную» любовь.
Вы вот согласились со мной, когда я говорила, что сегодняшняя женщина всегда «сговорится» с Анной Карениной. Что вы имели в виду?
Ответ: А самое простое: женщина всегда женщина. Самая прочная и вечная духовная «конструкция». Вот я опять Васино выражение употребляю — конструкция. И веяния времени, изыскания и предписания социологов ничего с ней поделать не могут. Что, разве в прежние века не было событий и ситуаций, которые, казалось бы, могли уничтожить в женщине ее тягу к любви? Конечно, были. Я вот думаю о шекспировской Клеопатре. Какой мужской силой духа и мудростью прозрения правителя нужно обладать, чтобы провозгласить:
И та же Клеопатра может почти прошептать о себе:
Женщина, и только. Всегда женщина.
Вы знаете, я помню, как-то несколько лет назад у нас на студии показывали фильм «Мужчина и женщина». Недалеко от меня сидела группка девушек-монтажниц. До того я часто слышала, как в монтажной они рассказывали друг другу о своих романах. При всей моей «современности», о которой говорит Вася, я всегда поражалась, как это в двадцать лет можно с таким небрежением говорить о чувствах… И вот выходим мы из зала, и я слышу, как одна, самая бойкая, говорит: «Господи, хоть бы кто-нибудь ради меня проехал за ночь шестьсот километров… Ведь ничего на свете не надо было бы…» Вот вам и вся «современность»… Только вы Васе это не пересказывайте, пожалуйста.
— Ну и как — срок спустя? — Троицкая подняла на меня глаза. Все время, пока шла пленка, она сидела с закрытыми глазами, откинув голову на спинку кресла.
— Все верно… Как хорошо мы разговаривали и как давно я у вас не была. И очень, очень зря.
— Но ведь пришли же. Так слава Богу.
— Пришла. Но если бы не письмо, может, еще бы год не выбралась.
— Какое письмо?
— Я нашла старые письма от Хуанито. Вы помните Хуанито? Он был с вами на Курилах.
— Конечно, помню. Он ведь уехал в Испанию, там у него брата, кажется, арестовали?
— Хуанито в порядке. Брата выпустили, он знаменитый певец, у них роскошная квартира. Он пишет регулярно — то Ромке, то Пал Палычу, то мне.
— Значит, доволен?
— А вот тут не все однозначно. — Я засмеялась, вспомнив об одном из посланий к Ромке.
Ромка в письме к Хуанито воспел нынешнюю шикарную жизнь бывшего нашего звукооператора, который жил в Москве в шестиметровой комнате без мебели. Единственный костюм Хуанито висел на вешалке, удерживаемой неверным гвоздем. Ромка наполнил письмо восклицаниями: «А ныне ливрейный лакей будит его по утрам сообщением, что кофе может простынуть, а вино согреться. Вставайте, сеньор, заря уже купается в Гвадалквивире!»
Хуанито ответил сурово: «Все это ничего не стоит. Они утлые, темные мещане. В Москве с каждой шлюхой можно было говорить о Хемингуэе. А эти…»
Я не стала перелагать Троицкой испанской грусти о цивилизованных московских шлюхах:
— Он, в общем-то, в порядке. Так — интеллигентские рефлексии. А то письмо — старое. Что-то вроде автобиографического рассказа. Наткнулась случайно среди блокнотов. И подумала: вам это должно быть интересно. Ваша тема, жаль, что сразу не привезла, тогда еще, когда получила.
Я вынула из сумки письмо и отдала его Ксении Александровне.
— О чем оно? — Она со странной подозрительностью сдвинула брови.
— Ваша тема. О фашизме. Вам же интересно.
Троицкая отрешенно покачала головой:
— Нет. Не интересно.
— Как? — не поняла я.
— Так. Не интересно. Ни Хуанито, ни фашизм. Фашизм особенно. У меня больше нет темы.
Я растерялась и пробормотав «Ну, если…», стала прощаться.
Хуанито Гутьерес
Склоны дальних гор, замыкавших ущелье, были зелены. Может быть, их покрывали ореховые деревья с еще не пожухлой зеленой листвой, а может, там росли сосны. И сосновая хвоя устилала склоны гор, хвоя, на которой некогда лежал хемингуэевский Роберт Джордан, слушая перед смертью, как сердце его бьется о землю сквозь мягкий хвойный настил.
А тут прямо перед взором громоздился только каменный холм, корявое сращение серо-желтых скал. И на самой его макушке — гигантский крест, сложенный из гранитных монолитов.
Но я смотрел в горы и думал о сосновой хвое, сквозь которую билось о землю затухающее сердце Роберта Джордана. У подножия холма на просторной гладкой площадке округло вставала галерея, изрезанная двумя десятками арок с полуциркульными сводами и топорщившимся в центре порталом, ведущим в Пантеон. Пожалуй, такой галерее больше бы пристало скрывать павильоны целебных вод, а не марсовую усыпальницу.
На площадке толпилось множестве туристов, лениво исполняющих программу путешествия по стране, включающую и посещение этого мемориала — «Памятника Гражданского воссоединения Испании» — Долину павших, Мадрид — Эскуриал — Мемориальный холм. В конце концов каких-нибудь полчаса от Эскуриала на туристском автобусе. По живописным ущельям.
Я думал о сосновой хвое, укутавшей мертвое тело Джордана и еще тысяч республиканцев, о безучастных туристах, толпящихся вокруг, о курортной аркаде, оцепившей этим разъятым хороводом смерть и память, и снова о хвое, сквозь которую уже не услышишь биения затухающих сердец.
Мне не хотелось входить внутрь Пантеона, потому что я не мог представить себе это общение мертвых.
Но я заставил себя пройти через портал и дальше — к лифту, проложенному внутри вертикали каменного креста.
На горизонтальной перекладине помещалась узкая смотровая площадка, куда вела лифтовая шахта.
Теперь взгляд мог перешагнуть через каменный холм и, цепляясь за сутулые горбы уступов, опуститься по ту сторону холма. Неровные, выбитые в камне ступени вели к подножию, где четким квадратом с выступающими вправо и влево зубцами отходящих корпусов лежал монастырь. Серые линии крыш схватывали прямо и строго внутренний двор, разграфленный, точно шахматное поле, на зеленые клетки газонных лужаек.
Сверху долина распадалась просторно, и горы казались ближе, доступней.
Рассматривая квадраты лужаек, стены монастыря, ступени, я поймал себя на пристальности внимания и вдруг понял, что здесь, наверху, меня покинули мысли о кощунственности этого сооружения, мысли, сосавшие душу всю дорогу и там, внизу. Мне даже показалось, что я приехал сюда как один из тех, что вылезали из автобусов, исполняя программу. А вовсе не потому, что хотел собственными глазами увидеть, какова плоть «Баллады о Долине павших».
Именно так называлась песня Пабло Гутьереса, брата. Сейчас песня и голос брата были заперты в плоский ларец магнитофона, и я ощущал их присутствие на ремне у бедра, как нечто живое, осязаемое, доступное общению.
— «Этой ночью мертвые спят в холодной земле Испании», — произнес американец.
Он тоже стоял на смотровой, неподалеку от меня. Я догадался, что говорящий — американец, по акценту, с каким тот выговаривал испанские слова, хотя фраза была произнесена свободно. И еще по этому американскому пиджаку с кожаными нашлепками на локтях. Тут такие не приняты, в одежде испанца больше неутилитарной строгости. Определенно американец.
Но я только метнул взгляд в его сторону и снова отвернулся к горам.
Именно туда, в пространство, он произнес: «Снег метет по оливковым рощам, забивается между корнями деревьев».
Я не знал, как звучат эти хемингуэевские строки по-английски. И на испанский мне пришлось сначала перевести их в уме: я помнил только русский текст. Я прочел это когда-то по-русски, прочел несчетное число раз.
— «Снег заносит холмики с дощечкой вместо надгробья», — продолжил американец. И я закончил:
— «Там, где успели поставить дощечки».
Теперь мы посмотрели друг на друга, и я увидел рядом лицо американца, помятое временем лицо, отечные веки под очками, лицо школьного учителя на пенсии. Лицо тихого провинциального учителя деревенской школы где-нибудь в Орегоне или Оклахоме.
— Но вот успели не только приколотить дощечки, а даже возвести монумент, — сказал американец и засмеялся.
Мне не понравился этот смешок, и я снова зло отвернулся:
— Шли бы они к черту с этим монументом.
Но американец не смутился и, все еще ухмыляясь, сказал:
— Ай да папаша Франко! Ай да мудрец: закопать вместе противников и, примирив мертвых, объявить себя воссоединителем Испании. Титан папа Франко.
— Мертвые не способны возражать…
— Между прочим, — сказал американец, — мне рассказывали, что Пантеон заставляли строить пленных республиканцев. Их сгоняли из тюрем и заставляли таскать эти камни. Может, так оно и было…
— Людей нельзя заставить похоронить память, если они даже вынуждены рыть для нее могилу. — Я не мог понять, кого оправдывает американец и кого осуждает.
— Отчего же, — пожал плечами тот, — и память стирается жизнью. В парке Карабанчель — Луна-парк, а в Каса-дель-Кампо торчит телевизионная башня… Впрочем, вашему поколению ничего не говорят эти имена — Каса-дель-Кампо, Карабанчель…
Эти имена многое говорили мне, хотя я и не был среди тех, кто искал в газетах мира тридцатых годов названия, звучавшие паролем. Я учил их, повзрослев, учил как имена истории, внушающие поколениям возвышенность примера.
— А вам-то они что говорят? — спросил я.
Американец покосился и опять ухмыльнулся, теперь горько, я понял — как.
— Я был бойцом батальона Линкольна, в интербригаде. Мы сражались под Харамой. Именно там, где снег мел над могилами. Могилами американцев, павших за Испанию.
А я думал о павших за Испанию русских. Но в моих мыслях они были нерасторжимы с испанцами, с земляками и родными, потому что сейчас я уже не мог точно определить, какая земля родней мне — Испании или Россия. И чем дальше время уводило от русском земли, тем кровней срастались в душе эти две земли.
— Моя мать погибла под Гвадаррамой, — сказал я, — а отца расстреляли в тюрьме уже в 44-м.
Мы стояли, втиснутые в гранитный желоб перекладины гигантского креста, подвесившего нас над миром, и ветер с гор здесь дул беспрепятственно и остервенело, неся холод с вершин. Ветер лета, холодный, как тот, что мел снег меж корнями оливковых рощ, занося могилы, на которые не успели приколотить дощечки с именами павших.
Мы стояли вдвоем (хотя по смотровой еще разгуливали какие-то люди) — старый американец, похожий на учителя деревенской школы, и молодой испанец, приехавший с другого конца земли. Двое незнакомых людей, у которых были общие могилы близких и общая память, которую нельзя похоронить.
— Там дальше есть еще слова, — сказал я. — «Наши мертвые живы в памяти и в сердцах испанских крестьян, испанских рабочих, всех честных, простых, хороших людей, которые верили в Испанскую республику и сражались за нее». — Я говорил медленно: ведь приходилось в уме переводить русский текст, который я помнил наизусть.
— Вы видели отца перед казнью? — спросил американец.
— Меня переправили с другими детьми в Советский Союз. Но брат Пабло видел. — И тут я снова, точно толчок, ощутил у бедра прикосновение твердого ящика магнитофона, и запертый в нем рулон пленки, и голос Пабло, плотский, осязаемый, как предмет, голос, певший «Балладу о клоунах».
…И клоун влепил оплеуху партнеру, клоун, у которого на голове вместо парика был приделан огрызок старого веника. Парик партнеру было не из чего смастерить, пришлось просто взъерошить черные лохмы. Ладонь у того, что в парике, была вымазана красной краской, и на щеке лохматого отпечаталась алая пятерня. Зрители захохотали, а ребятня просто взвыла от восторга.
Мальчуган лет пяти, сидевший возле Пабло на плече своего отца, все теребил того, допытываясь:
— А это настоящие клоуны, скажи — настоящие?
Наконец отец ответил: «Настоящие».
— А разве у клоунов бывают дети? — малыш не унимался.
Пабло уже исполнилось десять, и он знал, что клоуны эти не «настоящие», но настоящих он никогда в жизни не видел, и в цирке ему еще не довелось побывать.
6 января 1944 года в тюрьму под Мадридом (заключенные так и не узнали, как она называлась, привезли их из тюрьмы Есериас, а как эту звали — черт ее знает) власти разрешили привезти детей.
Почти никто из заключенных не видел своих ребят со дня ареста — значит, пять лет, четыре года, чьи-то родились без них. Жены, оставшиеся беременными, только письмами уведомили о появлении на свет сыновей и дочерей, если удалось переправить письма.
В тюрьму эту франкисты втолкнули и пленных республиканцев, и тех, кто просто подозревался в симпатиях республике. Тут были смертники, ждавшие казни, и еще не осужденные крестьяне. Были многосемейные и молоденькие студенты, не узнавшие даже первой радости женской близости. Но дети сейчас становились их общими детьми, и радость общей, и приготовления к встрече, к этому импровизированному концерту.
Детей впускали по одному, по два, точно их цепочка, застывшая на тюремном дворе, каплями просачивалась сквозь узкую горловину входа.
Дети растекались по обе стороны галереи, раскинувшейся от центра, там на круглой площадке торчала стеклянная будка, заменявшая стол надзирателя, и двигались к камерам. Но уже через полчаса все заключенные врывались в галерею, опрокидывая тюремные регламенты, смешав изолированных за «политическую агитацию» и подследственных, и даже смертников, с которыми всякие разговоры запрещались.
Отец Пабло, Антонио Гутьерес, считался смертником. Пабло оказался единственным ребенком в смертной камере, где, кроме отца, было еще четверо таких же. Тех, кто каждую ночь прислушивался к шагам в коридоре, шагам надзирателя с очередным списком на расстрел.
Концерт для ребят устроили в самой просторной камере: на козлы положили доски, застелили их каким-то тряпьем. Даже занавес изобразили — из сшитых простыней, налепив на него вырезанные из бумаги фигурки персонажей мультфильмов. Вся тюрьма готовилась к встрече, никто не спал в предыдущую ночь. Оттого, когда утром, до прихода ребят, заключенных выстроили в галерее на воскресную мессу, в душном полумраке коридора, скупо высвеченном несильным пламенем худосочных свечей, то тут, то там обмякал в обмороке какой-нибудь заключенный.
Но концерт удался на славу. Клоун с веником на макушке лупил по щекам кудлатого, а кудлатый мазал ему лицо кашей, пытаясь накормить с ложки и не попадая в рот. И все хохотали, и ребятня стонала от восторга.
Пабло так толком и не поговорил с отцом, хотя готовил кучу вопросов для встречи, и отец, наверное, собирался расспросить о многом. Когда они прощались, отец сказал: «Я скоро буду дома, мы пойдем в цирк, и я покажу тебе настоящих клоунов».
Антонио Гутьереса расстреляли в ночь с 6 на 7 января 1944 года. В эту ночь дул ураганный ветер, выламывая фанерные щиты, которыми наспех были заколочены окна камер. Выходить на плац в такую ночь казалось особенно жутко. Хотя это уже не имело значения для тех, кого выводили.
Ветер с гор дул над перекладиной гигантского креста Мемориала павших. Летний ветер, холодный, как тот, что мел снег меж корнями оливковых рощ, и как тот, что выламывал фанерные щиты в окнах тюремных камер январской ночью. Ветер дул беспрепятственно и остервенело, и я, пытавшийся поставить магнитофон на каменный парапет смотровой, вынужден был взять его в руки, чтобы не смело вниз. Но голос ветер не заглушал, напротив, он разносил его свободно и сильно над корявым скалистым холмом и над площадкой у его подножия. Голос Пабло Гутьереса, певца, заключенного, сына смертника. И толпа внизу искала в вышине этот голос, отчего темная пелена волос и шляп, видная мне, вдруг посветлела запрокинутыми вверх лицами.
— «Мертвым не надо вставать. Теперь они частица земли, а землю нельзя обратить в рабство», — сказал американец, когда Пабло допел до конца.
И я произнес последние строчки хемингуэевской эпитафии умершим за республику:
— «Те, что достойно сошли в нее, — а кто достойней сошел в нее, чем боец, павший за Испанию? — те уже достигли бессмертия».
— Там на горах растут сосны? — спросил американец.
Но я не ответил ему, потому что не хотелось говорить, что я тоже думал о соснах и хвое, поднявшись сюда. В совпадении мыслей всегда есть нечто нарочитое или банальное.
— Я спущусь. Пока. Счастливо вам, — сказал я. Когда я уже подошел к входу в шахту лифта, американец снова окликнул меня:
— Когда будете ехать мимо Эскуриала, обратите внимание на быков. Там на лужайке пасутся быки для корриды. Под дубами, смиренные, как стельные коровы. Так странно их видеть щиплющими травку. Обратите внимание.
Ксения Троицкая
Мне действительно было неинтересно. Точнее — я осталась безучастной к прочитанному письму Хуанито, которое Тала, заторопившись, забыла взять обратно.
Еще недавно вселенское зло фашизма было моим личным врагом, моей болью, моей ненавистью. Было великое противостояние: Мемос и это зло. С уходом Мемоса ушло противоборство, и фашизм превратился в абстрактную категорию. Конечно, зло, конечно, угроза истинно живому и праведному. Но, в конце-то концов, мало ли в мире и истории грехов и пороков?
Борьба с ними — или донкихотство, или удел фанатиков. Восстать против неминуемости мировых темных сил? Наивная риторика. Или опять-таки — одержимый фанатизм. А ведь, в сущности-то, Мемос и был фанатиком. Доспехи рыцаря без страха и упрека я сама напялила на него. А он обычный, надо, наконец, понять: обычный. И тем хуже других, что еще декларирует свою избранность: «Я бесправный, я ничего не могу тебе дать». Бесправный, потому, мол, что весь принадлежит идее.
Но на самом-то деле он, говоря это, просто ограждал себя от обязательств. С которыми так просто и расстался. Предал меня и мои одинокие вечера, мою память, мои письма, свой голос. Предал мою, мою отданность его делу.
Впрочем, почему он должен был переживать то же, что и я? К чему обязывал тот, единственный месяц нашей общей жизни? Ну случилось такое со мной. Но он-то… Он мог и не любить меня с той же силой, так всепоглощающе. Это я решила, что он единственный, отличный от всех, что именно он способен на небудничную любовь, у которой не бывает конца.
Да и почему я — та самая женщина, которая достойна особой любви?
Я даже не знаю, какая я, что я такое? Ну, не идиотка. Ну, по утверждению братьев по перу, способная, может, даже талантливая. Ну, не могу предать, не вру. Однако это все данности, не придающие своеобразия. И с внешностью моей та же история: все на месте и ничего, что сообщало бы необъяснимость или объяснимость женской пленительности. Ни Катиной былинной красоты, ни Талиной броской звездности.
Мужчины, всегда окружающие меня, обычно друзья или коллеги. Конечно, я знаю, что если очень захочу, могу понравиться выбранному «объекту». Но я никогда не знала, что такое «сонм поклонников».
Генка, Генка Замков был прав… Наш порхающий легкомысленный Генка просек про меня все точней других.
Как-то я сидела одна в нашей редакционной комнате. Расслабленно и томно возник Генка:
— Кузина, — он всегда изобретал обращения, подобно тому, как Привалов и Визбор изобретали имена, адресуясь друг к другу, — тебя не гнетет одиночество?
— Я не одинока. Со мной полным полно шведов. — Я сочинила комментарий к выборам в шведский парламент.
— А меня гнетет. Я одинок в этом мире бушующем.
— Что так? Очередной роман затянулся всего на полтора часа?
— Еще того кратче. А сердце просит любви. В кого влюбиться? Не подскажешь?
— Влюбись в меня, — тускло брякнула я. Генка сбивал с мысли, я потеряла фразу в комментарии.
— Это невозможно.
— Что так? Чем не вышла?
Непредвиденно он ответил вполне серьезно:
— Ты слишком эталонна.
— То есть?
— Ты — эталон журналиста, эталон поведения, эталон элегантности по советским меркам. Ты и по-женски эталонна, у тебя все как надо и на своих местах. Но, видишь ли, эталоны лишены прекрасных изъянов и зовущих погрешностей. А без них женщина — увы…
Конечно, Генка угадал меня. Так почему такой отточенный эталон мог претендовать на то, чтобы для кого-то стать женщиной жизни? Это не Мемос, а я обманывала, я. Не хотела, не было умысла, просто любила без памяти. Но на деле-то обманывала. Чего ж теперь, когда он все понял про меня, сетовать, негодовать, причитать!..
Генка угадал и не угадал. Эталоны отмеряют ценности незыблемо. А для меня меры добра и зла в мире подвержены изменению в зависимости от личного состояния души, женского, бабьего. Сумасшедшая влюбленность могла бросить меня на глобальные баррикады, а крах в любви обращал полчища враждебных сил в прописные истины пропаганды.
Значит — я эталон с изъянами? А может это и к лучшему. Во всяком случае, если следовать Генкиной теории.
Но ведь мне предстоит снова и снова выносить эти истины на страницы моих очерков и репортажей. Я — раб профессии. Значит — нужно врать? Значит, прав был когда-то Привалов, и мы все надуваем щеки по причине мировой скорби?
Но тогда я не врала, не врала! Все, что я писала, было плодом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Заметы сердца были горестны, мучительны, оттого искренне высказаны. Замет сердца нет больше. А наблюдения ума, прав классик, холодны и истинны. Умозрительны. То есть зримы лишь умом.
И все только потому, что Мемос бросил меня, вышвырнул из своей и моей собственной жизни.
Господи, как я ненавидела его. И как не существовало на свете жертвы, какую я бы не принесла, чтобы его вернуть.
Недели за две до трагического четверга Катя Москвина попросила заехать к ней. Но дома ее не оказалось, и я прошла к Фриде Львовне с непременным визитом.
Кружевные буруны простыней обнимали рыхлое тело в розовом пеньюаре. Французские лиловые тени («карие глаза требуют сирени») еще не свалялись в морщинах нависающих век. Фрида Львовна была вся новая, только что исполненная.
— Входи, детка, входи, — поманила она ладошкой, — Катенька звонила, скоро придет. А мы пока устроим маленький соарет (надо полагать, имелось в виду «суаре»). — Фрида Львовна потянулась к колокольчику.
— Спасибо, я не хочу, недавно ела.
— А я бы выпила кофе с большим престижем (что означало это — Бог весть).
— Как вы себя чувствуете? — задала я дежурный вопрос. Она грустно вздохнула:
— Ах, детка! Какая чувствительность, когда я прикована к постели, как раб к галерее… Вчера-таки приезжал Василий Семенович, ну ты знаешь, ученик Федора Никаноровича. Прелесть! Умник, умник, умник. Лицо — вылитый Ньютон, не отличишь. В точности, как в кабинете Федора Никонаровича. И представь, детка, все время бегал по комнате туда-сюда, туда-сюда. Конечно, это признак. Но что я могу ему дать, кроме любви в молчанку? И все время такие катапульты. (Видимо, катаклизмы). Не хочется жить, конечно, хочется, но не хочется.
Я сделала попытку развеять ее светлую скорбь:
— Перестаньте, дорогая, перестаньте. Вам жить и жить. Все у вас есть. И лучший в Москве дом, и друзья, и Катя. И музыка с вами, такого собрания пластинок ни у кого нет. Я же знаю, что для вас музыка. А ноги? Понимаю, как это трудно, но ведь это не худшая из болезней. Да еще при вашем завидном оптимизме.
— Но у меня уже из-за них никогда не будет нового романа, — с обезоруживающей простотой сказала она.
Я не нашлась, что возразить, я внутренне пришла в смятение от подобного заявления, хотя знала Фриду Львовну не первый год. Считать, когда тебе под семьдесят, а может, и «за» (вопросы возраста были запретны в карельской спальне), что только больные ноги препятствуют развертыванию нового истинного романа! Фантастика. Хотя и жизнеутверждающая.
Может, услышь я такое от какой-нибудь сверстницы Фриды Львовны, я испытала бы даже коробящую брезгливость. Но, ах, как трогательна клоунада, творимая в претенциозных декорациях золотистых комодов и мерцающих атласом пуфиков! И шанжанящих там «в педант» (в пандан), как говорила хозяйка, покрывал.
Что до романов, то после кончины академика, кажется, один-два, и вправду имели место. Все прочее — мечтания, парение грез. А вот — поди ж ты: новый роман! Жажда любви!
Доживу я до таких лет, и слова-то эти припомню разве что с натугой. Парите, парите, милая Фрида Львовна, одесская Изольда, отделенная от придуманного Тристана мечом несознательной хвори. Мне так уютно в ваших эмпиреях или Пиренеях, как, видимо, сказали бы вы.
— Вам нужен роман, детка, без романов жизнь — бездушная каша. Вы молодая, нельзя мучиться о том, чего уже нет. Потому что, если далеко, считай — нет. Катенька тоже мучается о том, чего нет. Смешно сказать: Тбилиси! Тбилиси это Тбилиси, а Москва, наоборот, Москва. — Фрида Львовна протянула ко мне руки. — Вы понимаете, детка, про что я объясняю? Катенька говорит — он гений. Какой разговор! После Алешеньки она может иметь дело исключительно с гением. Ведь Алешенька был выродок. Мне все так и говорили: «У вас сын, Фрида Львовна, настоящий выродок». (Подразумевалось «самородок»).
В передней задребезжал дверной звонок. Фрида Львовна со значением подняла указательный палец, сжала губы в бутончик, воровато подмигнула мне.
Простучали Тоськины шаги — скороговорка, зароились голоса. Я вслушалась, уловила баритональные переливы и все поняла. Катя упорно шла к осуществлению замысла вырвать меня из бесплодной греческой авантюры, как называла она мою нескладную любовь.
Правда, поначалу она восхищалась и сопереживала: «Это гениально! Ты даже не понимаешь, какой любовью благословили тебя небеса, какого человека поднесли тебе. Подумать только: такая жертвенность избранной идее в наше прагматическое время! Рядом с ним наши мелкопоместные устроители жизни, я не говорю, конечно, о Тенгизе, это — мошкара рядом со светильником. А ты любима таким человеком. Это же — конец света». (Тогда она не знала, каким станет для меня конец света).
Но время шло, о Мемосе по-прежнему не было вестей, и Катя заговорила о «бесплотных химерах», об «искусственном расчесывании души».
— Тебе нужен человек. Не фантом, а плоть и кровь. Надо попытаться выбить клин клином. Это единственно эффективный способ.
На роль «клина» она избрала художника Кирилла Проскурова, одного из ее радийных героев-авторов.
Проскуров, обладатель, как говорят в таких случаях, хорошей мужской внешности, не обделен был и довольно резвым умом, и безусловным художническим даром. Все это, разумеется, безликие «эталонные», по Генкиным понятиям, категории. Все при нем, и ничего такого, что хотелось бы вынести в графу «особые приметы». График, правда, он был одаренный. Сужу по чужим высказываниям, сама я мало что понимаю в изобразительном искусстве. Хотя его иллюстрации к «Тилю Уленшпигелю», пожалуй, и верно, не хуже кибриковских.
А может, в нем и таились особенности, требующие заинтересованного всматривания. Однако интересовалась я им не более, чем прочими мужчинами.
Катя взывала:
— Это то, что нужно. К тому же — свободен, вдовец. Не спорю, не поручусь, что у него нет дамы. Какие-то всплывают со дна, но, уверена, пузырьки, пузырьки, не более. Главное, достоен, честен и не лукав. И ты ему нравишься.
Откуда бралось это последнее утверждение — неизвестно. Ничего, кроме обычной мужской галантности в свой адрес, я за ним не замечала.
И вот Проскуров приведен. Целенаправленно, по-деловому.
Сидели, пили чай, болтали. Тоська, как ошпаренная, носилась из кухни в комнату, поднося новые и новые угощения. Приволокла блюдо с крошечными слоеными пирожками, поставила перед Проскуровым:
— Ваш заказ, ваш вкус, Кирилл Петрович. Намедни Катерина упреждала. С рыбкой. Между прочим, ядовитые. Зойка, подружка моя, всегда лыбится: «С ядом у тебя, Тось, пирожки. Как мужчина откусит, так влюбится». Как насчет любви, Кирилл Петрович? — Тоська вздергивала выщипанные брови, облизывала быстрым змеиным языком морковные губы. Она кокетничала со всеми Катиными гостями мужского пола.
— Так я уж давно отравлен и пирожками, и вами, Тося, — разводил руками Проскуров. — Только ради вас и пришел.
Удовлетворенная, Тоська вылетала, кидая в дверях:
— Не обманите. Я девушка серьезная, не прощу.
Проскуров съел три пирожка подряд:
— Сказка! И впрямь хочется влюбиться в автора. А каковы ваши кулинарные дарования, Ксения Александровна, в рассуждении пирожков с рыбой?
— Только с мясом акул. Акул капитализма, как вы понимаете. Служба такая. — Я тоже откусила пирожок.
— Да, служба у вас суровая. Круглосуточная вахта на страже мира, не сходя с классовых баррикад. И, что характерно, бессрочная служба. Капитализм-то, вам ненавистный, все загнивает, загнивает и никак сгнить не может.
— Зато, как говорит мой коллега Гена Замков, запах гниения — пленительный. А мне по роду службы и выпадает внюхиваться в этот аромат. Что и положено солдату армии мира.
— Однако если в армии мира такие очаровательные солдаты, — Проскуров взял мою руку и целомудренно коснулся ее губами, — я готов пойти в волонтеры.
— Что ж, я похлопочу перед начальством, — руку я все-таки отняла.
Таким ни к чему не обязывающим манером и текла беседа. Катя почти не принимала в ней участия, только, как судья пинг-понга переводила глаза. С Проскурова на меня, с меня на Проскурова. Для ее медлительных манер и жестов подобный темп, надо думать, утомителен.
Когда мы уходили, Тоська крикнула вдогонку:
— Не обманите, Кирилл Петрович. Пообещались.
Проскуров, оставив у Катиного подъезда свою «Волгу», проводил меня до дому. Благо, вся дорога — пять минут неспешного хода. Попросил телефон, посулил не надоедать частыми звонками. Я сказала:
— Надоедайте.
Он и звонил. Ненавязчиво, не требовательно, с приемлемой шутливостью. Я говорила: «Да, да, непременно нужно повидаться. Но сейчас — завал работы». Или что иное.
А потом грянул четверг, и наступил конец света. Какой тут мог быть Проскуров?
Тем не менее, я позвонила ему сама. Но это случилось не скоро, очень не скоро. Прошло полгода, год, не знаю, сколько. Счет времени был утрачен.
Вначале, когда я поняла, что произошло, я просто перестала существовать. Я не могла работать с людьми, заниматься домом. Вся моя жизнь была одна неутихающая физическая боль и нескончаемый мысленный разговор с Мемосом. Или с самой собой, которую я пытала: почему?
Постепенно я смогла вернуться к обыденности, и со стороны вряд ли кто мог заметить, что я живу странной двухслойной жизнью. Под ее обычным течением существовал пласт не отпускавшего меня страдания.
Сколько же это могло тянуться? Нужно было найти способы избавления. Я вспомнила о Катином рецепте «клин клином». Я позвонила Проскурову и напросилась в гости.
Кирилл Петрович жил с тещей, матерью покойной жены, но в тот день она была в отъезде.
Глупо было разыгрывать целомудренные прелюдии, лопотать что-нибудь вроде: «Вот заскучала, вечер свободный. Решила, что ваше общество наиболее приятно…» Я сказала:
— Я хочу остаться у вас.
К моему удивлению, Проскуров не выразил буйного восторга, не запричитал: «Я так долго ждал этих слов, я…». Он усадил меня в кресло, встал за моей спиной и долго молчал:
— Не нужно, Ксаночка. Мы с вами не тот вариант.
Я сжалась, не отвечая.
— Нам обоим стоит быть вместе, если мы станем друг для друга кем-то. А пока мы никто. И вам станет только труднее. Катя мне говорила о вашем… — Он не подобрал слова.
— Что за странная формула «кем-то»? — С деланным смешком спросила я.
— Вот — кем-то. Так говорило одно милое существо. Очень точно.
— Так именно из-за этот милого существа вы не хотите быть со мной?
— Нет. Все сложнее. Но, поверьте, я знаю, не я вам сейчас нужен. Такой.
Кирилл Проскуров
Каменный Шекспир высовывался по пояс из прямоугольного проема в стене церкви Святой Троицы, точно утренний горожанин, окликающий зеленщика. Дальше, в нескольких кварталах от этой церкви, неистовый Вильям был другим. Там у его хрестоматийного изваяния несли свой чугунный караул дети шекспировской фантазии: леди Макбет безуспешно стирала — который век — пятна крови с грешных ладоней; Гамлет разглядывал череп Йорика, металлический череп, теперь уже неподвластный тлению; Фальстаф, еще не изведавший предательства принца Гарри, тянул вино из нескудеющего кубка. Штаны на коленях Фальстафа были латаны желтыми пятнами: их отполировали юбки дам-туристок, которые любили фотографироваться в Стратфорде в обнимку с великим вдохновителем застолий. Шекспир со стратфордской площади знал тайны убийств из-за власти, предательств и любви, отмыкающей ходы могильных склепов. А этот, в церкви Святой Троицы, остался навсегда добрым соседом добропорядочных стратфордцев, чтобы иметь возможность высунуться из окна даже после того, как соседи уложили его под каменные плиты церковного пола. В конце концов он ведь и был их соседом, просто соседом.
Что он сказал перед смертью? Какие слова он произнес? Наверное, обычные, случайные слова человека, испуганного необратимостью конца. Конечно, ему и в ум не приходило, что поколения школьников обрекаются на вызубривание этой фразы, а поколения учителей и литературоведов — на ее толкование. Правда, какие же слова? Черт его знает. А ведь и я, наверное, их учил. Факт — учил. Не помню.
А Ната сказала расхожую, много раз до того слышанную фразу: «Смешно: когда умирает муж, остается вдова, а когда умирает жена, остается жених. Правда, смешно?» — и заплакала. Эти слова не были ее последними. Но я не помню ничего, что она успела сказать в три последующих дня, отпущенных ей болезнью. Для меня эта фраза осталась ее предсмертной. В те же три последующих дня эти слова раздражали меня не свойственной Нате банальностью и, может, будь они сказаны не в палате для обреченных, послужили бы поводом к ссоре. Но мертвые получают право на пророчество: любая банальность, когда-то произнесенная умершим, цитируется близкими как афоризм. А в общем, так и оказалось. Теперь, два года спустя, выяснилось, что Ната сказала все как будет, все как есть.
Вчера вечером, уходя, я подошел к Кире, чтобы поцеловать ее на прощание. Она сидела, поджав под себя ногу, где-то в самой утробе огромного кожаного кресла. Слишком огромного для ее маленькой квартиры и похожего на заживо дубленого борова. На журнальном столике перед креслом стояла недопитая чашечка с черным кофе. Теперь в интеллигентных домах есть такой ритуал — все стали заходить друг к другу на чашку кофе. Я кофе ненавижу и приучиться к этим замашкам не могу. Но Кира уверяет, что «без кофе не живет». Ничего, жила всю жизнь прекрасно без кофе. Ничего, жила. Она сказала: «Ну, Проскуров, поезжай в свою Березовку и — создавай. А я буду приезжать к тебе редко-редко. Как на побывку к жениху. Будто ты мой жених. Ладно?»
Я не поцеловал ее, только погладил волосы. Вот одно слово — и опять Ната, и ее предсказания, и все идет к чертям собачьим.
Я не могу больше об этом думать. День за днем я отучаю себя думать об этом. Но весь мир пойман, как косяк рыбы, в сеть ассоциации, и я бьюсь где-то в сердцевине. И не могу разорвать узелки, которые завязываются то и дело на ее словах, на ее движениях, на предметах, тронутых ею.
Я не буду думать об этом. Я буду думать о Шекспире и своей недавней поездке в Стратфорд-на-Эйвоне. Я хочу написать их и о них, и они уже складываются в облики, в звучание фраз, и я чувствую их уже, как одежду, перестающую быть театральным костюмом, обминающуюся на сгибах локтей и коленей морщинами повседневности.
В кладбищенском дворе церкви Святой Троицы старые камни надгробий топорщились подобно выщербленным плиткам серой черепицы и беспомощно кренились в траву, траву безучастия и запустения. Я не раз наблюдал это небрежение на английских кладбищах, и поначалу оно меня удивляло. Мое литературное представление об английской патриархальности не оставляло места для подобного отношения к родственным корням. Мне так нравилась духовная цельность англичан и ясность их представлений о мире. Казалось бы, такой статус требует прочно оберегаемых знаков предшествующего. Но позднее я понял, что небрежение к могильном аксессуарам часто дает возможность сохранить бессмертие тому, что единственное и вправе рассчитывать на бессмертие, — человеческой душе в ее битвах за истину. Шекспир сплошь и рядом даже не давал себе труда похоронить погибшего героя. Могилы Гамлета и Лира могут остаться придорожными холмиками, люди все равно веками будут отстаивать право думать над загадками, мучившими их.
Свой альбом стратфордских рисунков я непременно хотел предварить собственной статьей. Но я знаю, если я когда-нибудь напишу об этом, на меня кинутся сотни знатоков английских погребальных ритуалов, чтобы доказать случайность моих наблюдений. Кира — первая. Она терпеть не может «приблизительных знаний». Пусть, пусть. Из меня этого не вырвешь. Я узнал что-то для себя и не собираюсь хвататься за прочную бечевку достоверного. И так уж… Да, когда я вдруг начинаю покрываться холодной испариной от ужаса, что никакой я, к черту, не художник (наверное, такое со всеми бывает, но от этого тебе не менее страшно), я знаю, в чем тут дело. Крепнущая отвычка от собственного мировосприятия. Разучиться проводить точную карандашную линию или угольный штрих нельзя. Это как езда на велосипеде. Выучился — и через двадцать лет поедешь Потренируешься и поедешь. А вот разучиться думать — самому! — чувствовать — самому! — видеть — самому!.. Это сколько угодно, за причинами дело не станет. Кажется, насчет Гамлета и Лира — это я слабовато, а?
Ничего, ничего… Вот снова вхожу в мир тишины, где все предметы зримы и имеют значение. И я буду разглядывать их и слушать, и что-то внутри томительно зазвенит, и это будет то, что нужно, чего ждешь и не можешь дождаться в московской неразберихе. Конечно, подмосковный дачный поселок не Болдино, а побег в уединение средствами пригородной электрички не очень смахивает на уход в скит…
Оттого что улицы и участки за хилыми ребрышками штакетника были завалены непорочными холмами снега, рождалось ощущение стойкого порядка. Мир не был заброшенным, забытым под этими белыми грудами, напротив, он казался обжитым и прибранным, как комната педантичной вдовы.
Странное дело это — зимние заколоченные дачи!.. Помню, во время войны я шел по улице разбомбленного Ростова-на-Дону. Коробки домов были целы, но лишены внутренностей, как бывают лишены пластмассовые манекены в витринах теплоты живого тела. Такой причудливый некрополь, город мертвых, силящийся уподобиться поселению живых.
Скопище заколоченных дач не наводило на мысль о некрополе. Казалось, за заборами, окнами и дверями еще живут чьи-то голоса, недавние ссоры и ревнивые признания. Будто их владельцы покинули дома, замуровав в них бесплотные запахи жизни, а жизнь эта непременно была полна тех страстей, волнующей остроты отношений, к которой мы все стремимся и которая всегда чья-то, не твоя.
— У Феньки на заду бубенчик будет. Как начнет заваливаться — зазвонит…
Фраза была довольно нелепая, да и взяться-то ей было вроде неоткуда. Голосок, отчетливый, школьный, возник справа. Там у заборчика стояли мальчик и девочка, она приторачивала к детским санкам огромный бидон. На веревке, охватившей его ржавое тело, висела связка каких-то железяк. Я подошел.
— Здравствуйте, — сказала мне девочка и варежкой отодвинула со лба челку. «Здравствуйте» совсем не было выражением нашего знакомства, просто знак сельской вежливости. Однако произнесла она это так, словно и впрямь меня знала.
— Я поехал, ма. — Мальчик потянул санки.
— Если у станции не будет, поезжай в Глухово. В сельпо всегда керосин есть. Поезжай-поезжай, не лентяйничай. — Она похлопала его по спине. — Но-о, коня-га! — И залилась смехом.
— Кто же такая Фенька? — спросил я.
— Фенька — наш бидон для керосина, есть еще поменьше — Сенька, для молока, и Дунька — махонький, для масла растительного.
— А как зовут мальчика и девочку?
— Мальчика — Витя, а его мамашу — Зина.
Она снова залилась смехом, откидывая со лба челку быстрым и вкрадчивым движением. И именно этот жест, очень женский, заставил поверить, что девочка — Витина мать. Все остальное в ней — кургузые резиновые сапожки, коричневое пальтишко на огромных пуговицах и даже лицо-блинчик, какие рисуют художники-иллюстраторы детских книжек, «точка, точка, два крючочка», — все было безнадежно инфантильным.
— Вы у Прохоровых снимаете? — спросила она, и сама ответила: — Я знаю: левый низ с кухонькой. А мы тут постоянные, зимники. Вот зайду как-нибудь соль-спички попросить. По-соседски. В деревне все соль-спички одалживают. Просто зайти неудобно, а тут вроде предлог.
И снова проступила в ней женщина: произнесла это Зина не с детской непосредственностью, а с нарочитой бойкостью бывалой бабенки.
— Гостям рады, — сказал я, хотя вовсе не хотел в Березовке никаких общений.
— Пока! — Она махнула варежкой. — У меня смена, я в Москву. — И побежала, впечатывая в тропинку серые, с круглыми подошвами, как звериные лапки, сапожки.
Дело шло к закату. В чистом, отстиранном полотнище неба растекались розовые и лимонные потеки. Ели, напитанные тяжелой зеленью, тут и там мазали небосвод. Еще минута — и с елей на небесный простор поползла зелень, точно деревья линяли в едком растворе воздуха. Я смотрел на эти оплывы цвета где-то надо мной и передо мной и ждал, что вот-вот у меня тревожно заноет под ложечкой, как бывало всегда раньше, когда я видел что-то прекрасное, требующее душевной «поимки». Но миг этот не приходил. Просто видел и видел. Значит, если даже точно запомнишь, на холсте виденное не обретет второй жизни.
Зина постучала в окно. Я уже за эти три дня забыл и встречу на тропинке, и ее посул зайти «за солью-спичками», но сразу понял, что это она. Дробный стук очень смахивал на бойкую Зинину скороговорку.
— А вы уж и коробок сразу вынесли. Это чтобы я дальше не шла?
Я действительно держал в руке спички: как раз растапливал на ночь печку.
— Но соль в комнате. Придется войти. — Я взял ее за руку и перевел через порог.
Зина сняла пальто, села на табуретку у моего рабочего стола (в летние месяцы хозяйского обеденного). Я извинился — сейчас вернусь, только покончу с печкой. Печка выходила дверцей в соседний закуток, именуемый Прохоровыми прихожей, В спину мне Зина сказала:
— А вам идет свитер. Фигура выигрывает. Вы в костюме не ходите.
— Это вы меня в костюме не видели. Знаете, какой красавец! Глаз не оторвешь. — Я дунул в печку.
— Почему это не видела? Я вас во всем видела. И в костюме, и в плаще югославском — такой шанжанистый, да? И в плавках видела. В Серебряном бору. Точно!
— Ну и как?
— Ничего, фактура есть. Но в свитере лучше. Сорокалетние мужчины даже с хорошими фигурами в прикрытом виде лучше смотрятся.
— У-тю-тю! — Я поддел лучиной поленце, однобоко тлеющее на вершине деревянной горки. — Какой спец по сорокалетним мужчинам! Но мне больше: уже с хвостиком.
— Спец не спец, а жизнь повидала. Слава Богу — двадцать восемь лет. К тому же мать-одиночка. Пять рублей в месяц с государства — Витьке на книжку. Когда с армии придет, однокомнатную квартиру ему построю. — Она произнесла все это залпом, с привычным вызовом и вдруг по-другому, деловито закончила: — Если, конечно, московскую прописку пробью ему.
Бронхитный кашель, возникший где-то в глубине тлеющей поленницы, разорвал невидимый барьер, и пламя вырвалось из заточения, охватило дрова. Печка «взялась». Можно было войти в комнату, но я не знал, с чем прийти. Какого черта я поддержал этот развязный разговор, толкающий к дальнейшей двусмысленности поведения. Совсем этот шустрый взрослый подросток не вызывает, так сказать, крамольных инстинктов, и нечего было гарцевать: «Ну и как?»
Все-таки я вошел и прижался спиной к печке, еще таившей утреннее тепло. Зина сидела, упершись пятками в перекладину табуретки, натянув на колени подол огромного бесформенного свитера.
— Вам тоже идет свитер. — Надо же было что-нибудь сказать. Она закатилась в хохоте:
— Не подходите — укушу! Он собачий. С нашего Тарзана. Мы с Витькой его год чесали. Тарзана, конечно.
— А сколько Вите лет?
— Одиннадцать.
Мы помолчали, и Зина, свесив набок челку, хмыкнула:
— Считаете, сколько мне лет было? Точно. Семнадцать. Он тоже тут, в Березовке, жил, тоже зимник. Я тогда уже без родителей была. Вперед хотел на мне жениться, а когда с армии пришел, уехал и адрес не прислал.
— И совсем вам не помогал?
— He-а. А, пускай… Он же меня не совращал, я же его сама любила. Пусть. Сами проживем. Это нам ничто иное.
Пожалуй, для первых пятнадцати минут визита биографических подробностей было многовато. Я сам как-то не умею вытряхиваться перед первым встречным, и нежданная откровенность другого меня тоже раздражает. А о чем я с ней мог говорить? О Шекспире? Вот уж тут точно «что ей — Гекуба?»
— Давайте ужинать, — сказал я.
В день отъезда в Березовку теща моя Елизавета Венедиктовна вошла в мастерскую со свертком: «Вам, Кирилл, просили передать пакет. Какая-то женщина. Она ни за что не хотела входить. Странно». Я развернул газету — сверток содержал мороженое сало, банку соленых огурцов и бутылку с самогоном, заткнутую бумажным пыжом. А также записку «Опрощайся по всем статьям. К.» Кира любит «стилистические изыски», как она выражается. Где она самогон-то раздобыла? Сейчас этот нектар будет, пожалуй, в аккурат.
— Давайте, — сказала Зина. — И выпить у вас найдется?
— И выпить найдется.
Я принес из сеней сало, хлеб, огурцы, самогон и два стакана.
— Пошли сядем у печки, — предложила Зина, — будем смотреть на огонь и выпивать. Пошли, а?
…Полчища крохотных синемундирных воинов брали приступом крепость полена. Осажденные, там, по другую сторону ало-кирпичной от пламени стены, мелкими перебежками пытались занять стратегически выгодные позиции для обороны. Почему-то именно неприрученные стихии — огонь, вода, ветер — чертят в сознании эскизы людских действий. Их жесткая схематичность бывает точнее доскональной картины события, развернувшегося на твоих глазах. Я подумал о «Короле Лире» в постановке Питера Брука. Графический, почти скудный лаконизм декораций высвобождал человеческие страсти из хламид повседневности. Страсти очищены, они выпадают на дно зрительного зала, точно кристаллы в прозрачном растворе. «Долой, долой с себя все лишнее!» — сам Лир сдирает с тела одежды, прорываясь к прозрению мира в его истинности. Это в сцене бури. Не знаю, бури ли елизаветинского двора диктовали Шекспиру диалоги этой сцены. Может быть, обычная деревенская гроза, застигнувшая в пути театральный фургон, наметила чертеж бури, расколовшей лировское государство и лировскую душу. Стихия была не символикой, а графическим прообразом.
— Долой, долой с себя все лишнее! — сказал я вслух.
Зина вздрогнула, покраснела и как-то затравленно выглянула из-за кулисы прямых, падающих к поднятым коленям волос.
Я захохотал.
— Нет, король Лир призывал к иному.
— Мы записывали «Король Лир». Радиопостановку.
— Где?
— Как то есть где? На работе. Я же звукооператор на радио. — Она отвернулась, снова уводя глаз и круглый холмик носа за кулису волос. — Вы думаете — я уж совсем серая. И «Король Лир» не слыхала. В виде — девушка из предместья.
— Кто вас так называл?
— Называл. Один. Ладно, выпьем за Зинкину серость. — Она ткнула в мой стакан боком своего. Стакан она держала растопыренной короткопалой пятерней, точно дошкольник кружку с молоком. Однако отпила только глоток. — Вообще-то точно. У нас все девчонки культурнее меня. А вот режиссеры всегда ищут: где Зина, где Зина? Потому что я на один слух могу поймать букву и одну нотку вырежу, и в наложениях у меня никаких чихов не бывает. Иногда на четырех аппаратах сразу работаешь, а все — тип-топ. Пусть Даже пять, это нам ничто иное.
Что-то жалостное было в Зининой хвастливой отваге. Я обнял ее, и она, приткнувшись к моей подмышке, совсем исчезла под рукой. Я переложил стакан в левую руку и выпил все. Потом я поцеловал ее в губы. Сначала она не сопротивлялась, но внезапно отдернула голову и затрясла челкой:
— Не надо, не надо, Кирилл Петрович, не надо…
Но мне уже не хотелось отпускать ее. Я плотнее прижал к себе маленькое угловатое тельце.
— Ну почему? Ну почему?
Она вырвалась, и я увидел, что у нее светлые-светлые глаза. Они точно вынырнули из-под челки, жалобные и испуганные.
— Потому что я вам никто. А вы мне — кто-то. Если бы вы мне тоже были никто…
Потом глаза ее стали еще больше и светлее, потому что в каждом возникло по слезе.
— И смеяться тут нечего.
— Я не над тобой.
В общем-то, я не врал. Я улыбнулся потому, что мне показалось забавным — она так подробно отвечает на этот сакраментальный вопрос «ну почему?». Все мужчины всегда лопочут в такие моменты это самое «почему» вовсе не в расчете на разъяснения. Вопрос, так сказать, риторический. Женщины, с которыми я был связан, отлично это понимали. А она пустилась в объяснения.
— Надо мной, — сказала Зина убежденно. — Вы же не разговариваете даже со мной. Вы со своими мыслями разговариваете. Ведь верно?
— Верно, — сказал я.
— Я пойду.
— Иди. Приходи как-нибудь. За спичками.
Когда она пробегала мимо окна, глухой стук ткнулся в стекло: видимо, Зина задела ветку, и та швырнула в окно снегом.
Наконец приехала Кира. Я говорю «наконец» совсем не потому, что так уж не мог дождаться ее. Но я знаю, что она выжидала две недели и высчитывала дни, чтобы получилось подольше. Кира изо всех сил старается не быть обременительной и то и дело дает мне почувствовать, что ее присутствие в моей жизни не только не мешает моей работе, напротив — побуждает к творчеству.
Ната никогда не задумывалась над тем, обременяет она меня или нет. Она могла месяцами даже не спрашивать, над чем я работаю. Не интересовалась — и все. Я усматривал в этом безразличие к моему делу, непонимание и злился. А иногда она вдруг входила в мастерскую и начинала тасовать листы эскизов, удивленно подняв брови. Причем эта бывало в особенно напряженные моменты. И я опять злился. «Ну что, не подходит?» — спрашивал я мрачно. Она пожимала плечами: «По-моему, все это — мадам Литература». Мы начинали ссориться, но через час она уже как будто не помнила ни о своем отношении к рисункам, ни о ссоре. Однако фраза вроде «мадам Литература» оставалась где-то внутри меня, и я начинал работу сначала. Хотя и уговаривал себя, что это дилетантские бездумные словечки. Но теперь я понимаю, что не Натины замечания имели значение для моей работы. Какая-то первозданная естественность ее поведения подсознательно передавалась и мне. А вероятно, естественность ощущений и есть самое необходимое для художника.
— Мы пойдем гулять, — сказала Кира.
На ней была новая куртка с капюшоном, отороченным рыжей лисой. Почему-то я знал — куртка готовилась специально для этой поездки. Она ей действительно шла: лицо выглядывало из мехового ореола как хорошенькая мордочка лисьей горжетки. На мордочке поблескивали черные пуговки-глаза. Я уже было собирался похвалить капюшон и пуговки, но в этот момент Кира взяла щепотку снега и посыпала на мех, чтобы я обратил внимание на куртку, и я ничего не сказал.
Сумерки упрятали дачи куда-то глубоко-глубоко за заборы, и улица притаилась.
— Ты был прав, решившись на побег, — сказала Кира. — Тут так мертво, будто никогда и жизни не было. Мы с тобой одни живые в мертвом поселке. — Она, привстав на цыпочки, прижала лоб к моей щеке. — И теплые.
Я поцеловал ее и подумал о том, что заколоченные дачи вызывали у меня совсем иные ассоциации.
У дороги стояла крохотная обледеневшая избушка, прикрывающая колодец. Поникшие, сползающие сосульками крылья ее крыши, какие-то нищенские и бездомные, вызывали щемящее чувство жалости, как деревни, обездоленные войной. Именно эти деревни и возникли сразу передо мной, особенно та, на Смоленщине. Кира опять прижалась ко мне лбом и шепнула:
— Мы с тобой такие теплые, что можем жить в ледяной избушке. Давай будем в ней жить. — Она подбежала к колодцу, подтянув меня за руку, и нагнулась вниз, в сруб, откуда дышал нестойкий пар. — Каждое утро мы будем просыпаться и говорить… — Она крикнула вниз, воде: — «Я люблю тебя, Кира»… Повторяй. Ты можешь это повторить?
Я сказал в черную многоголосую утробу:
— Я люблю тебя, Кира.
— Мы очень созвучные, у нас даже одинаковые имена. У нас одно эхо, — сказала она, нагибаясь еще ниже.
Я вдруг увидел себя и Киру таких, какие мы есть сейчас, на околице той, давней послевоенной деревни. Собственно, какая околица могла быть у одинокой, оплывающей сосульками избы, заменяющей целое село. У избы вертится мальчуган в женской городской кофте, натянутой поверх каких-то лохмотьев. А мы кричим ему о созвучии наших имен и общем эхе.
Разумеется, сцена эта была нелепой. В те времена, когда я шел с войны, никакой Киры со мной не было, и не могла она иметь отношение к той моей жизни, как и смоленская деревня была ни при чем здесь. Но почему-то это, примерещившееся, казалось реальным, а нелепыми были мы нынешние и наше литературное объяснение в жерле колодца двадцать лет спустя.
— А теперь — домой, домой, домой! — засмеялась Кира. — У нас еще впереди твой Шекспир. Я тебе привезла второе издание Козинцева.
Пока я возился, собирая ложки-плошки к ужину, Кира лежала на тахте (точнее — матраце, водруженном на четыре кирпича) и листала книжку.
— Смотри, еловые ветви со снегом лежат на подоконнике как собачьи или волчьи морды, — сказала она.
Я посмотрел на окно, ответил: «Да, похоже» — и подумал: «Странное дело — вот если Кира подруге или я приятелю вздумаем рассказывать о сегодняшнем дне, все будет очень здорово. Прогулка по пустому сумеречному поселку, объяснение в колодце, потом разговоры о Шекспире, а потом ночь, когда можно вдвоем лежать и слушать, как трещит печка, и в окно заглядывают волчьи морды».
И это — прекрасно.
Все правда. И все неправда. Потому что Кира все эти две недели сорок раз придумывала распорядок этого дня, в котором должны были присутствовать и нелепости, и интересные разговоры, и эта ночь. И сейчас мы выполняем программу.
Я всегда понимал Кирины замыслы, понимал, что продиктованы они желанием быть мне интересной, желанной. Я понимал, что она любит меня. И я никогда не злился на нее, как некогда злился на Нату. Я очень хотел любить Киру. Ведь все, что она делала, было мне действительно мило и интересно. Я очень хотел любить ее. А Нату я просто любил, хотел или не хотел — любил.
— Подойди, пожалуйста, — позвала меня Кира.
Когда я нагнулся к ней, она сделала стригущие движения двумя пальцами над моими волосами, шепнула:
— Вот так мы подстрижем твои черные кудри, чтобы ты был у нас модный-модный. — Потом поцеловала меня в губы.
Программа шла своим чередом. Но я знал, что прежде чем мы окажемся вместе, мы еще должны будем поговорить о Шекспире.
— Что это за книжка у тебя? — спросил я.
— Однотомник Конрада. Я тут делала глоссарий. При твоей темноте поясняю: глоссарий — это толковый словарь к тексту.
Я действительно не знаю, что такое глоссарий. Я не знаю, что входит в функции редактора классической литературы. Кирино издательство выпускает классику. Как это ей удается подредактировать Стендаля или Твена? Или Шекспира? Не хочу я говорить о Шекспире. И дальше — ничего не хочу. И я не могу объяснить Кире, что это вовсе не оттого, что она мне не желанна. Я не могу выполнять ритуал. А у нас все складывается в ритуал. Но ни одна женщина не поверит, что мужчину покидает желание именно от этого. Для женщины существует одно-единственное объяснение: он не хочет — он не любит.
Зачем она листает эту книжку? Она же знает ее наизусть, раз она редактор и делала глоссарий. Чтобы я заметил, что она редактор такой вот книжки и делала глоссарий? Мне вдруг стало жалко Киру: бедняга, шила куртку, делала глоссарий, придумывала, что и как тут будет.
— Ты моя ума палата, — сказал я и тоже поцеловал ее. В этот момент в дверь постучали. Я открыл и увидел Зину.
— Ой, у вас гости — Зина сразу обнаружила точным женским глазом Кирину куртку, висящую в прихожей.
— А вы разве не гость? Вполне прекрасный-распрекрасный гость! — Я очень ей обрадовался: все-таки ее приход нарушил ритуал. — Только редкий гость. Обещали за солью-спичками приходить — и нет как нет.
Зина подозрительно взглянула на меня и серьезно сказала:
— Смех.
Я снял с нее пальто и прошел за ней в комнату. Протянув Кире ладошку ложечкой, Зина сказала:
— Будем знакомы. Зина.
Кира улыбнулась:
— Полонская. Будем.
Зина уселась в своей обычной позе на табуретку, натянув подол свитера на колени.
— Я, между прочим, вам, Кирилл Петрович, одну пленку принесла. «Король Лир», кадр насчет одежды. Вы, кажется, интересовались.
Я захохотал: сюжет замкнулся на Шекспире совсем неожиданным путем. И ритуал так и не нарушился.
— Вот мы и затеем шекспировский вечер, — я очень развеселился, — будем пьянствовать. Старик Шекспир как раз и умер с перепою. Надрался со своим другом Беном Джонсоном — и отдал концы, бедняга. Зато весело отдал.
— Нет, правда? — восторженно спросила Зина. Кира отшвырнула книжку и поморщилась.
— Кирилл Петрович любит сомнительные источники. А иногда и сомнительные знакомства. А когда они неуместны, ему не хватает одной добродетели для их пресечения — мужества. Между прочим, Платон считал эту добродетель низшей. Видимо, наиболее простой и естественной.
Слава Богу, Зина не могла понять, о чем она говорила. Но меня передернуло. Чтобы увести разговор, я сказал с нарочитой непринужденностью:
— Это сплетни, Зинуша. Шекспир был отличный мужик, хотя и соблазнил свою супругу до брака. Это тоже сомнительно, товарищ редактор?
— Отчего же, книга записей в церкви Святой Троицы подтверждает твои сообщения. Первая дочь родилась через полгода после свадьбы.
— Полюбил, значит. А любовь все спишет. Неверно? — Зина в упор посмотрела на Киру.
— Кстати, в этой книжке у Козинцева есть великолепный абзац: для Шекспира естествен гул продолжающейся жизни после единичной кончины. Знаешь, — вся речь была обращена только ко мне, будто Зины не существовало, — по моему, это нужно сделать главной мыслью твоего шекспировского альбома. Именно его жизнеутверждение. Это сейчас прозвучит особенно в жилу.
Ничего «кстати» в этом монологе не было, просто Кире хотелось продемонстрировать, что Зина тут лишняя, не соединенная с нами общими интересами, общим пониманием. Но Зина слушала внимательно и прилежно, отчего мне стало бесконечно жаль ее.
— Зинуша, хозяйничайте. Вы же тут все знаете, — сказал я. Пусть Кира думает, что Зина у меня старожил. Раз так, пусть думает.
— Ладно. Раскинем ваш сервиз. Все в сенях?
Спрыгнув с табуретки, Зина побежала в «прихожую», притащила стаканы, единственную тарелку и тихонько свистнула:
— Помянем раба божьего Шекспира. Чтоб лежал — не дремал, нас вспоминал.
Кира сделала вид, что ни я, ни Зина ничего не произнесли:
— И еще — ты это подчеркни во вступительной статье — нужно противопоставить историческую определенность и жизнеутверждение Шекспира зыбкости современной западной драматургии. Особенно Беккету. Возьми «Лира» и «В ожидании Годо». Это есть, между прочим, у Уэста. Я же тебе давала ту книжку.
Уэст меня тоже заинтересовал при чтении. Мне показалось точным его соображение относительно того, что ожидание Годо, который так и не приходит, обретает драматизм, способный волновать сердца только в том случае, если тот, кто скорбит об отсутствии Бога, убежден, что некогда Бог существовал. Я даже запомнил текстуально: «Бессмысленность религии воспринимается как утрата того, что было в прошлом реальностью». Но заговорить сейчас об этом я не мог — это было бы предательством по отношению к Зине.
— Для вечера и водки это что-то слишком мудрено, — произнес я уже с раздражением.
Но неожиданно Зина, потянув вниз подол свитера, смешно дернула головой, точно выныривая из-под воды, и залилась своим дробным смехом.
— А теперь пейте-гуляйте. Я пошла. — Она взглянула на меня, точно оправдываясь. — Верно-верно, меня Витька ждет.
Когда хлопнула дверь, я сказал зло:
— Зачем нужно было обижать ее? Перед кем ты выпендривалась?
Кира сорвалась с тахты, обхватила руками мою голову и заговорщицки зашептала:
Сухими сомкнутыми губами она прижалась к моим. Но я вывернулся:
— Брось. За что, главное, ты ее?
Кира снова села на тахту, и веселая лихость сменилась в ее голосе пренебрежительной иронией:
— Ты, кажется, слишком всерьез принял мой призыв к опрощению? К самогону и огурцам прибавился романчик с подмосковной кассиршей! И давно ты с ней спишь?
— Ну о чем ты говоришь? — сказал я без энтузиазма. Кира бросилась в «прихожую» и стала натягивать куртку. Я видел, что она возится с застежкой намеренно долго, чтобы я успел ее остановить. Когда она выскочила на улицу, я все-таки крикнул для порядка: «Кира!» — и лег на тахту.
«Виновных нет, поверь, виновных нет…» Единственная фраза, застрявшая где-то в мозгу, вращалась, как картинка, прикрепленная к кольцу, методически проходящая перед глазами.
«Виновных нет, поверь, виновных нет…»
Чтобы вырваться из тупого заклинания этих слов, я произнес вслух:
— Это Шекспир сочинил? — спросил от двери Зинин голос.
— Шекспир.
Она подошла и прямо села ко мне на тахту.
— Я знаешь, почему пришла? Потому что я тебе кто-то стала. Я увидела. — Зина пальцем что-то написала у меня на лбу. И как по секрету сообщила: — А на нее ты не обижайся. Она замуж за тебя хочет, вот и старается. Ты не обижайся.
Мемос Янидис
Муравей бегал по потолку с суетливой озабоченностью бездельника, имитирующего деловитость. Конечно, имитирующего: безжизненная пустыня больничного потолка не могла обеспечить его материалом для строительства муравейника или какими-то запасами пищи. Но он сновал и сновал, наращивая темп.
Примитивность ассоциации была очевидна, но именно таким муравьем представлялся я себе со всеми бесплодными попытками найти дело и место в жизни, куда бы я был выпущен. И от этого было не по себе, тоскливо ныло под ложечкой.
Муравей добегал до стены и, не решаясь спуститься, кидался в обратный путь. Интересно, как он умудрился забраться на потолок? Почти месяц потолок оставался единственным доступным мне зрелищем. Первый месяц пребывания в клинике Апостолоса Захариадиса, куда он уложил меня, добившись освобождения из лагеря. Я долго не знал, как это ему удалось. Потом уже Елена рассказала мне. Захариадис, близкий друг моей юности, знаменитый хирург, владелец крупной клиники и при «полковниках» оставался светилом. Однажды он спас от смерти жену одного из полковничьих главарей, и когда счастливый муж в неразумном великодушии заявил: «Я ваш должник до гроба. Просите любое вознаграждение», Апостолос попросил освободить его друга, меня.
Захариадис рассказывал — само признание дружбы с политзаключенным могло обернуться для него любыми репрессиями. Однако все сложилось, как в сказке о чудовище со щедрой душой. Апостолоса не только не посадили, но и меня выпустили.
Занятно. Два Апостолоса сопровождали мою школьную юность. Вторым был Цудерос. Нет, конечно, не вторым, а первым. Он был моим кумиром. Привязанность Захариадиса принимал я. Принимал с небрежным великодушием, с каким Цудерос принимал мое восторженное обожание. Цудерос ответил мне двумя десятками лет моего заточения, Захариадис — освобождением.
Он разыскал меня в лагерной больнице, где я лежал после очередного избиения. Что было глупо — подставить себя под сапоги надзирателей глупо. За столько-то лет лагерной жизни можно было навостриться. Знать, как с ними держаться. А я, дурак, все срывался, лез куда не надо.
Отмахали они меня, не скупясь. Еще месяц в клинике я мог лежать только на спине, созерцая потолок. Последние три недели я уже вставал, даже блуждал по больничному коридору, но привычка спать на спине осталась. Один на один с бездельником муравьем, внушавшим мне страх перед жизнью.
Это страшно. Ведь первый раз, после гораздо более долгой отсидки я довольно быстро освоился со свободным миром. Может быть, именно потому, что свобода-то не только моя, а общая правила тогда бал в Греции, были живы многие друзья, мать. Мне было не так сложно отыскать в Афинах город моей юности. Тот город выглядывал из переулков, огибая новые здания, он выходил навстречу перекрестками и сквериками, носившими для меня имена былых сражений и явок. И даже тротуары кое-где сохранились те же. Тротуары, вымощенные телами тех, кого мы любили. Тогда я повторял строки Янниса Рицоса:
Теперь я Рицоса не вспоминал.
Сегодняшняя моя свобода знаменовала только независимость от тюрьмы. Мир за ее пределами был миром несвободы, и я не знал, как в нем жить. Приспособиться к новым порядкам я не умел, а продолжать то, чему были отданы годы?.. С кем? Как? Кто еще остался верен нашему делу?
На этот раз я пробыл в лагере всего три года. Но почему-то эта отлучка из жизни «по ту сторону» выработала неодолимое отторжение от всех, живущих вне тюрьмы. Я разучился понимать их, общаться с ними, я чувствовал себя пришельцем из миров, где иной язык и иная система чувствований. Только с муравьем, снующим по пустыне потолка, мы были на равных.
Даже с Захариадисом, к которому я был обязан чувствовать благодарность, я разговаривал, как с существом потусторонним. Собственно, произносил-то я нормальные слова, нормальным голосом и даже улыбался в нужным местах. Но слова не становились средством обмена размышлениями и ощущениями. Им требовался некий внутренний переводчик, которого не существовало.
Да еще сам облик, рисунок вторжений Апостолоса в мою палату усугублял непререкаемость чужого, нахождения Захариадиса в мире со шкалами непонятных мне ценностей и ощущений.
Сквозь приоткрытую дверь палаты, а палата моя располагалась в торце коридора, мне было видно, как надвигается Захариадис, вонзаясь в узкое пространство, минуя строй дверей, иногда исчезая за одной-другой и продолжая стремительное движение. В распахнутых полах твердого, будто скроенного из снежного наста, халата был виден голубой хирургический костюм. Такая же голубая, похожая на поварской колпак, шапочка чудом лепилась, не слетая, к могучей седоватой шевелюре. Меня всегда поражало, что шапочка не слетает. На такой-то скорости! Полы халата развевались, все встречные ветра сообщали напряжение этим парусам, которые гнали вперед тело Апостолоса вопреки законам динамики.
Подобострастная свита едва поспевала за крылатым богом. Врачи и сестры поспешали, самозабвенно пританцовывая, неся наперевес блокноты, истории болезней, рентгеновские снимки страждущих.
Белотелая стая врывалась ко мне в палату, заполняя ее.
Какой же общий язык, общий ритм мог быть у этого сизо-белого голубя здоровья, свободы, непрестанной деятельности с унылым беспомощным обладателем тела, распростертого на больничной койке? Телу было отпущено лишь дневное снование взглядом за приблудным мурашом, а ночами однообразный ритм снов: спальный барак, плац, каменоломня, барак-столовая, карцер. И так по кругу и без конца. Странное дело: в лагере эти сны мне не снились. Они пришли ко мне сейчас, чтобы я знал — мое освобождение формально, я по-прежнему принадлежу той жизни, в которой все по кругу и без конца.
Но мой школьный друг Апостолос Захариадис был не в курсе того, что называют обычно «жить в разных измерениях». С профессиональной бодростью он каждый раз возглашал:
— О, да ты совсем молодец! Скоро запросишь снаряд для тренировки! — (работу, женщину, прогулку в горы — возможны были варианты).
И я с пациентским смирением поддерживал:
— Можешь завтра использовать меня на подсобных работах в клинике.
В лагере мне не снились лагерные сны. Ночами меня настигало ощущение близости женского тела, знакомого и единственно желанного. Тела Ксении. Реальность его была столь очевидна, что разбивала сон, будила, но и проснувшись, я продолжал чувствовать приникновение ее груди, мальчишеских бедер, всю ее хрупкую конструкцию, готовую раствориться в моей голодной плоти.
Сказать, что я постоянно думал о ней — неверно, неточно. Просто Ксения неотлучно присутствовала во мне, всегда открытая сопереживанию, беседе, бездумной переброске словами. Как умела это делать только она. Иногда я забывал ее голос, лицо ее утрачивало четкость черт, представало скопищем точек, серым роем клубящейся мошкары. Порой мои слова упирались в кажущееся непонимание, неприятие ею. А она все жила и жила во мне, как некая часть моего существа, часть, которой я не мог подобрать названия. Я только знал, что ей присуща единственность, незаменяемость. Незаменяемость никем и ничем, что, может, и заключает в себе достоинства в сто раз большие. Но кто откроет тайнопись правил, по которым любовь избирает носителя единственности? Добродетели, пороки, красота, невзрачность, исключительность и заурядность — любви плевать на них. Надо — любовь сама приоденет все качества избранника в одежды неповторимости, вручит тебе этот крест. Волочи его через жизнь, сквозь жизнь, вопреки жизни.
Моим крестом стала Ксения. Может, оттого, что мне досталось так мало жить в нормальном, открытом мире, а может, так уж я был устроен, женщины никогда не становились для меня главным. Попросту никого и никогда я не любил преданно и самозабвенно. Не считать же такой любовью мое юношеское увлечение Катей, «товарищем по оружию».
Уж не мне разводить все эти доморощенные философствования о природе любви. Что я знаю о ней? Но я снова и снова возвращался к ним. Потому что получил на это право. Мне выпала Ксения.
И, если уж не хитрить перед самим собой, возвращение в свободу пугало тоже, особенно из-за нее. Я боялся обнаружить, что мир пуст. Пуст, если в нем она уже не существует для меня. Нелепо верить: какой-то месяц все перевернул в ее жизни, стал важнее лет. Она осталась в мире, населенном мириадами мужчин, интересов, соблазнов. Не то что я. Клетка и безликое вращение теней. И сам я — тень. Выпусти на свет, и он уничтожит бесплотные очертания. К чему женщине, живущей на солнце, следить за появлением и исчезновением каких-то теней?
Но как хотелось найти эту женщину, точно такую, какая шла со мной по московскому бульвару, мохнатому от тополиного пуха, женщину, с которой мы так славно говорили о собаке. Или там, в Гегарте, где к храмам ведет дорога, розовая от крошки армянского туфа.
В лагере заключенные всегда говорили о женщинах. Подай любую, хоть кособокую — все отдашь, лишь бы переспать с бабой. Хоть с какой. Осатаневали от тюремного воздержания. И свобода чудилась всем прежде всего женщиной, которой можно беспрепятственно обладать. Они на все лады смаковали: я бы — так, а я бы — так ее. Я в разговоры не ввязывался, мне хватало моих ночных миражей, тоже мучительных от неутоленности.
И все-таки в больнице, когда я уже окончательно окреп, годы вынужденного анахоретства должны были взять свое. Нужна бы была любая женщина. Любая, чуть получше черта. А эти, в больнице, всякие там сестрички-санитарки вообще что надо. Иные даже, делая какой-нибудь укол или меняя компресс, будто невзначай касались меня грудью или, вроде бы безотчетно, проводили рукой по моему обнаженному животу.
Я видел: им было любопытно, их занимало, как это оголодавший мужик поведет себя: о моей тюремной эпопее тут ходили разные слухи.
Ах, надо же! Мужик, что бревно. Не потому, что тюрьма вытравила из меня живые инстинкты и желания, не потому, что я сознательно не хотел изменять Ксении. Такая вот чертовщина произошла — женщиной для меня была только она. Она одна, все прочие, как говорил когда-то один мой приятель «были лишены вторичных половых признаков». С этим я ничего не мог поделать, видимо, прослыв у сестричек жалким импотентом. «Ах, бедняга, а ведь еще не старый и собой ничего!»
Не будем прибедняться. Думаю, интерес ко мне со стороны представительниц медперсонала объяснялся и не одним любопытством экспериментаторов. Кое-кому я, пожалуй, и вправду был небезразличен, по крайней мере, одной.
Апостолосу Захариадису его имя годилось, как никакое другое. Провидчески окрестили его родители. Когда этот гибрид крылатого Серафима и евангельского вещателя в окружении почтительной свиты воцарялся в моей палате, мне всегда это приходило на ум. Апостолом с учениками являлся он обращаемому больничному народу. Любая, ничего порой не значащая фраза обретала силу откровения, слагаемого Писания. Стоило Апостолосу, скажем, изречь: «Повязки менять ежедневно», как потрясение от мудрости Учителя начинало светиться на лицах взыскующих Истины. Вопросов, в отличие от слушателей Христовых апостолов, тут никто не задавал. Только отвечали на его вопросы. И мгновенно. Не отводя взоров от Вещающего.
А вот она смотрела на меня, и тоже неотрывно. Хотя всегда стояла позади всех. Да и что ей за нужда лезть вперед! Во-первых, это нарушало бы субординацию — не для молоденькой стажерки место близ Самого. Да и ни к чему было Елене, Елена ее звали, протискиваться ближе. Ее чернокудрая голова и из заднего ряда маячила над головами прочих. Думаю — чернокудрая, хотя видна была только тонкая темная полоска над лбом, а шапочку так и распирала непокорная копна. Глаз же шапочка, естественно, не скрывала. Черные, лишенные зрачков глаза.
Мрачный, почти гнетущий блеск гнездился в этих глазах без зрачков. И блики его били мне по глазам. И ни одного движения, ни одной попытки привлечь к себе мое внимание. Огромная, могучая, несуетная.
В ночь перед выпиской я долго не мог уснуть. Завтра, уже завтра чужая жизнь, чужая, я уверен, она не сможет стать моей, жизнь, набитая страхами, всосет меня в свою утробу. Или, наоборот, отшвырнет, выплюнет на обочину. Она уже сейчас, здесь, рядом, у самого лица. А завтра…
Это «завтра» громоздилось в темноте палаты свалкой неразличимых предметов, где-то там, за границами беспомощного света настольной лампы. Лампы с покорно понуренной головой металлического абажура.
В дверь осторожно постучали.
— Входите, — отозвался я. Светлый дверной проем почти заполнила высокая статная фигура в белом халате, белой шапочке.
— Что-нибудь случилось, Елена? — Ее очертания нельзя было спутать ни с чьими.
— Я дежурю сегодня ночью. Хотела посмотреть, не нужно ли вам чего-нибудь. И все… — На удивление голос у Елены, а я ведь его и не слышал ни разу, оказался тоненьким, воркующим, детским. Что так не вязалось с ее могучим сложением. Дверь она притворила.
— Все в порядке, девочка. Не волнуйся, иди отдыхай. — Она не пошевелилась.
— Иди, дружок, все в порядке, — повторил я. Меньше всего я был склонен к ночным доверительным беседам.
И тогда она рванулась к моей постели, рухнула на колени и, схватив мою руку, стала исступленно целовать ее.
Сцена выглядела нелепо, безвкусно сама по себе, а для моей-то жизни… Я даже не нашелся, как реагировать, что делать. И что должен делать мужчина в таких случаях?
Теперь света от склоненной лампы хватало, чтобы рассмотреть Елену, ее бледное лицо, темные, глаза, из которых ушел мрачный блеск, смытый быстрым дождиком слез.
— Простите, простите, но что делать, я люблю вас, люблю и все… Я бы никогда, но я подумала — вас завтра уже не будет… Я никогда не увижу вас, простите… — Она захлебывалась словами, точно пугаясь, что я не стану слушать.
Я продолжал молчать. Не потому, что не хотел обидеть ее тем, что ответить на ее излияния мне было нечем. Я просто не знал, что говорить. И тупо молчал, позволяя говорить ей. Говорить просительно и смиренно. Отчего совсем неожиданной оказалась решительность, с которой она вдруг сорвала с себя шапочку, распахнула халат, под которым иных одежд не обнаружилось.
Сокрушающая стремительность, с какой вырвались на свободу ее волосы, крупная грудь, все ее полноватое, но стройное, тело, смахивала на бунт заключенных, взломавших тюремные решетки и ринувшихся невесть куда, сметая оробевшую охрану.
А детский голосок эта властная стремительность не изменила:
— Можно, можно мне к вам?.. Я бы никогда, никогда не попросила, не решилась… Но завтра вас уже не будет. И все… Я так люблю вас…
Мне вдруг стало смешно: распростертая великанша произносит монолог с этим неподходящим к мизансцене «вы». Но через минуту я уже перестал улыбаться. Елена оказалась в моей постели. Правда, успел подумать: «А бабенка-то видать, умелая и бывалая. Такое учинить скромница не решится».
В эту ночь все в Елене, как говорят режиссеры, было «не в образе». Мрачная молчальница, она оказалась говоруньей с робким детским голоском. Монументальность обернулась суетностью. И еще. Я потрясенно обнаружил, что «умелая и бывалая» — непорочна, как юная монахиня.
В ту ночь я был мужчиной, нормальным мужчиной, без своих привычных комплексов. И был этому рад. Мне ведь и самому уже начинало казаться, что я неполноценен.
Изменил ли я Ксении? Нет. Случайная физическая близость с женщиной не имела к моей любви ни малейшего отношения. Я даже в мыслях не свел эти понятия. Разными понятиями была близость с этими женщинами. Любовь к одной и случайное присутствие другой? Нетерпеливое ожидание и почти безучастное принятие неожиданности? Разящая непохожесть повадок и тел этих женщин, наконец? Нет. Это было существованием в разных пространствах. Разные, несопоставимые, как стихия и житейский факт.
Мне даже не пришло в голову задуматься: а как бы я реагировал, узнав, что у Ксении случилось нечто подобное?
В комнате стоял кислый запах лежалых овчин, хотя откуда бы взяться овчинам в городской многоэтажке? Но эта вонь наполнила воздух, и меня стало подташнивать. Я сам мысленно усмехнулся подобной чувствительности: тюрьма отнюдь не лелеяла обоняние изысканными ароматами. Но эти четверо, собравшиеся в новоявленной конспиративной квартире, похоже, запаха не ощущали. Были деловиты и снисходительно-сочувственны ко мне и моей лагерной эпопее. Трое мужчин и женщина, хозяйка комнаты.
Все было разыграно по известным правилам нелегальных встреч: собрание партгруппы замаскировать под встречу старых друзей. На столе оплетенная бутыль с вином и кое-какая закусь, к которой никто не прикасался. Никого из них я не знал, только одного, председателя собрания, седого, хриплоголосого горбуна смутно помнил по прежним годам. Собственно, помнил его горб, похожий деревенскую сумку, прилепившуюся к левому плечу. Где-то мы пересекались. Двое других, помоложе, были, вероятно, братьями — безлико похожи.
Женщина же — явно просто квартирная хозяйка. Оплывшее лицо цвета старого бараньего жира, утлый пучок сизых волос. Под застиранным крапчатым платьем подрагивала квашня усталого живота многодетной матери. Даже для конспиративного облика явки такой персонаж казался нарочитым.
Трое молчали, говорил только Председатель. Задавал короткие вопросы, давал краткие наставления. Смысл беседы был таков: после выхода из тюрьмы партия дала мне месяц отдыха, но сейчас пора включаться в борьбу с ненавистным режимом «полковников», людей мало, дорог каждый идейный борец, поэтому меня и разыскали.
Одно и то же шло по кругу уже в третий или четвертый раз, я покорно со всем соглашался. Женщина сидела напротив меня, подперев щеку ладонью, локоть упирался в обширный живот. В какой-то момент, когда, казалось, уже все было проговорено, она полусонно спросила:
— А все-таки я не очень понимаю, как товарища Янидиса могли выпустить?
— Я же объяснил: мой друг Захариадис…
— Это мы слышали, — не дала мне договорить женщина, — но ведь никого полковники не отпускают, а вас выпустили. И как вы могли принять помощь от друга наших врагов?
— Он, прежде всего, мой друг.
— Ну, этим хвастаться не стоит, — вступил старший из «братьев».
— Я не хвастаюсь. Я объясняю, как было дело. Мне жаль, что другим заключенным нельзя было помочь подобным образом.
— Жаль? — Женщина с прытью, которой от нее невозможно было ожидать, вскочила с места: — Жаль? Не вам жалеть наших боевых товарищей. Никто из них не принял бы свободу из рук буржуазных приспешников режима. — Она уже кричала в голос: — Наши товарищи предпочитают умреть несломленными в застенках!
— А вам-то откуда известно, что предпочитают в застенках? — не сдержался я.
— Мне? Мне? Мой муж умер в тюрьме, он умер, но не сдался, не продался за подачки!
— А может ему и не предлагали. — Она начинала меня жутко раздражать. Ответом была истерика:
— Товарищи! Он провокатор, засланный в наши ряды! Я клянусь, вдумайтесь, товарищи — он на свободе! Вы знаете еще кого-нибудь, кого выпустили на свободу? Посмотрите — у него целы руки и ноги, значит и в тюрьме он был осведомителем.
Что я должен был делать? Снять рубашку и демонстрировать шрамы? Но тут вступил Председатель:
— Спокойно, Ирэне, ты перебираешь. Мы не знаем, как вел себя товарищ Янидис в тюрьме.
— Но в одном Ирэне права, — снова вступил старший «брат», — товарищ Янидис не имел права принимать милость «полковников». Его малодушие — пятно на совести партии.
— Товарищ Янидис! — взвизгнула женщина. — Товарищ! Как вы можете называть товарищем труса и перерожденца! Его нужно гнать из партии! Я ставлю вопрос о немедленном исключении.
При каждой судороге голоса крапчатый живот женщины вспухал и опадал, точно гнал какую-то безумную морзянку. А ведь, наверное, в тюрьме ее мужу эта колышущаяся вялая махина казалась плотью обетованной. И он расписывал заключенным желанные прелести супруги. Неужто у нее когда-то вместо грубо скомканных кусков бараньего жира были человеческие черты лица, а живот плотно и мускулисто сбегал к бедрам? Интересно: сохранились ли у нее молодые фотографии?
— Я ставлю вопрос об исключении Янидиса из рядов партии! — снова проорала она.
Ничего страшнее, чем оказаться вне партии для меня когда-то не было. Я даже не мог вообразить такой беды. Нужно было осознать происходящее. Но прыгающий вислый живот мешал думать. Только это омерзительное зрелище и лезло в мозги.
Провисла мрачная пауза. Наконец Председатель произнес:
— Поступило предложение об исключении товарища Янидиса из рядов партии. Кто за?
Все, кроме младшего «брата», подняли руки.
— Решение принято, — сказал Председатель. И мне: — Можете обжаловать в вышестоящей инстанции.
— Да пошли вы все… — миролюбиво сказал я.
Запах лежалой овчины становился нестерпим, я даже почувствовал на языке вкус старого уксуса.
Наконец я отыскал мой город.
Серые туши зданий с ощерившимися пастями балконов (даже высокие, эти дома казались мне приземистыми), утвердившиеся тут и там в мое отсутствие, были лишены смысла и теплых связей бытия. Да и те кварталы, что память отмечала событиями моей жизни, отреклись от меня. Я был им не нужен, они принадлежали чему-то незнакомому, в чем я не умел разобраться. В родном городе я не мог отыскать свой город.
А вот здесь, в порту, мы встретились, как друзья — я и город. Будто я и не уходил отсюда, будто не прошло стольких лет. Безлистый лес мачт над спящими усталыми яхтами покачивал тот же ветер. Двери прибрежных таверн не захлопывались с того вечера, когда я в последний раз заходил сюда. Старухи в черных одеждах так и дремали возле своих домов, а старики перебирали четки над неостывающей чашкой кофе за теми же столиками, вынесенными на тротуар. И дома, тротуары источали ленивый запах жареной рыбы.
Я сел за столик и почувствовал, что я дома. Противный привкус старого уксуса еще не выветрился из меня, и осатанелый голос партийной активистки еще долбил по моему мозжечку, но они оставались только знаками чужой жизни. Сам я был дома. Впрочем, высвободить мысли от всего, только что рухнувшего на меня, было не просто.
Кафе было почти пусто. Кто-то заходил, кто-то уходил. Я не разглядывал их, я смотрел на море, где безлистый лес мачт покачивался над усталыми яхтами. Когда вошли эти двое, я тоже не обратил внимания. Мимо сознания проплыли двое мужчин в почти одинаковых (или мне так показалось) серых костюмах и сели за соседний столик. Один из мужчин сел со мной спина к спине. Продолжали начатый разговор. И внезапно, именно спиной я почувствовал, что они говорят по-русски.
Конечно, я не понимал ни слова. Но с приходом в мою жизнь Ксении само звучание этого языка обрело волнующий и значительный смысл.
От перекатов чужеземной речи что-то заныло во мне, не тронув сознания. Я смотрел на море, где яхты, утихомирившиеся после недавних схваток со стихией, вяло покачивались на присмиревшей воде. Еще час-другой назад мускулистые бока судов ударялись о напрягшиеся мышцы волн, ликовали, отшвырнув противника, взгромоздившись на его упругий затылок. Сейчас схватке был дан отбой, яхты и море сникли, расслабились, как цирковой борец, рухнувший на топчан после боя.
Я даже не понял, что случилось, просто почувствовал, что произошло нечто важное. Лишь минуту спустя, когда человек за моей спиной повторил эти слова, я осознал: он произнес название еженедельника, где работала Ксения.
Уже месяц, как я вышел из больницы, и каждый день я изобретал способ что-нибудь разузнать о ней. Способы эти были разнообразные и неосуществимые. Подозреваю, что усложнял задачу умышленно, оттягивая момент, когда выяснится, что она потеряна для меня. В глубине души я даже был уверен в этом. Не могла, не могла она помнить человека, три года назад гостившего в ее жизни! Просто отправить ей письмо я не решался: для поднадзорного связь с Москвой могла сулить только новое тюремное заключение. А доверить кому-то выяснение наших отношений?.. Да и кому?
Русский больше не повторял злополучного слова, но я уже не мог усидеть на месте. Я повернулся к нему:
— Простите, вы говорите по-английски?
— Да, конечно, — он развернулся ко мне. — Подсаживайтесь. Я пересел к ним за столик.
— Мне показалось, что вы назвали журнал, с которым я сотрудничал в Москве, — выдавил я, стараясь не выдавать волнения.
Русский откликнулся бодро:
— Так мы коллеги! Очень приятно. Я тоже иногда пишу для них. Вообще-то журналистика — мое хобби. Я работник Министерства иностранных дел. Но иногда пишу. Для газет. И для этого журнала. Как раз перед отъездом сюда виделся с заведующим иностранным отделом.
— Борисом?
— Да, да, Борисом. Борисом Ивановичем. Мы случайно встретились в Доме кино.
— И как он? — спросил я. Не мог же я спросить: «А про госпожу Троицкую вы ничего не знаете?»
Русский разулыбался:
— Прекрасно, прекрасно.
— Он еще сочиняет романсы? — надо было подкрепить подробностями мое близкое знакомство с Борисом.
— Романсы? Про романсы мне неизвестно. Но не исключаю. От влюбленных всего можно ждать.
— Влюбленных? Не очень-то похоже на Бориса. Насколько я помню, он был счастлив в браке. — Скучное выражение «счастлив в браке» очень годилось именно Борису и его супружеству.
Теперь русский уже захохотал:
— Вы отстали от событий. Бориса бросила жена, ушла к моему другу. Страдания покинутого, конечно, имели место. Но сейчас он влюблен, снова женился. Я его видел как раз накануне свадьбы. В Доме кино. Ах да, я говорил. На премьере его невесты, уже, собственно, жены. Впрочем, и ее вы, видимо, знаете, если сотрудничали с их журналом.
— Кто же это? — Я спросил просто так, я был уверен, что речь идет о Ларисе, секретарше Бориса. Овдовевшие или осиротевшие начальники часто женятся на своих секретаршах. Но русский сказал:
— Ксения Троицкая, их корреспондент. Прелестная женщина. И талантливая. Вы ее знаете?
— Немного. Привет им всем. И поздравления.
— От кого? Как ваше имя?
Я не ответил. Махнул рукой — неважно, мол. Я положил деньги за кофе на свой столик и вышел. Русские углубились в беседу. Мимолетная встреча не произвела на них ни малейшего впечатления. Такие встречи во время путешествий — на каждом втором углу.
Уже совсем стемнело, по кромке моря вспыхнули фонари. В открытых тавернах и на набережной стало людно. Народу в порту прибавилось, а порт был пуст. Был пуст порт, город, мир. Господи, ведь я знал, что должно случиться это или примерно это. Не Борис, так другой. Хотя это странно — Борис, меньше всего героем романа мог быть он. Но какая разница… Я ведь знал, я готовил себя к тому, что мир опустеет. Я только не знал, что это будет так невыносимо тяжело.
Обычно, когда разные беды и разочарования хватают человека за горло, ему хочется быть одному. И по всем правилам логики мне бы надо было вернуться домой, в пустую квартиру, доставшуюся мне после смерти матери. Но я поехал к Елене.
Когда я выписывался из больницы, она вместе с другими вышла проводить меня. Она ничего не говорила, никаких прощальных и напутственных слов. Не то, что прочие. Те говорили без умолку. Но дома я обнаружил в кармане записку: «Телефона у меня нет, вот адрес. Не думаю, что Вам захочется приехать. Но вдруг». Записка так и осталась в нагрудном кармане моей куртки, я не выбросил ее, сам не знаю, почему. Ехать к Елене, видеть ее я не собирался.
А сейчас решил. Вовсе не надеялся, что Елена может, хоть в малой степени, заместить Ксению. Или что мне кому-то нужно рассказать о моих бедах, станет легче. Ни перед кем не желал я исповедаться. Просто хребтом почувствовал: сейчас мне необходимо, чтобы кто-то в этом мире меня любил. А кто? Только она. Выбор невелик.
Меня, конечно, несколько смущала предстоящая встреча. Я отчетливо видел сцену: она вскрикивает, потом в смятении отступает и, прижав руки к груди, начинает лопотать сквозь слезы: «О, Боже — вы! Я не верила, я знала, что никогда не увижу вас… Я просто любила и все… Неужели это — вы?» Я говорю: «Прости, что не появлялся. Дел было много». Потом она начинает суматошно метаться по комнате, пытаясь навести порядок и все причитает: «Тут такое делается, не смотрите, я сейчас, я ведь не ждала, тут беспорядок… Господи, это — вы!» (Так обычно суетилась моя сестра Мария, когда к нам являлся неожиданный кавалер. А вот Ксения беспорядка в своей квартире не замечала, она видела только меня). Елена кружится по комнате и талдычит свое. «Ладно, ладно, утихомирься, — говорю я, — давай лучше выпьем кофе. У тебя есть кофе?» «Ах, кофе! Кофе нет. Что же делать? Но я могу сбегать к соседке. И все… Только не уходите… Ладно? Умоляю, не уходите».
В какой-то момент мне даже расхотелось ехать — встреча мысленно уже состоялась, плотская, во всех подробностях.
Елена открыла, тщательно одетая и причесанная. Как я и предполагал еще в больнице, волос у нее хватило бы на троих.
— Добрый вечер, — Елена улыбнулась в восемьдесят четыре белоснежных зуба. Оказывается, и улыбаться умела. — Проходите. Как раз вовремя. Ужин уже готов, и все.
Только это «и все» было в ней прежним, ожидаемым. А так — полное спокойствие, никакой суетливости, растерянности. Может, зря пришел. А может, так к лучшему. Во всяком случае, не надо успокаивать, нести ничего не значащую чушь.
Мы прошли в комнату. Чистота, как в операционной, делала ее немного нежилой. И все окрестные предметы, расставленные и разложенные с точностью хирургических инструментов, казались угнездившимися раз и навсегда.
Стол, накрытый твердой от крахмала скатертью, был сервирован. На два прибора.
— Ты кого-нибудь ждешь? Я не во время? — Я несколько смутился. Представлял-то все не так.
— Жду, жду, — серьезно ответила Елена: — Вас, разумеется. Я всегда вас жду, хотя никогда бы не подумала, что вы придете. Садитесь к столу. Или хотите вымыть руки?
В ванной я долго копался с мылом и полотенцами, тянул время, никак не мог придумать, как вести себя при таком повороте событий. Когда вернулся, ужин был на столе. Елена объясняла что-то про расставленные кушанья. Только сейчас я понял, что ничего не ел весь день, жутко оголодал.
Мы ели, Елена спокойно и размеренно рассказывала мне о больничных делах: такому-то больному сделали неудачную операцию, от другого, после ампутации обеих ног, отреклась жена, Захариадис подарил новорожденному сыну яхту, пусть владеет, когда подрастет.
— Ну, а у тебя какие новости? — спросил я. — Есть у тебя собственные новости?
— Есть. Но это только мои новости.
— Так расскажи, мне же интересно.
— Нет, нет. Это только мои новости. — Она вкрадчивым движением дернула плечом, точно подтягивая слишком тяжелую грудь.
Не из любопытства, а чтобы как-то продолжить никчемный разговор, я сказал:
— Вот говоришь: всегда ждешь, а сама от меня скрываешь что-то важное. Не по правилам. Я ведь и обидеться могу.
— Хорошо, скажу. У меня будет ребенок.
Елена не потупилась, голос не дрогнул от робости, сказала, как сказала. Как ни странно, и я не вздрогнул, не был ошарашен, растерян, и не обрадовался, и не испугался. Будто и правда сообщение имело отношение только к ней. Спокойно сказал:
— Так новость, видимо, и ко мне имеет некоторое отношение?
Тут впервые ее скороговорка замельтешила:
— Нет, нет, это — мое… Это — мой ребенок, я его хочу, жду и все…
Именно на этом заявлении я разозлился. И не потому, что она сама решила, что будущий ребенок не должен меня интересовать. Слишком уж избито-литературной становилась ситуация: все так называемые «гордые» женщины заявляют: «Этот ребенок только мой!» Елена не была привычным литературным персонажем, не имела права на банальности. Мрачно сказал:
— А если и я захочу ждать его?
— Как хотите, это ваше дело, — Елена снова заговорила спокойно. — Я не имею права думать о вас в этом смысле. Я не имею права ничего о вас знать. Даже то — свободны вы или нет.
Что-то нужно было сказать в ответ, и я сказал:
— Я свободен. Мы поженимся.
Кирилл Проскуров
И опять слово «наконец» ударило мне в виски, в сердце, будто я тронул оголенный конец электропровода. Но это было не то «наконец», которое мне пришло в голову в связи с Кириным приездом. Это было «наконец-то».
Я увидел ели. По хребтам веток тянулись белые пряди снежной седины. Внезапно черно-белый плоский пейзаж, пейзаж гравюры, обрел объем. Лес наполнился малиновыми клубами закатного воздуха. Свет был плотным, почти осязаемым. Он шел на меня, в меня и, как водный накат, бился о грудную клетку, рождая томительное, почти забытое ощущение ожидания, тревоги. Я уже не мог точно, как это бывало на предыдущих прогулках, запомнить детали линий и подробности цвета. И все-таки именно сейчас я чувствовал, что наполняюсь той желанной неясностью, смятенностью чувств, которая — единственная! — вызовет потом облики возникающего на листе. Именно эта невнятность, радившаяся где то глубоко внутри, расступалась, давая дорогу мысли и неожиданности ассоциаций.
Я уже раньше решил, что буду делать шекспировский альбом черно-белым, в туши. Но повадку этих линий я поймал сейчас в празднестве алого цвета, заполнившего до отказа лес.
Конечно, ни перед одним из героев Шекспира не вставал ландшафт, похожий на березовский. А я вдруг понял, о чем буду писать, что буду рисовать. И как такое получалось — неизвестно, но получалось.
Все «до» было подступом, приступом к этому мигу. И обживание примет чужой эпохи, и фамильярное сближение с человеческим бытовизмом Шекспира, и видение в печке той лировской степи — «долой, долой с себя все лишнее!».
Я должен написать вот что: классические мерила человеческих добродетелей вечны. Время не имеет права вычеркивать их из ежедневных словарей или оправдывать их искажения собственной трансформацией. В человеке всегда живет тоска по истинности страстей, какие мерещились мне в этих заколоченных дачах, — очищенных от унылости повседневной текучки или подогнанных под колодку заученных канонов. Мы добровольно мельчаем, выговаривая у самих себя право на проступки, навязанные ситуацией.
В быту, в привычной ежедневности, мы растрачиваем вечные добродетели и, по Платону, низшую из них — мужество. И тогда ты уже не можешь провести на листе бумаги единственно искомую линию или сказать женщине, что в тебе — пусто.
Я шел и шел, и улицы поселка, то смыкая стороны нагромождением сугробов, то распадаясь в перекрестках, тянулись куда-то к концу земли.
На очередном скрещении улицы с лесной просекой сугробы откатились подальше, выпростав площадку для продовольственного магазинчика, сбитого из крашеных досок, неоправданно летнего сейчас в своей дачной голубизне. Из открытой двери магазина вываливался хвост очереди, безвольный, как язык усталой собаки. И вся эта вереница замерла неподвижно, только изредка вздрагивая шевелением людских тел. Вдоль очереди бродил кургузый человек в длиннополом дождевике. В руке он держал некий предмет, смахивающий на детский ночной горшок, только непомерно высокий. Человек тыкал горшком то в одного, то в другого из стоявших в очереди. Люди что-то говорили ему, он сокрушенно опускал свой горшок и тут же вздергивал снова. Мне вдруг показалось, что это Юрка Сивак. Хотя откуда бы здесь взяться Сиваку с ночным горшком?
— Подсолиться решили, Кирилл Петрович? — Мне навстречу выскочила из очереди Зина.
— Чем подсолиться? — не понял я.
— Селедку безголовую баночную завезли. Во — и народ обезголовел: час ждут, пока разгрузят. Я-то вообще без головы насчет хозяйства. Надо Витюшку с премии порадовать. А вообще-то — здравствуйте! — Она вынула из кармана пальто красную ладошку и сунула мне. — Варежку потеряла. С правой руки, это к плохому.
Я сунул ее жесткую пятерню за отворот своего пальто. Зина засмеялась, челка упала на глаза.
В левой руке Зина держала хозяйственную сумку. Ладошка у меня за пазухой вздрогнула, рванувшись откинуть челку. Но руки она не отняла, только пальцами поскреблась мне в грудь. Дунув уголком рта, согнала волосы на лоб.
— Вы селедку не берите, вы вечером приходите к нам. Я картошечки наварю, у нас своя, сорт «лорх».
— Приду.
— Нет, вы сейчас не уходите. Побудьте тут. Ну чуточку. Пошли сядем.
За магазином были свалены пустые ящики. Зина поставила два рядом, села, усадила меня и снова сунула руку мне за отворот.
— Вы не поверите, — ее пальцы снова поскребли по моему свитеру, — я столько раз воображала себе — вот потрогаю вас. Вы же ничего не знаете. Я же в вас влюбилась давно-давно, когда вы к нам на запись приходили. Я еще ученицей оператора была. Потом девчонки наши уже знали, когда вы на радио приходите, сейчас летят: «Зинка, твой тут!» И если где вас встречу, у меня уже — привет — праздник. — Зина сыпала словами быстрей обычного, будто боясь, что заговорю я и спугну ее решимость.
— Купите кофейник, незаменимая вещь в культурном семействе. Эмалированный кофейник вы можете приобрести всего за два рубля. — Перед нами стоял человек в дождевике, металлически затвердевшем на морозе. — Только крайние обстоятельства заставляют расстаться с этим предметом первой необходимости.
— Иди-иди, — сказала Зина, — тебе домой — прямо и направо.
— Кофейник имеет крышку. — Человек отогнул по-жестяному громыхнувшую полу дождевика и из кармана брюк извлек крышку. — Два рубля совместно с крышкой. — Он просительно смотрел на нас сквозь перекосившиеся на носу очки. — Однако если в данный отрезок времени вы стеснены в средствах — рубль.
О Юрке Сиваке напоминали, пожалуй, только эти косо сидящие очки.
— Иди-иди, — снова сказала Зина. — Крышка. От дырки.
Человек уронил руку с кофейником и обреченно побрел опять к очереди.
— И кофейник я воображала. — Зина коротко боднула меня в грудь. — Я всегда думала: он приходит, и я ему кофе подаю. Я воображала: вы обязательно дома пьете кофе.
— Не пью я кофе.
— А кофейник так и не выбралась с деньгами купить. То то, то се, то Витьке что-нибудь надо. Мне очень хотелось сегодня этот кофейник купить, у меня и премия цела. И вы тут, под боком. Но у него — не стала.
Я прижал к себе под пальто ее ладошку, и та выжидательно замерла.
— Придешь вечером? — спросила Зина шепотом.
«Я не могу прийти к тебе, ты мне еще не кто-то. Уже, может, не никто. Но еще не кто-то». Я должен бы так сказать, я хотел сказать именно так, я даже произнес это про себя. Я сказал:
— Наверно, твоя очередь подходит. Иди проверь.
— Наплевать. Еще раз встану. Нам в очередях стоять — ничто иное.
Когда я садился на ящик, я не мог подоткнуть под себя короткие полы куртки и сейчас все время чувствовал, как разъехавшиеся доски сквозь брюки впиваются мне в ляжку. Мне очень хотелось встать, но я не двигался, чтобы не обидеть Зину.
— Вот какая история моей любви, — она счастливо замотала головой и залилась своим бегущим вверх смехом. — В виде книги «Письмо незнакомки». Вы читали?
Доска куснула меня снова, и я сделал попытку сменить положение.
— А еще что я вам скажу. Я же со всех ваших пленок сняла дубли. Выписала в фонотеке, сняла дубли и вечером, когда поздно работаешь, никого нет, слушаю.
«Чертов ящик, еще пять минут — и вместо зада у меня будет зияющая рана», — подумал я.
— А одну пленку я вообще сперла. Украла то есть. Ее Москвина из передачи вынула, сказала — размагнитить. А я спрятала.
— Какую пленку?
— Это где вы про художника Сивака рассказываете. Она же должна была идти. Уже в программе стояла. А потом Москвина вынула. Собака эта Москвина.
Со мной всегда так: если мне на улице или еще где-нибудь померещится какой-то человек, в тот же день я встречаю его настоящего или натыкаюсь на него в разговоре. Сегодня была очередь Сивака.
Мимо нас прошла толстая бабка в зеленом платке, дыбящемся остроугольным домиком над оранжевым лицом. В сумке, набитой покупками, сверху лежал эмалированный кофейник, из его широкого горла торчала куриная голова. Зина проводила тетку взглядом.
— Вот зараза Седуха. Отхватила кофейник.
— Ну и пусть.
— Пусть? — Зина выдернула ладошку у меня из-за пазухи. — Пусть? Он же на пропой. Он же из дома всегда носит, все с себя догола и из дома. От жены. Она, бедная, исплакалась вся. Седуха, зараза, знает же. Если бы ее мужик все из дома! Рада. Чужое горе за рубль отхватила и рада. Это ей ничто иное.
И опять, как тогда у меня, Зинины глаза вдруг посветлели и стали большими. В каждом стояло по слезе.
Я думал о Сиваке, и проклятый ящик перестал жать ляжку. А может, я просто переменил позу.
— Эта пленка у тебя?
— Ну говорю же — спрятала. Москвина велела размагнитить. Собака эта Москвина.
Москвина была редактором отдела на радио. В общем-то она всегда ко мне благоволила. Мы сделали вместе несколько передач из серии «Художник и время». Если бы я работал в манере передвижников, я бы обязательно писал Москвину. Содрать с нее очки-фары, за которыми не разглядеть дымных, с легчайшей косиной глаз, прикрыть долгополой шубой лиловое джерси, шапку или плат на скрученный над шеей жгут волос — боярыня Морозова. Только красивее.
Продолговатая неторопливая ее рука с зажатой в пальцах сигаретой плавала перед глазами собеседника, как нарядная рыба в аквариумных просторах. Сигарета распускала голубые веера дымка.
— Вот и наш Кирилл Петрович! Здравствуйте, мой гениальный! Ну, что вы наговорили в нашей последней передаче? Вы даже и сами не представляете, какой это блеск. Конец света. Просто по ту сторону. На прослушивании начальство залилось слезами. — Она говорила всегда с воинственной экзальтацией, особенно ошарашивающей личной ее верой в произносимое. Иногда мы виделись вне радио. Я бывал у нее.
…Утром в день той записи мне позвонил Солодуев из Союза художников и сообщил, что я должен выступить по радио с критикой Сивака в моей рубрике «Художник и время». Ага, так вот, значит, чем обернулось Юркино выступление против Дымова! Титулованного, неуязвимого Дымова. Дымова, которого все звали Памятник Себе. Действительно, монументальный, с седой гривой, умудрявшейся не шевелиться, даже когда он шел или величественно оборачивался к собеседнику, Дымов казался только-только спустившимся с цоколя.
Впрочем, кличка имела иной смысл: некогда прославившийся созданием многофигурной живописной композиции, украшавшей вестибюль одного из административных зданий, Дымов все последующие годы уныло варьировал облик своего знаменитого первенца. И хотя это обстоятельство ни для кого загадки не представляло, за Дымовым как-то укрепилась и даже росла слава ведущего художника-монументалиста. Он неизменно председательствовал на худсоветах, творческих конференциях, о нем писали газеты в рубрике «Встречи с интересными людьми». Дымов считался также главой школы.
Собственно, точнее было бы назвать Дымова не главой школы, а главой бригады. Он сколотил из молодых художников некий коллектив, отвечающий всем требованиям коллективизма в работе: картину писали все члены бригады — один левый край, другой правый, кто эту фигуру, кто другую. Дымов «проходился рукой мастера». За что получил в художнических кругах, кроме Памятника, еще и прозвание Коллективный Сикейрос.
Не обходилось и без накладок. Так, однажды Дымов взял подряд на фреску в фойе областного театра — коллективный портрет лучших производственников области. Сорок восемь прославленных людей труда, объединенных в группу. Композиция заняла весь простор стены метров пятнадцать длиной. Однако когда фреска была уже готова, рабочие одного из предприятий сочли, что их сослуживец, тоже запечатленный в композиции, такой высокой чести не достоин. Дымов срочно получил фотографию нового кандидата, и кто-то из художнической артели «записал» изображение новым. На открытие театра пригласили всех героев дня. И вот подходит к Дымову некий человек и, смущаясь, говорит: «Товарищ художник, мне, конечно, очень лестно и почет необычайный… Я, может, и не стою того… Но понимаете, я тут два раза обозначен — слева и вот в середине». «Как так? — Дымов скульптурно откинул голову с поднятыми по-станиславски бровями. — У нас ваша фотография была! И фамилия». «Фотокарточка точно моя. А вот фамилия другая. Я уже обозначен. Конечно, нас много, всех в личность не упомнишь». Упомнить было и вправду трудновато, ибо левый фланг фрески писал один член дымовского содружества, а центр уже совсем другой. Да и состав артели был текучий: художники менялись, уходили, нанимались иные.
Солодуев тоже был когда-то таким артельщиком у Дымова. Но живописец в нем существовал довольно скудно. А вот организатор — класс. Договор оформить, заказ лучший получить — это Солодуев, Солодуев. Пользуясь своим влиянием, Дымов позже выдвинул Солодуева в аппарат Союза художников и продолжал двигать, покуда тот не достиг чинов весьма высоких. Правление Союза этому не противилось: от деловых качеств Солодуева прок был всем.
И надо отдать должное солодуевскому благодарному чувству — служил бывший «артельщик» Дымову верой и правдой. Хлопотал для него титулы, награды, и упаси Бог кому-нибудь слово сказать против маститого кумира!
А Юрка Сивак сказал. Обсуждали в Союзе заказы на монументальные росписи, и Юрка вылез. Ничего неведомого для присутствующих Сивак не сообщил. И про перепевы старой композиции, и про «поточный метод», и про историю с областным театром знали все. Но привыкли — и молчали. А когда Юрка, по-кроличьи дергая носом, пропыхтел на финал: «Да сколько же можно этот тираж гнать! Ну прямо метод фотографа в Пошехонии какой-то: вставляй в дырку морду — и увековечен в вечном антураже», — по залу прошел веселый гул. Тот веселый гул, что знаменует начало развенчания чьей-нибудь непогрешимости.
Дымов и бровью не повел. Более того, скульптурность его фигуры и лица обрели черты уже некоторой потусторонней значительности. Солодуев дернул плечом, готовый ринуться в бой, но, безошибочно улавливающий все мысли и настроения учителя, ограничился ироническим замечанием:
— Боюсь, что устами Юрия Владимировича вещала обида отвергнутого автора эскиза.
Тогда и правда Юркин эскиз не прошел.
И месяца три-четыре все было тихо. Даже показалось, что Сиваку его филиппика сошла с рук. А когда история почти забылась, вдруг Солодуев ринулся в атаку на Юрку, обвиняя его творчество во всех смертных грехах, не упуская случая в любой доклад или отчет вставить Юркину фамилию, если нужно было проиллюстрировать примерами профессиональную несостоятельность.
И вот он позвонил мне:
— Ваши передачи, Кирилл Петрович, интересны весьма и приносят большую пользу делу популяризации художественного творчества. Но они, как бы сказать, лишены полемической остроты. Нужно не только пропагандировать хорошее, здоровое, но и бичевать все, что тормозит наше движение вперед.
— Да, я сам об этом думал, — согласился я. Я и верно думал о том, чтобы ввести в радиоразговор проблемы, заставляющие людей серьезнее размышлять о том, что хорошо и что плохо.
— Так вот, в Союзе есть мнение… — И тут Солодуев заговорил о Юрке.
Я хотел спросить: «Чье мнение?» — хотя прекрасно знал, чье. Но не спросил. Я просто отнекивался как мог. Во-первых, Юрка Сивак — мой однокурсник. А во-вторых и главных, он хороший художник, и мне нравится, как он работает. Я бы сам так не работал, но у другого мне нравится. Мне этот пример не кажется самым подходящим, есть более доказательные… Солодуев выслушал мой спич не перебивая, потом сказал:
— Как знаете, Кирилл Петрович. Но вы сами накануне личной выставки, и хотелось бы, чтобы принципиальность художника была видна не только на его холстах, но и в его действиях.
Я хотел было возразить, что именно поэтому и не хочу выступать. Но опять промолчал. Мне очень хотелось, чтобы моя выставка состоялась. Очень. Вот и все. А организация выставок зависела от Солодуева.
Москвина была какая-то растерянная, встретила меня без обычного радушия, не декламировала, как в прошлые разы, мой текст, а просто быстро-быстро отвела меня к микрофону. Из-за стекла аппаратной я видел, как она что-то говорила режиссеру — рука темпераментно ныряла. Но мне ничего не было слышно в моем заточении.
Когда я уходил, мне очень хотелось сказать Москвиной, что я согласился на это выступление только потому, что другой мог сделать это резче и убийственнее для Сивака, и — вы же видите — постарался все утопить в общих рассуждениях. Я и себе твердил то же самое. Я ничего не сказал и ушел сразу, едва кончилась запись. Даже слушать не стал.
Через два дня Москвина позвонила мне домой. Я сначала не узнал ее, больно уж голос был ровный, без вспышек.
— Мы должны извиниться перед вами, Кирилл Петрович, но руководство сняло вашу передачу с эфира.
Много месяцев спустя случайно я узнал, как было дело, и представил себе все до слова, будто сам присутствовал при происходящем.
…Придя из студии в комнату редакции, Москвина швырнула на стол коробку с пленкой и горестным контральто произнесла:
— Это — по ту сторону добра и зла. Это — конец света.
К концу дня Москвину вызвал к себе главный редактор Трофименко:
— Что там, Екатерина Павловна, с «Художником и временем»? Мне тут Солодуев телефон обрывает — говорит, какую-то важную передачу вы зарубили без согласования. В чем суть-то?
Москвина медлительной своей рукой покачала перед самым лицом Трофименко, вычертив в воздухе замысловатый дымный орнамент.
— Вы видели работы Сивака? Вы видели. Мы вместе с вами задыхались у его полотен на выставке московских художников.
Трофименко был человек уравновешенный и задыхаться от восторга не входило в его привычки. Но картины Юрки ему правда понравились.
— Мы вместе задыхались у его полотен, — настоятельно повторила Москвина, — а автор, видите ли, слишком субъективен в оценках.
Она не назвала даже моей фамилии — просто автор. Она не пересказала выступление. Но Трофименко умел усекать существо вопроса без пространных объяснений. Он поднял трубку и набрал номер Солодуева:
— Так выяснил я, что к чему. Правильно передачу-то сняли. Мы же радио, товарищ Солодуев: не можем мы так за здорово живешь человека на весь свет костерить. Ну, кому нравится, кому нет — пожалуйста, в специальном журнале дискуссию откройте. Это только на пользу художнику. А мы — радио. Нас миллионы слушают… Он что, Сивак-то ваш, идейные ошибки совершил или скомпрометирован чем?.. Что значит — не в этом дело?
Москвина услышала, как Солодуев произнес в трубку со значением:
— В Союзе художников есть мнение, что работа Сивака требует самого решительного осуждения.
Тут Трофименко задал вопрос, который не задал я:
— Чье мнение?
— Есть мнение, — с еще большим нажимом сказал Солодуев.
— Это хорошо, — согласился Трофименко, — когда есть мнение. Вот у меня тоже мнение, что передачу давать не следует.
Но ничего этого сама Москвина мне не рассказала, сказала только: «Руководство сняло вашу передачу».
— Кто это звонил? — спросила Ната.
Это само по себе было странно. Ната никогда не спрашивала, что да кто, если хотел — говорил.
— Москвина. Сказала, мое выступление не идет.
— Слава Богу, — сказала Ната.
Таким образом, Юрка не узнает, что я продал его во имя собственной выставки. Никто не узнает. И Юрка не узнает. А еще утром я представлял, как по радио во всеуслышание будет объявлено, что я продал Юрку. И мне захотелось бежать и ломать приемники в каждом доме. Но теперь никто не узнает. И приемники могут спокойно наигрывать марши и любые сочинения, от которых плачут Львы Толстые. «Лев Толстой плакал, слушая «Andante Cantabile» Чайковского» — об этом всегда сообщают по радио.
— Глупенькая ты, — сказал я Зине, — никакая Москвина не собака. Она хороший человек.
Мы все еще сидели на ящиках в тылах голубого магазинчика, я еще чувствовал за пазухой ее руку, кровожадная щель в досках перестала ощущаться вовсе. Я повторил:
— Она хороший человек.
Зачем мне было объяснять Зине, что я понял сейчас? Та женщина предвидела ужас, который охватит меня назавтра после записи, и, может быть, представляла, что мне захочется бегать по Москве и ломать приемники. Она похоронила на кладбище использованной пленки мое корыстолюбивое малодушие, мое предательство. Даже не начертав на коробке профессиональной эпитафии: «В фонд».
И вот выясняется, что Зина сберегла эти останки, и, может, завтра кто-нибудь возьмет эту пленку, послушает и скажет: «Ха! Силен Проскуров! Вот, оказывается, какие вольты у него в биографии имеются. Забавно бы пустить такое в эфир — как раз к нынешней выставке Сивака, подверстать ко всем похвалам!»
Похвалы были. И выставка была. У Юрки сейчас выставка, и во все газетах есть хвалебные отклики. Месяц назад на вернисаже я увидел его и не узнал сперва. Юрка облачился в чернейший костюм, торжественный, как у гробовщика. Пегие вихры победно вздымались над лысиной, очки (клянусь, оправа — черепаха чистой воды) он поддергивал к переносице, морща нос смешным движением чихающего кролика. С Юркой была жена. (Господи ты боже мой — Юрка женат!). Он то и дело целовал ее в бледный висок, не стесняясь присутствия посетителей.
— Здорово, мэтрило! — крикнул мне Юрка.
Мы обнялись. От этого самого «мэтрило» пахнуло теплым родством студенчества. Как-то наш преподаватель рисунка сказал про меня: «Проскуров — законченный мэтр». И Юрка подхватил: «О ветер-ветрило, о мэтр-мэтрило».
Я тронул пальцем белую стрелу его рубашки, вонзавшуюся в черноту пиджака:
— Ну ты, старик, сила. Крахмал. С ног до головы — сплошной крахмал.
— А что, между прочим, — он надул щеки от гордости, — я тут был на приеме в честь Ренато Гуттузо, так я был элегантнее Гуттузо. Без вопросов.
Я очень радовался за Юрку — радовался выставке, жене, этому нелепому черному костюму. Честное слово, я даже не вспомнил про пленку и про те времена, хотя в нынешней экспозиции были картины, поносить которые требовал Солодуев. Вроде о моем неопубликованном выступлении не знал не только он — я сам.
Он не знал. Он никогда не узнает. А ведь если бы не вышли эти двое с ведром, я бы сказал ему. Я же ехал с тем, чтобы сказать. «Слава Богу!» — сказала Ната. И будто захлопнулась крышка, лязгнул замочек — все, ничего нет, нет моего выступления, ничего нет. Ната вышла из комнаты, унося этот невидимый ключ — «слава Богу!».
Но я тут же начал пальцем ковырять в замочной скважине ящика, сглотнувшего «все». Юрке нужно сказать. Пусть никто не знает — слава Богу. Но Юрке нужно сказать.
Юрка кончал фрески в новом спортивном зале в новом районе. Я тут же оделся и поехал на стройку.
Будущий гимнастический зал еще не был прибежищем спортивных снарядов, еще кони, кольца, брусья не сообщили ему деловитой утилитарности. Просто объем воздуха, заключенный между шестью плоскостями, из которых одна была сплошь стеклянной, а противоположная ей расписана сиваковскими фресками.
Поджарые длинномордые кони, похожие на борзых, выгибали плоские крупы в грациозном прыжке; свернутые по спирали тела акробатов летели им навстречу; яркие мячи взрывались, как цветочные бутоны, поощряемые внезапно пришедшим днем лета. И на этой точно лишенной границ плоскости между конями, гимнастами, шарами колыхались перистые тела летучих рыб и медлительные женские фигуры.
Я сразу понял: Сивак наконец осуществил свою давнюю идею возрождения и модернизации древнекритской культуры. Я помню, как еще в институте Юрка буквально обалдел, увидев репродукции с крохотных гемм и камней Киосса. XX век до нашей эры утверждал на Крите примат природной грации и красоты. Гимн силе и триумф победителя пришел в искусство греков пятнадцатью веками позже. Вместе с умением не только побеждать, но и порабощать.
В сиваковской фреске не было сюжетного единства, присутствие тех или иных фигур не вызывалось логической необходимостью. Но вся плоскость была объединена поразительно четким единством ритма. И еще. Она рождала ликующее ощущение, родственное тому, что водило резцом мастеров и — через сорок столетий! — продиктовало Бабелю фразу о том, что жизнь — это луг в мае, по которому ходят кони и женщины.
— Здорово, мэтрило! — Юркин выкрик ударился о близкий потолок и оттуда рухнул на меня. Сивак сидел на стремянке где-то на самой верхотуре.
Он спустился оттуда — неуклюжее существо в грязной спецовке, в очках, напоминавших заезженный детский велосипед. Не как должен бы спускаться творец этого фантастического мира.
— Ну как, мэтр? Как? Только честно, честно. Дело? А, дело?
— Дело. Очень даже дело.
— Ты попал на пышный эндшпиль. Сейчас Зотова прибудет.
Мимо нас прошла девушка рабочая в щегольском комбинезоне и ромашковой косыночке по брови. Потом в зал вошли другая, третья. Вероятно, у них были какие-то дела, но я видел только, как они пересекали зал в разных направлениях. Пол зала был засыпан толстым слоем опилок, поглощавших звук шагов, и мне снова вспомнился луг в мае, по которому ходят кони и женщины.
— Прошу, Татьяна Ивановна.
В зале так же бесшумно возникла новая группа людей. Заведущая отделом чего-то там Зотова появилась в сопровождении руководителя стройки и еще двух мужчин в одинаковых черных пальто с серыми каракулевыми воротниками — толстого и тонкого.
Грузная седеющая Зотова с лицом многодетной матери долго и печально смотрела на фреску, потом перевела глаза на начальника строительства:
— Как же так получилось, товарищ Смирнов?
Смирнов шмыгнул красным носом: он был без пальто и, видимо, ждал комиссию в неотапливаемом еще вестибюле.
— Так ведь эскизы утверждались в управлении, Татьяна Ивановна.
— Как же так получилось, Петр Семенович? — повторила Зотова — уже к тонкому.
— Это шло помимо меня, Татьяна Ивановна, надо поднять документацию, кто утверждал и утверждал ли вообще. Тут похоже на самостийность. — Тонкий сыпал словами.
— Что значит — самостийность? — вскинулся строитель.
— То значит, — мрачно сказал толстый.
— А получилось нехорошо, Юрий Васильевич. — Зотова повернула к Сиваку крупную темную голову, охваченную венцом косы.
— Владимирович, — поправил Юрка.
— Мы ждали от вас картины со спортивной тематикой, которая побуждала бы молодежь на новые достижения в спорте. А вы тут не то цирк, не то зоопарк представили, не поймешь. — Она улыбнулась своей шутке, а толстый и тонкий захохотали.
— Да, без поллитры не разберешься, — сказал толстый.
— Какова же задача данного барельефа, Юрий Васильевич? — спросила Зотова.
— Это не барельеф, это фреска, — сказал Юрка.
— Тем более, — вставил толстый.
— Не знаю, тут все нарисовано. — Юрка энергично сморщил нос, подтягивая очки.
— Ох, Юрий Васильевич, Юрий Васильевич, — Зотова обняла Сивака за плечи, — я же знаю: вы потом будете говорить, что мы, мол, зажимаем новаторство в искусстве. Ведь так? А мы должны помогать вам, не давать скатываться. Должны ведь, Юрий Васильевич?
— Владимирович, — снова сказал Юрка.
— Это к делу не относится, товарищ Сивак, — буркнул толстый, но Зотова строго на него посмотрела, и он смолк.
— Вам бы только чего-нибудь такое накрутить, чего на свете не было, чтобы не как у людей. А молодежь на этом учится.
Неожиданно Юрка улыбнулся и почти с нежностью произнес:
— Вы счастливый человек, Татьяна Ивановна. Вы живете, как первый человек, пришедший на землю. Будто до вас ничего не было — ни цивилизации, ничего. Вот этому искусству четыре тысячи лет, и четыре тысячи лет оно радовало людей. А вы смотрите и говорите — «накрутить, чего не было на свете». Это трогательно. Ей-богу.
Тут по лицу Зотовой стала расплываться фиолетовая темнота, как клякса на школьной промокашке, и голос ее сразу утратил материнскую покровительственность.
— Идемте, товарищи, — Зотова повернулась к строителю. — А вам, товарищ Смирнов, придется напомнить, что сооружение молодежных комплексов — задача большого воспитательного значения. Неужели я должна краснеть за вас, когда сам товарищ Солодуев из Союза художников СССР обвиняет наше руководство в неразборчивости? — Она произнесла «Союз художников СССР» с ударением на последнем слове, будто давая понять, что преступление имеет не областной, даже не республиканский, а прямо-таки общегосударственный масштаб.
— Так ведь было предложено, — залопотал было тонкий.
— Союзом художников СССР, — отрезала Зотова, — было предложено привлекать авторитеты. А не тех, кому еще в шарики-мячики играть. — Собственная шутка снова смягчила Зотову, и она уже умиротворенно двинулась к выходу.
Группа покидала зал, и тут же, почти мгновенно, будто они ждали за дверью, вошли два маляра с ведрами и кистями. Один из них, постарше, крикнул удаляющейся группе:
— Так что, товарищ Смирнов, ликвидируем?
Тот обернулся:
— Ждите указаний.
Юрка еще не понимал смысла происходящего и недоуменно водил глазами по залу — то на фреску, то на маляров, то на уплывающую группу. Но я-то понял и стремительно ринулся за уходящими. В вестибюле я подошел к Зотовой и, выразительно понизив голос, сказал:
— Татьяна Ивановна, разрешите вас на минутку.
Зотова удивленно вскинула глаза, но отошла и тоном руководителя, великодушно принимающего посетителя в неурочные часы, вымолвила:
— Слушаю вас.
— Я хотел бы предупредить вас, Татьяна Ивановна, — голос мой обрел интимность, — что мнение товарища Солодуева — это, как бы сказать, только личная точка зрения. Я так полагаю. — Мой голос уже шелестел, как на предсмертной исповеди. — Дело в том, что эскизы видели. И они понравились.
Я не соврал. Ведь действительно эскизы рассматривались на худсовете. И действительно понравились. Но странная, неконкретная форма слов «видели» и «понравились» и особый нажим, с которым я их произнес, сообщали этим словам таинственное величие. Будто речь шла о некоем суждении, рожденном в неведомых надземных сферах, высказанном кем-то, чье мнение не подлежит критике, кто не имеет даже земной фамилии и должности. Или, напротив, суждение это — плод серьезных многоступенчатых коллективных согласований и оттого тоже непреложно в своей конечности.
— А вы откуда? — спросила Зотова.
— Из Союза художников СССР, — сказал я. И опять не соврал. Зотова торопливо кивнула.
— Понимаю, понимаю. — Но тут фиолетовая темнота снова поползла по ее лицу. — А, собственно, что вас волнует? На основании чего этот сигнал? Происходит осмотр объектов по готовности. Я лично осуществляю.
Я скромно потупился:
— Да нет, я просто для информации.
Я ничего не рассказал Юрке. Он не понял даже, что ретивость строителей могла поставить под угрозу существование его фрески. Фреска была дописана, ее репродуцировали в журналах и хвалили. Я даже испытывал особую гордость оттого, что Юрке неведом мой дипломатический акт дружбы, спасший его работу. Не знает, и хорошо. Я знаю. Это главное.
Но и про пленку я ничего не сказал Юрке. Он так ничего и не узнал. Когда неделю спустя я зашел к нему домой, соседка сказала, что Юрка уехал из Москвы неизвестно на сколько.
А теперь он может узнать. И не от меня. И все узнают…
— Ты можешь принести мне эти пленки? — спросил я Зину.
— Желаешь свой голос слушать? Зачем тебе? Ты и так можешь себе говорить что хочешь. Это у меня ты — только в коробочке. — Вдруг она погладила меня по лицу согревшейся, но еще красной ладошкой. — Вообще-то ладно. У нас, конечно, пленку выносить из здания не разрешают, но я принесу. Себе еще дубли сделаю. А то, может, ты из моей жизни опять испаришься. Все-таки голос останется. Придешь вечером?
Я задержал ее руку у себя на щеке и сказал:
— Приду.
«Приезжать не надо. Я не хочу, чтобы ты сердилась, и ты зря вскинулась тогда. Но приезжать не надо». — Я сжал телефонную трубку, будто на ее черное тельце можно было опереться, чтобы не растерять храбрости. «Говори громче. К чему этот интимный шепот при подобных заявлениях? — сказала Кира. — Или там кто-нибудь стоит рядом, и ты таишься?» «Никого тут нет, с чего ты взяла?»
В тесной комнатушке почты действительно я был один. Телефонистка пряталась где-то за фанерной перегородкой, и ее присутствие не ощущалось.
Маленькое облупленное здание почты втерлось в компанию многоэтажных домов институтского городка, похожих на солидно одетых людей. Дачный поселок Березовка отделялся от городка научно-исследовательского института железнодорожным путем. Городок назывался Зеленогорск, хотя при его строительстве все деревья в округе были вырублены и никакой зелени тут не было. Но ведь и в Березовке росли только ели и сосны. Никакой березы я не видел. Почту в новом доме еще не открыли. Звонить в Москву я приходил сюда.
«Хотя вот вошла какая-то женщина. Так что божественная интуиция тебя не подвела. — Я попытался шутливым тоном отодвинуть объяснение. — Впрочем, женщина мне неизвестна и от нее таиться незачем».
Женщина грузно прошла к окошечку телефонистки, половицы под ней ревматически хрустнули.
— Что ж это за люди, Лидок? — сказала она, обращаясь к дырке в фанере. — Уговаривай не уговаривай — как в стенку.
— Не говори, — возникло за перегородкой, — чем им инвалидская машина помешала?
Видимо, женщина уже заходила сюда сегодня, и это было продолжением разговора.
— А что в горисполкоме сказали? — спросила телефонистка.
— Сказали — имеет право машину ставить. Им и другие соседи все говорят: безобразие — к инвалиду приставать. А они свое.
«Ну как шекспировский альбом?» — спросила Кира. «Своим чередом». «Видимо, подмосковная интрижка дает понимание шекспировских страстей». Я представил, как она зарывается в глубины кресла-борова, поджав под себя ногу. «Шекспировские страсти остаются за тобой. Тут мирно. Тут — чисто-светло». Я очень старался, чтобы голос звучал подобродушнее.
— Чего, Лидок, они мне только не кричали, эти, из седьмой квартиры, — опять заговорила женщина. — «Нашла повариха инженера спать!» А он же, знают ведь, от пояса недействительный. У него ж в хребетик ранение было.
— Господи! — вздохнула телефонистка.
— А этот, из седьмой квартиры, прямо при нем: «Ждешь, когда помрет, площадь двухкомнатную заполучить». При нем — надо же, Лидок! А что, мне это требуется? У меня и своя комната была. Я жалею его — и все.
— Не расстраивайся, Маруся. Все же, кто люди, знают, что ты за ним как за ребенком ходишь. А помнишь, когда у него и площади не было, ты его в тазике мыла. И питание с работы носила, когда он вовсе недвижимый был. Я перед кем хочешь заявлю: она и денег никогда не брала. Не расстраивайся.
Голос телефонистки взлетел над перегородкой, и оттого, что ее не было видно, казалось, голос этот существует сам по себе, голос сострадания.
«Я закурила», — сказала Кира. Я услышал сквозь потрескивание подмосковных пространств, как она затянулась. — «Хочешь сигарету? На». Я предвидел, что она постарается в конце концов сделать вид, что никакой размолвки не произошло. «Здесь не курят, — ответил я. — Тут как раз и плакатик: «Не курить, не сорить!».
Женщина у перегородки шумно вздохнула, переминаясь с ноги на ногу, отчего снова хрустнул пол.
— А может, позвонить кому, Лидок? Набери, может, газету «Вечерку», там бывает жалостливое. Скажи: так и так, герой войны, инвалид, лежа на инженера выучился, без машины двигаться не может, а соседи склочничают, что машина под окнами стоит. Где же человечество, скажи? Как же, скажи, в людях совести нет? — Она помолчала, потом совсем тихо прибавила: — Про меня не говори. А то тоже раздумывать начнут: что это чужой бабе за дело? Не все, Лидок, понимают, что всякая баба, она жалостью живет. Чем жальчей, тем ей сродственней.
«И еще на плакатике надпись «Не приезжать!». — Я малодушно сделал жалкую попытку ироническим тоном смягчить впечатление от произносимого. Потом снова спасительно вцепился в трубку и сказал уж по-другому: «Не приезжать, потому что мне это не нужно и не стоит разыгрывать спектакли».
— Нет, я звонить не буду, — сказала телефонистка. — Я лучше опишу. Когда в газете пропечатают, так люди-читатели их позорными письмами завалят. Подожди, звонят. — За перегородкой задребезжало, и телефонистка крикнула: — Восемнадцатый талон! Москва! Идите в кабину.
Я держал в руке восемнадцатый талон.
— Кто Москву заказывал? Абонент на проводе… что он, ушел, что ли?
Женщина обернулась ко мне, но я не пошевелился: я ведь уже мысленно прошел через весь разговор с Кирой и не было смысла его повторять вслух. Это тоже смахивало бы на наше обычное выполнение программы.
— Ушел, наверное, — сказала женщина. И мне: — Не вы Москву ждете?
— Нет, я не жду Москву. — Я поднялся и вышел из комнаты.
Чтобы пройти от почты до станции, нужно было пересечь единственный на этой стороне чахлый лесок. Когда от станции к городку люди шли с электричек, лесок походил на затертый городской скверик, в котором идет деловитое будничное гулянье. Сейчас лесок был пустынен. Это было затишье перед прибытием поездов, которые привезут людей с работы: часть зеленогорцев работала в Москве.
Я пытался представить себе женщину, разговаривавшую с телефонисткой: занятый мысленными переговорами с Кирой, я даже не рассмотрел, какая она была. Да и сам разговор у перегородки не очень отчетливо дошел до меня.
Я остановился на откосе. Железнодорожная четырехпутная колея и домик станции, приделанный (как это сооружается в детских игрушках) к площадке перрона, лежали в неглубоком распадке между двумя насыпями. За противоположной насыпью тянулась Березовка, и летом весь откос был обычно запружен ребятней с велосипедами, готовыми принять на свои багажники материнские сумки, груженные московской снедью. Сейчас там не ждал никто. На этой стороне, кроме меня, стояли молодая женщина и старуха с кошелкой лука.
Одновременно с двух сторон к перрону подошли две электрички, вдвинув его между своими телами. Перрон заполнился выходящими, но за ближним поездом мне была видна только общая масса голов, которая вылилась на платформу, точно краска, выдавленная из тюбика.
Так же одновременно, вскрикнув, электрички разошлись. Хвост каждого поезда заканчивался глазастой ящеровой головой водительской кабины — ведя электричку в обратный путь, машинист переходил с одного конца на другой, и хвост превращался в голову. Электрички расходились, уставившись друг на друга, точно пятясь. Кто-то растаскивал их, стараясь развести, и чем быстрее бежали они, тем мучительнее казался их порыв навстречу друг другу, который обречен на разлуку.
За поездом перрон обнажался, и с него стал стекать народ. Площадка почти опустела, когда я увидел Зину. Насыпь, где я стоял, была совсем рядом, и я видел все подробно: как Зина ищуще оглядывалась по сторонам, как левой рукой в варежке держала хозяйственную сумку, а правую засунула в карман пальто. Я даже видел, что поверх продуктов в сумке лежала голубая круглая банка сельди, такой же, как тогда продавали в магазинчике. Не хватало еще, чтобы она покупала для меня селедку банками! Зря я в тот вечер нахваливал угощение.
И все-таки у меня что-то потеплело внутри от этой банки и от выражения Зининого лица. Она вовсе не казалась растерянной, не увидев никого ни на перроне, ни на той стороне пути. Лицо у нее было счастливое, и я знал, что и это лицо, и эта банка имеют отношение только ко мне. Вдруг она засмеялась, подпрыгнула и побежала к противоположной насыпи, вскидывая ноги так, что были видны круглые подошвы старых резиновых сапожек.
Я знал, что через минуту нагоню ее, но круглые подошвы вдруг пропали, и в памяти возникли мучительно растаскиваемые электрички с исступленными мордами стеклянных ящериц — несоединимости и бесповоротной разлуки.
Но Зину я нагоню через минуту. Я побежал с насыпи, когда молодая женщина, только что стоявшая рядом, зверино закричала у меня за спиной, а под ноги мне посыпались какие-то твердые шары, которые я отбрасывал на бегу.
И только тут я понял, куда пропали подошвы серых сапожек и откуда перед глазами возникла морда электрички. Наперерез Зине ворвался незамеченный электровоз, шедший по товарной колее.
…Она лежала на носилках «скорой помощи» (машина подошла к самому основанию откоса), и правая рука без варежки свешивалась к земле. «С правой руки к плохому», — повторил я про себя ее слова. Возле красной короткопалой ладошки на снегу лежала круглая блестящая луковица. (Ах, так это луковицы из старухиной кошелки путались у меня под ногами!). Ладошка тянулась к золотистому шару, как к детскому мячику, и Зина снова казалась ребенком, которого так и не коснулись женские невзгоды.
В толпе, непонятно откуда появившейся, переговаривались:
— Целая — видать, волной откинуло.
Санитары взялись за носилки, и я рванулся влезть за носилками в машину.
— Не нужно, гражданин, поздно теперь ее сопровождать, — сказал санитар. Он покосился на маленькую руку, протянутую к луковице, добавил угрюмо: — Лучше родителей пойдите подготовьте. Вы ей близкий?
— Да, да.
Я все-таки пытался протиснуться в низкую щель машины. Но санитар отстранил меня, кивнув куда-то вниз:
— И сумку приберите.
Я поднял с земли Зинину сумку. Банка прочно сидела в ее горловине, ничем не потревоженная.
Теперь нужно было пойти к Вите. Целый час я топтался на улице, ища слова. Я так и не знал, что сказать.
— Вот мамина сумка, Витюша, — сказал я.
Ничего глупее нельзя было придумать: я помню, как долго Натины вещи всякий раз вызывали во мне мучительную судорогу. Но Витя не заплакал, не закричал.
— Я знаю про мамку, Кирилл Петрович. Соседи были. — Он взял из моих рук сумку и поставил ее на стол. — Звали к ним ночевать. Сейчас опять придут.
— Ты теперь будешь жить со мной. Будешь? Сперва тут поживем, до конца учебного года, а потом переедем в Москву.
Он покачал головой:
— Нет. Тут хозяйство все. Куда я это брошу?
— Черт с ним, с хозяйством.
— Нет. Мамка работает, наживает, а я брошу. — Он говорил о ней как о живой.
— Ну возьми тогда это пока. — Я вытянул из кармана пачку десяток.
— Спасибо, Кирилл Петрович, — Витя не отстранил моей руки, просто обстоятельно объяснил: — мамка в аккурат премию получила. И еще книжка у меня есть — мамка на комнату мне копит, когда с армии приду.
Мне было не по себе от этого взрослого, рассудительного спокойствия, будто в этом мальчике, как и в матери, уживались сразу ребенок и взрослый. И я не знал, как мне говорить с ним, беспомощно шаря глазами по комнате.
На стенах тут и там были пришпилены фигурки причудливых зверей, сплетенных из пестрых ракордов магнитофонной пленки. Я тронул пальцем желтого утенка со свирепым зеленым глазом змеи.
— Твоя работа?
— Это мамка забавляется. Она вообще выдумщица. — И через паузу: — Большое воображение фантазии.
Витя замолчал, застывшим взглядом смотря на утенка, потом отвернулся к столу и стал распаковывать сумку. Он вынул голубую банку, потряс ее — внутри что-то твердо забилось.
— А я думал, Зина опять селедку привезла, — сказал я.
— Нет. — Он слегка улыбнулся. — Она говорила: банка — пленки солить. Она ее в тот раз в магазине выпросила.
Витя снял крышку. Внутри лежали круглые рулоны пленки, намотанной на металлические бабины. И еще одна плоская картонная коробка с этикеткой — в таких коробках пленка обычно хранится в фонотеке. Я взял в руки один рулон. На бабине было написано карандашом: «К.П. Выступление 6/II-72 г.». На другой то же и другое число. Всего шесть рулонов. На этикетке картонной коробки значилось: «Передача «Художник и время». Выступление К. П. Проскурова». И тоже дата. Та давняя чертова дата. Эта пленка не была дублем. Это был оригинал.
— Это мои выступления на радио, — сказал я Вите.
— Возьмите их тогда себе. Мамка, наверное, их вам привезла.
— Наверное.
— Возьмите. — Он уложил рулоны в банку и протянул мне.
— Давай жить вместе, — попросил я. — Тебе будет хорошо, увидишь.
— Я знаю. Вы хороший. Мамка всегда говорит, что вы хороший. Но я не могу — хозяйство. Вы сейчас идите. Ладно? Вы завтра опять приходите.
Какая-то ноющая пустота заполнила меня, когда я оставил этот странный дом, дом двух взрослых детей. Теперь — одного.
Я стоял на крыльце не двигаясь, и в голове была та же ноющая пустота. Потом, утопая в снегу, я пробрался к окну и заглянул в комнату. Витя сидел у стола, обхватив обеими руками Зинину сумку, зарывшись лицом в ее опустевшую утробу. Края сумки, отороченные разъятыми полосками застежки «молния», прикусили Витино лицо, точно челюсти зловещей рыбы. И я сразу вспомнил, где я уже однажды видел такие же мелкозубые пасти, где мне пришло на ум это сравнение.
…Убегая на работу, как всегда, опаздывая, Ната металась по квартире и причитала:
— Опять не успею взять сумку из ремонта. Когда кончаю, у них уже закрыто.
— Давай квитанцию, я получу.
Она изумленно вскинула брови:
— Ты? Нет уж. Я не могу позволить себе роскошь иметь смешного мужа, который разгуливает по улицам с дамской сумкой.
— Я спрячу ее в портфель.
В тесном закутке мастерской у горизонтально вытянутого прямоугольника окна, за которым помещались мастера, ждала короткая очередь. В правом углу этой прямоугольной низкой щели застыло неподвижное лицо сидящего приемщика. За его спиной двигался какой-то человек. Он не был виден в рост: щель открывала только часть живота, обтянутого старым брезентовым пиджаком, застегнутым на единственную пуговицу — допотопную, витую, из желтой меди, видимо, некогда украшавшую женский салоп. Эта блестящая точка двигалась в щели туда-сюда. Так движется на экране прибора пучок света, указывая местонахождение объекта наблюдения. Я наблюдал за пуговицей. Когда дошла очередь до меня, точка вышла за пределы экрана и долго не появлялась. Потом приемщик сказал:
— Пройдите туда. Поищите сами свою сумку.
За перегородкой я увидел владельца пуговицы во весь рост. Это был Юрка Сивак.
— Здорово, мэтрило! — Юрка хлопнул меня по плечу. — Ищешь сумку?
— А ты? — Вопрос был закономерен и нелеп в то же время.
— Не наивничай, — сказал Сивак, — понимаешь ведь: сумки чиню. Вот соседка попросила ее ридикюль подлатать. Симпатичная старушенция. Заботится обо мне. Вот видишь, — он покрутил пуговицу на пиджаке, — пуговицу присобачила. Все сокрушалась, что мой фрак без пуговиц.
Мы стояли в приземистом темноватом помещении, где со стеллажей, похожих на многоярусные нары, свешивались сумки, портфели, папки. И всюду зияли мелкозубые пасти чудовищных рыб с разъятыми «молниями».
Мы обнаружили Натину сумку, и Юрка пошел проводить меня до дверей.
— А ты молодец, мэтрило. Ты тогда оказался на высоте. Это без вопросов. Я же знаю, что тебе Солодуев предлагал. Не все бы устояли. В общем, спасибо. Можешь смертный час встречать без боязни. Это важно. А то, как говорил поэт: «Легкой жизни я просил у Бога. Легкой смерти надо бы просить». Ну, будь. — Он ушел за перегородку.
«Легкой жизни я просил у Бога…» Если бы я что-нибудь мог просить у него, если бы мне когда-нибудь приходило в голову с ним разговаривать… Наверное, те, для кого существует Бог, в более выгодном положении, хотя и их диалог с небесами чаще всего превращается в монолог. Нам приходится самим хлопотать о легкости жизни. И «когда придет твой последний час, ровный красный туман застелит очи» — к кому обращаемся мы? К прошлому? К будущему? К близким? К совести? Может быть, все это, сбитое воедино, и есть высшее начало, которое другие зовут Богом?
Но ведь на самом пороге и те, для кого есть вера, и те, для кого ее каноны — достояние литературы, все говорят уже обычные человечески слова, не похожие на покаяние. Что же сказал перед смертью Шекспир, умевший управлять богами? Ната сказала: «Смешно: когда умирает муж, остается вдова, а когда умирает жена, остается жених». А Зина ничего не сказала. Она не готовилась к этой минуте. А у меня еще масса времени — десять лет, или двадцать, или час. И если бы у меня был Бог, мне было бы что сказать ему.
Как писал Уэст: «…бессмысленность религии воспринимается как утрата того, что было в прошлом реальностью…»
Я не знаю его имени, я не верю в его существование, я не знаю, как обращаться к нему. Но я бы сказал: «Видишь ли, я знаю мой грех, хотя он не числится среди смертных. Мой грех — понимание. Я никогда не метался в сомнениях, пытаясь распознать добро и зло. Я всегда знал, что есть добро и что — зло. Но, может быть, у меня не хватало низшей добродетели мужества, а может быть, я приучил себя жить, считая, что повседневность не наделена бессмертными категориями. Я хотел вернуть людям деяния шекспировских героев, но ведь я не мог вспомнить лица женщины, жертвенно и величаво посвятившей жизнь чужому инвалиду и выходящей сражаться с людской черствостью. И разве Зининой любви я искал бы место среди чугунных памятников нетленных шекспировских чувств? Я понимал многое, и многое открывалось мне еще и еще. Но оно существовало само по себе, а я сам по себе. «Берусь тебе любого оправдать…» Я понимал необходимость внутренней свободы — и всегда был на поводу у чего-нибудь. Мой грех — понимание. Заблуждения можно прощать. А понимание — нельзя. И я не прошу прощать меня»…
Снег, насыпавшийся за отвороты моих бурок, растаял, и я вдруг почувствовал, как хлюпает там вода и как у меня застыли колени. Я еще стоял в сугробе под Витиным окном.
Мальчик все сидел в той же позе, и я подумал, что он уснул. Но в эту самую минуту Витя судорожно притиснул к себе сумку и забился лицом о металлические зубы «молнии».
После похорон я уложил Витю, незаметно бросив ему в чай таблетку снотворного, и вышел на улицу.
Поселок был привычно недвижим, и пустые дачи безмолвно хохлились за заборами. Но сейчас у меня не возникало чувства, что за задвинутыми ставнями окнами кипят голоса и страсти покинувших дома летних обитателей. Напротив, прошлое — давнее и недавнее — казалось похороненным в сосновых склепах побуревших срубов. Точно и вправду можно заколотить входы в память, где спрячешь свои проступки и даже совесть. Четыре гвоздя, доска, раз, раз — и со всем этим покончено. Дом отзимует — и начинай новый сезон.
Я оказался у станции. Но едва я увидел площадку перрона с прилепленной к ней избушкой касс, я побежал через железную дорогу к леску на той стороне. Потом через лесок.
— Дайте мне Москву, — сказал я в окошко.
Телефонистка приблизила лицо к круглой прорези в перегородке, с сомнением посмотрела на меня и спросила:
— Опять не будете говорить?
— Буду, — сказал я.
На этот раз Москву дали сразу.
— Это я. Здравствуй. — Я не цеплялся за трубку, она в руке была почти бесплотной.
— Я все знаю. Я встретила Москвину, — торопливо сказала Кира. — Это правда ужас.
— Да, — сказал я.
— Можно мне приехать? — У нее слегка надломился голос.
— Нет. Не нужно. Сходи, пожалуйста, в «Изогиз» и скажи, что шекспировский альбом я в срок не сдам. Что-то не работается. Если могут, пусть пролонгируют договор.
— Я схожу. Не беспокойся об этом.
— И зайди к теще. Я домой не приеду долго. Может быть, до весны. Мне это сложно ей объяснять. Ты скажи сама.
— Скажу. — Она помолчала. — Ну разреши мне приехать. Я не буду обременять тебя.
— Нет, Кира. Не нужно.
В трубке снова наступила тишина, будоражимая потрескиванием, а потом просочился совсем грустный ее голос:
— Как странно: все, кто тебе становится дорог, умирают… Наверное, я потому для тебя ничего и не значу, что все живу и живу…
— Будь здорова, — сказал я.
У своего дома я увидел женщину и сразу узнал ее. Это была Москвина. Я нисколько не удивился, хотя меньше всего можно было ожидать встретить ее тут, тем более после долгого перерыва в наших встречах: с той передачи о Сиваке мы уже не работали вместе. Но я не удивился: в последнее время я же думал о ней, и сейчас Кира ее упомянула. А у меня всегда так.
— Входите. Там открыто. — Я пошел к крыльцу.
— Нет, нет. Я на минутку. — Она покачала ладонью, и мне показалось, что над рукой поплыл сигаретный дым. — У меня странная миссия, Кирилл Петрович. Зинуша вывезла из радио пленки, а кто-то заявил об этом начальнику охраны. Разумеется, ей уже ничего не грозит. Но нам бы не хотелось, чтобы она была чем-нибудь запятнана. Даже сейчас.
— Да, да. Пленки у меня. — Я поймал себя на том, что больше всего меня удивил не повод приезда, а непривычная для Москвиной манера говорить. Сосредоточенная, без всякой экзальтации.
— Я знала, что она привезла их вам. Сама она никогда не сделала бы ничего недозволенного. Это удивительная девочка. Поразительно честная и открытая. Но ради вас — вот видите…
— Пройдемте в дом. Пленки там. — Я сделал два шага по ступенькам.
— Я подожду. Принесите, пожалуйста. — Москвина отвернулась и произнесла будто не мне: — Ее сменщица мне рассказывала, что Зина собиралась снять дубли для себя, а потом сказала: «Теперь не надо. Теперь у меня и так есть его голос»… Она поразительная девочка.
Банка с рулонами лежала на табуретке, той самой табуретке, где сидела Зина. Я вынул эти коричневые блины с блестящей сердцевиной, потом картонную коробку.
Да, но ведь у этой пленки нет дубля! И во всем свете уже нет человека, знающего о существовании свидетельства моего поступка. Зинина смерть освободила меня от страха, от прошлого. Это как заколоченная дача. Нужно перезимовать и начинать новый сезон.
— Тут все? — спросила Москвина.
— Все, — сказал я.
Я видел, как Москвина шла по дорожке, ведущей к калитке. Тропка узким желобом тянулась внутри ограждения из продолговатых сугробов, и полы ее длинной шубы смахивали с них радужную пыльцу. Я видел, как плавно и ритмично вздрагивает тяжелый жгут волос под платком. Это спокойное шествие вселило мирную беззаботность в мою душу.
Но у калитки Москвина остановилась и, не оборачиваясь, замерла. И тогда я почувствовал, что по моей спине, по шее, куда-то за уши, обжигая, ползет панический ужас. Она все поняла. Она поняла, что я «зажал» криминальную пленку, что я пытаюсь скрыть свое предательство. Наверное, она даже знает о моих покаяниях. «Мой грех — понимание»… Сколько людей билось в поисках истины, пытаясь распознать точную грань между добром и злом. Я всегда знал, что есть добро и что — зло, но, малодушно подыскивая оправдания, поступал вопреки этому знанию. И даже сейчас, когда я уже был готов обрести добродетель — низшую, по Платону, — мужество, я снова ринулся в заманчивое укрытие спасительной лжи… А Москвина все поняла. Она все поняла и знает все. Сейчас она скажет мне об этом.
Москвина повернула ко мне голову.
— Не могу совладать со сложной системой этой задвижки, — сказала она растерянно, — помогите, пожалуйста.
Ужас отхлынул у меня из-за ушей и благодатно скатился по спине. Я кинулся к калитке, отбросил загрубевшую от инея щеколду. Я не мог удержать радости:
— Я провожу вас, Екатерина Павловна, что же это я… Хорош кавалер и хозяин.
— Нет, нет… — Ее рука в мохнатой варежке, утратив обычную плавность, взметнулась у моего лица. — Мне не хотелось бы идти подле вас…
…Я шатался по комнате, бессмысленно переставляя предметы и зло твердя про себя: «Подле вас… Господи, какая претенциозность — подле!..» Как некогда фраза «виновных нет, поверь, виновных нет», эта, новая, теперь вертелась в мозгу, и я не мог избавиться от нее, от своего раздражения и беспомощности. «Господи, какая претенциозность — подле!..»
Я почувствовал, что продрог, нужно было растопить печку. Спички куда-то запропастились. «А попросить соль-спички уже негде», — подумал я и произнес вслух:
— Господи, какая претенциозность — подле! Надо же придумать такое!..
Ксения Троицкая
Звонок смахивал на междугородный: продолжительный и требующий к ответу. Тем не менее, оказалось — всего-навсего Бося из своего кабинета, смежного с нашей рабочей комнатой.
— Ты могла бы зайти? — Вежливая просительность Босиного голоса ничего хорошего не предвещала.
— Это срочно? — пощупала я ситуацию.
— Да, хотелось бы.
Ясно: сейчас повесит на меня новое задание, а я еще не отписалась по предыдущей теме.
В «предбаннике» секретарша Лариса возилась с кофеваркой. Одновременно говорила, прижав плечом к уху телефонную трубку. Когда я вошла, Лариса вскинула на меня ресницы и почти с ужасом произнесла:
— Замри! Хельга — мечта плебея.
Не разгадав смысла загадочной фразы, я спросила:
— У шефа кто-то сидит?
Кофейный ритуал обычно знаменовал присутствие гостя. Когда впервые в редакции появился Мемос, кофе тоже лился рекой.
«Кофе! Еще кофе!» — выкрикивал Бося, а Лариса призывно склонилась над Мемосом, обмахивая его колени подолом короткого желто-зеленого платья. Да, платье было на ней тогда желто-зеленое, и наклонялась она вот именно так. Черт, черт, черт, когда же избавлюсь от этих всех памятных подробностей?
— Кто там? — повторила я.
— Прекрати, — совсем разгневалась Лариса, — ты, что за шоферюгу выходишь? Никаких стенок. Только так: предмет, предмет.
Значит, тирада относилась к телефонному собеседнику, а речь шла о «Хельге» — мебельной «стенке». Мне же Лариса только махнула головой на дверь кабинета: входи, мол.
Я вошла, села. Бося молчал, не то застенчиво, не то торжественно. Лариса внесла поднос с кофе.
— С чего бы такой почет рядовым сотрудникам? — удивилась я.
— Сегодня важный день. — Бося дождался, пока Лариса покинет кабинет. — Тебе и только тебе я хочу сообщить первой. Я вышел из кризиса.
— Слава Богу. — Я решила, что он имеет в виду тоску по Ляле, но Бося уточнил:
— Из творческого кризиса. Сегодня я закончил цикл романсов в народной стилистике. Русская мелодика, но никаких псевдо типа Закировых-Пономаренко. Кажется, получилось. Думаю рискнуть: предложу Зыкиной. Была не была.
Бося решительно откинулся назад, и его пухлый, подвижный живот прильнул к ручкам кресла. Поза выражала удовлетворение столоначальника, прочитавшего докладную записку об успешном сборе губернских недоимок.
— Бог в помощь, вам, друзья мои… — начала я, но тут зазвенел телефон, и Бося раздосадовано взял трубку. Через паузу пробормотал:
— Да… да… ничего страшного, пожалуйста, ничего страшного… Тебя, — он протянул трубку мне.
— Троицкая. — Я постаралась быть возможно официальной: звонить нам в Босин кабинет полагалось только в случаях крайней необходимости. Дружба дружбой, а начальство чти.
— Детка, приезжай срочно. У нас беда, — завибрировала трубка.
— Что случилось, Фрида Львовна? — только она могла поднять по тревоге население планеты и разыскать в снежном безмолвии Антарктиды нужного человека. Что, кстати, и случалось.
— Я всегда знала, что этот грузин устроит какой-нибудь камуфляж. — Шла речь о камуфлете или, действительно, о камуфляже — решать не берусь.
— Фрида Львовна, я позвоню через полчаса. Я сейчас у начальства.
— Никаких не полчаса. Выезжай. Все. — Она бросила трубку.
— Можно мне отлучиться? У подруги какое-то несчастье, — попросила я Босю и, спохватившись, добавила: — Ты дашь мне послушать твой цикл?
— Разумеется, — сухо сказал Бося. — Разумеется, поезжай, дружба превыше всего.
…Едва открыв дверь, Тоська завопила скорбным шепотом.
— Паразит! Гад! Сулугуни чертов! Бросил Катерину, гад… Убивается…
— Где она?
— У себя закрылась. Убивается.
Тем не менее, дверь в Катину комнату оказалась не запертой, и я беспрепятственно туда проникла.
На тахте без подушки безжизненно лежала Катя. Она не пошевелилась, даже услышав, как я вошла. Сочась из-под очков, по ее щекам текли слезы. Я не спросила, как обычно: «Что случилось?» Она не сказала: «Я страдаю». Все и так было очевидно.
Мы долго молчали, наконец я решилась:
— Вы расстались с Тенгизом?
Она не ответила, только слезы обильнее хлынули из-под очков. Снова повисла тишина. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг она произнесла еле слышно:
— Тебе нравились мои синие туфли. Возьми. И нутриевый жакет. Тебе он нравился.
— Ты о чем? — не поняла я.
— Мне ничего не нужно. Мне больше ничего не нужно.
Что тут скажешь, трагедия обрела довольно странный оборот, И будь это не Катя, я, наверное, не удержалась, хихикнула бы. Когда со мной случалось подобное, меня меньше всего посещали мысли о завещательной раздаче имущества. Но Катин «конец света» был искренним отрешением от всего земного. И все-таки я сказала:
— Несешь какую-то чушь. Скажи лучше, что произошло.
Она сказала, по-прежнему не шевелясь, не открывая глаз:
— Он позвонил и сказал, что мы расстаемся. Что он сделал выбор: он не может их оставить. Как жестоко, как бесчеловечно — позвонить.
— Ну что ж, Катуля, когда-нибудь это случается.
— Но — позвонить! Он даже не прилетел для последнего разговора.
— Случается, уходят и даже не звонят. Неизвестно, что хуже. Такие уж мы с тобой невезучие, дружок.
Тут она судорожно всхлипнула:
— Но я-то все равно люблю его. Я, как чеховская Маша, люблю его со всей грузинской суетой, с его девочками…
— Насчет грузинской суеты у Чехова указаний нет. — Я попробовала вызвать ее улыбку. Она не приняла моих попыток:
— Но девочки, вершининские девочки есть.
Надо было менять тему.
— Когда-то ты меня убеждала в плодотворности рецепта «клин клином». Может, попробуешь? Хотя у меня ничего не вышло. «Клин» меня отверг.
— Ты о ком? — все-таки поинтересовалась Катя.
— О твоем протеже, Проскурове. Я приехала к нему и предложилась. А он не захотел. Сказал: «нет». И все.
Катя резко села на тахте:
— Ты была у Проскурова?
— Чем ты недовольна? Идея-то твоя.
— Как ты могла! Он — аморален. Он — предатель. Как ты могла!
— Мне об этом ничего не известно. Что ты имеешь в виду?
Катя снова рухнула навзничь, и слезы хлынули пуще прежнего:
— Все рушится, все. Все идеалы, все представления о людских, достоинствах. Даже лучшие не выдерживают простейших испытаний. — И без перехода: — Сделай милость, дорогая, сделай милость, поезжай в Тбилиси. Посмотри на него, пойми, что произошло. Ведь что-то произошло, пожалуйста, умоляю.
Что произошло, что произошло… Разве не ясно? Что тут выяснять? Да и захочет ли Тенгиз обсуждать со мной столь личное? О, почему, когда дело касается нас самих, самые очевидные вещи кажутся непостижимыми. Я ведь тоже терзала себя бесконечными «почему».
Но отчаяние Кати было столь неподдельным, что я сказала:
— Хорошо. Попробую договориться о командировке. В крайнем случае, возьму за свой счет.
Стол был прекрасен. Нигде, кроме Грузии, не являлась мне эта манера — накрывая стол для пиршества, ставить кушанья одно на другое. Нигде не приходило в голову, как важно сочетание колорита поданных яств, но уже в начале застолья, едва я плотоядно воскликнула: «Вкуснота! Пища царей!», Тенгиз деликатно переадресовал мое внимание:
— А цветовая гамма? Ты знаешь, генацвале, какое чувство должен вызывать настоящий стол? Ты не знаешь. Это чувство, будто ты идешь по картинной галерее. Тут светотень Рембрандта, тут пурпур Тициана, тут клубящийся воздух импрессионистов. И все рядом. И ничто не спорит с соседом. Только тогда это настоящий стол. Ты поняла?
Я прошествовала взглядом по длинному столу, установленному в просторной мастерской Хоравы. Золотые распятия цыплят табака, тяжесть кардинальской сутаны, одевшей красные перцы, розовые холмы сациви, удивленные глаза баклажанных ломтиков, глядящие из жидкой меди лоснящихся соусов, выходили мне навстречу. Их цвета двоились и троились на ярких холстах, обнимавших по периметру пространство. Холсты были на стенах, стояли на полу, прислонялись к стенам.
Странно: кощунственная, казалось бы, близость искусства и пира пребывала в кровном родстве.
Над столом простерся приветливый запах трав. Тархун, кинза, зеленый лук, укроп, соединив ароматы, выдыхали их в лицо сидящим.
А еще выше, над цветом и запахом, стоял звук. Точнее — множество звуков, сплоченных в непостижимом порядке мужского многоголосья, гортанного и протяжного. Чудо грузинского пения, которого тоже не услышишь в наших краях.
— Ну, как впечатление? — осведомился у меня сосед, маленький юркий человечек в жилетке, надетой поверх национальной рубахи с высоким воротом.
— Потрясающе! — честно призналась я.
— Так ведь это — Тенгиз Хорава! Кто такой Тенгиз Хорава? Бог! Царь! Галактика! — И вдруг, сменив тон, сосед доверчиво зашептал: — Вчера один человек пригласил. Сказал: именины. А что было? Какой стол? Похороны по четвертому разряду: покойник сам себя несет.
Он тут же врезался в очередной такт песнопения, будто не отвлекался.
Песня кончилась, Тенгиз поднял бокал для произнесения очередного тоста. Тост был уж не помню каким по счету. Помню только — шуточным.
Он был все время весел, Тенгиз Хорава. И когда приехал за мной в гостиницу, чтобы повозить, показать город и таскал по друзьям, где всякий раз накрывался стол и гудели пиршества.
Как же я смогу рассказать об этом Кате? Ведь где-то за тридевять земель, упав навзничь на тахту, лежала Катя, и слезы беззвучно текли из-под очков. Наверное, она думала, что я и Тенгиза застану в таком же горе. Она еще терзалась: что случилось, что случилось?… Да ничего, ничего. Я же знала, что ничего. Разлюбил, идет своя жизнь. И где-то в Греции идет своя жизнь. И накрывается стол, и поются греческие песни, и Мемос поднимается с бокалом, чтобы произнести тост. А я, как идиотка, вожу по свету свою тоску и молю Бога о желанной свободе. Может, и правда, небеса сжалятся и пошлют мне красочного раскаленного грузина, с которым я про все забуду? Хоть на день, хоть на два. А там, того и гляди, и исцелюсь.
Я обвела глазами присутствующих. Выбор был. Употребляя плохой каламбур — выбор как на подбор. Я выпила еще.
Плыли лица, плыли голоса, плыло время.
— Кажется перебираю, — сообщила я вслух.
Сосед вскочил и завертелся в тесном пространстве между мной и каким-то художником, мне его представляли, который как раз и был «на подбор»:
— Да что вы! Только начали. Хорошо сидим.
— Слишком долго, — пожаловалась я.
— Это долго? Это долго? Вот один раз мы пировали три дня, и никто ни разу не встал из-за стола!
— Как это?
— Если бы кто-нибудь встал, он бы умер.
— ??
— В глазах присутствующих женщин.
Сосед хохотал и суетился. Мне почему-то казалось, что он должен быть в котелке и с сигарой. С чего бы такое? Черт его знает, но котелок и сигара обязательны, они даже виделись.
Каких присутствующих женщин? Нет, кроме меня, за столом никаких женщин. Хозяйка и девочки только бесшумно возникают, чтобы убрать опустошенное блюдо. Возникают и сникают. Нет, так не говорится. Исчезают.
У Тенгиза вполне милая жена. Улыбчивая. Хорошее среднерусское лицо. Хотя грузинка. Катя говорила, что грузинка. Вот и по-русски говорит с акцентом. Акцент вполне приятен. И вообще вполне. Кате она мерещилась матриархальным чудищем. «Тенгиз никогда о ней не говорит. И когда я была в Тбилиси, нас не познакомил». «Катуля, ну зачем ему вас знакомить? Зачем тебе эти лицемерные взаимовежливости?»
А вот девочки двухсотпроцентные грузинки. И тоже милые вполне. Воспитанные, но не зажатые. Ох, Катя, Катя, как же все это тебе рассказывать?…
Плыли лица, плыли голоса, плыло время. Душно, чертовски душно. Я вышла на открытую галерею.
Солнце уже упало за зубчатый заборчик зданий на той стороне реки. Света с собой не забрало. Небо желтое и Кура желтая, фыркая, дыбится. А здания плоские, черные, вырезаны из черной бумаги и приклеены к небу. Как говорится, такой бы пейзаж, да с любимым мужчиной. Какие закаты в Греции? Хоть бы разок взглянуть.
Тенгиз вышел на галерею, тронул меня за плечо:
— Я вижу, Важа совсем замучил вас.
— Какой Важа?
— Ваш сосед по столу, Важа Тушмалишвили. Знаете, кто это? Это великий чеканщик. Его работы экспонируются по всему миру. Правда, самого его никуда не выпускают. Слишком много говорит. И все не то, что полагается.
Я хотела было сказать, что неплохо бы посмотреть работы Важа, но не успела. Тенгиз резко прижал меня к себе с болью, которую не пытался скрывать, выдохнул:
— Как мне плохо, Ксаночка, как мне плохо. Я не могу жить без Кати и с ней быть не могу. Я погибаю, просто погибаю. И не знаю, что делать… Как она?
— Плачет.
— Бедная моя, милая моя…
— Вы бы в Москву слетали, хоть поговорили бы…
— Нет, нет, нельзя. Нам обоим будет только хуже. Я решил. И сказал дома. Русико ведь все понимала. Я сказал, что — все. Нужно быть мужчиной.
— Наверное, вы правы. Мужчины так и считают. Только женщинам это трудно принять.
— Я вижу, я опоздал. Тенгиз, как всегда, любимец женщин. — Это сказал уже Важа, выпорхнувший на галерею. — Но я, Ксения, подарю вам больше, чем пошлый флирт. Я подарю вам ночную Мцхету. Зрелище!
— Прекрасная мысль, — откликнулся Тенгиз, все еще севшим голосом. — Ночью мы все поедем в Мцхету.
…Над каменной оградой Светицховели взошла луна.
Луна ползла слева от меня всю дорогу, пока я, пересекая Мцхету, шла к храму Светицховели. Но сейчас она взошла справа — оранжевая, остроконечная луна, соседствующая с той белесой и круглой, что ползла вдоль дороги.
Эта, оранжевая и остроконечная, отделилась от лиловой древесной кроны, опавшей на гребень ограды, и повисла в небе, притушив окружные звезды. Там, в высоте, над слиянием Арагвы и Куры, светился пойманный рыжими лучами прожекторов давний приют лермонтовского Мцыри — монастырь Джвари.
Можно было мысленно пройти по каменистой дороге, ведущей к развалинам Джвари и увидеть выветренные, подагрически вздутые камни кладки, обрывы задней стены и даже низкорослые цветы на серых стеблях, там и тут пробившие тело камня. Но мысль вернулась с полдороги, и я видела Джвари только этой остроконечной луной. Мцхета была и тут черным по черному обозначена верхней линией домов, оград, лишенных объема и плоти. Только один дом, за моей спиной, был озарен и объемен: в освещенном его окне виднелся на противоположной стене цветной ковер, видимый подробно в множественности рисунка. И слышен негромкий, медлительный разговор, точнее, беседа или просто течение речи на чужом языке, и эта нечитаемость незнакомого языка сообщала разговору многомерность смысла.
Мир был уравновешен тишиной и глуховатой непостижимостью чужой беседы. Мир был беспределен и краток в близкой красоте остроконечной луны, висящей над оградой Светицховели.
Я произнесла вслух эти строчки, сложившиеся нежданно, точно застигая врасплох. Я испугалась звука собственного голоса, и оттого уже беззвучно возник конец строфы:
Я действительно ощутила это почти физическое наполнение счастьем, которое вдруг заключилось в слова. Это было то редкое, пронзительное наслаждение, вероятно даваемое поэту новорожденной строфой, когда ты чувствуешь, что слит с красотой мира, что твои единственные слова, вставшие в единственном порядке, становятся достоянием всех и откровением для каждого. Ведь кто-то, застигнутый оранжевой луной Джвари, произнесет эти строчки, и ему покажется, что он сложил их сам, так как с ним будет то же, что сейчас с тобой, хотя, может быть, это вовсе не гениальные строки.
Я никогда не писала стихов. Только однажды ночью в ереванской гостинице, похожей на настольные часы, ко мне пришли строчки, заключающие миг высшего счастья.
И еще здесь. И в ту же секунду я ощутила просторное чувство свободы. Я была свободна, наконец, свободна. Свободна от Мемоса, от своей тоски, от ловушки, куда загнала себя на много лет.
Меня вызволил оттуда не красочный раскаленный грузин. Меня освободила остроконечная луна и особый покой, который удается постичь редко, а, может, и никогда. Во Мцхете он пришел ко мне.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Белая плиссированная юбка. Красная феска. Чулки до колен. Помпоны на башмаках, Точь-в-точь такими торговали все сувенирные ларьки. Только те были куклами «Память о Греции». А этот стоял живой у здания Парламента.
Катя — вот нахалка! — подошла, похлопала стражника по плечу и, видимо, что-то сказала ему. Тот подмигнул ей.
Нет, не имперские это нравы, подмигивать прохожим. Не то что Великобритания, владычица морей. Хоть и бывшая.
У меня вот было подобное. Как говаривал неумирающий Швейк: «В нашем полку был аналогичный случай».
Во время давнего приезда в Лондон пленил мой взор часовой у Букингемского дворца — пламенно алый, в могучей медвежьей шапке. Похоже, шапку соорудили в незапамятные времена, когда тут еще медведи водились. Такая она была историчная. Хоть молью и не травленная.
Я подошла, как сейчас Катька, и потрогала мех.
— Мадам, это не нейлон, — губами, но четко произнес стражник. Нейлон тогда только еще набирал силу.
Ни один мускул не дрогнул на молодом картинном лице. Потом-то мне объяснили: этих часовых тренируют на невозмутимость. Пусть дети за обшлаг дернут, пусть дура, вроде меня, сунется. Стой, как искусственный. Ничто не силах смутить величия Королевства.
А грек, слабак, подмигнул красивой девчонке. Не знаю, что у него сработало: недостаток дисциплины, вековая тяга эллинов к красоте или средиземноморский темперамент, играющая кровь.
Накануне вечером мы с Катей прилетели в Афины. Внучка с весны доставала меня: «Хочу в Грецию. И с тобой — ты все про Грецию знаешь». Сессию ради этого сдала на все пятерки, да еще досрочно, чтобы приехать не позднее июня. Позднее там жара, а от жары я впадаю в анабиоз.
Я не хотела ехать, я хотела, чтобы Греция осталась для меня страной воображения, населенной призраками. В ней не могло быть реальных улиц, домов, камень которых можно потрогать, моря, в котором доступно по-курортному плавать и загорать.
По морю моей Греции ходила чуткая шаланда «Вирона», скрывающая под досками палубы беглецов. По улицам Афин двигались тени Мемоса, Антониса и Марии, а мать следила за ними сквозь дрожащие полоски жалюзи. Тот город покрывали тротуары, вымощенные телами их друзей, телами тех, кого они любили.
Мемос ушел из моей жизни, покинул меня, отверг. Его уже не было и не было боязни его встретить. Его не существовало. Но Греция его голоса и моих мысленных блужданий по ней существовала. И я не хотела иной.
— Поезжай с подругой или с компанией, — уговаривала я Катю. — Там отличные молодежные лагеря.
Но она уперлась: «Хочу с тобой».
Я купилась: все-таки лестно, когда твое пожилое общество предпочитают компании сверстников.
Когда сегодня утром мы отправились побродить по городу, я поняла, что была права. Все, все объясняло мне: это другой город, он только носит название того, из жизни моей прошлой любви.
Южность города моего воображения одевала его в бесконечность парков, садов, прятала дома и улицы в их зеленых нагромождениях. Реальные Афины пугали каменистой обнаженностью кварталов. Другой, чужой город.
Даже Парфенон, Акрополь, театр Иродоса Аттикоса были лишены величия истинности. В них виделась какая-то нарошечность, музейная праздность туристической показухи. Наверное, это только мне так представлялось, но по «моему» Парфенону не могли шататься пестрые экскурсанты, а каменные сидения «моего» театра не имели права быть заляпаны пятнами кока-колы. В «моем» театре бодрствовали трагедии. И сочинения Софокла или Еврипида, разыгрываемые здесь для туристической братии, лишь подменяли подлинность прочувствованного мной когда-то.
Но главная обманка еще ждала меня.
Мы сели в такси, и я сказала шоферу:
— На улицу Бубулинас, пожалуйста.
— На какую? — спросил он.
— Ну — Бубулинас.
— В Афинах два десятка улиц Бубулинас. Какую именно? — для убедительности шофер развернул карту и показал мне.
Значит, и улицы Бубулинас, той единственной, что обязана была пересечься с Арбатом, не существовало. Она потерялась в одноименной шеренге.
Как ни странно, это открытие вовсе не огорчило меня, не разочаровало. Напротив, окрепло чувство, что мы прибыли в иную страну, где ничто не похоже на Грецию моего прошлого. Нет перекрестка, значит нет и этого прошлого. Здесь и невозможно встретить Мемоса, каким бы он ни стал. Даже, если он жив. Я свободна, свободна даже от памяти. И наше путешествие — движение по стране, которую я узнавала впервые.
Так мы с Катей и ездили, ходили по Афинам. Афинам, так же не похожим на античные, как и на те, что выстроила я.
Сейчас мы стояли возле здания Парламента, и два стражника атлантно обрамляли вход.
На улице было пустынно. Жара согнала в дома даже привычных к ней греков. Я уже плавилась, но Катьке было хоть бы хны и утащить ее в гостиницу не представлялось возможным.
По тротуару перед Парламентом фланировал один-единственный пешеход — затертого вида мужичонка лет тридцати в выцветших джинсах, линялой майке. Черные его волосы были стянуты на затылке резинкой, думаю — аптекарской. Мужичонка изнывал от безделья, потому с любопытством взялся наблюдать за Катиными манипуляциями.
А я тупо обозревала окрестности.
У лужайки, огражденной барьерчиком от мостовой, паслась одинокая машина с открытым верхом. Роскошный супер-кто-то (марки автомобиля я не знала) уткнул скошенную морду-капот в зелень газона и лениво пощипывал травку. Огромные раскосые глаза фар вбирали в себя газон, поглядывали на тротуар.
Породистое животное века замерло в беззастенчивой уверенности, что город — его. Мне бы так!
Однако, жара донимала.
— Катуля! — позвала я слабеющим голосом, — еще минута, и ты будешь иметь бабку в виде плазмы. Едем в гостиницу.
— Иду, — откликнулась она и побежала ко мне. И вдруг, споткнувшись о что-то, рухнула на тротуар. Я метнулась к ней.
— Но-га-а, — простонала Катя.
Тут же рядом возник мужичонка. Залопотал по-гречески, попробовал ощупать ее ногу.
— Больно! Эллин тупой! — огрызнулась по-русски Катя.
Тогда мужичонка подхватил ее на руки, сильные мускулы на всем его поджаром теле напряглись. Мужичонка понес Катю к породистой машине и уложил на заднее сидение.
Я перепугалась: «Нет, нет, что вы! Это же чужая машина!» Он, конечно, ничего из моих русских причитаний не понял. А я замирала: сейчас владелец машины или полицейский отловит нас и тогда…
А мужичонке было плевать, он сел за руль, показал мне жестом: садись, мол, радом. Повернул торчащий в замке ключ зажигания. Машина рванула назад-вперед.
— Госпиталь, — сказал самозваный шофер.
Госпиталь, понятно. Слово интернациональное.
«Не доедем мы ни до какого госпиталя, — подумала я, — отловит нас полиция. В участке будем Катькину ногу лечить путем протокола и допроса». Тем не менее нам повезло. Через десять минут наше суперживотное лихо и беспрепятственно миновав больничные ворота, подъехало ко входу приземистого серого здания, буквой «П» охватившего поляну.
Шофер-самозванец снова поднял Катю на руки и понес в приемный покой. Там навстречу нам сразу выскочили несколько человек из медперсонала, завязалась греческая скороговорка, в результате которой, как я поняла, послали за кем-то.
Из недр госпиталя возникла женщина. Именно возникновением было ее бесшумное, плавное вдвижение в суматошную неразбериху, возникшую вокруг нас. И было это тем удивительнее, что женщина по божьему замыслу обязана была сопровождать свое вторжение громом шагов и басовитыми вибрациями голоса. Так была велика. Пышная, подрагивающая при ходьбе грудь. Крутые бедра. И при таком телесном изобилии — живот плоский, почти втянутый. Густые, сросшиеся на переносице брови и темные, казавшиеся одним сплошным зрачком, глаза делали лицо мрачным и настороженным. Особенно глаза, сплошной зрачок, пронимали до костей. Я поежилась — страшно отдавать дитя в такие руки. Хотя руки-то как раз были у великанши деликатные и красивые.
— Что случилось? — спросила по-английски женщина. Спросила детским застенчивым голоском.
Я залопотала объяснения.
— Сейчас обследуем и все… — женщина подошла к Кате, распростертой на каталке. — Сейчас, деточка, потрогаю и все… Так, так, нужно сделать рентген. И все…
Наивный голосок и это «и все», как у селлинджеровского подростка, не должны были вязаться с монументальной внешностью женщины, но, как ни странно, уже через минуту ты начинаешь верить, что угрюмость облика и детское воркование находятся в непререкаемой гармонии. Только у селлинджеровского парнишки его «and all» заключало некую протяженность, недосказанность фразы, а у этой — завершенность действий и событий, причем благополучную. Умиротворение исходило от нее.
— Вы мама. — Женщина обратилась ко мне не вопросительно, а утверждающе.
— Польщена. Я — бабушка. Меня зовут Ксения Троицкая, я журналист из Москвы.
— О, как интересно! А я — доктор, Елена Яниди, рентгенолог. Сейчас сделаем портрет ножки и все… — Она вкрадчиво дернула плечом, слегка подбросив увесистый шар груди.
Все это время наш шофер-спаситель смиренно ждал в сторонке, но тут подошел.
— Вверив пациента чудотворным рукам Елены Яниди, я могу быть спокоен. Да хранят вас обитатели Олимпа, — произнес он на чистейшем, даже щегольском английском.
Не дожидаясь моей реакции — удивления, изумления? — он повернулся и пошел, поигрывая мускулатурой.
Из бокового коридора неожиданно появилась уборщица, толкая перед собой тележку со своей уборщицкой утварью. Щетки, порошки, ведра. Увидев нашего мужичонку, она испуганно шарахнулась к стене, роняя с тележки щетки-тряпки. Но он, даже не удостоив ее взглядом, прошествовал мимо.
Ого-го! Знакомец-то, похоже, известный бандит, если вселяет такой ужас. Хорошенькое знакомство мы свели!
Катьку вместе с госпожой Яниди и прочей медицинской челядью сглотнули двери, ведущие вглубь больницы. Я осталась одна.
Елена Яниди, Елена Яниди… Где я встречала это имя? Встречала ведь!!! И вдруг меня как ошпарило: Яниди — ведь это женский род от фамилии Янидис, фамилии Мемоса. Бог ты мой, как же он стал мне далек, если эта простейшая мысль не пришла мне в голову! Однако ведь все-таки понимание — обожгло… Но скорее обожгло ощущение отчужденности, которое — мне когда-то казалось — никогда не должно было наступить.
Так, может, она — его родственница?.. Глупости, Янидисов, как у нас Ивановых. Тем более, что Янидис в переводе и означает — Иванов.
Минут двадцать их не было, потом вышла Елена.
— Все в порядке, перелома нет. Сейчас девочке наложат тугую повязку и все… Скоро будет бегать на свидания.
— Со свиданиями потерпит до Москвы, — сказала я.
— Как знать, как знать. Греция страна опасная, — Елена дернула плечом, качнула грудью.
Мне не следовало этого говорить, я не хотела этого говорить. Но сказала:
— А знаете, я в Москве встречала вашего однофамильца, Мемоса Янидиса. Не знаете такого? Он режиссер-документалист, приходил к нам в редакцию. Правда, давно это было, лет тридцать назад.
Елена ответила не сразу, она улыбнулась. И улыбка эта, сверкающая, вдвое моложе ее самой, была ответом, которого я подсознательно ждала и боялась.
— Это мой муж, — наконец произнесла она. — Он бывал в Москве между арестами. Перед полковниками. Он рассказывал, что ему помогали в какой-то редакции.
Обо мне он ничего не рассказывал, понятно. Иначе Елена как-нибудь среагировала бы на мою фамилию. Тогда она осталась безучастна, зато теперь продолжала светиться, сразу став иной, — куда девалась сумрачная непроницаемость лица!
— Вы знаете Мемоса? О, чудесно! Я сделаю ему сюрприз. Мы поедем на Эгину. Это остров, там у нас дом. Я сегодня же позвоню ему и все… Он будет так рад, мой Мемос.
Опять-таки, не нужно было спрашивать, проявлять интерес. Но я спросила, идиотка:
— Вы давно женаты? — Какое мне дело до этого!
— Почти тридцать лет. — И снова сверкнула улыбкой.
— Но вообще-то мне кажется, что мы были вместе всегда. Он от рождения мне на лбу написан.
Елена засмеялась, смех, как и голос, оказался детским.
— Как на лбу? — не поняла я.
Елена пальцем тронула переносицу. И тут я заметила, что сросшиеся брови образовывали в месте схода подобие буквы «М».
Поддернув своим особым движением грудь, она продолжала говорить, но я не слушала. Я видела только этот увесистый шар груди, которого касались руки Мемоса. Впрочем, эта мысль только пронеслась, не разбудив ревности. Было важно другое: Елена говорила о нем, как может говорить только счастливая, влюбленная женщина. Первому встречному, лишь бы говорить, произносить его имя.
— Спасибо, мы с удовольствием съездим к вам на остров, — сказала я. Господи, что я несла!
— В какой гостинице вы остановились? — Она ужасно обрадовалась моему скоропалительному согласию. — Я завтра же приеду за вами.
Отступать было некуда, но и продолжать разговор сил не хватало. Не сейчас, не сейчас.
Слава Богу, вышла ковыляющая Катя.
— Где нам расплатиться за прием? — спросила я Елену. Ее сросшиеся брови удивленно взмыли:
— Но вы же друзья господина Захариадиса. Он же сам вас привез. Какая плата?
— Господина Захариадиса? Нет, он просто подобрал Катю, когда она грохнулась. А кто он?
— Он владелец клиники и вообще владелец многого и все…
— Он врач? — изумилась я.
— Нет, его отец был знаменитым хирургом, ему принадлежала клиника. Апостолос Захариадис. А Антонис… Ну как сказать, владелец многого и все… Яхтсмен, чемпион по парусному спорту. И в жизни — чемпион. Вы понимаете?
Нет, я не понимала. Хотя могла бы заметить, что неспроста вокруг нашего шофера закипела тут подобострастная суматоха, что уборщица шарахнулась, объятая страхом подвластности. Но я ничего не понимала.
Слишком много рухнуло на меня, слишком много для одного дня.
Странно было сходить с парома прямо на землю, минуя всяческие трапы. Но все происходило именно так, ибо море переходило в асфальт пристани почти без границ, лишь сменив зыбь на ровную поверхность, укрощенную и распластавшуюся до глади. И таким же, точно возникшим посреди моря был Мемос.
Он помахал нам рукой, и я сразу поняла, что это он. Тот же самый, что тысячу лет тому назад. Только вот волосы его не походили на черную тюбетейку с белым крестом седины. Все волосы были седыми, белыми.
Когда мы с Катей и Еленой, которая и привезла нас на Эгину, подошли ближе, я заметила еще, что морщины на лбу и у носа Мемоса стали глубокими. А так Мемос как Мемос. Рубаха, заправленная в брюки, ловко стискивала сухощавый мускулистый торс, который он по его привычке обхватывал длинными руками, обнаженными выше локтя. На мгновение у меня в мыслях пронеслось: поза точно та же, в какой он стоял на розовой дороге Гегарта. Прежний Мемос?
Да, нет, чушь. Увидев того, прежнего Мемоса, я бы замерла или заметалась, я бы не нашла, что сказать. А с этим Мемосом мы обнялись по-братски, пробормотав нечто ничего не значащее:
— Вот и встретились! Подумать только! Сколько лет? Вечность. Как я рад, как я рада! — И все в этом духе.
Елена победительно смеялась, она ведь была автором неожиданной встречи.
— Познакомься, — сказала я, — это моя внучка Катя.
— Очень рада, — вышколенным голосом дореволюционной барышни пропела Катя.
— Плевал я на твою радость… — Мемос сделал выразительную паузу, Катя, как и прочие, замерла, потом он закончил: — потому что она ничто по сравнению со счастьем, которое мне доставляет наше знакомство.
Все захохотали, и сразу пропала неловкая обязательность первых минут встречи. А я подумала: «Он даже ничего не сказал о том, что я бабушка и невозможно поверить, в то, что у меня уже взрослая внучка». Он сказал:
— А это мой сын Панайотис.
Тут только я заметила, что в двух шагах от нас в почтительном молчании стоит высокий, выше Мемоса, парень. В полумраке его можно было принять за молодого отца. Но когда он шагнул ко мне и свет прожектора высветил его лицо, я увидела, что нет, не похож, красивее и глаза не цвета хаки, не глаза Мемоса. У этого черные, сплошной зрачок.
— О, взрослый мужчина. Сколько же лет принцу?
— Девятнадцать, — ответила за Панайотиса Елена.
«Девятнадцать? — застучало у меня в висках, — а как же «женился, жена с пузом»? Именно так мне сказал в Доме журналистов Васнецов, когда наступил конец света. Сколько же лет прошло с того страшного дня? Только не девятнадцать, только не девятнадцать… Гораздо больше. Что же тогда случилось? Очень хотелось тут же выяснить, есть ли у них другие дети, но не могла я произнести этого вслух. Мне казалось, что все сразу же станет всем понятно, что я обнаружу себя. Хотя что было обнаруживать-то?
А Елена тут же сама пришла на помощь, такое уж у нее было предназначение в жизни — помогать, успокаивать.
— Это наш младший, дитя. Старшая дочка замужем в Америке. Муж — крупный бизнесмен, а она жена бизнесмена и все. — Елена посмотрела на Мемоса взором влюбленной подпольщицы. — Внуков нам не дарит, а мы уже старенькие.
«Это Ксения старенькая, — наверное, подумал Мемос, — вон у нее какая огромная внучка». Внучка же выступила на авансцену.
— Господин Янидис так счастлив нашей встречей, что даже не познакомил меня с сыном. — Этикетные нотки куда только девались, голосок звучал капризно-кокетливо. Она сама протянула руку Панайотису:
— Катя. Впрочем, вы уже в курсе.
— Панайотис, но и вы в курсе.
Ничего специального не было ими сказано, но у меня, да, пожалуй, и у Мемоса возникло чувство: на наших глазах вершится какой-то заговор.
Да-да, Мемос тоже это почувствовал, я заметила вспышку, метнувшуюся в глазах. А Елене и горя мало — она ликовала, она упивалась безупречностью выстроенной ею мизансцены: вот и детям не будет скучно, как замечательно, что мы приехали в Грецию, как превосходно, что она привезла нас на Эгину!
— Машина на набережной, — сказал Мемос обыденно, буднично, будто просто поменял привычную стоянку.
Вот и все. А я боялась.
Стайка пестрых магазинчиков и кофеен выбежала к тротуару, перемигиваясь и перекрикиваясь, как девчонки в танцевальном зале, ждущие у стенки кавалеров. Клумбы и вынесенные из кафе столики терлись друг о друга, стараясь потеснить соседа с узкого пространства, запятнанного сочными огнями витрин. Загорелые крупнозадые немки (и откуда берется такое количество немцев, чтобы заполнить все мировые курорты?) уплетали свои пиццы и баклажаньи рагу. Их шорты, едва вмещающие ляжки, казалось, были готовы к победной дроби палочек армейского барабана.
Набережная с профессиональной беззаботностью сопровождала мой туристический проход по ней.
Туристический проход, а не шествие по небесам. По небесам рая или ада.
Распластанные ветви «медового дерева» образовали крышу над открытой таверной, прилепившейся к склону горы. Возраст дерева вряд ли кто-нибудь взялся бы исчислить, его десятиохватное тело в старческой окаменевшей чешуе коры отдавало родством с динозаврами, некогда резвившимися здесь. Ветви же, отягощенные размерами и старостью, уже не способны были держать упругую горизонталь. Их поддерживали толстые железные прутья, прикрепленные к сильным молодым соснам, окружившим площадку.
Здесь, на севере острова, пушистые длиннохвойные сосны толпились повсюду, — уходя в гору и отдыхая почти у самого морского берега. Эта часть Эгины казалась иным миром, трудно было представить, что на юге, возле дома Мемоса, пейзаж совсем иной.
Здешнее зрелище поражало четкостью творения. Зеленые сосны, ярко-синее небо и на самой вершине горы, на фоне этой синевы — снежно-белые колонны храма, этакого маленького Парфенона. И все цвета без оттенков, выбранные, как бы раз и навсегда. И все сразу — горы, храм, сосны и море, тоже четкое, просматривающееся до дна. Наше, Черное, мне всегда представлялось вымощенным булыжниками серой зыби. Это — мостили куски ляпис-лазури, а порой, двойной слой стекла, сквозь который отчетлива подвижность линий внутри. Черные скобы вокруг блестящей сердцевины.
И все было сразу, все вместе. Сосны, горы, храм, небо, море и таверна под кровлей веток «медового дерева». И ты сам становился частью продуманного мира, выписанного без излишеств и оттого прекрасного.
Это чувство даже не причастности, а встроенности в цветной мир острова пришло ко мне только здесь.
Когда Мемос предложил нам путешествие на север острова, мы с Катей сразу согласились. Всякое разнообразие непременно для посещения незнакомых мест.
Хотя и там, в доме Мемоса, мы жили отлично. Дом смотрел на море из глубины скалы, его первый этаж разместился в нише, вырубленной в горе, второй — на узкой площадке, служившей потолком нижнему.
Нам с Катей был отдан верх, где помещались кухня, спальня и столовая с дверями, распахнутыми на балкон, откуда был просторно виден Коринфский залив, восходы и закаты, встающие над ним.
Собственно, восходы-то не очень баловали наше зрение, мы с Катькой их просыпали. Когда мы выбирались на балкон, ополоснувшись под теплым душем — ночь не успевала охладить воду в резервуаре, — солнце ухитрялось забраться довольно высоко. Весь небольшой сад, окружавший дом, был лишен теней. Зеленые лимонные деревья, седые, точно припорошенные дорожной пылью, оливы.
А Мемос с Панайотисом уже успевали вернуться с пристани, куда приходили шхуны с ночным уловом. Мужчины на кухне возились со свежей рыбой для завтрака. Они складывали ее в полиэтиленовые мешки, с насыпанной туда мукой, трясли их, пока рыба не обрастала белой мохнатой шубой, и бросали в раскаленное на сковороде масло. А красно-желто-зеленые груды овощей уже громоздились на глиняном блюде, соперничая блеском с глазурью.
Прекрасно было сбежать по каменистой тропке к морю, обдирая ноги о низкорослые колючие кусты и очутиться не на санаторном пляже, уставленном зонтами и лежаками, а на пустынном берегу, один на один с водным простором. И почувствовать себя первым и единственным человеком, пришедшим на эту землю.
Да, это было прекрасно. И тем не менее, я всю неделю, что мы вчетвером (Елена, переночевав, уехала в Афины служить) жили этой привольной жизнью, чувствовала себя случайным путником, забредшим в чужие владения и в чужие уклады. И по дороге на север, когда мелькали деревеньки, стада коз на отлогих холмах, когда бело-голубые часовенки всех размеров выходили из-за поворота, чтобы встретить нашу машину, да, и там я оставалась путешественником, отделенным, как языковым барьером, от подлинности окружавшего меня мира.
А в таверне под древесной кровлей я стала частью обликов, цветов, запахов.
Что это были за запахи! Представьте себе букет из расслабляющего аромата цветущих деревьев, древесного дымка мангалов, ползущего из неприкрытых дверей кухни и запаха жареного ягнячьего мяса, покорно ждущего ножа на твоем столе! И через сто лет втяни воздух и память ощутимо защекочет ноздри. А еще запах узо, анисовой водки, которую пьют, разбавляя водой, отчего жидкость в стакане становится белесой. И ты недоумеваешь — как это кувшин с прозрачной влагой «доится» молоком? Запах анисовки отдавал детством; так пахли старомодные «капли Датского короля», которыми мама лечила мои простуды.
Мемос разлил узо, спросил:
— Ну, за что пьем?
— За Эгинские красоты, разумеется, — сказала я.
Катя брезгливо покосилась на меня и отмахнулась ладошкой:
— Ой, какая ты скучная, бабка. Никакого чувства стиля. Ты что — на подмосковной гулянке? Ты посреди Эгейского моря. Подмостки требуют жанра. Нам нужен виночерпий, нужны культовые тосты. Панайотис, — не поворот головы в его сторону, а только чиркнувший взгляд, — произнеси культовый тост.
Панайотис смутился:
— Я не умею. Что ты хочешь от тупого баскетболиста? Что я знаю: бросок, корзина.
— Давай насчет корзины. Вот тебе корзина, — она взвесила в ладонях плетенку, наполненную фруктами, — скажи: за корзину яств, чья щедрость бездонна, как у баскетбольной.
— Ну, сравнение не самое точное, из бездонной корзины мало что выудишь. — Смешно, но ее мимолетный укол моей «скучности» задел, и я постаралась поставить Катьку на место.
Катерина уже готова была ввязаться в перепалку, но тут снова заговорил Панайотис:
— А вообще-то, я знаю тост. Это любимый тост моего тренера.
— Давай, — поощрила Катя.
— Поднимая стаканы, забудем землю. Тогда боги подсядут за наш стол!
— Точно! — зааплодировала Катя. — Вот за столом уже полным-полно богов.
— Как шведов, — сказала я, и она кивнула:
— Как шведов, точно.
Мужчины на эти наши переброски никак не реагировали. Видимо, Колдуэлла не читали. И я почувствовала неловкость: мол, козыряем поверхностной начитанностью. Катя, напротив, как сказано «решила свою образованность показать»:
— Момент требует поэзии. Конечно, в переводе стихи теряют обаяние, но суть будет ясна. — Она поднялась с поднятым бокалом.
Черт ее знает, эту девчонку! Все в ней было перемешано, как и в ее языке, где соседствовал молодежный сленг и научная терминология филолога. Катя училась в МГУ, на отделении структурной лингвистики. Пошла она туда не по специальному влечению. В школе ей равно легко удавались и гуманитарные и естественные науки. Технарь-отец, Кирилл, то есть, хотел, чтобы и она «занялась делом, а не изящным фуфлом». Я считала, что важней серьезное гуманитарное образование. С ним — куда хочешь. На отделении структурной лингвистики изучали языки, науки о них, а также — высшую математику. Таким образом, компромисс находился. Но, когда начала учиться, Катя увлеклась и теперь то и дело унижала меня разговорами о таинствах морфологии или дискурса, о чем я понятия не имела.
— А еще заявляешь: язык — моя профессия, — хихикала она нагло. — В точности, мольеровский герой: не знаешь, что говоришь прозой.
А вот откуда она знала Гумилева — не ясно, сроду поэтических книжек на ее столе и полках не было.
— Так вот, — она всем корпусом повернулась к Панайотису, — вдумайтесь, кто может. Вино — влюблено в нас. Хлеб садится в печь — для нас. Полная покорность и обожание со стороны указанных предметов. А вот чтоб насладиться женщиной, нужно — что? — Катин палец уперся в грудь Панайотиса. — Сперва намучиться до упаду.
— Я готов, — Панайотис поймал ее палец и поцеловал. Они снова обменялись будто ничего не значащими, но заговорщицкими взглядами.
— Проверим, — сказала Катя, добавив по-русски «Щас проверим». — Ох, классный анекдот. Старшина ведет политзанятия. Раньше у нас в армии проходили такие. Стоит строй солдат. Старшина спрашивает: «Кто стрелял в Ленина? Рядовой Иванов, отвечайте». Иванов: «Так точно. Клара Цеткин». Сержант, листая блокнот: «Щас проверим».
Засмеялся только Мемос, он понимал о чем речь, сказывалась, как положено, марксистская подкованность. Мне анекдот был не в новинку, старый. Я, кажется, и рассказывала его Кате. А вот бедняга Панайотис сидел обескураженный, для него изложенное Катей было — темный лес. Однако, Катьке-то того и надо было. Подвела к интриге и — раз! — непонятным вольтом куда-то вбок. И тут же невинным голоском Мемосу:
— А как вы считаете, дядя Мемос (он просил не называть его «господин Янидис»), наслаждению должны предшествовать муки?
— Дорогая, это вопрос не для стариков. В моем возрасте я уже все подзабыл. Хотя, наверное, так и есть. Поэты знают толк в таких вещах.
Мемос обращался только к Кате, на меня он и не посмотрел, даже сказав это убийственное «все подзабыл». Но, слава Богу, слава Богу! И тем ужаснее, что Катя с ее умелым простодушием погладила его руку:
— Кто тут старик? Где старик? Не вижу. Ни одного в поле зрения. И, вообще, почему бы вам, дядя Мемос, не приударить за моей прелестной бабкой? Это было бы шикарно! А?
Не имея возможности воткнуть в Катьку нож, я с остервенением вонзила его в безвинного ягненка, стынущего на моей тарелке и фальшивым голосом пролопотала:
— Ничего в жизни не ела вкуснее, пища богов! Похоже, боги и вправду подсели к нашему столу.
Главное, чтобы Мемос не успел отреагировать на провокационный Катькин призыв. А она не унималась:
— А правда? Вы оба вполне в строю, смотритесь классно.
Пришлось прошелестеть ей по-русски: «Дорогуша, так и по шее схлопотать недолго. Ты переоцениваешь равенство в нашем общении». Интернационально это должно было звучать как «Ты расшалилась, моя милая. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Но Панайотис все равно сказал:
— Вот и русские секреты начались.
Я попробовала вывернуться:
— Я передала Кате свою последнюю волю. Когда меня поведут на расстрел, дать перед смертью обглодать ягнячью косточку.
Кате, как она любила выражаться, все было «хрен по деревне». Подхватила, не моргнув глазом:
— «И когда меня, играя шпорами, поведет поручик на расстрел», — сказала по-русски. (Господи, она и Бориса Корнилова знала. Откуда?) И, прищелкнув пальцами, публике: — К сожалению, точно не могу перевести. Не знаю, как по-английски «шпоры» и чему в иностранных армиях соответствует звание «поручик».
— Придется учить русский, — засмеялся Панайотис, — иначе утону в тайнах.
Разговор пошел о том, о сем, опасный поворот прошли, вроде, и не заметив.
Возвращались уже затемно. И снова показалось, что попали в другой мир. Днем по невысоким горам к их вершинам карабкались белые домики, карабкались наперегонки с приземистыми камнями в серо-зеленой униформе мха — то ли и впрямь состязание, то ли финал битвы камней и домов, когда победители настигают разбитого противника.
Сейчас склоны гор канули во тьму, огоньки домов обернулись продолжением звездного неба. Лишь раз людское поселение множеством огней перегородило дорогу. Но приблизившись, мы поняли: нам навстречу брело овечье стадо, и глаза животных в темноте светились, как скопище далеких окон.
Спустились вниз. Катя с Панайотисом попросили забросить их куда-нибудь поближе к пристани: «Пойдем пошуруем какую-нибудь дискотеку. Надо подергаться, засиделись».
Впервые мы с Мемосом остались вдвоем. Я поймала себя на том, что судорожно ищу тему для разговора, не знаю, как себя вести. Это было нелепо, так как при всем при том я понимала, что мы уже давным-давно равнодушны друг к другу, что никакая память не может хоть намеком воскресить прошлое, что у людей в нашем возрасте прошлое вообще лишено чувственных отзвуков. Мемосу все подобные опасения и в голову не приходили, он был невозмутим, привычно доброжелателен, предложил:
— Пошли, послушаем музыку. У меня приличный набор дисков.
Музыкальный центр был смонтирован в гостиной на первом этаже в просторной белой комнате с прохладным мраморным полом. Стены украшали керамические тарелки — бело-синий греческий орнамент и сине-белый венгерский. Два кресла, диван, низкий столик. И все. Ничто не загромождало зрение и мысль. Простор мог быть отдан музыке.
Но именно музыки я и боялась. Я боялась, что он поставит Моцарта, и тогда ему придет на память комната Влада. Ведь она тоже белая-белая, как эта гостиная, за тридевять земель от того вечера, когда горело пятьдесят керосиновых лун и гремел Моцарт.
Поэтому спросила:
— Чем ты сейчас занимаешься? — за всю неделю мы ни разу не задали друг другу вопросов о сегодняшней жизни. Отношения начаты с чистого листа и знакомство будет постепенным.
— Документальным кино. Я ничего другого путного не умею. Сейчас, правда, работаю главным образом для телевидения. Преимущественно — монтажные фильмы с досъемками.
— А что именно сейчас?
— Пытаюсь сделать фильм о Яннисе Рицосе.
— Но это, должно быть, чертовски трудно.
Заговорить сейчас о Рицосе, значило заговорить о фашизме, о его сути и методах. И не только о крови, которая для этого феноменально единственный способ разрешения всех проблем на полях войны или в пыточной камере. Но и об иступленном стремлении уничтожить человеческую мысль, загнать ее в каземат тупой идеи. Этому противостоял Рицос. Но такой разговор неизбежно стал бы возвращением к самому Мемосу, давнему, моему, моей былой боли, моим письмам, моим вечерам. Да и мои сегодняшние отношения со вселенским злом претерпели различные метаморфозы. Поэтому я сказала:
— Но ведь это чертовски трудно. Мало кому удавалось средствами экрана рассказать о поэте.
— Именно. Идею передать можно. А вот найти пластический адекват стихотворной строке… Все получается прямолинейно и иллюстративно. Не говоря уж о сложности воссоздания творческого процесса, субстанции иррациональной и часто бесконтрольной…
— Да, не припомню, кто с этим совладал… Разве что Томас Манн и Феллини. Ну что ж, дерзай.
— Дерзай и убеждайся в собственной бездарности. Не весело. Но уж взялся — куда денешься. Но интересно, не отпускает.
Мемос не поставил Моцарта. Он поставил бетховенскую «Героическую», и музыка, сразу не уместившись в пространстве комнаты, вышла через открытое французское окно на плиты двора и дальше, к кованой ограде, за которой к морю спускается улица с покоробившейся спиной, похожей на пересохшее речное дно.
Вдоль улицы стояли деревья в белых цветах. Они тоже спускались к морю, держа на вытянутых ветвях соцветия, как зажженные канделябры. И казалось, что именно они, а не уличные фонари освещают кремнистый спуск.
— Ка-тя-а! — донеслось с моря и камешком, пущенным по плоской воде, эхо подкатилось к берегу, зарывшись в прибрежную гальку.
Мы все четверо, разомлевшие после пляжа и горячего душа, потягивали изъятое из холодильника вино.
— Ка-тя-а! — снова донеслось с моря.
Все бросились на балкон.
К берегу шла яхта. Белая яичная скорлупка с гребешком красных парусов. Слегка покачиваясь, она как бы ступала по воде, шла по морю, как посуху, отчего и вода казалась твердым блестящим куском исступленно-яркой бирюзы. Да, такого цвета воды я не видела ни в одном море.
Алый отсвет парусов, пронзенных светом, ложился на воду, растекался пятнами крови какого-то огромного морского животного. Склоняя нос, яхта подлизывала распластанную кровь, бессильная дочиста вылизать море. Позади два холмика далеких островов почтительным эскортом сопровождали яхту, чем подчеркивалась торжественность хода.
На какой-то миг меня обожгло чувство уже виденного однажды: судно явилось в алом оперении парусов.
Но я не могла вспомнить, откуда пришло видение. И эта невозможность ухватить его памятью делала пришествие яхты еще более загадочным.
На яхте в полный рост стоял человек. Он был одет во все белое, и даже издалека было видно, что это не обычное яхтсменское спортивное обмундирование, а некий наземный костюм. Что за костюм — не разобрать. Но в этом фантастическом антураже костюм представлялся одеждами. Не одеждой, а одеждами.
— Ка-тя-а! — закричал человек и помахал рукой.
От яхты до берега было еще метров двести. Человек нагнулся, повозился у борта и выбросил в море какой-то тяжелый предмет: на месте падения взорвались брызги. Видимо, бросил якорь. Потом он снова вышел на нос яхты, выпрямился во весь рост, и, как был, в одежде, нырнул в море.
Минуту-другую его не было видно, и все мы дернулись в напряженном волнении. Все, кроме Кати. Она беспечно взирала на происходящее. Якобы видела такое каждый день.
Но вот обрисовалась фигура плывущего. Голубоватое от цвета воды тело мощно шло к берегу, раздвигая руками какие-то неведомые подводные препятствия.
Человек вынырнул, в несколько махов достиг берега, по-собачьи отряхиваясь, рассыпая брызги, и двинулся к нашему дому.
Все вглядывались, пытаясь узнать его. Но, видимо, никому не был знаком чудаковатый пловец в белом облипающем костюме, с гривой длинных черных волос.
Когда он остановился под балконом, Катя равнодушно, опять-таки будто не ждала ничего иного, сказала:
— Да это же господин Захариадис.
Теперь узнала и я. Ага, это отсутствие резинки, стягивающей прежде его волосы, помешало сразу распознать прибывшего.
Узнал и Мемос:
— Привет, Антонис, заходи.
Он поднялся и, не здороваясь ни с кем, обратился к Кате:
— Узнала меня?
— Конечно, дело привычное, — невозмутимо ответила она.
Все мы засмеялись. Мы с Мемосом приветственно, Панайотис несколько напряженно. Захариадис продолжал не замечать нас.
— Я пришел к тебе из легенды, — голосом оракула сказал он Кате.
— Какой еще легенды? — Катя скучающе посмотрела на него.
— Из русской легенды. Так приходил к возлюбленной знаменитый русский революционер. Вместо паруса он натянул красное знамя, помнишь?
— Нет такой легенды, — Катя не принимала игру.
Захариадис несколько стушевался.
— Но мне рассказывал ее русский яхтсмен. В России все знают эту легенду. Правда, госпожа Троицкая? — он, видимо, меня опознал.
И тут Катя разразилась хохотом:
— О, господи! Этот придурок сварил похлебку из Грина с Буденным! — бросила она мне по-русски и продолжала хохотать.
Тут я вспомнила судно в алом оперении парусов и красное пятно крови, расплывшееся по воде. Гриновским «Секретом» явился мне китобоец во время охоты на китов в Охотском море.
Мне стало обидно за Захариадиса, за его неоцененную Катей затею и я тоже по-русски сказала ей строго:
— Уж молчала бы, знаток! Буденного на корабль усадила. Конника-то.
Она отмахнулась:
— А, один черт. Скажи спасибо, что вообще помню твоих красных командиров.
Русская перебранка была тут ни к чему, Мемос, почувствовав это, сказал Антонису:
— Между прочим, здравствуй, — он обнял его и беззлобно выругался, — черт тебя дери, вымочил всего.
— Здравствуйте, господин Захариадис, — вежливо сказал Панайотис. — Выпить хотите?
Тот помотал мокрой гривой:
— Нет. Предлагаю всем морское путешествие. Моя большая яхта стоит в порту. — Он был явно разочарован, что его выдумка с алыми парусами не произвела на Катю должного впечатления. Она только спросила:
— Где вы красные паруса раздобыли?
— Если хочется… — многозначительно начал Антонис, но Панайотис заключил как бы наивно:
— Особенно миллионеру.
Захариадис будто не слышал.
— Так едем в порт, машина внизу.
— Как, милый? — нежно спросила Катя Панайотиса.
— Отчего же, поезжай. Яхта классная, известная на весь Пирей. — Панайотис даже не посмотрел на нее.
— Что значит «поезжай»? Я без тебя никуда не поеду. — Катя прижала щеку к его груди.
Скуластое лицо Захариадиса чуть дрогнуло, но в голосе не проклюнулось ни раздражения, ни ревности:
— Так я и зову всех, как, дядя Мемос?
Я-то понимаю, что для Катьки и безучастие к парусной феерии, и этот приступ нежности к Панайотису были обыкновенной женской игрой. Этой чертовой малявке легко давалось то, чего не умела я прежде, даже став зрелой женщиной, не говоря уж о молодых годах. Снова выручил Мемос.
— Поезжайте, поезжайте. Я что-то устал после пляжа.
Тут уж я подхватила:
— Да, не стариковское это дело — прогулки на яхтах. Мы лучше займемся ужином. Вернетесь — все вместе поедим.
— Не понял, — поднял брови Антонис, — что значит «стариковское»? — Он и правда не понял. — Какое это имеет отношение к возрасту? А ужин? У меня на яхте прекрасный повар.
— Твой повар не умеет готовить русскую еду. А Ксения мне обещала русский ужин, — улыбнулся Мемос.
Они уехали. А мы с Мемосом остались. Мы сидели на балконе и молчали. Я думала о том, что, может, Катька и не разыграла по-женски всю пьесу. Может, им, сегодняшним, и не дано принять роскошный жест в отношениях мужчины и женщины? Может быть, любовные игры, как и сама любовь, — не про них?
Бог ты мой, чтобы стало со мной, если бы некогда Мемосу довелось прийти ко мне под алыми парусами! Какой Ассолью была бы я ему!
Но сейчас я была просто пожилой женщиной, сидящей на балконе старого друга. Собиралась готовить ему русский ужин.
— Каков буржуй-то! А? Рыцарь! — сказала я.
— А какова Прекрасная Дама! — сказал Мемос.
Мне хотелось заклеймить Катьку — Прекрасную Даму, хотелось посетовать на то, что этим молодым не дано прочувствовать того, что когда-то выпало мне. Впрочем, не только им, но, вероятно, и таким, как Катин отец, как Василий Привалов. Кирюхину жизнь тоже не сотрясала любовь. Просто он однажды привел в дом неприметную девчушку и сказал:
— Знакомься. Это — Надя. Она, между прочим, готовится стать матерью моего сына и одновременно твоего внука. Извините за бестактность в ваш адрес, моложавая леди. Но, как порядочный человек… далее по тексту.
Девчушка покорно выслушала весь пассаж. Они поженились и вот уже почти двадцать лет мы живем вместе. Насколько я понимаю, Кирюху истинные страсти так и не тронули, даже на стороне, хотя по каким-то деталям я понимала, что легкие интриги его не миновали. Надя же не замечала ничего: в отношениях с ней Кирилл был образцовым мужем. Меня даже удивляло, что его нисколько не тяготит Надина заурядность, необразованность и отсутствие чувства юмора. Но — что? Вот Босю тоже не тяготили эти качества в Ляле. Наверное, так даже лучше. Спокойнее.
Мне же Надя младшей подругой не стала, хотя мы никогда не ссорились. А вот Катька, маленькая Катька, в подружку выросла.
Я назвала ее Катериной в честь первой любви Мемоса. Мне чудилось, что когда девичество настигнет ее, оно закрутит вокруг ее тела невидимый смерч, как у той; что кто-нибудь поразится ее непредсказуемости. Все-то знали: имя дано в честь любимой подруги Кати Москвиной. Правда была известна только мне. Катя выросла непохожей ни на ту, ни на другую. А вот подружкой стала — на удивление откровенна со мной. Вообще, видимо, многое ей во мне нравилось. Даже здесь, на пляже могла сказать:
— Ох, бабка, все-таки ты — молоток. Тельце-то у тебя: хоть в бикини на подиум, — и жестом конского барышника похлопывала по моей спине.
Все это я могла рассказать Мемосу, когда мы сидели на балконе его дома на Эгине, и горбы далеких островов путешествовали у горизонта.
За эту неделю стали уже ритуальными наши молчаливые сидения на балконе, особенно в час заката. Здесь не было двух одинаковых закатов. Пока солнце стояло еще высоко, была видна вся шкура моря — пестрая, от серого в полоску до синего. Низкие, тонущие острова означали водную беспредельность. Только видимый с Эгины Пелопоннес, как спящий кит, чуть похлопывал хвостом по воде.
Закаты Эгины трудились лишь во имя нашего ритуального созерцания. Роскошные закаты, неутомимые в выдумке подробностей.
Этот был не хуже прочих.
А какие закаты подступали к островам, огражденным колючей проволокой концлагерей, тоже греческим островам? Да и были ли они доступны созерцанию? Ведь созерцание — привилегия свободной праздности, праздности или завидного, мучительного труда художника, к которому он сам приговорил себя, обрек. А на что обрек себя Мемос, вычеркнув из жизни годы и годы?.. Что получил взамен?
— Тебе не жалко потерянных лет? — спросила я и сама испугалась непредвиденной смелости и прямолинейности вопроса. Но он ответил просто, будто мы продолжали давний разговор:
— Конечно, жалко. Но ведь выбора не было.
— Был выбор, а если тогда и казалось, что — нет, сейчас-то можно все оценивать уже здраво.
— Что именно?
— А то, что биться с мировым злом — детская затея. То, что все, как у Экклезиаста, все равно возвращается на круги своя. У трагедий нет опыта.
Мемос снисходительно, как ребенку, улыбнулся:
— А вот это — чушь. У трагедий есть опыт, и он не бесполезен. Даже кровавое образование — образование. Оно дает умение противостоять злу, пусть уже иным поколениям. Вот когда в Греции в 1936 году фашизм пришел к власти, только горстка интеллигенции нашла в себе силы для протеста. В 65-м король Константин покончил с народным правительством, а только один поэт Новас подыграл королю. А «Полковникам» пришлось и того хуже.
Я внутренне сжалась. Мемос говорил то, что я когда-то писала ему. Почти теми же словами, разве что в моих рассуждениях было больше «публицистического пафоса». Но он же не мог знать об этом, я не отправляла ему писем. Неужели это моя оголтелая любовь дала мне в разлуке, на расстоянии угадывание его мыслей. Это и есть всесилие любви?
Но теперь я была другой. Не просто разлюбившей, а понявшей многое и узнавшей цену лозунгам и идеологическим проповедям.
— Нет простого противостояния злу, — сказала я. — Нет без собственного идеала, который злу противостоит. Но беда в том, что идеалы, которые провозглашали мы, оказались блефом, словами, плакатными пустышками. А за ними — те же жестокость, лицемерие, запрет на мысль. Нужно жить в России, чтобы понять, что полжизни отдано лжи. Это не менее горько, чем годы, отданные лагерям. Тебе этого не понять.
— Отчего же? — он помолчал. — Ваши лозунги и ваши иллюзии во многом были и моими. И мое прозрение через вашу историю мне было достаточно мучительно, поверь. Но почему «отданы лжи»? Ты ведь писала о фашизме, о глобальных проблемах. Разве и они были блефом?
— Ах, оставь… Как-то один человек назвал эту мою деятельность «надуванием щек по причине мировой скорби». И был прав. Хотя, в общем-то, для меня фашизм не был отвлеченным понятием.
И тут же я заткнулась: в следующей фразе мне нужно было сказать, что фашизм был моим личным врагом, потому что был врагом его, Мемоса. А значит, сказать, что долгие годы моего существования принадлежали ему. Но — нет, это — нет, ни за что.
И, чтобы не поскользнуться на опасном повороте, я с деланной лихостью произнесла:
— Хоть одно хорошо в моей России — фашизма там уже не будет.
Мемос качнул головой:
— Как знать… Опыт трагедии и в опасности ее возврата. Смотри, Пелопоннес уже почернел. Профилософствовали мы закат.
Мы опять надолго замолчали. И хотя я знала, что все сказанное мной Мемосу — правда, мне вдруг стало отчаянно жаль тех времен, когда я писала ему письма, размышляя о всех этих материях, и жила своей болью. Мне стало ощутимо пусто без желания поводить его по моцартовскому Зальцбургу, где шины детских колясок шуршат изобилием медной листвы, где перекликаются колокольни. Или написать для него рассказ, подсмотрев чью-то жизнь. А потом и это, и другое, и что-то еще упаковать в историю нашей разлуки, как делалось в старинных книгах, которые любил когда-то Мемос. Я именно сейчас поняла, что мое освобождение от Мемоса не принесло мне ничего, кроме механического ступания по жизненным передрягам, лишенного исступления, фантазий и блаженного смысла.
Или это удел женщины — постигать мир только через любовь, ее женская ограниченность? Печально, барышня.
— А где же русский ужин? — спросил Мемос.
— Будет тебе русский ужин. Все будет — и кофе, и какао.
— Какао не пью. — Мемос «не взял» цитаты. Он Ильфа и Петрова не читал.
Где-то там, за тридевять земель, за тридевять морей означился Пирейский порт. Тонким ожерельем огней он охватил горловину черной воды, не сомкнувшимся ожерельем, а только полукружьем притиснул ее.
Вода за бортом парома в темноте не была видна. Она просто вздыхала и едва постукивала о плоть судна. И казалось, паром не плывет, а просто движется над бездонной и полой пропастью.
И вместе с паромом я тоже бесшумно двигалась над пропастью, способной поглотить меня, уничтожить паникой приближающегося конца.
Однако никто из пассажиров парома, видимо, подобного чувства не испытывал. Для них приближение порта было просто концом путешествия. Концом, в котором нет конечности «никогда», а лишь завершение этапа, сулящее многозначность наступающего вскоре дня.
…Мы стояли на палубе, и навстречу нам двигался пирейский порт. Он уже не виделся ожерельем бледных огоньков, он взрывался, подобно праздничному фейерверку, изобилием цвета, света, их перекличкой, переброской, перемигиванием, слиянием и разобщением. Неоновые рекламы и вывески, точно великанские шутихи, обрызгивали многоцветьем отсветов плотную черноту неба, разбивались о плотную черноту воды.
Порт ликовал, он пиршествовал. Оттого чудилось, что там грохочет музыка, и пестрые толпы танцуют на асфальте.
Но я-то знала, что это празднество прощания, прощания навсегда, даже если нам предстоит еще встреча. Порт просто силился скрасить его веселым карнавалом разодетых огней.
Мы не целовались, не сжимали друг друга в объятиях. Просто стояли, и Мемос держал меня за плечо, едва прижимая к себе.
Но палуба все равно рушилась из под ног, огни Пирейского порта то вздымались разом, то меркли до черноты, и мы, оглушенные и немые, смотрели на них, не видя.
— Как ты жила? — наконец произнес Мемос.
Я не ответила.
Чтобы ответить нужно было отбросить годы, возраст, наши теперешние жизни.
Я не ответила, только сказала, помедлив:
— Вот и Пирей, завтра — Москва.
Медная, она грянула, как литавры. Она беззвучно била своей металлической листвой, давая ритм движению машин, перемещению пешеходов. Даже здесь, в центре города, она, осень, была своенравна и нагла, как нуворишка, наконец заполучившая дорогие одежды и выставляющая себя напоказ.
Конечно, ей, горожанке, был не по силам, не по плечу карнавальный разгул ее лесных сестер. В лесу творилось черт-те что. В прошлую субботу лес пригласил меня на свой маскарад. Там остролистый тополь оделся бубновой картой, рябина щеголяла в скоморошьей куртке, и осинка-Золушка спешила сменить дырявый зеленый фартук на тканые парчовые наряды. Там березы с цыганской безалаберностью швыряли мне под ноги изобилие меди с порванных ветром монист. Ну а ель, ель, та нацепила маску из кленового листа и сквозь прорези разглядывала меня сумрачным взглядом. И все они приглашали, требовали, давали напрокат костюм — давай, будь с нами, будь одной из нас! Уничтожен быт, быль изъята из употребления, отменены слова. Учись повадкам карнавала, живи по уставу леса! И я послушно и тщательно повиновалась языческим сумасбродствам осени, потому что осень для меня всегда не время года, а форма существования. Списаны за ненадобностью обязанности и обиды, плевать на неурядицы и условности, выдуманные миром людей. Пять человеческих чувств сменены на некое шестое, единственно связывающее тебя с бытием. Уже само бытие, сложенное из восторга, свободы, доступности сотворения мира и еще, еще чего-то, чему нет названия. Хотя не исключаю: ограниченность собственных постижений мы всегда списываем на бедность словарей.
И все-таки. Мы самозабвенно существовали друг в друге, я — в осени, осень — во мне.
Даже в городе приходило ко мне это состояние. Всегда, каждую осень. Только — вот в те годы, когда меня одолевала тоска по Мемосу, осень завладевала мной лишь в первую минуту нашей с ней встречи, в первые касания взглядов. И сразу оборачивалась еще безвыходней — болью, одиночеством, сильнее иных сезонов.
Сейчас осень была моей, как во веки веков. Во дворах, уцелевших только здесь, в старинных переулках, деревья сбивались в нарядные табунки, терлись желтыми мордами друг о друга. Льнули к белотелой Владимирской церкви.
Осень, перешагнув через лето, совсем заслонила июньскую Грецию. Теперь мы с Катей редко вспоминали наше путешествие. Так, иногда натолкнувшись на смешные ассоциации. Первое время Катя еще рассказывала подругам или Кириллу (мать вообще была не в счет) кое-что из наших похождений. А вот Панайотиса она не упомянула ни разу, будто его и не было. Что ж, видимо, это удел нового поколения: романчики и связи уходят, не оставляя следа. Как в труде некого мудреца (забыла фамилию), которого когда-то мне цитировала Тала Зонина. Быстротечное множество связей пришло на смену старым привязанностям.
Но и мои привязанности, некогда казавшиеся прочными и нерасторжимыми, тоже ушли. С тех пор, как я с легкой руки Артема Палады занялась документальным кино, я вскоре ушла из редакции своего еженедельника. Киношный мир пришел на смену журналистскому, и пропали из жизни Бося, мои ребята. Редко, редко где-нибудь пересекались. «Ну как ты? Совсем сгинула, надо повидаться, черт возьми, созвонимся. Обязательно, на этой неделе. Ну на следующей, на этой у меня — завал». И все. И, конечно, никаких звонков, другая жизнь.
Единственное место из прошлого, по которому я всегда грущу, — дом Кати Москвиной, дом любви. Но сейчас на его стенах могла бы значиться запись из дневника блокадной девочки Тани Савичевой: «Умерли все». Все умерли в необыкновенном доме любви, в здании дореволюционного страхового общества «Россия». Умерла Фрида Львовна, умерла от инфаркта Катя, даже последний старожил дома Тоська завершила свое безалаберное существование под колесами машины, у самого своего подъезда. Умерли все. Но ничто — ни ворох новых знакомств, ни шумные премьеры и цветастые путешествия не заместили во мне эту утрату. Я ловила себя на том, что тянусь к телефонной трубке, чтобы позвонить Кате, представляю, как расскажу ей и Фриде Львовне о фильме или случайном увлечении. И Фрида Львовна будет простирать ко мне руки: «Деточка, возможно, это ваша фактура (фортуна)». А Катя назидательно скажет: «Я же говорила — для женщины прошлого нет». А я скажу: «Без плагиата. Это — Бунин».
Еще в Греции я часто думала о том, что Катина смерть нереальна уже потому, что подруга не узнает, чем завершилась моя любовная эпопея. Я ведь обязана ей все рассказать.
Листва из сырой латуни льнула к белотелой Владимирской церкви. От крохотной площади у церковного изножия во все стороны расходились переулки. Как ошеломляюще — точно у Гоголя: «дороги расползлись, как раки». С Гоголем бессмысленно тягаться и мне, и переулкам. Эти расходились с неспешностью усталого служивого люда.
По одному из них, по Старосадскому, только что отбыла Катька, внучка. Пошла позаниматься часок в Исторической библиотеке. Потом мы собирались с ней в «Современник» на новый спектакль. А свободный час я решила побродить тут, где толпились старинные особняки, где Москва была почти не тронута новшествами и тлением.
Мы самозабвенно жили друг в друге. Я — в осени, осень — во мне.
Навстречу мне шел Василий Привалов. Белокурый, стройный, самоуверенный, как всегда, молодой. Только когда мы поравнялись, я поняла, что это другой человек, что это не может быть он. Прошло четверть века, и истинный Привалов обязан был постареть. И правда, незнакомец только смахивал, здорово смахивал на Василия.
Но вот что интересно: из всех жителей прошлого, кроме обитателей дома любви, ко мне настойчиво являлся именно Привалов. А ведь виделись-то мы считанные разы. И в близких и дорогих он никак числиться не мог. А услышав его имя, я каждый раз замирала, как гончая в охотничьей стойке.
Однажды донеслось: «Привалов женился на какой-то немке и отбыл в Германию на ПМЖ». Немка, по словам источника, была белесой до линялости и ни на что, кроме роли средства передвижения, и не требовалась. Кажется, потом он ее бросил. Но и сам сгинул. На всяких кинофорумах и фестивалях о нем слыхом не слышно. Черт с ним — даже к лучшему. Некому внушать мне, что все мои труды были лукавством и самообманом. И запустили яд в мою подкорку.
К тому же, к тому же… Именно Привалов дал мне понять: смехотворны для стареющей дамы страдания юного Вертера. И со временем несовместны: слова отмерли, чувства прячутся за иронию. Я — реликт, годный лишь для снисходительного созерцания новоявленных современников.
Когда Тала бросила Василия, я мстительно ликовала. Может, отвергнутость тряхнет его? Интересно, что пережил он тогда? Хотя, наверное, в «человеке времени» и этот поворот событий особых потрясений не вызвал. Время отменяет любовь в ее прежних ипостасях. Чем дальше, тем больше. Может же Катька не заметить, что живет на свете какой-то Панайотис.
Сейчас Привалов прошел мимо, не взглянув на меня, как и должен был пройти былым, уже не существующим обликом, незнакомцем.
Я могла не останавливать зрение и мысль на этом почти бесплотном проходе. Я могла, стоя у церковной ограды, продолжать рассматривать особняк на другой стороне переулка. Собственно, особняком, видимо, было только его левое крыло с высокими полуциркульными окнами бельэтажа. Именно вокруг него порхала стая голубей.
Белокурых, потомственных, а не беспородных сизарей, заселяющих городские площади. Эти, белоснежные, подсаживаясь на подоконники и фризы надменного строения, входили гипсовой лепкой в барельефы, обнимающие окна и подкрышье.
Было очевидно: в какие-то более поздние времена к дому пристроили еще два отсека подделки, которую выдавала куцая непрезентабельность окон постреволюционной эры. Теперь дом стоял буквой «П». С внешней стороны к старому крылу примыкал тесный сквер, скорее скопление деревьев. Внутри П-образного дома все пространство покрывал скучный асфальт. Однако мне понравилось, что там ничто не нарушало ландшафта. Образовавшийся двор представал плацем, на котором выстроилось стройное воинское каре в желто-белых мундирах. Историчность утверждалась таким вот образом.
Дом был мне по душе. Захотелось даже пожить в нем, понять, что за народ его населяет. Мне никогда такие мысли в голову не приходили, я слишком любила свои Чистые пруды. Но осень, осень, с ней все может быть.
Тут как раз один из обитателей дома вышел из ближайшего подъезда и, миновав решетчатую часть ограды, остановился на тротуаре. Остановился и уперся в меня взглядом. Понятия не имею, что за персонаж. Высокий, чуть сутуловатый старик в щегольском легком кашемировом пальто. Пышная оторочка из седых кудрей, переходившая в бороду, охватывала просторную лысину, стекающую на затылок с высокого лба.
Понятия не имела, что за персонаж, однако что-то неуловимое казалось знакомым. Одно было очевидно: именно такой старик должен жить на плацу, под стражей желто-белого каре.
— Ксаночка! — окликнул меня старик.
Не было мне нужды разговаривать со всякими стариками, было достаточно установить — живет в этом доме, из дому идет. Мне хотелось рассматривать здания и осень. Но тот, в пальто от всевозможных Версаче, уже переходил мостовую, направляясь ко мне.
— Ксаночка? — уже вопросительно повторил он.
— Да, — сказала я неуверенно, будто сама сомневалась в собственной идентификации.
— Плохо мое дело. Облинял, видать, старик Проскуров, женщины не признают.
Господи! Какой-то день свиданий с призраками.
— Вы таким пижоном стали…
— Старики должны одеваться чистенько, — Проскуров жестом модели поднял воротник пальто.
— Вы в этом доме живете? — Что было спрашивать и так знала наверняка — живет. — Красивый дом, особенно левое крыло. Окна — загляденье. Наверное, из них вид, как пейзаж в раме.
— Пошли, покажу, — сказал Проскуров и взял меня за руку.
Странно, но я ни минуту не раздумывала и тут же дала себя увести в проскуровское обиталище.
Перестройщики дома оказались снисходительны к родовитому прошлому особняка. Барственная пологость лестницы, каменные «зеркала» в барельефных рамах дожили до наших времен. Правда, расхожая подъездная масляная краска почтительности к былым росписям не обнаруживала.
Входу в квартиру предшествовал просторный холл, даже обставленный: кресло, журнальный столик, картины в рамах по стенам. Тоська бы сказала: «матерьяльно живут». «Матерьяльность» отмечала и саму квартиру. Насколько я успела рассмотреть гостиную, притаившуюся за аркой, соединявшей ее с прихожей, там властвовал русский ампир, родственник Москвинскому. На вишневых полированных поверхностях бронзовые орлы простирали крылья, бронзовые львы и сфинксы, щерясь, выставляли из мерцающих глубин дерева саркастические морды. Пожалуй, здесь можно было утолить мою грусть по дому любви на Сретенском бульваре, растворившемуся в небытии. Но Проскуров не пригласил меня в гостиную, провел в соседнюю комнату, огромную, почти пустую. Мастерскую, надо полагать.
— Вот, сломал стены, организовал пространство. И как повезло: комната угловая, свет с двух сторон. Красота, совершенство, не правда ли? — Проскуров самодовольным жестом обнес окна, будто он не просто сломал стены, а и сам сотворил свет, под углом пронзающий это самое пространство. По два окна на каждой стене, высокие, округлые вверху.
— Вы угадали: сквозь них пейзаж, как в раме, — сказал Кирилл Петрович. — В одном окне Владимирская церковь, в другом — Ивановский монастырь.
— Ивановский… — я пыталась извлечь из памяти какие-нибудь стершиеся сведения, — нечто историческое?
— Именно. В его подвалах тридцать три года отсидела свирепая Салтычиха, а также томилась в своей келье дочь императрицы Елизаветы Петровны — Анна Алексеевна Тараканова, монахиня Досифея.
Хорошо, что для начала беседы подоспели эти церкви и монастыри. За что цепляться разговору, оборванному четверть века назад, да и не самым для меня лестным образом?
Вдоль стен на полу выстроились холсты. Все картины — лицом к стене, новая, на подрамнике, над которой еще шла работа, завешена темной тканью. Все безглазо, безлико, лишено цвета. То ли дело тбилисская мастерская Тенгиза Хоравы, где картины глазели на меня отовсюду, соединяясь, объединяясь в единство с продуманной, но не прирученной стихией цвета на пиршественном столе. Мастерская художника представлялась мне только такой. Правда, в иных я не бывала.
Такой обязана была быть и проскуровская, особенно в соседстве с буйством осени. Но осень отгорожена созерцательностью окон. Осень для комнаты — лишь деталь, великодушное разрешение отклониться от установленного порядка. Но нет. Одна картина, вернее, репродукция, была обращена к зрителю. Висела против окна и высвечена. Я, к своему удивлению, узнала: Сальвадор Дали «Апофеоз Гомера». Узнала случайно, в Мюнхене меня как гостью препроводили в музей, где она экспонировалась. И запомнилась, сама не знаю почему, вероятно, потому, что я никак не могла понять — при чем тут Гомер? Нагромождение в неведомых схватках деформированных фигур-предметов и обнаженное женское тело, распростертое в блаженстве полного покоя. Здесь я узнала картину, потому сказала:
— За что такие привилегии Дали? Единственная картина.
Проскуров подошел к «Гомеру» и, стоя ко мне спиной, медленно произнес:
— Я всегда хотел, чтобы у меня в мастерской висел Дали. Он единственный художник, которому я завидовал… Дали, как никто, умел обращаться с миром сущим и вымышленным по своему усмотрению… Вот теперь привез из Мюнхена. Я всегда хотел, чтобы у меня висел Дали. Хотел и боялся.
— Боялись? Почему?
— Ксаночка, не прикидывайтесь наивной. Вы ведь тоже, наверное, боялись публично читать «самиздат» и зарубежные издания. А в работе вы ничего не боялись?.. Самое страшное, что было в нашей жизни это — вот… — он резко обернулся и показал на окно, замыкающее Ивановский монастырь. — Все мы, уверен, и вы, это понимали, придумывая для себя всяческие оправдания.
— Вы о чем? — Я искренне не поняла.
— Изуверка Салтычиха забивала крепостных девок палками и отрезала им груди. Грех монахини Досифеи заключался лишь в том, что она могла претендовать на престол. Но государыня Екатерина избрала для них одинаковое наказание: казнь немотой, запрет на общение с миром. Вот и мы все приняли ту же кару, кто больше, кто меньше, кто простодушно, кто изворотливо. Но, в общем-то, все. Потому что дозволенное бормотание, упорядоченный лепет — еще не речь.
— Зато теперь мы все преуспели и в обличениях, и в самобичевании. — Что-то раздражало меня в его проповедничестве. Но Проскуров не смутился, напротив, откликнулся с живостью:
— Нет, нет, не теперь. Самое противное, что понимали и тогда. Я, во всяком случае, понимал отлично. И зло от добра отличал. Я и тогда понимал, что главный мой грех — это самое понимание, которое отнюдь не мешает мне прекрасно существовать, злу не противляясь.
Не была я настроена распахивать душу, рвать на груди тельняшку. Не за тем пришла, хотя зачем — неизвестно. Я сказала:
— Показали бы хоть новые работы.
— Не сейчас, как-нибудь в другой раз.
А про что говорить? Я отвыкла от Проскурова, да и раньше мы никогда о чем-нибудь путном не беседовали. Я спросила:
— А сколько в квартире комнат?
— Две. Мастерская и гостиная. Еще кухня.
— А спальня?
— Спальни нет. Сплю вот на этом топчане. — Широкая тахта с ящиком для белья занимала дальний угол мастерской. Показав на нее, Проскуров мельком ухмыльнулся, и я дернулась от злости. Мне сразу вспомнилось мое когдатошнее посещение его обители, предложение остаться и то, как он отверг мои порывы. Неужели этот старый щеголь с венчиком померкших кудрей полагает, что я и сейчас пришла за тем же.
Однако повернуться и уйти значило бы обнаружить, что я помню давнее происшествие.
— Раз не показываете картин, покажите гостиную. Там, вроде, главная роскошь.
Роскошь была, как мелькнулось сквозь арку. Объяснил: не вывез из тещиной квартиры ничего. По комиссионкам собирал свой ампир, к ампиру присовокупил мягкие диван и кресла. Спросил:
— Есть хотите? Бутерброды, кофе, чай?
— Есть не хочу, а чаю выпью.
— Ну что ж, чай так чай. Имеется «Эрл грей». Сильная вещь. Как говорится, свое действие оказывает и кругом себя оправдывает.
Мне показалось, что Проскуров снова имеет ввиду интимность моего прихода, и озлилась пуще прежнего. Он и бровью не повел, безмятежно отправился на кухню готовить чай, который, вернувшись, сервировал на низком столике у моих колен, ибо я уже утопала в недрах мягкого кресла темно-зеленой кожи.
— Ну расскажите, как живете, над чем работаете? — Задала я дежурные вопросы. Он махнул рукой:
— Да ладно вам…
— Журналистам положено интересоваться творческими планами своего собеседника.
— Планы есть, работы нет. Как однажды сказал мой коллега, старею, скоро помру. В безвестности. Как Рембрандт.
Шуточка с Рембрандтом как-то вдруг все привела в равновесие, выпустила из меня раздражение:
— Не худшая перспектива! Можете спокойно проживать в предчувствии посмертной славы. Что и будет. Верьте моему инстинкту.
— Инстинкты ненавижу. — Проскуров ответил с неподходящей случаю серьезностью.
— Какая же женщина без инстинктов и интуиции? Не замечали? Любая из нас порой согласится, что она дура, некрасивая, но нет женщины, которая бы отказала себе в интуиции.
Проскуров повторил:
— Ненавижу инстинкты.
— Почему именно инстинкты? Странный объект ненависти.
Проскуров посмотрел на меня, будто уличая в чем-то:
— «Мысль, опыт, знания, исследования — все это имеет второстепенное значение по сравнению с инстинктом, если это инстинкт чистого в расовом отношении народа». Не припоминаете?
Я обязана была вспомнить, я где-то цитировала этот пассаж. Но сказала наугад.
— По-моему, что-то из фюрера…
— Именно. Речь на Нюрнбергском съезде. Инстинкт для всех взамен всему — мысли, опыту, знанию, закону. Инстинкт расовый, а можно — классовый. Или еще какой. Право инстинкта, как возможность заменить им всеобщий комплекс неполноценности. Ведь общество тотально неполноценно, если отменены все духовные и интеллектуальные категории. И в каждом выработан основной инстинкт — инстинкт дозволенности.
Проскуров излагал голосом ровным, даже как-то с ленцой. Но я чуяла: инстинкт, инстинкт Савонаролы ищет выхода к публике. Пусть немногочисленной. Надо было сбить этот вальяжный пафос:
— Но теперь-то нам известный фильм объяснил, что «основной инстинкт» — дело иного рода. — И тут же спохватилась. Опять завожу сомнительный разговор. Надо менять маршрут:
— К тому же инстинкт дозволенности и недозволенности — не такая уж плохая штука. По-моему, сейчас и обществу и государству этого-то как раз и не хватает.
Он вяло поморщился, демонстрируя снисходительное терпение к моей тупости:
— Я не об этом… Я о мысли, опыте, знании, исследовании. И творчестве, как вы, надеюсь, понимаете. А вообще-то что вы ершитесь? Вы же в свое время сами занимались фашизмом, насколько я помню. Правда, больше насчет тюрем и крови. Но писали в свое время, писали.
— В свое. А может — не в свое. Во всяком случае, теперь нет у меня охоты погружаться во все эти материи. — Пора было прекращать почему-то неприятную для меня дискуссию. Но он не унимался:
— Отчего ж не погружаться? И кому, как не нам? Мы ведь особое поколение. Мы первые, кому выпало жить по правилам глобальных процессов. При нас они стали общими, мировыми, едиными. И процессы, и события.
— Так уж и первые? А Первая мировая война уже не в счет?
— Э-э, деточка, конечно, не в счет. Только во Второй участвовали все континенты. На своей территории или на чужой. А до того в Европе могла идти Столетняя война, а какой-нибудь Японии и дела мало. Только при нас информация стала мгновенной и глобальной. Да и население Земли ощутило себя человечеством только с выходом в околоземное пространство.
Проскуров распалялся все больше и больше, увлеченный собственным красноречием. Я уже не делала попыток прервать его. Теперь он витийствовал, расхаживая по комнате.
— Революции стали экспортироваться, идеологии метаться из страны в страну, обретая лишь национальные оттенки. Пресловутый фашизм — тому наглядное подтверждение. — Он резко прекратил ходьбу и замер надо мной величавым, но слегка комичным обелиском. Произнес тише и размеренней:
— Да, дорогая, мы особое поколение. Нас коснулся вихрь мировых процессов. Для одних это было вторжением в жизнь, для других — касанием. Но касание, касание непременно было.
В конце концов проскуровская невостребованность трибуна становилась бестактной. Я же сказала, что не желаю никаких дискуссий. Не хочу. Не хочу идеологий, не хочу обличений или разных там служений идее. Они поломали жизнь Мемосу, они заставили и меня столько лет нести этот крест. Не это мне было нужно. Мне было нужно идти с Мемосом к храмам Гегарта по розовой дороге, покрытой крошкой армянского туфа. Сочинять для него рассказы про чужую летнюю любовь, чтобы потом упаковывать их в историю любви нашей, как это делалось в старинных романах. Я должна была гулять с ним по моцартовскому Зальцбургу, а рядом шины детских колясок шуршали бы изобилием желтой листвы. Я сказала напрямик:
— Не хочу размышлять об этом.
— И ваша дочь не желает об этом размышлять? — спросил Проскуров.
— У меня сын. Между прочим, ваш тезка. А еще у меня есть внучка, и она уже, наверное, заждалась меня на улице.
— Наскучил я вам, — убежденно и даже горестно сказал Проскуров, так горестно и искренне, что я пожалела его. С чего это я все время внутренне заводилась то на то, то на се.
— Нет, правда, Катька ждет. А у вас очень уютно, кресло просто нирваническое. Так бы плысть и плысть… — засмеялась я.
— Чему вы? — насторожился Кирилл Петрович.
— Так, вспомнила. Был у меня один поклонник — конструктор чего-то там. Пригласил покататься на их казенном катере. Стоим на палубе, река, пейзажей навалом, душевно… Вот он и говорит: «Как хорошо! Так бы плысть и плысть…» И роман закончился.
— Трудно с вами, образованными, — улыбнулся Проскуров.
— Куда уж вам, сами-то, небось, книжек в руках не держали. И шкафчик, исключительно как деталь интерьера приобрели. — Книжный шкаф, размашистый и надменный, тоже старина красного дерева, занимал почти полностью одну из стен. За гранеными квадратиками зеркального стекла прятались гнездовья многотомников и фолиантов в старинных переплетах, скрытые от первого взгляда. А в мастерской еще подумалось: странное жилье, ни одной книжки.
Проскуров не взял моего телефона, не посулил, как в давнишние времена, не обременять частыми звонками. Попрощались — и больше все, сказала бы Поля, Прасковья Васильевна.
Осень делала свое дело, праздновала, но мы с ней уже не братались, каждый был сам по себе. «Дурак! Испортил песню». Алексей Максимович, великий пролетарский, на этот раз кругом прав.
Высвободившись из рамы проскуровского окна, Ивановский монастырь развернул плечи, прочно уперся в землю двумя сторожевыми башнями. Сторожевыми представали высокие бурые башни с окошечками-бойницами. Их островерхие шлемы некогда прикрывали вместилище колоколов. Колокола давно вырваны, на немоту обречено четырехгранное сводчатое пространство, этакая тяжеловесная беседка, поднятая над землей. Ее бездействие, бесцельность подчеркивал зубчатый воланчик из некогда белого кирпича, обнимавший «беседку». За башнями, где-то в глубине двора виднелся широкий купол, увесистый и спящий, как бок полуденного борова.
На монастырь мне хотелось смотреть. И даже верить, что в его утробе еще мечется садистка Салтычиха, и беззвучно идет к обедне скорбная монахиня Досифея. На монастырь хотелось смотреть. Собственно, никаких новых зрелищ маленькая площадь не представляла. Даже пешеходы были редки. Вот только старик-ветеран прошествовал, постукивая инвалидной палкой. Вся грудь изношенного, некогда синего пиджака увешена несчетными орденами и медалями — горький беспомощный призыв к безучастному миру: я был, я есть. Старик выводил свою орденскую коллекцию на прогулку или на смотр, который некому принять. Нес бережными шажками, почти не опираясь на палку, только постукивая ею. И в этом дробном звуке тоже слышался жалкий, умоляющий призыв.
Навстречу старику двигалась группа, человек пять-шесть молодых парней. Все, как сошедшие с конвейера: бритые головы, высоко закатанные рукава рубашек, лица без выражения. Перебрасывались редкими словами, что говорили, не слышно. Поравнялись с высокой стеной, служившей основанием для чугунной ограды — в этом месте дом и забор были подняты над тротуаром — приостановились. Один из парней вынул из кармана брюк пульверизатор и легким привычным движением руки изобразил на стене черную свастику. Старик на мгновение замер, потом с каким-то не то всхлипом, не то криком засеменил к парням. Он что-то бормотал, я опять-таки не могла разобрать. Но увидела все до подробностей, как в кино с покадровой съемкой.
Взлетевшая нога того, что чертил свастику. Перекошенное лицо старика. Старик, лежащий на тротуаре возле стены. Палка, отброшенная на мостовую. Опять ноги, ноги, беззвучно молотящие по старику, методично и как бы безучастно. Медали, брызжущие на асфальт. Пешеходы, вежливо, невидяще обтекающие группу…
Тут за моей спиной раздался надсадный крик: «Мерзавцы, подонки, что вы делаете!» Катька, чуть не сбив меня с ног, мчалась к парням. Я — за ней. Катя повисла на одном из них, голося: «Прекратите, гады, прекратите!»
— А те че надо, сука породненная! — он резким тренированным движением отшвырнул ее к стене, головой о стену.
Группа спокойно продолжала движение по переулку, не оборачиваясь, не убыстряя шага.
Я ждала, когда она проснется, я не отходила от кровати, моей кровати, она любила устраиваться в ней, когда ей было плохо или грустно. Перебинтованная голова, белая, как белые выпуклости подушки. Тело под одеялом, вдруг ставшее плоским, почти исчезнувшим. Я не отдала ее в больницу, хотя врачи настаивали, я упрятала ее в своей кровати, как она любила, когда ей бывало плохо.
Катя открыла глаза и сказала ясным голосом:
— Я умираю.
— Ну что ты, глупышка, все позади, ты скоро будешь молодцом.
Она повторила убежденно:
— Я умираю. Я умираю без Панайотиса. Я не могу без него жить. Я хочу в Грецию.
— Только не это! Ради Бога, только не это… — взмолилась я.
P.S. автора:
В этой книжке я собрала персонажей многих моих сочинений. Мне и раньше нравилось, когда кто-то из одной повести вдруг перекочует в другую и познакомится с чужой жизнью. А тут я собрала многих. Я дописала их судьбы, переписала некоторые события, пересекла. Кое-что оставила нетронутым: мне хотелось, чтобы ваше знакомство с ними происходило в тот момент, когда они появились в моем воображении.
Вот что мне было важно: почти все мои герои дошли до завершения столетия. Вот и подумалось: а что они принесли с собой и как для них всех этот век закончился?
Это — история любви. Великой любви. Любви, перед которой — ничто годы и расстояния. Любви, которая, раз придя к двоим, становится для них смыслом существования на всю жизнь.
Русская журналистка-международница и греческий режиссер. Впервые они встретились в Москве — и с тех пор жили только ради новых встреч. Короткие встречи — но для мужчины и женщины в них было заключено счастье…
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.