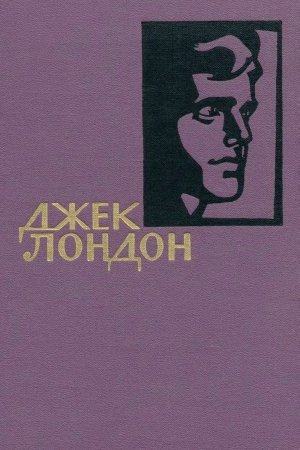
Джек Лондон. Собрание сочинений в 14 томах. Том 7
МАРТИН ИДЕН
Глава первая
Тот, что шел впереди, отпер дверь французским ключом. Молодой парень, шагавший следом, прежде чем переступить порог, неловко сдернул кепку с головы. На нем была простая, грубая одежда, пахнувшая морем; в просторном холле он как-то сразу оказался не на месте. Он не знал, что делать со своей кепкой, и собрался уже запихнуть ее в карман, но в это время спутник взял кепку у него из рук и сделал это так просто и естественно, что парень был тронут. «Он понимает, — пронеслось у него в голове, — он меня не выдаст».
Раскачиваясь на ходу, широко расставляя ноги, словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, он шел за своим спутником. Огромные комнаты, казалось, были слишком тесны для его размашистой походки, — он все время боялся зацепить плечом за дверной косяк или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Он шарахался из стороны в сторону и тем увеличивал опасность, существовавшую больше в его воображении. Между роялем и столом, заваленным книгами, могли свободно пройти шесть человек, но он отважился на это лишь с замиранием сердца. Его большие руки беспомощно болтались, он не знал, куда их деть. И когда вдруг ему показалось, что он вот-вот заденет книги на столе, он отпрянул, как испуганный конь, и едва не повалил табурет у рояля. Он взглянул на своего уверенно шагавшего спутника и впервые в жизни подумал о том, как неуклюжа его собственная походка и как она отличается от походки других людей. На мгновение его обожгло стыдом от этой мысли. Капли пота выступили у него на лбу, и, остановившись, он вытер свое бронзовое лицо носовым платком.
— Артур, дружище, погодите немножко, — сказал он, пытаясь шутливым тоном замаскировать свое смущение. — Слишком уж для меня много на первый раз. Дайте собраться с духом. Вы ведь знаете, что я не хотел идти, да и вашим-то едва ли так уж не терпится посмотреть на меня.
— Пустяки! — последовал успокоительный ответ. — Вам нечего бояться нас. Мы люди простые… Эге! Кажется, мне письмо!
Артур подошел к столу, вскрыл конверт и стал читать, предоставляя гостю возможность прийти в себя. И гость это понял и оценил. Он был от природы чуток и отзывчив и, несмотря на внешнюю растерянность, не утратил этих чувств и сейчас. Он снова вытер лоб и обвел комнату сосредоточенным взглядом, но в этом взгляде все еще была тревога, как у дикого животного, опасающегося западни. Он был окружен неведомым, он боялся того, что его ожидало, он не знал, что ему делать, и понимал, что держится нескладно и что, вероятно, нескладность эта проявляется не только в походке и жестах. Чувствительность его была обострена, смущение дошло до предела, и лукавый взгляд, который украдкой бросил на него Артур поверх письма, поразил его, как удар ножом: Он поймал этот взгляд, но не подал виду, так как многому уже успел научиться, и прежде всего дисциплине. Однако его гордость была ранена. Он выругал себя за то, что пришел, но тут же решил: будь что будет, но раз уж он здесь, то выдержит все до конца. Лицо его приняло суровое выражение, и в глазах сверкнул сердитый огонь. Он снова огляделся, теперь уже более уверенно, стараясь запечатлеть в своем мозгу все детали окружающей обстановки. Ничто не ускользнуло от его широко раскрытых глаз: и по мере того как он глядел на эти красивые вещи, сердитый огонь в его глазах угасал, сменяясь теплым блеском. Он всегда живо откликался на красоту, а здесь было на что откликнуться.
Его внимание привлекла картина на стене, писанная маслом. Могучий вал разбивался о прибрежную скалу; низкие, грозовые облака покрывали небо, а по бушующим волнам, освещенная закатными лучами, неслась маленькая шхуна, сильно накренившись, так, что вся ее палуба была открыта взгляду. Это было красиво, а красота неодолимо влекла его. Он забыл о своей неуклюжей походке и подошел к картине вплотную. Красоты как не бывало. Он с недоумением взирал на то, что теперь казалось грубой мазней. Затем он отошел. И тотчас же картина снова стала прекрасной. «Картина с фокусом», — решил он, отворачиваясь, и среди новых нахлынувших впечатлений успел с негодованием подумать о том, что столько красоты принесено в жертву ради глупого фокуса. Он не имел понятия о живописи. До сих пор он знал лишь хромолитографии, которые были одинаково гладки и отчетливы издали и вблизи. Правда, в витринах магазинов он видал картины, написанные красками, но стекло не позволяло разглядеть их как следует.
Он оглянулся на своего друга, читавшего письмо, и взгляд его упал на лежавшие на столе книги. Его глаза загорелись жадностью, как у голодного при виде пищи. Он невольно шагнул к столу и начал с волнением перебирать книги. Он глядел на заглавия и имена авторов, читал отдельные фразы в тексте, ласкал книги взглядом, любовно поглаживал и вдруг узнал книгу, которую недавно прочел. Но все другие книги были ему совершенно неизвестны, так же как и их авторы. Ему попался томик Суинберна [1], он стал читать и забыл, где находится; лицо его разгорелось. Дважды он закрывал книгу, чтоб посмотреть имя автора, указательным пальцем заложив страницу. Суинберн! Он запомнит имя. У этого Суинберна был, видно, наметанный взгляд, он умел видеть очертания и краски. Но кто он такой? Умер он лет сто тому назад, как большинство поэтов, или жив и еще пишет? Он перевернул заглавную страницу. Да, этот Суинберн написал и другие книги. Ладно, завтра же утром он пойдет в публичную библиотеку и попробует достать что-нибудь из его сочинений.
Он так увлекся чтением, что не заметил, как в комнату вошла молодая девушка. Его заставил опомниться голос Артура:
— Руфь! Это мистер Иден.
Книга захлопнулась, и сразу же его пронизало новое, еще незнакомое ощущение, вызванное, однако, не появлением девушки, а словами ее брата. В этом мускулистом теле жила обостренная чувствительность. Под малейшим воздействием внешнего мира его чувства и мысли вспыхивали и играли, как пламя. Он был необычайно восприимчив и впечатлителен, а его пылкое воображение все время работало, устанавливая связь между вещами, их сходство и различие. Слова «мистер Иден» — вот что заставило его вздрогнуть. Он, которого всю жизнь звали «Иден», или «Мартин Иден», или просто «Мартин», — вдруг «мистер». «Это уже кое-чего стоит», — отметил он про себя. Его сознание вдруг словно превратилось в огромную камеру-обскуру, и перед ним, обгоняя друг друга, замелькали знакомые картины: кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы; все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он привык в жизни.
Но тут он обернулся и увидел девушку. Беспорядочные видения, роившиеся в его памяти, сразу исчезли. Перед ним было бледное, воздушное существо с большими одухотворенными голубыми глазами, с массой золотых волос. Он не знал, как она одета, — знал лишь, что наряд на ней такой же чудесный, как и она сама. Он мысленно сравнил ее с бледно-золотым цветком на тонком стебле. Нет, скорей она дух, божество, богиня, — такая возвышенная красота не может быть земной. Или в самом деле правду говорят книги, и в других, высших кругах общества много таких, как она? Вот ее бы воспеть этому Суинберну. Может быть, он и думал о ком-нибудь, похожем на нее, когда описывал Изольду в книге, которая лежит там, на столе. Вся эта смена мыслей, образов и чувств заняла одно мгновение. А внешне события шли своей непрерывной чередой. Руфь протянула ему руку, и он заметил, как прямо смотрела она ему в глаза во время крепкого, совсем мужского рукопожатия. Женщины, которых он знавал, не так пожимали руку. Они вообще редко здоровались за руку. Его снова захлестнул поток пестрых картин, воспоминаний о встречах и знакомствах с разными женщинами. Но он отогнал все эти воспоминания и смотрел на нее. Такой он никогда не видел. Женщины, которых он знавал… Немедленно рядом с нею выстроились «те» женщины. В течение секунды, показавшейся вечностью, он словно стоял посреди портретной галереи, в которой она занимала центральное место, а вокруг теснилось множество женщин, и каждую надо было оценить беглым взглядом, сравнить с нею. Он увидел худые, болезненные лица фабричных работниц и задорных девчонок городской улицы; увидел батрачек с огромных скотоводческих ранчо и смуглых жительниц Мексики с неизменной сигаретой в зубах. Потом замелькали похожие на кукол японки, семенящие на деревянных подошвах; женщины Евразии с тонкими чертами лица, уже отмеченные признаками вырождения; за ними пышнотелые женщины островов Тихого океана, в венках из цветов, оттеняющих их темную кожу. И, наконец, всех оттеснила чудовищная, кошмарная толпа — растрепанные потаскухи с панелей Уайтчепела, пропитанные джином ведьмы из темных притонов, целая вереница исчадий ада, грязных и развратных, жалкие подобия женщин, подстерегающие моряков на стоянках, отбросы гаваней, пена и накипь людского котла.
— Садитесь, мистер Иден, — сказала девушка. — Мне так хотелось познакомиться с вами, после того что нам рассказал Артур. Это был такой смелый поступок.
Он остановил ее движением руки и пробормотал, что все это сущий вздор, что всякий поступил бы так же на его месте. Она заметила, что рука, которую он поднял, покрыта свежими, заживающими ссадинами; посмотрела на другую руку и увидела то же самое. Потом, скользнув быстрым испытующим взглядом по его лицу, она заметила шрам на щеке, другой на лбу, под самыми волосами, и, наконец, третий, исчезавший за крахмальным воротничком. Она подавила улыбку, увидав красную полоску, натертую воротничком на его бронзовой шее. Он, видимо, не привык носить воротнички. Ее женский глаз отметил и дурной, мешковатый покрой его костюма, складки у плеч, морщины на рукавах, под которыми обрисовывались могучие бицепсы.
Повторяя, что в его поступке нет ничего особенного, он послушно шагнул к креслу. При этом он успел полюбоваться той непринужденной грацией, с которой села она, и смутился еще больше, представив себе свою нескладную фигуру. Это было ново для него. Ни разу в жизни не задумывался он над тем, ловок он или неуклюж. Ему никогда в голову не приходило смотреть на себя с такой точки зрения. Он осторожно присел на край кресла, не зная, куда деть свои руки. Как он их ни клал, они все время мешали ему. А тут еще Артур вышел из комнаты, и Мартин Иден с невольной тоской посмотрел ему вслед. Оставшись в комнате наедине с этим бледным духом в женском облике, он окончательно растерялся. Тут не было ни стойки, где можно спросить джину, ни мальчишки, которого можно послать за пивом, чтобы дружеская беседа потекла свободно, смоченная этими располагающими к общению напитками.
— У вас шрам на шее, мистер Иден, — сказала девушка. — Откуда он? Наверно, это след какого-нибудь необычайного приключения?
— Мексиканец меня хватил ножом, мисс, — отвечал он, проведя языком по губам и кашлянув, чтобы прочистить горло. — Была потасовка. А потом, когда я вырвал у него нож из рук, он хотел откусить мне нос.
Он оказал это совершенно просто, а перед его глазами возникла картина той душной звездной ночи в Салина-Круц: белая полоска берега, огни груженных сахаром пароходов, голоса пьяных матросов в отдалении, толкотня грузчиков, искаженное яростью лицо мексиканца, звериный блеск его глаз при звездном свете, холод стали на шее, струя крови, толпа и крики, два тела, сплетенные вместе и катающиеся на песке, и мелодичный звон гитары где-то вдали. Так это было, и, вздрогнув при одном воспоминании, он подумал о том, сумел ли бы изобразить все это красками тот, кто написал картину, висевшую на стене? Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов — все это должно бы здорово получиться, — а посередине, на песке, темная толпа вокруг дерущихся. Он решил, что и нож следовало изобразить на картине, — сталь так красиво блестела бы при свете звезд.
Но обо всем этом он не сказал ни слова.
— Да, он хотел откусить мне нос, — повторил он только.
— О! — воскликнула девушка, и в тоне ее голоса и в выражении лица он почувствовал замешательство. Он и сам смешался, легкая краска разлилась по его загорелым щекам, но ему показалось, что они пылают, как будто он целый час провел у открытой топки котла. О таких неприглядных предметах, как поножовщина, едва ли удобно беседовать со светской дамой. В книгах люди ее круга никогда таких разговоров не вели, — может быть, они даже не знали о подобных вещах.
Произошла легкая заминка в едва успевшей завязаться беседе. Тогда Руфь снова задала вопрос, на этот раз о шраме у него на щеке. Когда она сделала это, он понял, что она старается говорить с ним о том, что ему близко, и тут же решил, ответив, перевести затем разговор на то, что близко ей.
— Случай такой вышел, — сказал он, проводя рукой по щеке. — Однажды ночью, в большую волну, сорвало грот со всеми снастями. Трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать. Ну, я бросился и закрепил его, только при этом меня звездануло по щеке.
— О! — воскликнула она опять, на этот раз с некоторым участием, хотя все эти «гроты» и «тросы» были для нее настоящей китайской грамотой.
— Этот… Свайнберн, — начал он, осуществляя свой план, но при этом делая ошибку в произношении.
— Кто?
— Свайнберн, — повторил он, — поэт.
— Суинберн, — поправила она его.
— Да, он самый, — проговорил он, снова покраснев. — Давно он умер?
— Я не слыхала, чтобы он умер. — Она посмотрела на него с любопытством. — А где вы с ним познакомились?
— Да я его и в глаза не видал, — отвечал он. — Я прочитал кое-что из его стишков вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся?
Она заговорила свободно и легко об интересовавшем его предмете. Он почувствовал себя лучше и даже поудобнее уселся, продолжая, однако, крепко держаться за ручки кресла, словно опасался, что оно уйдет из-под него и он шлепнется на пол. Ему удалось подсказать тему, ей близкую, и теперь он напряженно слушал, удивляясь тому, как много знаний укладывается в ее хорошенькой головке, и наслаждаясь созерцанием ее хрупкой красоты. Он старался понять то, что слышал, хотя незнакомые слова, так просто слетавшие с ее губ, повергали его в недоумение, да и весь ход ее мысли был ему совершенно чужд. Однако все это заставляло работать его мозг. Вот где умственная жизнь, думал он, вот где красота, яркая и чудесная, какая даже не снилась ему. Он забыл все окружающее и жадными глазами впился в девушку. Да, вот это — то, для чего стоит жить, чего стоит добиваться, из-за чего стоит бороться и ради чего стоит умереть. Книги говорили правду. Бывают на свете такие женщины. Вот одна из них. Она окрылила его воображение, и огромные яркие полотна возникали перед ним, и на них роились таинственные, романтические образы, сцены любви и героических подвигов во имя женщины — бледной женщины, золотого цветка. И сквозь эти зыбкие, трепетные видения, как чудесный мираж, он видел живую женщину, говорившую ему об искусстве и литературе. Он слушал и смотрел, не подозревая, что в его глазах, в устремленном на нее пристальном взгляде отражается вся мужская сущность его натуры. Но она, мало знавшая о жизни и о мужчинах, вдруг по-женски насторожилась, поймав его пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и этот взгляд смутил ее. Она запнулась и умолкла, потеряв нить рассуждений. Этот человек пугал ее, и в то же время ей почему-то было приятно, что он так на нее смотрит. Привитые воспитанием навыки предостерегали ее против опасности и силы этого таинственного, коварного обаяния; но инстинкт звенел в крови, требуя чтобы она забыла, кто она и что она, и устремилась навстречу этому гостю из другого мира, этому неуклюжему юноше с израненными руками и красной полоской на непривычной к воротничку шее, — юноше, носившему на себе явный и неприглядный отпечаток грубой жизни среди грубых людей. Она была чиста, и вся чистота ее возмущалась; но она была женщина, и к тому же только что начавшая познавать удивительный парадокс женской природы.
— Значит, как я говорила… А что я говорила? — вдруг воскликнула она, оборвав фразу, и сама весело рассмеялась.
— Вы говорили, что этот Суинберн не сделался великим поэтом, потому что… да… вот на этом вы как раз и остановились, мисс…
Он сказал это и почувствовал точно приступ внезапного голода. От ее смеха приятные мурашки забегали у него по спине. Точно серебро, подумал он, точно маленькие серебряные колокольчики; и в то же мгновение, и только на одно мгновение, он перенесся в далекую страну — сидел там под вишней, осыпанной розовым цветом, курил и слушал звон колокольчиков остроконечной пагоды, призывающий на молитву богомольцев в соломенных сандалиях.
— Да, да… благодарю вас, — отвечала она. — Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват. У него есть такие стихотворения, которые просто не стоит читать. У настоящего поэта каждая строчка исполнена прекрасной истины и взывает к самому высокому и благородному в человеке. У великого поэта нельзя выкинуть ни одной строчки. Это было бы огромной потерей для мира.
— А мне это показалось очень хорошо, — сказал он нерешительно, — то, что я вот тут прочел… Мне и в голову не приходило, что он такой… такой дурной. Должно быть, это по другим его книгам видно.
— Ив той книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба, — заявила она твердым и безапелляционным тоном.
— Мне они, верно, не попались, — сказал он. — То, что я читал, было уж очень здорово. Точно свет какой-то тебе в душу светит, вроде солнца или прожектора. Так мне показалось, мисс; да ведь я, должно быть, ни черта в стихах не смыслю.
Он вдруг умолк, мучительно сознавая свое косноязычие. В том, что он только что прочел, он почувствовал силу и теплое дыхание жизни, но ему не хватало слов, чтобы рассказать об этом. Он чувствовал себя, точно матрос на чужом судне, который темной ночью путается в незнакомой оснастке. Хорошо, решил он, значит, нужно во что бы то ни стало освоиться в этом чужом мире. Еще никогда не бывало, чтобы он не смог достигнуть того, чего хотел, а сейчас он страстно хотел научиться выражать свои чувства и мысли так, чтобы она его понимала. Она уже затмила для него весь горизонт.
— Вот, например, Лонгфелло… — начала она.
— Да, да. Я его читал, — живо перебил он, желая поскорей проявить все свои хоть и малые познания в области литературы. Пусть она убедится, что он не такой уж круглый невежда. — Я читал «Псалом жизни», «Эксцельсиор»… Да вот, кажется, и все.
Она улыбнулась, кивнула головой, и он почувствовал в ее улыбке снисходительность, жалостливую снисходительность. Он сглупил, вздумав похваляться своими убогими познаниями. Ведь этот Лонгфелло написал, наверно, несчетное множество книг.
— Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами, — сказал он. — Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело… Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело.
Последние слова прозвучали как угроза. Голос его звенел, глаза сверкали, складки в углах рта обозначились резче. Ей даже показалось, что челюсть у него выдвинулась вперед, отчего все лицо приняло какое-то неприятное, вызывающее выражение. И в то же время мощная волна мужественности, исходящая от него, захлестнула ее.
— Я верю, вы добьетесь того, чтобы… чтобы это стало вашего ума дело, — подтвердила она, смеясь. — Вы такой сильный!
Ее взгляд на миг остановился на его мускулистой, почти бычьей шее, бронзовой от солнца, пышущей здоровьем и силой. И хотя он сидел перед ней такой смущенный и робкий, ее снова потянуло к нему. У нее вдруг мелькнула сумасбродная мысль. Ей представилось, что если б она обняла эту шею, вся его сила и мощь передались бы ей. Эта мысль устыдила ее. Точно вдруг проявилась какая-то скрытая порочность ее натуры. Кроме того, физическая сила всегда казалась ей чем-то низменным и грубым. Ее идеалом мужской красоты была до сих пор элегантная стройность. Однако странная мысль не оставляла ее. Она не понимала, как могло у нее явиться желание обнять эту загорелую шею. А между тем все было просто. Она была хрупка от природы и потому телом и душой тянулась к силе, которой ей не хватало. Но она не сознавала этого, она знала лишь, что ни один мужчина еще не затрагивал ее так сильно, как этот парень, чья неправильная речь то и дело резала ее слух.
— Да, я вообще здоров, как бык, — сказал он, — ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему такому не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдастся время. Но только я никогда про них так не думаю, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что тут к чему. Может, вы мне поможете? Откуда вы сами столько знаете?
— Я училась, ходила в школу, — отвечала она.
— В школу и я ходил, когда был мальчишкой, — возразил он.
— Да, но я окончила среднюю школу, а потом ходила в университет, слушала лекции.
— Вы учились в университете? — переспросил он с неприкрытым изумлением. И сразу между ними легло пространство в миллионы миль.
— Я и сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.
Он не знал, что значит «филология», и, отметив свое невежество в этом пункте, спросил:
— А сколько времени нужно было бы мне учиться, чтобы попасть в университет?
Она решила ободрить его в этом стремлении к знанию.
— Зависит от того, сколько вы учились раньше. Вы совсем не были в средней школе? Ну, да, конечно, нет… Но начальную школу вы окончили?
— Мне оставалось до конца всего два года, — отвечал он, — да я ушел… Но учился я всегда с наградами.
И тотчас же, браня себя за это хвастовство, он так вцепился в ручки кресла, что у него заныли пальцы. В то же мгновение он увидел, что в комнату вошла какая-то дама. Девушка тотчас же встала и пошла ей навстречу. Они поцеловались и, обнявшись, вместе направились к нему. Наверно, ее мать, решил он. Это была высокая белокурая женщина, стройная, величественная и красивая, одетая нарядно, как и подобает хозяйке такого дома. Изящные линии ее платья радовали глаз. Весь ее облик напомнил Мартину Идену женщин, виденных им на сцене. Потом он вспомнил, что таких же важных дам, так же одетых, он видел в вестибюлях лондонских театров, где, бывало, пялил на них глаза, пока полисмен не выгонит его на улицу под дождь. Вслед за этим воображение перенесло его в Иокогаму, к Гранд-Отелю, где ему тоже случалось видеть издали подобных дам. И тотчас же замелькали перед ним сотни картин Иокогамы — города и гавани. Но он принудил себя закрыть калейдоскоп памяти и сосредоточить все внимание на настоящем. Он догадался, что должен встать, чтоб быть ей представленным, и с трудом поднялся с кресла, чувствуя, как безобразно пузырятся у него брюки на коленях. Руки его беспомощно повисли, а лицо при мысли о предстоящем испытании приняло мрачное выражение.
Глава вторая
Переход в столовую был сплошным кошмаром. Продвигаясь среди всех этих предметов, на которые можно было ежесекундно натолкнуться, он медлил, спотыкался, останавливался, и подчас ему казалось, что он никогда не доберется до цели. Но в конце концов он проделал опасный путь и теперь сидел рядом с нею. Обилие ножей и вилок испугало его. Они грозили неведомыми опасностями, и он, как зачарованный, смотрел на них, пока в глазах у него не зарябило от блеска, и на этом сверкающем фоне всплыла знакомая картина матросского кубрика, где он и его товарищи ели солонину, действуя складными ножами, а то и просто пальцами, или хлебали густой гороховый суп из общей миски помятыми железными ложками. В ноздрях у него стоял запах тухлого мяса, в ушах раздавалось громкое чавканье матросов, которому аккомпанировал скрип снастей. Он решил, что они ели, как свиньи. Ладно, тут уж он последит за собой. Постарается жевать без шума, все время будет помнить об этом.
Он окинул взглядом стол. Против него сидели Артур и второй брат, Норман. Ее братья, сказал он себе, и почувствовал к ним искреннее расположение. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Ему вспомнилось, как Руфь встретила свою мать, как они поцеловались, как, обнявшись, направились к нему. В том мире, из которого он вышел, не в обычае были подобные нежности между родителями и детьми. Для него это послужило своего рода откровением, доказательством той утонченности чувств, которой достигли высшие классы. Из всего, что ему пришлось увидеть в этом новом для него мире, это было самое прекрасное. Он был глубоко тронут, и сердце его исполнилось нежностью. Всю свою жизнь Мартин искал любви. Его натура жаждала любви. Это было органическою потребностью его существа.
Но жил он без любви, и душа его все больше и больше ожесточалась в одиночестве. Впрочем, сам он никогда не сознавал, что нуждается в любви. Не сознавал он этого и теперь. Он только видел перед собой проявления любви, и они волновали его, казались ему благородными, возвышенными, прекрасными.
Он был рад, что за столом нет мистера Морза. Достаточно с него знакомства с Руфью, с ее матерью и братом Норманом, — Артура он уже немного знал. Знакомиться еще и с отцом — это было бы слишком. Ему казалось, что еще никогда он так не трудился. Самая тяжелая работа была детской игрой по сравнению с тем, что приходилось делать сейчас. На лбу у него выступили мелкие капли пота, а рубашка взмокла от усилий, которых требовало решение стольких непривычных задач сразу. Надо было есть так, как он никогда прежде не ел, пользоваться предметами, с назначением которых он не был знаком, украдкой поглядывать на других, чтобы понять, как все это делается, и в то же время вбирать в себя непрерывный поток новых впечатлений, — он едва успевал классифицировать их в своем сознании; и при этом он еще испытывал неодолимое влечение к Руфи, наполнявшее его смутной и болезненной тревогой; томился страстным желанием подняться до той жизни, которой жила она, и напряженно и непрестанно размышлял о том, как достичь этого. Искоса посматривая на Нормана, сидевшего напротив, или еще на кого-нибудь из обедающих, чтобы узнать, какой нож или вилку надо брать в том или ином случае, он старался в то же время ясно запечатлеть в своем сознании черты каждого и определить его место по отношению к Руфи. Кроме того, он должен был говорить, слушать то, что говорили ему, или то, что говорилось вокруг, отвечать, когда это было нужно, заботясь о том, чтобы язык, привыкший к распущенным речам, не сболтнул чего-нибудь неподходящего. В довершение всего существовала еще постоянная угроза в виде слуги, который бесшумно появлялся за его стулом и, подобно некоему сфинксу, задавал загадки, требуя немедленного ответа. И все время Мартину не давала покоя мысль о чашках для ополаскивания пальцев. Против воли он то и дело вспоминал об этих чашках, думал о том, какие они из себя и когда их подадут. До сих пор он знал о них только понаслышке, и вот теперь, может быть, через минуту-две, он их увидит, — ведь он сидит за одним столом с высшими существами, которые привыкли ополаскивать пальцы после еды, и должен будет сам — да, сам — это проделать. Но больше всего его занимала неотступная мысль: как ему держаться с этими людьми? Как себя вести? Он мучительно и напряженно старался разрешить эту проблему. Иногда его соблазняло желание притвориться не тем, что он есть на самом деле, но тотчас являлась опасливая мысль, что ничего у него не выйдет, что он не привык к притворству и легко может оказаться в дураках.
Занятый этими размышлениями, Мартин первую половину обеда просидел очень тихо. Он не знал, что тем самым опровергает слова Артура, предупредившего родных, что приведет обедать дикаря, но чтобы они не пугались, так как дикарь этот очень интересный. Мартину никогда не пришло бы в голову, что брат Руфи может быть способен на такое предательство, в особенности после того, как он этого брата выручил из беды. И он сидел за столом, угнетенный сознанием собственного ничтожества и очарованный всем, что свершалось вокруг него.
Впервые он понял, что еда не просто удовлетворение физической потребности. Раньше он никогда не замечал того, что ел. Это была пища, и только. Здесь же, за этим столом, он находил удовлетворение своему чувству прекрасного, потому что еда здесь являлась эстетической функцией. И не только эстетической, но и интеллектуальной. Ум его усиленно работал. Вокруг него произносили слова, непонятные ему или же такие, которые он встречал только в книгах и которые никто из людей его мира не мог бы даже выговорить. И слушая, как легко перебрасываются подобными словами члены этой удивительной семьи, ее семьи, он дрожал от восторга. Все увлекательное, высокое и прекрасное, о чем он читал в книгах, оказалось правдой. Он находился в блаженном состоянии человека, мечты которого вдруг перестали быть мечтами и воплотились в жизнь.
Никогда еще не поднимался он на такие жизненные высоты и потому старался поменьше обращать на себя общее внимание, наблюдая и слушая, отвечая односложно: «да, мисс» и «нет, мисс», если к нему обращалась она; «да, мэм» и «нет, мэм», если к нему обращалась ее мать. Он едва удерживался, чтобы не говорить ее братьям: «слушаю, сэр», как полагалось по правилам морской дисциплины. Он чувствовал, что тем самым поставил бы себя в приниженное положение, а этого не должно быть, если он хочет завоевать ее. Да и гордость его восставала против этого. Ей-богу, думал он, я не хуже их; и если они знают многое, чего я не знаю, то и я их тоже мог бы кой-чему научить. Но в следующий миг, когда она или ее мать говорили ему: «мистер Иден», — он забывал свою строптивую гордость и сиял от восторга. Он был сейчас цивилизованным человеком — да, да, вот именно — и обедал в обществе людей, о которых раньше только читал в книжках. Он словно сам попал в книгу и странствовал по страницам переплетенного тома.
Но, сидя за столом и уподобляясь скорее кроткому ягненку, чем изображенному Артуром дикарю, Мартин не переставал ломать голову над тем, как ему быть. Он вовсе не был кротким ягненком, и его властная натура не мирилась со второстепенной ролью. Он говорил только тогда, когда это было необходимо, и речь его очень напоминала его переход из гостиной в столовую — он так же поминутно спотыкался и останавливался, роясь в своем многоязычном лексиконе и опасаясь, что нужные слова он не сумеет произнести как следует, а иные, знакомые ему, окажутся грубыми или непонятными. Все время его угнетала мысль, что эта скованность речи вредит ему, мешает выразить то, что он на самом деле чувствует и думает. Кроме того, словесная узда стесняла его независимый дух точно так же, как крахмальный воротничок давил его шею. Он знал, что долго не выдержит. Чувства и мысли, обуревавшие его, настоятельно стремились вылиться наружу и принять определенную форму; и в конце концов он забыл, где находится, и старое, знакомое слово, одно из тех, которыми он привык пользоваться, сорвалось с его языка.
Мартин отстранил блюдо, которое назойливо предлагал ему лакей, торчавший у него за спиной, и сказал кратко и выразительно:
— Пау.
Все за столом мгновенно застыли в ожидании, слуга с трудом сдержал злорадную ухмылку, а сам Мартин оцепенел, объятый ужасом. Но он быстро овладел собою.
— Это канакское слово, — сказал он, — означает: «хватит», «довольно». Так уж у меня вырвалось, нечаянно.
Он поймал любопытный взгляд Руфи, устремленный на его руки, и, придя в разговорчивое настроение, продолжал:
— Я недавно приплыл на одном из пароходов тихоокеанской почтовой линии. Он опаздывал, и нам пришлось здорово поработать на погрузке в портах залива Пюджет. Вот я и поободрал себе шкуру.
— А я вовсе не на то смотрела, — поспешно сказала она. — У вас очень маленькие руки для такого крупного мужчины.
Он покраснел, словно ему указали еще на один его недостаток.
— Да, — сказал он огорченно, — кулаки у меня маловаты, это верно. Но бицепсы здоровые и удар что надо. Как заеду кому-нибудь в зубы, так непременно руки в кровь расшибу.
Мартин был недоволен тем, что сказал. Он почувствовал отвращение к себе: перестал следить за собой и сразу наболтал лишнего о вещах не очень красивых.
— Как смело было с вашей стороны прийти на помощь Артуру, тем более что он вам совсем чужой, — сказала Руфь деликатно, заметив его смущение, но не поняв причины.
Он же вполне понял и оценил ее тактичность и, увлеченный порывом благодарности, опять дал волю своему языку.
— Ерунда, — сказал он, — каждый сделал бы то же на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их и не трогал. Они набросились на него, а я на них, — ну и отдул их порядком. Правда, руки у меня пострадали, ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу…
Он вдруг умолк, с раскрытым ртом, потрясенный собственным ничтожеством, чувствуя, что недостоин даже дышать одним воздухом с нею. И в то время как Артур, подхватив разговор, в двадцатый раз стал рассказывать о приключении на пароме, — как на него напали какие-то пьяные хулиганы и как Мартин Иден бросился на них и спас его, — герой этого приключения, насупив брови, молча думал о том, что выставил себя болваном, и еще больше прежнего терзался вопросом, как же нужно вести себя в обществе этих людей. Он явно делал все время не то, что надо. Он был не их породы и не умел говорить их языком. Это для него было несомненно. Подделываться под них? Но из этого ничего бы не вышло, да и вообще притворство было не в его натуре. В нем не было места для обмана и фальши. Будь что будет, но он должен оставаться самим собою. Сейчас он не может говорить так, как говорят они, но со временем сможет: это он решил твердо. А пока — не молчать же ему! — он будет говорить своим языком, разумеется, смягчая выражения, чтобы его речь не шокировала их и была им понятна. Больше того, он не хочет своим молчанием дать повод думать, будто ему ясно то, что на самом деле ему совершенно неясно. Поэтому, когда братья, говоря об университетских делах, несколько раз употребили слово «триг», Мартин Иден, следуя своему решению, спросил их:
— Что такое «триг»?
— Тригонометрия, — отвечал Норман. — Часть высшей «матики».
— А «матика» что такое? — был следующий вопрос, и на этот раз почему-то все засмеялись, глядя на Нормана.
— Математика — ну, арифметика, — отвечал тот.
Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в бесконечные, на первый взгляд, дали мудрости. Но то, что он увидел, приняло для него осязаемые формы. Необычайная сила его воображения воплощала абстрактные понятия в конкретные образы. В алхимическом приборе его мозга тригонометрия и математика и вся область знания, обозначением которой служили эти слова, превратилась в яркий ландшафт. Он видел, как на картине, зеленую листву, лесные прогалины, то ярко освещенные, то лишь пронизанные золотистыми лучами. Издалека все казалось окутанным легкой пурпурной дымкой, но за этой дымкой, он знал твердо, лежала страна неведомого, страна романтических чудес. Все это пьянило его, как вино. Тут была почва для подвига, простор для мыслей и дел, мир, который можно было завоевать, — и тотчас же из глубины сознания всплыла мысль: завоевать ради нее, бледной, как лилия, девушки, сидящей рядом с ним.
Сверкающее видение было разрушено Артуром, который прилагал все старания, чтобы в Мартине Идене проявился наконец дикарь. Мартин помнил свое решение. Впервые за весь вечер он стал самим собою и сначала с усилием, а потом свободно, увлекшись радостью творчества, стал рассказывать, стараясь представить жизнь такой, какою он ее знал. Он был матросом на контрабандистской шхуне «Алкион», когда ее захватил таможенный катер. Мартин умел видеть и вдобавок умел рассказать о том, что видел. Он описывал бурное море, корабли и людей команды и силой своего воображения заставлял слушателей смотреть его глазами. С чутьем настоящего художника он выбирал из множества подробностей самое яркое и разительное, создавал картины, полные света, красок и движения, увлекая слушателей своим самобытным красноречием, вдохновением и силой. Иногда их шокировала реальность описаний или отдельные обороты речи, но грубое в его рассказе неизменно чередовалось с прекрасным, а трагизм смягчался юмором, причудливыми и веселыми образцами остроумия моряков.
И пока Мартин Иден говорил, Руфь смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она впервые почувствовала, что все эти годы жила, не зная тепла. Ей хотелось прильнуть к этому могучему, пылкому человеку, в котором клокотал вулкан силы и здоровья. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя. Но в то же время что-то и отталкивало ее от Мартина. Отталкивали эти израненные мозолистые руки, в кожу которых словно въелась житейская грязь, эти вздувшиеся мускулы, эта шея, натертая воротничком. Его грубость пугала ее. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух, каждая грубая подробность его жизни оскорбляла ее чувства. И все-таки ее влекла к нему какая-то, как ей казалось, сатанинская сила. Все, что так твердо устоялось в ее сознании, вдруг стало колебаться. Его жизнь, полная романтики и приключений, опрокидывала все привычные ей условные представления. Она слушала его смех, его веселые рассказы об опасностях, и жизнь уже не казалась ей чем-то серьезным и трудным, а скорее игрушкой, которой приятно поиграть, повертеть во все стороны, но которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот и ты играй, — говорил ей внутренний голос, — прижмись к нему, если тебе так хочется, обними его за шею». Ее ужаснула легкомысленность этих побуждений, но напрасно заставляла она себя думать о своей чистоте, своей культуре — обо всем том, что отличало ее от него. Посмотрев кругом, Руфь увидела, что и остальные слушают его, как завороженные, но в глазах своей матери она прочла тот же ужас, — восторженный, но все-таки ужас, — и это придало ей силы. Да, этот человек, пришедший из мрака, — порождение зла. Ее мать также видит это, — значит, так и есть. Руфь была готова положиться на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало жечь ее, и страх, который он ей внушал, потерял свою остроту.
После обеда она играла ему на рояле, с тайным вызовом, с неосознанным желанием еще увеличить пропасть, их разделявшую. Ее музыка ошеломила Мартина, подействовала на него, как жестокий удар по голове, но, ошеломив и сокрушив, в то же время всколыхнула его душу. Он смотрел на Руфь с благоговением. Как и она, он почувствовал, что пропасть между ними еще увеличилась, но тем сильнее хотелось ему перешагнуть через нее. Он был слишком полон жизни и энергии, чтобы целый вечер покорно созерцать эту пропасть, в особенности когда еще при этом звучала музыка. Музыка на него всегда сильно действовала. Она, точно крепкое вино, горячила его чувства, опьяняла воображение и уносила в заоблачную высь. У него словно вырастали крылья. Неприглядная действительность переставала существовать, уступая место прекрасному и необычайному. Он, конечно, не понимал того, что играла Руфь. Это было совсем не похоже на звуки разбитого пианино, которые он слышал на матросских танцульках, или на оглушительную медь духового оркестра. Но в книгах ему случалось читать о такой музыке, и он принимал на веру игру Руфи, не находя в ней простого и четкого ритма, к которому привыкло его ухо. Иногда ему казалось, что он уловил ритмический рисунок, и он уже готов был подчинить ему строй образов, встававших перед ним, но тотчас же снова терялся в хаосе звуков, и его воображение беспомощно низвергалось на землю, как лишенная опоры тяжесть.
Один раз Мартину даже пришло в голову, — уж не смеется ли она над ним. В ее игре ему чудилось нечто враждебное, и он старался угадать, что хотели сказать ее руки, ударявшие по клавишам. Но он поспешно отогнал эту недостойную мысль и постарался свободно отдаться музыке. Прежнее очарование постепенно опять овладело им. Его ноги словно отделились от земли, плоть стала духом, лучезарное сияние разлилось перед глазами. Все, что было вокруг, исчезло, он парил над каким-то неведомым миром, мечту о котором лелеял давно. Знакомое и незнакомое смешалось в ярком и неотступном видении. Он входил в гавани неведомых жарких стран, блуждал по людным площадям в селениях никому не известных диких племен. Он снова чувствовал пряный аромат южных островов, который привык вдыхать в знойные ночи на море, снова долгие тропические дни боролся с пассатным ветром среди увенчанных пальмами коралловых рифов, то исчезавших, то вновь появлявшихся на бирюзовой поверхности океана. Картины возникали и исчезали быстро, как мысли. То он скакал на коне по выжженной солнцем пустыне Аризоны, то, в следующее мгновение, сквозь радужную дымку раскаленного воздуха заглядывал в белую гробницу калифорнийской Долины Смерти или ударял веслами по волнам Ледовитого океана, где сверкали на солнце ледяные громады. То лежал на коралловом острове под кокосовой пальмой, прислушиваясь к мерному шуму прибоя. Остов старого, потерпевшего крушение судна пылал синеватым пламенем, и при этом таинственном свете танцоры плясали «гулу» под страстные завывания певцов, под звон гавайской гитары и грохот тамтама. Стояла полная истомы тропическая ночь. Вдали, на фоне звездного неба, вырисовывался силуэт вулкана. Вверху над головой медленно плыл бледный месяц, и низко над горизонтом сияли звезды Южного Креста. Он словно превратился в эолову арфу. То, что он пережил и изведал на своем веку, было струнами, а музыка — ветром, который колебал эти струны, и они вибрировали, порождая воспоминания и мечты. Он не просто чувствовал. Каждое ощущение принимало у него форму и окраску и претворялось в образы каким-то чудесным и таинственным путем. Прошедшее, настоящее и будущее сливалось в одно; он уносился в огромный, жаркий, прекрасный мир, совершал великие подвиги, добиваясь Ее. И вот он с ней, он владеет ею, заключает ее в свои объятия, увлекает в царство своих грез.
Руфь, взглянув на Мартина через плечо, прочла на его лице то, что он чувствовал. Это было совсем другое лицо, с большими сверкающими глазами, взгляд которых будто проникал за пелену звуков и там ловил биение живой жизни и исполинские призраки фантазии. Она была потрясена. Грубый, неуклюжий парень исчез. Плохо сшитый костюм, израненные руки и обожженное солнцем лицо по-прежнему были перед ней, но теперь все это казалось ей лишь тюремной решеткой, сквозь которую она видела великую душу, беспомощную и немую, ибо не было слов, которые могли выразить волновавшие ее чувства. Но все это Руфь видела лишь один миг; неуклюжий парень появился снова, и она рассмеялась своей фантазии. Однако впечатление от этого мига сохранилось, и когда Мартин неловко подошел к ней, чтобы проститься, она дала ему томик Суинберна и еще томик Браунинга [2], — как раз сейчас она изучала Браунинга в курсе английской литературы. Мартин вдруг показался ей совсем мальчиком, когда стоял перед нею и бормотал слова благодарности, и она невольно почувствовала к нему почти материнскую нежность и жалость. Она забыла и грубого парня, и пленную душу, и мужчину, который так по-мужски смотрел на нее, волнуя и в то же время пугая своим взглядом. Она видела перед собой лишь мальчика, и этот мальчик, пожимая ее руку своей рукой, такой жесткой и огрубевшей, что она царапала кожу, говорил ей, запинаясь:
— Самый замечательный день в моей жизни. Видите ли, я не очень привык ко всему этому, — он растерянно оглянулся, — к таким людям и к таким домам. Это все совсем ново для меня… и это мне нравится.
— Надеюсь, вы к нам еще придете, — сказала она, когда он прощался с ее братьями.
Он напялил кепку, неловко споткнулся о порог и вышел.
— Ну, как он тебе понравился? — спросил Артур.
— Очень занятный. Для нас это — словно струя свежего воздуха, — ответила она. — Сколько ему лет?
— Двадцать, скоро двадцать один. Я спрашивал его сегодня. Никак не предполагал, что он так молод.
«Значит, я на целых три года старше его», — подумала Руфь, целуя братьев и желая им спокойной ночи.
Глава третья
Сойдя с лестницы, Мартин Иден запустил руку в карман и, вытащив лоскуток коричневой рисовой бумаги и щепотку мексиканского табаку, скрутил папироску. Он с наслаждением затянулся и медленно выпустил дым.
— Черт побери! — воскликнул он, и в этом возгласе было и удивление и благоговейный восторг. — Черт побери! — повторил он и, помолчав, пробормотал еще раз: — Черт побери! — Потом он отстегнул воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождь, но Мартин шел с непокрытой головой и в расстегнутом пиджаке, ничего не замечая вокруг. Лишь смутно до его сознания доходило, что идет дождь. Он был в каком-то экстазе, грезил наяву, мысленно переживая снова все, что только что с ним произошло.
Наконец-то он встретил ту самую женщину, о которой он, правда, думал редко, — задумываться о женщинах ему было несвойственно, — но которую всегда смутно надеялся встретить на своем пути. Он сидел с нею рядом за столом, пожимал ее руку, смотрел ей в глаза и видел в них красоту ее души, равную красоте этих глаз, в которых она светилась, этого тела, в котором она обитала. Но о теле ее Мартин не думал, — и это было ново для него, потому что до сих пор он о женщинах думал только так. Ее тело было чем-то особым; казалось даже, что оно не подвержено обыкновенным телесным недугам и слабостям. Оно было не только обиталищем ее души, — оно было эманацией духа, чистейшим и прекраснейшим воплощением ее божественной сущности. Это впечатление божественности поразило Мартина и, рассеяв мечты, обратило его к более трезвым мыслям. До сих пор ни одно слово, ни одно указание, ни один намек на божественное не задевали его сознания. Мартин никогда не верил в божественное. Он всегда был человеком без религии и добродушно посмеивался над священниками, толкующими о бессмертии души. Никакой жизни «там», говорил он себе, нет и быть не может; вся жизнь здесь, а дальше — вечный мрак. Но то, что он увидел в ее глазах, была именно душа; бессмертная душа, которая не может умереть. Ни один мужчина, ни одна женщина не внушали ему прежде мыслей о бессмертии. А она вызвала! Она безмолвно подсказала ему эту мысль сразу, как только взглянула на него. Ее лицо и теперь сияло перед ним, бледное и серьезное, ласковое и выразительное, улыбающееся так нежно и сострадательно, как могут улыбаться только ангелы, и озаренное светом такой чистоты, о какой он и не подозревал никогда. Чистота ее ошеломила его и потрясла. Он знал, что существуют добро и зло, но мысль о чистоте, как об одном из атрибутов живой жизни, никогда не приходила ему в голову. А теперь — в ней — он видел эту чистоту, высшую степень доброты и непорочности, в сочетании которых и есть вечная жизнь.
И его вдруг охватило честолюбивое желание приобщиться к этой вечной жизни. Он отлично знал, что не достоин и воду таскать для такой девушки, как Руфь; уже то, что он весь вечер сидел с нею и беседовал, было неожиданной и фантастической удачей. Конечно, это была только случайность. Его заслуги тут не было. Он не был достоин такого счастья. Религиозное настроение овладело им. Он стал кротким и смиренным, готовым к самоотречению и самоунижению. В таком состоянии идет грешник к исповеди. Он был обличен во грехе. Но как всякий грешник, каясь и скорбя о своих прегрешениях, прозревает будущее блаженство, так и он видел впереди то счастье, которое даст ему обладание ею. Но мысль об этом обладании была окутана каким-то туманом и совсем не похожа на те мысли, которые возникали обычно. Честолюбивые мечты окрыляли его, ему представлялось, что он парит вместе с нею на высотах духа, наслаждается всем прекрасным и возвышенным, делит с нею ее мысли. Это было какое-то духовное обладание, освобожденное от всего грубого, вольное содружество душ, которое он никак не мог осмыслить до конца. Да он и не думал об этом. Он вообще ни о чем не думал. Ощущения в нем взяли верх над рассудком, и он отдался эмоциям, которых никогда прежде не испытывал, плыл по течению в океане чувств, возвышенных и утонченных, уносясь за пределы действительной жизни. Он шел шатаясь, как пьяный, и бормотал вполголоса:
— Черт побери! О, черт побери!
Полисмен на углу посмотрел на него подозрительно и по походке признал в нем матроса.
— Где это ты нагрузился? — спросил полисмен. Мартин Иден возвратился на землю. Он был от природы наделен внутренней гибкостью, умением быстро приспособляться к обстоятельствам. Как только полисмен окликнул его, он тотчас же опомнился.
— Здорово! — воскликнул он со смехом. — А я и не заметил, что разговариваю вслух.
— Еще немножко, и ты начнешь петь, — определил его состояние полисмен.
— А вот не начну. Дайте-ка мне спичку, я сейчас сяду в трамвай и поеду домой.
Он закурил папироску, пожелал полисмену доброй ночи и зашагал дальше.
— Как вам это нравится, — пробормотал он себе под нос, — этот олух принял меня за пьяного! — Он усмехнулся про себя и подумал: «А ведь я вправду пьян, вот не думал, что могу опьянеть от женского лица».
На Телеграф-авеню он вскочил в трамвай, шедший в Беркли. Вагон был набит молодыми людьми, распевавшими студенческие песни. Он с любопытством наблюдал их. То были студенты университета. Они посещали те же лекции, которые посещала она, принадлежали к тому же обществу, могли водить с ней знакомство, могли видеть ее каждый день, если бы захотели. Он удивлялся, что они этого не хотят, что они прошатались где-то весь вечер, вместо того чтобы провести этот вечер с нею, беседовать с нею, любоваться ею восхищенно и почтительно. Он заметил одного юношу с узенькими глазками и отвислой губой. Дрянной, порочный мальчишка, решил он. На корабле это был бы трус, слюнтяй и доносчик. Мысль, что он, Мартин, куда лучше этого юнца, чрезвычайно обрадовала его. Она как будто приблизила его к ней. Он стал сравнивать себя с этими студентами. Он подумал о своем крепком, мускулистом теле и решил, что в физическом отношении всем им далеко до него. Но их головы были наполнены знаниями, которые позволяли им говорить одним языком с нею, и вот эта-то мысль угнетала его. Но для чего же мне дан мозг, с горячностью подумал он. В самом деле, разве не мог он достичь того, чего достигли они? Они изучали жизнь по книгам, в то время как он был занят тем, что жил. Его голова тоже была наполнена знаниями, только это были знания иного рода. Кто из них сумел бы натянуть парус, править рулем, отстоять вахту? Его жизнь пронеслась перед ним, полная опасностей, отваги, лишений и трудов. Он вспомнил все, что ему пришлось пережить, когда он проходил школу жизни. Что ж, а все-таки он не в проигрыше. Когда-нибудь и им придется столкнуться с живою жизнью и испытать все, что испытал он. И прекрасно. Пока они будут узнавать то, что ему уже давно известно, он станет по книгам изучать другую сторону жизни.
Трамвай шел мимо пустырей, которых много между Оклендом и Беркли, и Мартин Иден ждал, когда он поравняется с хорошо знакомым двухэтажным домом, украшенным горделивой вывеской: «Розничная торговля Хиггинботама». Возле этого дома он соскочил с трамвая и с минуту смотрел на вывеску. Она говорила ему больше, чем можно было на ней прочесть. Мелочностью, себялюбием и ничтожеством веяло, казалось, от самих букв. Бернард Хиггинботам был мужем сестры Мартина, и Мартин достаточно хорошо успел изучить его. Он отпер дверь своим ключом и поднялся по лестнице во второй этаж. Тут жил его зять. Лавка находилась внизу, но запах гнилых овощей проникал и сюда. Пробираясь по темной прихожей, он споткнулся об игрушечную тележку, забытую кем-то из его многочисленных племянников и племянниц, и с грохотом налетел на дверь. «Скряга, — подумал он, — жалеет уплатить два лишних цента за газ, чтобы жильцы не разбивали себе носов».
Нащупав ручку, он открыл дверь и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Бернард Хиггинботам. Она чинила его брюки, а он читал газету, расположившись на двух стульях и вытянув костлявые ноги в стоптанных ковровых туфлях. Когда Мартин вошел в комнату, он взглянул на него поверх газеты темными, пронзительными, хитрыми глазками. В Мартине Идене Бернард всегда вызывал инстинктивное отвращение. Что могло привлечь сестру в этом человеке? Он ему казался каким-то гадом и вызывал непреодолимое желание раздавить его каблуком. «Когда-нибудь я набью ему морду», — утешал он себя, и только эта мысль помогала ему терпеть присутствие зятя. Сейчас злые и хищные глазки смотрели на Мартина неодобрительно.
— Ну, — спросил Мартин, — в чем дело?
— Эту дверь только на прошлой неделе окрасили, — произнес мистер Хиггинботам не то жалобно, не то злобно, — а ты знаешь, какую плату теперь дерут союзы. Можно было бы поосторожнее!
Мартин хотел было ответить, но раздумал, решив, что это все равно бесполезно. Чтобы отделаться от гадливого чувства, он посмотрел на хромолитографию, висевшую на стене. Он удивился. Всегда эта картина нравилась ему, но теперь он словно впервые ее заметил. Это была дешевка, третий сорт, как и все в этой лачуге. Ему вдруг представился тот дом, который он только что покинул, и он увидел сначала картины на стенах, а потом Ее, с ласковой улыбкой пожимающую ему руку на прощание. Он забыл, где находится, забыл о существовании Бернарда Хиггинботама и опомнился только, когда названный джентльмен спросил его:
— Привидение ты увидел, что ли?
Мартин пришел в себя и, взглянув в злые, хитрые глазки зятя, вдруг вспомнил, какие они бывают, когда обладатель их отпускает товар в лавке, — масленые, слащавые, с заискивающим, рабски-угодливым выражением.
— Да, — отвечал Мартин, — я увидел привидение. Покойной ночи! Покойной ночи, Гертруда!
Он направился к двери и по дороге опять споткнулся и чуть не упал, зацепившись за складку пыльного ковра.
— Не хлопай дверью, — предостерегающе окликнул мистер Хиггинботам.
Мартину кровь бросилась в голову, но он сдержался и осторожно затворил за собою дверь.
Мистер Хиггинботам торжествующе поглядел на жену.
— Пьян, — объявил он хриплым шепотом. — Я тебе говорил, что он налижется!
Жена покорно кивнула головой.
— У него, правда, глаза блестят, — признала она, — и воротничок куда-то девался, а пошел он из дому в воротничке. Но, может, он не так уж много выпил.
— Он еле на ногах держится, — возразил ее супруг, — я наблюдал за ним. Шагу не мог ступить, чтобы не споткнуться. Ты слышала, как он чуть не свалился в передней?
— Верно, наскочил на тележку Алисы, — отвечала она, — не заметил ее в темноте.
Мистер Хиггинботам повысил голос, давая волю нарастающему раздражению. Весь день он скромно стушевывался перед покупателями в ожидании вечера, когда в кругу семьи сможет наконец позволить себе стать самим собою.
— Я тебе говорю, что твой прекрасный братец пьян! Он говорил резким, холодным, решительным тоном, чеканя слова, точно штампуя их на станке. Жена грустно умолкла. Это была толстая, рыхлая женщина, всегда небрежно одетая, всегда изнемогающая под бременем своего тела, своей работы и вздорного характера своего супруга.
— Это у него наследственное, от папаши, — продолжал тот прокурорским тоном. — Тоже кончит где-нибудь под забором. Так и знай!
Она опять кивнула и со вздохом принялась шить. Оба были убеждены, что Мартин пришел домой пьяный. Их души были глухи ко всему прекрасному, иначе они бы поняли, что эти сверкающие глаза и сияющее лицо были отражением первой юношеской любви.
— Хорош пример для детей! — закричал вдруг мистер Хиггинботам, раздраженный молчанием жены. Иногда ему хотелось, чтобы она почаще возражала ему. — Если это случится еще раз, пусть убирается вон. Поняла? Я не желаю, чтобы невинные дети развращались, глядя на его пьяную харю! — Мистер Хиггинботам любил употреблять слова, только что вычитанные в газете. — Да, развращались. Иначе не скажешь.
Но жена по-прежнему только вздыхала, качала головой и продолжала шить. Мистер Хиггинботам снова взял газету.
— А он заплатил за прошлую неделю? — спросил он вдруг, выглядывая из-за газетного листа.
Она утвердительно наклонила голову.
— У него еще есть деньги.
— А скоро он опять отправится в плавание?
— Должно быть, как все истратит, — отвечала она. — Он уж вчера ездил в Сан-Франциско — посмотреть, нет ли подходящего судна. Но пока у него деньги есть, он, конечно, не наймется на первое попавшееся. Он очень разборчив.
— Еще чего! Палубной швабре не пристало задаваться! — Мистер Хиггинботам усмехнулся. — Разборчив! Подумаешь!
— Он тут рассказывал про одну шхуну, которая отправляется в далекие края какой-то клад искать. Вот он на ней хочет идти, если только хватит денег ее дождаться.
— Если бы он хотел устроиться здесь, я бы его взял к себе возчиком, — сказал муж, без тени доброжелательства впрочем. — Том взял расчет.
Жена посмотрела на него тревожно и вопросительно.
— Сегодня взял расчет. Он переходит к Каррузерсам. Они платят больше. Я столько не могу платить.
— Вот видишь! — вскричала она. — Я тебе говорила, ты ему платил слишком мало по его работе.
— Вот что, старуха, — огрызнулся мистер Хиггинботам. — Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не совала нос не в свое дело. Больше повторять не буду.
— Мне-то все равно, — проворчала она. — А только Том был хороший малый.
Супруг метнул на нее яростный взгляд. С ее стороны это было большой дерзостью.
— Если бы твой братец не был лодырем, он мог бы ездить с подводой.
— Он платит исправно за стол и квартиру, — возразила жена. — Он мой брат, и покуда он тебе ничего не должен, нечего придираться к нему. Я ведь еще тоже человек, даром что прожила с тобою целых семь лет.
— А ты заявила ему, что он должен платить за газ, если будет читать по ночам? — спросил он.
Миссис Хиггинботам ничего не ответила. Ее негодование уже остыло, ее дух снова забился в недра утомленного тела. Супруг торжествовал. Он одержал верх. И его бусинки-глазки сверкнули злобной радостью. Ему доставляло большое удовольствие смирять ее; и, по правде говоря, теперь это было совсем нетрудно, не то что в первые годы их супружеской жизни, когда ежегодные роды и его постоянные придирки еще не подорвали ее сил.
— Так вот, заяви завтра, — сказал он. — И еще, чтоб не забыть: пошли с утра за Мэриен, пусть присмотрит за детьми. А то теперь, раз Том ушел, мне самому придется ездить за товаром, а ты будешь торговать в лавке вместо меня.
— Завтра у меня стирка, — возразила она нерешительно.
— Встань пораньше, только и всего… Я раньше десяти не выберусь.
Он сердито перевернул газетный лист и снова погрузился в чтение.
Глава четвертая
Мартин Иден, все еще содрогаясь после столкновения с зятем, ощупью пробрался через темную переднюю и вошел в свою комнату — тесную каморку, где помещалась только кровать, умывальник и один стул. Мистер Хиггинботам был слишком скуп, чтобы держать служанку, раз жена его могла работать. К тому же лишняя комната позволяла иметь двух жильцов вместо одного. Мартин положил Суинберна и Браунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины жалобно застонали под тяжестью его тела, но он не обратил на это внимания. Нагнувшись, чтобы снять башмаки, он вдруг уставился на противоположную стену, где на белой штукатурке виднелись темные полосы от просочившегося сквозь крышу дождя, и замер. На этом грязном фоне стали возникать и таять разные видения. Он забыл про башмаки и долго смотрел на стену, потом у него зашевелились губы, и он прошептал: «Руфь!»
«Руфь!» Мартин никогда и не думал, что простой звук может быть так прекрасен. Этот звук ласкал его слух, и он повторял с упоением: «Руфь, Руфь». Ее имя было талисманом, магическим заклинанием; и каждый раз, когда он произносил его, ее лицо являлось перед ним, озаряя стену золотым сиянием. И не только стену — оно уходило в бесконечность, и где-то там, в золотом просторе, его душа искала ее душу. Все лучшее, что было заложено в нем, хлынуло наружу могучим потоком. Самая мысль о ней облагораживала и возвышала его, делала лучше и вызывала желание стать еще лучше. Это было для него внове. Мартин никогда еще не встречал женщин, с которыми он становился бы лучше. Напротив, все они обычно превращали его в грубое животное. Он не знал, что многие из них все же отдавали ему свое самое лучшее, как ни убого это лучшее было. Он никогда не задумывался о себе и не подозревал, что в нем есть нечто, вызывающее в сердцах любовь, и что именно потому многие женщины так упорно добивались его внимания. Он их никогда не искал, они сами его искали; и ему не приходило в голову, что некоторые из них становились лучше благодаря ему. До сих пор он относился к женщинам с беспечной небрежностью и теперь был убежден, что это они всегда хватали его и старались удержать своими нечистыми руками. Он был несправедлив к ним, несправедлив и к самому себе. Но этого он не мог понять, потому что не привык еще задумываться о себе, и только сгорал от стыда, вспоминая то, что теперь казалось ему позорным.
Он вдруг встал и заглянул в засиженное мухами зеркало над умывальником. Он тщательно протер его полотенцем и смотрел на себя долго и внимательно. В сущности, он рассматривал себя впервые в жизни. У него был зоркий и наблюдательный взгляд, но до сих пор он слишком был поглощен пестрым разнообразием внешнего мира, и у него не оставалось времени взглянуть на себя. Теперь он видел перед собой лицо молодого, двадцатилетнего парня, но никак не мог решить, красиво оно или нет, так как у него не было критерия для подобной оценки. Он увидел копну каштановых волос, вьющихся над высоким крутым лбом. Его кудри нравились женщинам, они любили перебирать их и гладить. Но он не стал приглядываться к волосам, считая, что для Нее они не могут иметь никакого значения, и сосредоточенно и вдумчиво смотрел на свой лоб, точно пытаясь просверлить его взглядом, узнать, что за ним скрывается. Он настойчиво спрашивал себя: какой у него мозг? Что может этот мозг дать ему? Чего он добьется с его помощью? Добьется ли он Ее?
Он спрашивал себя, видна ли душа в этих серых глазах, которые часто становились совсем голубыми, точно вбирали в себя синеву морской глади, озаренной солнцем. Он гадал, могут ли его глаза понравиться ей. Он попытался взглянуть на них со стороны, ее взглядом, но из этого ничего не вышло. Он обычно легко проникал в мысли других людей, но то были люди, жизнь которых он хорошо знал. А ее жизни он не знал совсем. Она была тайна и чудо, — где ж ему было угадать хоть одну ее мысль? Ну что ж, решил он, наконец, это честные глаза, ни подлости, ни коварства в них нет. Его удивил темный цвет его лица; никогда он не думал, что так черен. Он засучил рукава рубашки и сравнил белую кожу повыше локтя с кожей лица. Нет, он все-таки белый. Но руки тоже были покрыты загаром. Тогда он согнул руку и постарался разглядеть те части рук, которых вовсе не касалось солнце. Они были очень белы. Он рассмеялся при мысли, что и это бронзовое лицо в зеркале было некогда таким же белым; ему не приходило в голову, что не так уж много на свете женщин, которые могут похвастать такой же белой кожей, как у него, — там, где она не обожжена солнцем.
Рот у него был бы совсем как у херувима, если бы он не имел обыкновения, когда сердился, крепко сжимать свои чувственные губы, что придавало ему какую-то суровость, строгость почти аскетическую. Это были губы воина и любовника. Они знали всю полноту наслаждения жизнью, но умели при случае и принять властный изгиб. Подбородок и чуть тяжеловатая нижняя челюсть подчеркивали это властное выражение. Сила уравновешивала в нем чувственность, и потому он любил здоровую красоту и откликался на здоровые чувства. А между губами блестели зубы, которые ни разу еще не нуждались в услугах дантиста. Они были белые, крепкие и ровные, — так он решил, рассмотрев их. Но тотчас же он почувствовал смущение. Где-то в его памяти шевельнулось смутное представление о том, что некоторые люди ежедневно чистят зубы. То были люди высшего круга, ее круга. Она, вероятно, тоже чистит зубы каждый день. Что она подумала бы о нем, если бы узнала, что он ни разу в жизни не чистил зубов. Он решил завтра же купить зубную щетку и ввести это в обычай. Одними подвигами ее не завоюешь. Он должен произвести изменения во всем, что касалось его внешности, начиная с чистки зубов и кончая ношением воротничка, хотя, надевая крахмальный воротничок, он всегда чувствовал себя так, будто его лишили свободы.
Мартин поднял руку и поскреб пальцем мозолистую ладонь, где грязь, казалось, настолько въелась в кожу, что ее не соскоблишь и щеткой. Какая ладонь у нее! Даже вспомнить и то было приятно. Нежная, точно лепесток розы; прохладная и легкая, как снежинка. Он никогда и не подозревал, что женская рука может быть такой мягкой и нежной. Он подумал о том, как чудесна должна быть ласка такой руки, и, поймав себя на этой мысли, покраснел и смутился. Эта мысль была слишком дерзкой и оскорбляла ее духовную красоту. Ведь она — бледный дух, бесплотный призрак, парящий где-то далеко от всего земного. И все же он не мог отогнать воспоминания о ее мягкой ладони. Он привык к жестким, огрубевшим в труде рукам фабричных работниц и женщин, измученных домашней работой. Да, конечно, он понимал, почему так грубы их руки. Ее рука… она была нежной и мягкой потому, что ей был незнаком труд. Пропасть снова разверзлась между ними, как только он подумал о том, что есть люди, которым не нужно работать для того, чтобы жить. Он вдруг увидел перед собою образ аристократии, людей, не знающих труда. Этот образ возник на грязно-белой стене в виде бронзовой статуи, надменной и величавой. Мартин работал всю жизнь, с тех пор как он себя помнил; и вся его семья трудом добывала себе пропитание. Взять хоть Гертруду. Ее натруженные руки от стирки распухали и делались красными, как вареное мясо. Или другая его сестра, Мэриен. Она работала на консервном заводе, и ее маленькие, хорошенькие ручки были сплошь в ссадинах от ножей, которыми резали помидоры. Кроме того, прошлой зимой, когда она работала на картонажной фабрике, ей машиной отхватило суставы двух пальцев на руке. Он вспомнил шершавые руки своей матери, сложенные крест-накрест в гробу. Отец его тоже работал до конца дней, и на его ладонях наросли мозоли чуть не в полдюйма толщиною. А у Руфи руки были нежные, и не только у нее, но и у ее матери и братьев. Последнее особенно поразило его; это был красноречивый знак касты, доказательство огромности расстояния, их разделявшего.
Мартин с горькой усмешкой опять сел на кровать и снял наконец башмаки. С ума он сошел — опьянел от женского лица, от нежных женских рук. И вдруг перед его глазами всплыло новое видение. Он стоит перед огромным мрачным домом в лондонском Ист-Энде, ночью, а рядом с ним Марджи, девчонка-работница лет пятнадцати. Он провожал ее домой после гулянья. Она жила в этом грязном доме, похожем на большой хлев. Прощаясь, Мартин протянул ей руку. Она подставила губы для поцелуя, но ему не хотелось целовать ее. Что-то в ней его отпугивало. Тогда она с лихорадочным трепетом сжала ему руку. Мартин почувствовал мозоли на ее маленькой ладони, и его вдруг захлестнула волна жалости. Он видел ее молящие, голодные глаза, ее тщедушное, полудетское тело, в котором уже проснулся несмелый, но жадный инстинкт женщины. Тогда, в порыве сострадания, он обнял ее и поцеловал в губы. Он услыхал ее радостный возглас и почувствовал, как она, словно кошка, прижалась к нему. Бедный маленький заморыш! Мартин смотрел на эту картину далекого прошлого. У него побежали мурашки по телу, как тогда, в ту минуту, когда она прильнула к нему, и сердце его сжалось от сострадания. Это была серая картина: небо в тот день было серо, и серый дождь моросил над грязными плитами мостовой. Но вдруг яркий свет озарил стену, и, затмевая все образы и видения, перед ним снова засияло Ее бледное лицо в короне золотых волос, далекое и недостижимое, как звезда.
Он взял со стула томики Суинберна и Браунинга и поцеловал их. А все-таки она звала меня приходить, подумал он. Потом снова взглянул на себя в зеркало и сказал громко и торжественно:
— Мартин Иден, первое, что ты сделаешь завтра утром, — это пойдешь в бесплатную читальню и почитаешь что-нибудь о правилах хорошего тона. Понял?
После этого он погасил свет, и пружины заскрипели, приняв груз его тела.
— А главное, Мартин, ты должен поменьше чертыхаться. Слышишь, старина! Заруби это себе на носу!
С этими словами он заснул, и сны его по смелости и необычайности могли сравниться с грезами курильщика опиума.
Глава пятая
Проснувшись на другое утро, он почувствовал запах мыла и грязного белья и забыл свои розовые сны. Уши сразу наполнил нестройный шум тяжелой, безрадостной жизни. Выйдя из своей комнаты, он услыхал сердитый окрик и звук затрещины, которой его сестра наградила кого-то из детей, чтобы дать выход своему раздражению. Визг ребенка резанул его, словно ножом. Все здесь казалось ему отвратительным, даже самый воздух, которым он дышал. Как не похоже на покой и гармонию, царившие в доме, где жила Руфь! Там все было возвышенно и духовно; здесь — материально, грубо материально.
— Иди сюда, Альфред! — крикнул он плачущему ребенку и опустил руку в карман, где у него лежали деньги. К деньгам он относился небрежно, в этом сказывалась его широкая натура. Он сунул мальчугану двадцатипятицентовую монету и взял его на руки, чтобы успокоить.
— Ну, а теперь беги купи себе леденцов да поделись с братьями и сестрами. Выбери такие, чтоб подольше не таяли во рту.
Его сестра на миг распрямилась над лоханью и посмотрела на него.
— Довольно было бы и десяти центов, — сказала она, — ты не знаешь цены деньгам. Мальчишка теперь объестся.
— Ничего, — ответил он весело, — мои денежки сами знают себе цену. Доброе утро, сестренка, если бы ты не была так занята, ей-богу, поцеловал бы тебя.
Ему хотелось быть поласковее с сестрой; сердце у нее было доброе, и она по-своему — он это знал — любила его. Правда, с годами она все больше и больше теряла свой прежний облик, становилась сварливой и раздражительной. Он решил, что эта перемена объясняется тяжелым трудом, большой семьей и нудным характером супруга. И вдруг ему пришло в голову, что за это время она словно вся пропиталась запахом гнилых овощей, грязного белья и захватанных медяков, которые она считала за прилавком.
— Ступай-ка лучше завтракать, — сказала она внешне сурово, но в глубине души довольная; из всех ее странствующих по миру братьев Мартин всегда был самым любимым.
— Ну, иди ко мне, я тебя поцелую, — прибавила она, поддавшись неожиданному порыву.
Она обобрала пальцами пену сначала с одной руки, потом с другой. Мартин обнял ее тяжеловесный стан и поцеловал влажные, распаренные губы. Слезы навернулись у нее на глазах, не столько от полноты чувства, сколько от слабости, вызванной постоянным переутомлением. Она оттолкнула его, но он все-таки успел заметить ее слезы.
— Завтрак в печке, — торопливо проговорила она. — Джим, наверное, уже встал. Я сегодня из-за стирки поднялась ни свет ни заря. Иди скорей поешь, да и уходи из дому; у нас сегодня тяжелый денек. Том ушел, стало быть, Бернарду самому придется ехать с подводой.
Мартин с тяжелым сердцем отправился на кухню. Красное лицо сестры и весь ее неряшливый облик стояли у него перед глазами. Она бы любила меня, если бы у нее нашлось время, подумал Мартин. Но она надрывается от работы. Скотина этот Бернард Хиггинботам, что заставляет ее так работать. И в то же время Мартин никак не мог отделаться от мысли, что в поцелуе сестры не было ничего красивого. Правда, этот поцелуй сам по себе был необычен. Уже много лет она целовала его лишь, когда провожала в плавание или встречала по возвращении домой. Но в этом поцелуе чувствовался вкус мыльной пены, а губы ее были дряблы. Они не прижимались быстро и упруго к его губам, как должно быть в поцелуе. Это был поцелуй женщины настолько усталой, что она забыла даже, как целуются. Он невольно вспомнил, как до замужества она могла плясать всю ночь напролет после дня тяжелой работы и как ни в чем не бывало прямо с танцев отправлялась опять в свою прачечную. Тут Мартин снова подумал о Руфи и о том, что губы у нее, должно быть, такие же свежие, как и вся она. Она целует, вероятно, так же, как смотрит, как жмет руку: крепко и искренне. Он даже дерзнул представить себе, как ее губы прикасаются к его губам, и представил это так живо, что у него закружилась голова. Ему казалось, что он медленно плывет в облаке из розовых лепестков, опьяняющих его своим ароматом.
В кухне он нашел Джима, второго жильца, который не спеша ел овсяную кашу, уставясь в пространство тупым, отсутствующим взглядом. Он был подмастерьем слесаря, и его вялый нрав и безвольный подбородок в сочетании с некоторой умственной отсталостью не сулили ему удачи в борьбе за существование.
— Ты почему не ешь? — спросил он, видя, как неохотно ковыряет Мартин свою остывшую недоваренную овсянку. — Опять, что ли, напился вчера?
Мартин отрицательно покачал головой. Он был подавлен убожеством всего, что его окружало. Руфь Морз казалась теперь еще дальше.
— А я напился, — сказал Джим с нервным смешком, — нализался в доску. Эх, хороша же была девочка! Билл приволок меня домой.
Мартин кивнул головой в знак того, что слушает, — у него была бессознательная привычка проявлять таким образом внимание к собеседнику, к любому собеседнику. Потом он налил себе чашку едва теплого кофе.
— Пойдем сегодня потанцевать в «Лотос»? — спросил Джим. — Будет пиво. А если явится компания из Темескаля, то без драки не обойдется. Мне, конечно, начхать. Я все равно притащу туда свою девчонку. Фу!.. Ну и вкус у меня во рту. Черт знает что такое!
Он скорчил гримасу и поспешил прополоскать рот глотком кофе.
— Ты Джулию знаешь? Мартин покачал головой.
— Она теперь со мной, — объяснил Джим. — Конфетка, а не девочка! Я бы тебя познакомил, да ты отобьешь. Ей-богу, я не понимаю, из-за чего девчонки так вешаются тебе на шею. Даже зло берет, когда видишь, как тебе ничего не стоит отбить любую.
— У тебя я еще ни одной не отбил, — заметил Мартин равнодушно. — Пока не кончишь завтрак, все равно не уйдешь.
— Как же так, — возразил тот, — а Мэгги?
— Да у меня с ней не было ничего. Я даже и не танцевал с нею после того раза.
— Вот то-то и оно, — вскричал Джим, — ты только потанцевал с нею да глянул на нее разок-другой — и готово дело! Ты, может, ничего такого и не думал. А она после на меня и смотреть не стала. Все время только про тебя и спрашивала. Если бы ты захотел, она бы тебе сразу же назначила свидание.
— Но я ведь не захотел.
— Неважно. Я все равно получил отставку. — Джим посмотрел на него с восхищением. — И как это тебе удается, Март?
— Мало ими интересуюсь, вот и все.
— Ты, стало быть, делаешь вид, что тебе на них наплевать? — допытывался Джим.
Мартин с минуту раздумывал над ответом.
— Может, и это подействовало бы. Но мне-то в самом деле на них наплевать. А ты попробуй сделать вид, может, что и выйдет.
— Жаль, тебя вчера не было у Райли, — объявил вдруг Джим без всякой логики и связи, — там был один красавчик из Западного Окленда, по прозванию Крыса. Ох, и увертлив в драке! Никому из наших ребят не удалось свалить его. Все жалели, что тебя нет! Где ты вчера шатался?
— Был в Окленде, — отвечал Мартин. — В театре, что ли?
Мартин отодвинул свою тарелку и пошел к двери.
— Так что ж, придешь на танцульку? — крикнул Джим ему вслед.
— Да нет, едва ли, — ответил Мартин.
Он обежал с лестницы и вышел на улицу, чувствуя потребность в свежем воздухе. Он и так задыхался в атмосфере этого дома, а болтовня Джима окончательно привела его в ярость. Было мгновение, когда он чуть-чуть не вскочил и не ткнул его носом в тарелку с кашей. Чем больше болтал Джим, тем дальше уходила Руфь. Разве, живя среди таких скотов, он может надеяться стать когда-нибудь с нею рядом? Его приводила в отчаяние трудность стоящей перед ним задачи, он чувствовал безвыходность своего положения, положения человека из рабочего класса. Казалось, все кругом висело на нем мертвым грузом и не давало подняться — сестра, ее дом, ее семья, слесарь Джим, — все, к чему он привык, куда уходили корни его существования. Жизнь для него утратила вкус. До сих пор он принимал жизнь, как она есть. Он никогда не задумывался над вопросом, хороша она или плоха, разве лишь когда читал книги. Но ведь то были только книги, прекрасные сказки о прекрасном несуществующем мире. А теперь он увидел этот мир существующим в действительности и в центре его — женщину-цветок по имени Руфь. И отныне он обречен на тоску и безнадежность, особенно мучительную оттого, что надежда питает ее.
Мартин долго решал, куда пойти: в Берклейскую общедоступную читальню или в Оклендскую, и остановился на Оклендской, потому что в Окленде жила Руфь. Как знать! Читальня — самое подходящее для нее место, и вполне возможно, что он встретит ее там. Он совершенно не был знаком с расположением отделов и скитался среди бесконечных полок беллетристики, пока, наконец, худенькая, похожая на француженку девушка не сказала ему, что справочная библиотека находится наверху. Он не догадался обратиться к человеку, сидевшему за столом, и, двинувшись наугад, попал в отдел философии. Он слыхал о существовании философских книг, но никак не подозревал, что об этой науке столько написано. Вид высоких шкафов, набитых толстыми томами, подавлял его и в то же время распалял его воображение. Здесь было над чем поработать мозгу. В математическом отделе он нашел книги по тригонометрии и долго рассматривал казавшиеся ему бессмысленными формулы и чертежи. Он читал английские слова, но значение их от него ускользало. Это был какой-то особенный язык. Норман и Артур знали этот язык. Он слышал, как они говорили на нем. А они были ее братья. Мартин ушел из отдела философии с чувством безнадежности. Книги, казалось, надвигались со всех сторон и хотели задавить его. Он никогда не подозревал, что человеческие знания так огромны. Его охватил страх: сумеет ли он одолеть все это? Но тут же он вспомнил, что были люди — и много людей, — которые одолели. И он горячо поклялся, что сумеет постичь все то, что постигли другие.
Так он блуждал, переходя от отчаяния к восторгу, среди полок, уставленных сокровищами мудрости. В общем отделе он нашел «Конспективный курс» Норри. С благоговением он перелистал его. Здесь по крайней мере было что-то родное. Автор, как и он, был моряком. Потом он нашел «Навигационный справочник» Боудича и сочинения Лекки [3] и Маршала [4]. Вот, отлично. Он займется изучением навигации. Бросит пить, начнет усиленно работать и станет капитаном. В этот миг Руфь казалась ему совсем близкой. Капитаном он уже может жениться на ней, если она захочет. А если не захочет — что ж, благодаря ей он будет жить хорошей, достойной жизнью, а пить, во всяком случае, бросит. Потом он вспомнил о страховщике и судовладельце, этих двух хозяевах капитана, интересы которых никогда не совпадают, и подумал о том, что каждый из них может погубить его, и наверняка погубит. Оглядев комнату, он даже зажмурился перед внушительным зрелищем десяти тысяч томов. Нет, с морем покончено. Здесь, в этом множестве книг, заключена огромная сила, и если он хочет совершать великие дела, то должен совершать их на суше! А кроме того, капитанам не разрешается брать с собою в плавание жен.
Наступил полдень. Время шло. Мартин забыл о еде и все рассматривал заглавия книг, отыскивая руководство по правилам хорошего тона. Его ум, помимо мыслей о карьере, был занят решением простой задачи: если молодая леди, прощаясь с вами, просит зайти еще раз, то как скоро можно это сделать? Но когда он набрел наконец на нужную книгу, он все же не получил ответа. Он пришел в ужас от сложности и многообразия правил этикета, запутался во всех этих наставлениях о порядке обмена визитными карточками, принятом в светском обществе, и отошел с грустью. Он не нашел того, что искал, но зато понял, что соблюдение всех форм вежливости требует огромного количества времени и для усвоения всех этих форм ему пришлось бы предварительно прожить целую жизнь.
— Ну что же, нашли вы, что вам нужно? — спросил его при выходе человек, сидевший за столом.
— Да, сэр, у вас отличная библиотека, — отвечал Мартин.
Человек кивнул головой.
— Приходите к нам почаще. Вы моряк?
— Да, сэр. Я приду еще как-нибудь.
«Как он узнал, что я моряк?» — спрашивал он себя, спустившись с лестницы.
И, выйдя на улицу, он постарался идти прямо, без неуклюжего раскачивания. Он помнил об этом, пока не задумался, а тогда зашагал своей обычной походкой.
Глава шестая
Беспокойное томление, похожее на муки голода, овладело Мартином. Он изнывал от желания увидеть вновь девушку, чьи нежные руки с неожиданной цепкостью захватили всю его жизнь. Пойти к ней он не решался. Он боялся, что это будет слишком скоро и он таким образом нарушит страшный свод правил, именуемый хорошим тоном. Он проводил долгие часы в Оклендской и Берклейской библиотеках, где записался на свое имя, на имя Гертруды, Мэриен и даже Джима, который дал согласие после того, как Мартин щедро угостил его пивом. На все четыре абонемента он набрал книг, и в его каморке теперь почти всю ночь горел газ, за что мистер Хиггинботам брал с него лишних пятьдесят центов в неделю.
Но книги, которые он читал, только усиливали его беспокойство. Каждая страница в новой книге казалась ему лазейкой в сады знаний. Его голод становился еще острее от чтения этих книг. К тому же он не знал, с чего следовало начинать, и, конечно, ему очень мешало отсутствие подготовки. Он не знал даже самых простых вещей, которые, очевидно, должен был знать всякий берущийся за Книгу. Это относилось и к поэзии, которую Мартин читал с необычайным увлечением. Из Суинберна он прочел не только то, что было в томике, данном ему Руфью. Он прочел и «Долорес» и отлично понял все. Руфь, вероятно, не понимала этого произведения, решил он. Как могла она понять, живя такой утонченной жизнью? Потом ему попались под руку стихотворения Киплинга, и он был заворожен музыкой, ритмом, волшебной образностью строк, говоривших о таких знакомых ему вещах. Его поразила та любовь к жизни, та тонкость психологии, которая отличала все стихи Киплинга. «Психология» была новым словом в лексиконе Мартина Идена. Он приобрел толковый словарь, чем подорвал свои финансы и сократил срок пребывания на суше, а кроме того, привел в ярость мистера Хиггинботама, который предпочел бы получить эти деньги в уплату за комнату.
Днем он не решался даже приближаться к обиталищу Руфи, но по ночам, словно вор, бродил вокруг дома Морзов, украдкой глядя на освещенные окна и испытывая нежность к самим стенам, которые ее окружали. Несколько раз он чуть не наткнулся на ее братьев, а однажды долго шел за мистером Морзом, на поворотах изучая его лицо при свете уличных фонарей и страстно желая, чтобы почтенный джентльмен подвергся какой-нибудь смертельной опасности и предоставил Мартину случай спасти его жизнь. В другой раз он вдруг увидел Руфь в окне второго этажа. Видна была лишь ее голова, плечи и руки, по движениям которых он решил, что она причесывается. Это длилось одно мгновение, но и мгновения было достаточно, чтобы вся кровь заклокотала в нем и превратилась в пьянящее вино. Она, правда, тотчас же опустила штору, но он узнал, где ее комната, и после этого уже часами простаивал под деревом на противоположном тротуаре, выкуривая бесчисленное количество папирос. Однажды он увидел, как ее мать выходила из банка, и лишний раз убедился в неизмеримости расстояния, их разделяющего. Руфь принадлежала к тем, кто держит деньги в банке! Он за всю свою жизнь ни разу не переступил порога банка и был убежден, что подобные учреждения посещаются лишь очень богатыми и очень могущественными людьми.
В известном смысле он переживал целую бытовую революцию. Чистота и непорочность Руфи произвели на него такое впечатление, что он теперь был положительно одержим потребностью в чистоте. Он должен стать чистым, если хочет быть достойным дышать одним с нею воздухом. Он чистил зубы и беспрестанно скреб руки кухонной щеткой, пока в окне магазина не увидел щеточку для ногтей и не угадал ее назначения. Приказчик, взглянув на его ногти, предложил ему еще и ногтечистку, и, таким образом, его набор туалетных принадлежностей обогатился еще одним предметом. Он достал в библиотеке книгу о личной гигиене и вычитал в ней совет каждое утро обливаться холодной водой — что и стал делать, к большому восторгу Джима и смущению мистера Хиггинботама, который, не сочувствуя подобным причудам, всерьез призадумался, не следует ли брать с Мартина особую плату за воду. Следующим шагом по пути прогресса была забота о брюках. Начав интересоваться этим вопросом, Мартин скоро заметил разницу между мешковатыми штанами рабочих и брюками людей высшего класса, с прямою складкою от колена до ступни. Догадавшись, в чем тут секрет, Мартин отправился на кухню за утюгом и гладильной доской; но первая попытка окончилась неудачей, он только прожег свои брюки и должен был купить новые, чем еще больше приблизил день ухода в плавание.
Но внешними реформами дело не ограничилось. Курить он все еще продолжал, однако пить бросил. До сих пор он считал выпивку самым подходящим занятием для мужчины и даже очень гордился тем, что у него крепкая голова и он может продолжать пить, когда большинство собутыльников давно уже валяется под столом. В Сан-Франциско у него было много товарищей по прежним плаваниям, и при встречах он по-прежнему ставил им угощение, но себе заказывал только кружку легкого пива или имбирного лимонада и добродушно сносил все насмешки. Он с любопытством наблюдал за тем, как они, напиваясь, постепенно доходили до скотского состояния, и радовался, что сам он уже не таков. У каждого из них были свои горести, и вино помогало им забыть действительность и перенестись в страну грез и фантазий. Но Мартину уже не нужен был алкоголь. Он изведал опьянение более глубокое, — он был пьян Руфью, которая зажгла в нем любовь и стремление к новой, лучшей жизни; пьян книгами, которые пробудили в нем мириады неиспытанных желаний; пьян своей вновь обретенной чистотой, которая дала ему еще более полное, чем раньше, ощущение здоровья и заставила все его тело трепетать от физической радости существования.
Однажды Мартин отправился в театр в смутной надежде увидеть Руфь, и с балкона второго яруса он и в самом деле увидел ее. Она прошла по партеру в сопровождении Артура и еще какого-то незнакомого, стриженного бобриком молодого человека в очках, который тотчас возбудил в Мартине тревогу и ревность. Она села в первом ряду, и он уже почти ничего не видал в течение всего вечера, кроме ее стройных плеч и золотых волос, издали словно подернутых дымкой. Но все же раз или два он оглянулся по сторонам и успел заметить двух девушек, сидевших через несколько мест от него; девушки эти улыбались и строили ему глазки. Он всегда был общителен, и не в его привычках было оставлять без ответа подобные проявления благосклонности. Еще недавно он непременно улыбнулся бы, в свою очередь, а затем пошел бы и дальше. Но теперь все переменилось. Он, правда, ответил улыбкой, но тотчас же после этого отвернулся и старался больше не смотреть в ту сторону. Однако не один еще раз, совсем позабыв об этих девушках, он случайно ловил их улыбки. Трудно измениться за один день, да к тому же он от природы был ласков и приветлив и поэтому невольно улыбался девушкам в ответ, улыбался просто, по-приятельски. Все это было не ново для него. Он знал, что они ведут с ним обычную женскую игру. Но для него теперь все стало иным. Там, далеко, в первом ряду, сидела женщина, единственная на свете, столь не похожая, столь бесконечно не похожая на этих двух девушек его класса, что к ним он уже не мог чувствовать ничего, кроме жалости. Он от души желал им обладать хоть крохотной долей ее красоты и душевного величия. Ни за что на свете он не бросил бы им упрека в слишком смелом заигрывании. Но оно не льстило ему: напротив, оно как бы подчеркивало его низкое положение, и это было неприятно. Он отлично понимал, что, принадлежит он к миру Руфи, эти девушки не посмели бы заигрывать с ним. И при каждом их взгляде он чувствовал, как сжимаются вокруг него цепкие щупальца его мира и тянут его вниз.
Мартин покинул свое место незадолго до конца представления, надеясь увидеть Руфь, когда она будет выходить. У театрального подъезда всегда толпилось множество ротозеев, и легко можно было остаться незамеченным, если пониже надвинуть кепку на лоб и спрятаться за чьей-нибудь спиной. Он вышел одним из первых и смешался с толпой, но едва он занял удобное место на краю тротуара, — появились те две девушки. Он знал, что они ищут его, и проклинал ту силу, которая притягивала к нему женщин. Сначала они как будто не заметили его, но он понимал, что это только маневр. Подходя ближе, они замедлили шаг, и наконец одна из них, проходя мимо, задела его плечом и оглянулась, делая вид, словно только сейчас его узнала. Это была стройная брюнетка с черными лукавыми глазами. Обе девушки опять улыбнулись ему, и он тоже улыбнулся им в ответ.
— Мое почтение, — сказал он.
Это было сказано совершенно машинально, — так часто случалось ему начинать знакомство подобным образом. Впрочем, природная общительность и добродушие не позволили бы ему поступить иначе. Черноглазая девушка улыбнулась весело и вызывающе и, взяв под руку свою подругу, выразила желание остановиться; подруга хихикнула в знак согласия. Мартин испугался, что вот сейчас выйдет Руфь и увидит его разговаривающим с этими девушками. Нужно было помешать этому. Он просто, как будто так и нужно было, шагнул к черноглазой и пошел рядом с нею. В этом обществе он не чувствовал себя ни скованным, ни косноязычным. Здесь он был в своей стихии, мог и проявить остроумие и щегольнуть жаргонными словечками, мог смеяться и болтать о чем угодно, как это водится на первой стадии быстрого и случайного знакомства. Дойдя до угла, он сделал попытку отстать и свернуть в переулок. Но черноглазая девушка схватила его за локоть, не выпуская руки своей подруги, и крикнула:
— Постой, Билл. Что за спешка? Уж не хочешь ли ты удрать от нас?
Мартин остановился и, смеясь, повернулся к ним лицом. Позади них, под ярким светом уличных фонарей, струился людской поток. Там, где он стоял, было сравнительно темно, и он мог, оставаясь незамеченным, увидеть Ее, если бы она прошла мимо. А пройти она должна была непременно, потому что эта дорога вела к ее дому.
— Как ее зовут? — спросил он, указывая на черноглазую и обращаясь к ее хихикающей подруге.
— Это уж вы ее спросите, — отвечала та, фыркнув.
— Ну, как же? — спросил он, оборачиваясь к черноглазой.
— А вы мне сказали, как вас зовут? — возразила она.
— Да вы и не спрашивали, — улыбнулся он, — впрочем, вы угадали. Меня и в самом деле зовут Билл. Верно, верно!
— Да ну вас! — Она посмотрела на него долгим взглядом, зовущим и откровенно страстным. — Нет, правда? Скажите!
И посмотрела снова. Вся женская сущность, неизменная от века, отражалась в ее взгляде. И Мартин уже знал, что будет дальше: теперь она начнет отступать смиренно и робко, готовая в любой миг перейти в наступление, как только почувствует, что в нем остывает пыл погони. Как-никак он был мужчина, не мог не оценить ее привлекательности, и ее страстные взоры льстили его самолюбию. О, он прекрасно знал этих девчонок, знал их насквозь! Славные, хорошие девушки — насколько могли быть хорошими девушки этого класса. Привыкшие добывать себе пропитание тяжелым трудом и слишком гордые, чтобы продавать свои ласки, они искали хоть немножко счастья в житейской пустыне, стараясь не заглядывать в будущее и отсрочить выбор между безысходной рутиной труда и бездной падения, куда вела хотя и лучше оплачиваемая, но страшная дорога.
— Билл, — отвечал он снова. — Ей-богу! Билл и никак не иначе.
— Шутите? — переспросила она.
— И вовсе не Билл, — вмешалась другая.
— А вы почем знаете? Вы меня никогда и в глаза не видали.
— Ну и что ж, что не видала! И так знаю, что врете!
— Ну, как же — Билл? — спрашивала первая.
— Пусть будет Билл, — дружелюбно сказал он. Она ухватила его за плечо и весело тряхнула.
— Так и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе.
Он пожал ее ищущую руку и на ладони нащупал знакомые царапины и шрамы.
— Давно ушли с консервного завода? — спросил он.
— Вы почем знаете? Уж не ясновидящий ли вы? — вскричали обе девушки.
И, обмениваясь с ними убогими, плоскими шутками, он вдруг мысленно увидел перед собой многоярусные библиотечные полки, хранящие мудрость веков. Он с горечью улыбнулся неуместному сейчас видению, и опять сомнения охватили его. Но за всем этим — болтовней и раздумьем — он не упускал из виду потока уличной толпы. И вот в ярком свете фонарей он увидел Ее; она шла между братом и незнакомым юношей в очках. Сердце его замерло. Он долго ждал этого мгновения. Он успел разглядеть что-то легкое и воздушное вокруг ее царственной головы, стройные контуры фигуры, изящество походки, грациозное движение, которым она подобрала юбку, когда переходила через улицу. И вот она прошла, а он остался с этими двумя фабричными работницами, стоял и смотрел на их платья, носившие следы жалких и отчаянных попыток принарядиться, их дешевые ботинки, дешевые ленточки, дешевые колечки на грубых пальцах. Кто-то тронул его за руку, и он услыхал голос, говоривший:
— Проснитесь, Билл. Что такое с вами?
— Вы что-то сказали? — переспросил он.
— Да так, ничего особенного, — отвечала черноглазая, тряхнув головой, — просто мне пришло в голову…
— Что?
— Было бы недурно, если бы вы подыскали кавалера для нее, — она указала на подругу, — и мы бы пошли куда-нибудь выпить кофе или поесть мороженого.
Он вдруг почувствовал приступ какой-то духовной тошноты. Уж очень груб был переход от Руфи ко всему этому. Рядом с дерзкими, откровенно зовущими глазами этой девушки Мартин увидел вдруг лучезарные, ясные глаза Руфи, глаза святой, взиравшие на него с недосягаемых высот чистоты. И он почувствовал в себе могучую силу. Он выше всего этого. Жизнь для него нечто большее, чем для этих девушек, мечты которых не идут дальше кавалеров и мороженого. В сущности, он ведь и раньше жил в своих мыслях особой, тайной жизнью. Он пробовал иногда поверять эти мысли другим, но до сих пор не встретил ни одной женщины, способной их понять, да и ни одного мужчины тоже. Когда он высказывал их вслух, слушатели смотрели на него с недоумением. Что ж, если его мысли им недоступны — значит, и сам он выше их. Ощущение силы радовало его; он сжал кулаки. Если жизнь для него нечто большее, то он вправе и требовать от нее большего, но только, конечно, не здесь, не в общении с этими людьми. Эти черные глаза ничего не могли дать ему. Он знал, какие мечты отражены в их взгляде, — о мороженом и еще, пожалуй, кое о чем. Тогда как Ее неземной взор обещал ему все, к чему он стремился, и еще бесконечно многое. Книги, картины, красоту и гармонию, изящество возвышенной и утонченной жизни — вот что обещал этот взор. Та работа мысли, которая отражалась в черных глазах, смотревших на него, была известна ему во всех подробностях. Это был как бы часовой механизм, и он мог наблюдать в нем каждое колесико. Эти глаза звали к пошлым, низменным утехам, ведущим к пресыщению, в конце которых зияла могила. А тот, неземной взор звал к проникновению в непостижимую тайну, в чудо вечной жизни. В нем он видел отражение ее души и отражение своей души также.
— В программе одна ошибка, — сказал он громко, — я сегодня занят.
Девушка не пыталась скрыть свое разочарование.
— Вздумали навестить больного друга? — съязвила она.
— Нет, зачем… У меня свидание… — он запнулся, — с одной девушкой.
— Не врете? — спросила она строго. Он поглядел ей в глаза и ответил:
— Честное слово, правда. Но мы можем встретиться в другой раз. Как все-таки вас зовут? Где вы живете?
— Меня зовут Лиззи, — отвечала она, взяв его под руку и всем телом прижимаясь к нему. — Лиззи Конолли. Я живу на углу Маркет-стрит и пятой.
Они еще поболтали несколько минут, прежде чем проститься. Мартин не хотел сразу идти домой. Он пошел к знакомому дереву, встал на привычное место под Ее окном и прошептал взволнованно:
— У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.
Глава седьмая
Прошла неделя с того дня, как Мартин познакомился с Руфью, а он все еще не решался пойти к ней. Иногда он уже совсем готов был решиться, но всякий раз сомнения одерживали верх. Он не знал, спустя какой срок прилично повторить посещение, и не было никого, кто бы мог ему сказать это, а он боялся совершить непоправимый промах. Он отошел от всех своих прежних товарищей и порвал с прежними привычками, а новых друзей у него не было, и ему оставались только книги. Читал он столько, что обыкновенные человеческие глаза давно уже не выдержали бы такой нагрузки. Но у него были выносливые глаза и крепкий, выносливый организм. Кроме того, до сих пор он жил, не зная абстрактных книжных мыслей, и мозг его представлял собой нетронутую целину, благодатную почву для посева. Он не был утомлен науками и теперь мертвой хваткой вцеплялся в книжную премудрость.
К концу недели Мартину показалось, что он прожил целые столетия, — так далека была прежняя жизнь и прежнее отношение к миру. Но ему все время мешал недостаток подготовки. Он брался за книги, которые требовали многих лет предварительных специальных занятий. Сегодня он читал книги по античной, завтра — по новейшей философии, так что в голове у него царила постоянная путаница. То же самое было и с экономическими учениями. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо [5], Адама Смита [6] и Милля [7], и непонятные ему формулы одного не опровергали утверждений другого. Он совершенно растерялся и все-таки хотел все знать. Он увлекся вопросами экономики, промышленности и политики. Однажды, проходя через Сити-Холл-парк, он увидел толпу, окружившую человек пять или шесть, которые, по всей видимости, были заняты каким-то горячим спором. Он подошел поближе и тут в первый раз услыхал еще незнакомый ему язык народных философов. Один из споривших был бродяга, другой — профсоюзный агитатор, третий — студент-юрист, а остальные — просто любители дискуссий из рабочих. Впервые он услыхал об анархизме, социализме, о едином налоге, узнал, что существуют различные, враждебные друг другу системы социальной философии. Он услыхал сотни совершенно новых для него терминов из таких областей науки, которые еще не вошли в его скудный запас знаний. В силу этого он не мог следить за развитием спора и лишь чутьем угадывал идеи, выраженные в этих странных словах. Был среди спорщиков черноглазый лакей из ресторана — теософ, член профсоюза пекарей — агностик, какой-то старик, сразивший всех своей удивительной философией, основанной на утверждении, что все сущее справедливо, и еще один старик, пространно рассуждавший о космосе, об атоме-отце и об атоме-матери.
У Мартина Идена голова распухла от всех этих рассуждений, и он поспешил в библиотеку посмотреть значение десятка врезавшихся в его память слов. Уходя из библиотеки, он нес под мышкой четыре толстых тома: «Тайная доктрина» госпожи Блаватской [8], «Прогресс и нищета», «Квинтэссенция социализма», «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка в этой книге изобиловала многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Слов было так много, что, запоминая одни, он забывал другие и должен был снова искать в словаре. Он решил записывать слова в особую тетрадку и в короткий срок исписал десятка два страниц. И все-таки он ничего не мог понять. Он читал до трех часов утра; у него уже ум за разум зашел, а все же он не сумел ухватить в прочитанном ни одной существенной мысли. Он поднял голову, и ему показалось, что стены и потолок ходят ходуном, как на корабле во время качки. Тогда он выругался, отшвырнул «Тайную доктрину», погасил свет и решил заснуть. Не лучше пошло дело и с остальными тремя книгами. И не то чтобы мозг его был слаб или невосприимчив — он мог бы усвоить все, о чем шла речь в этих книгах, — но ему недоставало привычки мыслить и не хватало словесного запаса. Он, наконец, понял это и одно время носился даже с мыслью читать один только словарь, пока он не выучит наизусть все незнакомые слова.
Единственным утешением была для Мартина поэзия; он с восторгом читал тех поэтов, у которых каждая строчка была ему понятна. Он любил красоту, а здесь он находил ее в изобилии. Поэзия действовала на него так же сильно, как и музыка, и незаметным образом подготовляла его ум к будущей, более трудной работе. Страницы его памяти были чисты, и он без всякого усилия запоминал строфу за строфой, так что скоро мог уже декламировать наизусть целые стихотворения, наслаждаясь гармоническим звучанием оживших печатных строк. Однажды он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гейли и «Мифический век» Булфинча. Словно луч яркого света прорезал вдруг мрак его невежества, и его еще больше потянуло к поэзии.
Человек за столом уже знал Мартина, был очень приветлив с ним и дружелюбно кивал головой, когда Мартин приходил в библиотеку. Поэтому Мартин решился однажды на смелый поступок. Он взял несколько книг и, когда библиотекарь штемпелевал его карточки, пробормотал:
— Послушайте, можно вас спросить кой о чем?
Библиотекарь улыбнулся и ободряюще кивнул головой.
— Если вы познакомились с молодой леди и она пригласила вас зайти… так вот… когда можно это сделать?
Мартин почувствовал, что рубашка прилипла к его спине, вспотевшей от волнения.
— Да когда угодно, по-моему, — отвечал библиотекарь.
— Нет, вы не понимаете, — возразил Мартин. — Она… видите ли, в чем штука: ее может не быть дома. Она учится в университете.
— Ну, другой раз зайдете.
— Собственно, дело даже не в этом, — признался Мартин, решившись, наконец, отдаться на милость собеседника, — я, видите ли, простой матрос и не очень-то привык к светскому обществу. Эта девушка совсем не то, что я, а я совсем не то, что она… Вы не подумайте, что я дурака ломаю, — перебил он вдруг сам себя.
— Нет, нет, что вы, — успокоил его библиотекарь. — Правда, ваш запрос не в компетенции справочного отдела, но я с удовольствием постараюсь помочь вам.
Мартин посмотрел на него с восхищением.
— Эх, если бы я умел так шпарить, вот это было бы дело, — сказал он.
— Виноват…
— Я хочу сказать, что было бы хорошо, если бы я умел так складно и вежливо говорить, как вы.
— А! — сочувственно отозвался библиотекарь.
— Когда лучше прийти? Днем? Только так, чтобы не угодить к обеду, да? Или вечером? А может, в воскресенье?
— Знаете, что я вам посоветую, — сказал, улыбаясь, библиотекарь, — вы ей позвоните по телефону и спросите.
— А ведь верно! — вскричал Мартин, собрал книги и пошел к выходу.
На пороге он обернулся и спросил:
— Когда вы разговариваете с молодой леди — ну, скажем, мисс Лиззи Смит, — как надо говорить: мисс Лиззи или мисс Смит?
— Говорите «мисс Смит», — сказал библиотекарь авторитетным тоном, — говорите «мисс Смит», пока не познакомитесь с ней поближе.
Итак, проблема была разрешена.
— Приходите когда угодно. Я всегда дома после обеда, — отвечала по телефону Руфь на его робкий вопрос, когда можно возвратить взятые у нее книги.
Она сама встретила его у двери, и ее женский глаз сразу отметил и отутюженную складку брюк и какую-то общую неуловимую перемену к лучшему. Но удивительнее всего было выражение его лица. Казалось, здоровая сила переливалась через край в этом юноше и волною захлестывала ее, Руфь. Снова она почувствовала желание прижаться к нему, ощутить теплоту его тела и снова поразилась тому, как действовало на нее его присутствие. А он, в свою очередь, вновь ощутил блаженный трепет, когда пожимал ей руку. Разница между ними была в том, что она внешне ничем не обнаруживала своего волнения, в то время как он покраснел до корней волос.
Он последовал за нею, по-старому неуклюже раскачиваясь на ходу. Но когда они уселись в гостиной, Мартин, против ожидания, почувствовал себя довольно непринужденно. Она всячески старалась создать у него это ощущение непринужденности и делала это так деликатно и бережно, что стала ему еще во сто крат милее. Сначала они поговорили о книгах, о Суинберне, которым он восхищался, и о Браунинге, который был ему непонятен. Руфь направляла разговор, а сама все думала о том, как бы ему помочь. Она часто думала об этом после их первой встречи. Ей непременно хотелось помочь ему. Она чувствовала к нему нежность и жалость, но в этой жалости не заключалось ничего обидного: это было никогда не испытанное ею прежде, почти материнское чувство. Да и могла ли это быть простая, обычная жалость, если в человеке, ее вызывавшем, было столько мужественной силы, что одна его близость порождала в ней безотчетный девический страх и заставляла сердце биться от странных мыслей и чувств. Опять возникло у нее желание обнять его за шею или положить руки ему на плечи. И по-прежнему это желание смущало ее, но она уже к нему привыкла. Ей не приходило в голову, что зарождающаяся любовь может принимать такие формы. Но ей не приходило в голову также и то, что чувство, охватившее ее, можно назвать любовью. Ей казалось, что Мартин просто заинтересовал ее как личность незаурядная, с огромными скрытыми возможностями и что ею руководит лишь обыкновенное человеколюбие.
Она не понимала, что желает его; но с ним дело обстояло иначе. Мартин знал, что любит Руфь; и знал, что желает ее так, как никогда ничего не желал в своей жизни. Он прежде любил поэзию, как любил все прекрасное, но после встречи с нею перед ним открылись ворота в огромный мир любовной лирики. Она дала ему гораздо больше, чем Булфинч и Гэйли. Неделю тому назад он не стал бы задумываться над такой, например, строчкой: «Блаженный юноша, он одержим любовью и в поцелуе умереть готов», — но теперь слова эти не выходили у него из головы. Он восхищался ими, как величайшим откровением; он смотрел на Руфь и думал, что с радостью умер бы в поцелуе. Он чувствовал себя тем самым блаженным юношей, который «одержим любовью», гордился этим больше, чем мог бы гордиться возведением в рыцарское достоинство. Он постиг наконец смысл жизни и цель своего существования на земле.
Когда он смотрел на нее и слушал ее, его мысли становились смелее. Он вспоминал наслаждение, испытанное при пожатии ее руки, и жаждал почувствовать его снова. Порою он с жадным томлением смотрел на ее губы. Но ничего грубого и земного в этом томлении не было. Ему доставляло невыразимое наслаждение ловить каждое движение ее губ в то время, как она говорила; это не были обычные губы, какие бывают у всех женщин и мужчин. Они были не из плоти и крови. Это были уста бесплотного духа, и желание их поцеловать совершенно не было похоже на желание, которое пробуждали в нем губы других женщин. Он, конечно, охотно прижал бы к этим небесным устам свои губы, но это было бы все равно, как если бы он приложился к святыне. Он не мог разобраться в той своеобразной переоценке ценностей, которая в нем происходила, и не понимал, что, когда он смотрит на нее, глаза его горят тем самым огнем, которым горят глаза всякого мужчины, жаждущего любви. Он не подозревал, как пылок и мужествен его взгляд, как сильно он волнует ее душу. Ее девственная непорочность облагораживала его собственные чувства и возносила их на высоту холодного целомудрия звезд. Он был бы поражен, узнав, что его глаза излучают таинственное тепло, которое проникает в глубину ее существа и там зажигает ответный огонь. Смущенная, встревоженная его взглядом, она несколько раз теряла нить разговора и с немалым трудом вновь собирала обрывки мыслей. Обычно она не затруднялась в разговоре и теперь, не понимая, что с ней, решила, что просто ей никогда не приходилось иметь дело с таким своеобразным собеседником. Она очень впечатлительна по натуре, и нет ничего странного, если этот пришелец из другого мира смущает ее.
Она думала, как помочь ему, и хотела повернуть разговор в этом направлении, но Мартин опередил ее.
— Хочется мне попросить у вас совета, — начал он и едва не задохнулся от радости, когда она выразила готовность сделать для него все, что будет в ее силах. — Помните, я в тот раз говорил, что не умею говорить о книгах, о всяких таких вещах, ничего у меня из этого не получается. Ну вот, я с тех пор много передумал. Стал ходить в библиотеку, набрал там всяких книг, но только все они не моего ума дело. Может, лучше начать с самого начала? Я ведь по-настоящему и не учился никогда. Мне пришлось работать с самого детства, а вот теперь я пошел в библиотеку, посмотрел на книги, почитал — и вижу, что раньше читал я совсем не то, что нужно. Понимаете, где-нибудь на ферме или в пароходном кубрике таких книг не найдешь, как, скажем, у вас в доме. Там чтение другое, и вот к такому-то чтению я как раз и привык. А между тем, скажу, не хвастаясь, я не такой, как те, с кем я водил компанию. Не то чтобы я был лучше других матросов и ковбоев, — я и ковбоем тоже был, — но я, видите ли, всегда любил книги и всегда читал все, что попадалось мне под руку, и мне кажется, у меня голова работает на иной манер, чем у моих товарищей. Но дело-то еще не в этом. Дело вот в чем. Я никогда не бывал в таких домах, как ваш. Когда я к вам пришел на той неделе и увидел вас, и вашу мать, и ваших братьев, и как тут у вас все, — мне очень понравилось. Я раньше только в книжках читал про такое, но тут вот оказалось, что книги не врут. И мне понравилось. Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать таким воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, картины и всякие Красивые вещи, и чтобы люди говорили спокойно и тихо и были чисто одеты, и мысли чтоб у них были чистые. Тот воздух, которым я всю жизнь дышал, пропитан запахом кухни, спиртным духом, руганью и разговорами о квартирной плате. Когда вы подошли к своей матери и поцеловали ее, мне это показалось так красиво, — ничего красивее, кажется, на свете не видел. А я повидал немало и могу сказать — всегда видел больше, чем другие. Я очень люблю смотреть, и мне всегда хочется увидеть что-нибудь еще и еще.
Но это все не то. Самое главное вот: мне бы хотелось подняться до такой жизни, какою живете вы здесь, в этом доме. Жизнь — это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос: как это сделать? С чего мне начать? Работы я не боюсь; если уж говорить об этом, то я в работе любого заткну за пояс. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я знаю, не следует докучать вам своими расспросами, но мне больше некого спросить-вот разве что Артура? Может, мне к нему и надо было пойти? Если я был…
Он вдруг замолчал. Его испугала мысль, что надо было в самом деле спросить Артура и что он выставил себя дураком. Руфь ответила не сразу. Она была поглощена тем, что пыталась связать воедино его нескладную речь и примитивные мысли с тем, что она читала в его глазах. Она никогда не видала глаз, в которых отражалась бы такая несокрушимая сила. Этот человек все может — вот о чем говорил его взгляд, и это плохо вязалось с его неумением распоряжаться словами. К тому же ее собственный ум был так изощрен и сложен, что она не могла по-настоящему оценить простоту и непосредственность. И все же даже в этом косноязычии мысли угадывалась сила. Мартин представлялся ей великаном, силящимся сорвать с себя оковы. Ее лицо дышало лаской, когда она заговорила.
— Вы сами знаете, чего вам не хватает, — сказала она, — вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала — кончить школу, а потом пройти курс в университете.
— Для этого нужны деньги, — прервал он ее.
— О, — воскликнула она, — я не подумала об этой стороне дела! Но разве никто из ваших родных не мог бы поддержать вас?
Он отрицательно покачал головой.
— Отец и мать мои умерли. У меня две сестры: одна замужняя, другая, вероятно, скоро выйдет замуж. Братьев целая куча, я младший, но они никому никогда не помогали. И все давно уже разбрелись по свету, искать счастье, каждый сам по себе. Старший умер в Индии. Двое сейчас в Южной Африке, третий плавает на китобойном судне, а четвертый разъезжает с бродячим цирком — он акробат. Вот и я такой же. С одиннадцати лет живу своим трудом, с тех пор как умерла мать. Так что придется мне самому, без школы, доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.
— Вам, во-первых, надо бы обратить внимание на свою речь. Вы иногда выражаетесь (она хотела сказать «ужасно», но удержалась) не совсем правильно.
Лоб его покрылся испариной.
— Я знаю, что иногда отпускаю такие словечки, которых вам не понять. Но эти-то я хоть знаю, как выговаривать. Я держу в голове кое-какие слова из книг, но я не знаю, как они произносятся, потому-то и не говорю их.
— Дело тут не только в словах, а в общем строе речи. Можно говорить с вами откровенно? Вы не обидитесь на меня?
— Нет, нет! — воскликнул он, благословляя в душе ее доброту. — Жарьте! Уж лучше мне узнать все это от вас, чем от кого-нибудь другого!
— Так вот. Вы очень часто неправильно строите фразу. Употребляете обороты, не принятые в литературной речи. Я многое отметила в вашем разговоре, от чего вам надо отвыкать. Но лучше всего вам начать с грамматики. Я вам сейчас принесу учебник.
Когда Руфь встала, Мартину вспомнилось одно правило, вычитанное им из руководства по хорошему тону, и он неуклюже вскочил со своего места, но тут же испугался — не подумала бы она, что он собирается уходить.
Руфь принесла учебник грамматики, придвинула свой стул к его стулу, — он тут же подумал, что, вероятно, нужно было помочь ей. Она раскрыла книгу, и головы их сблизились. Ему трудно было следить за ее объяснениями — так волновала его эта близость. Но когда она начала объяснять тайны спряжений, он забыл все на свете. Он никогда не слыхал о спряжениях, и это первое проникновение в таинственные законы речи заворожило его. Он ниже пригнулся к книге, и вдруг ее волосы коснулись его щеки.
Только раз в жизни Мартин Иден терял сознание, но тут он подумал, что сейчас это случится снова. У него перехватило дыхание, а сердце забилось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит. Никогда она не казалась ему столь доступной. На одно мгновение через бездну, их разделявшую, был перекинут мост. Но его чувства не стали от этого более низменными. Это не она опустилась до него. Это он поднялся за облака и приблизился к ней. Его любовь, как и прежде, была полна почти религиозного благоговения. Ему почудилось, что он вторгся в святая святых некоего храма, и он осторожно отвел голову, чтобы избежать этого прикосновения, действовавшего на него, как электрический ток. Но Руфь ничего не заметила.
Глава восьмая
Много недель прошло, а Мартин Иден все учил грамматику, штудировал руководства по хорошему тону и пожирал каждую книгу, которая увлекала его воображение. От своего прежнего круга он отошел совершенно. Девушки из «Лотоса» не понимали, что с ним приключилось, и забрасывали Джима вопросами, а многие молодые люди были рады, что он больше не появляется на состязаниях у Райли. Он сделал еще одну драгоценную находку в сокровищнице библиотеки. Как грамматика открыла ему основы языка, так эта новая книга указала на правила, лежащие в основе поэзии. Он начал изучать размеры, формы и законы стихосложения и понял, как создается восхищающая его красота. Один новейший трактат рассматривал поэзию как изобразительное искусство, причем теория в нем была подкреплена многими ссылками на лучшие литературные образцы. Ни одного романа Мартин не читал с таким увлечением. И его свежий, нетронутый двадцатилетний ум, подстрекаемый жаждой знания, усваивал все с активностью и энергией, несвойственной восприятию студента.
Когда Мартин оглядывался на прежний свой мир — мир далеких стран, морей, кораблей, матросов и уличных женщин, — этот мир представлялся ему очень маленьким; и все-таки какими-то своими гранями он соприкасался с большим, вновь открывшимся Мартину миром. Ум его инстинктивно искал во всем единства; однако он был удивлен, когда впервые обнаружил, что эти два мира связаны между собой. Возвышенные мысли и чувства, почерпнутые из книг, облагораживали его. Он был теперь уверен, что в том высшем круге, к которому принадлежит Руфь и ее семья, все мужчины и все женщины думают и чувствуют именно так. До сих пор он жил в каком-то грязном болоте и теперь хотел очиститься и подняться в высшую сферу. Уже в детстве и юности какая-то смутная тревога постоянно томила его; он гнался за чем-то, но сам не понимал, за чем гонится, пока не встретил Руфи. И теперь его томление сделалось острым и болезненным, он понял ясно и твердо, что искал красоты, ума и любви.
За эти недели он несколько раз встречался с Руфью, и каждый раз свидание с нею вдохновляло его. Она исправляла его язык и произношение, занималась с ним арифметикой. Но их беседы не ограничивались одними учебными занятиями. Он слишком много видел в жизни, его ум был слишком зрелым, чтобы удовлетвориться дробями, кубическими корнями, грамматическим разбором и спряжениями. Бывали минуты, когда их разговор касался совсем других тем, — они говорили о стихах, которые он только что прочел, о поэте, которого она теперь изучала. И когда она читала ему вслух свои любимые строчки, он испытывал несказанное блаженство. Никогда, ни у одной женщины на свете он не слыхал такого голоса. От одного звука ее речи расцветала его любовь, каждое слово заставляло его трепетать. Пленительной была музыкальность этого голоса, его гибкие, богатые интонации — качества, которые даются культурой и душевным благородством. Слушая ее, он невольно вспоминал гортанные голоса женщин из диких племен, крикливую речь портовых потаскух, неблагозвучный говор фабричных работниц, женщин и девушек его класса. Тотчас же его воображение начинало работать, вереницы женских образов возникали в мозгу, и от сравнения с ними ореол, окружавший Руфь, сверкал еще ослепительнее. Но он не только любил слушать ее голос, ему бесконечно приятно было сознавать, что Руфь глубоко проникает в сущность читаемого и живо откликается на красоту поэтической мысли. Она много читала ему из «Принцессы», и часто он видел при этом слезы у нее на глазах, — так тонко чувствовала она красоту. В такие минуты ему казалось, что он поднимается до божественного всевидения; глядя на нее и слушая ее голос, он словно созерцал самое жизнь и читал ее сокровеннейшие тайны. И, достигнув этих вершин чувства, он начинал понимать, что это и есть любовь и что любовь — самое великое в мире. Перед его внутренним взором проходили все радости, испытанные им некогда, — опьянение, ласки женщин, игра, задор физической борьбы, — и все это казалось невыносимо пошлым и низким по сравнению с чувствами, овладевшими им теперь.
Руфь не отдавала себе отчета в происходившем. У нее не было еще никакого опыта в сердечных делах. Все, что она знала, она почерпнула из книг, где творческая фантазия автора всегда преображала события обыденной жизни в нечто нереальное и прекрасное; ей не приходило в голову, что этот грубый матрос заронил в ее сердце искру, которая в один прекрасный день разгорится ярким, испепеляющим пламенем. До сих пор это пламя еще ни разу не опалило ее. Ее представления о любви были чисто умозрительными, и самое слово «любовь» напоминало ей о кротком сиянии звезд, легкой зыби, колеблющей морскую гладь, прохладной росе на исходе бархатной летней ночи. Любовь представлялась ей как нежная привязанность, служение любимому в сумеречной тишине, напоенной ароматом цветов и исполненной благостного покоя. Она и не подозревала о вулканических бурях любви, о ее страшном зное, превращающем сердце в пустыню горячего пепла. Она не знала ничего о силах, сокрытых в мире, сокрытых в ней самой; глубины жизни терялись за дымкой иллюзий. Супружеская привязанность отца и матери была для нее идеалом любовного единения, и она спокойно ждала, где-то в будущем, дня, когда без всяких волнений и потрясений войдет в такую же мирную совместную жизнь с любимым человеком.
Таким образом, на Мартина Идена она смотрела, как на что-то новое для нее, как на странное, исключительное существо, и этой новизне и исключительности приписывала те необыкновенные ощущения, которые он в ней вызывал. Это было естественно. Того же порядка чувства испытывала она, когда смотрела в зверинце на диких зверей или когда видела, как гнутся деревья в бурю, и вздрагивала от вспышек молнии. Было что-то космическое в подобного рода явлениях, и было, несомненно, что-то космическое и в нем. Он ей принес дыхание моря, бесконечность земных просторов. Блеск тропического солнца запечатлелся на его лице, а в его железных мускулах была первобытная жизненная сила. Он весь был в рубцах и шрамах, полученных в том неведомом мире жестоких людей и жестоких деяний, который начинался за пределами ее кругозора. Это был дикарь, еще не прирученный, и втайне она чувствовала себя польщенной его покорностью. И у нее возникло естественное желание приручить дикаря. Желание это было бессознательно, и ей не приходило в голову, что она хочет сделать из Мартина подобие своего отца, который ей казался образцом совершенства. В своем неведении она не могла понять, что космическое чувство, которое он в ней вызывал, есть любовь, та непреодолимая сила, что влечет мужчину и женщину друг к другу через целый мир, заставляет оленей в период течки убивать друг друга и все живое побуждает стремиться к соединению.
Быстрые успехи Мартина чрезвычайно удивляли и занимали ее. Она встретила в нем способности, о которых не могла и подозревать; и они раскрывались полнее день ото дня, как цветы на благодатной почве. Она читала ему вслух Браунинга, и сплошь да рядом он изумлял ее неожиданными истолкованиями неясных мест. Она не понимала, что его истолкования, основанные на знании жизни и людей, были часто гораздо правильнее, чем ее. Ей казалось, что он рассуждает наивно, хотя иногда ее увлекал смелый полет его мысли, уносившей его в такие надзвездные дали, куда она не могла следовать за ним и только трепетала от столкновения с какою-то непонятной силой. Иногда она играла ему на рояле, и музыка проникала в глубины его существа, которых ей было не измерить. Он весь раскрывался навстречу звукам, как цветок раскрывается навстречу солнечным лучам; он очень скоро позабыл дробные ритмы и резкие созвучия музыки матросских танцулек и научился ценить излюбленный Руфью классический репертуар.
Но все же он испытывал какое-то демократическое пристрастие к Вагнеру [9], и увертюра к «Тангейзеру», особенно после объяснений Руфи, ему нравилась больше всего. Увертюра эта как бы служила иллюстрацией к его жизни. Его прошлое было для него олицетворено в лейтмотиве Венерина грота, а Руфь он связывал с хором пилигримов; и, казалось, вагнеровские мелодии уносили его в призрачное царство духа, где добро и зло ведут извечную борьбу.
Иногда он задавал вопросы, и ей вдруг начинало казаться, что она сама неправильно понимает музыку. Зато, когда она пела, он ни о чем не спрашивал. В благоговейном молчании прислушивался он к ее высокому чистому сопрано, и ему казалось, что он слышит ее душу. И снова по контрасту он вспоминал визгливые песенки фабричных девушек и хриплые завывания пьяных мегер в портовых кабачках. Ей нравилось играть и петь ему. В сущности, она в первый раз имела дело с живой человеческой душой, и такой податливой и гибкой, что формировать ее было одно наслаждение, — Руфи казалось, что она формирует душу Мартина, и она делала это с самыми лучшими намерениями. А кроме того, ей просто было приятно его общество. Он больше не пугал ее. Сначала она действительно испытывала смутный страх — не перед ним, а перед чем-то, вдруг шевельнувшимся в ее собственной душе, — но теперь этот страх улегся. Сама того не подозревая, она уже предъявляла какие-то права на него. С другой стороны, он оказывал на нее живительное действие. Она очень много времени отдавала университетским занятиям, и ей, очевидно, было полезно иногда отвернуться от книжной пыли и вдохнуть свежую струю морского ветра, которым он был пропитан. Сила! Да, ей нужна была сила, и он великодушно делился с нею своим неисчерпаемым запасом. Быть с ним в одной комнате, встречать его в дверях — уже значило дышать полной грудью. И когда он уходил, она бралась за свои книги с удвоенной энергией.
Руфь прекрасно знала Браунинга, но ей никогда не приходило в голову, что игра с человеческой душой опасна. Чем больше она интересовалась Мартином, тем сильнее хотелось ей переделать его жизнь.
— Вот возьмите мистера Бэтлера, — сказала она однажды, после того как они отдали должное и грамматике, и арифметике, и поэзии, — ему сначала ни в чем не было удачи. Его отец был банковским кассиром, но, прохворав несколько лет, умер от чахотки в Аризоне, так что мистер Бэтлер — тогда еще он был просто Чарльз Бэтлер — остался совершенно один. Его отец был выходцем из Австралии, и родных у него в Калифорнии нет. Он поступил в типографию — он мне несколько раз об этом рассказывал — и на первых порах зарабатывал три доллара в неделю. А теперь у него тридцать тысяч годового дохода. Как он достиг этого? Он был честен, трудолюбив и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, которые обычно так любят молодые люди. Он положил себе за правило откладывать сколько-нибудь каждую неделю, ценою любых лишений. Конечно, скоро он стал получать больше трех долларов, и по мере того, как увеличивался его заработок, росли и сбережения. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу. Он постоянно думал о будущем. Потом он стал посещать вечерние курсы. Семнадцати лет он уже был наборщиком и получал хорошее жалованье, но он был честолюбив. Он хотел сделать карьеру, а не просто иметь обеспеченный кусок хлеба, и готов был на всякие жертвы ради будущего. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца рассыльным — подумайте! — на четыре доллара в неделю. Но он научился быть экономным и даже из этих четырех долларов ухитрялся откладывать.
Руфь остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание и посмотреть, как Мартин, воспринимает рассказ. На его лице отражался живой интерес к судьбе мистера Бэтлера, но брови были слегка нахмурены.
— Верно, туговато ему приходилось, — сказал он. — Четыре доллара в неделю! С этого не разгуляешься. Я вот плачу пять долларов в неделю за квартиру и стол и, ей-богу, ничего хорошего не имею. Он, вероятно, жил, как собака. Питался, должно быть…
— Он сам себе готовил на керосинке, — прервала она его.
— Питался, должно быть, так же скверно, как матросы на рыболовных судах, а это уж значит — хуже нельзя.
— Но подумайте, чего он достиг теперь! — вскричала она с воодушевлением. — Ведь он с лихвой может вознаградить себя за все лишения юности!
Мартин посмотрел на нее испытующе.
— А вы знаете, что я вам скажу, — возразил он. — Едва ли вашему мистеру Бэтлеру так уж весело жить теперь. Он настолько плохо питался все прошлые годы, что желудок у него, надо думать, ни к черту не годится.
Она отвела глаза, не выдержав его взгляда.
— Пари держу, что у него катар.
— Да, — согласилась она, — но…
— И, наверно, — продолжал Мартин, — он теперь сердитый и скучный, как старый филин, и никакой радости нет ему от его тридцати тысяч. И, наверно, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или не так?
Она кивнула утвердительно и поторопилась объяснить:
— Но ему это и не нужно. Он по натуре человек замкнутый и серьезный. Он всегда был таким.
— Еще бы ему не быть! — воскликнул Мартин. — На три да на четыре доллара в неделю! Молодой парень сам стряпает, чтобы отложить деньги! Днем работает, ночью учится, только и знает, что трудиться, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет даже и понятия, должно быть, ни о чем таком не имеет. Хо! Слишком поздно пришли эти его тридцать тысяч.
Услужливое воображение тотчас же нарисовало ему во всех подробностях жизнь этого бережливого юноши и ту узенькую дорожку, которая в конечном счете привела его к тридцатитысячному годовому доходу. Все мысли и поступки Чарльза Бэтлера прошли перед ним, словно на экране.
— Знаете, — прибавил он, — мне жалко его, вашего мистера Бэтлера. Он тогда был слишком молод и не понимал, что сам украл у себя всю жизнь ради этих тридцати тысяч, от которых ему теперь никакой радости. Сейчас уж он на эти тридцать тысяч не купит того, что мог бы тогда купить на свои отложенные десять центов, — ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку!
Такой ход мыслей ошеломлял Руфь. Это было не только ново для нее и не соответствовало ее взглядам, но она смутно угадывала здесь долю правды, которая грозила опрокинуть или в корне изменить все ее представление о мире. Будь ей не двадцать четыре года, а четырнадцать, она, может быть, изменила бы свои взгляды под влиянием Мартина. Но ей было двадцать четыре, и вдобавок по натуре она была консервативна и слишком привыкла к образу жизни и мыслей той среды, в которой родилась и выросла. Правда, своеобразные суждения Мартина иногда смущали ее во время разговора, но она объясняла их оригинальностью его личности и судьбы и старалась поскорее выбросить из памяти. И все-таки, хотя она и не соглашалась с ним, убедительность его тона, блеск глаз и серьезное выражение лица всегда волновали ее и влекли к нему. Ей и в голову не приходило, что этот человек, пришедший из чуждого ей мира, высказывал очень часто мысли, слишком глубокие для нее и выходящие за пределы ее кругозора. Мир для нее исчерпывался пределами этого кругозора, но ограниченные умы замечают ограниченность только в других. Таким образом, она считала свой кругозор очень широким и в каждом своем разногласии с Мартином видела доказательство его ограниченности и мечтала научить его смотреть на вещи ее глазами и расширить его кругозор до пределов своего.
— Погодите, я еще не докончила рассказа, — сказала она. — Мистер Бэтлер работал, по словам отца, с редкостным рвением и усердием. Он всегда отличался необычайной работоспособностью, никогда не опаздывал на службу, наоборот — очень часто являлся раньше, чем было нужно. И все-таки он ухитрялся экономить время. Каждую свободную минуту он посвящал учению. Он изучал бухгалтерию, научился писать на машинке, брал уроки стенографии и в уплату за них диктовал по ночам своему преподавателю, судебному репортеру, нуждавшемуся в практике. Он скоро из рассыльного сделался клерком и сумел стать в своем роде незаменимым. Отец мой вполне оценил его и увидал, что это человек с большим будущим. По совету отца он поступил в юридическую школу, сделался адвокатом и вернулся в контору уже в качестве младшего компаньона. Это выдающийся человек. Он уже несколько раз отказывался от места в сенате Соединенных Штатов и мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного суда. Такой пример должен всех нас вдохновлять. Он доказывает, что человек с упорством и с волей может высоко подняться над своим окружением.
— Да, он выдающийся человек, — согласился Мартин совершенно искренне.
И все же что-то в этом рассказе плохо вязалось с его представлениями о жизни и о красоте. Он никак не мог найти достаточного оправдания для всех тех лишений и тягот, которые претерпел мистер Бэтлер. Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному — Мартин бы его понял. Юноша, одержимый любовью, мог умереть за поцелуй, но не за тридцать тысяч долларов в год! Было что-то жалкое, мелкотравчатое в карьере мистера Бэтлера. Тридцать тысяч долларов — это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожали их ценность.
Многие из этих соображений Мартин высказал Руфи, чем лишний раз убедил ее, что необходимо заняться его перевоспитанием. Ей была свойственна та характерная узость мысли, которая заставляет людей думать, что только их раса, религия и политические убеждения хороши и правильны и что все остальные человеческие существа, рассеянные по миру, стоят гораздо ниже их. Это была та же узость мысли, которая заставляла древнего еврея благодарить бога за то, что он не родился женщиной, а теперь заставляет миссионеров путешествовать по земному шару, чтобы навязать всем своего бога. И она же внушала Руфи желание взять этого человека, выросшего в совершенно иных условиях жизни, и перекроить его по образцу людей ее круга.
Глава девятая
Мартин Иден возвращался из плавания, спеша в Калифорнию с нетерпением влюбленного. Восемь месяцев назад, истратив все свои деньги, он нанялся на судно, отправлявшееся на поиски клада, зарытого где-то на Соломоновых островах. После долгих и безуспешных поисков предприятие было признано неудавшимся. В Австралии экипаж получил расчет, и Мартин немедленно нанялся на судно, идущее в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он не только заработал достаточно денег, чтобы подольше продержаться на суше, но, кроме того, значительно подвинулся в своих занятиях, для которых всегда умел выкраивать время.
У него был восприимчивый ум, к тому же ему помогали природное упорство и любовь к Руфи. Он несколько раз проштудировал полученный от Руфи учебник грамматики и в конце концов основательно овладел предметом. Он теперь замечал неправильности речи матросов и мысленно исправлял их ошибки в произношении и построении фраз. С радостью он замечал, что его ухо стало очень чувствительно к слову и что у него развилось особое грамматическое чутье. Всякая неправильность речи резала его слух, как фальшивый аккорд, хотя с непривычки бывало еще, что и у него самого срывались с языка неправильные обороты. Видимо, нужно было время для того, чтобы освободиться от них навсегда.
Покончив с грамматикой, он принялся за словарь и взял за правило каждый день прибавлять двадцать слов к своему лексикону. Это была нелегкая задача. Стоя на вахте или у штурвала, он повторял выученные слова и старался произносить их как следует. Он вспоминал все наставления Руфи и, к своему изумлению, скоро обнаружил, что начал говорить по-английски чище и правильнее самих офицеров и тех сидевших в каютах джентльменов, которые финансировали всю авантюру.
У капитана, норвежца с рыбьими глазами, нашлось случайно полное собрание сочинений Шекспира, в которое он, конечно, никогда не заглядывал, и Мартин получил разрешение пользоваться драгоценными книгами за то, что взялся стирать белье их владельцу. Отдельные, особенно полюбившиеся ему места трагедий он без всякого труда запоминал наизусть и некоторое время был одержим Шекспиром так, что весь мир представлялся ему в образах и формах елизаветинского театра, а мысли сами собой укладывались в белые стихи. Это послужило полезной тренировкой для его слуха и научило его ценить благородство английского языка, хотя в то же время внесло в его речь много устаревших и редких оборотов.
Мартин хорошо провел эти восемь месяцев. Он обогатил свой словарь и свой умственный багаж и лучше узнал самого себя. С одной стороны, он смиренно сознавал свое невежество, с другой — чувствовал в себе великие силы. Он видел огромную разницу между собою и своими товарищами и понимал, что разница эта не столько в достигнутом, сколько в возможном. То, что он делал, могли делать и они, но какое-то внутреннее чувство говорило ему, что он способен на большее. Он мучительно остро воспринимал красоту мира, и ему хотелось, чтобы Руфь могла любоваться этой красотою вместе с ним. Он решил описать ей величие Тихого океана. Эта мысль пробудила в нем творческий импульс, ему захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И вот ослепительная идея осенила его: он будет писать. Он будет одним из тех людей, чьими глазами мир видит, чьими ушами слышит, чьим сердцем чувствует. Он будет писать все: поэзию и прозу, романы и очерки, и пьесы, как Шекспир. Это настоящая карьера, и это — путь к сердцу Руфи. Ведь писатели — гиганты мира, куда до них какому-нибудь мистеру Бэтлеру, который имеет тридцать тысяч годового дохода и мог бы стать членом Верховного суда, если б захотел.
Едва возникнув, эта идея всецело овладела им, и весь обратный путь в Сан-Франциско он проделал как во сне. Он был опьянен сознанием своей силы и ощущением, что может все. На пустынных просторах Великого океана вещи приобрели перспективу. Впервые он ясно увидел и Руфь и мир, в котором она жила. Этот мир стал для него чем-то осязаемым, конкретным, он словно мог взять его в руки, повертывать во все стороны и рассматривать. Много было непонятного и туманного в этом мире, но он глядел на целое, а не на детали, и в то же время видел способ овладеть всем этим. Писать! Эта мысль жгла его, как огонь. Он начнет писать немедленно по возвращении. Прежде всего он опишет экспедицию искателей клада. Он пошлет рассказ в какой-нибудь журнал в Сан-Франциско, ничего не сказав об этом Руфи, и она будет удивлена и обрадована, увидев его имя в печати. Он может одновременно и писать и учиться. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим, потому что умеет работать, и все твердыни рушатся перед ним. Ему уже не нужно будет плавать по морю простым матросом; в воображении он вдруг увидел собственную яхту. Есть же писатели, которые имеют собственные яхты! Конечно, останавливал он себя, успех приходит не сразу, хорошо если на первых порах он заработает своим писанием столько, сколько надо, чтоб продолжать учение. А потом, через некоторое время — очень неопределенное время, — когда он выучится и подготовится, он напишет великие произведения, и его имя будет у всех на устах. Но важнее этого, бесконечно важнее всего самого важного, — что тогда он станет наконец достойным Руфи. Слава хороша, но не ради славы, а ради Руфи лелеял он эти мечты. Он был не искатель славы, а только юноша, одержимый любовью.
Явившись в Окленд с туго набитым карманом, Мартин опять водворился в своей каморке в доме Бернарда Хиггинботама и засел за работу. Он не сообщил Руфи о своем возвращении. Он решил, что пойдет к ней, лишь окончив свой очерк об искателях сокровищ. Творческая лихорадка, охватившая его, помогала переносить эту отсрочку. Кроме того, каждая написанная им фраза приближала ее к нему. Он не знал, какой длины должен быть его очерк, но сосчитал количество слов в очерке, занимавшем две страницы в воскресном приложении к «Обозревателю Сан-Франциско», и решил этим руководствоваться. В три дня, работая без передышки, закончил Мартин свой очерк, потом тщательно переписал его крупными буквами, чтоб легче было читать, — и тут вдруг узнал из взятого в библиотеке учебника словесности, что существуют абзацы и кавычки. А он и не подумал об этом! Мартин тотчас снова сел за переписку очерка, то и дело справляясь с учебником, и в один день приобрел столько сведений о том, как писать сочинение, сколько обыкновенный школьник не приобретает и за год. Переписав вторично очерк и осторожно свернув его трубкой, он вдруг прочел в одной газете правила для начинающих авторов, гласившие, что рукопись нельзя свертывать трубкой и что писать надо на одной стороне листа. Он нарушил оба правила. Но он прочел еще, что в лучших журналах платят не менее десяти долларов за столбец. Переписывая в третий раз, Мартин утешался тем, что без конца помножал десять столбцов на десять долларов. Результат получался всегда один и тот же, — сто долларов, — и он решил, что это куда выгоднее матросской службы. Если бы он дважды не дал маху, рассказ за три дня был бы готов. Сто долларов в три дня!
Ему пришлось бы три месяца скитаться по морям, чтобы заработать такую сумму. Надо быть дураком, чтобы тянуть матросскую лямку, если можешь писать. Впрочем, деньги сами по себе не представляли для Мартина особенной ценности. Их значение было только в том, что они давали досуг, возможность купить приличный костюм, а все это, вместе взятое, должно было приблизить его к стройной бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и наполнила ее вдохновением.
Мартин вложил рукопись в большой конверт, запечатал и адресовал редактору «Обозревателя Сан-Франциско». Он представлял себе, что все присылаемое в редакцию немедленно печатается, и так как послал очерк в пятницу, то ожидал его появления в воскресенье. Приятно будет таким способом известить Руфь о своем возвращении. В это же воскресенье он и пойдет к ней. Между тем его уже захватила новая идея, которая казалась ему необыкновенно удачной, правильной, здравой и в то же время непритязательной: написать приключенческий рассказ для мальчиков и послать его в «Спутник юношества». Он пошел в читальню и просмотрел несколько комплектов «Спутника юношества». Выяснилось, что большие рассказы и повести печатаются в еженедельнике частями, примерно по три тысячи слов. Каждая повесть тянулась в пяти номерах, а некоторые даже в семи, и он решил исходить из этого расчета.
Мартин однажды плавал в Арктику на китобойном судне; плавание было рассчитано на три года, но закончилось через полгода, потому что корабль потерпел крушение. Хотя он и обладал пылкой фантазией, в нем была сильна любовь к правде, и ему хотелось писать лишь о вещах ему известных. Он отлично знал китобойный промысел и, основываясь на фактическом материале, решил повествовать о вымышленных приключениях двух мальчиков-подростков. Это было нетрудно, и в субботу вечером он уже написал первую часть в три тысячи слов, чем доставил великое удовольствие Джиму и вызвал со стороны мистера Хиггинботама немало насмешек по поводу объявившегося в их семье «писаки».
Мартин молчал и только с наслаждением представлял, как удивится зять, когда, развернув воскресный номер «Обозревателя», прочтет очерк об искателях сокровищ. В воскресенье он рано утром сам спустился к парадной двери за газетой.
Просмотрев номер внимательно несколько раз, он свернул его и положил на место, радуясь, что никому не сказал о своей попытке. Потом, поразмыслив, решил, что ошибся относительно срока появления рассказов в печати. К тому же в его очерке не было ничего злободневного, и возможно, что редактор решил предварительно написать ему свои соображения.
После завтрака он снова занялся повестью. Слова так и текли из-под его пера, хотя он часто прерывал работу, чтобы справиться со словарем или с учебником словесности. Иногда во время таких пауз он читал и перечитывал написанную главу, утешая себя тем, что, отвлекаясь от великого дела творчества, он зато усваивает правила сочинения и учится выражать и излагать свои мысли. Он писал до темноты, затем шел в читальню и рылся в еженедельных и ежемесячных журналах до десяти часов вечера, то есть до самого закрытия. Такова была его программа на эту неделю. Каждый день он писал три тысячи слов и каждый вечер шел в читальню, листал журналы, стараясь уяснить себе, какие стихи, повести, рассказы нравятся издателям. Одно было несомненно, он бы мог написать все, что написали эти бесчисленные писатели, и более того: дайте срок, и он напишет много такого, чего им не написать. Ему было приятно прочитать в «Книжном бюллетене» статью о гонорарах, где между прочим было сказано, что Киплинг получает доллар за слово, а для начинающих писателей — что особенно заинтересовало его — минимальная ставка в первоклассных журналах два цента. «Спутник юношества» был, несомненно, первоклассным журналом, и, таким образом, за каждые три тысячи слов, которые он писал в день, он должен был получить по шестьдесят долларов — заработок за два месяца плавания.
В пятницу вечером Мартин закончил свою повесть. В ней было ровно двадцать одна тысяча слов. По два цента за слово — и то это уже даст ему четыреста двадцать долларов. Недурная плата за недельную работу. У него еще никогда в жизни не было столько денег сразу. Он даже не понимал, на что можно истратить так много. Ведь это же золотое дно! Неиссякаемый источник благополучия! Он решил приодеться, выписать кучу газет и журналов, купить все необходимые справочники, за которыми теперь приходилось бегать в библиотеку. И все же от четырехсот двадцати долларов оставалась еще довольно крупная сумма, и он ломал голову, как использовать ее, пока наконец не решил нанять служанку для Гертруды и купить велосипед Мэриен.
Мартин отослал объемистую рукопись в «Спутник юношества» и в субботу вечером, обдумав план очерка о ловцах жемчуга, отправился к Руфи. Он предварительно позвонил ей по телефону, и она сама вышла встретить его. И сразу же ее обдало знакомым, исходящим от него ощущением силы и здоровья. Казалось, эта сила передавалась и ей, горячей волной разливалась по ее жилам и заставляла трепетать от волнения. Он вспыхнул, коснувшись ее руки и взглянув в ее голубые глаза, но она не заметила этого под темным загаром, покрывшим его лицо за восемь месяцев плавания под солнцем. Но полосу, натертую воротничком на шее, не скрыл и загар, и, заметив ее, Руфь едва удержалась от улыбки. Впрочем, у нее прошла охота улыбаться, когда она взглянула на его костюм. Брюки на этот раз сидели отлично, — это был его первый костюм, сшитый на заказ, и Мартин казался в нем стройнее и тоньше. Вдобавок вместо кепки он держал в руке мягкую шляпу, которую она тут же велела ему примерить и похвалила его внешний вид. Руфь была счастлива, как никогда. Эта перемена в Мартине была делом ее рук, ее гордостью, и она уже мечтала о том, как будет и дальше направлять его.
Но в особенности радовало ее одно обстоятельство, казавшееся самым важным: перемена в его речи. Он теперь говорил не только правильнее, но гораздо свободнее, и его лексикон значительно обогатился. Правда, в моменты увлечения он забывался и опять начинал употреблять жаргонные словечки и комкать окончания; иногда он запинался, произнося слово, которое только недавно выучил. Но дело было не только в правильности выражений. В разговоре его появилась легкость, живое остроумие, чрезвычайно обрадовавшее Руфь. Это сказывался природный юмор, за который его всегда любили товарищи, но который он раньше не мог проявить при ней за недостатком подходящих слов. Теперь он понемногу осваивался и уже не чувствовал себя чужаком в ее мире. Но все же он был преувеличенно осторожен и, предоставив Руфи вести беседу в веселом, непринужденном тоне, старался, правда, не отставать от нее, но ни разу не брал на себя инициативу.
Он рассказал ей о своем сочинительстве, изложил свой план — писать для заработка и продолжать учиться. Но его ждало разочарование: Руфь отнеслась к этому плану скептически.
— Видите ли, — откровенно сказала она, — литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не знаток, конечно, я просто высказываю общеизвестные истины. Ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно года три, а то, пожалуй, и все пять. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому, вероятно, очень многие хотели бы стать писателями и даже пробуют писать.
— А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности? — спросил Мартин, радуясь втайне, что так складно выразился; и тотчас же заработало его воображение, и он как бы со стороны увидел этот разговор в гостиной, а рядом сотни картин его прежней жизни, грубых и отвратительных.
Но все эти пестрые видения пронеслись перед ним в один миг, не прерывая течения его мыслей, не замедляя темпа разговора. На экране своей фантазии видел Мартин эту прелестную, милую девушку и себя самого, беседующих на хорошем английском языке, среди книг и картин, в уютной комнате, где на всем лежала печать культуры и хорошего воспитания. Эта сцена, озаренная ровным, ясным светом, как бы занимала середину экрана. А кругом, по краям экрана, возникали и исчезали совсем иные сцены, и он, как зритель, мог смотреть на любую из них по выбору. Они сменялись перед ним, выхватываемые лучами яркого красноватого света из зыбкой сумеречной пены тумана. Он видел ковбоев, пивших в кабаке огненное виски, кругом раздавалась грубая речь, пересыпанная непристойностями, а сам он тоже стоял у стойки, пил и бранился, не отставая от самых отъявленных забулдыг и буянов, или сидел с ними за столом под коптящей керосиновой лампой, сдавая карты и звеня фишками. Потом видел себя обнаженным до пояса со сжатыми кулаками, перед началом знаменитой схватки с рыжим ливерпульцем на баке «Сасквеганны»; потом он увидел окровавленную палубу «Джона Роджерса» в то серое утро, когда вспыхнул мятеж, увидел старшего помощника, корчившегося в предсмертных судорогах, дымящийся револьвер в руках капитана, толпу матросов вокруг, с искаженными от ярости лицами, раненых, изрыгающих проклятья, — и от этих картин он вновь вернулся к центральной сцене, спокойной и тихой, озаренной ярким светом, вновь увидел Руфь, беседующую с ним среди книг и Картин; увидел большой рояль, на котором она позже будет играть ему; услышал свою собственную правильно построенную и произнесенную фразу: «А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?»
— Даже если у человека есть способности к кузнечному ремеслу, — возразила она со смехом, — разве этого достаточно? Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не побывав сначала в обучении.
— Что же вы мне посоветуете? — спросил он. — Но только помните, я действительно чувствую, что могу писать. Это трудно объяснить, но это так.
— Вам надо учиться, — последовал ответ, — независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы карьеру вы ни избрали, и. оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.
— Да… — начал он, но она прервала его:
— Вы можете и тогда продолжать писать.
— Поневоле придется, — отвечал он грубо.
— Почему же?
Она посмотрела на него почти недовольно: ей не нравилось упорство, с которым он стоял на своем.
— Потому что без этого не будет и ученья. Ведь нужно же мне есть, покупать книги, одеваться.
— Я все забываю об этом, — сказала она смеясь. — Почему вы не родились с готовым доходом!
— Предпочитаю иметь здоровье и воображение, — отвечал он, — а доходы придут. Я бы много делов наделал ради… — и он чуть не сказал «ради вас», — ради… другого чего-нибудь.
— Не говорите «делов»! — воскликнула она с шутливым ужасом. — Это ужасно вульгарно.
Мартин смутился.
— Вы правы, — сказал он, — поправляйте меня, пожалуйста, всегда.
— Я… я с удовольствием, — отвечала Руфь неуверенно. — В вас очень много хорошего, и мне бы хотелось, чтобы этого стало еще больше.
Он тотчас опять превратился в глину в ее руках и страстно желал, чтобы она лепила из него что ей угодно, а она так же страстно желала вылепить из него мужчину по тому образцу, который ей представлялся идеалом. Когда она сказала ему, что приемные экзамены в среднюю школу начнутся в понедельник, он тут же объявил, что пойдет экзаменоваться.
После этого она уселась за рояль и долго играла и пела ему, а он смотрел на нее жадными глазами, восторгаясь ею и удивляясь, почему вокруг нее не толпятся сотни обожателей, внимая ей и томясь по ней так же, как внимал и томился он.
Глава десятая
В этот вечер Мартин остался обедать у Морзов и, к великому удовольствию Руфи, произвел очень благоприятное впечатление на ее отца. Разговор шел о профессии моряка — предмете, который Мартин знал как свои пять пальцев; и мистер Морз отозвался о нем после как об очень сообразительном и здравомыслящем молодом человеке. Мартин старался избегать грубых слов и неправильных выражений и поэтому говорил медленно и лучше формулировал свои мысли. Он держался за обедом гораздо непринужденнее, чем в первый раз, почти год тому назад, но сохранил скромность и некоторую застенчивость, что очень понравилось миссис Морз, которая была приятно поражена происшедшей в нем переменой.
— Это первый мужчина, который удостоился внимания Руфи, — говорила она потом мужу. — Она всегда так равнодушно относилась к мужчинам, что меня это даже начало тревожить.
Мистер Морз взглянул на нее с удивлением.
— Ты хочешь, чтобы этот молодой матрос пробудил в ней женщину? — спросил он.
— Я не хочу, чтобы она умерла старой девой. Если благодаря Мартину Идену она заинтересуется мужчинами вообще, это будет очень хорошо.
— Очень хорошо! — согласился мистер Морз. — Но предположим — а иногда, моя дорогая, приходится заниматься предположениями, — предположим, что она заинтересуется не вообще, а в частности?
— Это невозможно, — смеясь, сказала миссис Морз. — Он на три года моложе ее, и потом это просто невозможно! Ничего плохого не будет. Положись на меня.
Таким образом, роль Мартина Идена была определена вполне точно. Между тем сам он обдумывал одну довольно экстравагантную затею, на которую его натолкнули Артур и Норман. Речь шла о воскресной загородной прогулке на велосипедах, которая, конечно, едва ли заинтересовала бы Мартина, если бы он не узнал, что и Руфь тоже собирается ехать. Он никогда не ездил на велосипеде, но раз Руфь ездит, для него не оставалось уже сомнений в том, что и он должен научиться. Поэтому по дороге домой он зашел в магазин и купил за сорок долларов велосипед. Эту сумму он и в месяц не мог бы заработать самым тяжелым трудом, и такой расход был весьма чувствителен для его кармана. Но, прибавив к ста долларам, которые он должен был получить с «Обозревателя», те четыреста двадцать, которые ему заплатит «Спутник юношества», он даже обрадовался, что нашел разумное применение хотя бы для части этих денег. Не смутило его и то обстоятельство, что при первой попытке научиться ездить на велосипеде он порвал брюки и пиджак. Он тут же позвонил портному по телефону из лавки Хиггинботама и заказал себе новый костюм. Потом он втащил велосипед по узенькой наружной лестнице к себе в каморку, и когда отодвинул кровать от стены, то в комнате осталось место только для него и для велосипеда.
Воскресенье он решил посвятить подготовке к приемным экзаменам, но рассказ о ловцах жемчуга так увлек его, что он провел весь день в лихорадке творчества, пытаясь передать на бумаге красоту картин, которые горели в его мозгу. В это воскресенье «Обозреватель» опять не напечатал его рассказа об искателях сокровищ, но это нисколько его не смутило. Он слишком высоко взлетел на крыльях своего воображения и даже не слыхал, как его два раза звали обедать. Так ему и не пришлось попробовать изысканного обеда, которым мистер Хиггинботам имел обыкновение отмечать воскресные дни. Для мистера Хиггинботама такие обеды были вещественным доказательством его жизненного успеха, и он всегда сопровождал их пошлейшими разглагольствованиями о мудрости американского уклада жизни и тех богатых возможностях, которые этот уклад предоставляет людям: например, возможности возвыситься — он это особенно подчеркивал — от приказчика овощной лавки до хозяина торгового предприятия.
В понедельник утром Мартин Иден печально поглядел на свой неоконченный очерк о ловцах жемчуга и отправился в оклендскую школу. Когда он несколько дней спустя явился, чтобы узнать результаты, ему сообщили, что он провалился по всем предметам, за исключением грамматики.
— Ваши познания по грамматике превосходны, — сообщил ему профессор Хилтон, глядя на него сквозь толстые очки, — но по другим предметам вы ничего не знаете, положительно ничего не знаете, а ваши ответы по истории Соединенных Штатов чудовищны — именно чудовищны, другого слова не придумаешь. Я бы вам посоветовал…
Профессор Хилтон умолк и посмотрел на него неприязненно и равнодушно, как на одну из своих пробирок. Он преподавал в школе физику, имел большую семью, получал маленькое жалованье и обладал запасом знаний, затверженных, как затверживает слова попугай.
— Да, сэр? — смиренно сказал Мартин, жалея, что вместо профессора Хилтона с ним не беседует библиотекарь из справочного отдела.
— Я бы вам посоветовал еще года два поучиться в начальной школе. Всего хорошего!
Мартин довольно легко отнесся к этой неудаче, но он был поражен, увидав, как огорчилась Руфь, когда он передал ей слова профессора Хилтона. Огорчение Руфи было так очевидно, что и он пожалел о своем провале — не из-за себя, а из-за нее.
— Вот видите, — сказала она, — я была права. Вы знаете гораздо больше иных студентов, а экзамена выдержать не можете. Это потому, что вы учились урывками и без всякой системы. Вам нужно систематическое обучение, а это невозможно без хорошего учителя. Знания должны быть основательными. Профессор Хилтон прав, и на вашем месте я бы поступила в вечернюю начальную школу. Вы пройдете курс года в полтора и сэкономите шесть месяцев. Кроме того, днем у вас будет время для писания или другой работы, если вам не удастся зарабатывать деньги своим пером.
«Но если днем я буду работать, а по вечерам ходить в школу, то когда же я буду видеться с вами?» — была первая мысль Мартина, которую он, впрочем, побоялся высказать. Вместо этого он сказал:
— Уж очень это детское занятие — ходить в вечернюю школу. Я бы, конечно, на это не посмотрел, если бы знал, что дело стоит того. Но только, по-моему, не стоит. Я сам могу изучить все гораздо быстрее, чем со школьными учителями. Это было бы пустой тратой времени (он думал о ней, о своем желании добиться ее), а я не могу тратить время! У меня его нет!
— Но ведь вам так много нужно сделать.
Она ласково посмотрела на него. И Мартин мысленно назвал себя грубой скотиной за то, что решился противоречить ей.
— Для физики и химии нужны лаборатории, — сказала она. — С алгеброй и геометрией вам никогда не справиться самостоятельно. Вам необходим руководитель, опытные педагоги-специалисты.
Он молчал с минуту, обдумывая тщательно, как бы получше ответить ей.
— Не думайте, что я хвастаюсь, — сказал он, — дело совсем не в этом. Но у меня есть чувство, что я могу легко всему научиться. Я сам могу всему научиться. Меня тянет к учению, как утку к воде. Вы видели, как я одолел грамматику. И я изучил еще много других вещей, вы себе и представить не можете, как много… А ведь я только начал учиться. Мне еще не хватает… — Он запнулся на мгновение и потом твердо выговорил: — Инерции. Я ведь только начинаю становиться на линию.
— Что значит становиться на линию? — прервала она его.
— Ну, разбираться, что к чему, — проговорил он.
— Эта фраза ничего не означает, — опять сказала Руфь.
Он решил тогда выразиться иначе:
— Я только теперь начинаю в себе понимать направление.
На этот раз она из жалости промолчала, и он продолжал:
— Наука представляется мне штурманской рубкой, где хранятся морские карты. Когда я прихожу в библиотеку, я об этом всегда думаю. Дело учителя — познакомить ученика со всеми картами по порядку. Вот и все. Он вроде проводника. Он ничего не может выдумать из головы. Он ничего нового не создает. На картах все есть, и он только должен показать новичку, где что лежит, чтобы тот не заплутался. А я не заплутаюсь. Я умею распознавать местность. И обычно соображаю, чего делать. Опять не так что-нибудь?
— Не «чего делать», а «что делать», — сказала Руфь.
— Верно, что делать, — повторил он с благодарностью. — О чем это я? Да, о морских картах. Ну, так вот: иным людя´м…
— Лю`дям, — поправила она опять.
— Иным людям нужны проводники. Это так. А мне вот кажется, что я могу обойтись и без них. Я уже довольно повертелся возле этих карт и знаю, которые мне нужны, и какие берега мне исследовать, я тоже знаю. Один я гораздо скорее исследую их. Скорость флота меряется всегда по скорости самого тихоходного судна. Ну вот, то же самое и со школой. Учителя должны равняться по отстающим ученикам, а я один могу идти быстрее.
— «Тот всех быстрей идет вперед, кто в путь идет один», — процитировала она.
«Но я бы желал идти не один, а с вами», — чуть не выпалил он в ответ. Перед ним возникла величественная картина безграничных, озаренных солнцем пространств и звездных путей по которым он летит рука об руку с нею, и ее бледно-золотые волосы, развеваясь, касаются его щеки. И тотчас же он почувствовал все свое словесное бессилие. Боже правый! Если бы он мог рассказать ей обо всем так, чтобы и она увидела то, что сейчас видел он! Как острая боль, пронзило его страстное, непреодолимое желание нарисовать ей те видения, которые возникли так неожиданно в зеркале его мысли. И вдруг он понял! Так вот ключ к тайне! Ведь именно это и делают великие мастера поэты и писатели! В этом их величие. Они умеют передать словами все то, что видят, думают и чувствуют. Собака, дремлющая на солнце, часто повизгивает и лает во сне, но она не может объяснить, что заставляло ее визжать и лаять! Вот и он — собака, уснувшая на солнцепеке; он тоже видит чудесные, сказочные сны, но бессилен передать их Руфи. Но теперь довольно спать. Он будет учиться, будет работать до тех пор, пока у него не откроются глаза и не развяжется язык, пока он не сможет поделиться с ней сказочным сокровищем своих видений. Есть же люди, которые владеют тайной выражения мыслей, умеют делать слова своими послушными рабами, сочетать их так, что возникает нечто новое, и это новое больше, чем простая сумма отдельных значений. Он был глубоко потрясен мыслью, что проник на мгновение в тайну, давно его мучившую, и опять перед ним засияли солнечные и звездные пространства. Наконец он пришел в себя, пораженный наступившей тишиной, и увидел, что Руфь смотрит на него с веселой улыбкой.
— Я только что грезил наяву, — сказал Мартин, и при этих словах его сердце сильно забилось.
Как нашел он такие слова? Они правильно объяснили, почему он замолчал. Это было чудо! Никогда он так прекрасно не выражал прекрасных мыслей. Но ведь он никогда и не пробовал. Ну, конечно. Теперь все ясно. Он не пробовал. Суинберн, Теннисон [10], Киплинг и другие великие поэты — они пробовали, и у них выходило. Ему вспомнились его «Ловцы жемчуга». Он ведь никогда не пытался изобразить словами ту красоту, которая жила в нем. Если бы он сделал это, рассказ был бы совершенно иным. Ему стало почти страшно при мысли о том, сколько прекрасного он мог бы описать; а воображение несло его дальше, и он вдруг подумал: почему бы ему не выразить всю волновавшую его красоту в стихах, звучных, благородных стихах, как это делают великие поэты? Выразить хотя бы его любовь к Руфи, таинственную прелесть и высокую духовность этой любви. Почему он не может сделать то, что делают поэты? Они поют о любви. И он будет петь! Черт побери!..
Эти слова, как удар грома, прозвучали в его ушах. Увлеченный мечтами, он произнес их вслух. Кровь бросилась ему в лицо, и он покраснел до корней волос под бронзовым загаром.
— Я… я… простите, пожалуйста, — прошептал он, — я задумался…
— Вы сказали это таким тоном, как говорят: «Я молился», — храбро попробовала она пошутить, но внутри у нее все дрожало.
В первый раз в жизни Руфь услышала брань в устах знакомого ей человека и была глубоко потрясена, не только потому, что это оскорбило ее слух и чувство благопристойности, — ее испугал резкий порыв ветра, ворвавшийся вдруг в заботливо укрытую теплицу ее девичества.
И все же она простила его и сама удивилась своей снисходительности. Его почему-то было нетрудно прощать. Жизнь не дала ему многого, что давала другим, но он старался наверстать упущенное и уже достиг больших успехов. Ей не приходило в голову, что есть и другие причины, еще проще объясняющие ее снисходительность. Она испытывала к нему настоящую нежность, но сама не догадывалась об этом. Да она и не могла догадаться. Она спокойно прожила свои двадцать четыре года, ни разу не испытав даже легкого любовного увлечения, не умела разбираться в своих чувствах и, до сих пор ни разу не согретая любовью, не понимала, что это любовь согревает ее теперь.
Глава одиннадцатая
Мартин снова принялся за своих «Ловцов жемчуга» и, вероятно, очень скоро кончил бы их, если бы его не отвлекало желание писать стихи. Это были любовные стихи, вдохновительницей которых являлась Руфь. Но ни одного стихотворения он не мог закончить. Нельзя овладеть в такой короткий срок благородным искусством поэзии. Ритм, метр, общая структура стиха сами по себе представляли достаточные сложности, но, помимо всего этого, было еще нечто неуловимое, что он находил в стихах великих поэтов, но чего никак не мог вложить в свои собственные. То был дух поэзии, который никак не давался ему. Мартину он представлялся каким-то сиянием, вьющейся радужной дымкой, которая всегда разлеталась у него под руками, и в лучшем случае ему удавалось поймать лишь клочья, сложить отдельные красивые строки, которые звучали в мозгу, как музыка, или проносились перед глазами призрачными видениями. Это было мучительно. Прекрасные чувства просились на язык, а выходили прозаические, обыденные фразы. Мартин вслух читал себе свои стихи. Размер был выдержан по всем правилам, с рифмами и с ритмом дело тоже обстояло благополучно, но не было, увы, ни огня, ни истинного вдохновения. Он никак не мог понять, отчего это происходит, и, временами приходя в отчаяние, возвращался к своему очерку. Проза была более послушным инструментом.
После очерка о ловцах жемчуга Мартин написал еще несколько — о профессии моряка, о ловле черепах, о северо-восточном пассате. Затем, в виде опыта, он попробовал написать небольшой сюжетный рассказ и, увлекшись, написал вместо одного целых шесть и разослал их в различные журналы. Он работал напряженно и плодотворно с утра до вечера и даже до глубокой ночи, за исключением тех часов, когда ходил в библиотеку или навещал Руфь. Мартин был в эти дни необычайно счастлив, его жизнь была полна и прекрасна, творческая лихорадка никогда не оставляла его. Радость созидания, которую прежде он считал привилегией богов, теперь и ему была доступна. Все окружавшее его — запах прелых овощей и мыльной воды, расплывшаяся фигура сестры и ехидная физиономия мистера Хиггинботама — все это представлялось каким-то сном. Реальный мир существовал только в его мозгу, и те рассказы, которые он писал, были частицами этого мира.
Дни казались слишком короткими, — уж очень многое ему хотелось узнать. Он сократил время сна до пяти часов и нашел, что этого вполне достаточно. Он даже пробовал спать только четыре с половиной часа, но все же с сожалением должен был вернуться к пятичасовой норме. Все остальное время он с восторгом посвящал своим занятиям, неохотно прерывал писание, чтобы сесть за учебники, откладывал учебники, чтобы пойти в библиотеку, с сожалением покидал штурманскую рубку науки или отрывался от чтения журналов, наполненных рассказами тех писателей, которые каким-то образом сумели пристроить свои произведения. Когда Мартин бывал у Руфи, то всякий раз, чтобы подняться и уйти, ему приходилось словно отрывать ее от своего сердца; а уйдя, он опрометью бежал по темным улицам, чтобы как можно скорее вернуться к книгам. Но труднее всего было закрыть учебник алгебры или физики, отложить в сторону перо и тетрадь и решиться сомкнуть усталые глаза. Выбыть из жизни хотя бы на такой короткий срок казалось Мартину невыносимым, и его утешало лишь сознание, что через пять часов будильник снова разбудит его. Он потеряет только пять часов, а там пронзительный трезвон вырвет его из бесплодного забытья, и перед ним будет снова целых девятнадцать часов работы.
Между тем время шло, деньги у Мартина были на исходе, а гонорары пока что не поступали. Рукопись, отправленную в «Спутник юношества», он через месяц получил обратно. Отказ был написан в очень деликатной форме, так что Мартин даже почувствовал расположение к издателю. Но не то было с «Обозревателем Сан-Франциско». Прождав две недели, Мартин написал туда; еще через неделю написал снова. В конце концов он отправился в редакцию, чтобы лично побеседовать с редактором. Но цербер в образе рыжеволосого юнца, охранявший двери, не допустил его до лицезрения столь значительной особы. В конце пятой недели рукопись была возвращена по почте без всяких объяснений. Не было ни отказа, ни объяснительного письма — ничего. Так же были вскоре возвращены и другие рукописи, посланные им в крупные газеты Сан-Франциско. Тогда Мартин отправил свои творения в журналы восточных штатов, но не успел оглянуться, как получил их все обратно, — правда, каждый раз с печатным уведомлением о невозможности использовать.
Та же судьба постигла и рассказы. Мартин перечел их несколько раз подряд, и они ему так понравились, что он никак не мог понять, почему журналы столь решительно отклоняют их, пока не прочел в одной газете, что рукописи должны быть непременно переписаны на машинке. Все объяснилось. Редакторы, несомненно, были так заняты, что не могли тратить время на изучение неразборчивых почерков. Мартин взял напрокат пишущую машинку и целый день учился писать на ней. Теперь он каждый вечер перепечатывал все, что написал за день, и, кроме того, постепенно перепечатал все свои прежние произведения. Каково же было его изумление, когда и перепечатанное стало возвращаться обратно. Лицо Мартина приняло упрямое выражение, челюсть воинственно выдвинулась вперед, и он упорно продолжал рассылать рукописи все по новым и новым адресам.
Наконец, ему пришло в голову, что самому очень трудно судить о своих произведениях. Он решил испытать их на Гертруде и прочитал ей некоторые свои рассказы. У нее заблестели глаза, и она сказала, с гордостью посмотрев на него:
— А ведь здорово, что ты пишешь такие штуки.
— Да. да, — нетерпеливо перебил он. — Но ты скажи, тебе нравится?
— Господи помилуй! — воскликнула она. — Еще бы не нравилось. Меня так разобрало, что просто страсть!
Но Мартин видел, что не все в его рассказе вполне ясно сестре. Ее добродушное лицо выражало недоумение. Он ждал.
— А скажи-ка, Март, — промолвила она после долгой паузы, — чем же у них дело кончилось? Что ж этот парень, который так ловко чешет языком… что ж — он женился на ней?
И после того как Мартин объяснил ей конец, казавшийся ему вполне понятным из развития сюжета, она промолвила:
— Ну то-то же. Почему ж ты так прямо не написал? Прочтя Гертруде с десяток рассказов, он понял, что ей нравятся только счастливые концы.
— Рассказ хорош, что и говорить, — объявила она, выпрямляясь над корытом и со вздохом вытирая лоб красной, распаренной рукой, — только уж очень от него мне тяжело стало. Плакать захотелось. А кругом и так грустного много. Когда я слушаю про хорошее, мне и самой становится лучше. Вот если бы они поженились, да… Ты не сердишься на меня, Март? — спросила она с тревогой. — Может быть, мне это кажется, потому что я очень устала. А так рассказ — прелесть, ну просто прелесть. Куда ты думаешь пристроить его?
— Это уж другой вопрос, — усмехнулся он.
— Но если б удалось пристроить, сколько бы ты за него получил?
— Да уж сотню долларов, не меньше.
— Ого! Хоть бы ты его в самом деле пристроил!
— Не плохие денежки, а? — И он прибавил с гордостью: — Заметь, я это накатал в два дня. Пятьдесят долларов в день!
Мартину страстно хотелось прочесть свои рассказы Руфи, но он не отважился. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано, — по крайней мере тогда она лучше оценит его старания. Тем временем он продолжал учиться. Ни одно приключение не казалось ему таким заманчивым, как это путешествие по неисследованным дебрям знаний. Он купил учебники физики и химии и наряду с алгеброй изучал физические законы и их доказательства. Экспериментальную часть приходилось принимать на веру, но могучее воображение помогало ему видеть как бы воочию всякие химические реакции, и он понимал их лучше, чем студенты, присутствующие при опытах. Сквозь страницы учебников Мартин начинал постепенно проникать в тайны природы и мира. Раньше он воспринимал мир как нечто данное, теперь он начал понимать его устройство, взаимодействие и соотношение энергии и материи. Его ум постоянно находил теперь объяснение давно знакомым вещам. Рычаги и блоки сразу привели на память лебедки и подъемные краны, с которыми ему приходилось иметь дело на море. Теория навигации, дающая возможность судам не сбиваться с пути в открытом море, стала вдруг простой и понятной; он постиг тайну бурь, дождей, приливов, узнал причину возникновения пассатных ветров и даже подумал, не поторопился ли он со своим очерком о северо-восточном пассате. Во всяком случае, он чувствовал, что теперь мог бы написать его лучше. Однажды он отправился с Артуром в университет и, затаив дух, с чувством религиозного благоговения смотрел на производившиеся в лаборатории опыты и слушал лекцию профессора физики.
Но он не забросил и своих литературных занятий. Очерки и рассказы так и текли из-под его пера, и он еще находил время писать простенькие стихотворения — вроде тех, которые печатались в журналах; потом вдруг закусил удила и в две недели написал белым стихом трагедию, которую, к его изумлению, немедленно забраковали с полдюжины издателей. Однажды, начитавшись Гэнли, он написал цикл стихов о море по образцу «Поэм с больничной койки». Это были простые стихи, светлые и красочные, полные романтики и боевого духа. Мартин назвал их «Песни моря» и решил, что это самое лучшее из всего им написанного. Цикл состоял из тридцати стихотворений; он написал их за месяц по одному в вечер, после целого дня работы над прозой — работы, на которую любой модный писатель затратил бы не меньше недели. Но Мартину такой труд был нипочем. Он даже и не считал это за труд. Просто он обрел дар речи, и все мечты, все мысли о прекрасном, которые долгие годы безгласно жили в нем, хлынули наружу неудержимым, мощным, звенящим потоком. Мартин никому не показал своих «Песен моря» и никуда не послал их. Он потерял доверие к редакторам. Впрочем, не из недоверия воздержался он на этот раз от посылки своего творения. Оно радовало его заключенной в нем красотой, и этой радостью ему хотелось поделиться с одной только Руфью в тот блаженный миг, когда он осмелится наконец прочесть ей свои произведения. А до тех пор он решил держать их при себе, читал и перечитывал вслух, пока наконец не выучил наизусть.
Он интенсивно жил каждое мгновение, когда бодрствовал, и продолжал жить даже во сне; его сознание, протестуя против вынужденного пятичасового бездействия, цеплялось за все передуманное и пережитое в течение дня, рождая невероятные и нелепые грезы. Таким образом, он никогда не отдыхал, и на его месте другой, менее крепкий телом и менее здоровый духом, давно бы свалился с ног. Его свидания с Руфью становились все реже и реже: приближался июнь, а с ним экзамены, которые должны были дать ей университетский диплом. Бакалавр искусств! Когда Мартин думал об этом звании, ему казалось, что Руфь улетает от него на такие высоты, где ему уже не достичь ее.
Один день в неделю Руфь все же посвящала Мартину, и он обычно в этот день оставался у Морзов обедать и после обеда слушал музыку. Это были его праздники. Вся атмосфера дома Морзов была так не похожа на ту, в которой жил Мартин, и близость Руфи так окрыляла его, что всякий раз, возвращаясь домой, он мысленно давал себе клятву достичь этих высот во что бы то ни стало. Несмотря на неуемный пыл творчества и жажду красоты, томившую его, он в конце концов трудился только ради Руфи. Он прежде всего был влюбленным и все остальное подчинял своей любви. Мечта о любви была для него важнее мечты о знании. Мир казался удивительным вовсе не потому, что состоял из молекул и атомов, подчинявшихся действию каких-то таинственных законов, — мир казался удивительным потому, что в нем жила Руфь. Она была чудом, какое никогда раньше не являлось ему даже в мечтах.
Но Мартина все время приводила в уныние мысль о расстоянии между ними. Руфь была бесконечно далека, и он никак не мог придумать, что сделать, чтобы приблизиться к ней. Он всегда пользовался успехом у женщин и девушек своего класса. Но ни одной из них он не любил, а ее полюбил. Дело было не в том, что Руфь принадлежала к другому классу. Его любовь вознесла ее превыше всяких классов. Она была особым существом, настолько отличным от всех, что он не знал даже, как подойти к ней со своей любовью. Правда, теперь, когда он больше знал и лучше умел говорить, она как будто стала ближе, у них появился общий язык, общие темы, вкусы и интересы, но любовная жажда этим не удовлетворялась. Его воображение влюбленного наделило ее такой святостью, такой бесплотной чистотой, что исключило всякую мысль о телесной близости. Сама любовь отнимала у него то, чего он так страстно желал.
И вот в один прекрасный день через бездну, их разделявшую, на мгновение был перекинут мост, и после этого мгновения бездна уже не казалась такой непреодолимой. Они сидели и ели вишни, большие черные вишни, сок которых напоминал терпкое вино. И после, когда она стала читать ему «Принцессу», он заметил следы вишневого сока у нее на губах. На мгновение она перестала быть божеством. Она была созданием из плоти и крови, ее тело было подчинено тем же законам, что и его собственное и тело всякого человека. Ее губы были так же телесны, как и его, и вишни оставляли на них такие же следы. А если таковы были ее губы, то такова была она вся. Она была женщина — женщина, как и всякая другая. Эта мысль поразила его, точно удар грома. Это было для него настоящим откровением. Он словно увидел, как солнце падает с неба, или присутствовал при кощунственном осквернении божества.
Когда Мартин вполне уяснил себе смысл этого открытия, сердце бурно заколотилось у него в груди, побуждая его домогаться любви этой женщины, которая вовсе не была духом, слетевшим с неба, а обыкновенной женщиной, с губами, запачканными вишневым соком. Он содрогнулся от этих дерзких мыслей, но голос разума и голос сердца, сливаясь в победном гимне, твердили ему, что он прав. Должно быть, Руфь почувствовала эту внезапную перемену в настроении Мартина, так как вдруг перестала читать, взглянула на него и улыбнулась. Его взгляд скользнул по ее лицу от голубых глаз к губам, где виднелся след вишневого сока — небольшое пятнышко, сводившее его с ума. Его руки готовы были протянуться к ней, как часто тянулись к другим женщинам в дни его прежней беспутной жизни. А она как будто ждала, слегка склонясь к нему, и Мартину пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержаться.
— Вы не слышали ни одного слова, — сказала она обиженно.
И тут же улыбнулась ему, наслаждаясь его смущением. Мартин взглянул в ее ясные глаза и понял, что она ничуть не догадывалась о том, что в нем происходило, и ему стало стыдно. В мыслях он посмел слишком далеко зайти. Всякая другая женщина догадалась бы — всякая, кроме Руфи. А она не догадалась. Вот тут-то и заключалась разница! Она была не такая, как все! Мартин смотрел не нее, совершенно уничтоженный сознанием своей грубости и ее невинности, и снова между ними разверзлась бездна. Мост был разрушен.
И все-таки этот случай приблизил его к ней. Воспоминание о нем не исчезло и утешало Мартина в моменты разочарований и сомнений. Бездна уже не была так непреодолима, как прежде. Он проделал путь куда больший, чем тот, что давал право на звание бакалавра искусств. Правда, она была чиста, так чиста, что раньше он даже и не знал о существовании такой чистоты. Но вишни оставляли пятна у нее на губах. Она была подчинена физическим законам, как и все в мире, она должна была есть, чтобы жить, и могла простуживаться и хворать. Но не это было важно. Важно было то, что она могла испытывать голод и жажду, страдать от зноя и холода, а стало быть — могла чувствовать и любовь, любовь к мужчине. А он был мужчина! Почему бы в таком случае ему не стать ее избранником? «Я добьюсь счастья, — шептал он лихорадочно. — Я стану им! Сумею стать. Я добьюсь счастья!»
Глава двенадцатая
Однажды вечером, когда Мартин мучился над сонетом, в который тщетно старался вложить прекрасные, но туманные образы, теснившиеся в его мозгу, его вызвали к телефону.
— Тебя дама спрашивает. По голосу слышно, что настоящая дама, — сказал насмешливо мистер Хиггинботам.
Мартин подошел к телефону, находившемуся в углу, и горячая волна словно захлестнула его, когда он услышал голос Руфи. Возясь со своим сонетом, он забыл о ее существовании, но при звуке знакомого голоса любовь пронзила его с новой силой, сокрушительной, как удар молнии. Какой это был голос! Нежный и мелодичный, словно далекая музыка, словно звон серебряных колокольчиков кристальной чистоты! Нет! Не могла обыкновенная, смертная женщина обладать таким голосом. В нем было что-то небесное, что-то не от мира сего. Поддавшись наплыву чувств, Мартин едва мог разобрать, что Руфь ему говорила, хотя старался внешне сохранить спокойствие, зная, что мышиные глазки мистера Хиггинботама так и впиваются в него.
Никакого дела к нему у Руфи не было; просто она собиралась сегодня вечером на публичную лекцию с Норманом, но у Нормана — такая досада! — началась мигрень, а поскольку билеты уже взяты, то не хочет ли Мартин пойти с нею, если он не занят.
Если он не занят! Мартин едва мог скрыть дрожь в голосе. Он не верил своим ушам! До сих пор он встречался с Руфью только у них дома и ни разу не осмеливался пригласить ее куда-нибудь! Стоя с телефонной трубкой в руке, он вдруг почувствовал непреоборимое желание умереть за нее, и перед его мысленным взором возникли героические образы, сцены самопожертвования во имя любви. Он любил ее так сильно, так страшно, так безнадежно. Его охватила такая сумасшедшая радость при мысли, что она пойдет на лекцию с ним, с Мартином Иденом, что ему захотелось тут же умереть за нее. Ничего лучшего он не мог придумать. Это было единственное, чем он мог доказать свое безграничное и бескорыстное чувство. Это был великий порыв самоотречения, знакомый каждому истинно влюбленному, и он подхватил Мартина, точно огненный вихрь, во время короткого разговора по телефону. Умереть за нее, думал он, это значило бы, что он жил и любил по-настоящему. А ему было всего двадцать один год, и это была его первая любовь!
Дрожащей рукой Мартин повесил трубку, обессилев после только что пережитого потрясения. Глаза у него сияли каким-то ангельским светом, лицо преобразилось, точно он очистился от земной скверны и стал святым и безгрешным.
— Свидание на стороне, а? — ехидно прошипел зять. — А знаешь, чем это кончается? Как раз угодишь в полицейский суд, голубчик мой.
Но Мартин не мог сразу спуститься с высот. Даже эти гнусные намеки не могли вернуть его на землю. Он был выше и гнева и раздражения. Он еще весь был во власти прекрасного видения и, точно божество, не мог испытывать к ничтожным созданиям, вроде зятя, ничего, кроме жалости. Он и не замечал мистера Хиггинботама, его глаза смотрели сквозь него, и, как во сне, он вышел из комнаты, чтобы переодеться. Только когда он уже завязывал галстук перед своим зеркальцем, до его сознания дошел какой-то раздражающий звук. Это было застрявшее у него в ушах глупое гоготание Бернарда Хиггинботама, которое он словно сейчас только услыхал.
Когда дверь дома Морзов закрылась за ними и Мартин стал спускаться со ступенек крыльца вместе с Руфью, он вдруг почувствовал замешательство. Радость этой прогулки омрачилась непредвиденными сомнениями. Он не знал, как держать себя. Он не раз видал, что люди ее круга, выходя на улицу, берут даму под руку. Но это бывало не всегда, и он не знал, принято ли ходить под руку только по вечерам или, быть может, так ходят лишь мужья с женами или братья с сестрами.
Ставя ногу на последнюю ступеньку, он вдруг вспомнил Минни. Минни была большая модница, и при второй встрече она сделала ему выговор за то, что он шел с внутренней стороны тротуара, тогда как истинный джентльмен, прогуливаясь с дамой, должен идти всегда с внешней стороны. И Минни завела манеру наступать ему на ноги, когда они переходили улицу, чтобы он не забывал держаться внешней стороны. Но он не знал, откуда она выкопала такое правило и в самом ли деле так принято в высшем обществе.
В конце концов Мартин решил, что беды от этого, во всяком случае, не будет, и, выйдя на улицу, он пропустил Руфь вперед, а сам пошел рядом, с внешней стороны тротуара. Но тут возникла вторая проблема: нужно ли предложить ей руку? До сих пор он никогда не предлагал руку спутнице. Девушки, с которыми он привык иметь дело, не гуляли с кавалерами под руку. В начале знакомства девушка обычно просто ходила рядом, а позже старалась выбирать темные переулки и шла, положив голову на плечо спутника, который при этом обнимал ее за талию. Но здесь дело обстояло иначе. Руфь была совсем не такая, как те девушки. И Мартин не знал, как ему быть.
Ему пришло в голову слегка согнуть свою правую руку, как будто случайно, по привычке. И тут произошло чудо. Мартин почувствовал, как ее рука легла на его руку. Сладостная дрожь пронизала его, и несколько мгновений ему казалось, что ноги его отделились от земли, а за спиной выросли крылья. Но новое осложнение вернуло его к действительности. Они перешли улицу, и теперь он очутился не с внешней, а с внутренней стороны тротуара. Что же теперь делать? Выпустить ее руку и переменить место? А что делать, когда им придется переходить улицу вторично? И в третий раз? Что-то было тут не совсем ясно, и Мартин решил, что не будет валять дурака, прыгая взад и вперед. Но такое решение не вполне удовлетворяло его, и, очутившись с внутренней стороны, он начал быстро и с увлечением говорить о чем-то. Пусть в случае чего она думает, что в пылу беседы он просто забыл перейти на другую сторону.
На Бродвее Мартина ожидало новое испытание. При свете уличных фонарей он вдруг увидел Лиззи Конолли и ее смешливую подругу. На одно, только одно мгновение он заколебался, но тотчас же снял шляпу и поклонился. Он не намерен был стыдиться своей среды, и его поклон относился не только к Лиззи Конолли. Девушка кивнула в ответ, быстро глянув на него красивыми, задорно блестящими глазами, так не похожими на светлые и ясные глаза Руфи. Она оглядела Руфь и сразу, по-видимому, оценила ее наружность и платье и угадала ее положение в обществе. Мартин заметил, что и Руфь бросила на девушку ответный взгляд, и этот взгляд, мимолетный и исполненный голубиной кротости, все же успел отметить дешевый наряд и затейливую шляпку, какими любили щеголять молодые работницы.
— Какая красивая девушка, — сказала Руфь минуту спустя.
Мартин готов был благословить ее за эту фразу, но сказал только:
— Не знаю. Дело вкуса, должно быть; я не нахожу ее особенно красивой.
— Ну, что вы! Такие правильные черты встречаются один раз на тысячу. У нее лицо, точно камея. И глаза чудесные!
— Вы находите? — равнодушно сказал Мартин, ибо для него существовала на свете только одна красивая женщина, и она шла рядом с ним, опираясь на его руку.
— Если б эту девушку одеть как следует и научить ее держаться, уверяю вас, она покорила бы всех мужчин и вас в том числе, мистер Иден.
— Прежде всего нужно было бы научить ее правильно говорить, — отвечал он, — а то большинство мужчин и не поняли бы ее. Я уверен, что вы и половины не поняли бы из ее речи, если б она говорила так, как привыкла.
— Глупости! Вы так же упрямы, как Артур, когда хотите доказать что-нибудь.
— А вы забыли, как я говорил, когда мы встретились первый раз? Сейчас я говорю совсем иначе. Я тогда говорил так же, как эта девушка. Но за это время я кое-чему выучился и могу утверждать понятным для вас языком, что ее язык для вас не понятен. Вот вы обратили внимание, что она некрасиво держится. А знаете, почему? Я ведь теперь все время думаю о таких вещах, которые раньше мне и в голову не приходили, — и я многое начинаю понимать.
— Почему же она так держится?
— Она уже несколько лет работает на фабрике. Молодое тело податливо, как воск, и тяжелый труд формирует его; оно невольно привыкает к положению, удобному для данной работы. Я с одного взгляда могу определить, чем занимается рабочий, которого я встретил на улице. Посмотрите на меня. Почему я так раскачиваюсь при ходьбе? Да потому, что я почти всю жизнь провел на море. Если бы все эти годы я был не матросом, а ковбоем, я бы не ходил враскачку, но у меня были бы кривые ноги. Вот и с этой девушкой так. Вы заметили, какой у нее, если можно так выразиться, жесткий взгляд? Ведь она никогда не жила под чьим-нибудь крылышком. Она все время сама должна думать о себе, а когда девушке приходится самой о себе думать и заботиться, у нее не может быть такого нежного, кроткого взгляда, как… как у вас, например.
— Вы, пожалуй, правы, — тихо сказала Руфь. — Как это ужасно! Она такая красивая…
Мартин, взглянув на нее, увидел, что в ее глазах светится сострадание. И тут же он подумал о том, как он любит ее и какое необычайное счастье выпало ему — любить ее и идти с нею вдвоем, под руку, направляясь на лекцию.
«Кто ты такой, Мартин Иден? — спрашивал он себя в этот вечер, вернувшись домой и глядя на себя в зеркало. Он глядел долго и с любопытством. — Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место подле такой девушки, как Лиззи Конолли. Твое место среди миллионов людей труда — там, где все вульгарно, грубо и некрасиво. Твое место в хлеву, на конюшне, среди грязи и навоза. Чувствуешь запах прели? Это гниет картофель. Нюхай же, черт тебя побери, нюхай хорошенько! А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем не думает никто из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Конолли и любить девушку, которая неизмеримо далека от тебя и живет среди звезд! Кто ты и что ты, черт тебя возьми! Добьешься ли ты того, к чему стремишься?»
Он погрозил себе в зеркале кулаком и сел на край кровати, глядя перед собой широко открытыми, невидящими глазами. Потом немного спустя достал свою тетрадку, учебник алгебры и углубился в квадратные уравнения. А часы летели, меркли звезды, и за окном серели уже предрассветные сумерки.
Глава тринадцатая
Кружок словоохотливых социалистов и философов из рабочих, который собирался в Сити-Холл-парке в жаркие дни, случайно натолкнул Мартина на одно великое открытие. Раза два в месяц, проезжая через парк по пути в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, прислушивался к спорам, и всякий раз ему стоило труда оторваться от них. Общий тон этих дискуссий был иной, чем за столом мистера Морза. Спорщики не были важными и преисполненными достоинства. Они давали волю своему темпераменту и осыпали друг друга обидными прозвищами, ругательствами и ядовитыми намеками. Раза два дело доходило до потасовки. И все же, не отдавая себе ясного отчета — почему, Мартин чувствовал какую-то живую основу во всех этих словопрениях; они сильнее действовали на него, чем спокойный и уравновешенный догматизм мистера Морза. В этих людях, которые немилосердно коверкали английский язык, жестикулировали, как помешанные, и с первобытной яростью нападали на своих противников, — в них, казалось ему, было куда больше жизни, чем в мистере Морзе и его друге мистере Бэтлере.
На сборищах в парке Мартин несколько раз слышал имя Герберта Спенсера [11], но вот однажды появился там его ученик и последователь, жалкий бродяга в рваной куртке, застегнутой наглухо, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Началось генеральное сражение в дыму бесконечных папирос, среди беспрестанно сплевываемой табачной жвачки, причем бродяга ловко парировал все удары, даже когда один из рабочих-социалистов крикнул насмешливо: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его!» Мартин не мог уяснить себе, о чем идет спор, но он заинтересовался Гербертом Спенсером и, явившись в библиотеку, спросил «Основные начала», так как бродяга в разгаре спора часто упоминал это сочинение.
И это было начало великого открытия. Мартин уже однажды пытался читать Спенсера, но он выбрал «Основы психологии» и потерпел фиаско, так же как и с госпожой Блаватской. Он ничего не мог понять в этой книге я вернул ее непрочитанной. Но в этот вечер, после алгебры и физики и долгой борьбы с сонетом, он лег в постель и раскрыл «Основные начала». Утро застало его еще за чтением. Спать он не мог. В этот день он даже не писал. Он лежал и читал до тех пор, пока у него не заболели бока; тогда он слез с постели, улегся на голый пол и продолжал читать, держа книгу над головой или облокотясь на руку. Следующую ночь он все-таки уснул и утром уселся писать, но соблазн был так велик, что вскоре он снова принялся за чтение, позабыв все на свете, даже то, что в этот вечер он должен был пойти к Руфи. Он опомнился только тогда, когда Бернард Хиггинботам распахнул дверь и спросил, не думает ли он, что у них тут ресторан.
Мартин Иден всегда отличался любознательностью. Он хотел все знать и отчасти из-за этого увлекся профессией всесветного бродяги-моряка. Но теперь, читая Спенсера, он понял, что не знает ничего, что никогда ничего и не узнал бы, сколько бы ни странствовал по морям. Он лишь скользил по поверхности вещей, наблюдая разрозненные явления, накопляя отдельные факты, делая иногда небольшие частные обобщения, — все это без всякой попытки установить связь, привести в систему мир, который представлялся ему прихотливым сцеплением случайностей. Наблюдая летящих птиц, он часто размышлял над механизмом их полета; но ни разу он не задумался о том процессе развития, который привел к появлению живых летающих существ. Он даже и не подозревал о существовании такого процесса. Что птицы могли «появиться», не приходило ему в голову. Они «были» — вот и все, были всегда.
И как обстояло дело с птицами, так обстояло и со всем остальным. Все его попытки философских умозаключений были обречены на неудачу из-за отсутствия знаний и навыка мысли. Средневековая метафизика Канта ничего не открыла ему, а лишь заставила усомниться в своих умственных силах. Такую же неудачу он потерпел, начав изучать теорию эволюции по слишком специальной книге Роменса [12]. Единственное, что он вынес из этого чтения, — это представление об эволюции как о беспочвенной теоретической выдумке сухих педантов, изъясняющихся тарабарским языком. А теперь он увидал, что это вовсе не голая теория, но общепризнанный закон развития; что если между учеными и возникают еще по этому поводу споры, то лишь по частным вопросам о формах эволюции.
И вот явился человек — Спенсер, который привел все это в систему, объединил, сделал выводы и представил изумленному взору Мартина конкретный и упорядоченный мир во всех деталях и с полной наглядностью, как те маленькие модели кораблей в стеклянных банках, которые мастерят на досуге матросы. Не было тут ни неожиданностей, ни случайностей. Во всем был закон. Подчиняясь этому закону, птица летала; подчиняясь тому же закону, бесформенная плазма стала двигаться, извиваться, у нее выросли крылья и лапки — и появилась на свет птица.
Мартин в своей умственной жизни шел от одной вершины к другой и теперь достиг самой высокой. Он вдруг проник в тайную сущность вещей, и познание опьянило его. Ночью, во сне, он жил среди богов, преследуемый величественными видениями. Днем бродил, как лунатик, и перед его блуждающим взором был только тот мир, который открыл ему Спенсер. За столом во время обеда он не слышал разговоров и споров о разных житейских мелочах, так как ум его все время напряженно работал, вскрывая причинную связь во всем, что он видел. В мясе, лежащем на тарелке, он прозревал энергию солнечных лучей, и в обратном порядке, через все превращения, прослеживал их путь до первоисточника, отстоящего на миллионы миль, или же мысленно продолжал этот путь и думал о той силе, которая движет мускулы его руки, заставляя ее резать мясо, и о мозге, посылающем приказание мускулам, так что в конечном счете находил в своем мозге ту же энергию солнечных лучей. Мартин настолько ушел в свои мысли, что не слыхал, как Джим пробормотал: «Спятил парень», — не замечал тревожных взглядов сестры и не обращал внимания на Бернарда Хиггинботама, который уже несколько раз выразительно покрутил пальцем около своего лба.
Больше всего поразила Мартина взаимосвязь между науками — всеми науками. Он всегда был жаден до знаний, но те знания, которые ему удавалось приобрести, откладывались у него как бы в отдельные клетки памяти. Так, в одной клетке скопилось много отрывочных сведений о мореплавании, в другой — о женщинах. Но эти две клетки никак не сообщались между собой. Мысль, что можно установить связь между женщиной в истерике и судном, подхваченным бурей, показалась бы Мартину нелепой и невозможной. Но Герберт Спенсер доказал ему не только, что в этом нет ничего нелепого, но что, напротив, между этими двумя явлениями не может не быть связи. Все связано в мире, от самой далекой звезды в небесных просторах и до мельчайшего атома в песчинке под ногой человека.
Для Мартина это было постоянным источником изумления, и он теперь все время был занят тем, что старался устанавливать связь вещей и явлений на этой планете — да и не только на этой. Он составлял целые списки самых разнородных вещей и не успокаивался до тех пор, пока не находил между ними связи. Так, оказалось, что существует связь между любовью, поэзией, землетрясениями, огнем, гремучими змеями, радугой, драгоценными камнями, уродством, солнечными закатами, львиным рыком, светильным газом, каннибализмом, красотою, убийством, рычагами, точкой опоры и табаком. Теперь вселенная предстала перед ним как единое целое, и он странствовал по ее закоулкам, тупикам и дебрям не как заблудившийся путник, сквозь таинственную чащу продирающийся к неведомой цели, а как опытный путешественник-наблюдатель, старающийся ничего не упустить из виду и все заносящий на карту. И чем больше он узнавал, тем больше восхищался миром и собственной жизнью в этом мире.
— Эх ты болван! — кричал он своему изображению в зеркале. — Тебе хотелось писать, и ты писал, а писать-то было не о чем! Ну что у тебя было? Детские понятия, недозрелые чувства, смутное представление о красоте, огромная черная масса невежества, сердце, готовое разорваться от любви, да самолюбие, такое же огромное, как твоя любовь, и такое же безнадежное, как твое невежество. И ты хотел писать? Но ведь только теперь ты начинаешь находить, о чем писать. Ты хотел создавать красоту, а сам ничего не знал о природе красоты. Ты хотел писать о жизни, а сам не имел понятия о ее сущности. Ты хотел писать о мире, а мир был для тебя китайской головоломкой; и что бы ты ни писал, ты бы только лишний раз расписался в своем невежестве. Но не падай духом, Мартин, мой мальчик! Ты еще будешь писать. Ты уже кое-что знаешь; правда, еще очень мало, но ты теперь держишь правильный курс и скоро будешь знать больше. Если тебе повезет, то когда-нибудь ты узнаешь почти все, что можно узнать. И вот тогда ты будешь писать!
Он сообщил Руфи о своем великом открытии, чувствуя потребность поделиться с ней своей радостью и удивлением. Но она отнеслась к этому очень спокойно, так как, по-видимому, знала все это раньше. И его не удивило такое бесстрастное отношение к тому, что так взбудоражило все его существо, — он понимал, что для нее тут нет ничего нового. Артур и Норман, как удалось ему выяснить, были сторонниками эволюционной теории, и оба читали Герберта Спенсера, хотя на них он, по-видимому, не произвел такого ошеломляющего впечатления; а лохматый молодой человек в очках, которого звали Вилл Олни, язвительно засмеялся при упоминании имени Спенсера и повторил уже слышанную Мартином остроту: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его».
Но Мартин простил ему эту насмешку, так как уже начал догадываться, что Олни вовсе не влюблен в Руфь. Впоследствии по разным мелким фактам он убедился, что Олни не только не влюблен в нее, но относится к ней с явною неприязнью. Мартину это казалось непонятным. Это был феномен, который он никак не мог связать с прочими явлениями вселенной. Ему даже стало жаль этого юношу, которому, очевидно, какой-то природный недостаток мешал оценить прелесть и красоту Руфи. Они очень часто по воскресеньям все вместе катались на велосипедах, и Мартин убедился во время этих поездок, что Руфь и Олни находятся в состоянии вооруженного мира. Олни больше дружил с Норманом, предоставляя Руфь, Артура и Мартина обществу друг друга, за что Мартин был ему очень благодарен.
Эти воскресенья были для Мартина праздниками вдвойне, потому что они давали ему возможность встречаться с Руфью, а кроме того, ставили его в один ряд с молодыми людьми ее класса. Хотя эти люди и получили систематическое образование, Мартин видел, что в умственном отношении он не уступает им; разговор же с ними был для него, Мартина, прекрасной практикой устной речи. Он давно перестал читать руководства по правилам поведения в обществе, решив положиться на свою наблюдательность. За исключением тех случаев, когда он забывал обо всем, увлекшись предметом разговора, он всегда внимательно следил за поведением своих спутников, стараясь запомнить разные мелочи в их обращении друг с другом.
То обстоятельство, что Спенсера вообще очень мало читали, изумляло Мартина. «Герберт Спенсер, — сказал библиотекарь в справочном отделе, — о, это великий ум». Но, по-видимому, сам библиотекарь очень мало знал о творениях великого ума. Однажды за обедом у Морзов, в присутствии мистера Бэтлера, Мартин завел разговор о Спенсере. Мистер Морз резко осудил агностицизм английского философа, сознавшись, впрочем, что не читал «Основных начал», а мистер Бэтлер объявил, что Спенсер нагоняет на него тоску, что он не прочел ни строчки из его сочинений и отлично обходится без этого. Мартина стали одолевать сомнения, и не будь он так резко самобытен, он, пожалуй, подчинился бы общему мнению и отказался от дальнейшего знакомства со Спенсером. Но взгляды Спенсера на мир казались ему необычайно убедительными, и отказаться от них было для него все равно, что для мореплавателя выбросить за борт компас и карты. Поэтому Мартин продолжал изучать теорию эволюции, все более и более овладевая предметом и находя подтверждение взглядов Спенсера у тысячи других писателей. Чем дальше он шел в своих занятиях, тем больше открывалось перед ним неисследованных областей знания, и он все чаще сожалел, что в сутках всего двадцать четыре часа.
Однажды, в погоне за временем, он решил бросить алгебру и геометрию. К тригонометрии он даже и не приступал. Потом он вычеркнул из своего расписания и химию, оставив лишь физику.
— Я же не специалист, — сказал он Руфи в свое оправдание, — и я не собираюсь стать специалистом. Ведь наук так много, что одному человеку не хватит жизни изучить их все. Я хочу получить общее образование. Когда мне понадобятся специальные знания, я могу обратиться к книгам.
— Но это совсем не то, что самому обладать этими знаниями, — возразила она.
— А зачем нужно ими обладать? Мы всегда пользуемся трудами специалистов. Для того они и существуют. Вот сегодня, входя к вам в дом, я видел, что у вас работают трубочисты. Они тоже специалисты, и когда они сделают свое дело, вы будете пользоваться вычищенными трубами, даже и не зная ничего о строении печей.
— Ну, это явная натяжка!
Она посмотрела на него неодобрительно, и он прочел упрек в ее взгляде и тоне. Но он был убежден в своей правоте.
— Все мыслители, задумывавшиеся над общими проблемами, все величайшие умы фактически всегда полагались в отдельных вопросах на суждения специалистов. И Герберт Спенсер поступал точно так же. Он обобщал открытия многих тысяч исследователей. Ему надо было бы прожить тысячи жизней, чтобы дойти до всего самому. То же самое было с Дарвином. Он использовал то, что было изучено садовниками и скотоводами.
— Вы правы, Мартин, — сказал Олни, — вы знаете, что вам нужно, а Руфь не знает. Она не знает даже, что ей самой нужно. Да, да, — продолжал он, не давая Руфи времени возразить. — Я знаю, вы называете это общей культурой. Но если добиваться этой общей культуры, то не все ли равно, что изучать? Вы можете изучать французский язык, можете изучать немецкий или эсперанто, — вы все равно приобретете так называемую «общую культуру». Или займитесь латынью и греческим, — правда, ни тот, ни другой язык вам никогда не пригодится, но культуру это вам, несомненно, даст. Изучала же Руфь два года назад староанглийский язык, и даже очень успешно, а теперь ничего не помнит, кроме одной строчки: «Когда апрель обильными дождями». Так, кажется? И это дало вам «общую культуру», — засмеялся он, опять не давая ей возможности возразить, — знаю, знаю. Мы ведь с вами были на одном курсе.
— Вы так говорите о культуре, как будто это средство, а не цель! — воскликнула Руфь. Глаза ее засверкали, а на щеках выступили два красных пятна. — Культура самоценна!
— Но Мартину не это нужно.
— А вы откуда знаете?
— Что вам нужно, Мартин? — спросил Олни, круто поворачиваясь к нему.
Мартин почувствовал себя крайне неловко и умоляюще поглядел на Руфь.
— Да, скажите, что вам нужно, — сказала Руфь. — Это разрешит наш спор.
— Конечно, мне нужна культура, — сказал Мартин нерешительно. — Я люблю красоту, а культура дает мне возможность лучше понять и оценить ее.
Руфь кивнула головой с торжествующим видом.
— Чепуха! И вы сами это прекрасно знаете, — объявил Олни. — Мартин добивается карьеры, а не культуры. То, что в его случае карьера связана с культурой, — простое совпадение. Если бы он хотел стать химиком, культура была бы ему ни к чему. Мартин хочет стать писателем, но боится сказать это, чтобы вы не потерпели фиаско в нашем споре. А почему Мартин хочет стать писателем? — продолжал он. — Потому что у него нет денег. Почему вы забивали себе голову староанглийским языком и всей этой вашей «общей культурой»? Да потому, что вам не надо пробивать себе дороги. Об этом заботится ваш отец. Он платит за ваши наряды, он сделает для вас и все остальное. Что проку в том образовании, которое мы все получили — и вы, и я, и Артур, и Норман? Мы напичканы «общей культурой», а разорись завтра наши отцы — нам только и осталось бы, пожалуй, что держать экзамен на школьного учителя. Самое большее, на что Руфь могла бы тогда рассчитывать, — это стать сельской учительницей или преподавательницей музыки в женском пансионе.
— А вы бы что делали? — спросила Руфь.
— Ничего путного. Пошел бы на черную работу доллара за полтора в день или рискнул бы наняться репетитором в заведении Хэнли, натаскивать тупиц к экзаменам; говорю: «рискнул бы», потому что через неделю меня бы, вероятно, выгнали за полной негодностью.
Мартин молча прислушивался к разговору; он чувствовал, что Олни прав, но в то же время осуждал его за бесцеремонность по отношению к Руфи. В его голове во время этого спора складывались новые взгляды на любовь. Разум не должен вмешиваться в любовные дела. Правильно рассуждает любимая женщина или неправильно — это безразлично. Любовь выше разума. Руфь, очевидно, не понимала, как важна для него карьера, но от этого она, разумеется, не стала менее прелестной. Она была прелестна, и то, что она думала, не имело никакого отношения к ее прелести.
— Что вы сказали? — переспросил он Олни, который неожиданным вопросом прервал течение его мыслей.
— Я спросил, неужели у вас хватит глупости взяться за изучение латыни.
— Латынь не только дает культуру, — прервала Руфь, — это тренировка ума.
— Ну, так как же, Мартин, будете вы изучать латынь? — настаивал Олни.
Мартин был прижат к стене. Он видел, что Руфь с нетерпением ждет его ответа.
— Боюсь, что у меня не хватит времени, — ответил он наконец. — Я бы стал изучать, но у меня не хватит времени.
— Видите, Мартину вовсе не нужна ваша «общая культура»! — торжествовал Олни. — Он хочет чего-то добиться в жизни, выйти в люди.
— Да, но ведь это же тренировка ума, это дисциплина! Латынь дисциплинирует ум! — При этих словах Руфь посмотрела на Мартина, словно прося его переменить свое суждение. — Вы видели, как футболисты тренируются перед игрою? То же самое латынь для мыслителей. Это тренировка.
— Какой вздор! Это нам в детстве вбивали в голову! Но есть одна истина, которую забыли нам внушить своевременно. Пришлось доходить до нее своим умом. — Олни сделал паузу для вящего эффекта и сказал торжественно: — Джентльмену следует изучать латынь, но джентльмену не следует ее знать.
— Это нечестно! — вскричала Руфь. — Я так и знала, что вы сведете весь разговор к шутке.
— Но согласитесь, что шутка остроумна! — возразил он. — И к тому же это верно. Единственные люди, которые знают латынь, — это аптекари, адвокаты и преподаватели латыни. Если Мартин хочет стать аптекарем или адвокатом, я умолкаю. Но тогда при чем тут Герберт Спенсер? Мартин только что открыл Спенсера и пришел от него в дикий восторг. Почему? Потому что Спенсер дает ему что-то. Вам Спенсер ничего не может дать и мне тоже. Да нам ничего и не нужно. Вы в один прекрасный день выйдете замуж, а мне вообще нечего будет делать, так как все за меня будут делать разные поверенные и управляющие, которые позаботятся о капитале, который я получу от отца.
Олни направился было к двери, но, остановившись, выпустил свой последний заряд:
— Оставьте Мартина в покое, Руфь. Он сам прекрасно знает, что ему нужно. Посмотрите, как многого он уже сумел добиться. Иногда я краснею и стыжусь за себя. Он и сейчас знает о жизни и о назначении человека куда больше, чем Артур, Норман, я или вы, несмотря на всю нашу латынь, французский и староанглийский, несмотря на всю нашу так называемую культуру.
— Но Руфь моя учительница, — рыцарски возразил Мартин, — если я и знаю что-нибудь, то только благодаря ей.
— Чепуха! — Олни посмотрел на Руфь с каким-то недоброжелательством. — Вы еще скажете, что стали читать Спенсера по ее совету. Так я и поверил! Руфь знает о Дарвине и об эволюции столько же, сколько я об алмазных копях царя Соломона [13]. Помните, несколько дней тому назад вы огорошили нас своим толкованием одного места у Спенсера — относительно неопределенного, неуловимого и однородного. Попробуйте растолковать ей это — и посмотрите, поймёт она вас или нет. Это, видите ли, не «культура»! Словом, Мартин, если вы начнете зубрить латынь, я просто потеряю к вам уважение.
С интересом прислушиваясь к этому разговору, Мартин в то же время чувствовал какой-то неприятный осадок. Речь шла об учении и уроках, о начатках знания, и общий школьнический тон спора не соответствовал тем большим вопросам, которые волновали Мартина, заставляли его цепко ухватывать все жизненные явления и трепетать каким-то космическим трепетом от сознания своей пробуждающейся силы. Он мысленно сравнивал себя с поэтом, выброшенным на берег неведомой страны, который потрясен окружающей красотою и тщетно старается воспеть ее на чуждом ему языке диких туземцев. Так было и с ним. Он чувствовал в себе мучительное стремление познать великие мировые истины, — а вместо этого должен был слушать детские пререкания о том, нужно изучать латынь или не нужно.
— На кой дьявол тут припуталась эта латынь! — говорил он себе в этот вечер, стоя перед зеркалом. — Пусть мертвецы остаются мертвецами. Какое имею я отношение к этим мертвецам? Красота вечна и всегда жива. Языки создаются и исчезают. Они прах мертвецов.
Он тут же подумал, что научился хорошо формулировать свои мысли, и, ложась в постель, старался понять, почему он теряет эту способность в присутствии Руфи. При ней он превращался в школьника и говорил языком школьника.
— Дайте мне время, — сказал он вслух. — Дайте мне только время.
Время! Время! Это была его вечная мольба.
Глава четырнадцатая
Несмотря на свою любовь к Руфи, Мартин не стал изучать латынь. Советы Олни были тут ни при чем. Время было для него все равно что деньги, а многие науки, куда важнее латыни, повелительно требовали его внимания. К тому же он должен был писать. Ему нужно было зарабатывать деньги. Но, увы, его нигде не печатали. Рукописи грустно странствовали по редакциям. Почему же печатали других писателей? Мартин, подолгу просиживая в читальне, читал чужие произведения, изучал их внимательно и критически, сравнивая со своими собственными и тщетно стараясь раскрыть секрет, помогавший этим писателям пристраивать свои творения.
Он удивлялся надуманности большей части того, что попадало на страницы печати. Ни света, ни красок не было в этих рассказах. От них не веяло дыханием жизни, а между тем они оплачивались по два цента за слово, по двадцати долларов за тысячу слов — так было сказано в статье, которую он вырезал из газеты. С недоумением он читал и перечитывал бесчисленные рассказы, написанные (он не мог не признать этого) легко и остроумно, но далекие от того, что составляет существо жизни. Ведь жизнь сама по себе так удивительна, так чудесна, так много в ней нерешенных задач, грез, героических поступков, а эти рассказы касались только житейской обыденщины. Мартин чувствовал силу и величие жизни, ее жар и трепет, ее мятежный дух — вот о чем стоило писать! Ему хотелось воспеть смельчаков, стремящихся навстречу опасности, юношей, одержимых любовью, гигантов, борющихся среди ужасов и страданий, заставляющих жизнь трещать под их могучим напором. А между тем в журнальных рассказах прославлялись всевозможные мистеры Бэтлеры, жалкие охотники за долларами, изображались мелкие любовные треволнения мелких, ничтожных людишек. «Быть может, это потому, что сами редакторы — мелкие людишки? — спрашивал он себя. — Или же все эти редакторы, писатели и читатели просто-напросто боятся жизни?»
Больше всего его смущало то, что он не был знаком ни с редакторами, ни с писателями. Он не только не знал ни одного писателя, но даже не знал никого, кто бы когда-нибудь пытался писать. Некому было поговорить с ним, направить его, дать ему хороший совет. Он даже начал сомневаться в том, что редакторы — живые люди. Они стали представляться ему винтиками или рычажками какой-то машины. Да, да, именно так. В рассказах, очерках и поэмах он изливал свою душу, и эти излияния отдавал на суд машине. Он запечатывал рукопись в большой конверт, вкладывал в него марку для ответа и опускал в почтовый ящик. Пространствовав известное число дней по континенту, рукопись возвращалась к нему, причем была уже запечатана в другой конверт, а марка, вложенная им внутрь, была наклеена снаружи. По всей вероятности, никакого редактора не существовало, а был просто хитро устроенный механизм, который перекладывал рукопись из одного конверта в другой и наклеивал марку. Нечто вроде тех автоматов, в которые опускают монетку, — оттуда тотчас выскакивает кусок жевательной резины или плитка шоколада. Опустишь монетку в одно отверстие — получишь резину, опустишь в другое — получишь шоколад. И точно так же обстояло дело здесь. Из одного отверстия выскакивают чеки на гонорар, из другого — письма с отказом. До сих пор он все время попадал во второе отверстие.
Пресловутые письма дополняли сходство с машиной. Это были стандартные печатные бланки, на которых проставлялись только имена и названия. Мартин их получил уже сотни — штук по десяти на каждую рукопись. Если бы он получил хоть одну живую строчку, написанную от руки, обращенную лично к нему, он был бы счастлив. Но ни один редактор не подавал признаков жизни. Оставалось только предположить, что никаких живых редакторов на свете не бывает, а есть только хорошо смазанные и исправно действующие автоматы.
Мартин был прирожденным борцом, смелым и выносливым, и у него хватило бы упорства в течение долгих лет питать эти бездушные машины. Но он истекал кровью, и не годы, а недели должны были решить исход борьбы. Еженедельная плата за содержание приближала миг банкротства, а почтовые расходы еще больше способствовали этому. Он уже не мог покупать книги и решил экономить на мелочах, чтобы отдалить роковой конец; но он не умел экономить и на целую неделю ускорил развязку, подарив своей сестре Мэриен пять долларов на платье.
Мартин боролся во мраке, без совета, без поощрения; все кругом словно сговорились подтачивать его мужество. Даже Гертруда стала коситься на него; сначала она, как добрая сестра, смотрела сквозь пальцы на то, что ей казалось ребяческой дурью; но потом, опять-таки как добрая сестра, начала беспокоиться. Ей казалось, что ребяческая дурь уже переходит в сумасшествие. Мартин замечал ее тревожные взгляды и страдал от них больше, чем от бесцеремонных и наглых насмешек мистера Хиггинботама. Он верил в себя, но он был одинок в этом. Даже Руфь не разделяла его веры. Ей хотелось, чтобы он занимался только самообразованием, и хотя она никогда открыто не осуждала его литературных увлечений, но никогда и не поощряла их.
Мартин ни разу не показывал ей того, что писал. Какая-то особая щепетильность удерживала его; кроме того, зная, как она занята в университете, он стеснялся отнимать у нее время. Но когда все экзамены были сданы, Руфь сама сказала, что хочет почитать что-нибудь из его произведений. Мартин и обрадовался и оробел. Руфь — настоящий судья. Она бакалавр искусств. Она изучала литературу под руководством профессоров. Может быть, и редакторы — опытные судьи, но она по-другому отнесется к его произведениям. Она не пошлет ему печатного бланка с отказом, не сообщит, что при всех своих достоинствах его рассказы, к сожалению, не подходят для напечатания в данном издании. Она выскажет ему свое мнение в живых, человеческих словах, и, что всего важнее, она узнает наконец подлинного Мартина Идена. В его творениях она почувствует его душу и сердце и хоть немного, хоть чуть-чуть поймет, о чем он мечтает и на что он способен.
Мартин отобрал несколько рассказов и присоединил к ним, после некоторого колебания, «Песни моря».
В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город, к ее любимым холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и, когда они мчались по дороге, овеваемые морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко, всем своим существом ощущал, что мир прекрасен и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды у дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.
— Она сделала свое дело, — сказал Мартин, когда они уселись — Руфь на его куртке, а он сам прямо на теплой земле.
Вдыхая сладкий, дурманящий аромат, он тотчас, по привычке, начал размышлять, переходя от частного к общему и основному.
— Она исполнила свое жизненное назначение, — продолжал он, ласково гладя сухую траву, — питалась влагою зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и привлекала насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром…
— Почему вы смотрите на все с такой противной практической точки зрения? — прервала его Руфь.
— Вероятно, потому, что я изучаю теорию эволюции. Говоря по правде, я только недавно начал видеть все в настоящем свете.
— Но мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого практического подхода. Вы разрушаете красоту, как мальчик уничтожает бабочек, стирая пыльцу с их красивых крылышек.
Он отрицательно покачал головой:
— У красоты есть свое значение, но я до сих пор не ощущал этого значения. Мне нравилось красивое просто потому, что оно красиво, вот и все. Я не понимал сущности красоты. А теперь понимаю или, вернее, начинаю понимать. Эта трава для меня гораздо прекраснее теперь, когда я знаю, почему она такая, знаю все то сложное воздействие солнца, дождей и соков земли, которое понадобилось, чтобы она выросла на этом холме. Есть много романтического в истории каждой травинки; она пережила немало приключений. Одна эта мысль вдохновляет меня. Когда я думаю об игре энергии и материи, обо всей великой жизненной борьбе, я чувствую, что я мог бы написать про эту траву целую поэму, и не одну.
— Как хорошо вы говорите, — сказала Руфь рассеянно, и Мартин вдруг поймал на себе ее странный, испытующий взгляд. Он сразу смутился, даже растерялся, и румянец залил его щеки.
— Ох, если бы я в самом деле умел хорошо говорить, — начал он, запинаясь. — Столько во мне всяких мыслей и так хочется их высказать. Но все это такое большое, что я не могу найти подходящих слов. Иногда мне кажется, что весь мир, все живые существа взывают ко мне и требуют, чтобы я говорил за них. Я чувствую — ну как бы мне выразить это? — я чувствую величие всего; но, когда я начинаю говорить, получается детский лепет. Это огромная задача — суметь воплотить свои мысли и чувства в слова и написать или сказать эти слова так, чтобы слушатель или читатель понял их, чтобы в нем они снова перевоплотились в те же мысли и в те же чувства. Это задача, которая ни с чем не может сравниться. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь я вдохнул запах вселенной. Я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу, смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось поведать о них вам, всему миру! Но как это сделать? Язык мой скован. Вот я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, вдыхая аромат травы. И ничего у меня не вышло. Получились неуклюжие, бледные намеки. Какой-то бессвязный набор слов… а между тем мне так хочется высказаться. О… — он с отчаянием заломил руки, — это невозможно! Нельзя рассказать! Нельзя передать!
— Но вы отлично говорите, — утверждала Руфь, — просто удивительно, как вы научились говорить за это короткое время. Мистер Бэтлер — всеми признанный оратор. Комитет штата всегда приглашает его выступать с речами во время предвыборной компании. А тогда, за обедом, вы говорили не хуже его. Только у него больше выдержки. Вы слишком горячитесь; но это постепенно пройдет. Из вас может выработаться отличный оратор. Вы далеко пойдете… если захотите. В вас есть какая-то сила. И вы способны вести людей за собой, я уверена в этом. Вы можете одолеть любые трудности на пути, так же как вы одолели грамматику. Можете стать известным адвокатом. Или политическим деятелем. Ничто не мешает вам добиться такого же успеха, как мистер Бэтлер. И притом без катара, — прибавила она с улыбкой.
Они продолжали беседовать; Руфь, по своему обыкновению, ласково, но настойчиво говорила о необходимости учиться, указывала на латынь, как на один из краеугольных камней в любой области знания. Она нарисовала ему свой идеал человека и мужчины, который был целиком списан с ее отца и дополнен кое-какими черточками, явно заимствованными у мистера Бэтлера. Мартин слушал ее, лежа на спине и наслаждаясь каждым движением ее губ, но то, что она говорила, не находило в нем отклика. Нарисованные ею перспективы не влекли его, и он чувствовал глухую горечь разочарования, соединенную с острым томлением любви. Она ни словом не упомянула о его литературной работе, и рукописи, которые он захватил с собой, лежали забытые на земле.
Наконец, во время одной паузы, он взглянул на солнце, прикинул его высоту над горизонтом и стал собирать свои рукописи, тем самым напомнив о них.
— Ах, я и забыла, — живо сказала Руфь, — а мне так хочется послушать!
Мартин прочел ей рассказ, казавшийся ему одним из лучших. Он назвал его «Вино жизни»; и это вино, опьянявшее Мартина, когда он писал рассказ, снова бросилось ему в голову теперь, во время чтения. Было своеобразное очарование в оригинальном замысле рассказа, а он еще постарался усилить это очарование яркими словами и оборотами. Вдохновенный огонь, горевший в нем во время писания, охватил его снова, и он читал самозабвенно, не замечая недостатков. Но не то было с Руфью. Ее изощренное ухо сразу заметило все слабые стороны, все преувеличения, чрезмерный пафос, характерный для новичка, частые нарушения ритмического строя фразы. Она вообще не улавливала ритма в его рассказе, за исключением тех мест, которые звучали претенциозно-размеренно, и это неприятно поразило ее, как дурной дилетантизм. «Дилетантизм» — таков был ее окончательный приговор, но она не произнесла его. Напротив, она сделала всего несколько мелких замечаний, сказав, что в общем рассказ ей нравится.
Но Мартин был разочарован. Ее критика была справедлива, он не мог не признать этого, но ведь не для школьных поправок он читал ей свое произведение. Дело не в деталях. Это все поправимо. Рано или поздно он, конечно, сам научится замечать мелкие погрешности, даже вовсе избегать их. Но ведь он постарался вместить в свой рассказ кусок большой, живой жизни. Этот кусок жизни он хотел показать ей, а вовсе не ряд фраз, разделенных точками и запятыми. Он хотел, чтобы она почувствовала то большое и важное, что он видел своими глазами, охватил своим разумом и своими руками вложил вот в эти напечатанные на машинке строки. Очевидно, это не удалось, подумал он. Может быть, редакторы и правы в конце концов. Он видел большое и важное, но не умел выразить это в словах. И, скрыв свое разочарование, Мартин так легко согласился с ее критикой, что ей и в голову не пришло, какую бурю протеста она в нем подняла.
— Вот эту вещицу я назвал «Котел», — сказал он, развертывая другую рукопись. — Ее отвергли четыре или пять журналов, а мне рассказ все-таки нравится. Конечно, самому судить трудно, но, по-моему, в нем кое-что есть. Может быть, вас это не захватит так, как захватило меня, но рассказ коротенький, всего две тысячи слов.
— Какой ужас! — вскричала она, когда он кончил читать. — Это просто страшно!
Мартин с тайным удовлетворением смотрел на ее бледное лицо, блестящие глаза и судорожно сцепленные руки. Он достиг своей цели. Он сумел передать ей чувства и образы, владевшие им. Все равно, понравился ей рассказ или нет, — важно, что он произвел на нее впечатление, заставил ее слушать внимательно, так, что она даже не заметила мелочей.
— Это жизнь, — возразил он, — а жизнь не всегда привлекательна. А впрочем, может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Она мне даже кажется еще в десять раз более ценной в таком…
— Но почему же эта несчастная женщина не могла… — прервала его Руфь и, не договорив, снова воскликнула с возмущением: — О! Это безобразно! Это гадко! Это грязно!
На мгновение ему показалось, что у него остановилось сердце. Грязно! Он никогда не думал этого, никогда не предполагал. Весь рассказ горел перед ним огненными буквами, и, ослепленный сиянием, он не замечал в нем никакой грязи. Но вот сердце снова забилось у него в груди. Совесть его была спокойна.
— Почему вы не взяли более красивого сюжета? — говорила она. — Мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит…
Руфь продолжала говорить что-то с негодованием в голосе, но он ее не слушал. Он смотрел на ее девичье личико, озаренное такой трогательной невинностью, что, казалось, невинность эта проникла в самое сердце Мартина, очищая и омывая его эфирным сиянием, прохладным, нежным и ласковым, как сияние звезд. «Мы знаем, что в мире много грязи». Он подумал о том, что она могла «знать», и улыбнулся про себя радостно, словно она шутила с ним. В мгновенной вспышке перед ним возникло видение бесконечного океана житейской грязи, который он избороздил вдоль и поперек, и он простил ей, что она не поняла его рассказа. Она была не виновата, что не поняла его. Слава богу, что она родилась и выросла в стороне от всего этого. Но он — он знал жизнь, знал в ней все низкое и все великое, знал, что она прекрасна, несмотря на всю грязь, ее покрывающую, и — черт побери! — он скажет об этом свое слово миру. Не удивительно, что святые на небесах чисты и непорочны. Тут нет заслуги. Но святые среди грязи — вот это чудо! И ради этого чуда стоит жить! Видеть высокий нравственный идеал, вырастающий из клоаки несправедливости; расти самому и глазами, еще залепленными грязью, ловить первые проблески красоты; видеть, как из слабости, порочности, ничтожества и скотской грубости рождается сила, и правда, и благородство духа.
До слуха Мартина вдруг донесся голос Руфи:
— Весь тон какой-то низменный! А есть так много прекрасного и высокого: вспомните «In Memoriam [14]».
Он хотел сказать ей: «А Локсли Холл?» — и сказал бы, если бы снова его не отвлекли видения. Он глядел на нее и думал, какими сложными путями, взбираясь в течение сотен тысяч веков по лестнице жизни, достигла наконец женщина высшей ступени совершенства и стала Руфью, образцом творенья, чистым и прекрасным, одаренным божественной силой, и сумела вдохнуть в него любовь и стремление к чистоте и желание изведать эту божественную силу — в него, Мартина Идена, который тоже непостижимым образом поднялся из глубин первобытной жизни, из хаоса бесчисленных ошибок и неудач вечного процесса созидания. Вот где и романтика, и красота, и чудо! Вот о чем надо писать; только бы найти слова. Святые на небесах — они всего только святые. А он человек.
— В вас очень много силы, — услышал он голос Руфи, — но эта сила какая-то необузданная.
— Похож на бегемота в посудной лавке, — пошутил он и был награжден улыбкой.
— Нельзя так — писать обо всем, без разбора. Вы должны выработать в себе вкус, изящество, стиль.
— Я, должно быть, слишком много на себя беру, — пробормотал он.
Руфь ответила ему ободряющей улыбкой и приготовилась слушать следующий рассказ.
— Не знаю, как вам понравится, — сказал Мартин, словно оправдываясь. — Это странный рассказ! Может быть, я тут слишком размахнулся, но, право, замысел у меня был хороший. Постарайтесь не обращать внимания на мелочи. Главное, чтобы вам удалось уловить основную мысль. Это важная мысль и верная, не знаю только, сумел ли я сделать ее понятной.
Он начал читать; читая, поглядывал на Руфь. Наконец ему показалось, что рассказ захватил ее. Она сидела неподвижно, не сводя с него глаз, затаив дыхание, точно зачарованная созданными им образами. Он назвал рассказ «Приключение», и это был в самом деле апофеоз приключения — не книжного, а настоящего, Приключения с большой буквы, грозного повелителя, одинаково щедрого на взыскания и награды, прихотливого и вероломного, требующего рабской покорности и неуставного труда, который то выводит на ослепительные солнечные просторы, то обрекает мукам жажды, голода, томительного долгого пути или жестокой лихорадки, несущей смерть, и через пот, кровь, укусы ядовитых насекомых, через длинную цепь мелких и неприглядных событий приводит к великолепному, победному финалу.
Все это и еще многое другое изобразил Мартин в своем рассказе; все это, казалось ему, заставляло Руфь слушать его с горящими глазами; щеки ее разрумянились, и к концу чтения он испугался, что она вот-вот упадет в обморок. Она действительно была взволнована, но не рассказом, а самим Мартином. Дело было не в рассказе; она снова испытала на себе действие той знакомой уже ей силы, которая исходила от Мартина и захватывала ее всю. Но странным образом, рассказ тоже был насыщен этой силой, и Руфь сейчас воспринимала ее именно через рассказ. Она ощущала лишь эту силу, почти не замечая того, что служило посредником; и хотя ее как будто увлекло услышанное, на самом деле она была увлечена совсем посторонней, страшной, невероятной мыслью, внезапно возникшей в ее мозгу. Она вдруг задумалась о замужестве, и прихотливая настойчивость этой мысли испугала ее. Это было нескромно. Это было так чуждо ей. Ее еще никогда не мучила пробуждающаяся женственность, и до сих пор она жила в мире снов, навеянных поэзией Теннисона, оставаясь глухой даже к деликатным намекам этого деликатнейшего поэта относительно истинных взаимоотношений рыцарей и королев. Она спала, — и вдруг жизнь властно постучалась у ее двери. Объятая ужасом, она хотела было запереться на все запоры, но пробуждающийся инстинкт требовал, чтобы она широко распахнула дверь перед странным и прекрасным гостем.
Мартин ждал ее приговора с чувством удовлетворения, Он не сомневался в том, каков будет этот приговор, и был ошеломлен, когда Руфь сказала только:
— Это красиво.
После маленькой паузы она с жаром повторила:
— Очень красиво!
Конечно, это было красиво; но в рассказе было нечто большее, нечто такое, чему красота лишь служила и подчинялась. Мартин лежал, растянувшись на земле, и зловещая туча сомнения надвигалась на него… Опять не удалось. Он не владеет словом. Он видит величайшие чудеса мира, но не в силах описать их.
— А что вы скажете о… — он помедлил, не решаясь произнести новое слово, — об идее?
— Она недостаточно ясна, — отвечала она, — таково мое общее впечатление. Я старалась следить за основной линией сюжета, но это трудно. Вы слишком многословны. Вы затемняете действие введением совершенно постороннего материала.
— Но ведь все это подчинено основной идее, — поторопился он объяснить. — Центральная идея — космического, мирового значения. Я хотел насытить ею весь рассказ. Он для нее только внешняя оболочка. Я шел по верному пути, но, видно, плохо справился с задачей. Мне не удалось высказать то, что я хотел. Может быть, со временем я научусь.
Руфь не могла уследить за ходом его мыслей. Они были недоступны ей, хотя она и была бакалавром искусств. Она не понимала их и свое непонимание приписывала его неумению выразить желаемое.
— Вы слишком многословны, — повторила она, — но местами это прекрасно.
Ее голос доносился до Мартина как будто издалека, ибо он в это время раздумывал, читать ли ей «Песни моря». Он лежал молча, чувствуя тоску и отчаяние, а она смотрела на него, и в голове ее носились все те же незваные и упорные мысли о замужестве.
— Вы хотите стать знаменитым? — вдруг спросила она.
— Да, пожалуй, — согласился он, — но это не главное. Меня занимает не столько слава, сколько путь к ней. А кроме того, слава мне помогла бы в другом. Я очень хочу стать знаменитым, если на то пошло, ради одной причины.
Он хотел прибавить «ради вас», и, вероятно, прибавил бы, если бы Руфь более горячо отнеслась к его произведениям.
Но она слишком была занята в этот миг мыслями о какой-либо мало-мальски приемлемой карьере для него и потому не спросила даже, на что он намекает. Что писателя из него не выйдет, Руфь была твердо уверена. Он только что доказал это своими дилетантскими, наивными сочинениями. Он научился хорошо говорить, но совершенно не владел литературным слогом. Она сравнивала его с Теннисоном, Браунингом и с любимейшими своими писателями-прозаиками, и сравнение оказывалось для него более чем невыгодным. Но она не стала говорить ему все, что думала. Странное чувство, которое тянуло к нему, умеряло ее взыскательность. В конце концов его стремление писать было маленькой слабостью, которая со временем, вероятно, исчезнет. Тогда он, несомненно, попробует свои силы на каком-нибудь другом, более серьезном жизненном поприще и добьется успеха. В этом Руфь была уверена. Он так силен, что, наверное, добьется всего… лишь бы он скорей бросил писать.
— Я хочу, чтобы вы читали мне все, что вы пишете, мистер Иден, — сказала она.
Мартин вспыхнул от радости. Она заинтересовалась, — это несомненно. В конце концов она ведь не забраковала его произведений. Она даже нашла отдельные места прекрасными, от нее первой он услыхал ободряющие слова.
— Хорошо, — пылко сказал он, — и вот вам мое слово, мисс Морз, я стану хорошим писателем. Я пришел издалека, я знаю, и мне еще предстоит долгий путь, но я пройду его, хотя бы пришлось ползти на четвереньках. — Он протянул ей пачку отпечатанных на машинке листков: — Вот это «Песни моря». Я вам дам их, а вы прочитаете дома, когда будет время. Но только потом скажите откровенно свое мнение. Мне так нужна критика! Пожалуйста, скажите всю правду!
— Я ничего не утаю, — обещала она, чувствуя, однако, в глубине души, что не была с ним откровенна сегодня, и не зная, сможет ли быть откровенной и впоследствии.
Глава пятнадцатая
— Первая схватка состоялась, — говорил Мартин своему изображению в зеркале дней десять спустя, — но будет вторая, третья, и так до тех пор, пока…
Не докончив фразы, он оглядел свою жалкую комнатенку, и взгляд его с грустью остановился на ворохе длинных конвертов, валявшихся в углу. Все это были возвращенные рукописи. Ему не на что было купить марок для отправки их по новым адресам, и вот за неделю набралась целая груда. Они будут приходить и завтра и послезавтра, пока все не вернутся к своему владельцу. И он уже не в состоянии рассылать их дальше. Он целый месяц не платил за прокат машинки и не мог заплатить, потому что у него едва хватало денег для недельной платы за свое содержание и взноса в посредническую контору, через которую он рассчитывал получить работу. Он сел и задумчиво посмотрел на свой стол. На нем виднелись чернильные пятна, и Мартин вдруг почувствовал к нему нежность.
— Милый старый стол, — сказал он, — много счастливых часов я провел за тобой, и ты был всегда верным другом. Ты никогда не отталкивал меня, никогда не обижал незаслуженными отказами, никогда не сетовал на тяжесть работы.
Он облокотился на стол и закрыл лицо руками. Что-то подступило к горлу, хотелось заплакать. Ему вспомнилась его первая драка, когда он, шестилетний мальчуган, весь в слезах, отбивался от другого мальчика, на два года старше, который бил его кулаками что есть силы. Он видел тесный круг мальчишек, поднявших дикий вой, когда он наконец упал, глотая кровь, которая текла из носа и смешивалась со слезами, лившимися из глаз.
— Бедный малыш, — бормотал он, — и теперь тебя снова побили! Так побили, что и не встать.
Воспоминание об этой первой битве исчезло не сразу. За нею последовало тогда много других битв, и все они постепенно всплывали в памяти Мартина. Полгода спустя Масляная Рожа (это было прозвище того самого мальчишки) опять напал на него. Но на этот раз и Мартин посадил ему синяк под глазом. Это чего-нибудь да стоило! Он вспомнил все их схватки, одну за другой. Масляная Рожа всегда побеждал. Но Мартин ни разу не обратился в бегство. Он почувствовал гордость при мысли об этом. Он всегда стойко держался до конца, хотя ему и приходилось туго. Масляная Рожа был подлым противником и никому не давал пощады. Но Мартин держался. Он всегда держался до конца!
Потом Мартин увидал узкий переулок между рядами ветхих каркасных домов. В конце переулка находилось одноэтажное кирпичное здание, из которого доносился глухой ритмичный шум машин, печатающих дневной выпуск газеты «Вестник». Мартину было тогда одиннадцать лет, а Масляной Роже тринадцать; оба они продавали газеты. Потому-то они и стояли в ожидании у ворот типографии. Масляная Рожа, разумеется, тотчас придрался к Мартину, и завязался бой, исход которого остался нерешенным, так как без четверти четыре ворота типографии распахнулись и вся толпа мальчишек устремилась за газетами.
— Я тебя вздую завтра, — пообещал ему Масляная Рожа, и Мартин дрожащим от слез голосом заявил, что завтра будет на месте.
На следующий день, удрав из школы, он прибежал на место битвы за две минуты до Масляной Рожи. Другие мальчишки хвалили Мартина и давали ему советы, следуя которым он непременно должен был побить противника. Но те же мальчишки давали такие же советы и Масляной Роже. Как наслаждались эти бесплатные зрители! Сейчас Мартин даже позавидовал им, вспоминая о том, сколько удовольствия они тогда получили. Битва началась и продолжалась целых полчаса, пока не открылись ворота типографии. Снова и снова Мартин видел себя мальчишкой, каждый день торопящимся из школы к воротам типографии. Бегать он не мог. Он горбился, он прихрамывал от постоянных драк. Тело у него было сплошь в синяках, руки исцарапаны, и некоторые царапины начинали гноиться. У него болели бока, болела спина, болели плечи; в голове, точно налитой свинцом, стоял туман. В школе он не мог играть, забросил учение. Для него было мукой сидеть целый день за партой. Казалось, прошли века с тех пор, как начались эти ежедневные драки, и время тянулось, как кошмар, в непрестанном ожидании новой стычки. «Почему нельзя побить Масляную Рожу?» — думал Мартин. Это сразу избавило бы его от всех мучений. Но никогда ему не приходило в голову сдаться и признать, что Масляная Рожа сильнее его.
Так он день за днем таскался к воротам типографии, истерзанный душой и телом, учась великой науке долготерпения, и там встречал своего вечного врага — Масляную Рожу, который был истерзан так же, как и он, и охотно прекратил бы эти побоища, если бы не подстрекательства мальчишек-газетчиков, перед которыми ему не хотелось срамиться. Однажды, после двадцатиминутной отчаянной схватки с соблюдением всех правил борьбы (не драться ногами, не давать подножек и не бить лежачего), Масляная Рожа, шатаясь, едва переводя дух, предложил кончить дело вничью. Мартин вздрогнул от сладости этого воспоминания, задыхаясь и давясь кровью, бегущей из его разбитой губы, он кинулся к Масляной Роже, выплюнул кровь, мешавшую ему говорить, и крикнул, что на ничью он не согласен, и если Масляная Рожа выдохся, пусть сдается. Но Масляная Рожа сдаться не захотел, и драка продолжалась.
На следующий день драка возобновилась и возобновлялась по-прежнему изо дня в день. Каждый раз в начале побоища Мартин сильно страдал от боли, но потом боль притуплялась, и он дрался, ослепленный яростью, как во сне, видя перед собою лишь широкие скулы Масляной Рожи и горящие, как у зверя, глаза. Он сосредоточил все свое внимание на этой роже, все остальное перестало существовать. В мире не было ничего, кроме этой рожи, и Мартин знал, что успокоится он лишь тогда, когда превратит ее в кровавое месиво или когда в кровавое месиво превратится его собственная физиономия. Тогда можно будет прекратить состязание. Но согласиться ему, Мартину, на ничью — это было невозможно!
И вот настал день, когда, придя к воротам типографии в обычное время, Мартин не нашел Масляной Рожи. Он так и не пришел. Мальчишки поздравляли Мартина, утверждая, что Масляная Рожа сдался. Но Мартин не был удовлетворен таким исходом. Он не победил Масляную Рожу, и Масляная Рожа не победил его. Спор не был решен. Впоследствии выяснилось, что в тот самый день у Масляной Рожи внезапно умер отец.
Мартин мысленно перескочил через несколько лет и увидел себя сидящим на галерке в театре. Он только что вернулся из плавания, ему уже шел семнадцатый год. Среди зрителей вспыхнула ссора. Кто-то кого-то толкнул. Мартин вмешался и встретился со сверкающими глазами своего старинного врага — Масляной Рожи.
— После спектакля я тебе всыплю, — прошипел Мартину его враг.
Мартин кивнул головой. К месту скандала спешил блюститель порядка.
— Встретимся у выхода после конца, — шепнул Мартин, делая вид, что поглощен происходящим на сцене.
Блюститель порядка посмотрел на них и отошел.
— Ты с компанией? — спросил Мартин Масляную Рожу по окончании действия.
— Конечно!
— Тогда я тоже кое-кого позову, — объявил Мартин. Во время антракта он навербовал себе партию: трех приятелей с гвоздильного завода, одного пожарного, полдюжины матросов и столько же молодцов из знаменитой шайки с Маркет-стрит.
По окончании спектакля обе партии пошли по разным сторонам улицы. В тихом переулке неподалеку они сошлись и устроили военный совет.
— Самое подходящее место — это мост Восьмой улицы, — сказал рыжий парень из шайки Масляной Рожи, — драться будете посередке, под электрическим фонарем, а мы будем смотреть, не идут ли фараоны. Если с одной стороны покажутся, мы удерем в другую сторону.
— Ладно. Идет, — сказал Мартин, посоветовавшись со своими.
Мост Восьмой улицы, перекинутый через рукав устья Сан-Антонио, по длине равен трем городским кварталам. Посредине моста и на обоих концах его горели электрические фонари. Ни один полисмен не мог подойти незамеченным. Перед закрытыми глазами Мартина возникло во всех подробностях это удобное для боя место. Он увидел обе шайки, хмурые и враждебные, стоявшие друг против друга, каждая позади своего бойца. Мартин и Масляная Рожа разделись до пояса. Дозорные заняли свои наблюдательные посты на концах моста. Один из матросов взял у Мартина куртку, рубашку и шапку, чтобы в случае появления полиции удрать с ними в безопасное место. Мартин ясно увидел самого себя: как он выходит на середину круга, смотрит прямо в глаза Масляной Роже и говорит, подняв кулак:
— Никаких церемоний разводить не будем! Понял? Драться до конца! Без уверток. У нас с тобой старые счеты, и надо свести их вчистую! Понял?
Противник заколебался — Мартин заметил это, — но Масляная Рожа был самолюбив и не хотел ударить лицом в грязь перед столькими зрителями.
— Ну что же, выходи, — крикнул он, — чего разболтался! До конца так до конца!
И тут, сжав кулаки, они бросились друг на друга. как два молодых бычка, со всем пылом юности, охваченные желанием бить, ломать, калечить. Все, что было достигнуто человечеством на его тысячелетнем трудном пути к совершенству, рухнуло в один миг. Только электрический фонарь торчал, как забытая веха прогресса. Мартин и Масляная Рожа были дикарями каменного века, обитающими в пещерах и на деревьях. Они все глубже и глубже погружались в трясину первобытного существования, сталкивались слепо, непроизвольно, как осколки небесных тел, как атомы, вечно притягивающие и вечно отталкивающие друг друга.
— Боже! Что за скоты мы были! Что за дикие звери! — простонал Мартин, вспоминая подробности этого боя. Благодаря необычайной силе своего воображения он видел все так живо, словно сидел в кинематографе. Он был одновременно и участником и зрителем. Все, чему он научился за эти долгие месяцы, заставляло его содрогаться от этого зрелища; но вскоре прошлое вытеснило настоящее из его сознания, и он снова стал былым Мартином Иденом и, только что вернувшись из плавания, дрался с Масляной Рожей посреди моста на Восьмой улице. Он напрягал силы, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки его попадали в цель.
Казалось, то были не люди, а два буйных вихря, налетевшие друг на друга. Время шло, и обе партии стояли, присмирев и затаив дыхание. Подобной ярости они не видели, и она внушала им страх. Перед ними боролись два зверя, более свирепые, чем они сами.
Когда остыл первый порыв, противники стали драться осторожнее и обдуманнее. Ни один не брал верх.
— Ничья будет, — долетели до Мартина слова.
Он сделал нечаянно обманное движение, но в тот же миг получил страшный удар в щеку, рассекший ее до кости. Голый кулак не мог нанести такой раны. Мартин услыхал возгласы изумления и почувствовал, что из щеки у него хлещет кровь. Но он не подал и виду. Он тотчас же насторожился, так как хорошо знал, с кем имел дело, и мог ожидать всякой низости. Он стал внимательно следить за противником и, уловив блеск металла, сделал ловкий маневр и поймал его за руку.
— Разожми кулак! — гаркнул он. — Ты меня хватил кастетом!
Обе партии с ревом и руганью бросились друг на друга; еще секунда — и произошла бы общая свалка и Мартин не утолил бы своей жажды мести. Он был вне себя.
— А ну назад! — загремел он. — Все назад! Понятно?
Они расступились. Они были звери, но он был сверх зверь, внушавший ужас, и этот ужас заставил их подчиниться.
— Это мое дело, и никто пусть не мешается. Эй, ты! Давай сюда кастет.
Масляная Рожа повиновался, немного испуганный, и отдал предательское оружие.
— Это ты ему дал железку, рыжая сволочь, — продолжал Мартин, швырнув кастет в воду, — я видел, как ты тут терся, не догадался только, что тебе нужно. Если ты еще раз сунешься, я изобью тебя до смерти. Понял?
Бой возобновился, и хотя оба противника дошли до полного изнеможения, они все же продолжали осыпать друг друга ударами, пока, наконец, окружавшая их звериная стая, насытив свою жажду крови, не почувствовала страха и не начала уговаривать их прекратить драку. Масляная Рожа, едва державшийся на ногах, избитый до потери человеческого облика и превратившийся в какое-то страшное чудовище, остановился в нерешительности, но Мартин кинулся на него, снова и снова осыпая ударами.
Казалось, они боролись уже целую вечность, и Масляная Рожа заметно стал сдавать, как вдруг послышался громкий хруст, и правая рука Мартина беспомощно повисла. Кость была сломана. Все слышали, и все поняли. Понял и Масляная Рожа и, как тигр, набросился на раненого противника, колотя изо всех сил. Партия Мартина бросилась на выручку. Но Мартин, одурев от сыпавшихся на него ударов, не переставая изрыгать проклятия вперемежку со стонами боли и злобы, крикнул, чтобы они не вмешивались, и все бил одной левой рукой, ничего не сознавая, колотил и колотил. Словно издалека доносились до него испуганные перешептывания, потом он услышал, как кто-то сказал дрожащим голосом: «Ребята, это не драка! Это убийство! Надо растащить их!»
Но ни один не решился подступиться, а он все бил и бил своей левой рукой, попадая каждый раз во что-то мягкое, кровавое, отвратительное и не имеющее ничего общего с человеческим лицом, и это что-то не поддавалось и продолжало маячить перед его помутившимся взором. И он все бил и бил, все слабее и слабее, постепенно теряя последние остатки жизненной энергии, бил, казалось, целые века, целые тысячелетия, пока, наконец, бесформенная кровавая масса не рухнула на доски моста. И тогда он стал над ней, шатаясь, как пьяный, ища опоры в воздухе и спрашивая изменившимся голосом:
— Еще хочешь? Говори… Еще хочешь?
Он все спрашивал, настойчиво требуя ответа, и вдруг почувствовал, что товарищи хватают его, тащат, пытаются надеть на него куртку. И тут внезапно сознание покинуло его.
Будильник на столе зазвонил, но Мартин не слыхал его и продолжал сидеть, закрыв лицо руками. Он ничего не слышал. Он ни о чем не думал. Так живо он пережил все опять, что вновь потерял сознание, как в ту ночь, на мосту Восьмой улицы. Мрак и пустота окутывали его в течение нескольких минут. Потом, точно оживший мертвец, он вскочил, сверкая глазами, весь взмокший от пота.
— Я все-таки побил тебя, Масляная Рожа! — вскричал он. — Мне понадобилось для этого одиннадцать лет, но я побил тебя!
Ноги у него дрожали, голова кружилась, и, пошатнувшись, он должен был сесть на постель. Он все еще был во власти прошлого. Он недоуменно озирался по сторонам, словно не понимая, где он находится, пока, наконец, он увидел груду рукописей в углу. Тогда колеса его памяти завертелись быстрее, промчали его через четырехлетний промежуток, и он вспомнил книги, вспомнил мир, который они открыли ему, вспомнил свои гордые мечты и свою любовь к бледной девушке, впечатлительной и нежной, которая умерла бы от ужаса, если бы хоть на миг стала свидетельницей того, что он только что заново пережил, хоть на миг увидала бы ту грязь жизни, через которую он прошел!
Он поднялся и поглядел на себя в зеркало.
— Теперь ты выкарабкался из этой грязи, Мартин, — торжественно сказал он себе, — в глазах у тебя прояснилось, ты касаешься звезд плечами, живешь полной жизнью и отвоевываешь ценнейшее наследие веков у тех, кто им владеет.
Он внимательно поглядел на себя и рассмеялся.
— Немножко истерики и мелодрамы? Ну что ж! Это не страшно. Ты когда-то одолел Масляную Рожу, — так же ты одолеешь и Издателей, даже если придется потратить и больше, чем одиннадцать лет! Только не вздумай останавливаться, иди вперед. Бороться так бороться до конца!
Глава шестнадцатая
Будильник разбудил Мартина так внезапно, что у человека с менее здоровым организмом это наверняка вызвало бы головную боль. Хотя он спал очень крепко, но проснулся мгновенно, как кошка, радуясь, что миновали пять часов забытья. Он ненавидел сон. Так много нужно было сделать, так много испытать в жизни! Он жалел о каждом миге, похищенном у него оном; будильник не перестал еще трещать, а Мартин окунул голову в таз с водой, наслаждаясь ощущением холода.
Но день не пошел по обычной программе. Не было начатого рассказа, который ждал бы окончания, не было нового замысла, который просился бы на бумагу. Мартин очень поздно кончил заниматься накануне, и теперь время уже приближалось к завтраку. Он хотел было прочитать главу из Фиска [15], но голова его была занята другим, и книгу пришлось отложить. Сегодня ему предстояло вступить в новую схватку с жизнью, и на некоторое время он решил прервать свое писание. Ему было грустно, как бывает грустно человеку при расставании с семьей и с родным домом. Он поглядел на рукописи в углу. Да, он должен покинуть своих бедных, опозоренных детей, которым никто не хотел дать приют. Он наклонился и начал разбирать рукописи, перечитывал свои любимые места. «Котел» и «Приключение» он удостоил даже чтения вслух. Особенно он остался доволен рассказом «Радость», написанным накануне и брошенным в угол за отсутствием марки.
— Не понимаю, — бормотал он, — а может быть, это редакторы не понимают. Чего им еще нужно? Они печатают вещи куда хуже. Да все, что они печатают, гораздо хуже этого… почти все.
После завтрака он уложил в футляр пишущую машинку и отвез ее в Окленд.
— Я задолжал за месяц, — сказал он приказчику. — Скажите хозяину, что я уезжаю на работу и расплачусь по возвращении. Через месяц или около того.
Он переправился на пароме в Сан-Франциско и пошел в посредническую контору.
— Любую работу, все равно какую, — начал он, но его прервал приход нового посетителя, одетого с тем дешевым шиком, с каким одеваются рабочие, имеющие склонность к «изящной жизни».
Человек, сидевший за столом, безнадежно покачал головой.
— Неужели никого? — спросил вновь пришедший. — Но мне до зарезу необходимо найти кого-нибудь сегодня.
Он повернулся и посмотрел на Мартина, а Мартин посмотрел на него и увидел довольно красивое лицо, но бледное и помятое, как бывает после бурно проведенной ночи.
— Ищешь работы? — спросил он у Мартина. — Что умеешь делать?
— Любую тяжелую работу, знаю морское дело, пишу на машинке, стенографии не знаю; могу ездить верхом — вообще могу делать все, что угодно.
Тот кивнул головой.
— Ну что ж, подходит. Меня зовут Доусон, Джо Доусон, и я ищу себе помощника в прачечную.
— В прачечную? — Мысль, что он будет гладить всякие там женские кружевные финтифлюшки, показалась Мартину забавной. Но наниматель чем-то понравился ему, и потому он прибавил: — Стирать я вообще-то умею. Научился в плавании.
Джо Доусон на минуту призадумался. — Слушай, мы, пожалуй, можем столковаться. Хочешь узнать, о чем речь идет?
Мартин утвердительно кивнул головой.
— Есть такая маленькая прачечная при гостинице в курортном местечке «Горячие Ключи». Для работы нужны двое: старший и помощник. Я старший. Каждый делает свое дело, но ты мне подчиняешься. Как, согласен?
Мартин задумался. Перспектива была заманчива. Несколько месяцев работы — и у него появится опять время для занятий. А он умел и работать и учиться на совесть.
— Хорошие харчи и отдельная комната, — сказал Джо.
Это решило вопрос. Отдельная комната, где никто не будет мешать жечь лампу по ночам.
— Но работа адова, — прибавил Джо.
Мартин погладил свои мускулы, вздувавшиеся под рукавом.
— Мне к работе не привыкать.
— Так по рукам! Джо пощупал свой лоб.
— Фу, черт! До сих пор перед глазами круги идут. Уж больно я вчера перехватил… Да, так условия такие: на двоих полагается сотня долларов и квартира. Я получал шестьдесят, а помощник — сорок. Но тот парень знал дело, а ты новичок. На первых порах мне придется много работать за тебя. Положим, ты начнешь с тридцати и постепенно дойдешь до сорока. Я не надую. Как только ты приладишься и начнешь работать по-настоящему, станешь получать свои сорок.
— Согласен, — заявил Мартин и протянул руку, которую тот пожал. — Только хорошо бы задаток. На дорогу и другие расходы.
— Все просадил, — грустно отвечал Джо, снова потирая лоб, — только и осталось, что обратный билет.
— А я все до последнего цента должен отдать за квартиру.
— А ты плюнь, — посоветовал Джо.
— Не могу. Родной сестре должен.
Джо сочувственно присвистнул и принял глубокомысленный вид.
— У меня на полбутылки наберется. Пойдем. Может, что и придумаем.
Мартин отклонил это предложение.
— Не употребляешь? — спросил Джо.
Мартин качнул головой, и Джо тут же заметил унылым голосом:
— Завидую, у меня вот не выходит. Проработаешь целую неделю как черт, поневоле пойдешь в кабак. Если бы я не напивался, то давно перерезал бы себе глотку или подпалил все заведение. Но я рад, что ты из непьющих. Продолжай в том же духе.
Мартин видел, какая огромная пропасть лежит между ним и этим человеком — пропасть, созданная книгами; но ему нетрудно было вновь перешагнуть через нее. Всю жизнь он прожил среди людей рабочего класса, и чувство трудового товарищества было его второй натурой. Мартин быстро разрешил вопрос о переезде — задачу, чересчур затруднительную для одурманенной головы Джо. Он пошлет свой чемодан багажом по билету Джо, а сам приедет в «Горячие Ключи» на велосипеде. Семьдесят миль вполне можно осилить за воскресенье, чтобы уже с понедельника стать на работу. А теперь он пойдет домой и уложит вещи. Прощаться ему было не с кем. Руфь и вся ее семья уехали на лето в Сиерру, к озеру Тэхо.
Мартин явился в «Горячие Ключи» в воскресенье вечером, усталый и весь в пыли. Джо восторженно встретил его. Голова Джо была обвязана мокрым полотенцем, так как он проработал целый день.
— Часть белья оставалась еще с прошлой недели, — пояснил он, — когда я ездил нанимать тебя. Твой багаж прибыл в сохранности. Он у тебя в комнате. Ну, скажу тебе, и тяжесть же. Что там напихано? Слитки золота?
Пока Мартин распаковывал чемодан, Джо присел на его кровать. Это был, собственно говоря, не чемодан, а просто ящик из-под консервов, за который мистер Хиггинботам взял с Мартина полдоллара. Приколотив к ящику две веревочные ручки, Мартин преобразил его в некоторое подобие чемодана. Джо вытаращил глаза, когда после нескольких смен белья из ящика начали появляться книги, книги и книги.
— Как! До самого дна все книги? — спросил он.
Мартин утвердительно кивнул и продолжал выкладывать том за томом на кухонный стол, заменявший умывальник.
— Ну и ну!
Отведя душу этим восклицанием, Джо замолчал, и в его мозгу начала, по-видимому, складываться какая-то мысль. Наконец он спросил:
— Скажи, ты как насчет девочек? Слаб? — спросил он.
— Нет, — ответил Мартин, — раньше случалось, пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени.
— Ну, здесь у тебя не будет времени и на книги — только работать и спать.
Мартин вспомнил о своей пятичасовой норме сна и улыбнулся. Его комната была расположена над прачечной, и в этом же здании помещался мотор, который качал воду, подавал свет и приводил в движение машины в прачечной. Механик, живший в соседней комнате, зашел познакомиться с новым работником и помог Мартину приспособить электрическую лампочку на длинном проводе, так что ее можно было переносить от стола к постели.
На следующее утро Мартин встал в четверть седьмого — ему сказали, что завтрак подается без четверти семь. В доме оказалась ванная для служащих, и Мартин, к великому изумлению Джо, принял холодную ванну.
— Ну и чудило же ты! — воскликнул Джо, когда они уселись завтракать на кухне.
С ними завтракали механик, садовник, помощник садовника и два или три конюха. Все они ели мрачно и торопливо, изредка перекидываясь отдельными словами, и Мартин, прислушиваясь к этому несложному разговору, думал о том, как далеко он ушел от таких людей. Убожество их кругозора казалось ему невыносимым, и хотелось поскорее избавиться от их общества. Поэтому он так же торопливо, как и они, проглотил свою порцию жидкой безвкусной каши и вздохнул свободно, лишь выйдя за кухонную дверь.
Маленькая паровая прачечная была превосходно оборудована новейшими машинами, которые делали все, что только могли делать машины. Получив краткие наставления, Мартин стал разбирать и сортировать огромные груды грязного белья, а Джо тем временем запускал машины и разводил жидкое мыло, составленное из едких химикалий, так что он принужден был закутать полотенцем глаза, нос и рот и стал похож на мумию. Покончив с разборкой, Мартин приступил к выжиманию уже выстиранного белья. Для этого белье закладывалось в особый вращающийся барабан, делавший несколько тысяч оборотов в минуту и удалявший из белья влагу с помощью центробежной силы. Мартину то и дело приходилось бегать от сушки к выжималке, а в промежутках еще отбирать чулки и носки. После обеда, пока нагревались утюги, они занялись катаньем носков и чулок. Потом гладили нижнее белье до шести часов, но когда пробило шесть, Джо с сомнением покачал головой.
— Не управились! — сказал он. — Придется работать и после ужина.
И после ужина они работали до десяти при слепящем электрическом свете, пока последняя пара нижнего белья не была выглажена и приготовлена к выдаче. Была знойная калифорнийская ночь, и, несмотря на распахнутые настежь окна, в комнате от раскаленной плиты и утюгов стояла невыносимая жара. Мартин и Джо, в одних рубашках, с засученными рукавами, обливались потом и задыхались.
— Точно на погрузке в тропическом порту! — сказал Мартин, когда они поднимались по лестнице.
— У тебя дело пойдет, — говорил Джо. — Ты работаешь молодцом. Если и дальше так будет, ты только первый месяц просидишь на тридцати долларах. В следующий месяц получишь уже все сорок. Но не может быть, чтобы ты раньше никогда не гладил. Меня не проведешь.
— Ей-богу, не выгладил за всю свою жизнь ни одной тряпки!
Мартин чувствовал сильную усталость и удивлялся этому, позабыв, что проработал, стоя на ногах, четырнадцать часов подряд! Он поставил будильник на шесть и, отсчитав пять часов, решил читать до часу. Сняв башмаки, чтобы дать отдохнуть ногам, он сел за стол и обложился книгами. Он раскрыл Фиска на том самом месте, на котором прервал чтение два дня назад. Но голова работала плохо, и ему пришлось два раза прочесть один и тот же абзац. Потом он вдруг проснулся от боли в затекших мышцах и от холодного ветра, который дул с гор в открытое окно. Часы показывали два. Он проспал четыре часа. Тогда он разделся, лег в постель и заснул, едва коснувшись головой подушки.
Вторник прошел в такой же напряженной работе. Быстрота, с которой работал Джо, приводила Мартина в восторг. Сам черт не мог бы за ним угнаться. Он не терял ни одного мгновения в течение всего долгого дня, сосредоточивал на работе все свое внимание и то и дело указывал Мартину, где вместо пяти движений можно сделать три и вместо трех — два. Мартин смотрел и старался подражать ему. Он и сам был прекрасным работником, ловким, сообразительным и всегда гордился тем, что никто не мог превзойти его в работе. Теперь он тоже решил полностью сосредоточиться на работе и следовать всем наставлениям Джо. Он так ловко растирал крахмал на воротничках и манжетах, чтобы на них не образовались пузыри во время глажения, что Джо даже похвалил его.
Работа шла без всяких перерывов. Кончив одно дело, Джо тотчас же переходил к другому, ничего не дожидаясь, ничего не откладывая. Они накрахмалили двести белых сорочек, правой рукой погружая в горячий крахмал воротничок, грудь и манжеты, а левой придерживая рубашку, чтобы другие части ее не касались крахмала, а крахмал был такой горячий, что, отжимая его, им каждый раз приходилось опускать руку в холодную воду. В этот вечер они работали до половины одиннадцатого, подкрахмаливая оборки на тонком женском белье.
— В тропиках и то легче, — со смехом сказал Мартин.
— Только не для меня, — серьезно возразил Джо, — я ничего не умею делать, кроме этого.
— Но это ты делаешь здорово.
— Еще бы. Я начал работать одиннадцати лет, в Окленде. Стоял у парового катка. С тех пор прошло восемнадцать лет, и все время я только этим и занимался. Но такой каторжной работы, как тут, мне еще не попадалось. Сюда надо бы по крайней мере троих. Завтра придется работать ночью. По средам всегда приходится работать ночью: воротнички и манжеты.
Мартин опять завел будильник, сел за стол и раскрыл Фиска. Но он не мог прочитать и одного абзаца. Строчки плясали перед глазами, и он клевал носом. Он стал расхаживать из угла в угол, колотя себя кулаками по голове, чтобы разогнать сон, но все было напрасно. Потом он положил книгу перед собой и попробовал читать, придерживая веки пальцами, но тотчас же заснул с раскрытыми глазами. Тогда, не в силах больше бороться с усталостью, он разделся, едва сознавая, что делает, и бросился на кровать. Он проспал семь часов тяжелым животным сном и проснулся от звона будильника с ощущением, что все еще не выспался.
— Много прочитал? — спросил его Джо. Мартин отрицательно покачал головой.
— Ничего! — утешил его Джо. — Мы сегодня пустим каток ночью, зато завтра кончим в шесть. У тебя будет тогда время для чтения.
Мартин в этот день полоскал шерстяные вещи в большой лохани, наполненной раствором едкого мыла, причем полоскание производилось с помощью особого приспособления, состоявшего из колесной втулки и поршня, укрепленных на перекладине над лоханью.
— Мое изобретение, — с гордостью сказал Джо. — Заменяет и валек и руки и сберегает к тому же по крайней мере пятнадцать минут в неделю! А ты знаешь, чего стоит каждая минута в этом чертовом пекле!
Пропускание через каток воротничков и манжет было тоже его выдумкой, и вечером, когда они продолжали работу при электрическом свете, Джо объяснил:
— В других прачечных еще не додумались до этого. А я таким образом получаю возможность в субботу кончать работу в три часа. Только надо умело это делать — вот и все. Нужна особая температура, особое давление, и пропускать надо три раза. Посмотри-ка.
Он взял манжету.
— Так и вручную не сделаешь, верно?
В четверг Джо пришел в ярость: был прислан целый узел тонкого крахмального белья сверх нормы.
— К черту, — заорал он, — к дьяволу! Не хочу больше. Я работал, как скотина, целую неделю, экономил каждую минуту, и вдруг, извольте радоваться, узел крахмального белья сверх нормы! Я живу в свободной стране, и я скажу этому голландскому борову все, что я о нем думаю! Я не стану с ним изъясняться по-французски. Найдутся и на языке Соединенных Штатов подходящие словечки. Целый узел сверх нормы!
— Придется опять работать до полуночи, — сказал он через минуту, забыв свою вспышку и покоряясь судьбе.
И в эту мочь Мартину опять не пришлось читать. Уже неделю он не видал газеты и, к собственному удивлению, не чувствовал охоты ее увидеть. Новости его не интересовали. Он был слишком утомлен, чтобы чем-нибудь интересоваться, но все-таки решил в субботу, если они действительно кончат в три, съездить на велосипеде в Окленд. Семьдесят миль туда и семьдесят миль обратно — это значило, что ему не придется вовсе отдохнуть и запастись силами на предстоящую неделю. Было бы лучше поехать поездом, но это обошлось бы в два с половиной доллара, а Мартин твердо решил копить деньги.
Глава семнадцатая
Мартин приобрел много новых познаний. На первой неделе был один день, когда они с Джо пропустили двести белых рубашек. Джо управлял машиной, к перекладине которой был привешен утюг на стальной пружине, регулирующей давление. Так он разглаживал накрахмаленные части рубашки, потом кидал ее Мартину. Тот на доске доглаживал все остальное.
Это была тяжелая, изнурительная работа, продолжавшаяся к тому же беспрерывно, час за часом. На открытых верандах гостиницы мужчины и дамы, одетые в белое, прогуливались для моциона или сидели за столиками и пили прохладительные напитки. Но в прачечной стояла нестерпимая духота. Раскаленная докрасна плита полыхала жаром, а из-под утюгов, прикасавшихся к сырому белью, клубился пар. Утюги нагревались гораздо сильнее, чем их обычно нагревают домашние хозяйки. Утюг, который пробуют, послюнив палец, показался бы Мартину и Джо холодным. Они определяли степень нагретости утюга, просто поднося его к щеке, и угадывали температуру каким-то особым чутьем, которое казалось Мартину совершенно необъяснимым. Если утюг был слишком горячим, его погружали в холодную воду. Это тоже требовало большого навыка и ловкости. Довольно было продержать утюг в воде лишнюю секунду, чтобы остудить его больше, чем нужно; и Мартин сам изумлялся своей точности — безупречной точности автомата, с которой он выполнял этот трудный маневр.
Впрочем, изумляться было некогда. Все внимание Мартин сосредоточил на работе. Не останавливаясь, работал он головой и руками, как живая машина, и работа поглощала все, что в нем было человеческого. В голове не оставалось места для размышлений о мире и его загадках. Все широкие, просторные помещения в его мозгу были заперты и опечатаны. Сознание его поселилось в тесной комнатке, в штурманской рубке, из которой оно посылало указания его рукам и пальцам — как водить утюгом по дымящейся ткани, как в строгой последовательности размеренных движений разглаживать бесконечные рукава, спины, полы, бока, не уклоняясь ни на один дюйм, как отбрасывать выглаженную рубашку, не измяв ее. И тут же его внимание переключалось на следующую рубашку. Так шли долгие часы. Снаружи вся жизнь замирала под жарким солнцем Калифорнии, но в душной прачечной она не замирала ни на мгновение. Тем, кто прохлаждался на верандах гостиницы, постоянно требовалось чистое белье.
Пот градом катился с Мартина. Он пил неимоверное количество воды, но зной был так велик, что влага не задерживалась в теле и выступала изо всех пор. Во время плаваний самая тяжкая работа не мешала ему отдаваться своим мыслям. Владелец судна был только господином его времени; а хозяин гостиницы был еще и господином его мыслей. Мартин не мог думать ни о чем, кроме труда, равно изнурительного и для ума и для тела. Других мыслей у него не было. Он даже не знал, любит ли он Руфь. Она как бы перестала существовать, потому что измученному работой Мартину было не до воспоминаний, и только вечером, когда он ложился в постель, или утром, за завтраком, она мелькала перед ним туманным видением.
— Хуже, чем в аду, верно? — спросил однажды Джо.
Мартин кивнул, но почувствовал вдруг приступ раздражения. Это было ясно и без напоминаний. Они обычно не разговаривали во время работы. Разговор выбивал из ритма, вот и теперь, отвлеченный вопросом Джо, Мартин сделал утюгом два лишних движения.
В пятницу утром запустили стиральную машину. Два раза в неделю приходилось стирать белье гостиницы: скатерти, салфетки, простыни и наволочки. Покончив со всем этим, они принимались за тонкое белье. Это была работа чрезвычайно кропотливая и утомительная, требующая большой осторожности, и у Мартина дело шло медленнее; к тому же он боялся промахов, в данном случае пагубных.
— Видишь эту штуку? — сказал Джо, показывая лифчик, такой тонкий, что его можно было спрятать в кулаке. — Спали его — и с тебя вычтут двадцать долларов.
Но Мартин ничего не спалил; он сумел ослабить напряжение мускулов за счет еще большего напряжения нервов и, работая, с удовольствием слушал ругань, которой Джо осыпал дам, носящих тонкое белье, — конечно, только потому, что им не приходится самим стирать его. Тонкое белье было проклятием для Мартина, да и для Джо тоже. Это тонкое белье похищало у них драгоценные минуты. Они возились с ним целый день. В семь часов они прервали стирку, чтобы прокатать простыни, скатерти и салфетки, а в десять, когда все в гостинице уже спали, снова взялись за тонкое белье и потели над ним до полуночи, до часу, до двух! Они кончили в половине третьего.
В субботу с утра опять было тонкое белье и всякие мелочи, и, наконец, в три часа недельная работа была кончена.
— На этот раз, надеюсь, ты не поедешь в Окленд? — спросил Джо, когда они уселись на ступеньках и с наслаждением закурили.
— Нет, поеду, — ответил Мартин.
— За каким чертом ты туда таскаешься? К девчонке, что ли?
— Нет, мне нужно обменять книги в библиотеке. А чтобы сэкономить два с половиной доллара, я езжу на велосипеде.
— Пошли книги по почте. Это обойдется в четверть доллара.
Мартин задумался.
— Ты лучше отдохни завтра, — продолжал Джо, — тебе это необходимо. Я по себе сужу. Я совсем разбит.
Это было видно. Неутомимый борец за секунды и минуты, враг промедлений и сокрушитель препятствий, неиссякаемый источник энергии, человеческий мотор предельной мощности, сущий дьявол на работе — теперь, окончив свою трудовую неделю, он находился в состоянии полнейшего изнеможения. Он был угрюм и измучен, красивое лицо его осунулось. Он рассеянно курил папироску, и голос его звучал тускло и монотонно. Не было уже в нем ни огня, ни энергии, и даже заслуженный отдых не радовал его.
— А с понедельника опять все сначала, — уныло сказал он. — И на кой черт это в конце концов! А? Иногда я, право, завидую бродягам. Они не работают, а ведь как-то живут. Ох, ох! Я бы с удовольствием выпил стаканчик пива, но ведь для этого надо тащиться в деревню. А ты дурака не ломай. Пошли свои книги по почте, а сам оставайся здесь.
— А что я буду делать тут целый день? — спросил Мартин.
— Отдыхать. Ты сам не понимаешь, как ты устал. Я, например, так устаю к воскресенью, что даже газету прочесть не могу. Я однажды тифом болел. Пролежал в больнице два с половиной месяца — и ни черта не делал все это время. Вот здорово было!
— Да, это было здорово! — повторил он мечтательно минуту спустя.
Мартин пошел принимать ванну, а по возвращении обнаружил, что Джо куда-то исчез. Мартин решил, что он, наверное, отправился выпить стаканчик пива, но пойти в деревню, чтобы разыскать его, у Мартина не хватило духу. Он улегся на кровать, не снимая башмаков, и попробовал собраться с мыслями. До книг он так и не дотронулся. Он был слишком утомлен и лежал в полузабытьи, ни о чем не думая, пока не пришло время ужинать. Джо и тут не явился. На вопрос Мартина садовник заметил, что Джо, наверное, пустил корни у стойки бара. После ужина Мартин пошел спать и проснулся на другое утро, как ему показалось, вполне отдохнувшим. Джо все еще не было. Мартин, развернув воскресную газету, лег в тени под деревьями. Он и не заметил, как прошло утро. Никто ему не мешал, он не спал и тем не менее не мог дочитать газеты. После обеда он снова принялся было за чтение, но очень скоро так и заснул над газетой.
Так прошло воскресенье, а в понедельник утром он уже сортировал белье, в то время как Джо, обвязав голову полотенцем, с проклятиями разводил мыло и запускал стиральную машину.
— Ничего не могу поделать, — объяснил он, — как наступит субботний вечер, меня так и тянет напиться.
Прошла еще неделя беспрерывного труда, причем опять работали до глубокой ночи, при ярком электрическом свете, а в субботу, не успев даже как следует порадоваться тому, что удалось закончить работу к трем часам дня, Джо снова отправился в деревню, чтобы забыться. Мартин провел это воскресенье так же, как и предыдущее. Он немного поспал в тени деревьев, потом рассеянно просмотрел газету, потом несколько часов лежал, ничего не делая, ни о чем не думая. Он был слишком утомлен, чтобы думать, и чувствовал к самому себе отвращение, как будто чем-то унизил и непоправимо осквернил себя. Все возвышенное было в нем подавлено, честолюбие притупилось, а жизненная сила настолько ослабела, что он уже не испытывал никаких стремлений. Он был мертв. Его душа была мертва. Он стал просто скотиной, рабочей скотиной. Он больше не замечал никакой красоты в солнечном сиянии, пронизывавшем зеленую листву, и глубина небесной лазури больше не волновала его и не вызывала мыслей о космосе, исполненном таинственных загадок, которые так хотелось разгадать. Жизнь была нестерпимо скучна и бессмысленна, и казалось, только набивала оскомину. Черное покрывало было накинуто на экран его воображения, а фантазия томилась, загнанная в темную каморку, куда не проникал ни один луч света. Он уже начал завидовать Джо, который регулярно напивался в деревне каждую субботу и в пьяной одури забывал о предстоящей неделе мучительного труда.
Потянулась четвертая неделя; Мартин проклинал себя, проклинал жизнь. С тоской сознавал он свое поражение. Редакторы были правы, отвергая его рассказы. Он теперь ясно понимал это и сам, смеялся над собой и над своими недавними мечтаниями. Руфь по почте вернула ему «Песни моря». Он равнодушно прочел ее письмо. Она, по-видимому, приложила все усилия, чтобы выразить свое восхищение его стихами. Но Руфь не умела лгать, а скрывать правду от самой себя ей тоже было трудно. Стихи ей не понравились, и это сквозило в каждой строчке ее натянутых, вымученных похвал. И она, конечно, была права. Мартин убедился в этом, перечитав стихи; он больше не находил в них красоты и никак не мог понять теперь, что побудило его написать их. Смелые обороты речи теперь показались ему смешными, сравнения чудовищными и нелепыми, все в целом было глупо и неправдоподобно. Он бы охотно тотчас сжег «Песни моря», но от одного его желания они не воспламенились бы, а сойти в машинное отделение у него не было сил: все его силы уходили на стирку чужого белья, и для своих личных дел их уже не оставалось.
Мартин решил в воскресенье во что бы то ни стало написать Руфи письмо. Но в субботу вечером, окончив работу и приняв ванну, он почувствовал непреодолимое желание забыться. «Пойду посмотрю, как там Джо развлекается», — сказал он себе и тотчас понял, что лжет; но у него не хватило сил задуматься об этом, — да и все равно он не стал бы изобличать себя во лжи, потому что больше всего ему хотелось именно забыться. Не спеша, как бы прогуливаясь, он направился в деревню, но, приближаясь к кабачку, невольно ускорил шаги.
— А я думал, ты одну водицу употребляешь! — встретил его Джо.
Мартин не удостоил его объяснением, а заказал виски, налил себе полный стакан и передал бутылку Джо.
— Только пошевеливайся, — грубо сказал он.
Но так как Джо мешкал, Мартин не стал его дожидаться, залпом выпил стакан и налил второй.
— Теперь я могу подождать, — угрюмо произнес он, — но ты все-таки поживее.
Джо не заставил себя уговаривать, и они выпили вместе.
— Доконало-таки? — сказал Джо.
Но Мартин не пожелал вступать в обсуждение этого вопроса.
— Я же тебе говорил, что это ад, а не работа, — продолжал Джо. — Мне, по правде сказать, не нравится, что ты сдал позиции, Март. А в общем к черту! Выпьем.
Мартин пил молча, отрывисто заказывал еще и еще, приводя в трепет буфетчика — деревенского паренька, похожего на девушку, с голубыми глазами и волосами, расчесанными на прямой ряд.
— Это прямо свинство, так загонять людей на работе, — говорил Джо. — Если бы я не напивался, я уже давно подпалил бы ихнее заведение. Их счастье, что я пью, ей-богу.
Но Мартин ничего не ответил. Еще два-три стакана, и пьяный угар начал обволакивать его мозг. А, наконец-то он почувствовал дыхание жизни — впервые за эти недели. Его мечты вернулись к нему. Фантазия вырвалась из темной каморки и манила его к сверкающим высотам. Экран его воображения стал вновь светлым и серебристым, и яркие видения замелькали, обгоняя друг друга. Прекрасное и необычайное шло с ним рука об руку, он снова все знал и все мог. Он хотел объяснить это Джо, но у Джо были свои мечты — о том, как он перестанет тянуть лямку и станет сам хозяином большой паровой прачечной.
— Да, Март, и ребятишки у меня работать не будут, это уж можешь мне поверить. Ни под каким видом. И после шести часов вечера — ни живой души во всей прачечной. Слышишь? Машин будет много, и людей тоже будет много, так чтобы рабочий день кончался, когда положено. А тебя, Март, я сделаю своим помощником. План у меня вот какой. Бросаю пить, начинаю копить деньги и через два года…
Но Мартин не слушал, предоставив Джо излагать свои мечты буфетчику, пока того не отозвали новые посетители — два местных фермера. Мартин с королевской щедростью угостил и их и всех, кто был в трактире, — нескольких батраков, помощника садовника и конюха из гостиницы, самого буфетчика и еще какого-то бродягу, который проскользнул в кабачок как тень и маячил у дальнего конца стойки.
Глава восемнадцатая
В понедельник утром Джо с руганью загрузил первую партию белья в стиральную машину. — Вот я и говорю… — начал он.
— Отстань! — зарычал на него Мартин.
— Прости, Джо, — сказал он позже, когда они сели обедать.
У Джо слезы навернулись на глаза.
— Ладно, старина, — отвечал он, — мы живем в аду, так мудрено ли иной раз окрыситься. А только я тебя за это время полюбил, ей-богу. Оттого-то мне и было немножко обидно. Я как-то сразу привязался к тебе.
Мартин пожал ему руку.
— Бросим все к черту, — предложил Джо, — пойдем бродяжничать. Я никогда не пробовал, но это, должно быть, здорово. Подумай только: ничего не делать! Я раз в тифу провалялся в больнице, так даже вспомнить приятно. Хоть бы опять заболеть!
Шли недели. Гостиница была полна, и тонкого белья поступало все больше и больше. Они проявляли чудеса мужества, работали до полуночи при электрическом свете, сократили время еды, начинали работать еще до завтрака. Мартин больше не брал холодных ванн: не хватало времени. Джо заботливо распоряжался минутами, никогда не терял ни одной, считал их, как скряга считает золото; работал яростно, неистово, как машина, в постоянном контакте с другой машиной, которая некогда была человеком по имени Мартин Иден.
Мартину редко приходилось думать. Обитель мысли была заперта, окна заколочены, а сам он был лишь призрачным стражем у ворот этой обители. Да, он стал призраком. Джо был прав. Они оба были призраками в царстве нескончаемого труда. А может быть, все это был только сон? Иногда, водя тяжелыми утюгами по белоснежной ткани, утопая в клубах горячего пара, Мартин убеждал себя, что все это в самом деле только сон. Быть может, очень скоро, а быть может, через тысячу лет он проснется снова в своей маленькой комнатке за столом, запачканным чернилами, и возобновит прерванную накануне работу. А может быть, все его сочинительство было сном, и он проснется, чтобы заступить на вахту, и, соскочив со своей койки, выйдет на палубу и встанет к штурвалу под усеянным звездами тропическим небом, и свежее дыхание пассата будет холодить ему кожу.
Опять наступила суббота, и в три часа работа была кончена.
— Не пойти ли выпить стаканчик пива? — спросил Джо равнодушным голосом, потому что им уже овладела обычная субботняя апатия.
Но Мартин как будто проснулся. Он привел в порядок велосипед, смазал колеса, проверил руль и вычистил передачу. Джо сидел в салуне, когда Мартин промчался мимо, низко пригнувшись к рулю, ритмически нажимая ногами на педали, глядя вперед, на пыльную дорогу, по которой ему предстояло проехать семьдесят миль. Он переночевал в Окленде, а в воскресенье приехал обратно и принялся в понедельник за работу, усталый, но зато с приятным сознанием, что на этот раз не был пьян.
Прошла пятая неделя, за нею шестая, а Мартин все жил и работал, как машина, и только в глубине его души сохранялась какая-то маленькая искорка, заставлявшая его в конце каждой недели совершать на велосипеде стосорокамильный путь. Но это не было отдыхом. Это было таким же механическим напряжением, и в конце концов в душе Мартина погасла даже эта последняя искорка — все, что оставалось от его былой жизни. В конце седьмой недели, не пытаясь даже сопротивляться, он отправился в деревню вместе с Джо и опять вернул себе ощущение жизни и жил до понедельника.
Однако в следующую субботу он снова проехал семьдесят миль, прогоняя оцепенение, вызванное усталостью, другим оцепенением, вызванным усталостью еще большей. И только в конце третьего месяца он в третий раз отправился в деревню вместе с Джо. Забывшись, он снова ожил, а ожив, увидал, словно при внезапной вспышке молнии, каким он стал животным, — не потому, что пил, а потому, что так работал. Пьянство было следствием, а не причиной. Оно следовало за работой с такою же закономерностью, с какою ночь следует за днем. Став вьючной скотиной, никогда не достигнешь светлых высот: виски подсказало ему эту мысль, и он согласился с нею. Виски проявило великую мудрость. Оно открыло ему важную истину.
Мартин велел подать себе бумагу и карандаш, заказал виски для всей компании, и, пока все пили за его здоровье, он, прислонясь к стойке, написал что-то на бумаге.
— Телеграмма, Джо, — сказал он. — Прочти-ка. Джо стал читать с глупой, пьяной усмешкой. Но то, что он прочел, вдруг отрезвило его. Он с упреком посмотрел на Мартина, и слезы заблестели у него на глазах.
— Ты меня бросаешь, Март? — спросил он печально.
Мартин утвердительно кивнул головой и, подозвав какого-то мальчишку, велел ему сбегать на телеграф.
— Стой! — заплетающимся языком выговорил Джо. — Я хочу обмозговать кое-что.
Он ухватился за стойку, чтобы не упасть, а Мартин обнял его за плечи и поддерживал, пока он не собрался с мыслями.
— Напиши, что оба работника уходят, — внезапно выпалил Джо. — Пиши.
— Но почему же ты-то уходишь? — спросил Мартин.
— Потому же, почему и ты.
— Я отправляюсь в плавание, а ты не можешь.
— Верно, — отвечал Джо, — но я стану бродягой. Очень даже отлично.
Мартин с минуту испытующе смотрел на него и наконец воскликнул:
— Ей-богу, ты прав! Лучше быть бродягой, чем вьючным животным. По крайней мере будешь жить. А до сих пор у тебя жизни не было.
— Была, — запротестовал Джо, — я раз лежал в больнице. Тифом болел, я тебе, кажется, говорил. Эх, и здорово было!
И пока Мартин исправлял в тексте телеграммы «второй рабочий» на «оба рабочих прачечной», Джо продолжал:
— Пока я лежал в больнице, мне совсем не хотелось пить. Чудно, а? Но когда я всю неделю работаю, как лошадь, я должен напиться под конец. Все знают, что повара пьют, как черти… и пекари тоже… Работа такая. Стой! Я плачу половину за телеграмму.
— Ладно, сочтемся, — сказал Мартин.
— Эй, все сюда, я угощаю! — крикнул Джо, высыпая на стойку деньги.
В понедельник утром Джо был сам не свой от волнения. Он не обращал внимания на головную боль и не интересовался работой. Немало было потеряно драгоценных минут, пока он сидел и беспечно глазел в окна, любуясь солнцем и деревьями.
— Посмотрите! — кричал он. — Ведь это все мое. Это свобода! Я могу лежать под деревьями и проспать хоть тысячу лет, если захочу! Пошли, Март. Плюнем на все. Ну их к черту! Чего нам ждать? Впереди страна безделья, и туда я теперь возьму билет, — только не обратный.
Несколько минут спустя, закладывая белье в стиральную машину, Джо увидел рубашку хозяина гостиницы, — он знал его метку. В упоении вновь обретенной свободы он кинул рубашку на пол и начал топтать ее ногами.
— Я бы хотел, чтобы это была твоя морда, голландский боров! — кричал он. — На тебе! Получай! Вот! Вот тебе! Пусть-ка кто-нибудь удержит меня! Пусть попробует!..
Мартин, смеясь, пытался его образумить. Во вторник вечером явились два новых работника, и до конца недели Джо и Мартин были заняты тем, что приучали их ко всем порядкам. Джо сидел и давал наставления, но сам ничего не делал.
— Дудки! — объявил он. — Я и пальцем не пошевелю. Пускай увольняют раньше срока, а я все-таки не пошевелю пальцем. Я работать кончил. Буду разъезжать в товарных вагонах и спать в тени, под деревьями. Эй вы, работнички! Нажимайте! Потейте! Потейте, черт вас возьми! А когда вы околеете, то сгниете так же, как и я сгнию, — и не все ли равно, как вы жили? А? Ну, скажите мне на милость, не все ли равно в конце концов?
В субботу они получили расчет и вместе дошли до перекрестка.
— Ты, конечно, со мной не пойдешь, не стоит и уговаривать? — спросил Джо с видом полной безнадежности.
Мартин отрицательно покачал головой. Он приготовился уже сесть на велосипед. Они пожали друг другу руки, и Джо, удержав на мгновение руку Мартина, сказал:
— Мы с тобой еще увидимся на этом свете, Март. Такое у меня предчувствие. Прощай, Март, будь счастлив. Я тебя люблю, ей-богу люблю!
Он беспомощно стоял посреди дороги, глядя вслед Мартину, пока тот не скрылся за поворотом.
— Славный малый, — пробормотал он, — очень славный.
Потом он побрел вдоль дороги к водокачке, где на запасном пути стояло с полдюжины пустых товарных вагонов в ожидании, когда их прицепят к поезду.
Глава девятнадцатая
Руфь со всей своей семьей вернулась в Окленд, и Мартин снова стал встречаться с нею. Окончив курс и получив степень, она уже не отдавала все время учению, а он, израсходовав на работе свои душевные и физические силы, уже не писал. Это давало им возможность чаще видеться, и они сближались все больше и больше.
Сначала Мартин только отдыхал и ничего не делал. Он много спал, много думал, вообще жил как человек, постепенно приходящий в себя после сильного потрясения. Но вот постепенно у него появился интерес к газете, которую последние недели он только лениво пробегал глазами, — и это послужило первым признаком пробуждения. Потом он начал снова читать, сначала стихи и беллетристику, но прошло еще несколько дней, и он с головой погрузился в давно забытого Фиска. Его изумительное здоровье помогло ему восстановить утраченную было жизненную энергию, и он вновь обрел весь свой юношеский пыл и задор.
Руфь была явно огорчена, когда Мартин сообщил ей, что отправится в плавание, как только вполне отдохнет.
— Зачем? — спросила она.
— Деньги нужны, — отвечал он, — мне нужны деньги для новой атаки на издателей. Деньги и выдержка — лучшее оружие в этой борьбе.
— Но если вам нужны только деньги, почему же вы не остались в прачечной?
— Потому что в прачечной я превращаюсь в животное. Когда так работаешь, недолго и спиться.
Она посмотрела на него с ужасом.
— Вы хотите сказать… — начала она.
Мартин мог бы легко уклониться от ответа, но его натура не терпела лжи, да к тому же ему вспомнилось давнее решение всегда говорить правду, к чему бы это ни вело.
— Да, — отвечал он, — несколько раз случалось. Руфь вздрогнула и отодвинулась от него.
— Ни с кем из моих знакомых этого не случается.
— Вероятно, никто из них не работал в прачечной «Горячих Ключей», — возразил он с горьким смехом. — Труд — дело хорошее, он даже полезен человеку — это говорят проповедники; и, видит бог, я никогда не боялся труда. Но все хорошо в меру. А в прачечной этой меры не было. Потому-то я и решил отправиться в плавание. Это будет мой последний рейс. А вернувшись, я сумею пробиться на страницы журналов. Я уверен в этом.
Руфь молчала, грустная и недовольная, и Мартин чувствовал, что ей не понять того, что он пережил.
— Когда-нибудь я опишу все это в книге, которая будет называться «Унижение труда», или «Психология пьянства в рабочем классе», или что-нибудь в этом роде.
Никогда еще, если не считать первого дня знакомства, они не были так далеки друг от друга. Его откровенная исповедь, за которой таился дух возмущения, оттолкнула Руфь. Но самое это отдаление поразило ее куда больше, чем причина, его вызвавшая. Оно показало, как близки они стали друг другу, и ей захотелось еще большей близости. Кроме того, ей было жаль Мартина, и в душе ее возникали наивные мечты об его исправлении. Она хотела спасти этого юношу, сбившегося с дороги, спасти от окружающей среды, спасти от него самого, хотя бы против его воли. Ей казалось, что ею руководят отвлеченные и благородные побуждения, и она не подозревала, что за всем этим таится лишь ревность и желание любви.
В ясные осенние дни они часто ездили на велосипедах далеко за город и там, на холмах, поочередно читали вслух благородные, вдохновенные поэтические произведения, располагавшие к возвышенным мыслям. Самопожертвование, терпение, трудолюбие — вот принципы, которые косвенным образом старалась внушить ему Руфь, видя воплощение этих принципов в своем отце, мистере Бэтлере и Эндрю Карнеги, который из бедного мальчика-иммигранта превратился в «короля книг», снабжающего ими весь мир.
Старания Руфи были оценены Мартином. Он теперь гораздо лучше понимал ее мысли, и ее душа не была уже для него книгой за семью печатями. Они беседовали и делились мыслями, как равный с равным. Возникавшие при этом разногласия не влияли на любовь Мартина. Его любовь становилась все глубже и сильнее, потому что он любил Руфь такою, какой она была, и даже физическая хрупкость придавала ей в его глазах особое очарование. Он читал о болезненной Элизабет Баррет, которая много лет не касалась ногами земли, пока наконец не наступил тот памятный день, когда она бежала с Браунингом и твердо встала на землю под открытым небом. Мартин решил, что он может сделать для Руфи то, что Браунинг сделал для своей возлюбленной. Но прежде всего Руфь должна его полюбить. Все остальное уже просто. Он даст ей здоровье и силу. Ему часто рисовалась в мечтах их будущая совместная жизнь. Он видел себя и Руфь среди комфорта и благосостояния, созданного трудом. Они читают и говорят о поэзии. Она полулежит на груде пестрых подушек и читает ему вслух. Всегда ему виделась одна и та же картина — символ всей их жизни. Иногда не она, а он читал, обняв ее за талию, причем ее головка покоилась у него на плече, иногда они вдвоем читали одну и ту же книгу молча, одними глазами вбирая в себя всю красоту, которой дышали печатные строчки. Руфь любила природу, и щедрое воображение Мартина позволяло ему менять декорацию, на фоне которой происходила эта излюбленная им сцена. То они находились в долине, окруженной высокими отвесными скалами, то это была зеленая лужайка где-то в горах или же серые песчаные дюны, у подножия которых плещутся морские волны; порою он видел себя вместе с нею где-нибудь на вулканическом острове, под тропиками, где с грохотом низвергаются водопады и брызги их долетают до моря, подхваченные порывами ветра. Но на первом плане всегда были они, Мартин и Руфь, властители прекрасной мечты, вместе склонившиеся над книгой, — красоты природы лишь служили им фоном, а где-то в глубине картины, словно в тумане, рисовались образы труда и успеха и нажитого трудом богатства, позволявшего им наслаждаться всеми сокровищами мира.
— Я бы советовала моей девочке быть поосторожней, — сказала однажды мать Руфи предостерегающим тоном.
— Я знаю, о чем ты говоришь, но это невозможно. Он не…
Руфь смутилась и покраснела: это было смущение девушки, впервые заговорившей о священных тайнах жизни с матерью, которая тоже для нее священна.
— Он не ровня тебе, — докончила мать ее фразу. Руфь кивнула головой.
— Я не хотела этого сказать, но это так. Он груб, неотесан, в нем много силы… слишком много. Он жил не…
Она запнулась. Слишком ново было для нее говорить с матерью о подобных вещах. И снова мать договорила за нее:
— Он жил не вполне добродетельной жизнью. Ты это хотела сказать?
Руфь опять кивнула, и румянец залил ее щеки.
— Да, я как раз это хотела сказать. Это, конечно, не его вина, но он слишком много соприкасался с…
— С житейской грязью?
— Да. И что-то в нем отпугивает меня. Мне иногда просто страшно слышать, как он спокойно говорит о своих поступках. Как будто в этом нет ничего особенного. Но ведь так нельзя. Правда?
Они сидели обнявшись, и когда Руфь умолкла, мать ласково погладила ее руку, ожидая, чтобы дочь снова заговорила.
— Но мне с ним интересно, — продолжала Руфь, — во-первых, он в некотором роде мой подопечный. А потом… у меня никогда не было друзей-мужчин, хотя он не совсем друг. Он и друг и подопечный одновременно. Иногда он пугает меня, мне тогда кажется, что я словно играю с бульдогом, большим таким бульдогом, который рычит и скалит зубы и вот-вот готов сорваться с цепи.
Опять Руфь умолкла, а мать ждала.
— У меня и интерес к нему, как… как к бульдогу. Но в нем очень много хорошего, а много и такого, что мне мешало бы… ну, относиться к нему иначе. Ты видишь, я думала обо всем этом. Он ругается, курит, пьет, он дерется на кулаках, он сам рассказывал мне об этом и даже говорил, что любит драться. Это совсем не такой человек, какого я бы хотела иметь… — Ее голос осекся, и она докончила тихо: — своим мужем. А кроме того, в нем слишком уж много грубой силы. Мой возлюбленный должен быть похож на волшебного принца — тонкий, стройный, изящный, с темными волосами. Нет, не бойся, я не влюблюсь в Мартина Идена, это было бы для меня самым большим несчастьем.
— Я не об этом говорю, — уклончиво сказала мать, — но думала ли ты о нем? Такой человек, во всех отношениях для тебя неподходящий… что, если он полюбит тебя?
— Но он… он давно меня любит! — вскричала Руфь.
— Этого надо было ожидать, — ласково сказала миссис Морз. — Разве тот, кто тебя знает, может не полюбить тебя?
— Вот Олни меня ненавидит! — пылко воскликнула Руфь. — И я ненавижу Олни. Когда он подходит ко мне, мне хочется царапаться, как кошке, я знаю, что противна ему, — и уж, во всяком случае, он противен мне. А с Мартином Иденом мне хорошо. Меня еще никто не любил, «так» не любил. А ведь приятно быть любимой «так». Ты понимаешь, милая мама, что я хочу сказать? Приятно чувствовать себя настоящей женщиной… — Руфь спрятала лицо на груди у матери. — Я знаю, я ужасно дурная, но я не хочу кривить душой и откровенно говорю тебе то, что чувствую.
Миссис Морз была огорчена и обрадована. Дочь-девочка с университетским дипломом исчезла; рядом с ней была дочь-женщина. Опыт удался. Странный пробел в характере Руфи был заполнен, и заполнен безопасно и безболезненно. Этот неуклюжий матрос выполнил свою функцию, и хотя Руфь не любила его, он все же пробудил в ней женщину.
— У него руки дрожат, — говорила Руфь, стыдливо пряча лицо, — это смешно и нелепо, и мне даже жаль его. А когда руки его дрожат слишком сильно, а глаза сверкают слишком ярко, я читаю ему наставления и указываю на все его ошибки. Он боготворит меня, я знаю, его руки и глаза не лгут. И оттого я сама становлюсь взрослой — уже от одной мысли об этом. Я начинаю чувствовать, что во мне есть что-то, присущее моей природе, и я похожа на других девушек… и… и… молодых женщин. Я знаю, что раньше я не была на них похожа, и это тревожило тебя. То есть ты не подавала виду, но я замечала… и я хотела «встать на линию», как говорит Мартин Иден.
Это были святые минуты и для матери и для дочери, и глаза их были влажны в вечерних сумерках. Руфь — невинная, откровенная и неопытная; мать — любящая, понимающая и поучающая.
— Он на три года моложе тебя, — сказала миссис Морз, — у него нет положения в свете. Он нигде не служит и не получает жалованья. Он очень непрактичен. Если он тебя любит, он должен был бы подумать о каком-то занятии, которое дало бы ему возможность и право жениться на тебе, а не забавляться писанием рассказов и детскими мечтами. Боюсь, он никогда и не сделается взрослым. У него нет чувства ответственности, нет стремления найти себе настоящее дело, подобающее мужчине, — как было у твоего отца, у мистера Бэтлера и вообще у всех людей нашего круга. Мартин Иден, мне кажется, никогда не будет зарабатывать деньги. А мир так устроен, что деньги необходимы: без них не бывает счастья, — я не говорю о каком-нибудь огромном состоянии, но просто о твердом доходе, дающем возможность прилично существовать. Он тебе никогда не говорил о своих чувствах?
— Ни одного слова. Даже не пытался; да я бы и не стала слушать. Ведь я-то его не люблю.
— Я рада этому. Я бы не хотела, чтобы моя дочь, моя чистая девочка, полюбила такого человека. Ведь есть на свете много настоящих мужчин, благородных и чистых. Подожди немного. В один прекрасный день ты встретишь такого человека и полюбишь его, и он тебя полюбит. И ты будешь счастлива с ним так, как я была счастлива с твоим отцом. Об одном ты должна всегда помнить…
— Да, мама?
Голос миссис Морз сделался тихим и нежным:
— О детях.
— Я… я думала об этом, — призналась Руфь, вспомнив непрошеные мечты, овладевавшие ею подчас, и снова покраснела от стыда.
— Мистер Иден не может быть твоим мужем именно из-за детей, — многозначительно произнесла миссис Морз. — Они должны унаследовать чистую кровь, а это он едва ли сможет дать им. Твой отец рассказывал мне о жизни матросов, и… и ты понимаешь?
Руфь с волнением сжала руку матери, чувствуя, что все понимает, хотя то страшное и смутное, что ей представлялось, никак не могло принять форму четкой и определенной мысли.
— Ты знаешь, мама, я тебе всегда все говорю, — начала она, — только иногда ты должна сама спрашивать меня — ну, вот так, как сегодня. Я давно уже хотела рассказать тебе об этом, а как начать — не знала. Это, конечно, ложный стыд, но тебе ведь так легко помочь мне! Иногда ты должна расспрашивать меня, давать мне возможность высказаться. Ты тоже ведь женщина, мама! — вскричала вдруг Руфь, схватив мать за руку и радостно ощущая это новое, еще незнакомое равенство между ними. — Я бы никогда не думала об этом, если б ты не начала такого разговора. Нужно было мне сперва почувствовать себя женщиной, чтобы понять, что и ты женщина тоже.
— Мы обе женщины, — сказала мать, обнимая и целуя ее. — Мы обе женщины, — повторила она, когда они, обнявшись, выходили из комнаты, взволнованные вновь возникшим ощущением общности своих судеб.
— Наша маленькая девочка стала, наконец, женщиной, — час спустя с гордостью объявила миссис Морз своему мужу.
— То есть ты хочешь сказать, что она влюблена? — спросил тот, вопросительно посмотрев на жену.
— Нет, я хочу сказать, что она любима, — отвечала та с улыбкой. — Опыт удался. В ней проснулась женщина.
— Тогда надо отвадить Идена, — кратко, деловым тоном заключил мистер Морз.
Но его жена покачала головой:
— Нет надобности: через несколько дней он отправляется в плавание. А когда он вернется, Руфи здесь не будет. Мы пошлем ее к тете Кларе. Ей будет полезно провести год на востоке страны, повидать других людей, другую жизнь, переменить климат, обстановку.
Глава двадцатая
Желание писать снова охватило Мартина. Замыслы рассказов, стихотворений беспрестанно рождались у него в мозгу, и он делал беглые наброски, чтобы когда-нибудь, в будущем, вернуться к ним. Но писать не писал. Это были его каникулы, и он решил посвятить их любви и отдыху, что удалось вполне. Жизнь снова била в нем ключом, и каждый раз при встрече с ним Руфь, как прежде, поддавалась могучему обаянию его здоровья и силы.
— Будь осторожна, — предостерегающе сказала ей однажды мать, — не слишком ли ты часто видишься с Мартином Иденом?
Но Руфь лишь улыбнулась в ответ. Она была слишком уверена в себе, к тому же через несколько дней ему предстояло уйти в плавание. А когда он вернется, она будет уже далеко на Востоке. И все-таки в силе и здоровье Мартина таилась для нее неотразимая привлекательность.
Мартин знал о ее предполагаемой поездке на Восток и понимал, что надо торопиться. Но он совершенно не представлял себе, как подойти к девушке, подобной Руфи. Весь его прежний опыт только затруднял положение. Женщины и девушки, с которыми он привык иметь дело, были совсем другие. Они знали жизнь, хорошо понимали, что такое любовь, ухаживание, флирт, а Руфь ничего этого не знала. Ее удивительная невинность ошеломляла его, лишала дара речи, невольно внушала мысль о том, что он ее недостоин. Было и еще одно обстоятельство, осложнявшее дело. Он сам еще ни разу не любил до сих пор. Бывало, что женщины нравились ему, иными он даже увлекался, но те увлечения отнюдь нельзя было назвать любовью. Просто ему стоило небрежно, по-хозяйски свистнуть — и женщина сдавалась. Это было для него минутной забавой, случайностью, элементом сложной игры, из которой состоит жизнь мужчины, и притом второстепенным элементом. А теперь в первый раз он был робок, смущен, застенчив. Он не знал, как приступить, что говорить, теряясь перед безмятежной чистотой своей возлюбленной.
В своих скитаниях по пестрому, изменчивому миру Мартин научился одному мудрому правилу: играя в незнакомую игру, никогда не делать первого хода. Это правило тысячу раз оправдало себя на деле; к тому же оно развивало наблюдательность Мартин научился ориентироваться, соразмерять свои силы, выжидать, пока обнаружится слабое место противника. Так и в кулачном бою он всегда старался нащупать у противника слабое место. А тогда уже опыт помогал ему, и он бил наверняка.
И теперь, с Руфью, он тоже выжидал, желая и не решаясь заговорить о своей любви. Он боялся оскорбить ее и не был уверен в себе. Но, сам того не подозревая, он выбрал правильный путь. Любовь явилась в мир раньше членораздельной речи, и на заре существования она усвоила приемы и способы, которых никогда уже не забывала. Именно этими первобытными способами Мартин добивался благосклонности Руфи. Сначала он делал это бессознательно, и лишь впоследствии истина открылась ему. Прикосновение его руки к ее руке было красноречивее любых слов, непосредственное ощущение его силы оказывалось могущественнее, чем строчки и рифмы, чем пламенные излияния сотен поколений влюбленных. Словесные объяснения затронули бы прежде всего разум Руфи, тогда как прикосновение руки, мимолетная близость действовали непосредственно на таившийся в ней инстинкт женщины. Разум ее был юным, как она сама. Но инстинкт был стар, как человечество, и даже старше. Он родился в те давние времена, когда родилась сама любовь, и силе этой древней мудрости уступали все тонкости и условности позднейших веков. Разум Руфи молчал. Мартин не обращался к нему; он взывал без слов к той стороне ее существа, которая томилась о любви, и Руфь еще не осознала всей властной силы этого призыва. Что Мартин любит ее, было ясно, как день, и она наслаждалась проявлениями его любви — блеском глаз, дрожанием рук, краской, то и дело заливавшей его щеки под загаром. Иногда Руфь даже как будто разжигала Мартина, но делала это так робко и так наивно, что ни он, ни она сама не замечали этого.
Она замирала от радостного сознания своей женской силы и, подобно Еве, наслаждалась, играя с ним и дразня его.
А Мартин молчал, потому что не знал, как заговорить, и потому что чувства, переполнявшие его, были слишком сильны, молчал и продолжал искать выход в несмелых и безыскусных попытках сближения. Прикосновение его руки доставляло ей удовольствие, и даже нечто большее, чем простое удовольствие. Мартин не знал этого, но он чувствовал, что не противен ей. Правда, они пожимали друг другу руки только здороваясь и прощаясь, но очень часто пальцы их сталкивались, когда они брались за велосипеды, передавали друг другу книжку или вместе листали ее. Случалось, что ее волосы касались его щеки или она на миг прижималась к нему плечом, склоняясь над понравившимся местом в книге. Руфь застенчиво улыбалась про себя тем странным чувствам, которые при этом охватывали ее: иногда, например, ей хотелось потрепать его волосы; а он, в свою очередь, страстно желал, устав от чтения, положить голову к ней на колени и с закрытыми глазами мечтать о будущем — их общем будущем. Сколько раз, бывало, во время воскресных пикников Мартин клал свою голову на колени какой-нибудь девушке и спокойно засыпал, предоставляя ей защищать его от солнца и влюбленно глядеть на него, удивляясь его величественному равнодушию к любви. Положить голову девушке на колени всегда представлялось Мартину самым простым делом в мире, а теперь, глядя на Руфь, он сознавал, что это невозможно, немыслимо. Но именно сдержанность незаметно для самого Мартина вела его к цели. Благодаря своей сдержанности он ни разу не возбудил в Руфи тревоги. Неопытная и застенчивая, она не понимала, какой опасный оборот начинают принимать их встречи. Ее бессознательно влекло к нему, а он, чувствуя растущую близость, хотел и не решался быть смелее.
Но однажды Мартин проявил смелость. Придя к Руфи, он застал ее в комнате со спущенными шторами; она пожаловалась на сильную головную боль.
— Ничего не помогает, — сказала она в ответ на его расспросы. — А порошки мне доктор Холл запретил принимать.
— Я вас вылечу без всякого лекарства, — отвечал Мартин. — Не уверен, конечно, но, если хотите, можно попробовать. Мое средство — самый простой массаж. Меня научили ему в Японии. Ведь японцы — первоклассные массажисты. А потом я видел, как то же самое, только с некоторыми изменениями, делают и гавайцы. Они называют этот массаж «ломи-ломи». Он иногда действует гораздо лучше всякого лекарства.
Едва его руки коснулись ее лба, Руфь сказала со вздохом:
— Как хорошо!
Через полчаса она спросила его:
— А вы не устали?
Вопрос был излишний, ибо она знала, какой последует ответ. И Руфь, впав в полудремотное состояние, подчинилась ему. Целительная сила истекала из его пальцев, отгоняя боль, — так по крайней мере ей казалось. Наконец боль настолько утихла, что Руфь спокойно уснула, и Мартин потихоньку удалился.
Вечером она позвонила ему по телефону.
— Я спала до ужина, — сказала она, — вы меня совершенно исцелили, мистер Иден; не знаю, как и благодарить вас.
Мартин от радости и смущения едва нашел слова для ответа, а в его мозгу все время плясало воспоминание о Браунинге и Элизабет Баррет. Что сделал Браунинг для своей возлюбленной, может сделать и он, Мартин Иден, для Руфи Морз. Вернувшись в свою комнату, он лег на постель и принялся за спенсерову «Социологию». Но чтение не шло на ум. Любовь всецело владела его мыслями, и вскоре, сам не заметив как, он очутился у своего столика, испачканного чернилами. И сонет, написанный им в этот вечер, был первым из цикла пятидесяти «Сонетов о любви», который он завершил через два месяца. Идея цикла была навеяна «Сонетами с португальского» Элизабет Баррет. Он писал при самых благоприятных для создания великого произведения обстоятельствах, — писал, одержимый любовью.
То время, в которое он не виделся с Руфью, Мартин посвящал «Сонетам о любви» и чтению у себя дома или в читальне, где внимательно изучал текущие номера журналов, стараясь проникнуть в тайну издательских вкусов. В те часы, которые Мартин проводил с Руфью, надежды чередовались с неопределенностью, и то и другое было одинаково мучительно. Через неделю после того как Мартин вылечил Руфь от головной боли, Норман предложил прокатиться в лунную ночь на лодке по озеру Меррит, а Артур и Олни охотно поддержали этот план. Никто, кроме Мартина, не умел управлять парусной лодкой, а потому его и попросили взять на себя обязанности капитана. Руфь села рядом с ним на корме, а трое молодых людей, разместившись на средних скамьях, завели нескончаемый спор о каких-то своих студенческих делах.
Луна еще не взошла, и Руфь, молча смотревшая в звездное небо, вдруг почувствовала себя одинокой. Она взглянула на Мартина. Порыв ветра слегка накренил лодку, и Мартин, держа одной рукой румпель, а другой гроташкот, слегка изменил курс, стараясь обогнуть выступ берега. Он не замечал ее взгляда, а она внимательно смотрела на него, размышляя о странной прихоти, которая побуждает его, юношу незаурядных способностей, тратить время на писание посредственных рассказов и стихов, заведомо обреченных на неуспех.
Взгляд Руфи скользнул по его красиво посаженной голове, по могучей шее, смутно обрисовывавшейся при свете звезд, и знакомое желание — обвить руками эту шею — снова овладело ею. Та присущая ему сила, которая казалась ей неприятной, в то же время влекла ее. Чувство одиночества усилилось, и Руфь ощутила усталость. Качание лодки раздражало ее. Она вспомнила, как Мартин вылечил ее от головной боли одним своим прикосновением. Он сидел рядом с нею, совсем рядом, и лодка, накренясь, как бы подталкивала ее к нему. И Руфи вдруг захотелось прислониться к Мартину, найти в нем опору — и, не успев еще осознать это желание, она уже клонилась, подчиняясь ему. А может быть, в этом была виновата качка? Руфь не знала. Она и не узнала никогда. Она знала лишь, что прислонилась к нему, что ей теперь хорошо и спокойно. Пусть даже все дело было в качке, но Руфь не хотела отодвинуться от Мартина. Она оперлась на его плечо, оперлась очень легко, но не отодвинулась даже тогда, когда он переменил позу, чтобы ей было удобнее сидеть.
Это было безумием, но ей не хотелось ни о чём думать. Она уже не была прежней Руфью, она была женщиной, и женская потребность опоры говорила в ней; правда, она только слегка прислонилась к Мартину, но потребность была удовлетворена. Ее усталости как не бывало. Мартин молчал. Он боялся рассеять чары. Благодаря его сдержанности и робости очарование длилось, но у него кружилась голова и путались мысли. Он никак не мог понять, что случилось. Это было слишком чудесно, это не могло случиться наяву. Он с трудом преодолевал желание выпустить шкот и румпель и сжать ее в объятиях. Но он инстинктивно чувствовал, что это испортило бы дело, и мысленно благодарил судьбу за то, что у него заняты руки. Однако он сознательно замедлил ход лодки, без зазрения совести отпуская парус, чтобы подольше затянуть галс. Он знал, что при перемене галса ему придется пересесть, и их близость будет нарушена. Все это он проделывал опытной рукой, не возбуждая в спорщиках ни малейшего подозрения. Он благословлял всю свою трудную матросскую жизнь за то, что она дала ему умение подчинять своей воле море, лодку и ветер и теперь позволяла продлить эту драгоценную близость с любимой в чудесную лунную ночь.
Когда первый луч луны озарил их жемчужным сиянием, Руфь отодвинулась от Мартина и, отодвигаясь, почувствовала, что и он сделал то же. Им обоим хотелось скрыть все от других. Это должно было остаться их тайной. Руфь сидела теперь в стороне, с пылающими щеками, только сейчас осознав, что произошло. Она сделала что-то такое, чего не хотела обнаружить ни перед братьями, ни перед Олни. Как могла она решиться? Никогда еще этого с ней не случалось, хотя она много раз каталась в лунные ночи на лодке с молодыми людьми. У нее даже желаний таких не появлялось. Она стыдилась и страшилась этой побуждающейся женственности. Она поглядела украдкой на Мартина, который в этот момент был занят переменой галса, и готова была возненавидеть его за то, что он вызвал ее на такой необдуманный и бесстыдный поступок. И именно он — Мартин Иден! Быть может, ее мать в самом деле права, и они слишком часто видятся. Руфь тут же твердо решила, что это никогда не повторится, а в дальнейшем она постарается реже встречаться с ним. У нее даже явилась нелепая мысль солгать ему, вскользь сказать как-нибудь при случае, что ее укачало в лодке и она почувствовала себя нехорошо как раз перед тем, как взошла луна. Но тут она вспомнила, как они отодвинулись друг от друга перед лицом обличительницы-луны, и поняла, что Мартин ей не поверит.
Все последующие дни Руфь была сама не своя; она не хотела анализировать свои чувства, перестала думать о том, что с нею происходит и что ее ждет; точно в лихорадке прислушивалась она к тайному зову природы, то страшному, то чарующему. Но одно она решила твердо, и это решение придавало ей уверенности: не дать Мартину заговорить о любви. Пока он молчит, все обстоит благополучно. Через несколько дней он уйдет в плавание. А впрочем, если он и заговорит, все равно ничего не случится. Ведь она-то не любит его. Конечно, это будут мучительные полчаса для него и довольно затруднительные для нее, так как ей впервые придется выслушать объяснение в любви. От одной этой мысли сердце ее сладко забилось. Она стала настоящей женщиной, и мужчина добивается ее руки. Все женское в ней готово было откликнуться на зов. Трепет охватил все ее существо, одна и та же мысль назойливо клубилась в голове, как мотылек над огнем. Она зашла так далеко, что уже представляла себе, как Мартин делает ей формальное предложение: она вкладывала слова в его уста, а сама по нескольку раз повторяла свой отказ, стараясь по возможности смягчить его, взывая к присущему Мартину благородному мужеству. Прежде всего он должен бросить курить. На этом она будет особенно настаивать. Но нет, нет, она совсем не разрешит ему говорить о любви. Это в ее власти, и она обещала это своей матери. Краснея и вся дрожа, Руфь с сожалением отгоняла недозволенные мечты. Придется отложить ее первое любовное объяснение до более подходящего времени и до встречи с более достойным претендентом.
Глава двадцать первая
Наступили чудесные дни, теплые и полные неги, какие часто бывают в Калифорнии в пору бабьего лета, когда солнце словно окутано дымкой и слабый ветерок едва колеблет дремотный воздух. Легкий лиловатый туман, словно сотканный из цветных нитей, прятался в складках холмов, а по ту сторону залива дымным пятном раскинулся город Сан-Франциско. Залив блестел, словно полоса расплавленного металла, и на нем кое-где белели паруса судов, то неподвижных, то лениво скользящих по течению. Вдалеке, в серебристом тумане, высился Тамальпайс; Золотые Ворота и в самом деле золотились в лучах заходящего солнца, а за ними открывались безмерные просторы Тихого океана, окаймленные на горизонте густыми облаками — первыми предвестниками надвигающейся зимы.
Лету пора было уходить. Но оно все еще медлило здесь, среди холмов, сгущая лиловые тени в долинах, и под дымчатым саваном удовлетворенности и утомления умирало спокойно и тихо, радуясь, что жило и что жизнь его была плодотворна. На склоне своего любимого холма сидели Мартин и Руфь, совсем рядом, склонив головы над страницами книги; он читал ей вслух стихи любви, написанные женщиной, которая любила Браунинга так, как умеют любить лишь немногие женщины.
Но чтение подвигалось плохо. Слишком сильны были чары угасающей красоты в природе. Золотая пора года умирала так, как жила, — прекрасной и нераскаянной грешницей, и, казалось, самый воздух вокруг был напоен истомой сладких воспоминаний. Эта истома проникала в кровь Мартина и Руфи, лишала их воли, радужным туманом обволакивала мысли и решения. Мартин поддавался разнеживающей слабости, и временами его словно окатывало теплой волной. Их головы совсем сблизились, и когда от случайного порыва ветра волосы Руфи касались его щеки, печатные строчки плыли у него перед глазами.
— По-моему, вы не слушаете того, что читаете, — сказала Руфь, когда он вдруг сбился, потеряв место, которое читал.
Мартин поглядел на нее горящими глазами, но, не выдав себя, ответил:
— И вы тоже не слушаете. О чем говорилось в последнем сонете?
— Не знаю, — засмеялась она. — Я уже забыла. Не стоит больше читать. Уж очень хорош день.
— Нам теперь долго не придется гулять, — сказал он серьезно, — вон там, на горизонте, собирается буря.
Книга выскользнула из его рук, и они молча сидели, глядя на дремлющий залив мечтательными, невидящими глазами. Руфь мельком взглянула на шею Мартина. Какая-то сила, более властная, чем закон тяготения, могучая, как судьба, вдруг повлекла ее. Всего на один дюйм ей надо было склониться, чтобы коснуться плечом его плеча, и это случилось помимо ее воли. Она коснулась его так легко, как бабочка касается цветка, и тут же почувствовала ответное прикосновение, такое же легкое, почувствовала, как при этом прикосновении дрожь прошла у него по телу. Ей надо было отодвинуться в эту минуту. Но она уже не могла совладать с собой. Все, что она делала, делалось автоматически, без участия ее воли, да она и не заботилась уже ни о чем, охваченная радостным безумием.
Рука Мартина нерешительно протянулась и обняла талию Руфи. Она ждала с мучительным наслаждением, ждала, сама не зная чего; губы ее пересохли, сердце стучало, кровь горела в ней. Объятие Мартина стало крепче, он медленно и нежно привлекал ее к себе. Она не могла больше ждать. Она судорожно вздохнула и безотчетным движением уронила голову к нему на грудь. Мартин быстро наклонился, и губы их встретились.
Это, должно быть, любовь, подумала Руфь, когда на один миг к ней вернулось сознание. Если это не любовь, это слишком постыдно. Конечно, это могла быть только любовь. Она любила этого человека, руки которого обнимали ее, а губы прижимались к ее губам. Она прильнула к нему еще крепче инстинктивным, прилаживающимся движением, и вдруг, почти вырвавшись из его объятий, решительно и самозабвенно обхватила руками загорелую шею Мартина Идена. И так сильна, так остра была радость удовлетворенного желания, что в следующее мгновение она с тихим стоном разжала руки и почти без чувств поникла в его объятиях.
Еще долго не было сказано ни одного слова. Дважды он наклонялся и целовал ее, и каждый раз ее губы робко тянулись навстречу и тело инстинктивно искало уютной, покойной позы. Она была не в силах оторваться от него, и Мартин молча сидел, держа ее в объятиях и устремив невидящий взгляд на огромный город по ту сторону залива. На этот раз никакие видения не возникали перед ним. Он видел только краски и яркие лучи, жаркие, как этот чудесный день, горячие, как его любовь. Он склонился к ней; она заговорила.
— Когда вы полюбили меня? — спросила она шепотом.
— С первого дня, с самой первой минуты, как только я вас увидел. Еще тогда полюбил и с тех пор с каждым днем любил все сильнее. А теперь еще сильнее люблю, дорогая. Я совсем сошел с ума. У меня голова кружится от счастья.
— Мартин… дорогой! Как хорошо быть женщиной, — сказала она, глубоко вздохнув.
Он снова крепко сжал ее в объятиях, потом тихо спросил:
— А вы, когда вы поняли впервые?
— О, я поняла это давно, почти сразу!
— Значит, я был слеп, как летучая мышь! — вскричал Мартин, и в его голосе прозвучала досада. — Я догадался об этом только теперь, когда поцеловал вас.
— Я не то хотела сказать. — Она слегка отодвинулась и взглянула на него. — Я поняла уже давно, что вы меня любите.
— А вы? — спросил он.
— Мне это открылось как-то вдруг. — Она говорила очень тихо, взгляд ее потеплел и затуманился, щеки порозовели. — Я не понимала до тех пор, пока… пока вы не обняли меня. И я никогда до этой минуты не думала, что могу стать вашей женой, Мартин. Чем вы приворожили меня?
— Не знаю, — улыбнулся он. — Разве только своей любовью. Моя любовь могла бы растопить камень, не то что сердце живой женщины.
— Это так все не похоже на любовь, как я ее себе представляла, — растерянно произнесла она.
— Как же вы себе ее представляли?
— Я не думала, что она такая.
Она секунду смотрела в его глаза и потом сказала, потупившись:
— Я совсем ничего не понимала.
Ему снова захотелось привлечь Руфь к себе, но он медлил, боясь испугать ее, и только рука, обнимавшая ее, невольно чуть дрогнула. Тогда она сама потянулась к нему, и губы их опять слились в долгом поцелуе.
— Что скажут мои родители? — спросила она вдруг с внезапной тревогой.
— Не знаю. Но это нетрудно узнать, как только мы пожелаем.
— А если мама не согласится? Я ни за что не решусь сказать ей.
— Давайте я скажу, — храбро предложил он. — Мне почему-то кажется, что ваша мать меня недолюбливает, но это ничего, я сумею покорить ее. Тот, кто покорил вас, может покорить кого угодно. А если это не удастся…
— Что тогда?
— Мы все равно не расстанемся. Но только я уверен, что ваша мать согласится. Она слишком сильно вас любит.
— Я боюсь разбить ее сердце, — задумчиво сказала Руфь.
Мартин хотел сказать, что материнские сердца не так-то легко разбиваются, но вместо этого произнес:
— Ведь любовь — самое великое, что есть в мире!
— Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас. Я и теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я, в сущности, еще дитя! Я ведь еще никого не любила!
— И я тоже. Мы оба дети. И мы очень счастливы. Ведь наша первая любовь оказалась взаимной!
— Но этого не может быть, — вскричала она вдруг, высвобождаясь из его рук быстрым, порывистым движением, — не может быть, чтобы вы… Ведь вы были матросом, а матросы, я знаю…
Голос ее осекся.
— Привыкли иметь жен в каждом порту, — закончил он за нее. — Вы это хотели сказать?
— Да, — тихо отвечала она.
— Но ведь это не любовь, — возразил он авторитетным тоном. — Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался от вас в первый раз, меня чуть-чуть не забрали.
— Как забрали?
— Очень просто. Полисмен подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян… от любви!
— Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети, а я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.
— Я же вам ответил, что никого раньше не любил, — возразил он, — вы моя первая, моя самая первая любовь.
— А все-таки вы были матросом, — настаивала она.
— И тем не менее полюбил я вас первую.
— Да, но ведь были женщины… другие женщины… О! — И, к великому удивлению Мартина, Руфь вдруг залилась слезами, так что понадобилось немало поцелуев, чтобы успокоить ее.
Мартину невольно пришли на память слова Киплинга: «Но знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны». Он подумал, как, в сущности, это верно, хотя романы, читанные им, заставляли его думать иначе. По этим романам он составил себе представление, что в высшем обществе единственный путь к женщине — формальное предложение руки и сердца. В том кругу, из которого он вышел, для девушек и юношей объятия и поцелуи были обыкновенным делом. Но среди утонченных представителей высшего класса подобные способы выражения любви казались ему невозможными. Значит, романы лгали. Он только что получил этому доказательство. Одни и те же безмолвные ласки производят одинаковое впечатление и на бедных работниц и на девушек высшего общества. Несмотря на несходство положений, они «во всем остальном равны». Он мог бы и сам додуматься до этого, если бы вспомнил Герберта Спенсера. И, утешая Руфь ласками и поцелуями, Мартин с удовольствием возвращался к мысли о том, что знатная леди и Джуди О'Греди, в сущности, равны во всем. Эта мысль приближала к нему Руфь, делала ее доступнее. Ее прекрасное тело было таким же, как и у всех людей. Ничего невозможного не было в их браке. Классовое различие оставалось единственным различием между ними, но и оно было в конце концов чисто внешним. Им можно было пренебречь. Читал же Mapтин об одном римском рабе, который возвысился до пурпурной тоги. Почему же бы и ему не возвыситься до Руфи? При всей своей чистоте, непорочности, образованности и душевном изяществе она была самой настоящей женщиной, такой же, как Лиззи Конолли и все Лиззи Конолли на свете. Все, что было свойственно им, было свойственно и ей. Она могла любить, ненавидеть; быть может, ей даже случалось биться в истерике; наконец, она могла ревновать, уже ревновала, думая о его недавних портовых любовницах.
— А кроме того, я старше вас, — вдруг сказала она, взглянув ему в глаза, — я старше вас на три года.
— И все-таки вы дитя. По житейскому опыту я старше вас на тридцать три года, — возразил Мартин.
В действительности оба они были детьми во всем, что касалось любви; и по-детски неумело и наивно выражали свои чувства, несмотря на ее университетский диплом и ученую степень и несмотря на его философские познания и суровый жизненный опыт.
Они сидели, озаренные сиянием меркнущего дня, разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные; дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела их, и твердо верили, что любят так, как никто еще не любил на свете. Они беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь воскресить свои впечатления друг от друга, стараясь точно восстановить, что они тогда подумали и почувствовали.
Облака на западе поглотили заходящее солнце. Небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете, и Руфь тихонько запела «Прощай, счастливый день». Она пела, положив голову ему на плечо, и руки ее были в его руках, и каждый из них в этот миг держал в своей руке сердце другого.
Глава двадцать вторая
Даже если бы миссис Морз не обладала материнской чуткостью, она и тогда бы легко догадалась обо всем, только взглянув на Руфь. Достаточно было взглянуть на румянец, заливавший ее щеки, и блестящие глаза, в которых светилась радость и победное ликование.
— Что случилось? — спросила миссис Морз, дождавшись, когда Руфь легла в постель.
— Ты догадалась? — спросила, в свою очередь, Руфь дрожащим голосом.
Вместо ответа мать нежно обняла ее и провела рукой по ее волосам.
— Он ничего не сказал! — воскликнула Руфь. — Я совсем не хотела, чтобы это случилось, и я бы ни за что не позволила ему говорить, — но он ничего не сказал.
— Но если он ничего не сказал, то ничего и не могло случиться.
— И все-таки случилось.
— Ради бога, дитя мое, что ты болтаешь! — произнесла миссис Морз. — В чем дело? Что такое случилось?
Руфь с изумлением посмотрела на мать.
— Я думала, что ты уже догадалась, — сказала она. — Мы с Мартином жених и невеста.
Миссис Морз разразилась смехом, в котором слышались недоверие и досада.
— Но он ничего не сказал, — продолжала Руфь. — Он просто любит меня, вот и все. Для меня это было так же неожиданно, как для тебя. Он не сказал ни слова. Он просто обнял меня, и я… я совсем потеряла голову. Он поцеловал меня, и я его поцеловала… Я не могла иначе. Я должна была его поцеловать. И тут я поняла, что люблю его.
Руфь умолкла, ожидая, что мать ее приласкает, но миссис Морз хранила зловещее молчание.
— Конечно, это ужасно, я понимаю, — снова начала Руфь упавшим голосом. — Не знаю, сможешь ли ты простить меня. Но я не могла иначе. Я до той минуты не подозревала, что люблю его. Только ты сама скажи об этом отцу.
— А может быть, лучше ничего не говорить отцу? Я сама поговорю с Мартином Иденом и объясню ему все. Он поймет и освободит тебя от данного слова.
— Нет, нет! — вскричала Руфь с живостью. — Я не хочу, чтобы он освобождал меня. Я люблю его, а любить так хорошо. Я выйду за него замуж, конечно, если вы мне позволите.
— У нас с твоим отцом несколько другие планы, Руфь, милая… нет, нет, нет, ты не думай, что мы тебе кого-нибудь навязываем. Мы просто хотим, чтобы ты вышла за человека нашего круга, за настоящего джентльмена, почтенного и уважаемого, которого ты сама выберешь и полюбишь.
— Но ведь я уже люблю Мартина, — жалобно возразила Руфь.
— Мы вовсе не хотим влиять на твой выбор; но ты наша дочь, и мы не можем позволить тебе выйти замуж за такого человека. Ничем, кроме грубости и невоспитанности, он не может ответить на всю твою нежность и деликатность. Он тебе не пара ни в каком отношении. Ему не на что даже содержать тебя. Мы не гонимся за богатством, но комфорт и известное благосостояние муж обязан дать жене; и наша дочь должна выйти замуж за человека, который может ей это обеспечить, а не за нищего авантюриста, матроса, ковбоя, контрабандиста и бог знает, кто он там еще. К тому же это необыкновенно легкомысленный человек, совершенно лишенный чувства ответственности.
Руфь молчала, сознавая, что мать говорит правду.
— Он тратит время на свои писания и хочет достигнуть того, чего редко достигают даже особо одаренные и высокообразованные люди. Человек, думающий о женитьбе, должен как-то подготовиться к такому шагу. А у него этого и в мыслях нет. Я уже сказала — и я знаю, ты согласишься со мной, — что у него нет чувства ответственности. Да и откуда оно возьмется? Все матросы таковы. Он никогда не старался быть бережливым и воздержанным. Привык тратить не считая, и это уже вошло у него в плоть и кровь. Конечно, тут не его вина, но это не меняет дела. А подумала ли ты о его прежней жизни, разгульной и распущенной, — она не могла быть иной. А ты знаешь, моя девочка, что такое брак?
Руфь вздрогнула и прижалась к матери.
— Я думала… — Руфь надолго замолчала, подыскивая слова. — Это, конечно, ужасно. Мне так тяжело об этом думать. Я сознаю, что моя любовь — большое несчастье, но я ничего не могу поделать с собою. Могла ты не полюбить папу? Вот и со мной то же самое. Что-то есть такое в нем и во мне — до сегодняшнего дня я не понимала этого, но что-то есть, что заставляет меня любить его. Я никак не думала, что полюблю его, а вот полюбила, — заключила она с оттенком торжества в голосе.
Еще долго тянулся этот бесплодный разговор, и в конце концов они решили подождать некоторое время, ничего не предпринимая.
С этим решением согласился час спустя и мистер Морз, после того, как жена рассказала ему о неожиданном результате, к которому привела ее хитрость.
— Иначе и быть не могло, — заявил мистер Морз, — ведь, кроме этого матроса, она не знала близко ни одного мужчины. Рано или поздно женщина должна была проснуться в ней. Она проснулась, и, извольте радоваться, рядом оказался этот малый… Ясно, что она немедленно влюбилась в него или по крайней мере вбила это себе в голову, что в конце концов одно и то же.
Миссис Морз сказала, что попробует воздействовать на Руфь косвенным путем, вместо того чтобы прямо противиться ее желанию. Времени для этого достаточно, так как Мартин в данный момент не может и думать о женитьбе.
— Пусть себе видится с ним, сколько хочет, — решил мистер Морз. — Чем ближе она его узнает, тем вернее разлюбит. Надо дать ей возможность сравнить его с кем-нибудь. Надо собирать у нас в доме побольше молодежи, девушек и молодых людей нашего круга, культурных и воспитанных, настоящих джентльменов. Рядом с ними он будет выглядеть иначе. Она увидит его в настоящем свете. А потом в конце концов он просто мальчишка. Ведь ему всего двадцать один год. Руфь тоже совершенный ребенок. Это просто детская влюбленность, и со временем она пройдет.
На том и порешили. В семейном кругу признали, что Мартин и Руфь помолвлены, но оглашения не делали. Родители втайне считали, что это и не понадобится. Само собою разумелось, что помолвка будет весьма продолжительной. Мартину ничего не говорили о необходимости изменить образ жизни и приняться за серьезную работу; ему никто не советовал прекратить писать. В планы семьи не входило способствовать его жизненным успехам. А сам Мартин только лил воду на мельницу своих недоброжелателей, так как меньше всего думал о приискании солидного занятия.
— Не знаю, одобрите ли вы мои начинания, — сказал Мартин Руфи несколько дней спустя. — Я решил, что жить у сестры мне не по карману, и хочу устроиться самостоятельно. Я уже снял комнату в Северном Окленде, в очень тихом доме, и купил керосинку — буду сам себе стряпать.
Руфь пришла в восторг. Особенно ей понравилась керосинка.
— Вот и мистер Бэтлер с этого начал, — сказала она.
Мартин слегка нахмурился при упоминании имени достопочтенного джентльмена и продолжал:
— Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их опять по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру, а с завтрашнего дня начинаю работать.
— Вы поступили на службу! — вскричала она, всем своим существом откликаясь на радостную весть, придвигаясь ближе, улыбаясь, сжимая его руку. — Что же вы мне ничего не сказали! Что это за служба?
Но Мартин отрицательно покачал головой.
— Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать. — Ее лицо вытянулось, и он торопливо продолжал: — Поймите меня правильно. На этот раз я не буду предаваться радужным мечтам. Мною руководит холодный, прозаический, чисто деловой расчет. Это лучше, чем снова отправляться в плавание, и я уверен, что заработаю гораздо больше, чем рядовой оклендский служащий. За последние месяцы у меня было время многое обдумать. Я не работал, как ломовая лошадь, и я почти ничего не писал, а если и писал, то не для печати. Все свое время я отдавал любви к вам и размышлениям о разных вещах. Кое-что, правда, читал, но это было непосредственно связано с моими размышлениями — читал главным образом журналы. Я думал о себе, о мире, о своем месте в нем и о том, какие у меня есть шансы добиться положения, которое я мог бы предложить вам. Кроме того, я прочел «Философию стиля» Спенсера и нашел там очень много интересного, имеющего прямое отношение ко мне, вернее, к моим писаниям, а также и к той литературе, которая каждый месяц печатается в журналах. И вот к чему я пришел в результате всего этого — размышлений, чтения и любви к вам: я решил сделаться литературным ремесленником. На время забуду о шедеврах и буду писать всякий вздор: фельетоны, анекдоты, стишки на злобу дня, юмористику, — вообще все, на что есть спрос. Ведь существуют же литературные агентства, которые поставляют материал для газет, для страниц юмора, для воскресных приложений. Я буду мастерить то, что им требуется, и, уверяю вас, начну неплохо зарабатывать. Есть молодчики, которые выгоняют в месяц четыреста, а то и пятьсот долларов. Я не собираюсь уподобляться им; но, во всяком случае, я заработаю на жизнь, и у меня еще будет время для своей работы и для учения, чего никакая служба не даст. Понемногу я начну пробовать свои силы на настоящих вещах и буду учиться и готовиться к настоящей работе. Знаете, я сам изумляюсь, как сильно я подвинулся. Когда я в первый раз взялся за перо, мне, в сущности, и писать было не о чем. Я просто описывал разные происшествия, не умея даже понять их по-настоящему. Никаких идей, никаких мыслей у меня не было. У меня не было даже слов, которыми я бы мог мыслить. Все, что я пережил, рисовалось мне в виде ряда картин, лишенных всякого значения. Но когда я начал учиться и пополнил свой словарь, я стал прозревать во всех этих картинах многое такое, чего раньше не замечал. Вот тогда-то я начал писать настоящие вещи: я написал «Приключение», «Радость», «Котел», «Вино жизни», «Веселую улицу», «Сонеты о любви» и «Песни моря». Я напишу еще очень многое в таком роде, и даже гораздо лучше, но я буду заниматься этим лишь в свободное время. Я теперь больше не витаю в облаках. Сначала черная работа для заработка, а уж потом шедевры. Вчера вечером, специально чтобы доказать вам, что я прав, я написал с полдюжины мелочей для юмористических еженедельников, а когда уже ложился спать, мне пришло в голову попробовать силы на шуточных куплетах, и в какой-нибудь час я написал целых четыре штуки. Можно получить по доллару за каждый. Заработать четыре доллара между делом, укладываясь спать, — право, это не так уж плохо. Конечно, такая работа сама по себе не имеет никакой ценности. Это скучно и однообразно, но не скучнее, чем всю жизнь вести конторские книги и складывать бесконечные столбцы цифр за шестьдесят долларов в месяц. Притом эта работа все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность писать настоящие вещи.
— Но какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? — спросила Руфь. — Ведь вы же не можете продать их?
— Не скажите… — начал он. Она перебила его:
— Из всего того, что вы перечислили и что вам так нравится самому, вы до сих пор не продали ни одной строчки. Мы не можем пожениться в расчете на шедевры, которых никто не покупает.
— Ну, так мы поженимся в расчете на куплеты, которые будут покупать все, — упрямо сказал Мартин и обнял ее. Но Руфь на этот раз не была расположена к ласкам. — Вот, послушайте, — намеренно весело сказал он, — это не искусство, но это доллар:
Веселый, приплясывающий ритм стихов не вязался с обескураженным выражением, которое постепенно принимало его лицо. Руфь не улыбнулась. Она смотрела на него сумрачно.
— Может быть, за это и дадут доллар, — сказала она, — но это доллар рыжего в цирке. Как вы не понимаете, Мартин, что это унизительно для вас! Мне бы хотелось, чтобы любимый и уважаемый мною человек был занят более серьезным и достойным делом, чем сочинение рифмованного вздора.
— Вы бы хотели, чтобы он был похож на мистера Бэтлера? — спросил Мартин.
— Я знаю, что вы не любите мистера Бэтлера, — начала она.
— Мистер Бэтлер — прекрасный человек, — перебил он. — В нем все хорошо, кроме несварения желудка. Но, право, я не понимаю, почему сочинять куплеты хуже, чем стучать на машинке или потеть над конторскими книгами? И то и другое лишь средство для достижения цели. Вы хотите, чтобы я начал с корпенья над книгами и в конце концов сделался каким-нибудь адвокатом или коммерсантом. А я хочу начать с мелкой газетной работы и стать впоследствии большим писателем.
— Тут есть разница, — настаивала Руфь.
— В чем же?
— Да хотя бы в том, что вы никак не можете продать те свои произведения, которые считаете удачными. Вы ведь пробовали неоднократно, а редакторы не покупают у вас ничего.
— Дайте мне время, дорогая, — сказал Мартин умоляюще. — Эта работа — только пока, и я ее всерьез не принимаю. Дайте мне года два. За эти два года я достигну успеха, и мои произведения будут нарасхват. Я знаю, что говорю. Я верю в себя, и мне известно, на что я способен. Я знаю, что такое литература, я знаю, какой дрянью ничтожные писаки наводняют газеты и журналы. И я уверен, что через два года я буду на пути к успеху и к славе. А деловой карьеры я никогда не сделаю. У меня к ней не лежит сердце. Она представляется мне чем-то скучным, мелочным, тупым и бессмысленным. Во всяком случае, я для нее не гожусь. Мне никогда не пойти дальше простого клерка, а разве мы можем быть счастливы, живя на жалкое конторское жалованье? Я хочу добиться для вас самого лучшего, что только есть на свете, и добьюсь во что бы то ни стало. Добьюсь! Знаменитый писатель своими заработками даст десять очков вперед всякому мистеру Бэтлеру. Знаете ли вы, что книга, которая «пошла», может дать автору пятьдесят тысяч долларов, а то и все сто. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше, но в среднем около этого.
Руфь молчала. Она была очень огорчена и не скрывала своего огорчения.
— Плохо ли? — спросил он.
— У меня были совсем другие надежды и планы. Я считала и сейчас считаю, что вам всего лучше было бы научиться стенографии — писать на машинке вы умеете — и поступить в папину контору. У вас большие способности, и я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.
Глава двадцать третья
Мартин не стал меньше любить и уважать Руфь от того, что она проявляла такое недоверие к его писательскому дару. За время своих «каникул» Мартин очень много думал о себе и анализировал свои чувства. Он окончательно убедился, что красота ему дороже славы и что прославиться ему хотелось лишь для Руфи. Ради нее он так настойчиво стремился к славе. Он мечтал возвеличиться в глазах мира, чтобы любимая женщина могла гордиться им и счесть его достойным.
Мартин настолько любил красоту, что находил удовлетворение в служении ей. И еще больше он любил Руфь.
Любовь казалась ему прекраснее всего в мире. Не она ли произвела в его душе этот великий переворот, превратив его из неотесанного матроса в мыслителя и художника? Что же удивительного, что любовь представлялась ему выше и наук и искусств. Мартин начинал уже сознавать, что в области мысли он сильней Руфи, сильней ее братьев и отца. Несмотря на преимущества университетского образования, несмотря на звание бакалавра искусств, Руфь не могла и мечтать о таком понимании мира, искусства, жизни, каким обладал Мартин, самоучка, еще с год назад не знавший ничего.
Все это он понимал, но это никак не влияло ни на его любовь к ней, ни на ее любовь к нему. Любовь была слишком прекрасным, слишком благородным чувством, и Мартин, как истый влюбленный, считал невозможным оскорблять его критикой. Какое дело любви до взглядов Руфи на искусство, на французскую революцию или на всеобщее избирательное право? Все это относится к области рассудка, а любовь выше рассудка. Мартин не мог унижать любовь, потому что боготворил ее. Любовь обитала на недосягаемых вершинах, высоко над долинами разума. Она была квинтэссенцией жизни, высшей формой существования и не всякому выпадала на долю. Научная философия его любимых авторов раскрыла ему биологическое значение любви; но, продолжая развивать для себя их основные положения, он пришел к выводу, что именно в любви человеческий организм вполне оправдывает свое назначение, а потому любовь должна приниматься без всяких оговорок, как высшее благо жизни. Влюбленный представлялся Мартину существом, отмеченным благодатью, и ему приятен был образ «юноши, одержимого любовью», для которого не имеют цены земные блага — богатство, знания, успех, — не имеет цены сама жизнь, ибо он в «поцелуе умереть готов».
Мысли подобного рода приходили Мартину в голову и раньше, до многого же он додумался лишь потом. А пока что он не переставал работать, ведя спартанский образ жизни и позволяя себе отвлекаться от занятий лишь для того, чтобы повидаться с Руфью. За комнату, которую он снимал у португалки по имени Мария Сильва, он платил два с половиной доллара в месяц. Португалка, особа довольно сварливого нрава, была вдовой и неустанно трудилась, чтобы прокормить многочисленных детишек, заливая подчас горе бутылкой кислого вина, купленного в соседнем погребке за пятнадцать центов. Сначала Мартин возненавидел эту женщину, в особенности его раздражал ее язык, но потом он начал восхищаться мужеством и упорством, с каким она вела тяжкую борьбу за существование. В домике было всего четыре маленьких комнатки, и одну из них занял Мартин. Другая комната служила гостиной, ей придавал веселый вид пестрый половик, покрывавший пол, но фотография одного из умерших малюток в гробу вносила скорбную ноту. Гостиная предназначалась только для гостей, ставни в ней всегда были затворены, и босоногая команда допускалась туда лишь в особо торжественных случаях. Мария стряпала на кухне, там же все семейство ело, и там же она стирала, гладила, трудилась не покладая рук изо дня в день, кроме воскресенья. Она стирала на соседей, и это служило главным источником ее дохода. Спальня была так же мала, как и комната, занимаемая Мартином, и в ней ютилась сама Мария и семеро ребятишек. Мартину казалось совершенно необъяснимым, как они там все размещались; по вечерам он слышал за тонкой перегородкой возню, визг и писк, напоминавший чириканье птенцов. Другим источником дохода Марии были две коровы, которых она доила утром и вечером и которые паслись на пустыре или контрабандой пощипывали травку, растущую по обочинам дороги. Два оборванных мальчугана, дети хозяйки, пасли коров — иначе говоря, зорко смотрели, чтобы они не попались на глаза полисменам.
В своей тесной каморке Мартин спал, учился, писал, думал, занимался хозяйством. Перед единственным окном, выходящим на крыльцо, стоял кухонный стол, который служил и письменным столом, и библиотекой, и подставкой для пишущей машинки. Кровать, поставленная у задней стены, занимала две трети комнаты. Со столом соседствовал шкафчик для белья, который, видно, изготовляли, заботясь больше о прибыли, чем об удобствах потребителя; покрывающий его тонкий слой фанеры весь покоробился. Шкафчик этот помещался в одном углу, а в другом была кухня — ящик из-под мыла, на котором стояла керосинка, а внутри хранились посуда и кухонные принадлежности, над ним полка для провизии и рядом ведро с водой; в комнате не было водопроводного крана, за водою нужно было ходить на кухню. Дни большой стряпни, когда горячий пар наполнял комнату, особенно болезненно отзывались на поверхности шкафчика. Над кроватью Мартин повесил велосипед. Сначала его оставлял внизу, но ребятишки Сильвы отвинчивали педали и прокалывали шины. Тогда он попробовал пристроить его на крылечке, но крылечко было крошечное и не могло служить надежной защитой от дождя, а потому в конце концов Мартину пришлось перетащить велосипед в комнату и подвесить под потолком.
В узеньком стенном шкафу висела одежда и лежали книги, которые не помещались уже ни на столе, ни под столом. Читая, Мартин имел обыкновение делать заметки, и их накопилось так много, что пришлось протянуть через всю комнату веревки и развесить на них тетрадки наподобие сохнущего белья. Вследствие этого передвигаться по комнате стало довольно затруднительно. Он не мог отворить двери, не затворив прежде дверцу стенного шкафа, и наоборот. Пройти через комнату по прямой линии было невозможно. Чтобы от двери дойти до и. воловья кровати, надо было совершить сложный, зигзагообразный путь, и в темноте Мартин всегда на что-нибудь натыкался. После маневра с входной дверью и дверцей шкафа приходилось круто забрать вправо, чтобы не наткнуться на кухонный ящик; потом повернуть влево, огибая кровать, причем малейшее отклонение от курса грозило столкновением со столом. Искусно лавируя, можно было войти в канал, одним берегом которого являлся стол, а другим кровать. Но когда единственный стул стоял на своем месте, перед столом, этот канал становился несудоходным. Когда стул не был в употреблении, он стоял на кровати; впрочем, Мартин нередко стряпал сидя, так как, пока кипела вода или жарилось мясо, он успевал прочесть две-три страницы. Угол, занимаемый кухней, был так мал, что Мартин мог, не вставая со стула, достать все необходимое. Стряпать сидя было даже удобнее: стоя, Мартин загораживал себе свет.
Мартин знал несколько блюд, питательных и дешевых в одно и то же время, да кроме того его могучий желудок переваривал что угодно. Основой его питания был гороховый суп, картофель и крупные коричневые бобы, приготовленные по мексиканскому способу. Рис, сваренный так, как не сумела бы сварить ни одна американская хозяйка, появлялся на столе непременно хоть раз в день. Вместо масла Мартин варил и ел с хлебом сушеные фрукты, которые были вдвое дешевле свежих. Иногда он разнообразил меню куском мяса или супом из костей. Два раза в день он пил кофе без сливок или молока, а вечером пил чай; но и тот и другой напиток был приготовлен артистически.
Мартину поневоле приходилось быть расчетливым. Его каникулы поглотили почти все, что он заработал в прачечной, а свои «ремесленные» произведения он отправил так далеко, что ответ мог прийти лишь через несколько недель. Он жил затворником и нарушал свое уединение лишь для того, чтобы навестить сестру или повидаться с Руфью. Работал он за троих. Спал по-прежнему всего пять часов, и только железное здоровье давало ему возможность выносить ежедневное девятнадцатичасовое напряжение труда. Мартин не терял ни одной минуты. За рамку зеркала он затыкал листочки с объяснениями некоторых слов и с обозначением их произношения: когда он брился или причесывался, он повторял эти слова. Такие же листочки висели над керосинкой, и он заучивал их, когда стряпал или мыл посуду. Листки все время сменялись. Встретив при чтении непонятное слово, он немедленно лез в словарь и выписывал слово на листочек, который вывешивал на стене или на зеркале. Листочки со словами Мартин носил и в кармане и заглядывал в них на улице или дожидаясь очереди в лавке.
Эту систему Мартин применял не только к словам. Читая произведения авторов, достигших известности, он отмечал особенности их стиля, изложения, построения сюжета, характерные выражения, сравнения, остроты — одним словом, все, что могло способствовать успеху. И все это он выписывал и изучал. Он не стремился подражать. Он только искал каких-то общих принципов. Он составлял длинные списки литературных приемов, подмеченных у разных писателей, что позволяло ему делать общие выводы о природе литературного приема, и, отталкиваясь от них, он вырабатывал собственные, новые и оригинальные приемы и учился применять их с тактом и мерой. Точно так же он собирал и записывал удачные и красочные выражения из живой речи — выражения, которые жгли, как огонь, или, напротив, нежно ласкали слух, яркими пятнами выделяясь среди унылой пустыни обывательской болтовни. Мартин всегда и везде искал принципов, лежащих в основе явления. Он старался понять, как явление создается, чтобы иметь возможность самому создавать его. Он не довольствовался созерцанием дивного лика красоты; в своей тесной каморке, наполненной кухонным чадом и криками хозяйских ребятишек, он, как химик в лаборатории, старался разложить красоту на составные части, понять ее строение. Это должно было помочь ему творить красоту.
Мартин мог работать только сознательно. Такова была его натура; он не мог работать вслепую, не зная, что выходит из-под его рук, полагаясь только на случай и на звезду своего таланта. Случайные удачи не удовлетворяли его. Он хотел знать, «как» и «почему». Его творчество было творчеством осмысленным, и, принимаясь за рассказ или стихи, Мартин держал в голове план всего произведения, ясно представлял себе и свою цель и те художественные средства, которыми он располагает для достижения этой цели. Он был убежден, что без этого его попытки обречены на неудачу. С другой стороны, он воздавал должное и тем случайным словам и сочетаниям слов, которые вдруг ярко вспыхивали в его мозгу и впоследствии с честью выдерживали испытание, не только не вредя, но даже способствуя красоте и цельности произведения. Перед подобными находками Мартин благоговел, видя в них нечто большее, чем результат сознательного творческого усилия. Но, исследуя красоту и стараясь доискаться до законов прекрасного, Мартин чувствовал, что есть в ней что-то сокровенное, куда ему не удастся проникнуть и куда не проникал еще ни один человек. Он твердо усвоил из сочинений Спенсера, что конечной сущности вещей человеку не дано познать, и тайна красоты столь же непостижима, как и тайна жизни, может быть, даже еще непостижимее; что красота и жизнь сплетаются между собою, а сам человек — частица этого удивительного сплетения звездной пыли, солнечных лучей и еще чего-то неведомого.
Под влиянием этих мыслей Мартин написал однажды статью, озаглавленную «Звездная пыль», в которой он нападал не на критику, а на критиков. Это было блестящее, глубокомысленное произведение, исполненное изящества и юмора. Впрочем, и оно было немедленно отклонено всеми журналами, куда он послал его. Но Maртин, освободившись от волновавших его мыслей, продолжал идти своей дорогой. Он давно уже приучил себя хорошенько вынашивать, додумывать до конца каждую рождавшуюся у него мысль и затем излагать ее на бумаге. Его не слишком огорчало, что ни одна его строчка до сих пор не была напечатана. Писание было для него заключительным звеном сложного умственного процесса, последним узлом, которым связывались отдельные, разрозненные мысли, подытоживанием накопившихся фактов и положений. Написав статью, он освобождал в своем мозгу место для новых идей и проблем. В конце концов это было нечто вроде присущей многим привычки время от времени «облегчать свою душу словами» — привычки, которая помогает иногда людям переносить и забывать подлинные или вымышленные страдания.
Глава двадцать четвертая
Шли недели. Деньги у Мартина были на исходе, а издательские чеки все не появлялись. Серьезные рассказы неизменно возвращались обратно, не лучше обстояло дело и с произведениями «ремесленными». Разнообразные кушанья уже не готовились в его маленькой кухне, так как у него оставалось всего с полмешочка рису и немного сушеных абрикосов. Этим он и питался в течение пяти дней. Потом он решил прибегнуть к кредиту. Лавочник-португалец перестал отпускать провизию, как только долг Мартина достиг внушительной суммы в три доллара и восемьдесят пять центов.
— Потому что, — сказал лавочник, — у вас нэт работа. Как вы мнэ будет заплатить?
Мартин ничего не мог возразить на это. Рассуждения лавочника были вполне логичны. Как можно открывать кредит молодому здоровому малому из рабочих, по лени не желающему искать работы.
— Заработаешь дэньга — будет обэд, — говорил лавочник. — Нэт монэт — нэт обэд. Такая дэла…
И чтобы доказать Мартину, что тут нет личного предубеждения, португалец прибавил:
— Давай выпэй. Одна стакана. Я угощай. Ты друг, я друг.
И Мартин выпил стаканчик в подтверждение дружбы и лег спать, не поужинав.
Овощи Мартин покупал в другой лавке, и хозяин американец, будучи менее тверд в своих коммерческих принципах, довел кредит Мартина до пяти долларов, после чего тоже прекратил отпуск товара в долг. Булочник остановился на двух долларах, а мясник — на четырех. Сложив все свои долги, Мартин определил их общую сумму в четырнадцать долларов и восемьдесят пять пенсов. Подошел и срок платежа за пишущую машинку, но Мартин решил, что два месяца вполне сможет пользоваться ею в долг, что составит еще восемь долларов. Когда пройдет и этот срок, все кредитные возможности будут исчерпаны.
Последней его покупкой в овощной лавке был мешок картофеля, и целую неделю Мартин ел одну картошку по три раза в день. Время от времени он обедал у Морзов и этим поддерживал немного свои силы, хотя, глядя на множество расставленных на столе яств и из вежливости отказываясь от лишнего куска, он испытывал танталовы муки. Иногда, поборов стыд, Мартин отправлялся в обеденное время к своей сестре и там ел столько, сколько осмеливался, — впрочем, все-таки больше, чем у Морзов.
День за днем продолжал он все так же упорно работать, и день за днем почтальон приносил ему отвергнутые рукописи. Денег на марки не было, и возвращенные рукописи грудой валялись под столом. Однажды случилось так, что у него почти двое суток не было куска во рту. На обед у Морзов он не мог рассчитывать, так как Руфь на две недели уехала гостить в Сан-Рафаэль, а пойти к сестре ему мешал стыд. В довершение бед почтальон принес ему пять рукописей сразу. Тогда Мартин взял свое пальто, поехал в Окленд и через некоторое время вернулся домой уже без пальто, но с пятью долларами в кармане. Каждому из лавочников он уплатил по доллару, и в кухне у него опять зашипело поджариваемое с луком мясо, закипел кофе и появился большой горшок вареного чернослива. Пообедав, Мартин сел за стол, и в полночь у него была готова статья под названием «Сила ростовщичества». Кончив писать, он швырнул рукопись под стол, потому что от пяти долларов уже ничего не оставалось: купить марок было не на что.
Несколько дней спустя Мартин заложил часы, а потом и велосипед; сэкономив на провизии, он накупил марок и снова разослал все свои рукописи. «Доходные» произведения обманули ожидания Мартина. Никто не покупал их. Сравнивая их с тем, что печаталось в газетах и дешевых еженедельных журнальчиках, он по-прежнему находил, что сам пишет гораздо лучше. Однако все-таки он не мог продать ни одной строчки. Узнав, что большинство газет получает готовый материал из специальных агентств — «синдикатов», он отправил несколько заметок в одно такое агентство, но очень скоро получил их обратно вместе с печатным бланком, в котором говорилось, что синдикат организует материал силами своих штатных сотрудников.
В одном журнале для юношества он увидел целые столбцы анекдотов и маленьких рассказиков, то, что называется «смесью». Вот еще способ заработать деньги! Но и тут Мартин потерпел полную неудачу: все ему было, по обыкновению, возвращено. Впоследствии, когда это уже не имело для него значения, он узнал, что обычно сотрудники редакции пишут такие мелочи сами, ради дополнительного заработка. Юмористические еженедельники возвращали все его шутки и стишки; не находили сбыта и стихотворные фельетоны, которые Мартин посылал в крупные журналы. Оставался еще газетный фельетон. Мартин прекрасно знал, что может написать гораздо лучше, чем то, что печатается, и, узнав адрес двух литературных агентств, буквально завалил их очерками и небольшими рассказами. Но, написав двадцать и не пристроив ни одного, Мартин перестал писать. А между тем изо дня в день он читал десятки рассказов и фельетонов, которые не выдерживали никакого сравнения с его попытками в этом жанре. Доведенный до отчаяния, он решил, наконец, что, загипнотизированный своими произведениями, потерял всякое критическое чутье и способность здраво судить о своем творчестве.
Бесчеловечная издательская машина продолжала свою работу. Мартин вкладывал рукопись в пакет вместе с маркой для ответа и опускал ее в почтовый ящик, а недели три-четыре спустя почтальон звонил у дверей и возвращал ему рукопись. Очевидно, никаких живых людей по указанным адресам не было. Были просто хорошо слаженные, смазанные маслом автоматы. Впав в полное отчаяние, Мартин начал вообще сомневаться в существовании редакторов. Ни один еще не подал признака жизни, а то обстоятельство, что все им написанное неизменно отвергалось без объяснений, как будто подтверждало ту мысль, что редактор — миф, созданный и поддерживаемый усилиями наборщиков, метранпажей и редакционных курьеров.
Часы, которые Мартин проводил в обществе Руфи, были единственными счастливыми часами в его жизни, да и то не всегда. Тревога, постоянно владевшая им, стала еще мучительнее после того, как Руфь открыла ему свою любовь, потому что сама Руфь оставалась такой же недостижимой, как и прежде. Мартин просил ее подождать два года, но время шло, а он ничего еще не добился. Кроме того, он постоянно чувствовал, что Руфь не одобряет его занятий. Она, правда, не говорила этого прямо, зато косвенно давала понять достаточно определенно. Она не возмущалась, она именно не одобряла, хотя женщина менее кроткого нрава наверняка возмутилась бы тем, что ей доставляло только огорчение. Ее огорчало, что человек, которого она решила перевоспитать, не поддается перевоспитанию. Вначале он показался ей довольно податливым, но потом вдруг заупрямился и не пожелал походить ни на мистера Морза, ни на мистера Бэтлера.
Самого достойного и значительного в Мартине она не замечала или, что еще хуже, не понимала. Этого человека, настолько гибкого, что он мог приспособляться к любым формам человеческого существования, Руфь считала упрямым и своенравным, потому что не умела перекроить его по своей мерке — единственной, которую знала. Она не могла следовать за полетом его мысли, и когда он достигал высот, ей недоступных, она просто считала, что он заблуждается. Рассуждения отца, матери, братьев и даже Олни ей всегда были понятны, — и потому, не понимая Мартина, она считала, что в этом его вина. Повторялась исконная трагедия одиночки, пытающегося внушить истину миру.
— Вы привыкли преклоняться перед всем, что пользуется признанием, — сказал однажды Мартин, поспорив с Руфью о Прапсе и Вандеруотере. — Я согласен, что это надежные и устойчивые авторитеты, их считают лучшими литературными критиками Соединенных Штатов.
Каждый школьный учитель видит в Вандеруотере вождя американской критики. Но я его прочел, и мне он показался типичным образцом блестящего пустословия. Одни банальности, прикрытые высокопарными фразами. И Прапс не лучше. Его «Лесные мхи», например, написаны превосходно. Ни одной запятой нельзя выкинуть, а общий тон — ах, какой торжественный тон! Он самый высокооплачиваемый критик в Соединенных Штатах. Но, да простит мне господь эту дерзость, он, собственно, вообще не критик. В Англии искусство критики стоит выше. Дело в том, что подобные критики все время повторяют избитые истины, которые звучат у них и благородно, и высоконравственно, и возвышенно. Рупор ходячих мнений — вот что они такое. Их критические статьи напоминают воскресные проповеди. Они всячески поддерживают преподавателей английской филологии, а те, в свою очередь, поддерживают их. И ни у тех, ни у других не гнездится под черепной коробкой ни одной оригинальной идеи. Они знают только то, что общепризнано, — да, собственно, общепризнанное — это они и есть. Все утвердившиеся идеи приклеиваются к ним так же легко, как этикетки к пивным бутылкам. И главная их обязанность состоит в том, чтобы вытравить из университетской молодежи всякую оригинальность мышления и заставить мыслить по определенному трафарету.
— Мне кажется, — возразила Руфь, — что я ближе к истине, придерживаясь общепризнанного, чем вы, нападая на авторитеты, как дикарь на священные изображения.
— Священные изображения низвергают не дикари, а миссионеры, — засмеялся Мартин, — но, к сожалению, все миссионеры разъехались по языческим странам, и у нас не осталось ни одного, который помог бы низвергнуть мистера Вандеруотера и мистера Прапса.
— А заодно и всех университетских профессоров, — прибавила она.
Он энергично закачал головой.
— Нет. Преподаватели естественных наук пусть остаются. Они действительно делают дело. Но из преподавателей английской филологии — этих попугайчиков с микроскопическими мозгами — девять десятых не вредно было бы выгнать вон.
Столь суровое отношение к филологам казалось Руфи просто кощунственным. Она невольно сравнивала степенных, элегантно одетых университетских преподавателей, говорящих размеренным голосом, проникнутых утонченной культурой, с этим невозможным человеком, которого она почему-то полюбила, вчерашним матросом в дурно сшитом костюме, со стальными мускулами чернорабочего — человеком, который ни о чем не умеет говорить спокойно, горячится, вместо того чтобы тактично изложить свою точку зрения, и кричит, когда нужно проявлять достоинство и выдержку. Преподаватели по крайней мере получали хорошее жалованье и были — да, этого нельзя было не признать — настоящими джентльменами, тогда как Мартин не мог заработать ни одного пенса и на джентльмена походил очень мало.
Руфь даже не считала нужным вникать в аргументы Мартина. Что они были ошибочны, в этом ее убеждало положение вещей. Преподаватели, несомненно, были правы в своих суждениях о литературе, ибо они добились успеха в жизни, а Мартин ошибался уже потому, что не мог продать ни одного своего произведения. Говоря его языком, у них «вышло», а у него не выходило. И разве мог он судить правильно о литературе, — он, который еще так недавно стоял посреди этой самой комнаты, красный от смущения, неуклюжий, озираясь в страхе, как бы не уронить какой-нибудь безделушки, спрашивая, давно ли умер «Свайнберн», и глупо хвастаясь, что читал «Все выше и выше» и «Псалом жизни».
Таким образом, Руфь сама подтверждала свое преклонение перед общепризнанным. Мартин отлично понимал ее мысли, но не желал придавать этому значения. Он любил ее независимо от того, как она относилась к Прапсу, Вандеруотеру и преподавателям английской филологии, но все больше убеждался, что сумел проникнуть в области мышления, для нее совершенно недоступные, о существовании которых она даже и не подозревает.
Руфь, в свою очередь, считала, что Мартин ничего не понимает в музыке, а суждения его об опере она находила не только неверными, но намеренно парадоксальными.
— Вам понравилось? — спросила однажды Руфь, когда они возвращались из оперы.
В этот вечер, ценою целого месяца суровой экономии на еде, он смог пригласить ее в театр. Тщетно прождав, что Мартин сам заговорит о спектакле, который на нее произвел сильное впечатление, она, наконец, решила спросить его.
— Мне очень понравилась увертюра, — отвечал он, — это было превосходно.
— Ну, а сама опера?
— Опера тоже, то есть оркестр, разумеется. Но было бы еще лучше, если бы эти шуты гороховые поменьше ломались или вовсе бы ушли со сцены.
Руфь была ошеломлена.
— Вы говорите о Тетралани и Барильо? — спросила она.
— Да, и о них и обо всех других тоже.
— Но ведь это же великие артисты!
— Все равно. Они своим глупым кривляньем только портили музыку.
— Так неужели вам не нравится голос Барильо?! — воскликнула Руфь. — Ведь он считается вторым после Карузо.
— Нет, отчего же, нравится, а Тетралани нравится еще больше. У нее исключительный голос, насколько я могу судить.
— Но… но… — Руфь не находила слов. — Я тогда ничего не понимаю. Вы восхищаетесь их голосами, а говорите, что они портили музыку.
— Вот именно. Я бы много дал, чтобы послушать их в концерте, и дал бы еще больше, чтобы не слышать их, когда играет оркестр. Видно, я безнадежный реалист. Великие певцы не всегда великие актеры. Конечно, прекрасно, когда Барильо ангельским голосом поет любовную арию, а Тетралани вторит ему голосом, еще более ангельским, и все это на фоне яркой, сверкающей всеми красками оркестровой музыки. Не спорю, это огромное наслаждение. Но все впечатление мгновенно разбивается, как только я взгляну на сцену и увижу даму гренадерского роста, весом фунтов в двести, и рядом маленького квадратного человечка, с обрюзгшей физиономией и грудной клеткой кузнеца, которые становятся в позы, хватаются за сердце и размахивают руками, словно обитатели сумасшедшего дома. А я должен верить, что это любовная сцена между юным принцем и прекрасной принцессой. Нет, я не верю. Это чушь, глупость. Это неестественно. Вот в чем все дело: это совершенно неестественно. Неужели хоть кто-нибудь объясняется в любви таким образом? Да если бы я вздумал вам так объясняться, вы надавали бы мне пощечин!
— Вы не понимаете, — негодовала Руфь, — каждый вид искусства имеет свои ограничения. (Она вспомнила лекцию об условности искусства, слышанную недавно в университете.) Вот живопись двухмерна. Однако вы принимаете иллюзию трех измерений, которую художник создает силой своего таланта. В литературе автор всемогущ и всезнающ. Ведь вы признаете за ним право сообщать о тайных помыслах героини, хотя, когда эта героиня думала, никто не мог подслушать ее мысли? То же самое в театре, в скульптуре, в опере — всюду. С некоторыми противоречиями приходится мириться.
— Да, я понимаю, — отвечал Мартин, — всякое искусство условно, (Руфь изумилась, как правильно он выразился: как будто это был человек с университетским образованием, а не самоучка, читавший в библиотеке все, что попадалось под руку.) Но и в условности должна быть реальность. Деревья, намалеванные на картоне и стоящие по бокам сцены, мы считаем лесом. Это условность, но достаточно реальная. Но ведь изображение моря мы не будем принимать за лес. Мы не можем этого сделать. Это значило бы насиловать свои чувства. И потому-то все ужимки и гримасы двух сумасшедших, которых мы только что видели, никак нельзя принять за выражение любовных чувств и настроений.
— Неужели вы и в музыке считаете себя выше авторитетов? — возмущенно сказала Руфь.
— О нет, нет. Просто я позволяю себе иметь собственное мнение. Я говорю все это для того, чтобы объяснить вам, почему слоновая грация госпожи Тетралани испортила мне все впечатление от оркестра. Может быть, музыкальные авторитеты совершенно правы. Но у меня есть свое мнение, и я не подчиню его приговору всех авторитетов на свете, вместе взятых. Что мне не нравится, то не нравится, и с какой стати я должен делать вид, что не это понравилось! Только потому, что это нравится, ли будто бы нравится, большинству? Я не желаю подчинять свои вкусы моде.
— Но музыка требует подготовки, — возразила Руфь, — а опера требует особой подготовки. Может быть…
— …я еще недостаточно подготовлен, чтобы слушать оперу?.. — договорил Мартин.
Ока кивнула.
— Возможно, — согласился он, — но я даже рад этому. Если бы меня смолоду приучили к опере, я, вероятно, сегодня проливал бы слезы умиления, глядя на эту парочку, и от ее ужимок пение и музыка казались бы мне еще прекраснее. Но вы правы. Это все — дело воспитания, а меня уже воспитывать поздно. Мне нужно или нечто реальное, или совсем ничего. Иллюзия, в которой нет и намека на правду, не трогает меня, и опера кажется мне сплошной фальшью, в особенности когда я вижу, как маленький Барильо судорожно хватает в объятия огромную Тетралани и говорит ей о том, как он ее любит.
Но Руфь, как всегда, судила о взглядах Мартина, исходя из внешних признаков и из своего преклонения перед общепризнанным. Кто он такой, в конце концов, чтобы считать правым только себя, а весь культурный мир обвинять в непонимании? Высказывания Мартина не произвели на нее никакого впечатления. Руфь слишком привыкла ко всему общепризнанному и не сочувствовала мятежным мыслям; к тому же музыкой она занималась с детства, с детства любила оперу, так же как и все люди ее круга. По какому же праву этот Мартин Иден, еще вчера не слышавший ничего, кроме рэгтаймов и уличных песенок, берется судить о мировых сокровищах музыки? Руфь была задета в своем самолюбии и, продолжая идти рядом с Мартином, испытывала смутное чувство обиды. В лучшем случае его суждения можно было великодушно признать капризом или нелепой шуткой. Но когда, прощаясь с ней у дверей дома, Мартин обнял ее и нежно поцеловал, Руфь забыла все, вновь охваченная любовью. После, лежа в постели без сна, Руфь все раздумывала, как могло случиться, что она полюбила такого странного человека, полюбила вопреки желанию всей своей семьи.
На следующий день Мартин Иден отложил в сторону свои «доходные» литературные поделки и одним духом написал статью под названием «Философия иллюзий». Украшенный маркой конверт с рукописью отправился в путешествие, но бедной «Философии» суждено было переменить еще очень много марок и совершить очень много длительных путешествий.
Глава двадцать пятая
Мария Сильва была бедна и хорошо знала, что такое бедность. Для Руфи слово «бедность» означало просто известные неудобства существования. Этим исчерпывалось ее представление о бедности. Она знала, что Мартин Иден беден, и мысленно сравнивала его жизнь с жизнью юного Авраама Линкольна или мистера Бэтлера — вообще всех тех, кто, начав с лишений, достиг под конец успеха и благополучия. Признавая, что быть бедным неприятно, Руфь в то же время разделяла утешительное буржуазное представление о том, что бедность — превосходный стимул для карьеры, сулящей успех всякому, кто не лишен ума и способностей. Поэтому Руфь не слишком огорчилась, узнав, что Мартину пришлось заложить часы и пальто. Наоборот, она даже была довольна, надеясь, что тем скорее он образумится и бросит свои литературные начинания.
Видя худое и осунувшееся лицо Мартина, Руфь не подозревала, что он голодает. Она даже радовалась перемене в нем, находя, что его облик стал одухотвореннее, тоньше, утратил ту мощь здорового животного, которая одновременно и влекла и отталкивала ее. Иногда Руфь восхищалась каким-то особенным блеском его глаз, делавшим его похожим на поэта или ученого, то есть на того, кем он хотел бы быть и кем она хотела его видеть. Но Марии Сильве ввалившиеся щеки и горящие глаза Мартина говорили совсем другое, и по этим признакам она изо дня в день отмечала перемены в благосостоянии своего жильца. Она видела, как он однажды вышел из дому в пальто, а вернулся без пальто, хотя день был холодный и дождливый. Потом на некоторое время щеки его слегка округлились и голодный огонь в глазах погас. Мария заметила также исчезновение часов и велосипеда, повлекшие за собой снова некоторый прилив жизненных сил. Кроме того, Мария знала, как много Мартин трудится, так как ей было точно известно, сколько керосина он сжигает за ночь. Работа! Мария отлично понимала, что Мартин работает не меньше ее, хотя его работа совсем иного свойства. Ее очень удивляло, что чем меньше он ест, тем усерднее трудится. Иной раз, когда ей казалось, что Мартин голодает особенно сильно, она посылала ему с одним из ребятишек свежий хлебец, под нехитрым предлогом, что ему самому не испечь такого вкусного. Иногда она посылала и миску горячего супа, мучаясь в то же время сомнением, имеет ли она право отнимать этот суп у детей, у своей плоти и крови. И Мартин был полон самой горячей благодарности, ибо умел ценить милосердие бедняков.
Однажды, накормив свое многочисленное потомство остатками запасов, имевшихся в доме, Мария истратила последние пятнадцать центов на галлон дешевого вина и угостила Мартина, зашедшего в кухню за водой. Он выпил за ее здоровье, а она — за его. Потом она выпила за благополучие в его делах, а он за то, чтобы Джемс Грант поскорее явился и заплатил за стирку. Джемс Грант был плотничий подмастерье, который неаккуратно платил и задолжал Марии целых три доллара.
И Мартин и Мария пили на пустой желудок, и обоим кислое молодое вино сразу бросилось в голову. При всем своем несходстве, они оба были нищи и одиноки, и эта нищета, о которой всегда умалчивалось, связывала их прочными узами. Мария обрадовалась, узнав, что Мартин бывал на Азорских островах, где она прожила до одиннадцати лет. Еще больше она обрадовалась, услыхав, что он бывал и на Гавайских островах, куда потом перебрались ее родители. Но ее восторг перешел всякие границы, когда Мартин сообщил ей, что бывал на острове Мауйи, где она вышла замуж. А на Кагулуи, где она впервые познакомилась со своим будущим мужем, Мартин был два раза. Еще бы ей не помнить груженных сахаром судов! Так он плавал на них? Ну скажите, пожалуйста, до чего же тесен мир! А Вайлуку? Мартин и там побывал! Знавал ли он главного надсмотрщика плантации? Ну как же, он даже пропустил за его здоровье стаканчик.
Так, предаваясь воспоминаниям, они топили свой голод в кислом вине. Впрочем, Мартину будущее не представлялось слишком мрачным. Рано или поздно он добьется успеха и славы. Он уже чувствует их дыхание рядом. Еще немножко — и он сможет схватить их рукой. Тут он стал пытливо вглядываться в изможденное лицо женщины, сидящей перед ним, вспомнил хлеб и суп, которые она ему присылала, и ощутил порыв великой благодарности, желание облагодетельствовать ее.
— Мария, — вскричал он вдруг, — чего бы вы больше всего хотели?
Она с недоумением посмотрела на него.
— Ну, чего бы вы больше всего хотели именно сейчас?
— Семь пара башмака — для рэбята.
— Вы их получите, — объявил он, и она торжественно кивнула головой. — Ну, а еще чего-нибудь, поважнее?
В глазах Марии мелькнула добродушная радость. Мартин шутил с ней — с ней, с которой уже давно никто не шутил.
— Подумайте, не спешите, — сказал он предостерегающе, когда она открыла было рот, чтобы заговорить.
— Корошо, — сказала она, — я подумала. Минэ надо дом, своя дом, — бесплатна жить. Нэ платить семь доллара на месяц.
— Вы его получите, — пообещал он, — и очень скоро. Ну, а самое ваше большое желание? Вообразите, что я бог и что я все могу исполнить. Ну, говорите, я слушаю.
Мария сосредоточенно помолчала минуту.
— Вы будэтэ пугацца.
— Нет, нет, — засмеялся он, — я не испугаюсь. Ну, говорите?
— Большой вещь, ах, большой, — предупредила она.
— Ладно, ладно. Говорите.
— Корошо. — Она глубоко, по-детски вздохнула, готовясь высказать свое самое заветное, сокровенное желание. — Минэ хочется фэрма — молочна фэрма. Много корова, много луг, много трава. Около Сан-Лиана. В Сан-Лиана живет мой сестра. Буду продавать молоко в Окленд. Много дэньга. Джо и Ник нэ будэт пасти коров. Они пойдет в короша школа. Будэт важный инженер, строить дорога. Да, хочется молочна фэрма.
Мария умолкла и блестящими глазами поглядела на Мартина.
— Вы ее получите, — быстро отвечал он.
Она кивнула и выпила за великодушного дарителя, Хотя и прекрасно знала, что никогда не получит обещанных даров. Но она была благодарна Мартину за его доброе сердце и умела ценить обещание, как ценила бы самый дар.
— Да, да, Мария, — продолжал Мартин. — Нику и Джо не придется пасти коров. Ребята будут учиться в школе весь год, ходить в хороших, крепких башмаках. У вас будет первоклассная ферма с домом, с конюшней, с хлевом. У вас будут свиньи, куры, огород, фруктовый сад — одним словом, все, что нужно; у вас хватит средств, чтобы нанять работника, даже двух работников. И вам не придется ничего делать, кроме как воспитывать детей. А если подвернется хороший человек, вы выйдете за него замуж, и он станет хозяйничать на ферме, а вы будете отдыхать.
И, щедрой рукой отмерив ей долю из своих будущих благ, Мартин встал и пошел закладывать свой единственный выходной костюм. Ему было не легко решиться на это, потому что таким образом он лишал себя возможности видеться с Руфью. Другого приличного костюма у Мартина не было, а в матросской заплатанной куртке он мог заходить к булочнику и мяснику, мог наведываться к сестре, но о том, чтобы являться в таком виде к Морзам, разумеется, нечего было и думать.
Мартин продолжал трудиться, испытывая тоску, близкую к полному отчаянию. Все чаще ему приходило на ум, что и второе сражение проиграно и что в самом деле нужно снова идти работать. Все были бы довольны этим: лавочники, сестра, Руфь и даже Мария, которой он задолжал за целый месяц. Он уже два месяца не платил за прокат пишущей машинки, и магазин требовал, чтобы он или уплатил, или вернул машинку. Готовый покориться и отложить борьбу до более подходящего времени, Мартин отправился держать экзамен на железнодорожного почтальона. К своему изумлению, он выдержал первым. Правда, неизвестно было, когда откроется вакансия.
И вот в эту особенно тяжелую пору издательская машина вдруг нарушила свой обычный ход. То ли в ней соскользнуло какое-нибудь колесико, то ли она была просто плохо смазана, но в одно прекрасное утро почтальон принес маленький запечатанный конверт. В углу конверта Мартин увидел штамп «Трансконтинентального ежемесячника». Сердце у него рванулось и замерло, он почувствовал слабость во всем теле, колени как-то странно задрожали. Пройдя к себе в комнату, он уселся на кровать с нераспечатанным конвертом в руке и в этот миг ясно понял, как люди умирают от радостного известия.
Конечно, это было радостное известие. В таком маленьком конверте не могла бы поместиться рукопись. Мартин помнил, что в «Трансконтинентальный ежемесячник» он послал «Колокольный звон», «страшный» рассказ, в котором было пять тысяч слов. А так как лучшие журналы всегда платят по приеме рукописи, то в конверте, очевидно, таился чек. Два цента за слово — стало быть, двадцать долларов за тысячу слов; чек, значит, должен быть на сто долларов. Сто долларов! Разрывая конверт, он уже подсчитал мысленно все свои долги: 3 доллара 85 центов в бакалейную лавку; 4.00 — мяснику; 2.00 — булочнику; за овощи — 5.00; всего 14.85. Далее, за комнату — 2.50, за месяц вперед — 2.50; за двухмесячный прокат машинки — 8.00, за месяц вперед — 4.00; всего 31.85. Кроме того, надо выкупить вещи из заклада: часы — 5.50; пальто — 5.50; велосипед — 7.75; костюм — 5.50 (60 % ростовщику — но не все ли равно!). Общий итог — 56.10. Эта сумма словно была выписана перед ним в воздухе светящимися цифрами. Остаток в 43 доллара 90 центов представлял необычайное богатство, принимая во внимание, что будет уплачено вперед и за комнату и за машинку.
Тем временем он наконец вскрыл конверт и вынул отпечатанное на машинке письмо. Чека не было. Он потряс конверт, поглядел его на свет, не доверяя глазам, разорвал. Чека не было. Тогда он начал читать письмо, стараясь сквозь похвалы редактора добраться до сути дела, найти объяснение, почему не прислан чек. Объяснения он не нашел, но зато прочел нечто такое, что поразило его, как удар грома. Письмо выпало у него из рук. В глазах помутилось, он упал головой на подушку и судорожно потянул на себя одеяло.
Пять долларов за «Колокольный звон». Пять долларов за пять тысяч слов! Вместо двух центов за слово — один цент за десять слов! А издатель еще расточает ему похвалы, сообщая, что чек будет выслан немедленно по напечатании рассказа! Значит, все это было вранье — и то, что минимальная ставка два цента за слово, и то, что платят по приеме рукописи. Все было вранье, и он просто-напросто попался на удочку. Знай он это раньше, он не стал бы писать. Он пошел бы работать — работать ради Руфи. Он ужаснулся, подумав о том, сколько времени было потрачено на писание. Ради того, чтобы в конце концов получить по центу за десять слов! И другие блага и почести, которые, по словам газет, сыпались на писателей, вероятно, тоже существовали лишь в воображении газетчиков. Все его полученные из вторых рук представления о писательской карьере были неверны: доказательство налицо. «Трансконтинентальный ежемесячник» стоит двадцать пять центов номер, и красивая обложка указывает на его принадлежность к первоклассным журналам. Это старый, почтенный журнал, начавший издаваться задолго до того, как Мартин Иден появился на свет. На его обложке неизменно печатается изречение одного всемирно известного писателя, указывающее на высокие задачи «Трансконтинентального ежемесячника», на страницах которого начало свою карьеру упомянутое литературное светило. И вот этот-то вдохновляемый высокими задачами журнал платит пять долларов за пять тысяч слов! Тут Мартин вспомнил, что автор изречения недавно умер на чужбине в страшной нищете, — и решил, что ничего удивительного в этом не было.
Да. Он попался на удочку. Газеты наврали ему с три короба про писательские гонорары, а он из-за этого потерял целых два года! Но теперь довольно. Больше он не напишет ни одной строчки! Он сделает то, чего хочет Руфь, чего хотят все кругом, — и поступит на службу. Мартин вдруг вспомнил Джо — Джо, который где-то там колесит по дорогам страны безделья. Мартин вздохнул с завистью. Ежедневная девятнадцатичасовая работа внезапно дала себя почувствовать Но Джо не был влюблен, не знал ответственности, которую налагает любовь, и, следовательно, имел право шататься по миру и бездельничать. А у него, у Мартина, есть ради чего работать, и потому он будет работать. Завтра же с раннего утра он начнет искать службу и завтра же известит Руфь о том, что намерен переменить образ жизни и готов поступить в контору к ее отцу.
Пять долларов за пять тысяч слов, за десять слов один цент — вот рыночная цена искусства! Несправедливость, ложь, подлость, таившиеся в этом, не давали ему покоя. А сквозь закрытые веки глаза его жгла цифра 3.85 — сумма его долга бакалейщику. Мартина знобило, и все кости у него ныли. В особенности ломило поясницу. Голова болела — темя болело, затылок болел, самый мозг, казалось, болел под черепною коробкой; особенно невыносима была боль над бровями. А перед глазами по-прежнему сверкала беспощадная, терзающая цифра 3.85. Чтобы избавиться от этого назойливого видения, Мартин открыл глаза, но яркий дневной свет причинил ему нестерпимое страдание; пришлось снова закрыть глаза, и цифра 3.85 вспыхнула с прежней силой.
Пять долларов за пять тысяч слов, за десять слов — один цент! — эта мысль сверлила мозг, и он не мог от нее избавиться, так же как не мог избавиться от цифры 3.85, горевшей перед глазами. Наконец, в цифре начались какие-то изменения, за которыми Мартин наблюдал с любопытством, и постепенно она превратилась в 2.00. А, догадался он, это долг булочнику! Следующая цифра была 2.50. Эта цифра так заинтриговала его, словно решала для него вопрос жизни и смерти. Кому-то он, в самом деле, должен два с половиной доллара, но кому? Ему необходимо было решить эту задачу, решить во что бы то ни стало, и он бродил по длинным темным коридорам памяти, шарил в ее углах и закоулках, загроможденных обрывками ненужных сведений и воспоминаний, отчаянно стараясь найти ответ. Казалось, прошли целые столетия, прежде чем он вспомнил, что должен эти деньги Марии. С чувством огромного облегчения Мартин подумал, что теперь может отдохнуть, решив эту сложную задачу. Но не тут-то было. Исчезла цифра 2.50, а вместо нее зажглась другая — 8.00. Кому он должен восемь долларов? Опять нужно было пускаться в утомительные скитания по лабиринтам памяти.
Сколько длились эти скитания, Мартин не знал (ему казалось, что бесконечно долго), но вдруг он пришел в себя от стука в дверь и услыхал голос Марии, спрашивавшей, не болен ли он. Глухим, незнакомым голосом Мартин ответил, что просто вздремнул. Его удивила темнота в комнате. Письмо пришло в два часа дня, а теперь был уже вечер. Видно, он заболел.
Тут опять перед ним появилась цифра 8.00, и он снова начал напряженно думать. Впрочем, теперь он стал хитрее. Вовсе незачем блуждать среди хаоса воспоминаний. Как он был глуп! Нужно просто повернуть наудачу огромное колесо памяти; оно повернулось — и вдруг, завертевшись с необычайной скоростью, втянуло его в свое движение и понесло в черную пустоту.
Мартин нисколько не удивился, увидав себя в прачечной подкладывающим крахмальные манжеты под каток. На манжетах были напечатаны какие-то цифры. Должно быть, новый способ метить белье, подумал Мартин и вгляделся в метку: на манжете стояла цифра 3.85. Он вспомнил, что это счет бакалейщика и что счета необходимо пропускать через каток. Коварная мысль пришла ему в голову. Он побросает все счета на пол и не станет платить по ним. Сказано — сделано. И вот он бесцеремонно мнет манжеты и швыряет на необыкновенно грязный пол. Куча неимоверно растет, каждый счет удвоился, удесятерился, разбился на тысячи таких же счетов, и только счет Марии в два с половиною доллара не множился. Это означало, что Мария не станет притеснять его, и Мартин великодушно решил, что уплатит только по ее счету. Решив так, он начал разыскивать этот счет в груде на полу; он искал его много веков, но тут дверь вдруг отворилась и в комнату вошел хозяин гостиницы — толстый голландец. Лицо его пылало гневом, и громовым голосом он заорал на весь мир: «Я вычту стоимость манжет из вашего жалованья!» Груда сразу превратилась в целую гору, и Мартин понял, что ему придется работать тысячу лет, чтобы заплатить за эти манжеты. Ничего не оставалось, как только убить хозяина гостиницы и поджечь прачечную. Но толстый голландец схватил его за шиворот и стал трясти. Потом перебросил его через стол с утюгами, через плиту, каток, стиральную машину, выжималку. Мартин так кувыркался на лету, что у него стучали зубы и звенело в голове, и все удивлялся силе голландца.
Затем он опять очутился перед катком, на этот раз принимая выстиранные и выкатанные манжеты, которые подкладывал с другой стороны издатель ежемесячного журнала. Каждая манжета превращалась в чек, и Мартин с тревожным любопытством рассматривал их, но чеки были пустые. Он стоял у катка миллионы лет и все вынимал чеки, боясь пропустить хоть один, — а вдруг именно этот будет заполнен на его имя? Наконец такой чек появился. Дрожащею рукою Мартин взял его и поднес к свету. Чек был на пять долларов. «Ха-ха-ха», — хохотал издатель, прячась за каток. «Ладно, я тебя сейчас убью», — сказал Мартин. Он пошел в соседнюю комнату за топором и увидал там Джо, который крахмалил рукописи. Мартин, желая спасти рукописи, швырнул в Джо топором, но топор повис в воздухе. Мартин побежал назад к катку и увидел, что там свирепствует снежная буря. Нет, это был не снег, а бесконечное количество чеков, каждый не меньше чем на тысячу долларов. Он начал собирать их и раскладывать пачками по сто штук, и каждую сотню заботливо перевязывал ленточкой.
Вдруг перед Мартином появился Джо. Джо стоял и жонглировал утюгами, сорочками, рукописями. Иногда он хватал пачки чеков и подбрасывал их вверх, так что они, пробив крышу, исчезали в пространстве. Мартин кинулся на Джо, но тот вырвал у него топор и тоже подбросил вверх. За топором он подбросил и самого Мартина. Мартин пролетел сквозь крышу и успел поймать много рукописей, так что упал на землю с целой охапкой в руках. Но его снова понесло вверх, и он помчался по воздуху, описывая бесконечные круги. А в отдалении детский голосок напевал: «Протанцуй со мною, Вилли, протанцуй еще разок!»
Топор торчал среди Млечного Пути чеков, крахмальных сорочек и рукописей, и Мартин, взяв его, решил убить Джо немедленно по возвращении на землю. Но он так и не возвратился на землю. В два часа ночи Мария, услыхав из-за перегородки его стоны, вошла к нему в комнату, обложила его горячими утюгами, а воспаленные глаза накрыла мокрым полотенцем.
Глава двадцать шестая
Мартин Иден не пошел на следующее утро искать работы. Было уже за полдень, когда он очнулся от забытья и оглядел комнату. Восьмилетняя Мэри, одна из дочерей Сильвы, дежурила подле него и, как только он очнулся, с визгом побежала за матерью. Мария пришла из кухни, где занималась стряпней. Она дотронулась мозолистой рукой до его горячего лба и пощупала пульс.
— Кушать будэт? — спросила она.
Мартин отрицательно покачал головой. Меньше всего ему хотелось есть, и он даже удивился, что когда-то испытывал чувство голода.
— Я болен, Мария, — сказал он слабым голосом. — Что со мной? Не знаете?
— Грипп, — отвечала она, — три дня, и будэт хорошо. Лучше без еда. Потом кушать. Завтра.
Мартин не привык хворать, и когда Мария и ее дочка вышли, он попытался одеться. Глаза его так болели, что он то и дело должен был опускать веки. Крайним напряжением воли он заставил себя встать с кровати и сел за стол, но тут силы изменили ему, он уронил на стол голову и долго не мог подняться. Через полчаса он кое-как добрался опять до постели и лежал неподвижно, закрыв глаза и пытаясь разобраться в своих болезненных ощущениях. Мария несколько раз входила к нему и меняла холодный компресс на лбу. Но заговаривать с ним не пыталась, мудро решив не надоедать ему болтовней. Исполненный благодарности, он пробормотал:
— Мария, у вас будет молочна ферма, хороша молочна ферма.
Затем ему вспомнился вчерашний день, уже отошедший в далекое прошлое. Казалось, целый век миновал с тех пор, как он получил письмо из «Трансконтинентального ежемесячника», — с тех пор, как он понял свое заблуждение и решил покончить с этим делом и перевернул страницу книги жизни. Он слишком сильно натягивал тетиву, и она в конце концов лопнула. Если б он не изнурял себя так голодом и лишениями, болезнь не одолела бы его. У него недостало силы бороться с микробом, проникшим в организм. И вот теперь он лежит и не может подняться.
«Какой смысл, если бы я написал даже целую библиотеку книг, раз за это надо расплачиваться жизнью? — спрашивал он себя. — Нет, это не для меня. К черту литературу! Моя судьба — вести конторские книги, получать ежемесячно жалованье и жить в маленьком домике вдвоем с Руфью».
Через два дня Мартин съел яйцо с двумя ломтиками хлеба и, выпив чашку чаю, попросил принести ему полученную за это время почту. Но глаза у него все еще болели, и читать было трудно.
— Прочитайте мне письма, Мария, — сказал он. — Большие, толстые конверты не вскрывайте. Швыряйте их под стол. Прочтите те письма, что в маленьких конвертах.
— Не умей, — отвечала она. — Тереза умей, она ходит в школа.
Тереза Сильва — девочка лет девяти — вскрыла конверты и принялась читать. Мартин рассеянно слушал настойчивые требования уплаты за прокат пишущей машинки, — голова у него была занята мыслями о приискании работы. Внезапно до его слуха долетели следующие слова:
— «Мы предлагаем вам сорок долларов за исключительное право публикации вашего рассказа, — читала по складам Тереза, — если вы согласитесь на предлагаемые сокращения и изменения…»
— Откуда это, из какого журнала? — вскричал Мартин — Дай сюда письмо.
Он сразу забыл о боли в глазах и с жадностью стал читать. «Белая мышь» предлагала ему сорок долларов за «Водоворот» — один из его ранних «страшных» рассказов. Мартин несколько раз перечитал письмо. Редактор прямо и откровенно говорил ему, что замысел рассказа разработан недостаточно четко, но самый этот замысел понравился им своей оригинальностью, и они готовы напечатать рассказ. Если он разрешит сократить «Водоворот» на одну треть, ему немедленно будет выслан чек на сорок долларов.
Мартин взял перо и написал редактору, что разрешает сократить рассказ хоть на три четверти, но чтобы чек выслали как можно скорее.
Тереза побежала опускать письмо, а Мартин откинулся на подушку и задумался. Значит, все-таки это не ложь. «Белая мышь» готова платить по принятии рукописи. В рассказе «Водоворот» было три тысячи слов. Если отбросить треть, останется две тысячи. Выходит как раз два цента за слово. Оплата по принятии рукописи и два цента за слово, — газеты говорили правду! А он-то считал «Белую мышь» третьесортным журнальчиком. Очевидно, он просто не имел о журналах никакого понятия. Он считал первоклассным «Трансконтинентальный ежемесячник», а там платят цент за десять слов! Он относился к «Белой мыши» с пренебрежением, а там платят в двадцать раз дороже, и притом не дожидаясь выхода из печати!
Одно было ясно; когда он поправится, ему незачем бегать в поисках работы. В голове у него целая сотня рассказов не хуже «Водоворота», и если считать по сорок долларов за штуку, он может заработать на них гораздо больше, чем ему даст любая служба. Он выиграл сражение в тот самый миг, когда оно казалось проигранным. Его выбор оправдал себя. Дорога перед ним открыта. После «Белой мыши» список журналов, готовых его печатать, будет все расти и расти. Писание «доходных» мелочей можно теперь бросить. Все равно они не принесут ему и доллара. Он займется работой, настоящей работой, и будет вкладывать в нее все, что в нем есть действительно ценного. Мартину захотелось, чтобы Руфь была тут и могла разделить его радость. Вдруг среди писем, разбросанных на постели, он нашел одно от нее. Руфь нежно упрекала его за то, что он вдруг пропал и уже который день не дает о себе знать. Мартин с восторгом перечитывал письмо, рассматривал почерк, любовался каждой буквой, нежно целовал подпись.
В ответ он написал ей откровенно, что заложил свой единственный хороший костюм и потому не мог прийти. Он сообщил о своей болезни, которая, впрочем, уже почти прошла, и прибавил, что недели через две (время, достаточное для получения чека из Нью-Йорка) он выкупит костюм и в тот же день будет у нее.
Но Руфь не собиралась ждать две недели. Ведь ее возлюбленный был болен. На другой же день она приехала к нему вместе с Артуром в коляске, к великому удовольствию ребятишек Сильвы и всей окрестной детворы и к полному ужасу Марии. Мария надавала пощечин детям, обступившим необыкновенных посетителей, и, немилосердно коверкая язык, стала извиняться за свой неряшливый вид. На руках у нее засохла мыльная пена, а мокрая рогожа, подвязанная вместо передника, ясно говорила гостям, за какой работой они ее застали. Появление нарядных молодых людей в коляске, спрашивавших ее жильца, до того потрясло Марию, что она даже не догадалась пригласить их в свою крошечную гостиную. Чтобы добраться до комнаты Мартина, им пришлось пройти через жаркую кухню, наполненную паром по случаю большой стирки. От волнения Мария никак не могла осуществить сложный маневр с дверью комнаты и дверцей шкафа, и в комнату больного ворвались облака пара, запах мыльной воды и грязного белья.
Руфь ловко повернула направо, потом налево, потом опять направо и прошла по узкому каналу между столом Мартина и его кроватью. Артур не проявил достаточной осторожности и с грохотом опрокинул горшки и сковородки в кухонном углу. Впрочем, Артур недолго оставался в комнате. Единственный стул заняла Руфь, и ее брат, считая свои обязанности исполненными, вышел на крыльцо, где его немедленно обступило многочисленное потомство Сильвы, крайне заинтересованное его особой. Вокруг экипажа толпились ребятишки со всего квартала, ожидая какой-нибудь страшной, драматической развязки. Коляски появлялись в округе только в дни свадеб или похорон; но в данном случае никто не женился и не умер — следовательно, должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, на что стоило посмотреть.
Все эти дни Мартин изнывал от желания видеть Руфь. Обладая горячо любящим сердцем, он больше чем кто-либо нуждался в сочувствии, и не в простом сочувствии, а в глубоком и чутком понимании; но он еще не знал, что сочувствие Руфи основывается не на понимании его, Мартина Идена, стремлений, а просто на ее природной, несколько сентиментальной нежности. Пока Мартин говорил с нею, держа ее за руку, Руфь, в порыве любви, отвечала ему ласковым пожатием и со слезами на глазах глядела на его осунувшееся лицо, думая о том, какой он несчастный и беспомощный.
Мартин поспешил рассказать Руфи о том, в какое отчаяние он пришел, получив письмо «Трансконтинентального ежемесячника», и как обрадовался предложению «Белой мыши», но Руфь отнеслась к этому безучастно. Она слышала слова, им произносимые, и понимала смысл, но не разделяла ни его радости, ни его отчаяния. Она оставалась верна себе. Ее очень мало интересовали рассказы, журналы и редакторы. Она думала только об одном: когда им с Мартином можно будет пожениться. Правда, сама она этого не понимала, как не понимала и того, что ее желание заставить Мартина «устроиться» вызывалось подсознательным материнским инстинктом. Конечно, если бы Руфи сказали об этом прямо, она бы, во-первых, смутилась, во-вторых, вознегодовала и стала бы уверять, что ею руководит лишь забота о благе любимого человека. Но, так или иначе, пока Мартин, взволнованный первым успехом на избранном пути, изливал перед Руфью свою душу, она, слушая и не слыша, оглядывалась по сторонам, пораженная тем, что видела.
В первый раз Руфь лицом к лицу столкнулась с нищетой. Ей всегда казалось, что любовь и голод — очень романтическое сочетание, но она совершенно не представляла себе, как выглядит эта романтика в жизни. Такой картины она во всяком случае не ожидала. Ее тошнило от запаха грязного белья, который проникал сюда из кухни. Мартин, должно быть, весь пропитался этим запахом, думала Руфь, если эта ужасная женщина часто стирает. Нищета заразительна. Руфи начинало казаться, что к Мартину пристала грязь окружающей обстановки. Его небритое лицо (Руфь в первый раз видела Мартина небритым) вызывало в ней неприязнь. От щетины на подбородке и щеках оно казалось таким же мрачным и грязным, как все жилище Сильвы, и это еще подчеркивало в нем ненавистное Руфи выражение животной силы. И надо же было, чтобы два рассказа Мартина приняли к напечатанию! Теперь он еще больше утвердится в своих безумных планах. Еще немного — и он бы сдался и поступил на службу. А сейчас он с новым усердием примется за свое сочинительство, продолжая голодать и жить в этом ужасном доме.
— Чем это пахнет? — вдруг спросила Руфь.
— Вероятно, бельем. Мария стирает, — отвечал он. — Я уже привык к этому запаху.
— Нет, нет. Еще какой-то противный, застоявшийся запах!
Мартин, прежде чем ответить, понюхал воздух.
— Я ничего не чувствую, кроме запаха табака, — объявил он.
— Вот именно. Какая гадость! Зачем вы так много курите, Мартин?
— Сам не знаю. Когда у меня тоскливо на душе, я и курю больше. А вообще это старая привычка. Я начал курить еще мальчишкой.
— Нехорошая привычка, — укоризненно сказала Руфь. — Здесь просто дышать невозможно.
— Это уж табак виноват. Я курю самый дешевый. Вот подождите, получу чек на сорок долларов, тогда куплю такого табаку, что его можно будет курить даже в обществе ангелов. А ведь это недурно! За три дня две принятых рукописи! Этими сорока пятью долларами я покрою почти все свои долги.
— Это за два года работы? — спросила Руфь.
— Нет, меньше чем за неделю. Пожалуйста, дайте мне ту книжечку в сером переплете. Вон лежит, на углу стола.
Мартин открыл книжку и быстро перелистал ее.
— Да, совершенно верно. Четыре дня «Колокольный звон», два дня «Водоворот». Сорок пять долларов за недельную работу. Сто восемьдесят долларов в месяц! Где бы я мог получить такое жалованье? А ведь это только начало. Мне понадобится не меньше тысячи долларов, чтобы как следует обставить вашу жизнь. Жалованье в пятьсот долларов меня бы никак не удовлетворило. Но для начала хорошо и сорок пять долларов. Дайте мне выйти на дорогу. Вот тогда задымим изо всех труб.
Руфи это выражение напомнило о прежнем разговоре.
— Вы и теперь слишком много дымите, — сказала она. — Дело не в качестве табака. Курение само по себе — дурная привычка, независимо от того, что вы курите. Вы точно ходячая дымовая труба или живой вулкан. Это ужасно! Милый Мартин, ведь вы знаете, что это ужасно!
Взгляд Руфи был полон любви и ласки, и Мартин, смотря в ее чистые голубые глаза и нежное лицо, опять, как встарь, почувствовал, что недостоин ее.
— Я хочу, чтобы вы бросили курить, — прошептала она, — сделайте это ради меня.
— Хорошо, — воскликнул он, — я брошу курить! Я сделаю для вас все, что вы пожелаете, милая моя, дорогая!
Руфью вдруг овладело искушение. Увидев, как легко покорно он идет на уступки, она подумала: если сейчас потребовать, чтобы он бросил писать, он не откажет ей. Но слова замерли у нее на устах. Она не смогла их выговорить. Не решалась. Вместо этого она склонилась ниже и, положив голову ему на грудь, прошептала:
— Мартин, милый, ведь это я не ради себя, а ради вас. Вам, наверно, вредно курить, и потом — нехорошо быть рабом, даже рабом привычки.
— Я буду вашим рабом, — улыбнулся он.
— Ну, в таком случае я буду повелевать.
Руфь коварно посмотрела на него, в глубине души сожалея уже, что не высказала своего главного желания.
— Готов повиноваться вашему величеству.
— Хорошо. Вот вам моя первая заповедь: не забывайте ежедневно бриться. Посмотрите, как вы исцарапали мне щеку.
Таким образом, все закончилось ласками и веселым смехом. Но кой-чего она все же добилась, а за один раз нельзя было рассчитывать на большее. Руфь чисто по-женски гордилась тем, что заставила Мартина отказаться от курения. В следующий раз она убедит его поступить на службу: ведь он обещал исполнять все ее желания.
Руфь встала и занялась осмотром комнаты. Она обратила внимание на заметки, развешанные на бельевых веревках, ознакомилась с таинственным приспособлением, на котором подвешивался велосипед, с огорчением увидела груду рукописей под столом: как много времени потрачено зря! Керосинка привела ее в восторг, но при дальнейшем осмотре обнаружилось, что полки для провизии пусты.
— У вас тут нет ничего съестного! Ах, бедняжка, — воскликнула она с состраданием, — вы, наверно, голодаете!
— Я держу свою провизию у Марии, — солгал Мартин, — там удобнее. Не бойтесь, я не голодаю. Посмотрите-ка!
Руфь подошла к нему и увидела, как Мартин согнул руку в локте, и твердые, как железо, мускулы вздулись под рубашкой. Это зрелище вызвало в ней отвращение Ее чувства были оскорблены им. Но сердце, кровь, каждый фибр ее существа стремились к этим могучим мышцам, и, повинуясь знакомой непонятной силе, она, вместо того чтобы отшатнуться от Мартина, склонилась к нему. И когда Мартин сжал ее в объятиях, ее рассудок, знающий лишь внешние проявления жизни, негодовал и возмущался, зато сердце, женское сердце, которого коснулась сама жизнь, победно ликовало. В такие мгновения Руфь начинала понимать всю силу своей любви к Мартину, потому что, когда его могучие руки смыкались вокруг нее, до боли сжимая ее в неудержимом страстном порыве, у нее начинала кружиться голова от счастья. В такие мгновения все казалось ей оправданным: нарушение правил, измена идеалам, даже молчаливое неповиновение отцу и матери. Они не хотели, чтобы она вышла замуж за этого человека. Ее любовь к нему казалась им чем-то постыдным. Эта любовь порой казалась постыдной и ей самой, когда, вдали от него, она снова превращалась в холодную и рассудительную Руфь. Но когда Мартин был рядом, она любила его; правда, временами любовь была полна огорчений, но все-таки это была любовь — властная и непобедимая.
— Этот грипп пустяки, — говорил Мартин, — правда, немного болит голова и знобит, но в сравнении с тропической лихорадкой это сущие пустяки.
— А вы болели тропической лихорадкой? — спросила Руфь рассеянно, стараясь продлить блаженное чувство забвения, которое она испытывала в его объятиях.
Она почти не прислушивалась к тому, что он отвечал, но вдруг одна фраза привлекла ее внимание. Мартин упомянул, что перенес тропическую лихорадку в тайной колонии прокаженных на одном из Гавайских островов.
— А каким образом вы туда попали? — спросила Руфь. Такое царственное равнодушие к себе казалось ей преступным.
— Случайно, — отвечал Мартин, — я и не думал ни о каких прокаженных. Однажды я сбежал со шхуны, доплыл до берега и отправился в глубь острова, чтобы найти себе безопасное убежище. Три дня я питался плодами гуавы, дикими яблоками и бананами — вообще всем, что растет в джунглях. На четвертый день я вышел на тропинку. Она вела в гору, и на ней были свежие человеческие следы. В одном месте тропинка проходила по гребню горы, острому, как лезвие ножа. Ширина там была не более трех футов, а с обеих сторон зияли пропасти глубиною в несколько сот футов. Один хорошо вооруженный человек мог бы тут сдержать наступление стотысячной армии. Это был единственный путь в глубь острова. Часа через три я очутился в маленькой долине, среди нагромождений застывшей лавы. В ней росли фруктовые деревья и стояло семь или восемь тростниковых хижин. Как только я увидел жителей, я понял, куда попал. Довольно было одного взгляда.
— Что же вы сделали? — спросила Руфь, слушая, как Дездемона, испуганная, но завороженная.
— А что же я мог сделать? Старшим у них был добродушный старикашка, весь изъеденный проказой, который правил, как полновластный король. Он открыл эту долину и основал в ней колонию, что было, разумеется, противозаконно. Но у них имелись ружья и патроны к ним, кстати, канаки дьявольски метко стреляют. Привыкли охотиться на кабанов и диких кошек. Так что бежать нечего было и думать. Пришлось Мартину Идену остаться и прожить там три месяца.
— Но как же вам удалось спастись?
— Я бы сидел там и сейчас, если бы не одна девушка, наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайянка. Она была очень красива, бедняжка, и притом образованна. У ее матери в Гонолулу было состояние по меньшей мере в миллион. Вот эта девушка меня в конце концов и выручила. Понимаете, ее мать давала деньги на содержание колонии, и девушка, стало быть, не боялась, что ее накажут. Но она взяла с меня клятву никому не открывать убежища. И я сдержал эту клятву. Сейчас я впервые заговорил об этом. У бедной девушки тогда появились только первые признаки проказы. Пальцы правой руки у нее были сведены, и выше локтя виднелось маленькое пятнышко. Больше ничего. Теперь уж она, наверное, умерла.
— Но как же вы не боялись? И какое счастье, что вы не заразились этой ужасной болезнью!
— Вначале мне было порядком не по себе, — признался он. — Но потом я привык. К тому же мне очень было жаль эту несчастную девушку, и я забывал о том, что нужно быть осторожным. Она была так хороша и душой и телом, болезнь еще едва-едва коснулась ее. И она знала, что обречена никогда больше не видеть людей, вести жизнь первобытного дикаря и постепенно заживо разлагаться. Вы даже вообразить не можете, до чего ужасна проказа.
— Бедная девушка! — прошептала Руфь. — Все-таки странно, что она вас так отпустила.
— Почему странно? — спросил Мартин, не поняв.
— Да потому что она, наверно, любила вас, — продолжала Руфь так же тихо. — Ну скажите прямо: любила?
Загар давно сошел с лица Мартина из-за работы в прачечной и затворнической жизни, а в последнее время он еще побледнел от голода и болезни; теперь сквозь эту бледность стал медленно проступать румянец. Он открыл рот и хотел заговорить, но Руфь перебила его.
— О, не отвечайте, пожалуйста! В этом нет необходимости! — воскликнула она, смеясь.
Но Мартину показалось, что в смехе ее прозвучали какие-то металлические нотки, а глаза блеснули ледяным блеском. И ему вспомнилась буря, которая однажды застигла его в северной части Тихого океана. На мгновение перед его глазами возникло видение грозных валов, озаренных холодным лунным светом. Вслед за тем он увидел девушку из колонии прокаженных и подумал, что она дала ему возможность бежать именно потому, что любила его.
— Она была благородна, — сказал он просто, — она спасла мне жизнь.
Казалось, этим инцидент был исчерпан, но Мартин вдруг услышал подавленное рыдание и увидел, что Руфь, отвернувшись от него, глядит в окно. Когда она снова взглянула Мартину в глаза, в ее лице ничто уже не напоминало о морской буре.
— Я такая дурная, — жалобно сказала Руфь, — но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю вас, Мартин, так люблю. Может быть, я привыкну постепенно, но теперь я невольно ревную вас ко всем призракам прошлого. А ваше прошлое полно призраков!.. Да, да, иначе и быть не может, — быстро продолжала она, не давая ему возразить. — Ну, Артур уже делает мне знаки. Ему, бедному, надоело ждать. Прощайте, мой дорогой. Есть какой-то порошок, который помогает отвыкнуть от курения, — сказала Руфь уже в дверях, — я вам его пришлю.
Руфь затворила за собой дверь и затем снова приоткрыла ее.
— Люблю, люблю, — шепнула она и только после этого ушла.
Мария почтительно проводила Руфь к экипажу, стараясь по дороге разглядеть все детали ее костюма. (Мария никогда не видела такого покроя, и он ей казался необыкновенно красивым.) Толпа ребятишек разочарованно смотрела вслед коляске, пока та не скрылась за поворотом. В следующий миг все внимание сосредоточилось на Марии, которая сразу стала самым важным лицом в квартале. Но кто-то из ее собственных отпрысков испортил дело, объявив, что знатные гости приезжали вовсе не к Марии, а к ее жильцу. После этого Мария вновь впала в ничтожество; зато Мартин стал замечать преувеличенное почтение к своей особе со стороны всех соседей.
В глазах Марии он возвысился безмерно, а если бы лавочник тоже видел ту чудесную коляску, он, несомненно, открыл бы Мартину кредит еще на три доллара и восемьдесят пять центов.
Глава двадцать седьмая
Солнце удачи взошло для Мартина. На другой же день после посещения Руфи он получил чек на три доллара из бульварного нью-йоркского журнальчика в уплату за три триолета. Еще через два дня одна чикагская газета приняла «Искателей сокровищ», обещая уплатить десять долларов по напечатании. Цена была невелика, но ведь это было его первое произведение — первая попытка выразить на бумаге волновавшие его мысли. В довершение успеха и приключенческая повесть для юношества была принята ежемесячным журналом «Юность и зрелость». Правда, в повести была двадцать одна тысяча слов, а ему предложили за нее всего шестнадцать долларов, что составляло примерно семьдесят пять центов за тысячу слов, да и то по напечатании, — но ведь это была только вторая его литературная попытка, и Мартин сам теперь отлично видел, сколько в ней недостатков.
Впрочем, даже в самых ранних его произведениях не было ничего от посредственности. В них скорее было слишком много силы — избыточной силы новичка, готового стрелять из пушек по воробьям. Мартин был рад, что ему удалось хоть по дешевке продать свои ранние произведения. Он знал им цену, и не так уж много времени ему понадобилось, чтобы это узнать. Все надежды он возлагал на свои последние произведения. Ему хотелось стать чем-то большим, чем автор журнальных рассказов и повестей. Он стремился вооружиться всеми приемами настоящего художника. Но силой жертвовать он не хотел. Напротив, он старался достигнуть еще большей силы, научившись обуздывать ее проявления. И любви к реализму он тоже не утратил. Во всех своих произведениях он стремился сочетать реализм с вымыслом и красотами, созданными фантазией. Он добивался вдохновенного реализма, проникнутого верой в человека и его стремления. Он хотел показать жизнь, как она есть, со всеми исканиями мятущегося духа.
Читая книги, Мартин обнаружил, что существуют две литературные школы. Одна изображала человека каким-то божеством, совершенно игнорируя его земную природу; другая, напротив, видела в человеке только зверя и не хотела признавать его духовных устремлений и великих возможностей. Мартин не разделял установок ни той, ни другой школы, считая их слишком односторонними. По его мнению, истина находилась где-то посредине, и как ни далека была от этой истины школа «божества», школа «зверя», с ее животной грубостью, оказывалась не ближе.
В рассказе «Приключение», не вызвавшем когда-то восхищения у Руфи, Мартин попытался осуществить свой идеал художественной правды, а в статье «Бог и зверь» он изложил свои теоретические взгляды на этот предмет.
Но «Приключение» и другие рассказы, которые он считал лучшими, продолжали странствовать из одной редакции в другую, а своим ранним вещам Мартин не придавал никакого значения и радовался лишь получаемому за них гонорару; не слишком высоко он расценивал и «страшные» рассказы, из которых два были только что приняты журналами. Рассказы эти представляли чистейшую выдумку, которой была придана видимость реального, — в этом и заключалась их сила. Правдоподобное изображение нелепого и невероятного Мартин считал ловким трюком, и только. Такие произведения нельзя было причислять к большой литературе. Их художественная выразительность могла быть велика, но Мартин невысоко ставил художественную выразительность, если она расходилась с жизненной правдой. Трюк заключался в том, чтобы облечь выдумку в маску живой жизни, и к этому приему Мартин прибегнул в полдюжине «страшных» рассказов, которые писал до того, как достиг высот «Приключения», «Радости», «Котла» и «Вина жизни».
На три доллара, полученные за триолеты, можно было кое-как протянуть до получения чека из «Белой мыши». Мартин разменял трехдолларовый чек у недоверчивого португальца, уплатив ему один доллар в счет долга, и разделил два других доллара между булочником и торговцем овощами. Он был еще не настолько богат, чтобы есть мясо, и питался довольно скудно, как вдруг пришел долгожданный чек «Белой мыши». Мартин не знал, как ему быть. Он ни разу в жизни не бывал в банке, а тем более по денежным делам, и теперь им овладело детское желание во что бы то ни стало пойти в один из больших оклендских банков и небрежно бросить в окошечко свой чек на сорок долларов. Но здравый смысл советовал ему разменять чек у бакалейщика и таким образом поддержать свою репутацию на тот случай, если снова придется брать в кредит. Скрепя сердце отправился Мартин к бакалейщику и, разменяв чек, расплатился с ним сполна. Он вышел от него с карманом, набитым деньгами, и пошел рассчитываться с другими долгами: расплатился с булочником и мясником, уплатил Марии за прошлый месяц и за месяц вперед, выкупил велосипед, заплатил за пишущую машинку. После всех этих платежей у него осталось в кармане всего три доллара.
Но и эта маленькая сумма казалась Мартину целым состоянием. Выкупив костюм, он тотчас же отправился к Руфи и по дороге не мог удержаться от удовольствия время от времени позвякивать в кармане пригоршнею серебра. Как голодный человек не может отвести взоров от пищи, так и Мартин, у которого давно не было ни цента в кармане, не мог выпустить монеты из рук. Он не был ни жаден, ни скуп, но деньги для него означали нечто большее, чем известное количество долларов и центов. Они означали успех, и чеканные орлы на монетах казались Мартину крылатыми вестниками победы.
Незаметно к Мартину вернулось убеждение в том, что мир прекрасен. Он даже казался ему теперь еще прекраснее. В течение долгих недель это был темный и унылый мир; но теперь, когда все долги были выплачены, в кармане еще звенели три доллара, а в сердце крепла вера в успех, солнце снова показалось Мартину горячим и ярким и даже ливень, хлынувший внезапно, вызвал у него только веселую улыбку. В голодные дни Мартин все время думал о тысячах голодных, разбросанных по всему миру, но теперь, когда он был сыт, мысль о них уже не тревожила его, — теперь, полный своей любовью, он стал думать о бесчисленных влюбленных, живущих на земле. В его мозгу смутно зашевелились строчки любовных стихов, и, увлеченный творческим порывом, он не заметил, как проехал на трамвае два лишних квартала.
В доме Морзов Мартин застал многочисленное общество. Из Сан-Рафаэля приехали к Руфи гостить две ее двоюродные сестры, и под предлогом развлечения гостей миссис Морз решила привести в исполнение свой план — окружить Руфь молодежью. Она развернула кампанию во время вынужденного отсутствия Мартина, и теперь военные действия были в полном разгаре. Миссис Морз задалась целью приглашать в свой дом людей преуспевших или преуспевавших. Таким образом, кроме кузин, Дороти и Флоренс, в гостиной находились два университетских преподавателя: один — латинист, а другой — специалист по английской филологии; молодой армейский офицер, школьный товарищ Руфи, только что вернувшийся с Филиппин; молодой человек по фамилии Мелвилл, личный секретарь Джозефа Перкинса, главы кредитного общества Сан-Франциско; наконец, главный бухгалтер одного банка, Чарльз Хэпгуд, элегантный мужчина тридцати пяти лет, воспитанник Стэнфордского университета, член Нильского и Соединенного клубов, присяжный оратор республиканской партии во время выборных кампаний — словом, молодой человек, многообещающий во всех отношениях. Из дам одна была художница-портретистка, другая — профессиональная музыкантша и третья — со степенью доктора социологических наук, прославившаяся своей благотворительной деятельностью в трущобах Сан-Франциско. Впрочем, в плане миссис Морз женщины не играли особенной роли. Они являлись чем-то вроде необходимого аксессуара. Ведь нужно же было чем-нибудь привлекать в дом преуспевающих мужчин.
— Не горячитесь во время разговора, — шепнула Мартину Руфь, прежде чем познакомить его с присутствующими.
Мартин вначале чувствовал себя очень неловко: к нему вернулся давнишний его страх зацепить при движении что-нибудь из мебели или безделушек. Кроме того, его стесняло общество. Он никогда раньше не сталкивался со столькими выдающимися личностями сразу. Особенно сильное впечатление произвел на него главный бухгалтер Хэпгуд, и Мартин решил при случае познакомиться с ним поближе. Под внешней робостью в Мартине было все так же действенно его могучее «я», и ему не терпелось помериться силами с этими мужчинами и женщинами и узнать, что почерпнули они из книг и из жизни такого, чего еще не успел почерпнуть он.
Руфь посматривала на Мартина и была очень удивлена и обрадована той непринужденностью, с какой он беседовал с ее кузинами. Он в самом деле чувствовал себя непринужденно, но только пока сидел, ибо тогда мог не опасаться разрушений. Руфь знала, что обе ее кузины — умные и не лишенные блеска собеседницы, и ночью, ложась спать, удивлялась, слыша, как они расхваливали Мартина. А он, привыкнув в своем кругу быть завзятым остряком и душою общества на всех вечеринках и воскресных пикниках, неожиданно обнаружил, что и здесь тоже можно быть веселым и отпускать меткие словечки. Успех словно уже стоял у него за спиной и одобрительно похлопывал по плечу; вот почему Мартин, нисколько не смущаясь, смеялся сам и заставлял смеяться других.
Под конец вечера опасения Руфи все-таки оправдались. Мартин вступил в беседу с профессором Колдуэллом и хотя руками не размахивал, но Руфь придирчиво отметила особый блеск в его глазах, отметила, что голос его постепенно начинает повышаться и краска приливает к щекам. Не умея владеть собою и укрощать свой пыл, Мартин представлял резкий контраст с выдержанным молодым профессором.
Но Мартин меньше всего думал сейчас о внешних приличиях! Он сразу увидел, с каким сведущим и широко образованным собеседником имеет дело. Профессор Колдуэлл к тому же вовсе не соответствовал отвлеченным представлениям Мартина о преподавателях английской филологии. Мартин непременно хотел заставить профессора заговорить о своей специальности, и, хотя тот сначала от этого уклонялся, Мартину в конце концов удалось добиться своего. Мартин не понимал, почему в обществе не принято говорить на профессиональные темы.
— Ведь это же нелепо, — говорил он Руфи еще задолго до этого вечера, — почему нельзя говорить на профессиональные темы? Для чего же тогда и собираются вместе, как не для того, чтобы каждый проявлял себя с самой сильной стороны. А сильней всего человек всегда в том, чем он больше всего интересуется, что составляет его основное занятие, чему он посвятил жизнь, о чем думает и даже мечтает днем и ночью. Вообразите, что мистер Бэтлер, подчиняясь светским правилам, вдруг бы начал излагать свои взгляды на Поля Верлэна, на немецкую драму или на романы д'Аннунцио. Все бы со скуки умерли. Я, например, если уж мне слушать мистера Бэтлера, предпочту, чтоб он говорил о своей юриспруденции. В этой сфере он лучше всего, а жизнь коротка, и мне всегда хочется взять от человека все самое лучшее, что в нем есть.
— Однако, — возражала Руфь, — есть такие темы, которые одинаково интересны для всех.
— Нет, в этом вы ошибаетесь, — в свою очередь, возразил Мартин, — почти каждый человек и каждая группа общества подражают тем, кто выше их по положению. А кто занимает самое высокое положение в обществе? Бездельники, богатые бездельники. Они обычно и понятия не имеют о вещах, которые хорошо известны людям, занятым каким-нибудь делом. Им попросту скучно слушать разговоры о таких вещах, и вот они объявляют, что это профессиональный разговор, который в обществе вести неприлично. И они же устанавливают, о чем можно беседовать в обществе. О новой опере, новых романах, картах, бильярдах, коктейлях, автомобилях, яхтах, конских выставках, охоте, ловле форелей и так далее, — то есть, заметьте, обо всем, что хорошо известно бездельникам. В сущности говоря, это профессиональный разговор бездельников. Смешнее всего, что люди умные или претендующие на то, чтобы их считали таковыми, подчиняются в данном случае мнению глупцов и лентяев. Что до меня, то я непременно хочу взять от человека то, что в нем самое лучшее. Называйте это профессиональным разговором, вульгарностью или как вам будет угодно.
Но Руфь не понимала Мартина. Его нападки на общепринятое она объясняла своенравием и упрямством.
Так или иначе, Мартин заразил профессора Колдуэлла своей серьезностью, и заставил его заговорить на темы, ему близкие. Руфь, подойдя к ним, услыхала, как Мартин сказал:
— Но в Калифорнийском университете вы, вероятно, не решаетесь высказывать подобную ересь!
Профессор Колдуэлл пожал плечами.
— Каждый честный налогоплательщик должен быть немного политиком. Сакраменто [16] ассигнует средства, и приходится считаться с Сакраменто, считаться с правлением университета, с партийной прессой, точнее сказать — с прессой обеих партий.
— Это ясно, но вам-то каково! — воскликнул Мартин. — Вы должны чувствовать себя, как рыба, выброшенная на берег!
— У нас в университетском пруду не много наберется таких, как я. Иногда мне кажется, что я в самом деле рыба, выброшенная на сушу, и я начинаю думать, что мне было бы лучше и вольнее где-нибудь в Париже, в среде писак-строчкогонов или буйных завсегдатаев Латинского квартала. Я бы обедал в дешевых ресторанчиках; пил кларет и высказывал отчаянно смелые взгляды на мироздание. Мне иногда кажется, что по натуре я радикал. Но, увы, так много вопросов, в которых я не чувствую себя уверенным! Я просто робею, когда вижу свою человеческую ограниченность, мешающую мне охватывать все стороны проблемы, в особенности когда речь идет о коренных проблемах жизни.
Слушая его, Мартин невольно вспомнил «Песнь пассата»:
Мартин чуть не произнес этих слов вслух. Он глядел на профессора и находил в нем что-то общее с северо-восточным пассатом, упорным, холодным и сильным. Он был так же ровен и надежен, и, однако, в нем было что-то смущающее. Мартин подумал, что профессор, вероятно, никогда не высказывается до конца, так же как и северо-восточный пассат никогда не дует в полную силу, а оставляет себе резервы, которыми, однако, никогда не пользуется. Мартин не утратил своей способности к образному видению. Его мозг был как бы огромным складом воспоминаний и вымыслов, куда доступ был всегда открыт. Что бы ни произошло, воображение Мартина мгновенно извлекало из этого склада что-либо сходное или, наоборот, противоположное и воплощало это в ярких образах. Делалось это совершенно непроизвольно, и каждому событию реальной жизни неизменно сопутствовали картины, создаваемые фантазией. Как тогда ревнивый блеск в глазах Руфи напомнил ему бурю при лунном свете, так теперь профессор Колдуэлл вызвал перед ним картину багряного в закатных лучах моря, по которому северо-восточный пассат гонит белые барашки волн. Так ежеминутно возникали перед ним различные видения и не только не нарушали хода его мыслей, но, напротив, делали его стройнее. Эти видения были отголоском всего того, что пережил некогда Мартин, всего, что он видел и вычитал из книг, и они постоянно, наяву и во сне, теснились в его мозгу.
И вот теперь, слушая плавную речь профессора Колдуэлла — речь умного и образованного человека, — Мартин невольно вспоминал свое прошлое. Он видел себя на заре своей юности, гулякой-парнем с размашистой походкой, в лихо заломленной стетсоновской шляпе и двубортной куртке, идеалом которого было бесшабашное озорство, насколько оно дозволялось полицией. Мартин и не пытался что-либо смягчать или сглаживать в этих воспоминаниях. Да, в известный период своей жизни он был самым обыкновенным забиякой, предводителем шайки, которая вечно воевала с полицией и терроризировала честных жителей рабочего квартала. Но теперь его идеалы изменились. Он поглядывал вокруг себя, на благовоспитанных и хорошо одетых мужчин и дам, вдыхал атмосферу утонченной культуры, а в это время призрак его юности в широкополой шляпе и двубортной куртке враскачку шел к нему по ковру гостиной. Ведь это он, озорной предводитель уличной шайки, превратился в того Мартина Идена, который сидит теперь в мягком кресле и мирно беседует с профессором университета.
В сущности говоря, Мартин так до сих пор и не нашел своего настоящего места в жизни. Он легко и быстро осваивался всюду, был всегда общим любимцем, потому что не отставал ни в работе, ни в игре, умел постоять за себя и внушить к себе уважение. Но никогда и нигде он не пускал корней. Вполне удовлетворяя своих сотоварищей, сам он никогда не был удовлетворен. Его все время томила какая-то тревога, ему все время слышался голос, звавший куда-то, и он странствовал по жизни, не зная покоя, пока не нашел наконец книги, искусство и любовь. И вот теперь он сидит в этой светской гостиной — единственный из всего своего прежнего круга, кто запросто мог прийти в гости к таким людям, как Морзы.
Все эти размышления отнюдь не мешали Мартину внимательно слушать. Он видел, насколько обширны познания его собеседника, и время от времени чувствовал недостатки и пробелы в своем образовании, хотя благодаря Спенсеру ему все же были известны общие основы знания. Нужно было только время, чтобы заполнить пробелы. «Вот тогда потягаемся!» — думал он. Но пока он как бы сидел у ног профессора, благоговейно внимая всему, что тот изрекал. Однако постепенно Мартин начал замечать и слабую сторону суждений своего собеседника, которая чувствовалась при любом повороте разговора, хотя определить ее было и не так легко. И когда Мартин понял наконец, в чем заключается эта слабая сторона, у него сразу исчезло чувство неравенства.
Руфь подошла к ним вторично как раз в тот момент, когда Мартин начал говорить.
— Я скажу вам, в чем вы заблуждаетесь или, вернее, в чем слабость ваших суждений, — сказал он. — Вы пренебрегаете биологией. Она отсутствует в ваших концепциях. То есть, я разумею подлинную, всепроникающую научную биологию, начиная с лабораторных опытов по оживлению неорганического вещества и кончая самыми широкими социологическими и эстетическими обобщениями.
Руфь была совершенно ошеломлена. Она в продолжение двух лет слушала лекции профессора Колдуэлла, и он казался ей живым кладезем мудрости.
— Я не совсем понимаю вас, — нерешительно сказал профессор.
— Попытаюсь объяснить, — произнес Мартин. — Помнится, я читал в истории Египта, что нельзя понять египетское искусство, не изучив предварительно характер страны.
— Совершенно верно, — согласился профессор.
— И вот мне кажется, — продолжал Мартин, — что, в свою очередь, характер страны нельзя изучать, если не знаешь прежде всего, из чего и как создавалась жизнь. Как мы можем понять законы, учреждения, нравы и религию, не зная людей, их создавших, не зная даже природы этих людей? А разве литература не такое же создание человека, как египетские храмы и статуи? Разве во вселенной существует что-нибудь, не подчиняющееся всемирному закону эволюции? Я знаю, что история эволюции отдельных искусств разработана, но мне кажется, что она разработана чисто механически. Человек остается при этом в стороне. Великолепно разработана эволюция инструментов — арфы, скрипки, эволюция музыки, танца, песни. Но что можно сказать об эволюции самого человека, о тех органах, которые развивались в нем, прежде чем он смастерил первый инструмент или пропел первую песню? Вот об этом-то вы забываете, а это именно я и называю биологией. Это биология в самом широком смысле слова. Я говорю довольно бессвязно, но мне хочется, чтобы вы поняли мою мысль. Она пришла мне в голову, пока вы говорили, и мне трудно сразу найти ей четкое выражение. Вы упомянули об ограниченности человека, мешающей ему охватить все стороны проблемы — все факторы. Вот вы как раз — по крайней мере мне так кажется — упускаете биологический фактор, то есть именно то, на чем строится в конечном счете всякое искусство, основу основ всех человеческих дел и свершений.
К изумлению Руфи, Мартин не был мгновенно уничтожен, и профессор Колдуэлл даже отнесся внимательно к его словам, очевидно, считаясь с молодостью собеседника. После недолгого молчания профессор начал говорить, поигрывая золотой цепочкой от часов.
— Вы знаете, — сказал он, — мне уже делал однажды подобные упреки один великий человек, ученый-эволюционист Жозеф Леконт. Но он умер, и я думал, что некому больше обличать меня, а вот теперь вижу в вашем лице нового обвинителя. Вероятно, — не могу не признать этого, — в ваших обвинениях есть доля истины, и даже очень большая доля. Я слишком ушел в классику и недостаточно следил за развитием естественных наук; быть может, это объясняется просто недостатком энергии и работоспособности. Вы, вероятно, очень удивитесь, если узнаете, что я никогда не был ни в одной физической или химической лаборатории. Однако это факт. Леконт был прав, так же как и вы, мистер Иден, хоть я и не знаю, насколько.
Под каким-то предлогом Руфь отвела Мартина в сторону и шепнула ему:
— Вы совсем завладели профессором Колдуэллом. Может быть, еще кто-нибудь хочет побеседовать с ним.
— Простите, — смущенно пробормотал Мартин, — я заставил его разговориться, и это оказалось настолько интересно, что я забыл о других. Просто мне до сих пор не приходилось встречать такого умного и образованного собеседника. И, между прочим, знаете что? Я прежде думал, что все, кто окончил университет или занимает важное общественное положение, так же умны и образованны…
— Он человек исключительный, — возразила Руфь.
— Очевидно. С кем же вы хотите, чтобы я поговорил теперь? Вот что, сведите меня с этим Хэпгудом.
Мартин беседовал с главным бухгалтером минут пятнадцать, и Руфь не могла нарадоваться на своего возлюбленного. Его глаза ни разу не засверкали, щеки ни разу не вспыхнули, и Руфь изумлялась спокойствию, с каким он вел беседу. Но зато в глазах Мартина сословие банковских деятелей потеряло всякий престиж, и под конец вечера у него сложилось убеждение, что банковский деятель — синоним пошляка. Армейский офицер оказался очень добродушным, здоровым и уравновешенным человеком, вполне довольным своей судьбой. Узнав, что он тоже учился в университете целых два года, Мартин был очень удивлен и никак не мог понять, куда же делись все его познания. Но все же офицер понравился Мартину гораздо больше, чем Чарльз Хэпгуд.
— Меня не пошлости его возмущают, — говорил потом Мартин Руфи, — меня злит тот напыщенный, самодовольный, снисходительный тон, которым эти пошлости изрекаются. А сколько времени на это уходит! Я мог бы изложить всю историю Реформации, пока этот делец объяснял мне, что рабочая партия слилась с демократической. Слова для него все равно, что карты для профессионального игрока в покер. Когда-нибудь я вам покажу это на примере.
— Мне очень жаль, что он вам не понравился, — отвечала Руфь. — Он любимец мистера Бэтлера. Мистер Бэтлер говорит, что это самый честный и надежный человек; он называет его скалой, камнем, который может служить надежной опорой для любого банковского учреждения.
— Я в этом и не сомневаюсь, даже судя по тому немногому, что я от него слышал. Но я утратил теперь всякое уважение к банкам. Вы не сердитесь, дорогая, что я так прямо высказываю свое мнение?
— Нисколько! Это очень интересно.
— Да, — подтвердил Мартин, — ведь я варвар, получающий первые впечатления от цивилизации. Цивилизованному человеку эти мои впечатления должны, несомненно, показаться очень любопытными.
— А что вы скажете о моих кузинах? — спросила Руфь.
— Они мне понравились больше других женщин. Очень веселые и держатся просто, без претензий.
— Значит, другие женщины вам тоже понравились? Мартин покачал головой.
— Эта общественная деятельница — просто попугай, болтающий о социальных проблемах. Готов поклясться, что если б выпотрошить ее мозг, в нем не нашлось бы ни одной самостоятельной идеи. Портретистка невыносимо скучна. Вот была бы отличная пара для Хэпгуда. А уж музыкантша! Не знаю, может быть, у нее великолепная техника, и беглость, и туше, — но только в музыке она ничего не смыслит.
— Но ведь она превосходно играет, — попробовала протестовать Руфь.
— Да, играет она как будто виртуозно, но истинная сущность музыки ей совершенно не доступна. Я спросил, какой внутренний смысл находит она в музыке, — вы знаете, меня всегда интересует этот вопрос, — и она ничего не могла ответить, кроме того, что она обожает музыку, что музыка — величайшее из всех искусств, что музыка для нее дороже жизни.
— Вы всех заставили говорить на профессиональные темы, — сказала Руфь с упреком.
— Не отрицаю. Но уж если они и тут не могли сказать ничего путного, то вообразите мои мучения, если бы они стали разговаривать на какие-нибудь общие темы. А я-то думал, что здесь, где люди пользуются всеми преимуществами культуры… — Мартин на секунду умолк: он снова увидел, как в комнату раскачивающейся походкой вошел парень в стетсоне и двубортной куртке. — Да, а я-то думал раньше, что здесь все так и блещут умом и знаниями. Но из своего недолгого общения с ними я уже могу сделать вывод: большинство этих людей — круглые невежды, а девяносто процентов остальных невыносимо скучны. Вот профессор Колдуэлл — это совсем другое дело. Он настоящий человек, весь до последней клеточки своего мозгового вещества.
Руфь просияла.
— Расскажите мне о нем, — сказала она, — не об его блестящих качествах, — я и так их прекрасно знаю, — а о том, что вам в нем не понравилось. Мне очень интересно знать.
— А вдруг я попаду впросак, — шутливо протестов вал Мартин, — расскажите сначала вы. Или вы в нем видите только одно хорошее?
— Я прослушала у него два курса лекций и знаю его больше двух лет, потому-то мне и интересно ваше впечатление.
— В особенности — отрицательное? Ну что же, извольте! Я думаю, что он вполне заслуживает вашего восхищения и уважения. Это самый умный и развитой человек, которого я когда-либо встречал, но у него не спокойна совесть. О, не подумайте чего-нибудь дурного! — воскликнул Мартин. — Я хочу сказать, что он производит впечатление человека, который заглянул в глубь вещей и так напугался, что самого себя хочет уверить в том, что ничего не видел. Может быть, я не ясно выразил свою мысль? Попытаюсь объяснить иначе. Вообразите себе человека, который нашел тропу к скрытому в чаще храму и не пошел по ней. Он, может быть, даже видел мельком и самый храм, но потом убедил себя, что это был просто мираж. Или вот еще. Человек мог бы совершить прекрасный поступок, но не счел это нужным и теперь все время жалеет, что не сделал того, что мог сделать. В глубине души он смеется над наградой, которую мог получить за свои деяния, но где-то еще глубже тоскует по этой награде и по великой радости свершения.
— Я его таким не воспринимаю, — сказала Руфь, — и, откровенно говоря, я все-таки не совсем понимаю, что вы хотите сказать.
— Потому что я сам еще до конца не разобрался, — говорил Мартин, как бы оправдываясь, — и не могу обосновать логически. Это только чувство, и очень может быть, оно меня обманывает. Вы, наверное, знаете профессора Колдуэлла лучше меня.
Из этого вечера у Морзов Мартин вынес странные и противоречивые чувства. Он несколько разочаровался в своих намерениях, разочаровался в людях, до уровня которых хотел подняться. С другой стороны, успех ободрил его. Подняться оказалось легче, чем он думал. Мартин не только преодолел трудности подъема, но (он не старался из ложной скромности скрыть это от себя) оказался выше тех, с кем старался сравняться, исключая, разумеется, профессора Колдуэлла. И жизнь и книги он знал гораздо лучше, чем все эти люди, и мог только недоумевать, в какие углы и подвалы запрятали они свое образование. Ему пока не приходило в голову, что он наделен исключительным умом, не знал он и того, что истинных и глубоких мыслителей нужно искать никак не в гостиных Морзов; что эти мыслители подобны орлам, одиноко парящим в небесной лазури, высоко над землею, вдали от суеты и пошлости обыденной жизни.
Глава двадцать восьмая
Удача потеряла адрес Мартина Идена, и посланцы ее больше не стучались к нему в дверь. Двадцать пять дней, не отдыхая даже по воскресеньям и праздникам, Мартин работал над «Позором солнца» — большой статьей, почти в тридцать тысяч слов. Это была хорошо продуманная атака на мистицизм школы Метерлинка [17],- вылазка из цитадели позитивных знаний, направленная против фантазеров, мечтающих о чудесах; правда, и в самой статье содержались элементы чудесного, но только такого, что не противоречило фактам. К этой большой статье Мартин немного позже присоединил две небольших: «Жрецы чудесного» и «Мерило нашего «я». И все три отправились путешествовать по редакциям на его счет.
За двадцать пять дней, потраченных на «Позор солнца», Мартину удалось продать на шесть с половиной долларов своих «доходных» произведений. За одну вещицу он получил пятьдесят центов, за другую, посланную в юмористический еженедельник, — целый доллар. Кроме того, были проданы еще два юмористических стихотворения, одно за два, другое за три доллара. В конце концов, исчерпав свой кредит (хотя бакалейщик увеличил его до пяти долларов), Мартин опять вынужден был снести в заклад велосипед и пальто. За прокат пишущей машинки снова требовали денег, напоминая Мартину, что по условию он обязан платить за месяц вперед.
Ободренный сбытом нескольких мелочей, Мартин решил вновь заняться «ремесленничеством». Может быть, на это все-таки удастся жить. У него под столом было сложено десятка два небольших рассказов, отвергнутых литературными агентствами. Мартин перечитал их, чтобы уяснить себе, как не надо писать газетные рассказы, и, таким образом, выработать идеальную формулу. Он установил, что газетный рассказ не должен содержать трагического элемента, не должен иметь плохой конец и не должен отличаться ни красотой слога, ни оригинальностью мысли, ни утонченностью чувств. Но чувства в нем должны быть непременно, даже в избытке и притом самые возвышенные и благородные, вроде тех, которые заставляли его некогда аплодировать с галерки ура-патриотическим мелодрамам и пьесам на тему «хоть беден, да честен».
Уяснив себе это, Мартин принялся за изготовление рассказов по выработанной им формуле. Формула была трехчленная: 1) двум влюбленным приходится разлучиться; 2) благодаря какому-то событию они соединяются снова; 3) звон свадебных колоколов. Третий член был постоянной величиной, но первый и второй могли варьироваться бесконечно. Разлучить влюбленных могло роковое недоразумение, стечение обстоятельств, ревнивые соперники, жестокие родители, хитрые опекуны и т. д. и т. п.; соединить их мог какой-нибудь доблестный поступок влюбленного или влюбленной, вынужденное либо добровольное согласие опекуна, родителей или соперников, неожиданное разоблачение какой-нибудь тайны, самопожертвование влюбленного — и так далее, до бесконечности. Очень эффектно было заставить девушку сделать первый шаг, и еще много других эффектных приемов и ловких трюков придумал Мартин, разрабатывая эту тему. Одним только не мог он распоряжаться по своему усмотрению: в конце каждого рассказа непременно должны были звонить свадебные колокола, хотя бы небеса рухнули или земля разверзлась. Дозировка была также совершенно точная: максимум — полторы тысячи слов, и минимум — тысяча двести.
Прежде чем окончательно овладеть искусством сочинения подобных рассказов, Мартину пришлось выработать пять или шесть схем, и с ними он всегда сообразовывался в процессе писания. Это было вроде тех математических таблиц, которые можно читать сверху, снизу, справа налево, слева направо и с помощью которых можно без всякого умственного напряжения получать какие угодно решения, всегда одинаково правильные и точные. По этим схемам Мартин в полчаса набрасывал штук десять сюжетов, которые откладывал и затем в свободное время обрабатывал. Обычно он делал это перед сном, после целого дня серьезной работы. Впоследствии он признавался Руфи, что мог сочинять такие рассказы даже во сне. Главная работа — составить схему, остальное все делалось чисто механически.
Мартин Иден не сомневался в действенности своей формулы и, посылая первые два рассказа, был уверен, что они принесут ему деньги. И в самом деле, дней через десять Мартин получил два чека, на четыре доллара каждый.
Тем временем он сделал новые печальные открытия, касающиеся журналов. «Трансконтинентальный ежемесячник» напечатал его «Колокольный звон», но чека не прислал. Мартин очень нуждался в деньгах и написал в редакцию. Вместо чека он получил уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь. Проголодав два дня, Мартин принужден был опять заложить велосипед. Регулярно два раза в неделю он напоминал «Ежемесячнику» о своих пяти долларах, но, по-видимому, первый ответ был получен по чистой случайности. Мартин не знал, что «Ежемесячник» уже в течение нескольких лет едва сводит концы с концами, что он не имеет ни подписчиков, ни покупателей и существует только объявлениями, которые ему даются скорее всего из чисто благотворительских соображений. Не знал он и того, что «Ежемесячник» является единственным источником дохода для издателя и редактора и что этот доход они ухитряются извлекать лишь благодаря тому, что систематически не платят авторам. Разве мог Мартин подозревать, что на его пять долларов издатель выкрасил свой дом в Аламеде, и выкрасил его сам, так как ему была не по карману плата, установленная союзом маляров, а первый же нанятый им штрейкбрехер свалился с лестницы, которую кто-то нарочно подтолкнул, и его отвезли в больницу со сломанной ногой.
Не получил Мартин и десяти долларов за очерк «Искатели сокровищ», принятый чикагской газетой. Очерк был напечатан, в этом он убедился, просмотрев комплект газеты в городской читальне, но никакого ответа от издателя он добиться не смог. Его письма оставляли без внимания. Желая быть уверенным в том, что они доходят по назначению, Мартин отправлял их заказными. Это грабеж, решил он, хладнокровный грабеж среди белого дня, — он голодает, а у него крадут его товар, его единственную возможность заработать на кусок хлеба.
Еженедельник «Юность и зрелость» напечатал две трети его повести в двадцать одну тысячу слов, после чего вдруг перестал выходить. Таким образом, пропала всякая надежда на получение шестнадцати долларов.
В довершение всего «Котел», который он считал своим лучшим рассказом, пропал зря. В отчаянии, перебрав множество журналов, Мартин послал его в Сан-Франциско, в журнал «Волна». Выбрал он этот журнал лишь потому, что можно было быстро получить ответ: редакция была близко, на другом берегу залива. Недели через две он с радостью увидел свой рассказ напечатанным на видном месте да еще с иллюстрациями. Вернувшись домой со сладко бьющимся сердцем, Мартин старался угадать, сколько заплатят ему за этот лучший его рассказ. Его радовала та быстрота, с которой рассказ был принят и напечатан. Правда, издатель не уведомил его о принятии рукописи, но тем приятнее был неожиданный сюрприз. Прождав неделю, две и еще несколько дней, Мартин, поборов ложный стыд, написал редактору «Волны», высказывая предположение, что его маленький счет был забыт по недосмотру управляющего делами.
«Даже если мне заплатят всего пять долларов, — размышлял Мартин, — и то я смогу купить на эти деньги бобов и гороху и напишу еще с полдюжины таких же рассказов».
Наконец, пришел ответ, который привел Мартина в восторг своей великолепной наглостью:
«Мы очень благодарны вам за ваш прекрасный рассказ. Мы все в редакции с наслаждением читали его и, как видите, напечатали на почетном месте. Надеемся, что вам понравились иллюстрации.
Как видно из вашего письма, вы рассчитываете на авторский гонорар. К сожалению, у нас не принято платить за произведения, написанные не по нашему заказу, а ваш рассказ заказан не был. Принимая его к печати, мы, разумеется, полагали, что это условие вам известно. Нам остается только пожалеть, что произошло такое печальное недоразумение. Еще раз благодарим вас и надеемся получить от вас еще что-нибудь. Примите и проч.».
В постскриптуме было сказано, что хотя, как правило, «Волна» никому бесплатно не высылается, тем не менее редакция считает для себя за честь включить Мартина Идена в число подписчиков на следующий год.
После этого печального опыта Мартин всегда подписывал на первом листе каждой рукописи: «Оплата по вашей обычной ставке».
«Когда-нибудь, — утешал он себя, — они будут мне платить по моей обычной ставке!»
Мартина в этот период времени охватила горячка самосовершенствования, и он без конца исправлял и переделывал «Веселую улицу», «Вино жизни», «Радость», «Песни моря» и другие свои ранние произведения. Ему по-прежнему не хватало девятнадцатичасового рабочего дня, он усердно писал и читал, стараясь трудом заглушить муки курильщика, отказавшегося от долгой привычки. Средство, присланное Руфью, он засунул в самый дальний угол ящика письменного стола. Особенно трудно было обходиться без табака во время голодовок; как он ни старался подавить желание курить, оно не проходило. Мартин считал это своим величайшим подвигом, а Руфь находила, что он поступает правильно, и только. Она купила ему обещанное средство из денег, которые получала на булавки, и через несколько дней совершенно забыла об этом.
Мартин ненавидел свои написанные по схеме рассказы, смеялся над ними, но как раз они-то неизменно находили сбыт. Благодаря им он расплатился с долгами и даже купил новые велосипедные шины. Эти рассказы кормили и поили его, и у него еще оставалось время для серьезной работы. Кроме того, Мартина постоянно окрыляло воспоминание о сорока долларах, полученных от «Белой мыши». Как знать, может быть, и другие первоклассные журналы платят неизвестным авторам столько же, а может быть, и еще больше. Но задача состояла в том, чтобы проникнуть в эти первоклассные журналы. Они последовательно отвергали все его лучшие рассказы и стихи, а между тем из номера в номер печатали десятки безвкусных и пошлых вещей.
«Если бы кто-нибудь из этих важных издателей, — думал иногда Мартин, — снизошел и написал мне хоть одну ободряющую строчку! Может быть, мое творчество слишком необычно, может быть, оно им не подходит по различным соображениям, но неужели нет в моих произведениях ничего, что могло бы хоть вызвать желание ответить!»
И вот Мартин снова брал «Приключение» или другой такой же рассказ и в сотый раз перечитывал его, стараясь угадать причину молчания издателей.
С наступлением теплой калифорнийской весны для Мартина кончился период благоденствия. В течение нескольких недель его тревожило непонятное молчание литературного агентства. Наконец, в один прекрасный день ему вернули сразу десять его сделанных по схеме рассказов. При них было сопроводительное письмо, оповещавшее Мартина о том, что агентство завалено материалом и раньше чем через несколько месяцев не может принять ни одной новой рукописи. А Мартин, рассчитывая на эти десять рассказов, был в последнее время даже расточителен. Агентство обычно платило ему по пять долларов за рассказ и до сих пор не отвергло ни одного; поэтому Мартин вел себя так, как если бы у него на текущем счету уже лежало пятьдесят долларов. Таким образом, для него сразу наступил период тяжелых испытаний, и он снова начал с отчаянием рассылать свои старые рассказы по мелким изданиям, которые их печатали, но не платили, а новые отправлял в солидные журналы, которые и не платили и не печатали. Он возобновил посещения закладной лавки. Несколько шуточных стихотворений, принятые нью-йоркскими еженедельниками, дали ему возможность кое-как перебиться. Тогда он решился и написал во все крупные журналы: почему не печатают его произведения? Ему ответили, что рукописи, поступающие самотеком, обычно не рассматриваются, что большая часть публикуемого материала пишется по заказу журналов авторами, которые уже имеют имя и опыт.
Глава двадцать девятая
Это было тяжелое лето для Мартина Идена. Редакторы и рецензенты разъехались на отдых, и рукописи, возвращавшиеся обычно через три недели, теперь валялись в редакциях по три месяца. Единственным утешением было то, что не приходилось тратиться на марки. Только пиратские журнальчики продолжали жить интенсивной жизнью. И Мартин послал им все свои ранние произведения: «Ловцов жемчуга», «Профессию моряка», «Ловлю черепах», «Северо-восточный пассат». Ни за одну из этих рукописей ему не было уплачено. Правда, после шестимесячной переписки Мартин получил в качестве гонорара за «Ловлю черепах» безопасную бритву, а за «Северо-восточный пассат» «Акрополь» обещал ему пять долларов и пять годовых подписок, но исполнил лишь вторую часть обещания.
За сонет о Стивенсоне Мартину удалось выжать два доллара из тощего кошелька одного бостонского издателя с утонченным вкусом, но ограниченными возможностями. «Пери и жемчуг», остроумная сатирическая поэма в двести строк, только что законченная Мартином, очень понравилась редактору одного журнала в Сан-Франциско, издававшегося на средства крупной железнодорожной компании. Редактор предложил Мартину в уплату за поэму даровой проезд по железной дороге. Мартин запросил, может ли он передать это право другому лицу. Узнав, что передавать право на даровой проезд нельзя и, следовательно, нет надежды заработать на этом, Мартин потребовал возврата рукописи. Он ее вскоре получил вместе с письменными сожалениями редактора по поводу того, что поэму не пришлось напечатать. Мартин снова отправил ее в Сан-Франциско, на этот раз в журнал под названием «Шершень», когда-то основанный блестящим журналистом, сумевшим быстро раздуть его популярность. К несчастью, звезда «Шершня» начала меркнуть еще задолго до рождения Мартина. Редактор предложил Мартину за поэму пятнадцать долларов, но когда поэма была напечатана, по-видимому, забыл о своем обещании. Не получив ответа на многие запросы, Мартин написал, наконец, резкое письмо и получил от нового редактора холодное извещение, что он не отвечает за ошибки своего предшественника и что сам он весьма невысокого мнения о поэме «Пери и жемчуг».
Но хуже всего поступил с Мартином чикагский журчал «Глобус». После долгих колебаний Мартин все-таки решил напечатать «Песни моря», чтобы не умереть с голоду. Отвергнутые десятком журналов, стихи эти обрели наконец тихую пристань в редакции «Глобуса». В цикле было тридцать стихотворений, и Мартин должен был получить по доллару за каждое. В первый же месяц были напечатаны четыре стихотворения, и Мартин незамедлительно получил чек на четыре доллара; но, заглянув в журнал, он ужаснулся. Заглавия стихотворений были изменены: вместо «Finis» было напечатано «Финиш» [18] вместо «Песня одинокого утеса» стояло «Песня кораллового утеса». Одно заглавие было просто заменено другим, совершенно неподходящим: вместо «Свет медузы» редактор написал «Обратный путь». Самые стихи подверглись еще большим искажениям. Мартин скрежетал зубами и рвал на себе волосы. Фразы, строчки, целые строфы были выпущены, спутаны, переставлены так, что иногда ничего нельзя было понять. Иные строчки были просто заменены чужими. Мартин не мог представить себе, что здравомыслящий редактор может быть повинен в подобных злодействах, и решил, что это проделки какого-либо типографского курьера или переписчика. Мартин немедленно потребовал прекратить печатание и вернуть ему рукопись, он писал письмо за письмом, умоляя, требуя, угрожая. Но все его письма были оставлены без внимания. Ежемесячно появлялись эти исковерканные стихи, и ежемесячно Мартин получал чек.
Во всех этих неудачах Мартина утешало воспоминание о сорока долларах «Белой мыши», но он все больше и больше времени отдавал сочинению доходных мелочей. Он неожиданно нашел «хлебное место» в сельскохозяйственных и торговых журналах, попробовал даже иметь дело с религиозным еженедельником, но понял, что тут ему обеспечена голодная смерть.
В самый критический момент, когда снова был заложен черный костюм, Мартину вдруг повезло на конкурсе, объявленном окружным комитетом республиканской партии. Собственно, это был даже не один конкурс, а три, и Мартин во всех трех оказался победителем. Он горько смеялся над самим собою, над тем, что ему приходится выкручиваться подобными способами. Его поэма удостоилась первой премии в десять долларов, его агитационная песня получила вторую премию в пять долларов и, наконец, статья о задачах республиканской партии получила опять-таки первую премию в двадцать пять долларов. Он радовался, пока не пришло время получать деньги. Что-то, видно, случилось в комитете, и хотя среди его членов был один банкир и один сенатор, денег у комитета не оказалось. Пока продолжалась волокита, Мартин доказал, что не хуже разбирается в задачах демократической партии, получив первую премию за статью, написанную для такого же конкурса. Мало того, здесь он даже получил свои двадцать пять долларов. Сорока долларов, следуемых по республиканскому конкурсу, он так и не увидел.
Чтобы встречаться с Руфью, Мартин вынужден был пуститься на хитрость. Так как путь пешком от Северного Окленда до дома Морзов и обратно отнимал слишком много времени, то Мартин решил выкупить велосипед, а черный костюм оставить в закладе. Поездки к Руфи на велосипеде сберегали время и служили прекрасным физическим упражнением. Кроме того, короткие парусиновые брюки и старый свитер могли отлично сойти за велосипедный костюм. Мартин стал снова совершать послеобеденные прогулки вдвоем с Руфью. У них дома ему теперь почти не удавалось перемолвиться с нею словом, ибо миссис Морз продолжала осуществлять свой план светских развлечений. Избранное общество, которое Мартин встречал в гостиной Морзов и на представителей которого он еще недавно смотрел с уважением, теперь раздражало его. Оно уже не казалось ему избранным. Тяжелая жизнь, напряженная работа и постоянные неудачи сделали Мартина нервным и раздражительным, и болтовня этих людей приводила его в бешенство. Это не было чрезмерное самомнение. Людей он судил, сравнивая их с великими мыслителями, чьи книги читал с таким благоговением. В доме Руфи он не встретил пока ни одного по-настоящему умного человека, за исключением профессора Колдуэлла, который, впрочем, больше там не показывался. Все остальные были жалкие догматики, ничтожные людишки с ничтожными мыслями. Их невежество поражало Мартина. Почему они все так невежественны? Где они растеряли свои знания? Ведь они читали те же книги, что и он. Как могло случиться, что эти книги ничему не научили их?
Мартин знал, что великие умы, настоящие, глубокие мыслители существуют. Лучшим тому доказательством были книги, которые помогли ему возвыситься над средою Морзов. И он знал, что даже в так называемом «обществе» можно встретить людей умней и куда интересней всех тех, которые заполняли гостиную Морзов. Мартин читал английские романы, персонажи которых спорили в светских гостиных на политические и философские темы. Он знал, что в больших городах, не только английских, но даже американских, существуют салоны, где сходятся представители искусства и научной мысли. Раньше он по глупости воображал, что каждый хорошо одетый человек, не принадлежавший к рабочему сословию, обладает тонким умом и чувством прекрасного. Крахмальный воротничок казался ему признаком культуры, и он не знал, что университетский диплом и истинное образование далеко не одно и то же.
Ну что ж! Он будет прокладывать себе дорогу наверх. И Руфь он поведет за собою. Мартин горячо любил ее и был уверен, что она повсюду будет блистать. Он теперь понимал, что среда, в которой Руфь выросла, во многом мешала ей, так же как ему, Мартину, мешала в свое время его среда. До сих пор у нее не было возможности по-настоящему расширить свой кругозор. Книги в кабинете ее отца, картины на стенах, ноты на рояле — все это было лишь показное, внешнее. К настоящей литературе, настоящей живописи, настоящей музыке Морзы и все их знакомые были слепы и глухи. Но еще важнее была жизнь, о которой они и вовсе не имели никакого представления. Они называли себя унитариями, носили маску умеренного вольнодумства и при всем том отстали по крайней мере на два века от позитивной науки; они мыслили по-средневековому, а их взгляды на мироздание и на происхождение жизни представляли собой чистейшую метафизику, столь же древнюю, как пещерный век, и даже древнее. Это была та самая метафизика, которая заставляла первого, обезьяноподобного человека бояться темноты, первых иудеев привела к мысли о происхождении Евы из Адамова ребра, Декарту внушила идеалистическое представление о мире, как проекции его собственного ничтожного «я», а одного знаменитого английского священника побудила осмеять эволюцию в уничтожающей сатире, которая вызвала бури восторга и запечатлела его имя в виде жирной каракули на страницах истории.
Чем больше Мартин размышлял, тем сильнее крепло в нем убеждение, что вся разница между этими адвокатами, офицерами, дельцами, банкирами, с одной стороны, и людьми рабочего сословия — с другой, основана на том, что они по-разному едят, живут и одеваются. Им одинаково не хватало того самого главного, что он находил в книгах и чувствовал в себе. Морзы показали Мартину сливки своего общества, и он не пришел от них в восхищение. Нищий раб ростовщика, он все же был на голову выше тех, кого встречал в гостиной у Морзов. А когда Мартин выкупил из заклада свой единственный костюм, в обществе этих людей он стал неизменно испытывать чувство оскорбленного достоинства, точно принц, вынужденный жить среди пастухов.
— Вы ненавидите и боитесь социалистов, — сказал он однажды за обедом мистеру Морзу, — но почему? Вы ведь не знаете ни их самих, ни их взглядов.
Разговор о социализме возник после того, как миссис Морз пропела очередной дифирамб мистеру Хэпгуду. Мартин не выносил этого самодовольного пошляка, и всякое упоминание о нем выводило его из равновесия.
— Да, — сказал Мартин, — Чарли Хэпгуд подает большие надежды, об этом все говорят, и это правда, я думаю, что он еще задолго до смерти сядет в губернаторское кресло, а то и сенатором Соединенных Штатов сделается.
— Почему вы так думаете? — спросила миссис Морз.
— Я слушал его речь во время предвыборной кампании. Она была так умно-глупа и банальна и в то же время так убедительна, что лидеры должны считать его абсолютно надежным и безопасным человеком, а пошлости, которые он говорит, вполне соответствуют пошлости рядового избирателя. Всякому лестно услышать с трибуны свои собственные мысли, приглаженные и приукрашенные.
— Мне положительно кажется, что вы завидуете мистеру Хэпгуду, — сказала Руфь.
— Боже меня упаси!
На лице у Мартина был написан такой ужас, что миссис Морз настроилась на воинственный лад.
— Не хотите же вы сказать, что мистер Хэпгуд глуп? — спросила она ледяным тоном.
— Не глупее рядового республиканца, — возразил Мартин, — или рядового демократа. Они все или хитры, или глупы, причем хитрых меньшинство. Единственные умные республиканцы — это миллионеры и их сознательные прислужники. Эти-то отлично знают, где жареным пахнет.
— Вот я республиканец, — сказал с улыбкой мистер Морз, — интересно, как вы меня классифицируете?
— Вы бессознательный прислужник.
— Прислужник?!
— Ну, разумеется. Вы ведь работаете на корпорацию. У вас нет клиентуры среди рабочих, и уголовных дел вы тоже не ведете. Ваш доход не зависит от мужей, избивающих своих жен, или от карманных воров. Вы питаетесь за счет людей, играющих главную роль в обществе; а всякий человек служит тому, кто его кормит. Конечно, вы прислужник! Вы заинтересованы в защите интересов тех капиталистических организаций, которым вы служите.
Мистер Морз слегка покраснел.
— Должен вам заметить, сэр, — сказал он, — что вы говорите, как самый заядлый социалист.
Вот тогда-то Мартин и сделал свое замечание по поводу социализма.
— Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов.
— Ну, ваши взгляды во всяком случае совпадают со взглядами социалистов, — возразил мистер Морз.
Руфь с тревогой поглядывала на собеседников, а миссис Морз радовалась в душе, что Мартин навлекает на себя немилость главы дома.
— Если я называю республиканцев глупыми и говорю, что свобода, равенство и братство — лопнувшие мыльные пузыри, то из этого еще не следует, что я социалист, — сказал Мартин, улыбаясь. — Если я не согласен с Джефферсоном [19] и с тем ненаучно мыслившим французом, который влиял на его мировоззрение, то опять-таки этого недостаточно, чтобы называться социалистом. Уверяю вас, мистер Морз, что вы гораздо ближе меня к социализму; я ему, в сущности, заклятый враг.
— Вы, конечно, изволите шутить? — холодно спросил мистер Морз.
— Ничуть. Я говорю совершенно серьезно. Вы верите в равенство, а сами служите капиталистическим корпорациям, которые только и думают о том, как бы похоронить это равенство. А меня вы называете социалистом только потому, что я отрицаю равенство и утверждаю как раз тот принцип, который вы, в сущности говоря, доказываете всей своей деятельностью. Республиканцы — самые лютые враги равенства, хотя они и провозглашают его где только возможно. Во имя равенства они уничтожают равенство. Поэтому-то я говорю, что они глупы. А я индивидуалист. Я верю, что в беге побеждает быстрейший, а в борьбе сильнейший. Эту истину я почерпнул из биологии, или по крайней мере мне так кажется. Повторяю, что я индивидуалист, а индивидуалисты — вечные, исконные враги социалистов.
— Однако вы бываете на социалистических митингах, — раздраженно произнес мистер Морз.
— Конечно. Так же, как лазутчик бывает во вражеском лагере. Как же иначе изучить противника. А кроме того, мне очень весело на этих митингах. Социалисты — прекрасные спорщики, и хорошо ли, плохо ли, но они многое читали. Любой из них знает о социологии и о всяких других «логиях» гораздо больше, чем рядовой капиталист. Да, я раз десять бывал на социалистических митингах, но от этого не стал социалистом, так же как от разглагольствований Чарли Хэпгуда не стал республиканцем.
— Не знаю, не знаю, — нерешительно сказал мистер Морз, — но мне почему-то кажется, что вы все-таки склоняетесь к социализму.
«Черт побери, — подумал Мартин, — он не понял ни одного слова! Точно я говорил с каменной стеной! Куда же делось все его образование?»
Так на своем пути Мартин столкнулся лицом к лицу с моралью, основанной на экономике, — классовой моралью; и вскоре она сделалась для него настоящим пугалом. Его собственная мораль опиралась на интеллект, и моральный кодекс окружающих его людей раздражал его даже больше, чем их напыщенная пошлость; это была какая-то удивительная смесь экономики, метафизики, сентиментальности и подражательности.
Образчик этой курьезной смеси Мартину неожиданно пришлось встретить в поведении своих близких. Его сестра Мэриен познакомилась с одним трудолюбивым молодым немцем, механиком, который, основательно изучив свое ремесло, открыл велосипедную мастерскую; кроме того, он взял представительство по продаже дешевых велосипедов и зажил очень недурно. Мэриен, зайдя к Мартину, сообщила ему о своей помолвке, а потом шутя взяла его за руку и стала по линиям ладони предсказывать его судьбу.
В следующий раз она привела с собою и Германа Шмидта. Мартин поздравил обоих в самых изысканных выражениях, что, по-видимому, не слишком понравилось туповатому жениху. Дурное впечатление еще усилилось, когда Мартин прочел стихи, написанные им после прошлого посещения Мэриен. Это было изящное стихотворение, посвященное сестре и названное «Гадалка». Прочтя его вслух, Мартин был очень удивлен, что гости не выразили никакого удовольствия. Напротив, глаза сестры с тревогой устремились на жениха, на топорной физиономии которого были ясно написаны досада и раздражение. Инцидент, впрочем, был этим исчерпан, гости скоро ушли, и Мартин забыл о нем, хотя ему было непонятно, как могла женщина, хотя бы и из рабочего сословия, не почувствовать себя польщенной, что в ее честь написаны стихи.
Через несколько дней Мэриен снова зашла к Мартину, на этот раз одна. Едва успела она войти, как начала горько упрекать его за неуместный поступок.
— В чем дело, Мэриен? — спросил Мартин с удивлением. — Ты говоришь таким тоном, словно стыдишься своих родных или по крайней мере своего брата!
— Конечно, стыжусь, — объявила она.
Мартин был окончательно сбит с толку, увидев слезы обиды в ее глазах. Обида, во всяком случае, была искренняя.
— Неужели твой Герман ревнует из-за того, что брат написал о сестре стихи?
— Он вовсе не ревнует, — всхлипнула она, — он говорит, что это неприлично, непри… непристойно.
Мартин недоверчиво свистнул, полез в ящик и достал экземпляр «Гадалки».
— Не понимаю, — сказал он, передавая листок сестре, — прочти сама и скажи, что тут непристойного? Ведь ты так сказала?
— Раз он говорит, значит есть, — возразила Мэриен, с отвращением отстраняя бумагу. — Он требует, чтобы ты разорвал это. Он не хочет, чтобы про его жену писали подобные вещи, и так, чтоб всякий мог прочитать. Он говорит, что это срам… и он этого не потерпит.
— Но послушай, Мэриен, это же просто глупо, — начал было Мартин, но передумал.
Перед ним сидела несчастная девушка, которую невозможно было переубедить так же, как и ее жениха. Сознавая всю нелепость случившегося, Мартин тем не менее решил покориться.
— Ладно, — сказал он и, разорвав рукопись на мелкие кусочки, бросил их в корзинку.
Его утешала мысль, что оригинал «Гадалки» уже лежит в редакции одного из нью-йоркских журналов. Мэриен и ее супруг никогда не узнают этого, и ни они, ни он, ни мир не пострадают от того, что невинное маленькое стихотворение будет напечатано.
Мэриен нерешительно потянулась к корзине.
— Можно? — спросила она.
Мартин кивнул головой и молча глядел, как сестра собирала и прятала в карман кусочки разорванной рукописи — вещественное доказательство удачно выполненной миссии. Мэриен чем-то напоминала Мартину Лиззи Конолли, хотя ей не хватало того огня и жизненного задора, которыми полна была молоденькая работница, встреченная им в театре. Но у них было много общего — в одежде, в манерах, в поведении. Мартин не мог удержаться от улыбки, представив себе вдруг этих девушек в гостиной Морзов. Но забавная картина исчезла, и чувство бесконечного одиночества охватило Мартина. И его сестра и гостиная Морзов были только вехами на его пути. Все это уже осталось позади. Мартин с любовью поглядел на свои книги. Это были его единственные, всегда верные товарищи.
— Как? Что ты сказала? — вдруг переспросил он в изумлении.
Мэриен повторила свой вопрос.
— Почему я не работаю? — Мартин засмеялся, но смех его звучал не слишком искренне. — Это твой Герман велел спросить?
Мэриен отрицательно покачала головой.
— Не лги, — строго сказал Мартин, и она смущенно опустила голову. — Так скажи своему Герману, чтобы он не лез не в свои дела. Еще когда я пишу стихи, посвященные его невесте, это, пожалуй, его касается, но дальше пусть он не сует своего носа. Поняла? Ты думаешь, стало быть, что из меня не выйдет писателя? — продолжал он. — Ты считаешь, что я сбился с пути, что я позорю свою семью? Да?
— Я считаю, что тебе бы лучше подыскать себе какую-нибудь работу, — твердо сказала Мэриен, и Мартин видел, что она говорит искренне. — Герман находит…
— К черту Германа! — добродушно прервал ее Мартин. — Ты мне лучше скажи, когда ваша свадьба. И спроси своего Германа, соблаговолит ли он разрешить тебе принять от меня свадебный подарок.
После ее ухода Мартин долго думал об этом инциденте, горько усмехаясь. Да, все они — его сестра и ее жених, люди его круга и люди, окружающие Руфь, — все они одинаково приспособляются к общим меркам, все строят свою убогую жизнь по готовому, убогому образцу. И постоянно оглядываясь друг на друга, подражая друг другу, эти жалкие существа готовы стереть свои индивидуальные особенности, отказаться от живой жизни, чтоб только не нарушить нелепых правил, у которых они с детства в плену. Вереница знакомых образов потянулась перед мысленным взором Мартина: Бернард Хиггинботам под руку с мистером Бэтлером. Герман Шмидт, обнявшись с Чарли Хэпгудом. Всех их попарно и поодиночке внимательно оглядел Мартин, всех меряя той мерой интеллектуальной и моральной ценности, которую почерпнул из книг, и ни один не выдержал испытания. Напрасно спрашивал он: где же великие сердца, великие умы? Их не было видно среди толпы пошлых, тупых и вульгарных призраков, заполнивших его тесную каморку. А к этой толпе он чувствовал такое же презрение, какое, вероятно, чувствовала Цирцея [20] к своим свиньям.
Когда последний из призраков исчез, явился вдруг еще один, нежданный и незванный, — гуляка-парень в шляпе с огромными полями, в двубортной куртке, раскачивающийся на ходу — Мартин Иден далекого прошлого.
— И ты был не лучше, приятель, — насмешливо сказал ему Мартин. — У тебя были такие же моральные представления, и знал ты не больше остальных. Ты ни о чем не задумывался и не заботился. Взгляды ты приобретал готовыми, как и платья. Ты делал то, что одобряли другие. Ты стал коноводом своей шайки, потому что тебя сочли подходящим для этого. Ты дрался и командовал шайкой не потому, что тебе так нравилось, — на самом деле тебе это было противно, — а потому, что другие поощрительно похлопывали тебя по плечу. Ты побил Масляную Рожу потому, что не хотел уступить ему, а уступить не хотел потому, что в тебе сидел первобытный зверь и вдобавок тебе прожужжали уши, что мужчина должен быть свиреп, кровожаден и безжалостен, что бить и калечить — достойно мужчины. А зачем ты, щенок, отбивал подружек у своих товарищей? Вовсе не потому, что они тебе нравились, а просто потому, что в тех, кто тебя окружал, определял твое поведение, сильней всего были инстинкты жеребца и дикого козла! Ну вот, с тех пор прошло немало времени. Что же ты теперь обо всем этом думаешь?
И, как бы в ответ на это, в видении стала совершаться быстрая перемена. Грубая куртка и широкополая шляпа исчезли, их заменил простой скромный костюм; лицо утратило жестокое выражение и озарилось внутренним светом, одухотворенное общением с истиной и красотой. Видение теперь было очень похоже на нынешнего Мартина; оно стояло у стола, склонясь над раскрытой книгой, на которую падал свет лампы. Мартин взглянул на заголовок. Это были «Основы эстетики». И тотчас же Мартин вошел в видение, слился с ним и, сев за стол, погрузился в чтение.
Глава тридцатая
В солнечный осенний день, такой же прекрасный день бабьего лета, как год назад, когда они впервые признались, что любят друг друга, Мартин читал Руфи свои «Сонеты о любви». Так же, как и тогда, они сидели на своем любимом месте, среди холмов. Руфь то и дело прерывала чтение восторженными возгласами, и Мартин, отложив последний лист рукописи, с волнением ждал, что она скажет.
Руфь долго молчала, потом наконец начала с запинкой, словно не решаясь облечь в слова то, что решила сказать.
— Эти стихи прекрасны, — сказала она, — да, конечно, они прекрасны. Но ведь вы не можете получить за них деньги. То есть, вы понимаете, что я хочу сказать, — она произнесла это почти умоляюще, — все, что вы пишете, не имеет практической ценности. Я не знаю, в чем тут причина, — вероятно, виноваты условия спроса, — но вы не можете заработать на жизнь своими произведениями. Поймите меня правильно, дорогой мой, я очень горжусь — иначе я не была бы женщиной, — я горжусь и радуюсь, что эти чудесные стихи посвящены мне. Но ведь дня нашей свадьбы они не приближают, правда, Мартин? Не сочтите меня корыстолюбивой. Я вас люблю и постоянно думаю о нашем будущем. Ведь целый год прошел с тех пор, как мы поведали друг другу о нашей любви, а до свадьбы так же далеко, как и раньше. Пусть вам не покажется нескромным этот разговор: вспомните, что речь идет о моем сердце, обо всей моей жизни. Уж если вам непременно хочется писать — ну, найдите работу в какой-нибудь газете. Почему бы вам не сделаться репортером? Хотя бы ненадолго?
— Я испорчу свой стиль, — глухо отвечал Мартин, — вы не представляете, сколько труда я положил, чтобы выработать этот стиль.
— Но писали же вы газетные фельетоны ради денег? Они вам не испортили стиля?
— Это совсем другое дело. Я их вымучивал, выжимал из себя после целого дня серьезной работы. А стать репортером — это значит заниматься ремесленничеством с утра до ночи, отдать ему всего себя! Жизнь превратится в какой-то вихрь, придется жить минутой, без прошлого и без будущего. Репортеру и думать некогда ни о каком стиле, кроме репортерского. А это не литература. Сделаться репортером именно теперь, когда стиль у меня только что начал складываться, — да это было бы литературным самоубийством. И сейчас каждый фельетон, каждое слово там для меня мука, насилие над собой, над чувством прекрасного. Вы не представляете, как мне тяжело. Я чувствовал себя преступником. Я даже радовался втайне, когда мои «ремесленные» рассказы перестали покупать, хотя из-за этого мне пришлось заложить костюм. Но зато какое наслаждение я испытал, когда писал «Сонеты о любви»! Ведь радость творчества — благороднейшая радость на земле. Она меня вознаградила за все лишения.
Мартин не знал, что для Руфи «радость творчества» пустой звук. Она, правда, часто употребляла эти слова в беседе, и впервые Мартин услыхал о радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слышала на лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая экзамен на степень бакалавра искусств. Но сама она была лишена всякой оригинальности мысли, всякого творческого порыва и могла лишь повторять то, что заучила с чужих слов.
— А может быть, редактор был прав, исправляя ваши «Песни моря»? — спросила Руфь. — Если бы редактор не умел правильно оценивать литературное произведение, он не был бы редактором.
— Вот еще одно доказательство устойчивости общепринятых мнений, — запальчиво возразил Мартин, раздраженный упоминанием о ненавистном ему племени редакторов. — То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт какого-нибудь явления рассматривается как доказательство правомерности этого явления, и заметьте, не только при данных условиях, а на веки вечные. Конечно, рядовой человек верит в эту чепуху только из-за своего закоснелого невежества. Мыслительный процесс таких людей превосходно описал Вейнингер. Не умеющие мыслить воображают, что они мыслят, и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле.
Мартин вдруг остановился, испуганный догадкой, что Руфь еще не доросла до всего этого.
— Я не знаю, кто такой Вейнингер, — возразила она, — вы так ужасно склонны все обобщать, что я перестаю понимать ваши мысли. Я говорю, что если редактор…
— А я вам говорю, — перебил он, — что по крайней мере девяносто девять процентов редакторов — это просто неудачники. Неудавшиеся писатели. Не думайте, что им приятнее тянуть лямку в редакции и сознавать свою рабскую зависимость от распространения журнала и от оборотливости издателя, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс: все двери к литературному успеху охраняются этими сторожевыми собаками, литературными неудачниками. Редакторы, их помощники, рецензенты, вообще все те, кто читает рукописи, — это люди, которые некогда сами хотели стать писателями, но не смогли. И вот они-то, казалось бы, последние, кто имеет право вершить судьбы литературы, решают, что нужно и что не нужно печатать. Они, заурядные и бесталанные, судят об оригинальности и таланте. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. Не говорите мне, что они никогда не мечтали и не пробовали писать стихи или прозу, — пробовали, только у них ни черта не вышло. От журнальных критических статей тошнит, как от рыбьего жира. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на всех этих рецензентов и так называемых критиков. Есть, конечно, великие критики, но они редки, как кометы. Если из меня не выйдет писателя, пойду в редакторы. В конце концов это кусок хлеба. И даже с маслом.
Однако быстрый ум Руфи тотчас подметил противоречие в рассуждениях ее возлюбленного.
— Ну, хорошо, Мартин, если это так, и для талантливых людей все двери закрыты, то как же выдвинулись великие писатели?
— Они совершили невозможное, — ответил он, — они создали такие пламенные, блестящие произведения, что их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов Карлейля, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного.
— А если вы потерпите неудачу? Вы должны подумать и обо мне, Мартин!
— Если я потерплю неудачу? — Он поглядел на нее с минуту, словно она сказала нечто немыслимое. Затем глаза его лукаво блеснули. — Тогда я стану редактором, и вы будете редакторской женой!
Руфь состроила недовольную, очаровательную гримасу, которую Мартин тут же согнал поцелуями.
— Ну, ну, довольно, — протестовала Руфь, стараясь напряжением воли освободиться от обаяния его силы. — Я говорила с папой и с мамой. Я никогда так с ними не воевала. Я требовала, я была непочтительна и непослушна. Они оба настроены против вас, но я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору. Он даже решил положить вам сразу приличное жалованье, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень великодушно с его стороны, не правда ли, Мартин?
Мартин почувствовал, как тупое отчаяние сдавило ему сердце. Он машинально полез в карман за табаком и бумагой (которых давно уже не носил при себе) и пробормотал что-то невнятное.
Руфь продолжала:
— Откровенно говоря, — только, пожалуйста, не обижайтесь, я просто хочу, чтобы вы знали, как обстоит дело, — папе очень не нравятся ваши радикальные взгляды, и, кроме того, он считает вас лентяем. Я-то знаю, конечно, что вы не лентяй. Я знаю, как вы много работаете.
«Нет, этого даже и она не знает», — подумал Мартин, но вслух спросил:
— Ну, а вы как думаете? Вам тоже мои взгляды кажутся чересчур радикальными? — Он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа.
— Мне они кажутся… сомнительными, — ответила она наконец.
Этим было все сказано, и жизнь вдруг показалась Мартину такой унылой, что он совсем забыл об осторожно сделанном Руфью предложении — поступить на службу в контору ее отца. А она, чувствуя, что не надо пока настаивать, готова была терпеливо ждать удобного случая, чтобы вернуться к этому вопросу.
Но ждать пришлось недолго: Мартин, в свою очередь, решил кое-что спросить у Руфи. Ему хотелось испытать, насколько сильна ее вера в него. И через неделю каждый получил ответ на свой вопрос.
Мартин ускорил дело, прочтя Руфи «Позор солнца».
— Почему вы не хотите заняться репортерской работой? — воскликнула Руфь, когда Мартин кончил читать. — Вы так любите писать, и вы, наверное, добились бы успеха, могли бы выдвинуться, стать журналистом с именем, специальным корреспондентом какой-нибудь газеты. Ведь некоторые специальные корреспонденты зарабатывают огромные деньги, и, кроме того, они ездят по всему миру. Их посылают в Африку, — вот как Стэнли, — они интервьюируют папу в Ватикане, исследуют таинственные уголки Тибета.
— Значит, вам не нравится моя статья? — спросил Мартин. — Вы, стало быть, предполагаете, что я мог бы стать журналистом, но никак не писателем?
— О, нет! Мне очень понравилась ваша статья. Она прекрасно написана. Но только я боюсь, что все это не по плечу публике. По крайней мере для меня это слишком трудно. Звучит очень хорошо, но я почти ничего не поняла. Слишком много специальной научной терминологии прежде всего. Вы любите крайности, дорогой мой, и то, что вам кажется понятным, совершенно непонятно для всех нас.
— Да, в статье много философских терминов, — пробормотал Мартин.
Он еще был взволнован — ведь он только что читал вслух самые свои зрелые мысли, — и ее суждение ошеломило его.
— Ну, пусть это неудачно по форме, — пытался настаивать Мартин, — но неужели сами мысли в вас не встречают сочувствия?
Руфь покачала головой.
— Нет. Это так не похоже на все, что я читала раньше… Я читала Метерлинка, и он был мне вполне понятен.
— Вам понятен его мистицизм? — вскричал Мартин.
— Да. А вот ваша статья, где вы на него нападаете, мне совершенно непонятна. Конечно, если говорить об оригинальности…
Мартин сделал нетерпеливое движение, но промолчал. Потом вдруг до его сознания дошли слова Руфи.
— В конце концов творчество было для вас игрушкой, — говорила она, — вы достаточно долго забавлялись ею. Пора теперь отнестись серьезно к жизни, к нашей жизни, Мартин. До сих пор вы жили только для себя.
— Вы хотите, чтобы я поступил на службу?
— Да. Папа предлагает вам…
— Знаю, знаю, — прервал он резко, — но скажите мне прямо: вы в меня больше не верите?
Руфь молча сжала ему руку. Глаза ее затуманились.
— Не в вас… в ваше сочинительство, мой милый, — почти шепотом сказала она.
— Вы прочли почти все мои произведения, — с той же беспощадной прямотой продолжал Мартин, — что вы о них думаете? Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?
— Другие получают деньги за свои произведения.
— Это не ответ. Итак, вы считаете, что литература не мое призвание?
— Ну, хорошо, я вам отвечу. — Руфь сделала над собой усилие. — Я не думаю, что вы можете стать писателем. Не сердитесь на меня, дорогой! Вы же сами меня спросили. Вы знаете, что я больше вашего понимаю в литературе.
— Да, вы бакалавр искусств, — проговорил Мартин задумчиво, — вы должны понимать… Но это еще не все, — продолжал он после мучительной для обоих паузы. — Я знаю, в чем моя сила. Никто не может знать этого лучше меня. Я знаю, что добьюсь успеха. Я преодолею все препятствия. Во мне так и кипит все то, что должно найти отражение в стихах, статьях, рассказах. Но я вас не прошу верить в это. Не верьте ни в меня, ни в мой литературный талант. Единственное, о чем я вас прошу, — это верить в мою любовь и любить меня по-прежнему. Год тому назад я умолял дать мне два года сроку. Один год уже прошел, но я твердо верю, что, прежде чем пройдет второй год, я добьюсь успеха. Помните, когда-то вы сказали мне: чтобы стать писателем, нужно пройти ученичество. Что же, я прошел его. Я спешил, я уложился в короткий срок. Вы были конечной целью всех моих стремлений, и мысль о вас поддерживала мою энергию. Знаете ли вы, что я давно забыл, что значит уснуть спокойно и безмятежно? Мне иногда кажется, что миллионы лет прошли с той поры, когда я спал столько, сколько мне нужно, и просыпался просто оттого, что выспался. Теперь меня поднимает будильник. Я ставлю его на определенный час, в зависимости от того, когда я разрешаю себе уснуть. Это — последнее сознательное усилие, которое я делаю перед сном: завожу будильник и гашу свет. Когда я чувствую, что меня клонит ко сну, я заменяю трудную книгу более легкой. А если я и над этой книгой начинаю клевать носом, то бью себя кулаком по голове, чтобы прогнать сон. Помните, у Киплинга — о человеке, который боялся спать? Он пристраивал в постели шпору так, что, если он засыпал, стальной шип вонзался ему в тело. Я делал то же самое. Я решал, что не должен заснуть до полуночи, до часу, до двух… И шпора не давала мне засыпать до положенного времени. Я не расставался с этой шпорой в течение многих месяцев. Я дошел до того, что сон в пять с половиной часов стал уже для меня недопустимой роскошью. Теперь я сплю всего четыре часа. Я весь извелся от постоянного недосыпания. Иногда у меня кружится голова и путаются мысли — до такой степени хочется мне уснуть; могильный покой кажется мне иногда блаженством. Мне вспоминаются стихи Лонгфелло:
Конечно, это вздор. Это от усталости, от нервного переутомления. Но вот вопрос: ради чего я старался? Ради вас. Чтобы сократить срок ученичества, чтобы поторопить Успех. И теперь мое ученичество позади. Я знаю, на что я способен. Уверяю вас, ни один студент в год не выучит того, что я выучиваю в один месяц. Я знаю. Вы уж мне поверьте. Я бы не стал говорить об этом, если бы мне так страстно не хотелось, чтобы вы меня поняли. Тут нет хвастовства. Я сужу по книгам, которые я прочел. Ваши братья — невежественные дикари в сравнении со мной, со всем тем, что я узнал из книг в те часы, когда они мирно спали. Когда-то я хотел прославиться. Теперь слава для меня ничего не значит. Я хочу только вас. Вы мне нужны больше пищи, больше одежды, больше признания. Я мечтаю только о том, чтоб уснуть наконец, положив голову к вам на грудь. Не пройдет и года, как мечта эта сбудется.
Опять ощущение его силы захлестнуло Руфь; и чем упорнее она противилась, тем больше ее влекло к Мартину. Эта покорявшая ее сила теперь сверкала в его взгляде, слышалась в его страстной речи, бурлила и клокотала во всем его существе. И вот на один миг, на один только миг, прочный, устойчивый мир Руфи заколебался, и она вдруг увидела перед собой настоящего Мартина Идена, великолепного и непобедимого! И как на укротителей зверей минутами находит сомнение, так и она усомнилась в возможности смирить непокорный дух этого человека.
— И вот ведь еще что, — продолжал он. — Вы меня любите. Но почему вы меня любите? Ведь именно то, что заставляет меня писать, заставляет вас любить меня. Вы любите меня потому, что я не похож на людей, которые вас окружают и одному из которых вы могли бы подарить свою любовь. Я не создан для конторы, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, разделять их взгляды, — и вы уничтожите разницу между мною и ими, уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне, — это страсть к творчеству. Будь я какой-нибудь заурядный олух, я не мечтал бы стать писателем, но и вы вряд ли захотели бы стать моей женой.
— Но почему же, — прервала его Руфь, поверхностный, но живой ум которой сразу усмотрел возможность параллели. — Ведь бывали и раньше чудаки, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя, обрекая свою семью на нужду и лишения. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними, но не за их чудачества, а скорее несмотря на эти чудачества.
— Верно, — возразил он. — Но ведь были и другие изобретатели, не чудаки, те, что всю жизнь бились над изобретением вполне реальных и полезных вещей и в конце концов добивались своего. Я ведь не хочу ничего невозможного.
— Вы сами сказали, что хотите «добиться невозможного».
— Я выразился фигурально. Я стремлюсь, в сущности говоря, достичь того, чего достигли до меня очень и очень многие: писать и жить литературным трудом.
Молчание Руфи раздражало Мартина.
— Стало быть, вы считаете, что это такая же химера, как вечный двигатель? — спросил он.
Ответом послужило пожатие ее руки, нежное материнское пожатие, словно мать успокаивала капризного ребенка. Для нее Мартин и в самом деле был только капризный ребенок, чудак, желающий добиться невозможного.
Руфь еще раз напомнила Мартину о том, как враждебно относятся к нему ее родители.
— Но ведь вы-то меня любите? — спросил он.
— Люблю, люблю! — воскликнула она.
— И я вас люблю, и ничего они мне не могут сделать. — Голос его звучал торжествующе. — Раз я верю в вашу любовь, то мне нет дела до их ненависти. Все в мире непрочно, кроме любви. Любовь не может сбиться с пути, если только это настоящая любовь, а не хилый уродец, спотыкающийся и падающий на каждом шагу.
Глава тридцать первая
Как-то раз случай свел Мартина на Бродвее с его сестрой Гертрудой — случай, несомненно, счастливый, несмотря на возникшую при этом неловкость. Ожидая на углу трамвая, Гертруда первая увидела Мартина, и ей сразу бросилось в глаза мрачное выражение его изможденного, осунувшегося лица. Мартин и в самом деле был мрачен. Он возвращался после неудачной беседы с ростовщиком, у которого хотел выторговать добавочную ссуду под велосипед. Наступила осенняя распутица, и поэтому Мартин давно уже заложил велосипед, но черный костюм он непременно хотел сохранить.
— Ведь у вас есть черный костюм, — сказал ростовщик, знавший наперечет все имущество Мартина. — Уж не заложили ли вы его у этого еврея Липке? Ну, если только…
Он так грозно посмотрел на Мартина, что тот поспешил воскликнуть:
— Нет, нет! Я не закладывал костюма. Просто я не могу без него обойтись.
— Отлично, — сказал ростовщик, смягчившись немного. — Но я тоже не могу без него обойтись, если вы хотите, чтобы я дал вам еще денег. Ведь я занимаюсь этим делом не ради развлечения.
— Мой велосипед стоит по крайней мере сорок долларов, и к тому же он в полной исправности, — возразил Мартин. — А вы мне дали за него только семь долларов! И даже не семь! Шесть с четвертью! Ведь вы берете вперед проценты!
— Хотите получить еще денег, так принесите костюм, — последовал хладнокровный ответ, и Мартин в полном отчаянии выбежал из душной, тесной лавчонки. Вот откуда взялось мрачное выражение его лица, которое так огорчило Гертруду.
Не успели они поздороваться, как подошел трамвай, идущий на Телеграф-авеню. Мартин поддержал сестру под локоть, чтобы помочь ей сесть, и та поняла, что сам он хочет идти пешком. Стоя на ступеньке, Гертруда обернулась к нему, и сердце ее сжалось, когда она увидела его ввалившиеся глаза.
— А ты разве не поедешь? — спросила она.
И тотчас же сошла с трамвая и очутилась рядом с ним.
— Я всегда хожу пешком, для моциона, — объяснил он.
— Ну что ж, я тоже пройдусь немножко, — сказала Гертруда, — мне это полезно. Я что-то себя плохо чувствую последнее время.
Мартин взглянул на сестру, и только сейчас заметил происшедшую в ней перемену. Вид у нее был утомленный и какой-то неряшливый, лицо безобразили отечные складки, и вся она как-то обрюзгла, расплылась, а тяжелая, неуклюжая походка была словно карикатурой на эластичную, бодрую поступь здоровой и веселой женщины.
— Уж лучше подожди трамвая, — сказал Мартин, когда они дошли до следующей остановки. Он заметил, что Гертруда начала задыхаться.
— Господи помилуй! И верно, ведь я устала, — сказала она. — Но и тебе тоже не мешало бы сесть на трамвай. Подошвы у твоих башмаков такие, что, пожалуй, протрутся, прежде чем ты дойдешь до Северного Окленда.
— У меня дома есть еще одна пара башмаков, — отвечал Мартин.
— Приходи завтра обедать, — сказала Гертруда неожиданно. — Бернарда не будет, он едет по делам в Сан-Леандро.
Мартин отрицательно покачал головой, но не сумел скрыть жадный огонек, сверкнувший у него в глазах при упоминании об обеде.
— У тебя нет ни пенса, Март, вот отчего ты ходишь пешком. Моцион, как же!
Она хотела презрительно фыркнуть, но из этого ничего не вышло.
— Погоди-ка…
И, порывшись в сумочке, Гертруда сунула Мартину в руку пятидолларовую монету.
— Я забыла, что на днях было твое рождение, — пробормотала она.
Мартин инстинктивно зажал в руке монету и тут же понял, что не должен принимать этого подарка, но заколебался. Ведь этот золотой кружочек означал пищу, жизнь, возвращение сил духовных и телесных, новый прилив творческой энергии, и — как знать! — может быть, он напишет что-нибудь такое, что принесет ему много таких же золотых монет. Ему ясно представились две его последние статьи, которые валялись под столом среди груды рукописей, так как не на что было купить марок. Печатные заголовки так и горели у него перед глазами. Статьи назывались «Жрецы чудесного» и «Колыбель красоты». Он еще никуда не посылал их, но знал, что это — лучшее из всего написанного им в этом роде. Только бы купить марки. Уверенность в успехе вдруг возникла в нем и довершила то, что начал голод: быстрым движением он сунул в карман монету.
— Я тебе верну в сто раз больше, Гертруда, — проговорил он с трудом, потому что судорога сдавила ему горло, и на глазах у него блеснули слезы. — Запомни мои слова! — воскликнул он твердо и убежденно. — Не пройдет года, как я принесу тебе ровно сотню таких золотых кругляков. Я не прошу тебя верить мне. Ты должна только ждать. А там увидишь!
Она и не верила. Но ей самой почему-то стало неловко от этого, и, не зная, как выйти из положения, она сказала:
— Я знаю, что ты голодаешь, Март. У тебя на лице написано. Приходи обедать в любое время. Когда Хиггинботам уйдет из дому по делам, я сумею известить тебя. Кто-нибудь из ребят всегда может сбегать. А что, Март…
Мартин наперед знал, что скажет сестра, так как ход ее мыслей был достаточно ясен.
— Не пора ли тебе поступить на какое-нибудь место?
— Ты думаешь, что я ничего не добьюсь? — спросил он.
Гертруда покачала головой.
— Никто в меня не верит, Гертруда, кроме меня самого. — Он сказал это с каким-то страстным задором. — Я написал уже очень много хороших вещей и рано или поздно получу за них деньги.
— А почему ты знаешь, что они хороши?
— Да потому, что… — Все его познания по литературе, по истории литературы вдруг ожили в его мозгу, и он понял, что сестре не объяснишь, на чем основывается его вера в себя. — Да потому, что мои рассказы лучше, чем девяносто девять процентов всего того, что печатается в журналах.
— А все-таки послушай разумного совета, — сказала Гертруда, твердо уверенная в своей правоте. — Да, послушай разумного совета, — повторила она, — а завтра приходи обедать.
Мартин усадил ее в трамвай, а сам побежал на почту и на три доллара из пяти накупил марок. Позднее, по дороге к Морзам, он зашел в почтовое отделение и отправил множество толстых пакетов, на что ушли все его марки, за исключением трех двухцентовых.
Это был памятный вечер для Мартина, ибо он познакомился с Рэссом Бриссенденом. Как Бриссенден попал к Морзам, кто его привел туда, Мартин так и не узнал. Он даже не полюбопытствовал спросить об этом Руфь, так как Бриссенден показался ему человеком бледным и неинтересным. Час спустя Мартин решил, что он еще и невежа: уж очень бесцеремонно слонялся он из одной комнаты в другую, глазел на картины и совал нос в книги и журналы, лежавшие на столах или стоявшие на полках. Наконец, не обращая внимания на прочее общество, он, точно у себя дома, удобно устроился в моррисовском кресле, вытащил из кармана какую-то книжку и принялся читать. Читая, он то и дело рассеянно проводил рукою по волосам. Потом Мартин забыл о нем и вспомнил только в конце вечера, когда увидел его в кружке молодых женщин, которые явно наслаждались беседой с ним.
По дороге домой Мартин случайно нагнал Бриссендена.
— А, это вы, — окликнул он.
Тот что-то не очень любезно проворчал в ответ, но все же пошел рядом. Мартин больше не делал попыток завязать беседу, и так они, молча, прошли несколько кварталов.
— Старый самодовольный осел!
Неожиданность и энергичность этого возгласа поразила Мартина. Ему стало смешно, но в то же время он почувствовал растущую неприязнь к Бриссендену.
— Какого черта вы туда таскаетесь? — услышал Мартин, после того как они прошли еще квартал в молчании.
— А вы? — спросил Мартин, в свою очередь.
— Убейте меня, если я знаю, — отвечал Бриссенден. — Впрочем, это я там был в первый раз. В конце концов в сутках двадцать четыре часа. Надо же их как-нибудь проводить. Пойдемте выпьем.
— Пойдемте, — отвечал Мартин.
Он тут же мысленно выругал себя за свою сговорчивость. Дома его ждала «ремесленная» работа: кроме того, на ночь он решил почитать томик Вейсмана [21], не говоря уже об автобиографии Герберта Спенсера, которая для него была увлекательнее любого романа. Зачем тратить время на этого вовсе не симпатичного человека, думал Мартин. Но его привлек не спутник и не выпивка, а все то, что было связано с этим: яркий свет, зеркала, звон и блеск бокалов, разгоряченные лица и громкие голоса. Да, да, голоса людей веселых и беззаботных, которые добились жизненного успеха и могли с легким сердцем пропивать свои деньги. Мартин был одинок — вот в чем заключалась его беда. Потому-то он и принял с такой охотой приглашение Бриссендена. С тех пор как Мартин покинул «Горячие Ключи» и расстался с Джо, он ни разу не был в питейном заведении, за исключением того случая, когда его угостил португалец лавочник. Умственное утомление не вызывает такой тяги к алкоголю, как физическая усталость, и Мартина не тянуло к вину. Но сейчас ему захотелось выпить, вернее, очутиться в шумном кабачке, где пьют, кричат и хохочут. Таким именно кабачком оказалась «Пещера». Бриссенден и Мартин, развалившись в удобных кожаных креслах, принялись потягивать шотландское виски с содовой.
Они разговорились: говорили о разных вещах и прерывали беседу для того, чтобы по очереди заказывать новые порции. Мартин, обладавший необычайно крепкой головой, все же не мог не удивляться выносливости своего собутыльника. Но еще больше он удивлялся мыслям, которые тот высказывал. Вскоре Мартин пришел к убеждению, что Бриссенден все знает и что это вообще второй настоящий интеллигент, повстречавшийся ему на пути.
Но Бриссенден к тому же обладал тем, чего не хватало профессору Колдуэллу. В нем был огонь, необычайная проницательность и восприимчивость, какая-то особая свобода полета мысли. Говорил он превосходно. С его тонких губ срывались острые, словно на станке отточенные слова. Они кололи и резали. А в следующий миг их сменяли плавные, льющиеся фразы, расцвеченные яркими пленительными образами, словно бы таившими в себе отблеск непостижимой красоты бытия. Иногда его речь звучала, как боевой рог, зовущий к буре и грохоту космической борьбы, звенела, как серебро, сверкала холодным блеском звездных пространств. В ней кратко и четко формулировались последние завоевания науки. И в то же время это была речь поэта, проникнутая тем высоким и неуловимым, чего нельзя выразить словами, но можно только дать почувствовать в тех тонких и сложных ассоциациях, которые эти слова порождают. Его умственный взор проникал словно чудом в какие-то далекие, недоступные человеческому опыту области, о которых, казалось, нельзя было рассказывать обыкновенным языком. Но поистине магическое искусство речи помогало ему вкладывать в обычные слова необычные значения, которых не уловил бы заурядный ум, но которые, однако, были близки и понятны Мартину.
Мартин быстро забыл о своей неприязни к Бриссендену. Перед ним было то, о чем до сих пор он только читал в книгах. Перед ним был воплощенный идеал мыслителя, человек, достойный поклонения. «Я должен повергнуться в прах перед ним», — повторял он самому себе, с восторгом слушая своего собеседника.
— Вы, очевидно, изучали биологию! — воскликнул наконец Мартин, многозначительно намекая, что и он кое в чем разбирается.
К его удивлению, Бриссенден отрицательно покачал головой.
— Но ведь вы высказываете положения, к которым немыслимо прийти без знания биологии, — продолжал Мартин, заметив удивленный взгляд Бриссендена. — Ваши выводы совпадают со всем ходом рассуждения великих ученых. Не может быть, чтобы вы не читали их трудов!
— Очень рад это слышать, — отвечал тот, — очень рад, что мои поверхностные познания открыли мне кратчайший путь к постижению истины. Но мне в конце концов безразлично, прав я или нет. Это не имеет никакого значения. Ведь абсолютной истины человек никогда не постигнет.
— Вы ученик и последователь Спенсера! — с торжеством воскликнул Мартин.
— Я с юных лет не заглядывал в Спенсера. Да и тогда-то читал только «Воспитание».
— Хотел бы я приобретать знания с такой же легкостью, — говорил Мартин полчаса спустя, подвергнув тщательному анализу весь умственный багаж Бриссендена. — Вы не допускаете возражений — вот что самое удивительное. Вы категорически утверждаете то, что наука могла установить только a posteriori [22]. Вы как-то сразу делаете правильные выводы. Вам и в самом деле посчастливилось найти кратчайший путь к истине, и вы пролетаете этот путь со скоростью света. Это какая-то сверхъестественная способность.
— Да, это всегда смущало моих учителей, отца Джозефа и брата Дэттона, — заметил Бриссенден. — Но тут никаких чудес нет. Благодаря счастливой случайности я попал с ранних лет в католический колледж. А вы-то сами где получили образование?
Рассказывая ему о себе, Мартин в то же время внимательно рассматривал Бриссендена, аристократически тонкие черты его лица, покатые плечи, брошенное им на соседний стул пальто, из карманов которого торчали книги. Лицо Бриссендена и тонкие руки были покрыты темным загаром, и это удивило Мартина. Едва ли Бриссенден любитель прогулок на свежем воздухе. Где же он так загорел? Что-то болезненное, противоестественное чудилось Мартину в его загаре, и он все время думал об этом, вглядываясь в лицо Бриссендена — узкое, худощавое лицо, со впалыми щеками и красивым орлиным носом. В разрезе его глаз не было ничего замечательного. Они были не слишком велики и не слишком малы, карие, неопределенного оттенка; но в них горел затаенный огонь, и выражение было какое-то странное, двойственное и противоречивое. Они смотрели гордо, вызывающе, подчас даже сердито и в то же время почему-то вызывали жалость. Мартину было безотчетно жаль Бриссендена, и он скоро понял, откуда возникло это чувство.
— Ведь у меня чахотка, — объявил Бриссенден, после того как сказал, что недавно приехал из Аризоны. — Я жил там около двух лет; провел курс климатического лечения.
— А вам не боязно возвращаться теперь в наш климат?
— Боязно?
Он просто повторил слово, сказанное Мартином, но тот сразу понял, что Бриссенден ничего на свете не боится. Глаза его сузились, ноздри раздулись, в лице появилось что-то орлиное, гордое и решительное. У Мартина сердце забилось от восхищения этим человеком. «До чего хорош», — подумал он и затем вслух продекламировал:
— Вы любите Гэнли? — спросил Бриссенден, и выражение его глаз сразу сделалось нежным и ласковым. — Ну, конечно, разве можно не любить его. Ах, Гэнли!
Великий дух! Он высится среди современных журнальных рифмоплетов, как гладиатор среди евнухов.
— Вам не нравится то, что печатают в журналах? — осторожно спросил Мартин.
— А вам нравится? — рявкнул Бриссенден, так что Мартин даже вздрогнул.
— Я… я пишу, или, вернее, пробую писать для журналов, — пробормотал Мартин.
— Ну, это еще туда-сюда, — более миролюбиво сказал Бриссенден. — Вы пробуете писать, но вам это не удается. Я ценю и уважаю ваши неудачи. Я представляю себе, что вы пишете. Для этого мне не нужно даже читать ваши произведения. В них есть один недостаток, который закрывает перед вами все двери. В них есть глубина, а это не требуется журналам. Журналам нужен всякий хлам, и они его получают в изобилии — только не от вас, конечно.
— Я не чуждаюсь ремесленной работы, — возразил Мартин.
— Напротив… — Бриссенден замолчал на мгновение и дерзко оглядел Мартина, его поношенный галстук, лоснящиеся рукава, обтрепанные манжеты — красноречивые свидетельства нищеты; затем долго созерцал его впалые, худые щеки. — Напротив, ремесленная работа чуждается вас, и так упорно, что вам ни за что не преуспеть в этой области. Слушайте, дорогой мой, вы, наверно, обиделись бы, если б я предложил вам поесть?
Мартин почувствовал, что неудержимо краснеет, а Бриссенден торжествующе расхохотался.
— Сытый человек не обижается на такие предложения, — заявил он.
— Вы дьявол! — раздраженно вскричал Мартин.
— Да ведь я вам и не предлагал!
— Еще бы вы посмели!
— Вот как? В таком случае приглашаю вас поужинать со мною.
Бриссенден, говоря это, привстал, как бы намереваясь тотчас же идти в ресторан.
Мартин сжал кулаки, кровь застучала у него в висках.
— Знаменитый пожиратель змей! Глотает их живьем! Глотает их живьем! — воскликнул Бриссенден, подражая зазывале в ярмарочном балагане.
— Вас я и в самом деле мог бы проглотить живьем, — сказал Мартин, в свою очередь, дерзко оглядев истощенного болезнью Бриссендена.
— Только я того не стою.
— Не вы, а дело того не стоит, — произнес Мартин и тут же рассмеялся от всего сердца. — Признаюсь, Бриссенден, вы оставили меня в дураках. То, что я голоден, явление естественное, и ничего тут для меня постыдного нет. Вот видите — я презираю мелкие условности и предрассудки, но стоило вам сказать самые простые слова, назвать вещи своими именами, и я мгновенно превратился в раба этих самых предрассудков.
— Да, вы обиделись, — подтвердил Бриссенден.
— Обиделся, сознаюсь. Есть предрассудки, впитанные с детства. Хоть я многому успел научиться, а все-таки иногда срываюсь. У каждого свое слабое место — свой, как говорится, скелет в шкафу.
— Но сейчас вы уже заперли дверцы шкафа?
— Ну, конечно.
— Наверное?
— Наверное.
— Тогда идемте ужинать.
— Идемте.
Мартин хотел заплатить за виски и вытащил свои последние два доллара, но Бриссенден не позволил официанту взять их и заплатил сам.
Мартин состроил было недовольную гримасу, но Бриссенден мягко и дружелюбно положил ему руку на плечо, и он покорно положил деньги в карман.
Глава тридцать вторая
На следующий день Марии пришлось испытать новое потрясение: к Мартину опять явился необычайный гость. Но на этот раз она настолько сохранила самообладание, что даже чинно пригласила гостя подождать в гостиной.
— Вы не возражаете, что я вторгся к вам? — спросил Бриссенден.
— Нет, нет, что вы! — воскликнул Мартин, крепко пожимая ему руку, и, подвинув гостю единственный стул, сам сел на кровать. — Но как вы узнали мой адрес?
— Позвонил к Морзам. Мисс Морз сама подошла к телефону. И вот я здесь.
Бриссенден запустил руку в карман пальто и вытащил небольшой томик.
— Вот вам книжка стихов одного поэта, — сказал он, кладя книгу на стол, — прочтите и оставьте себе. Берите! — вскричал он в ответ на протестующий жест Мартина. — На что мне книги? У меня сегодня утром опять шла горлом кровь. Есть у вас виски? Ну, конечно, нет! Подождите минутку.
Он быстро встал и вышел. Мартин посмотрел ему вслед и с грустью увидел, как сутулятся над впалой грудью его когда-то, должно быть, могучие плечи. Достав два стакана, Мартин углубился в подаренную книгу. Это был последний сборник стихов Генри Вогана Марлоу.
— Шотландского нет, — объявил вернувшийся Бриссенден, — каналья торгует только американским. Но я все-таки взял бутылку.
— Я сейчас пошлю кого-нибудь из ребятишек за лимонами, и мы сделаем грог, — предложил Мартин. — Интересно, сколько получает Марлоу за такую книгу?
— Долларов пятьдесят, — отвечал Бриссенден, — и это еще хорошо. Пусть скажет спасибо, что ему удалось найти издателя, который захотел рискнуть.
— Значит, поэзией нельзя прожить?
В голосе Мартина прозвучало глубокое огорчение.
— Конечно, нет! Какой же дурак на это рассчитывает? Рифмоплетство — другое дело. Вот такие, как Брюс, Виржиния Спринг или Седжвик, делают хорошие дела. Но настоящие поэты… Вы знаете, чем живет Марлоу? Преподает в Пенсильвании, в школе для отсталых учеников, а из всех филиалов ада на земле это, несомненно, самый мрачный. Я бы не поменялся с ним, даже если бы он предложил мне за это пятьдесят лет жизни. А ведь его стихи блещут среди виршей современных стихотворцев, как рубины среди стекляшек. А что о нем пишут критики! Черт бы побрал этих критиков, эти надутые ничтожества!
— Вообще люди, неспособные сами стать писателями, слишком много судят о настоящих писателях, — воскликнул Мартин. — Чего, например, не плели про Стивенсона!
— Болотные ехидны! — проговорил Бриссенден, с презрением стиснув зубы. — Я знаю эту породу. Всю жизнь они клевали Стивенсона за его письмо в защиту отца Дамьена, разбирали его по косточкам, и взвешивали, и…
— И мерили его меркой собственного жалкого «я», — вставил Мартин.
— Хорошо сказано. Ну, конечно! Трепали и поганили все прекрасное, истинное и доброе в нем, а потом поощрительно похлопывали его по плечу и говорили: «Хороший пес Фидо!» Тьфу! «Жалкие сороки человеческого рода», — сказал про них на смертном одре Ричард Рилф.
— Они клюют звездную пыль, — страстно подхватил Мартин, — хотят ухватить мысль гения в ее метеорическом полете. Я как-то написал статью о критиках, — вернее, о рецензентах.
— Давайте ее сюда! — быстро сказал Бриссенден. Мартин вытащил из-под стола экземпляр «Звездной пыли», и Бриссенден тотчас начал читать, то и дело фыркая, потирая руки и забыв даже про свой грог.
— Да ведь вы сами частица звездной пыли, залетевшая в страну слепых карликов! — закричал Бриссенден, дочитав статью. — Разумеется, в первом же журнале ухватились за это руками и ногами?
Мартин заглянул в свою записную книжку.
— Эту статью отвергли двадцать семь журналов. Бриссенден начал было хохотать, но тотчас закашлялся.
— А скажите, — прохрипел он наконец, — вы, наверное, пишете стихи? Дайте мне почитать.
— Только не читайте здесь, — попросил его Мартин, мне хочется поговорить с вами. А стихи я вам дам, и вы их прочтете дома.
Бриссенден ушел, захватив с собою «Сонеты о любви» и «Пери и жемчуг». На следующий день он снова пришел к Мартину и сказал только:
— Давайте еще.
Прочтя все, он заявил, что Мартин настоящий поэт. Оказалось, что он и сам пишет стихи.
Мартин пришел в восторг от стихов Бриссендена и очень удивился, узнав, что тот ни разу не сделал даже попытки напечатать их.
— Чума на все ваши журналы! — сказал Бриссенден в ответ на предложение Мартина послать стихи в какую-нибудь редакцию. — Любите красоту ради самой красоты, а о журналах бросьте думать. Ах, Мартин Иден! Возвращайтесь-ка вы снова к кораблям, к морю — вот вам мой совет. Чего вам здесь нужно, в этой городской клоаке? Ведь вы каждый день совершаете самоубийство, проституируя красоту на потребу журналам! Как это вы на днях сказали? Да… «Человек — последняя из эфемерид». Ведь слава для вас яд. Вы слишком самобытны, слишком непосредственны и слишком умны, чтобы питаться манной кашкой похвал. Надеюсь, что вы никогда не продадите журналам ни одной строчки. Нужно служить только Красоте. Служите ей — и к черту толпу! Успех? Какого вам еще надо успеха! Ведь вы же достигли его и в вашем сонете о Стивенсоне, — который, кстати сказать, много выше гэнлиевского «Видения», — и в «Сонетах о любви», и в морских стихах! Радость поэта в самом творчестве, а не в достигнутом успехе. Не спорьте со мной. Я знаю, что говорю. Вы и сами это понимаете. Вы ранены красотой. Это незаживающая рана, неизлечимая болезнь, раскаленный нож в сердце. К чему заигрывать с журналами? Пусть вашей целью будет только одна Красота. Зачем вы стараетесь чеканить из нее монету? Впрочем, все равно из этого ничего не выйдет. Можно не беспокоиться. Прочитайте журналы хоть за тысячу лет, и вы не найдете в них ничего равного хотя бы одной строке Китса [23]. Забудьте о славе и золоте и завтра же отправляйтесь в плавание.
— Я тружусь не ради славы, а ради любви, — засмеялся Мартин. — В вашем мироздании любовь не имеет, как видно, места. А в моем красота — прислужница любви.
Бриссенден посмотрел на него с восторгом и жалостью.
— Как вы еще молоды, Мартин! Ах, как вы еще молоды! Вы высоко залетите, но смотрите — крылья у вас уж очень нежные. Не опалите их. Впрочем, вы их уже опалили. И эти «Сонеты о любви» воспевают какую-то юбчонку… Позор!
— Они воспевают любовь, а не просто юбчонку, — возразил Мартин и опять засмеялся.
— Философия безумия! — горячился Бриссенден. — Я убедился в этом, когда предавался грезам после хорошей дозы гашиша. Берегитесь! Эти буржуазные города погубят вас. Возьмите для примера тот притон торгашей, где мы с вами познакомились. Ей-богу, это хуже мусорной ямы. В такой атмосфере нельзя оставаться здоровым. Там невольно задохнешься. И ведь никто — ни один мужчина, ни одна женщина — не возвышается над всей этой мерзостью. Все это ходячие утробы, утробы с идейными и художественными запросами моллюсков…
Он вдруг остановился и взглянул на Мартина. Внезапная догадка, как молния, озарила его. И лицо выразило ужас и удивление.
— И вы написали свои изумительные «Сонеты о любви» в честь этой бледной и ничтожной самочки?
В ту же минуту правой рукой Мартин схватил Бриссендена за горло и встряхнул так, что у того застучали зубы. Однако в глазах его Мартин не увидел страха: только какое-то любопытство и дьявольскую насмешку. И тогда, опомнившись, Мартин разжал пальцы и швырнул Бриссендена на постель.
Бриссенден долго не мог отдышаться. Отдышавшись, он засмеялся.
— Вы бы сделали меня своим вечным должником, если бы вытряхнули из меня остатки жизни, — сказал он.
— У меня последнее время что-то нервы не в порядке, — оправдывался Мартин, — надеюсь, я не сделал вам очень больно? Сейчас приготовлю свежий грог.
— Ах вы, юный эллин! — воскликнул Бриссенден. — Вы недостаточно цените свое тело. Вы невероятно сильны. Прямо молодая пантера! Львенок! Ну, ну! Это вам дорого обойдется в жизни.
— Как так? — с любопытством спросил Мартин, подавая ему стакан. — Выпейте и не сердитесь.
— А очень просто, — Бриссенден стал потягивать грог, одобрительно улыбаясь, — все из-за женщин. Они вам не дадут покоя до самой смерти, как не дают и сейчас. Я ведь не вчера родился. И не вздумайте опять душить меня. Я все равно выскажусь до конца. Понимаю, что это ваша первая любовь, но ради Красоты будьте в следующий раз разборчивее. Ну, на кой черт вам эти буржуазные девицы? Бросьте, не путайтесь с ними. Найдите себе настоящую женщину, пылкую, страстную, — знаете, из тех, что «над жизнью и смертью смеются и любят, пока есть любовь». Есть на свете подобные женщины, и они, поверьте, полюбят вас так же охотно, как и эта убогая душонка, порождение сытой буржуазной жизни.
— Убогая душонка? — вскричал Мартин с негодованием.
— Именно, убогая душонка! Она будет лепетать вам прописные истины, которые ей вдолбили с детства, и будет бояться настоящей жизни. Она будет по-своему любить вас, Мартин, но свою жалкую мораль она будет любить еще больше. А вам нужна великая, самозабвенная любовь, вам нужна свободная душа, сверкающий красками мотылек, а не серая моль. А впрочем, в конце концов вам все женщины наскучат, если только, на свое несчастье, вы заживетесь на этом свете. Но вы не заживетесь! Вы ведь не захотите вернуться к морю! Будете таскаться по этим гнилым городам, пока не сгниете сами.
— Говорите, что хотите, — сказал Мартин, — вам все равно не удастся меня переубедить! В конце концов у вас своя жизненная мудрость, а у меня своя, и каждый из нас по-своему прав.
Они не сходились во взглядах на любовь, на журналы и на многое другое, но тем не менее их влекло друг к другу, и Мартин чувствовал к Бриссендену нечто большее, нежели простую привязанность. Они стали видеться ежедневно, хотя Бриссенден не мог и часа высидеть в душной комнате Мартина.
Бриссенден никогда не забывал захватить с собою бутылку виски, а когда они обедали в каком-нибудь ресторанчике, он заказывал шотландское виски с содовой водой. Он неизменно платил за обоих, и благодаря ему Мартин познакомился со многими тонкими блюдами, впервые изведал прелесть шампанского и букет рейнвейна.
И все же Бриссенден оставался загадкой для Мартина. Аскет с виду, он, несмотря на свою болезнь, знал цену жизненным наслаждениям. Он не боялся смерти, с горькой насмешкой относился ко всем формам человеческого существования, но в то же время страстно любил жизнь до самых мельчайших ее проявлений. Он был одержим жаждой жизни, стремлением ощущать ее трепет, «шевелиться крохотным комочком среди космической пыли, из которой я возник», — сказал он однажды. Бриссенден пробовал на себе действие наркотиков и проделывал странные вещи только ради того, чтобы изведать новые ощущения. Он рассказал Мартину, как три дня подряд не пил воды, чтобы на четвертый насладиться утолением жажды. Мартин так никогда и не узнал, кто он и откуда. Это был человек без прошлого, его будущее обрывалось близкой могилой, а в настоящем его сжигала горячка жизни.
Глава тридцать третья
Мартину приходилось туго. Как ни старался он экономить, заработка от его литературных поделок не хватало даже на насущные расходы. В конце концов он вынужден был заложить черный костюм, тем самым лишив себя возможности принять приглашение Морзов к обеду в День благодарения. Руфь очень огорчилась, узнав причину отказа, и это толкнуло его на отчаянный шаг. Он пообещал ей прийти, сказав, что сам отправится в редакцию «Трансконтинентального ежемесячника» за своими пятью долларами и выкупит костюм.
Утром он занял у Марии десять центов. Он предпочел бы занять у Бриссендена, но этот чудак внезапно куда-то исчез: уже две недели он не появлялся у Мартина, и тот тщетно ломал голову, стараясь припомнить, не дал ли он ему повода для обиды. Десять центов нужны были Мартину, чтобы переправиться на пароме через залив, и вскоре он уже шагал по Маркет-стрит, раздумывая, как быть, если не удастся получить деньги. Даже возвращение в Окленд грозило стать проблемой в этом случае, так как в Сан-Франциско ему не у кого было занять десять центов на переправу.
Дверь редакции «Трансконтинентального ежемесячника» была приотворена, и Мартин невольно остановился, услыхав следующий разговор:
— Да не в этом дело, мистер Форд. (Мартин знал, что Форд — фамилия редактора.) Дело в том, в состоянии ли вы мне уплатить? То есть, разумеется, уплатить наличными деньгами. Мне наплевать, какие виды у вашего журнала на будущий год. Я требую, чтобы вы мне заплатили за мою работу, и ничего больше. Предупреждаю, что, пока вы мне не заплатите все до цента, рождественский номер не будет спущен в машину. До свидания! Когда у вас появятся деньги, заходите.
Дверь распахнулась, и мимо Мартина промчался какой-то человек, сжимая кулаки и бормоча ругательства. Мартин почел за благо выждать минут пятнадцать. Побродив немного по улице, он вернулся, толкнул дверь и первый раз в жизни переступил порог редакционного помещения. Визитных карточек здесь явно не требовалось — мальчик просто-напросто пошел за перегородку и сказал, что кто-то спрашивает мистера Форда. Вернувшись, он провел Мартина в кабинет редактора. Первое, что поразило Мартина, был необыкновенный беспорядок, царивший в комнате. Затем он увидел сидевшего за столом моложавого господина с бакенбардами, который смотрел на него с любопытством. Мартин был поражен невозмутимым выражением его лица. Ссора с типографом, очевидно, нисколько не повлияла на его настроение.
— Я… я — Мартин Иден, — начал Мартин («и я пришел получить свои пять долларов», — хотел он сказать).
Но это был первый редактор, с которым ему довелось столкнуться лицом к лицу, и он решил, что не стоит начинать с резкостей. К его изумлению, мистер Форд вскочил с возгласом:
— Да что вы говорите! — ив следующий миг уже восторженно тряс его руку. — Если вы бы знали, как я рад с вами познакомиться, мистер Иден. Я так часто о вас думал, старался вообразить себе, какой вы.
Отступив немного, мистер Форд с восхищением оглядел будничный и в данное время единственный костюм Мартина, который уже явно не поддавался штопке и чинке, — правда, складка на брюках была старательно отглажена утюгами Марии Сильвы.
— Я полагал, что вы много старше. Ваш рассказ полон таких зрелых мыслей и так крепко написан. Это настоящий шедевр, — я понял это, прочтя первые три-четыре строчки. Хотите, я расскажу вам, как я прочел в первый раз ваш рассказ? Нет! Я хочу сначала познакомить вас с нашими сотрудниками.
Продолжая говорить, мистер Форд провел его в общую комнату, где представил своему заместителю, мистеру Уайту, маленькому, худенькому человечку с ледяными руками, имевшему такой вид, словно его трясла лихорадка.
— А это мистер Эндс. Мистер Эндс — наш управляющий делами.
Мартин пожал руку плешивому господину с блуждающим взглядом, еще не старому, хотя лицо его было украшено белоснежной бородою, которую его супруга аккуратно подстригала по воскресеньям, а заодно и брила ему затылок.
Все трое обступили Мартина и затараторили наперебой, осыпая его похвалами, так что в конце концов у него явилась мысль, что они просто стараются заговорить ему зубы.
— Мы часто удивлялись, почему вы не показываетесь в редакции! — воскликнул мистер Уайт.
— У меня не было денег на паром, — отвечал Мартин, решив таким образом дать им понять, насколько остро он нуждается в деньгах.
«Мой «парадный» костюм, — подумал он при этом, — достаточно красноречиво свидетельствует о моей нужде».
Во время дальнейшего разговора он то и дело намекал на цель своего посещения. Но почитатели его таланта оказались глухи ко всем намекам. Они продолжали рассказывать ему о том, как они восхищались рассказом, как восхищались их жены и родственники. Но ни один из троих не выказал ни малейшего намерения заплатить ему причитающиеся деньги.
— Я так и не рассказал вам, при каких обстоятельствах я впервые прочел ваш рассказ? — говорил мистер Форд. — Я ехал из Нью-Йорка, и когда поезд остановился в Огдене, в вагон вошел газетчик, и у него оказался последний номер «Трансконтинентального ежемесячника».
«Боже мой, — подумал Мартин, — эта каналья разъезжает в пульмановских вагонах, а я голодаю и не могу выудить у него своих кровных пяти долларов!» Ярость охватила его. Обида, нанесенная «Трансконтинентальным ежемесячником», вдруг выросла до чудовищных размеров; он вспомнил долгие месяцы томительного ожидания, лишений и голодовок, вспомнил, что и вчера он лег полуголодным, а сегодня и вовсе крошки во рту не было. Гнев ударил ему в голову. Это даже не разбойники; просто мелкие жулики! Они выманили у него рассказ лживыми обещаниями и прямым надувательством. Ну, хорошо! Он им покажет!
И Мартин мысленно поклялся не выходить из редакции, пока не получит все, что ему причитается. Тем более что ему все равно не на что вернуться в Окленд. Мартин все еще сдерживался, но в его лице появилось хищное выражение, которое смутило и даже испугало собеседников.
Они стали расточать похвалы с еще большим рвением. Мистер Форд опять начал рассказывать о том, как он впервые прочел «Колокольный звон», а мистер Эндс сообщил, что его племянница без ума от этого рассказа, а его племянница не кто-нибудь, — школьная учительница в Аламеде!
— Я пришел получить с вас деньги, — вдруг выпалил Мартин, — за этот рассказ, который вам всем так нравится, вы должны были заплатить мне по напечатании пять долларов.
Мистер Форд изобразил на своем лице полную готовность уплатить немедленно, ощупал карманы и, повернувшись к мистеру Эндсу, объявил, что забыл деньги дома. Мистер Эндс с досадой взглянул на него, и по тому, как он инстинктивно защитил рукою карман брюк, Мартин понял, что там лежат деньги.
— Очень сожалею, — произнес мистер Эндс, — но я только что расплатился с типографией, и на это ушла вся моя наличность. Конечно, было очень необдуманно с моей стороны захватить с собой так мало денег, но…вы понимаете, вдруг пришел типограф и попросил в виде одолжения выдать ему аванс, хотя срок уплаты еще не наступил.
Оба посмотрели на мистера Уайта, но тот рассмеялся и пожал плечами. Его совесть, во всяком случае, чиста. Он поступил в «Трансконтинентальный ежемесячник», чтобы изучить журнальное дело, а изучать ему приходилось преимущественно финансовую политику. «Ежемесячник» четыре месяца не платил ему жалованья, но он успел узнать, что важнее умиротворить типографию, чем расплатиться с заместителем редактора.
— Досадно, что так получилось, — развязно сказал мистер Форд. — Вы, мистер Иден, застали нас врасплох. Но мы вот что сделаем. Завтра же утром пошлем чек по почте. Мистер Эндс, у вас записан адрес мистера Идена?
О, разумеется, адрес мистера Идена был записан, и чек будет выслан завтра утром. Мартин плохо разбирался в финансовых и банковских делах, но он решил, что если они собираются дать ему чек завтра, то отлично могут сделать это и сегодня.
— Итак, решено, мистер Иден, завтра вам будет выслан чек.
— Деньги мне нужны сегодня, а не завтра, — твердо сказал Мартин.
— Несчастное стечение обстоятельств! Если бы вы попали к нам в любой другой день… — начал было мистер Форд, но мистер Эндс, обладавший, по-видимому, более нетерпеливым характером, внезапно прервал его.
— Мистер Форд уже объяснил вам, как обстоит дело, — резко сказал он, — и я тоже. Чек будет вам выслан завтра.
— Я тоже объяснил вам, — сказал Мартин, — что деньги нужны мне сегодня.
Грубый тон управляющего делами задел Мартина за живое; он решил не спускать с него глаз, тем более что касса «Ежемесячника», несомненно, находилась у него в кармане.
— Я в отчаянии… — начал было опять мистер Форд. Мистер Эндс нетерпеливым движением повернулся на каблуках и, по-видимому, возымел намерение уйти из комнаты. В то же мгновение Мартин бросился на него и схватил за горло, так что белоснежная борода, не теряя своей безукоризненной формы, задралась кверху под углом в сорок пять градусов. Мистер Форд и мистер Уайт, онемев от ужаса, глядели, как Мартин трясет управляющего делами, точно персидский ковер.
— Эй вы, почтенный эксплуататор молодых талантов, — орал Мартин, — раскошеливайтесь, а не то я сам из вас повытрясу все до последнего цента!
Затем, обращаясь к испуганным зрителям, он прибавил:
— А вы лучше не суйтесь… не то и вам влетит так, что своих не узнаете.
Мистер Эндс задыхался, и Мартину пришлось слегка разжать пальцы, чтобы дать ему возможность изъявить согласие на предложенные условия. После исследования собственного кармана управляющий делами извлек, наконец, четыре доллара и пятнадцать центов.
— Выворачивайте карман! — приказал ему Мартин. Появились еще десять центов, Мартин для верности дважды пересчитал добычу.
— Теперь за вами дело! — крикнул он мистеру Форду. — Мне следует еще семьдесят пять центов!
Мистер Форд с готовностью выложил содержимое своих карманов, но у него набралось лишь шестьдесят центов.
— Ищите лучше, — сказал ему Мартин с угрозой, — что у вас там торчит из жилетного кармана?
В доказательство своей добросовестности мистер Форд вывернул оба кармана наизнанку. Из одного выпал картонный квадратик. Мистер Форд поднял его и хотел сунуть обратно в карман, но Мартин воскликнул:
— Что это? Билет на паром? Давайте сюда. Он стоит десять центов. Значит, теперь у меня, если считать вместе с билетом, четыре доллара девяносто пять центов. Ну, еще пять центов!
Он так посмотрел на мистера Уайта, что этот субтильный джентльмен мгновенно извлек из кармана никелевую монетку.
— Благодарю вас, — произнес Мартин, обращаясь ко всей компании, — всего хорошего!
— Грабитель! — прошипел ему вслед мистер Эндс.
— Жулик! — ответил Мартин, захлопывая за собою дверь.
Мартин был упоен своей победой, до такой степени упоен, что, вспомнив о пятнадцати долларах, которые ему должен был «Шершень» за «Пери и жемчуг», решил незамедлительно взыскать и этот долг. Но в редакции «Шершня» сидели какие-то гладко выбритые молодые люди, сущие разбойники, которые, видно, привыкли грабить всех и каждого, в том числе и друг друга. Мартин, правда, успел поломать кое-что из мебели, но в конце концов редактор (в студенческие годы бравший призы по атлетике) с помощью управляющего делами, агента по сбору объявлений и швейцара выставил Мартина за дверь и даже помог ему очень быстро спуститься с лестницы.
— Заходите, мистер Иден, всегда рады вас видеть! — весело кричали ему вдогонку.
Мартин поднялся с земли, тоже улыбаясь.
— Фу, — пробормотал он, — ну и молодцы ребята! Не то что эти трансконтинентальные гниды!
В ответ снова послышался хохот.
— Нужно вам сказать, мистер Иден, — сказал редактор «Шершня», — что для поэта вы недурно умеете постоять за себя. Где это вы научились этому бра руле?
— Там же, где вы научились двойному нельсону, — отвечал Мартин. — Во всяком случае, синяк под глазом вам обеспечен!
— Надеюсь, что и у вас почешется шея, — любезно возразил редактор. — А знаете что, не выпить ли нам в честь этого? Разумеется, не в честь поврежденной шеи, а в честь нашего знакомства.
— Я побежден — стало быть, надо соглашаться, — ответил Мартин.
И все вместе, грабители и ограбленный, распили бутылочку, дружески согласившись, что битва выиграна сильнейшими, а потому пятнадцать долларов за «Пери и жемчуг» по праву принадлежат «Шершню».
Глава тридцать четвертая
Артур остался у калитки, а Руфь быстро взбежала по ступенькам крыльца Марии Сильвы. Она услышала торопливый стрекот пишущей машинки и, войдя, застала Мартина дописывающим последнюю страницу какой-то рукописи. Руфь специально приехала узнать, придет ли Мартин к обеду в День благодарения, но Мартин, в творческом порыве, не дал ей рта раскрыть.
— Позвольте прочесть вам это! — воскликнул он, вынимая из машинки страницу и откладывая копии. — Это мой последний рассказ. Он до того не похож на все другие, что мне даже страшно немного, но почему-то мне кажется, что это хорошо. Вот судите сами. Рассказ из гавайской жизни. Я назвал его «Вики-Вики».
Лицо Мартина пылало от возбуждения, хотя Руфь дрожала в его холодной каморке и у него самого руки были ледяные.
Руфь внимательно слушала, но на лице ее все время было написано явное неодобрение. Кончив читать, Мартин спросил ее:
— Скажите откровенно, нравится вам или нет?
— Н-не знаю, — отвечала она, — по-вашему, это можно будет пристроить?
— Думаю, что нет, — сознался он. — Это не по плечу журналам. Но зато это чистая правда.
— Зачем же вы упорно пишете такие вещи, которые невозможно продать? — безжалостно настаивала Руфь. — Ведь вы же пишете ради того, чтобы зарабатывать на жизнь?
— Да, конечно. Но мой герой оказался сильнее меня. Я ничего не мог поделать. Он требовал, чтобы история кончилась так, а не иначе.
— Но почему ваш Вики-Вики так ужасно выражается? Ведь всякий, кто прочтет это, будет шокирован его лексиконом, и, конечно, редакторы будут правы, если отвергнут рассказ.
— Потому, что настоящий Вики-Вики говорил бы именно так.
— Это дурной вкус.
— Это жизнь! — воскликнул Мартин. — Это реально. Это правда. Я должен описывать жизнь такой, как я ее вижу.
Руфь ничего не ответила, и на секунду воцарилось неловкое молчание. Мартин слишком любил ее и потому не понимал, а она не понимала его потому, что он не умещался в ограниченном круге ее представлений о людях.
— А вы знаете, я получил деньги с «Трансконтинентального ежемесячника», — сказал Мартин, желая перевести разговор на более безобидную тему, и весело расхохотался, вспомнив о том, как он изъял у редакционного трио четыре доллара девяносто центов и билет на паром.
— Чудесно! Значит, вы придете? — радостно воскликнула Руфь. — Я ведь это и хотела узнать.
— Приду? — переспросил он недоуменно. — Куда?
— К нам на обед завтра. Вы ведь сказали, что выкупите костюм, как только получите деньги.
— Я совсем забыл об этом, — смущенно проговорил Мартин. — Видите ли, в чем дело… Сегодня утром полисмен забрал двух коров Марии и теленка за потраву, а у нее как раз не было денег на уплату штрафа… Ну, я за нее и заплатил. Так что весь мой гонорар за «Колокольный звон» ушел на выкуп коров Марии.
— Значит, вы не придете?
Мартин оглядел свою поношенную одежду.
— Не могу.
Голубые глаза Руфи наполнились слезами, она укоризненно посмотрела на него, но ничего не сказала.
— На будущий год мы с вами отпразднуем День благодарения у Дальмонико, или в Лондоне, или в Париже, или где вам захочется. Я в этом уверен.
— Я читала на днях в газетах, — заметила Руфь вместо ответа, — что в почтовом ведомстве открываются вакансии. Ведь вы у них числились первым на очереди?
Мартин принужден был сознаться, что получил повестку, но не пошел.
— Я так уверен в себе, в своем успехе, — оправдывался он. — Через год я буду зарабатывать в десять раз больше, чем любой почтовик. Вот увидите.
— Ах! — только и сказала Руфь. Она встала и принялась натягивать перчатки. — Мне пора уходить, Мартин. Артур ждет меня.
Мартин крепко обнял ее и поцеловал, но Руфь безучастно приняла его ласку. Дрожь не прошла по ее телу, как обычно, она не обхватила руками его шею и не прижалась губами к его губам.
«Рассердилась, — подумал Мартин, проводив ее и возвращаясь домой. — Но почему? Конечно, жаль, что полисмен именно сегодня поймал коров, но ведь это просто досадная случайность. Никто не виноват в этом». Мартину не пришло в голову, что он мог бы поступить иначе, чем поступил. «Ну, конечно, — решил он, наконец, — я в ее глазах немножко виноват и в том, что отказался от места на почте. И потом ей не понравился «Вики-Вики».
Сзади послышались шаги. Мартин обернулся и увидел подходившего к крыльцу почтальона. С привычным волнением Мартин принял от него стопку больших, продолговатых конвертов. Среди них был один маленький. На нем стоял штамп «Нью-йоркского обозрения». Мартин немного помедлил, прежде чем решился распечатать его. Это не могло быть извещение о принятии материала. Он не посылал ни одной рукописи в этот журнал. «Может быть, — он весь замер при этой мысли, — они хотят заказать мне статью?» Но тотчас отогнал от себя эту дерзкую, несбыточную надежду.
В конверте было коротенькое официальное письмо редактора, извещавшее его о получении прилагаемого анонимного письма, причем редактор просил Мартина не беспокоиться, ибо никаким анонимным письмам редакция не придает значения.
Прилагаемое анонимное письмо было написано от руки печатными буквами. Это был нелепый, безграмотный донос, где говорилось, что «так называемый Мартин Иден», посылающий в журналы свои рассказы и стихи, вовсе не писатель, что он просто крадет рассказы из старых журналов, перепечатывает на машинке и отправляет от своего имени. На конверте был штемпель «Сан-Леандро». Мартин сразу угадал автора. Грамматика Хиггинботама, словечки Хиггинботама, мысли Хиггинботама сквозили в каждой строчке. Письмо явно было сработано грубыми руками его любезного свойственника.
Но зачем это ему понадобилось? — спрашивал он себя. Что сделал он дурного Бернарду Хиггинботаму? Это было так нелепо, так бессмысленно. Нельзя было найти этому никакого здравого объяснения. В течение недели пришло еще с десяток подобных же писем из разных журналов восточных штатов. Очень благородно со стороны редакторов, решил Мартин. Совершенно его не зная, многие из них даже выражали ему сочувствие. Было очевидно, что к анонимным доносам они относятся с отвращением. Глупая попытка повредить ему явно не удалась. Напротив, это могло даже пойти на пользу, так как привлекло внимание редакторов к его имени. Иной из них, читая теперь его рассказ, вспомнит, что это написал тот самый Мартин Иден, о котором говорилось в анонимном письме. И — как знать — может быть, это благоприятно повлияет на судьбу его произведений!
Приблизительно тогда же произошел случай, после которого Мартин значительно упал в глазах Марии Сильвы. Однажды он застал ее на кухне в слезах, стонущую от боли; она была не в силах ворочать тяжелыми утюгами. Он тотчас же решил, что у нее грипп, дал ей хлебнуть виски, оставшегося на дне одной из бутылок, принесенных Бриссенденом, и велел лечь в постель. Но Мария ни за что не соглашалась. Она упрямо твердила, что ей необходимо догладить белье и сдать его сегодня же вечером, иначе завтра ее семерым ребятишкам нечего будет есть.
К своему великому удивлению (она не переставала рассказывать об этом до самой своей смерти), она увидела, как Мартин схватил утюг и швырнул на гладильную доску тонкую батистовую кофточку. Это была лучшая праздничная кофточка Кэт Фленаган, самой большой франтихи в квартале. Мисс Фленаган требовала, чтобы кофточка во что бы то ни стало была доставлена к вечеру. Все знали, что она водит дружбу с кузнецом Джоном Коллинзом, и, по частным сведениям Марии, они собирались завтра на прогулку в парк Золотых Ворот. Напрасно хотела Мария спасти кофточку. Мартин силою усадил ее на стул, и Мария, выпучив глаза от ужаса, следила за тем, как он яростно работает утюгами… Через десять минут Мартин подал Марии кофточку, выглаженную так, как самой Марии никогда не выгладить, — в этом Мартин заставил ее признаться.
— Я бы мог справиться еще быстрее, если бы утюги были погорячей, — объяснил он.
Но, по мнению Марии, он и так уже раскалил утюги до последней возможности.
— Вы неправильно сбрызгиваете, — сказал он ей в довершение всего, — давайте-ка я вам покажу, как это делается. Если хотите гладить быстро, надо держать сбрызнутое белье под прессом.
Мартин притащил из погреба ящик, приладил к нему крышку и запасся кусками железного лома, который ребятишки собирали для сдачи. Сбрызнутое белье было уложено в ящик и накрыто крышкой с грузом железа. На этом приготовления закончились.
— А теперь смотрите, — воскликнул Мартин, раздевшись до пояса, и схватил утюг, накаленный чуть не докрасна.
Мария потом всем рассказывала, как, кончив гладить, Мартин учил ее стирать шерстяные вещи.
— Он говорит: «Мария, больша дура, я буду учити вас». И он учил. В дэсят минута он строил уна машина. Бочка, два палка и колесна ступица. Вот!
Это приспособление Мартин заимствовал у Джо, в прачечной «Горячих Ключей». Ступица от старого колеса, приделанная к палке, служила поршнем. К другому концу была привязана веревка, пропущенная через стропило кухонного потолка, что давало возможность приводить поршень в движение одной рукой; шерстяные вещи, положенные в бочку, прекрасно выколачивались с помощью этого устройства. Мария даже приспособила одного из мальчиков дергать веревку и только удивлялась хитроумию Мартина Идена.
Тем не менее, показав свое искусство и облегчив своими усовершенствованиями труд Марии, Мартин сильно упал в ее мнении. Романтический ореол, окружавший его, развеялся, как дым, после того как выяснилось, что он бывший прачечник. Его книги, важные посетители, являвшиеся в колясках или оставлявшие после себя бутылки из-под виски, — все сразу потеряло в глазах Марии всякое очарование. Он оказывается, был простой рабочий, такой же рабочий, как и она сама, и они оба принадлежали к одному классу. От этого Мартин стал ей ближе, понятнее, но обаяние тайны рассеялось.
От своих родных Мартин отходил все дальше и дальше. После неудачного выступления мистера Хиггинботама показал себя и будущий зять — Герман Шмидт. Мартину удалось однажды пристроить несколько стишков и рассказиков и отчасти восстановить свое благосостояние. Он расплатился кое с кем из кредиторов, выкупил костюм и велосипед. Убедившись, что велосипед нуждается в починке, Мартин решил в знак дружелюбного отношения к будущему родственнику отправить его в мастерскую Германа Шмидта.
В тот же вечер Мартин, к своему удивлению и удовольствию, получил велосипед обратно. Очевидно, Шмидт решил проявить такое же дружеское расположение и починил велосипед вне очереди, да вдобавок еще прислал его на дом, чего обычно не делает ни одна мастерская. Но, осмотрев велосипед, Мартин убедился, что никакой починки произведено не было. Он позвонил в мастерскую по телефону и узнал, что Герман Шмидт «не желает с ним иметь никакого дела».
— Господин Герман Шмидт, — спокойно сказал Мартин, — я, пожалуй, зайду к вам, чтобы разочек дернуть вас хорошенько за нос.
— Если вы придете ко мне в мастерскую, — был ответ, — я пошлю за полицией! Я вам покажу! Не беспокойтесь, вам со мной не удастся затеять драку. С такими, как вы, мне не по дороге. Вы лодырь, вот вы кто, но только меня вы не проведете. Если я женюсь на вашей сестре, то из этого еще не следует, что вы можете обдирать меня. Почему вы не хотите заняться делом и честно зарабатывать себе на хлеб? А? Ну-ка, ответьте!
Мартин, как истинный философ, сдержал свой гнев и повесил трубку, только свистнув в ответ. Сначала ему было смешно, но постепенно чувство одиночества больно сдавило ему сердце.
Никто не понимал его, никому не был он нужен, кроме разве только Бриссендена, но и Бриссенден исчез бог знает куда.
Уже смеркалось, когда Мартин вышел из овощной лавки с покупками в руках. На углу остановился трамвай, и знакомая долговязая фигура соскочила с подножки. Сердце Мартина встрепенулось от радости. Это был Бриссенден собственной персоной, и при свете, падавшем из освещенных окон, Мартин успел разглядеть оттопыренные карманы его пальто. В одном были книги, а в другом бутылка.
Глава тридцать пятая
Бриссенден не дал Мартину никаких объяснений по поводу своего долгого отсутствия, да Мартин и не расспрашивал его. Сквозь пар, клубившийся над стаканами с грогом, он с удовольствием созерцал бледное и худое лицо своего друга.
— Я тоже не сидел сложа руки, — объявил Бриссенден, после того как Мартин рассказал ему о своих последних работах.
Он вынул из кармана рукопись и передал ее Мартину, который, прочтя заглавие, вопросительно взглянул на Бриссендена.
— Да, да, — усмехнулся Бриссенден, — недурное заглавие, не правда ли? «Эфемерида»… лучше не скажешь. А слово это ваше, — помните, как вы говорили о человеке как о «последней из эфемерид», ожившей материи, теплом комочке, борющемся за свое место под солнцем. Мне это засело в голову, и я должен был написать целую поэму, чтобы наконец освободиться! Ну-ка, прочтите и скажите, что вы об этом думаете!
Читая, Мартин то краснел, то бледнел от волнения. Это было совершеннейшее художественное произведение.
Здесь форма торжествовала над содержанием, если можно было говорить о торжестве там, где каждый тончайший оттенок мысли находил словесное выражение, настолько совершенное, что у Мартина перехватывало дыхание от восторга и слезы закипали на глазах. Это была длинная поэма в шестьсот или семьсот стихов. Поэма странная, фантастическая, пугающая. Казалось, невозможно, немыслимо создать нечто подобное, и все же это существовало и было написано черным по белому. В этой поэме изображался человек со всеми его исканиями, с его неутолимым стремлением преодолеть бесконечное пространство, приблизиться к сферам отдаленнейших солнц. Это был сумасшедший разгул фантазии в черепе умирающего, который еще жил и сердце которого билось последними слабеющими ударами. В торжественном ритме поэмы слышался гул планет, треск сталкивающихся метеоров, шум битвы звездных ратей среди мрачных пространств, озаряемых светом огневых облаков, а сквозь все это слышался слабый человеческий голос, как неумолчная тихая жалоба в грозном грохоте рушащихся миров.
— Ничего подобного еще не было написано, — вымолвил Мартин, когда наконец в состоянии был заговорить. — Это изумительно! Изумительно! Я ошеломлен! Этот великий вечный вопрос не выходит у меня из головы. В моих ушах всегда будет звучать этот слабый, незатихающий голос человека, пытающегося постичь непостижимое! Точно предсмертный писк комара среди мощного рева слонов и рыканья львов. Но в этом писке звучит ненасытная страсть. Я, вероятно, говорю глупости, но эта вещь совершенно завладела мною. Вы… Я не знаю, что сказать, вы просто гениальны. Но как вы это создали? Как могли вы это создать?
Мартин прервал свой панегирик только для того, чтобы перевести дух.
— Я больше не пишу. Я просто жалкий пачкун. Вы мне показали, что такое настоящее мастерство. Вы гений! Нет, больше, чем гений! Это истина, рожденная безумием. Это истина в самой своей сокровенной сущности. Вы, догматик, понимаете ли вы это? Даже наука не может опровергнуть вас. Это истина провидца, выкованная из черноты космоса мощным ритмом стиха, превращенная в чудо красоты и величия. Больше я ничего не скажу! Я подавлен, уничтожен! Нет, я все-таки скажу еще кое-что: позвольте мне устроить поэму в какой-нибудь журнал.
Бриссенден расхохотался.
— Да ведь во всем христианском мире не найдется журнала, который решится напечатать такую штуку! Вы сами прекрасно это знаете!
— Нет, не знаю! Я убежден, что во всем мире не найдется журнала, который бы не ухватился за это. Ведь такие произведения рождаются раз в сто лет. Это поэма не на день и не на год. Это поэма века.
— Вот именно — века!
— Не разыгрывайте циника! — возразил Мартин. — Редакторы не совсем уж кретины. Я знаю это. Хотите держать пари, что «Эфемериду» возьмут если не в первом же, то во втором месте, куда я ее предложу?
— Есть одно обстоятельство, мешающее мне принять ваше пари, — произнес Бриссенден и, немного помолчав, добавил: — Это лучшее из всего, что я написал. Я отлично это знаю. Это моя лебединая песня. Я чрезвычайно горжусь этой поэмой. Я преклоняюсь перед ней. Она мне милее виски. Это то совершенное творение, о котором я мечтал в дни своей юности, когда человек еще стремится к идеалам и строит иллюзии. И вот я осуществил свою мечту, осуществил ее на краю могилы. Так неужели я отдам ее на поругание свиньям! Я не стану с вами держать пари! Это мое! Я создал это и делюсь им только с вами.
— Но подумайте об остальном мире! — воскликнул Мартин. — Ведь цель красоты — радовать и услаждать!
— Вот пусть это радует и услаждает меня.
— Не будьте эгоистом!
— Я вовсе не эгоист! — Бриссенден усмехнулся, словно заранее смакуя то, что он собирался сказать. — Я альтруистичен, как голодная свинья.
Напрасно Мартин пытался поколебать его в принятом решении. Мартин уверял Бриссендена, что его ненависть к журналам нелепа и фанатична и что он поступает в тысячу раз бессмысленнее Герострата, сжегшего храм Дианы Эфесской. Бриссенден слушал, попивая грог, кивал головой и даже соглашался, что его собеседник прав во всем — за исключением того, что касалось журналов. Его ненависть к редакторам не знала границ, и он ругал их гораздо ожесточеннее, чем Мартин.
— Пожалуйста, перепечатайте мне поэму, — сказал он, — вы сделаете это в тысячу раз лучше любой машинистки. А теперь я хочу дать вам один полезный совет. — Бриссенден вытащил из кармана объемистую рукопись. — Вот ваш «Позор солнца». Я три раза перечитывал его! Это самая большая похвала, на которую я способен. После того, что вы наговорили про «Эфемериду», я, разумеется, должен молчать. Но вот что я вам скажу: если «Позор солнца» будет напечатан, он наделает невероятного шуму. Из-за него поднимется жесточайшая полемика, и это будет для вас лучше всякой рекламы.
Мартин расхохотался.
— Уж не посоветуете ли вы мне послать эту статью в какой-нибудь журнал?
— Ни в коем случае, если только хотите, чтобы ее напечатали. Предложите ее одному из крупных издательств. Может быть, ее прочтет там какой-нибудь сумасшедший или основательно пьяный рецензент и даст о ней благоприятный отзыв. Да, видно, что вы читали книги! Все они переварились в мозгу Мартина Идена и излились в «Позоре солнца». Когда-нибудь Мартин Иден станет знаменит, и немалая доля его славы будет создана этой вещью. Ищите издателя, и чем скорее вы его найдете, тем лучше!
Бриссенден поздно засиделся у Мартина в этот вечер. Мартин проводил его до трамвая, и когда Бриссенден садился в вагон, то неожиданно сунул своему другу измятую бумажку.
— Возьмите это, — сказал он, — мне сегодня повезло на скачках!
Прозвенел звонок, и трамвай тронулся, оставив Мартина в полном недоумении, с измятой бумажкой в руках. Возвратившись к себе в комнату, он развернул бумажку — это был банковый билет в сто долларов.
Мартин воспользовался им без всякого стеснения. Он отлично знал, что у его друга много денег, а кроме того, был уверен, что сможет отдать долг в очень скором времени. На следующее утро он расплатился с долгами, заплатил Марии вперед за три месяца и выкупил из заклада все свои вещи. Он купил свадебный подарок для Мэриен, рождественские подарки для Руфи и Гертруды. В довершение всего он отправился со всем семейством Сильва в Окленд и, во исполнение своего обещания (правда, опоздав на год), купил башмаки и Марии и всем ее ребятишкам. Мало того, он накупил им игрушек и сластей, так что свертки едва помещались в детских ручонках.
Входя в кондитерскую во главе этой необыкновенной процессии, Мартин случайно повстречал Руфь и ее мать. Миссис Морз была чрезвычайно шокирована, и даже Руфь смутилась. Она придавала большое значение внешним приличиям, и ей было не очень приятно видеть своего возлюбленного в обществе целой оравы португальских оборвышей. Такое отсутствие гордости и самоуважения задело ее. И что самое скверное — Руфь увидела в этом инциденте лишнее доказательство того, что Мартин не в состоянии подняться над своей средою. Это было достаточно неприятно само по себе, и совсем уж не следовало хвастать этим перед всем миром — ее миром. Хотя помолвка Руфи с Мартином до сих пор держалась в тайне, их отношения ни для кого не составляли секрета, а в кондитерской, как нарочно, было много знакомых, и все они с любопытством поглядывали на удивительное окружение нареченного мисс Морз. Руфь, верная дочь своей среды, не умела понять широкую натуру Мартина. Со свойственной ей чувствительностью она воспринимала этот случай как нечто позорное. Мартин, придя к Морзам в этот день, застал Руфь в таком волнении, что даже не решился вытащить из кармана свой подарок. Он в первый раз видел ее в слезах — слезах гнева и обиды, и зрелище это так потрясло его, что он мысленно назвал себя скотиной, хотя не вполне ясно понимал, в чем его вина. Мартину и в голову не приходило стыдиться людей своего круга, и он не видел ничего унизительного для Руфи в том, что ходил покупать рождественские подарки детям Марии Сильвы. Но он готов был понять обиду Руфи, выслушав ее объяснения и истолковав весь эпизод как проявление женской слабости, которая, очевидно, свойственна даже самым лучшим женщинам.
Глава тридцать шестая
— Пойдемте, я покажу вам «настоящих людей», — сказал Мартину Бриссенден в один январский вечер.
Они пообедали в Сан-Франциско и собирались уже садиться на оклендский паром, когда Бриссендену пришла фантазия показать Мартину «настоящих людей». Он повернул назад и зашагал от пристани, похожий на тень в своем развевающемся плаще; Мартин едва поспевал за ним. По дороге Бриссенден купил два галлона старого портвейна в оплетенных флягах и, держа их в руках, вскочил в трамвай, идущий по Мишен-стрит; то же сделал и Мартин, нагруженный несколькими бутылками виски. «Что бы сказала Руфь, если бы увидела меня сейчас», — на мгновение мелькнуло у Мартина в голове, но мысли его были заняты иным: что же это за «настоящие люди»?
— Может быть, сегодня там никого не будет, — оказал Бриссенден, когда они сошли с трамвая и нырнули в темный переулок рабочего квартала к югу от Маркет-стрит. — Тогда вам не придется увидеть то, что вы давно ищете!
— А что же это такое? — спросил Мартин.
— Люди, настоящие умные люди, а не болтуны вроде тех, которые толкутся в торгашеском логове, где я вас встретил. Вы читали книги и страдали от одиночества! Ну вот, я познакомлю вас с людьми, которые тоже кое-что читали, и вы больше не будете так одиноки.
— Я не очень интересуюсь их бесконечными спорами, — прибавил Бриссенден, пройдя один квартал, — я вообще терпеть не могу книжной философии, но зато это, несомненно, настоящие интеллигенты, а не буржуазные свиньи! Но смотрите, они вас заговорят насмерть, о чем бы ни зашла речь!
— Надеюсь, мы застанем Нортона, — продолжал он немного спустя, задыхаясь от ходьбы, но не позволяя Мартину взять у него из рук фляги с портвейном. — Нортон — идеалист. Он кончил Гарвардский университет! Изумительная память! Идеализм привел его к философскому анархизму, и семья отреклась от него. Его папаша — президент железнодорожной компании, сверхмиллионер, а сын влачит во Фриско полуголодное существование, редактируя анархический журнальчик за двадцать пять долларов в месяц.
Мартин плохо знал Сан-Франциско, в особенности эту часть города, а потому никак не мог сообразить, куда, собственно, Бриссенден ведет его.
— Расскажите мне о них еще, — говорил он, — я хочу знать, что это за люди. Чем они живут? Как сюда попали?
— Хорошо бы застать и Гамильтона, — сказал Бриссенден, останавливаясь, чтобы перевести дух. — Собственно, у него двойная фамилия: Страун-Гамильтон; он из старинной семьи южан, но по характеру бродяга и лентяй, каких свет не видел, хоть и служит — вернее, пытается служить — в каком-то кооперативе за шесть долларов в неделю. Неисправимый бродяга! Он и в Сан-Франциско-то попал бродяжничая. Как-то раз он целый день просидел на скамье в парке, причем у него с утра куска во рту не было, а когда я предложил ему пойти пообедать в ресторан, который находился за два квартала, — знаете, что он на это ответил? «Слишком много беспокойства, старина. Купите мне лучше пачку папирос!» Он был спенсерианец, как и вы, пока Крейс не обратил его на стезю материалистического монизма. Надо попытаться вызвать его на разговор о монизме. Нортон тоже монист, но его монизм идеалистический. У него вечные схватки с Гамильтоном и с Крейсом.
— А кто такой Крейс? — спросил Мартин.
— А вот к нему мы и идем. Бывший профессор… выгнали из университета, — самая обычная история. Ум острый, как бритва. Зарабатывает себе пропитание чем придется. Был даже уличным разносчиком. Абсолютно без предрассудков. Без зазрения совести снимет саван с покойника. Разница между ним и буржуа та, что он ворует, не занимаясь при этом самообманом. Он может говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но интересуется он, в сущности говоря, только монизмом. Даже о своей Мэри он думает гораздо меньше, чем о монизме. Геккель для него божество. Единственный способ оскорбить его — это задеть Геккеля. Ну, вот мы и пришли.
Бриссенден поставил фляги на ступеньку лестницы, чтобы отдышаться перед подъемом. Дом был самый обыкновенный, угловой двухэтажный дом с салуном и бакалейной лавкой в первом этаже.
— Вся компания здесь и живет, занимает весь второй этаж, — сказал Бриссенден, — но только один Крейс имеет две комнаты. Идемте!
Наверху не горела лампочка, но Бриссенден ориентировался в темноте, словно домовой. Он остановился, чтобы сказать Мартину:
— Есть тут еще Стивенс, теософ. Когда разойдется, так кого хочешь собьет с толку. Недавно устроился мыть посуду в ресторане. Любитель хороших сигар, может пообедать в обжорке за десять центов, а потом купить сигару за пятьдесят. Я на всякий случай захватил для него парочку. А еще есть австралиец по фамилии Парри, — это статистик и ходячая спортивная энциклопедия. Спросите его, какой был урожай зерна в Парагвае в тысяча девятьсот третьем году, или сколько английского холста ввезено в Китай в тысяча восемьсот девяностом году, или сколько весил Джимми Брайт, когда побил Баттлинга-Нельсона, или кто был чемпион Соединенных Штатов в среднем весе в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году, он на все вам ответит с быстротой и точностью автомата. Есть некий Энди, каменщик, — имеет на все свои взгляды и прекрасно играет в шахматы; затем — Гарри, пекарь, ярый социалист и профсоюзный деятель. Кстати, помните стачку поваров и официантов? Ее устроил Гамильтон. Он организовал союз и выработал план стачки, сидя здесь, в комнате Крейса. Сделал это для собственного развлечения и больше не принимал никакого участия в делах союза из-за лени. Если бы он хотел, он бы давно занимал видный пост. В этом человеке заложены бесконечные возможности, но ленив он невообразимо.
Бриссенден продолжал продвигаться в темноте, пока не показалась полоска света из-под двери. Стук, ответное «войдите!» — и Мартин уже пожимал руку Крейсу, красивому, белозубому брюнету с черными усами и большими, выразительными черными глазами. Мэри, степенная молодая блондинка, мыла посуду в небольшой комнатке, служившей одновременно кухней и столовой. Первая комната была спальней и гостиной. Через всю комнату протянуты были веревки с выстиранным бельем, так что Мартин в первую минуту не заметил двух людей, о чем-то беседовавших в углу. Бриссендена и его фляги они встретили радостными восклицаниями, и Мартин, знакомясь с ними, узнал, что это Энди и Парри. Мартин с любопытством стал слушать рассказ Парри о вчерашнем боксе. А Бриссенден с азартом занялся раскупориванием бутылок и приготовлением пунша. По его команде «собрать всех сюда» Энди отправился по комнатам созывать жильцов.
— Нам повезло, почти все в сборе, — шепнул Бриссенден Мартину. — Вот Нортон и Гамильтон. Пойдемте, я вас познакомлю. Стивенса, к сожалению, пока нет. Я попробую затеять разговор о монизме. Нужно только дать им немного разойтись.
Сначала разговор не вязался, но Мартин сразу же мог оценить своеобразие и живость ума этих людей. У каждого были свои определенные взгляды, иногда противоречивые, и, несмотря на юмор и остроумие, эти люди отнюдь не были поверхностны. Мартин заметил, что они (о чем бы ни шла беседа) обнаруживали большие научные познания и имели свои твердые и ясные воззрения на мир и на общество. Они не заимствовали готовых мнений: это были настоящие мятежники духа, и им чужда была всякая пошлость. Никогда у Морзов не встречался Мартин с таким разнообразием тем и интересов. Казалось, не было в мире вещи, о которой здесь не могли бы рассуждать без конца. Разговор перескакивал с последней книги миссис Хэмфри Уорд на новую комедию Шоу, с будущего драмы на воспоминания о Мэнсфилде. Они хвалили или высмеивали утренние передовицы, говорили о положении рабочих в Новой Зеландии, о Генри Джеймсе [24] и Брэндере Мэтьюзе, рассуждали о политике Германии на Дальнем Востоке и экономических последствиях Желтой Опасности, спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля, толковали о местной политике, о последних разногласиях в руководстве социалистической партии и о том, что послужило поводом к забастовке портовых грузчиков.
Мартин был поражен их необыкновенной осведомленностью во всех делах. Им было известно то, что никогда не печаталось в газетах, они знали все тайные пружины, все нити. К удивлению Мартина, Мэри тоже принимала участие в этих беседах и при этом показала такой ум и знания, каких Мартин не встречал ни у одной знакомой ему женщины.
Они поговорили о Суинберне и Россетти [25], после чего перешли на французскую литературу. И Мэри завела его сразу в такие дебри, где он оказался профаном. Зато Мартин, узнав, что она любит Метерлинка, двинул против нее продуманную аргументацию, послужившую основой «Позора солнца».
Пришло еще несколько человек, и в комнате было уже темно от табачного дыма, когда Бриссенден решил наконец начать битву.
— Тут есть свежий материал для обработки, Крейс, — сказал он, — зеленый юноша, со всем пылом молодости влюбленный в Герберта Спенсера. Ну-ка, попробуйте сделать из него геккельянца!
Крейс внезапно встрепенулся, словно сквозь него пропустили электрический ток, а Нортон сочувственно посмотрел на Мартина и ободряюще улыбнулся ему, как бы обещая свою защиту.
Крейс сразу напустился на Мартина, но постепенно и Нортон начал вставлять словечки, и, наконец, разговор превратился в настоящее единоборство между ним и Крейсом. Мартин слушал, не веря своим ушам, ему казалось просто немыслимым, что все это происходит наяву, да еще где — в рабочем квартале, к югу от Маркет-стрит. В этих людях словно ожили все книги, которые он читал. Они говорили с жаром и увлечением, игра ума возбуждала их так, как других возбуждает гнев или спиртное. Это не была сухая философия печатного слова, созданная мифическими полубогами вроде Канта и Спенсера. Это была живая философия, она вошла в плоть и кровь спорщиков, кипела и бушевала в их речах. Постепенно и другие втянулись в спор и следили за ним с напряженным вниманием, дымя папиросами.
Мартин никогда не увлекался идеализмом, но в изложении Нортона он явился для него откровением. Однако Крейса и Гамильтона не убеждала та логика, которая Мартину казалась неопровержимой, они смеялись над Нортоном, называя его метафизиком, а тот, в свою очередь, называл метафизиками их самих.
«Феномены» и «ноумены» так и носились в воздухе. Крейс и Гамильтон обвиняли Нортона в попытках объяснить сознание из самого сознания. А тот, в свою очередь, обвинял их в том, что они жонглируют словами и строят обобщения не на основе фактов, а на основе понятий. Это их бесило. Их основной принцип к тому и сводился, что следует начинать с фактов и фактам давать наименование.
Когда Нортон углубился в сложные построения Канта, Крейс сказал, что всякий добропорядочный немецкий философ старой школы после смерти попадает в Оксфорд. Когда Нортон упомянул о гамильтоновском законе условного, его противники немедленно объявили, что именно они основываются на этом законе. А Мартин слушал, обхватив колени руками и дрожа от восторга. Нортон не был истинным сторонником Спенсера, и потому он часто в разгаре спора обращался к Мартину, полемизируя с ним так же, как и с другими противниками.
— Вы знаете, что Беркли еще никто по-настоящему не ответил, — говорил он, обращаясь к Мартину. — Герберт Спенсер подошел ближе других, но и он, в сущности говоря, не дал исчерпывающего ответа. Самые смелые из его последователей не могут пойти дальше. Я читал статью Салиби о Спенсере. Даже он говорит, что Спенсеру «почти» удалось ответить Беркли [26].
— А вы помните, что сказал Юм [27]?! — воскликнул Гамильтон.
Нортон кивнул головой, но Гамильтон счел нужным пояснить остальным:
— Юм сказал, что аргументы Беркли не допускают никакого ответа и совершенно неубедительны.
— Неубедительны для Юма, — возразил Нортон. — А Юм мыслил точно так же, как и вы, с одной только разницей: у него хватало ума признать, что Беркли ответить невозможно.
Нортон был очень горяч и вспыльчив, хотя не терял самообладания, а Крейс и Гамильтон напоминали хладнокровных дикарей, которые спокойно и неторопливо изучают слабые места противника. Под конец вечера Нортон, обозленный непрестанными упреками в том, что он метафизик, вцепился обеими руками в стул, чтобы не вскочить на ноги в пылу спора, и, сверкая глазами, предпринял решительный натиск на своих противников.
— Ладно, геккельянцы, — закричал он, — может быть, я рассуждаю, как колдун и знахарь, но хотел бы я знать, вы-то как рассуждаете? Ведь вам же не на что опереться, хотя вы и кричите о позитивной науке где надо и где не надо. Вы невежественные догматики! Ведь еще задолго до возникновения школы материалистического монизма вся почва была до того перерыта, что никакого фундамента уже нельзя было заложить. Локк [28] — вот кто сделал это! Джон Локк! Двести лет назад, даже больше, он в своем «Опыте о человеческом разуме» доказал нелепость понятия врожденной идеи. А вы этим занимаетесь до сих пор. Доказываете мне сегодня в продолжение целого вечера, что никаких врожденных идей не существует. А что это значит? Это значит, что человек не может постичь высшей реальности. Когда вы рождаетесь, у вас в мозгу нет ничего. Все дальнейшее познание зиждется только на феноменах, на восприятиях, получаемых вами с помощью пяти чувств. Ноумены, которых не было у вас в мозгу при рождении, не могут никак попасть туда и после.
— Неверно… — перебил его Крейс.
— Дайте мне договорить! — воскликнул Нортон. — Вашему познанию доступны только те проявления взаимодействия силы и материи, которые так или иначе влияют на ваши чувства. Видите, ради удобства спора я готов даже признать, что материя существует! Но я вас сейчас уничтожу вашим же собственным аргументом. Другого пути у меня нет, так как, к сожалению, вам обоим недоступно абстрактное мышление. Так вот, скажите, исходя из положений высшей позитивной науки, что вы знаете о материи? Вы знаете только то, что воспринимаете, то есть опять-таки только феномены. Вам доступны только изменения материи, вернее даже только то, что воспринимается вами как ее изменение. Позитивная наука имеет дело только с феноменами, а вы, безумцы, воображаете, что имеете дело с ноуменами, и считаете себя онтологами. Да, позитивная наука оперирует только с внешними явлениями. Кто-то уже сказал однажды, что наука о явлениях не может возвыситься над явлениями. Вы не можете ответить Беркли, даже если сумеете опровергнуть Канта; однако вы утверждаете, что Беркли неправ, ибо ваша наука, отрицая существование бога, не сомневается в существовании материи. Я признал сейчас существование материи только для того, чтобы вы поняли ход моих мыслей. Сделайте одолжение, будьте позитивистами, но онтологии нет места среди позитивных наук. Стало быть, оставьте ее в покое. Спенсер прав, как агностик, но если Спенсер…
Однако приближалось время отхода последнего оклендского парома, и Бриссенден с Мартином вынуждены были уйти. Они выскользнули незамеченными, пока Нортон продолжал говорить, а Крейс и Гамильтон ждали случая, чтобы наброситься на него, как пара разъяренных гончих.
— Вы открыли мне волшебную страну, — сказал Мартин Бриссендену, когда они оба взошли на паром. — Поговорив с такими людьми, чувствуешь, что жить стоит! У меня голова идет кругом! Я до сих пор не понимал толком, что такое идеализм. Я и теперь не могу принять его. Я знаю, что всегда останусь реалистом, — так уж создан, должно быть. Но я охотно поспорил бы с Крейсом и Гамильтоном, и для Нортона у меня тоже нашлось бы два-три словечка. Не вижу, чтобы Спенсеру были сделаны серьезные возражения. Я взволнован, как ребенок, впервые побывавший в цирке. Теперь я вижу, что мне еще очень многое нужно прочитать. Надо будет достать книгу Салиби! Я убежден, что Спенсер неуязвим. В следующий раз я тоже приму участие в споре…
Но Бриссенден дремал, тяжело дыша, уткнувшись худым подбородком в теплый шарф, и его тощее тело вздрагивало при каждом обороте винта.
Глава тридцать седьмая
На следующее утро Мартин, вопреки советам Бриссендена, отправил в «Акрополь» «Позор солнца». Он не терял надежды на то, что какой-нибудь журнал напечатает статью, а добившись успеха в журналах, ему легче будет пробивать себе дорогу в книгоиздательства. «Эфемериду» он также переписал на машинке и отправил. Несмотря на почти маниакальную ненависть Бриссендена к редакторам и журналам, Мартин твердо решил, что поэма должна увидеть свет. Он, конечно, не предполагал печатать ее без разрешения автора. Ему хотелось, чтобы какой-нибудь крупный журнал принял ее, а тогда, думал Мартин, можно будет добиться согласия Бриссендена.
И в то же утро Мартин начал писать повесть, которую задумал уже недели три тому назад и которая с тех самых пор настойчиво просилась на бумагу. Это должна была быть повесть из морской жизни, образец романтики двадцатого века, с увлекательным сюжетом, с реальными характерами и реальной обстановкой. Но под занимательной фабулой должно было скрываться нечто такое, чего поверхностный читатель не мог заметить, но что, впрочем, не мешало бы и такому читателю получать удовольствие при чтении. Именно это «что-то», а не перипетии сюжета было для Мартина самым главным в повести. Его всегда увлекала в произведении идея, и сюжет зависел от нее. Определив для себя эту идею, он искал такие образы и такие ситуации, в которых она могла получить наиболее яркое выражение. Повесть должна была называться «Запоздалый» и по объему не превышать шестидесяти тысяч слов, — а при работоспособности и творческой энергии Мартина это были, разумеется, сущие пустяки. В первый же день, начав писать, он испытал глубокое наслаждение мастера. Он уже не опасался, что неловкость, беспомощность литературной формы обеднит его мысль. Долгие месяцы упорного, напряженного труда принесли, наконец, желанные плоды. Теперь он мог идти твердо и неуклонно к своей цели, и, самозабвенно отдаваясь работе, он чувствовал, как никогда прежде, что правильно понимает жизнь и умеет показать ее. В «Запоздалом» Мартину хотелось изобразить действительные происшествия и вывести реальных людей, реально мыслящих и чувствующих. Но, кроме того, в повести должен был заключаться великий тайный смысл, идея, равно справедливая для всех стран, всех времен и народов. «И все это благодаря Герберту Спенсеру, — подумал Мартин, откинувшись на спинку стула. — Да, благодаря Герберту Спенсеру и тому великому ключу к мирозданию, который он дал мне в руки и который зовется эволюцией!»
Мартин отчетливо сознавал значительность того, что он создавал сейчас. «Дело пойдет! Пойдет!» — мысленно твердил он себе. Да, дело пошло. Наконец-то он напишет такую вещь, за которую тотчас же ухватится любой журнал. Вся повесть целиком словно горела перед ним огненными буквами. Мартин оторвался от работы и набросал в записной книжке заключительный отрывок. Вся композиция вещи была настолько ясна ему, что он вполне мог написать конец задолго до того, как подошло время его написания. Он сравнивал свою еще не законченную повесть с морскими рассказами других писателей и пришел к убеждению, что его произведение неизмеримо выше.
— Только один человек мог бы написать нечто подобное, — пробормотал Мартин, — это Конрад [29]. Но и Конрад вполне бы мог пожать мне руку за эту повесть и сказать: «Хорошо сработано, Мартин, дружище!»
Проработав почти весь день, Мартин вдруг вспомнил, что приглашен обедать к Морзам. Благодаря Бриссендену его черный костюм был выкуплен из заклада, и Мартин мог теперь снова появляться в обществе. По дороге он забежал в библиотеку и взял там книгу Салиби «Цикл жизни». Он решил еще в трамвае прочесть ту статью, о которой упоминал Нортон. Читая, Мартин пришел в ярость. Лицо его пылало, глаза сверкали, он бессознательно сжимал кулаки, словно угрожая кому-то. Выйдя из трамвая, он зашагал по улице торопливым шагом человека, доведенного до последней степени неистовства, и с такой злостью надавил звонок у двери Морзов, что тут же опомнился и добродушно расхохотался. Но как только он вошел в дом, его тотчас охватила глубокая тоска. У него словно подломились крылья, и он сразу упал с тех высот, на которые занесло его вдохновение.
«Буржуа! Торгаши!» — вспомнил он любимые выражения Бриссендена. «Ну и что же? — сердито перебил он сам себя. — Ведь я женюсь на Руфи, а не на ее семье!»
Казалось, Руфь никогда еще не была такой прекрасной, такой одухотворенной и в то же время такой здоровой и свежей. Ее щеки слегка зарумянились, и Мартин не мог отвести взгляда от ее глаз — синих глаз, в которых он впервые увидел отблеск бессмертия. Правда, за последнее время он забыл о бессмертии, увлеченный чтением научной литературы, но теперь в глазах Руфи он прочел безмолвный аргумент, который был убедительнее всех словесных аргументов. Мартин прочел в них любовь. Та же любовь сияла и в его глазах, а любовь бесспорна. Таково было его глубочайшее пламенное убеждение.
Те полчаса, которые он провел с Руфью перед обедом, сделали его опять счастливым и довольным жизнью. Но во время обеда Мартин почувствовал необычайное утомление, — оно явилось как естественная реакция после дня напряженной работы. Глаза у него устали и болели, все вызывало раздражение. Мартину вспомнилось, как за этим самым столом, где теперь ему не раз бывало смешно и скучно, он впервые оказался в обществе цивилизованных людей, в атмосфере высокой, как ему представлялось, и утонченной культуры. Должно быть, он являл тогда собой забавное и трогательное зрелище. Полудикарь, обливающийся потом от страха и смущения, сбитый с толку сложностью обеденного ритуала, угнетаемый величественным лакеем, мучительно старающийся оказаться на высоте того положения, в которое его поставил случай, пока, наконец, он не пришел к отчаянному решению: быть самим собой, не пытаясь блеснуть ни знаниями, ни изысканностью манер, которых у него не было.
Мартин бросил на Руфь мимолетный взгляд; таким взглядом пассажир на судне при мысли о возможной опасности проверяет, на месте ли спасательный круг. Да! Только это и выдержало испытание временем: любовь и Руфь. Все остальное развеялось, как мираж, едва он начал читать книги. Но Руфь и любовь не были миражем. Для них он нашел биологическое оправдание. Любовь была высшим проявлением жизни. Природа предписывала ему любить и готовила его для этого, как и всякого нормального человека. Десятки тысяч, сотни тысяч — нет! — миллионы веков она билась над совершенствованием человеческой породы для этой цели, и он, Мартин, несомненно, явился венцом ее творения. Она вдохнула в Мартина любовь, в мириады раз увеличила ее силу, наделив его даром фантазии, и послала его в мир, чтобы он изведал волнение, и трепет, и радость свершений. Он пожал под столом руку Руфи. Ответом было такое же жаркое пожатие. Они быстро переглянулись, и ее глаза блеснули любовно и ласково. Глаза Мартина тоже блестели, и он даже не подозревал, что блеск в глазах Руфи был, в сущности говоря, лишь отражением того огня, который горел в его взоре.
Наискосок от него, по правую руку мистера Морза, сидел судья Блоунт, член верховного суда штата. Мартин уже не раз встречался с ним и, по правде говоря, не чувствовал к нему особенного расположения. Судья беседовал с отцом Руфи о профсоюзах, о политическом положении и о социализме. Мистер Морз, стараясь втянуть Мартина в разговор, назвал его сторонником социалистического учения. Судья Блоунт посмотрел на него с отеческим состраданием. Мартин усмехнулся про себя.
— Это у вас пройдет, молодой человек, — сказал судья ласково, — детские болезни лучше всего излечиваются временем! (Говоря так, судья повернулся к мистеру Морзу.) Я никогда не спорю в таких случаях: это только возбуждает в пациенте упрямство.
— Совершенно справедливо, — важно ответил мистер Морз, — но иногда все же полезно бывает предупредить пациента о возможных последствиях болезни.
Мартин засмеялся, хотя не без некоторого усилия. День был таким долгим, работа такой напряженной, что усталость давала себя знать.
— Несомненно, вы превосходные доктора, — сказал он, — но, если вы хоть немножко интересуетесь мнением пациента, позвольте ему сказать, что вы ошиблись в диагнозе. На самом деле это вы оба страдаете той болезнью, которую приписываете мне. Я же совершенно невосприимчив к ней. Социалистическая философия, которая вас так волнует, меня ничуть не затронула.
— Ловко, ловко, — пробормотал судья, — прекрасный прием в споре — обращать обвинение против обвинителя.
— А я говорю на основании ваших слов! — сказал Мартин. Глаза его сверкнули, но он пока сдерживался. — Видите ли, господин судья, я слышал ваши предвыборные речи. Благодаря особой мыслительной передержке, — это мое любимое выражение, хотя оно не всем понятно, — вы убедили себя в том, что вы сторонник принципов конкуренции и выживания сильнейшего, но в то же время вы принимаете все меры к тому, чтобы обессилить сильного.
— Молодой человек!..
— Не забудьте, что я слышал ваши речи! — перебил Мартин. — Ваша позиция в вопросе о регламентации торговли между штатами, об урегулировании деятельности компании «Стандарт Ойл» и железнодорожного треста, о планомерной эксплуатации лесов и так далее и тому подобное сводится к требованию ограничительных мер, то есть по существу совпадает с позицией социалистов.
— Но разве, по-вашему, не следует обуздывать все эти непомерные притязания на власть?
— Не о том речь. Я хочу только доказать вам, что вы ошиблись в диагнозе и что я нисколько не заражен бактерией социализма. Я хочу доказать вам, что вы сами, именно вы, заражены этой вредоносной бактерией! Что касается меня, то я исконный враг социализма так же, впрочем, как и вашей ублюдочной демократии, которая, в сущности говоря, есть псевдосоциализм, только прячущийся под сложной игрой пустых слов. Я реакционер, настолько убежденный реакционер, что вам, живущим под колпаком фальшивых общественных отношений, никогда не понять моих взглядов, ибо вы слишком близоруки, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь этот колпак. Вы делаете вид, что вы верите в победу сильнейшего, а я действительно в это верю. Вот в чем разница. Когда я был чуть моложе — всего несколько месяцев тому назад, — я думал так же, как и вы. Понимаете, в свое время ваши идеи произвели на меня известное впечатление. Но торгаши и лавочники — трусливые правители; их стремления не идут дальше наживы, и мне оказалась больше по душе аристократия, если уж на то пошло. В этой комнате я единственный индивидуалист. Я ничего не жду от государства. Только сильная личность, всадник на коне может спасти государство от неизбежного разложения. Ницше был прав. Я не буду терять время и объяснять вам, кто такой Ницше, но он был прав! Мир принадлежит сильным, которые так же благородны, как и могучи, и они не барахтаются в болоте купли и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам, белокурым бестиям, тем, кто не идет ни на какие компромиссы и всегда говорит жизни только «да». И они поглотят вас — вас, социалистов, боящихся социализма и воображающих себя индивидуалистами. Ваша рабья мораль золотой середины не спасет вас! Ну, конечно, все это для вас китайская грамота, и я не буду больше надоедать вам. Но помните одно! В Окленде не наберется и полдюжины настоящих индивидуалистов, но один из них — ваш покорный слуга Мартин Иден.
И Мартин повернулся к Руфи, как бы давая понять, что он считает спор законченным.
— Я сегодня устал, — сказал он, — мне хочется любви, а не разговоров.
Он оставил без ответа замечание мистера Морза, который сказал:
— Вы меня не убедили. Все социалисты — иезуиты. Это их отличительный признак.
— Ничего! Мы еще сделаем из вас доброго республиканца, — сказал судья Блоунт.
— Всадник на коне явится раньше, чем это случится, — добродушно возразил Мартин и опять повернулся к Руфи.
Но мистер Морз был недоволен. Ему не нравились леность и презрение к нормальным, разумным видам деятельности, проявляемые его будущим зятем, образ мыслей которого был ему чужд, а натура непонятна. И мистер Морз решил направить беседу на учение Герберта Спенсера. Мистер Блоунт поддержал этот разговор, и Мартин, навостривший уши, как только было произнесено имя философа, услыхал, что судья с самодовольной важностью критикует идеи Спенсера. Мистер Морз временами поглядывал на Мартина, словно желая оказать: «Слышите, дитя мое?»
— Болтливая сорока, — проворчал Мартин и продолжал говорить с Руфью и Артуром.
Но дневная усталость и вчерашние споры с «настоящими людьми» взяли свое; к тому же он еще не излил вполне раздражения, которое вызвала в нем статья, прочитанная в трамвае.
— В чем дело? — встревоженно опросила Руфь, заметив, с каким усилием Мартин пытается сдержать себя.
— «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его», — произнес судья.
Мартин тотчас же повернулся к нему.
— Дешевая острота, — заметил он спокойно, — впервые я услыхал ее в Сити-Холл-парке из уст одного рабочего, которому следовало, пожалуй, быть умнее. С тех пор я часто слышал эти слова, и всякий раз меня тошнило от их пошлости. Как вам не стыдно! Имя великого и благородного человека среди ваших словоизлияний — словно капля росы в стоячей луже. Вы внушаете мне отвращение!
Слова Мартина поразили присутствующих, точно удар грома. Судья Блоунт побагровел, и за столом воцарилось зловещее молчание. Мистер Морз втайне радовался. Он видел, что его дочь шокирована. Он добился своего: вызвал вспышку природной грубости у этого ненавистного ему человека.
Руфь с мольбой сжала под столом руку Мартина, но в нем уже закипела кровь. Его возмущали самомнение и тупость людей, занимающих высокое положение. Член верховного суда! Подумать только, каких-нибудь два-три года назад он готов был преклоняться перед такими людьми, видя в них существа чуть ли не божественной породы.
Судья Блоунт пришел в себя и даже попытался продолжать разговор, обращаясь к Мартину с нарочитой вежливостью, но тот понял, что это делается исключительно ради присутствующих дам. Это окончательно взбесило Мартина. Неужели в мире вовсе нет честности?
— Не вам спорить со мною о Спенсере! — крикнул он. — Вы так же мало знаете Спенсера, как и его соотечественники. Я знаю, это не ваша вина! В этом виновато всеобщее современное невежество. С образчиком такого невежества я имел случай познакомиться только что, когда ехал сюда! Я читал статью Салиби о Герберте Спенсере. Вам бы следовало это прочесть. Книга доступна для всех. Вы можете найти ее в любом магазине и в любой библиотеке. Когда вы прочтете то, что написал Салиби про этого великого человека, даже вам, я уверен, станет неловко. Это такой рекорд пошлости, перед которым ваша пошлость бледнеет. Академический философ, недостойный дышать одним воздухом со Спенсером, называет его «философом недоучек». Я уверен, что вы не прочли и десяти страниц из сочинений Спенсера, но были критики и поумнее вас, которые читали не больше, однако имели наглость во всеуслышание указывать последователям Спенсера на ложность его идей! Понимаете? Идей человека, гений которого охватил все стороны научного познания; он был отцом психологии; он произвел целый переворот в области педагогики, так что деревенские ребята где-нибудь во Франции теперь учатся читать, писать и считать по методам, предложенным Спенсером. Жалкие людишки, оскорбляющие его память, добывают себе в то же время кусок хлеба практическим применением его идей. Ведь если у них есть хоть что-нибудь в голове, то этим они обязаны ему! Ведь если бы его не было, они не имели бы и тех ничтожных знаний, которые они затвердили, как попугаи. А какой-нибудь господин вроде оксфордского ректора Фэрбэнкса, который занимает место повыше вашего, судья Блоунт, смеет говорить, что потомство назовет Спенсера скорее поэтом и мечтателем, нежели мыслителем. Тявкающие шавки — вот это кто! Один изрек, что «Основные начала» не лишены литературных красот». Другие кричат, что он труженик ума, но не оригинальный мыслитель. Тявкающие шавки! Свора тявкающих шавок!
Мартин умолк среди гробовой тишины. В семье Руфи уважали судью Блоунта как человека почтенного и заслуженного, и выходка Мартина повергла всех в ужас. Конец обеда прошел в самом погребальном настроении. Судья и мистер Морз вполголоса беседовали между собой; у других разговор вовсе не клеился.
Когда Мартин и Руфь после обеда остались вдвоем, произошла бурная сцена.
— Вы невозможный человек, — говорила Руфь, вся в слезах.
Но его гнев еще не утих, и он грозно бормотал:
— Скоты! Какие скоты!..
Когда Руфь сказала, что Мартин оскорбил судью, он возразил:
— Чем же я его, по-вашему, оскорбил? Тем, что сказал правду?
— Мне все равно, правда это или нет, — продолжала Руфь, — есть известные границы приличий, и вам никто не давал права оскорблять людей!
— А кто дал судье Блоунту право оскорблять истину? — воскликнул Мартин. — Оскорбить истину гораздо хуже, чем оскорбить какого-то жалкого человечишку. Но он сделал еще хуже! Он очернил имя величайшего и благороднейшего мыслителя, которого уже нет в живых. Ах, скоты! Ах, скоты!
Ярость Мартина испугала Руфь. Она впервые видела его в таком неистовстве и не могла понять причины этого безрассудного, с ее точки зрения, гнева. И в то же время Руфь по-прежнему неотразимо влекло к нему, так что она не удержалась и в самый неожиданный момент обхватила руками его шею. Она была оскорблена и возмущена всем, что случилось, и тем не менее голова ее лежала у него на груди, и, прижимаясь к нему, она слушала, как он бормотал:
— Скоты, ах, скоты!
И не подняла головы, даже когда он сказал:
— Я больше не буду портить вам званых обедов, дорогая. Ваши друзья не любят меня, и я не хочу им навязываться. Они так же противны мне, как я им. Фу! Они просто отвратительны! Подумать только, что я когда-то смотрел снизу вверх на людей, которые занимают важные посты, живут в роскошных домах, имеют университетский диплом и банковский счет! Я по своей наивности воображал, что они в самом деле достойны уважения.
Глава тридцать восьмая
— Пойдемте в социалистический клуб! — сказал Бриссенден, едва оправившись после кровохарканья, которое случилось у него полчаса назад — второе за последние три дня. В дрожащих руках он держал неизменный стакан виски.
— А что мне там делать? — спросил Мартин.
— Посторонним разрешается брать слово на пять минут, — сказал больной, — вот вы и выступите. Скажите им, почему вы против социализма. Скажите им, что вы думаете о них и об их трущобной этике. Бросьте им в лицо Ницше, пусть заварится каша. Им полезны такие споры, да и вам тоже! Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали социалистом, прежде чем я умру. Это придаст смысл вашей жизни и спасет в час разочарования, который, несомненно, наступит.
— Не понимаю, как вы, именно вы, можете быть социалистом, — заметил Мартин, — ведь вы ненавидите толпу. И правда, какое дело вам, эстету, до ее интересов и стремлений? — Мартин с укоризной показал на виски: — Вас, по-видимому, социализм не спасает.
— Я очень болен, — отвечал Бриссенден. — Вы другое дело. Вы человек здоровый, у вас все впереди, и вам надо иметь какую-нибудь цель в жизни. Вы удивляетесь, почему я социалист? Ну что ж, скажу. Потому что социализм неизбежен; потому что современный строй прогнил и не может продержаться долго; потому что время вашего всадника на коне прошло. Рабы не пойдут за ним. Рабов слишком много, и они стащат его на землю, едва он успеет занести ногу в стремя. От этого не уйти, вам придется проглотить их мораль. Конечно, это не очень сладко. Но тут уже ничего не поделаешь. Вы с вашими ницшеанскими идеями просто троглодит, Мартин. Что прошло — прошло, и тот, кто говорит, что история повторяется, лжет. Вы правы, я не люблю толпу, но как же быть? Всадника на коне не дождаться, а я предпочту что угодно, только не власть трусливых буржуазных свиней. Идемте. Если я останусь здесь хоть ненадолго, я напьюсь вдребезги! А вы знаете, что говорит доктор? Впрочем, к черту доктора! Мне ужасно хочется оставить его в дураках.
Был воскресный вечер, и небольшой зал оклендского социалистического клуба был битком набит, главным образом рабочими. Оратор, умный еврей, понравился Мартину, хоть своими речами сразу вызвал в нем чувство протеста. Узкие плечи и впалая грудь оратора изобличали истинного сына гетто, и, глядя на него, Мартин ясно представил себе вечную войну жалких и слабых рабов против горсточки сильных мира сего, которые правили ими искони и всегда будут править. Для Мартина в этом тщедушном человеке заключался символ. Он был воплощением массы хилых и неприспособленных людей, гибнущих по неизбежному биологическому закону на тернистых путях жизни. Они были обречены. Несмотря на хитроумную философию и муравьиную склонность к коллективизму, природа отвергла их ради могучих и сильных людей. Природа отбирала лучшие свои создания, и люди стали подражать ей, разводя сортовые овощи и породистых лошадей. Конечно, творец мира мог придумать кое-что получше, но людям приходится считаться с принятым порядком вещей. Разумеется, перед гибелью они могут извиваться и корчиться, как это делают социалисты, могут собираться и толковать о том, как уменьшить тяготы земного существования и перехитрить вселенную.
Так думал Мартин, и эти свои соображения он высказал, когда Бриссенден наконец убедил его выступить и задать жару присутствующим. Он взошел на трибуну и, как полагалось, обратился к председателю. Он заговорил сначала очень тихо, слегка запинаясь, стараясь привести в порядок мысли, которые нахлынули на него во время речи того еврея. Каждому оратору на таких митингах предоставлялось пять минут. Но когда истекли положенные пять минут, Мартин только еще успел войти во вкус своей речи, только развертывал критику социалистических доктрин, а так как он возбудил в слушателях большой интерес, то они единогласно потребовали у председателя продлить время. Они увидели в этом неизвестном молодом человеке достойного противника и напряженно следили за каждым его словом. Мартин говорил с необычайным увлечением, не прибегая к околичностям, и, нападая на рабскую мораль, прямо указывал, что под рабами он разумеет именно своих слушателей. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и прославлял биологический закон мирового развития.
— Итак, — резюмировал он свою речь, — не может существовать государство, состоящее только из рабов! Основной закон эволюции действует и здесь! В борьбе за существование, как я уже показал, выживает сильный и потомство сильного, а слабый и его потомство обречены на гибель. И в результате этого процесса сила сильных увеличивается с каждым поколением. Вот что такое эволюция! А вы, рабы, — сознавать себя рабом неприятно, согласен, — вы, рабы, мечтаете об обществе, не подчиняющемся великому закону эволюции. Вы хотите, чтобы хилые и неприспособленные не погибали. Вы хотите, чтобы слабые ели так же, как и сильные, и столько, сколько им хочется. Вы хотите, чтобы слабые наравне с сильными вступали в брак и производили потомство. Каков же будет результат? Сила и жизнеспособность человечества не будет возрастать с каждым поколением. Напротив. Она будет уменьшаться. Вот Немезида вашей «рабской философии». Ваше общество — общество, созданное рабами, для рабов, именем рабов, — начнет постепенно слабеть и разрушаться, пока наконец совсем не погибнет. Помните, я исхожу из биологических законов, а не сентиментальной морали. Государство рабов существовать не может.
— Ну, а Соединенные Штаты? — крикнул кто-то.
— Соединенные Штаты? — возразил Мартин. — Тринадцать колоний изгнали своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе господами. Господ, правящих с помощью меча, больше не было. Но рабы не могли оставаться без господ, и вот возник новый вид правителей — не смелые, благородные и сильные люди, а жалкие пауки, торгаши и ростовщики! И они поработили вас снова, но не открыто, по праву сильного, а незаметно, разными махинациями, хитростью, обманом и ложью. Они подкупили ваших судей, извратили ваши законы и держат ваших сыновей и дочерей под гнетом, перед которым побледнели все ужасы узаконенного рабства. Два миллиона ваших детей трудятся сейчас под игом промышленной олигархии Соединенных Штатов. Десять миллионов рабов живут, не имея ни крова, ни хлеба. Нет, государство рабов не может существовать, ибо это противоречит биологическому закону эволюции. Как только организуется общество рабов, немедленно наступает упадок и вырождение. Вы отрицаете законы эволюции? Хорошо! Где же тот новый, другой закон, на который вы рассчитываете опереться?
Формулируйте его. Или это уже сделано? Ну, тогда скажите мне его.
Мартин сел на свое место под оглушительный шум всей аудитории. Человек двадцать повскакало с мест, требуя слова. Один за другим, с жаром и воодушевлением, усиленно жестикулируя, они под аплодисменты отражали атаку Мартина. Это было настоящее побоище, ожесточенная схватка идей. Многие из ораторов сбивались на общие темы, но большинство непосредственно возражало Мартину. Они кидали ему новые для него мысли; открывали перед ним новые возможности применения старых биологических законов. Они слишком были увлечены, чтобы помнить о вежливости, и председателю несколько раз пришлось призывать их к порядку.
Случилось, что на собрании присутствовал молодой репортер из начинающих, истомившийся в погоне за сенсацией. Он не обладал ни умом, ни опытом. Он обладал только развязностью газетчика. Он был слишком невежествен, чтобы следить за смыслом спора. Но в нем жила приятная уверенность, что он гораздо выше всех этих болтливых маньяков из рабочего класса. К тому же он весьма уважал сильных мира сего, занимающих высокие посты и определяющих политику наций и газет. У него был даже свой идеал: он мечтал стать первоклассным репортером, таким, который умеет из ничего создавать очень многое.
Он так и не понял, о чем, в сущности, шел разговор. Да ему и не нужно было знать этого. Он руководствовался отдельными словами, вроде «революция». Как палеонтолог по одной найденной кости восстанавливает целый скелет, так и этот репортер надеялся воспроизвести целую речь по одному только запомнившемуся слову «революция». Этим он и занялся в тот же вечер, и занялся весьма успешно, а так как выступление Мартина вызвало больше всего шума, то репортер решил вложить эту речь ему в уста, изобразив его анархистом, а его реакционный индивидуализм превратив в самый крайний красный социализм. Молодой репортер был не лишен литературного дара и очень живописно изобразил свирепых длинноволосых людей, неврастеников и дегенератов, потрясающих кулаками и издающих злобные возгласы под нестройный гул разъяренной толпы.
Глава тридцать девятая
На следующий день, за утренним кофе, Мартин по обыкновению читал газету. В первый раз в жизни увидал он свое имя, напечатанное крупным шрифтом на первой странице. С изумлением он узнал, что является одним из виднейших лидеров оклендских социалистов. Он пробежал глазами пламенную речь, сочиненную за него молодым репортером, и сначала был возмущен этим бесстыдным измышлением, но в конце концов со смехом отшвырнул газету.
— Или это писал пьяный, или за этим скрывается какой-то преступный умысел, — казал он Бриссендену, который пришел к нему после обеда и устало опустился на единственный стул. Сам Мартин по обыкновению сидел на кровати.
— А вам не все ли равно? — сказал Бриссенден. — Неужели вы придаете значение мнению буржуазных свиней, которые читают газеты?
Мартин на минуту задумался.
— Конечно, мне нет до них никакого дела. Я только боюсь, как бы это не осложнило моих отношений с семьею Руфи. Ее отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужит подтверждением. Мне наплевать, что он думает, но все-таки… А впрочем, какая разница? Я хочу прочесть вам то, что я сегодня написал. Все тот же «Запоздалый», конечно. Уже около половины готово.
Мартин только что начал читать, как вдруг Мария отворила дверь и впустила прилично одетого молодого человека, который быстро огляделся по сторонам, задержал взгляд на керосинке и кухонном ящике и наконец обратил его на Мартина.
— Садитесь! — сказал Бриссенден.
Мартин подвинулся, чтобы дать гостю место, и вопросительно посмотрел на него.
— Я слышал вашу вчерашнюю речь, мистер Иден, — начал молодой человек после непродолжительного молчания. — Я бы хотел проинтервьюировать вас.
Бриссенден разразился хохотом.
— Собрат-социалист? — спросил репортер, кидая быстрый взгляд на Бриссендена и словно мысленно прикидывая, какой эффект будет иметь описание этого живого мертвеца.
— И он написал этот отчет, — задумчиво произнес Мартин, — такой мальчишка?
— Почему бы вам не вздуть его? — спросил Бриссенден. — Я бы отдал сейчас тысячу долларов за то, чтобы на пять минут вернуть себе здоровые легкие.
Юный журналист был несколько ошеломлен этим разговором, который велся так, будто его тут не было. Но он только что удостоился похвалы редактора за блестящий отчет о социалистическом митинге и получил задание проинтервьюировать Мартина Идена, лидера организованных врагов существующего порядка.
— Вы не возражаете, если мы вас сфотографируем, мистер Иден? — спросил он. — Я захватил с собой фотографа, и он говорит, что нужно поторопиться. А то солнце сядет. Мы можем побеседовать с вами после.
— Фотограф? — протянул Бриссенден. — Ну, что же вы, Мартин? Вздуйте его!
— Старею я, видно, — отвечал Мартин. — Вот знаю, что его нужно вздуть, но как-то энергии не хватает. Да и ради чего?
— Ради его бедной матери, — возразил Бриссенден.
— Пожалуй, это веское соображение, — согласился Мартин, — но все равно оно не вызывает у меня прилива энергии. Ведь для того, чтобы вздуть кого-нибудь, необходимо затратить энергию. Да и стоит ли?
— Вот именно, не стоит, — веселым тоном подхватил репортер, хотя опасливо оглянулся на дверь.
— Конечно, в том, что он написал, не было ни слова правды, — продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену.
— Видите ли, это было как бы описание в общих чертах… — рискнул объяснить юноша. — Но для вас это, между прочим, великолепная реклама… Согласитесь сами.
— Учтите, Мартин, это для вас реклама! — торжественно провозгласил Бриссенден.
— Да, да!.. И я должен с этим согласиться.
— Разрешите узнать, мистер Иден, где вы родились? — спросил репортер, изображая на своем лице напряженное внимание.
— Заметьте, он ничего не записывает, — ввернул Бриссенден, — он все запоминает.
— Для меня этого вполне достаточно. — Юноша всячески старался скрыть свою тревогу. — Опытный репортер обходится без всяких записей.
— Это сразу видно… по вашему вчерашнему отчету. Бриссенден не был сторонником идеи непротивления злу, а потому вскричал вдруг, сразу переменив тон:
— Мартин! Если вы не изобьете его, то я изобью! Умру, но изобью!
— Отшлепать, пожалуй, будет достаточно? — спросил Мартин.
Бриссенден подумал, затем кивнул головой. В следующий миг репортер уже лежал лицом вниз на коленях у Мартина.
— Только не кусаться, — предупредил Мартин, — не то я должен буду разбить вашу симпатичную мордочку. А это будет жаль.
Его правая рука стала мерно подниматься и опускаться. Юноша визжал, вырывался, ругался, но кусаться не смел. Бриссенден спокойно наблюдал эту сцену. Только дин раз он не выдержал, схватил пустую бутылку и воскликнул:
— Дайте мне тоже разок ударить!
— К сожалению, я больше не в состоянии, — сказал наконец Мартин. — Рука совсем онемела.
Он схватил репортера за шиворот, встряхнул и посадил на кровать.
— Я заявлю в полицию! Вас арестуют! — кричал тот. Слезы негодования текли по его горящим щекам. — Вы ответите за это. Берегитесь!
— Вот тебе и раз, — сказал Мартин, — он так и не понимает, что пошел по скользкой дорожке. Он почему-то не понимает, что нечестно, неприлично, недостойно мужчины лгать про своего ближнего так, как он это сделал.
— Ну что ж, вот он и пришел, чтобы вы ему это объяснили, — вставил Бриссенден.
— Да, он пришел ко мне, оклеветав и осрамив меня предварительно. Теперь мой лавочник наверняка откажет мне в кредите. Но хуже всего, что бедный мальчик никогда уже не сойдет с этого пути, пока из него не выработается первоклассный журналист и первоклассный негодяй.
— Еще есть время, — возразил Бриссенден. — Может быть, именно вам, суждено обратить его на путь истинный. Ах, почему вы мне не дали ударить его хоть разочек. Мне так хотелось принять участие в этом добром деле!
— Вас обоих посадят в тюрьму! — всхлипывала заблудшая душа. — С-с-скоты!
— У него слишком смазливая рожица, — произнес Мартин, покачав головой, — боюсь, что я зря натрудил себе руку. Этого молодого человека не исправишь. Он, несомненно, станет первоклассным журналистом. У него совершенно нет совести! Одно это поможет ему выдвинуться.
Тут молодой человек стремительно вылетел из комнаты, со страхом прошмыгнув мимо Бриссендена, который продолжал держать в руке бутылку.
На следующий день Мартин узнал о себе много нового и интересного. «Да, мы враги общества, — оказывается, сказал он в беседе с представителем прессы, — но мы не анархисты! Мы социалисты!» Когда репортер заметил ему, что между двумя этими школами нет особенной разницы, Мартин пожал плечами в знак молчаливого согласия. Выяснилось, что лицо у него резко асимметричное и носит все признаки вырождения. Особенно характерны узловатые руки и кровожадно сверкающие глаза.
Мартин прочел также, что почти каждый вечер он выступает на рабочих митингах в Сити-Холл-парке и из всех анархистов и агитаторов, отравляющих там умы народа, пользуется наибольшим успехом и произносит наиболее революционные речи. Репортер подробно живописал его каморку, не забыл упомянуть о керосинке, об единственном стуле и изобразил также в ярких красках его приятеля — бродягу с лицом мертвеца, весь вид которого наводил на мысль, что его только что выпустили из тюрьмы после двадцатилетнего заключения.
Молодой репортер проявил большую расторопность. Он разнюхал всю семейную историю Мартина Идена и сумел добыть фотографию лавки мистера Хиггинботама и самого мистера Бернарда Хиггинботама, стоящего у дверей. Упомянутый джентльмен был описан как почтенный и здравомыслящий коммерсант, который не только не разделяет социалистических взглядов своего шурина, но и вообще не желает иметь с этим шурином ничего общего. По его словам, Мартин Иден был просто лентяй, бездельник, который не хотел работать, хотя ему не раз делали выгодные предложения, и, без сомнения, должен был рано или поздно угодить в тюрьму. Был проинтервьюирован и Герман фон Шмидт. Он назвал Мартина «уродом в семье» и тоже отказался от всякой родственной связи с ним. «Он хотел было сесть мне на шею, — сказал между прочим Герман фон Шмидт, — но этот номер не прошел. Я отучил его шляться сюда. От такого бездельника нельзя ожидать ничего путного!»
На этот раз Мартин рассердился всерьез. Бриссенден смотрел на происшествие как а забавную шутку, но не мог успокоить Мартина. Мартин знал, что объяснение с Руфью будет нелегким делом. Что же до ее отца, так тот, наверное, постарается воспользоваться этой нелепой выдумкой, чтобы расстроить помолвку. Мрачные предположения Мартина не замедлили подтвердиться. На другой день почтальон принес письмо от Руфи. Мартин, предчувствуя недоброе, тут же вскрыл конверт и начал читать, даже не затворив дверь за почтальоном.
Читая, Мартин машинально шарил рукою в кармане, ища табак и курительную бумагу, которые прежде всегда носил при себе. Он не сознавал, что карман его давно уже пуст, не отдавал себе даже отчета в том, чего он там ищет.
Письмо было выдержано в спокойном тоне. Никаких следов гнева в нем не было, но от первой до последней строчки оно дышало обидой и разочарованием. Он не оправдал ее надежд, писала Руфь. Она думала, что он покончит со своими ужасными замашками, что ради любви к ней он в самом деле готов зажить скромной и благопристойной жизнью. А теперь папа и мама решительно потребовали, чтобы помолвка была расторгнута. И она не могла не признать их доводов основательными. Ничего хорошего из их отношений не получится. Это с самого начала было ошибкой. В письме был только один упрек, и он показался Мартину особенно горьким. «Если бы вы захотели поступить на службу, постарались найти себе какое-то место в жизни! — писала Руфь. — Но это невозможно. Вы слишком привыкли к разгульной и беспорядочной жизни. Я понимаю, что вы не виноваты. Вы действовали согласно своей природе и своему воспитанию. Я и не виню вас, Мартин, помните это. Папа и мама оказались правы: мы не подходим друг к другу, и надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно… Не пытайтесь увидеться со мной, — заканчивала она, — это свидание было бы тяжело и для нас обоих и для моей мамы. Я и так чувствую, что причинила ей немало огорчений, и не скоро удастся мне загладить свою вину».
Мартин дочитал письмо до конца, внимательно перечел еще раз. Затем он сел и стал писать ответ. Он изложил все то, что говорил на социалистическом митинге, обвиняя газету в самой бессовестной клевете. В конце письма объяснения и оправдания переходили в страстную речь влюбленного, молящего о любви. «Ответьте мне непременно, — писал он, — напишите только одно — любите вы меня или нет? Это — самое главное».
Но прошел день, другой, ответа не было. «Запоздалый» лежал раскрытым все на той же странице, а груда возвращенных рукописей под столом продолжала расти. Впервые за всю свою жизнь испытал Мартин муки бессонницы. Три раза приходил он к Морзам, но все три раза лакей не пускал его дальше двери. Бриссенден лежал больной, и Мартин, навещая его, не решался посвятить его в свои горести.
А горестей у Мартина было немало. Последствия репортерской проделки превзошли се его ожидания. Португалец-бакалейщик отказал ему в кредите, а зеленщик, любивший похваляться своим чисто американским происхождением, объявил Мартина изменником родины и в припадке патриотизма даже уничтожил его счет, запретив ему являться для уплаты долга. Соседи были настроены против Мартина, и негодование их с каждым днем возрастало. Никто не желал поддерживать отношения с предателем-социалистом. Бедную Марию терзали страхи и сомнения, но она оставалась верна Мартину. Соседские ребятишки, у которых уже изгладилось впечатление от роскошной коляски, некогда привозившей гостей к Мартину, теперь кричали ему издали «Лодырь!» и «Бродяга!». Только детвора Марии держалась твердо, защищала Мартина, не раз вступала в битвы из-за него, а Мария, видя синяки и разбитые носы своих детишек, приходила в еще большее отчаяние.
Встретив однажды на улице Гертруду, Мартин узнал от нее то, в чем и раньше не сомневался: что Бернард Хиггинботам вне себя от возмущения, считает, что Мартин опозорил всю семью, и запретил ему бывать у них в доме.
— Уехал бы ты куда-нибудь, Мартин, — просила Гертруда. — Уезжай и постарайся строиться на какое-нибудь приличное место. А там, когда все уляжется, можешь и вернуться.
Мартин покачал головой и не стал вдаваться в объяснения. Да и как мог он объяснить! Между ним и его родными зияла пропасть. Он уже не способен перескочить через нее! Смешно объяснять Гертруде свое отношение к социализму — отношение ницшеанца! Не было таких слов в языке, которыми он мог бы растолковать этим людям свои взгляды и свои поступки. Все их рассуждения сводились к одному: найти себе место. Это было первое и последнее слово. Этим исчерпывался их кругозор. Найди себе место! Поступи на службу! Бедные, тупые рабы, думал Мартин, слушая Гертруду. Не удивительно, что сильные завладели миром! Рабы не могли вырваться из круга своих рабских представлений. «Служба» была для них золотым фетишем, предметом обожествления, перед которым они смиренно повергались ниц.
Гертруда предложила ему денег, но Мартин отрицательно покачал головою, хотя знал, что через несколько дней ему опять придется закладывать костюм.
— Бернарду ты пока на глаза не попадайся, — наставляла его Гертруда. — Пройдет месяц-другой, он успокоится, и тогда можешь даже попроситься к нему возчиком, если захочешь. А если я тебе понадоблюсь, присылай за мной в любое время, и я к тебе приду. Слышишь?
Гертруда расплакалась и пошла прочь, а Мартин, видя ее тяжелую, усталую походку, чувствовал, как сжалось у него сердце от невыносимой тоски. И когда он глядел вслед сестре, здание ницшеанства вдруг дрогнуло и зашаталось. Хорошо было рассуждать о какой-то абстрактной категории рабов, но не так-то легко оказалось прилагать теории к своим близким. А между тем, если нужен пример слабого, угнетаемого сильным существа, то лучше Гертруды не найти. Мартин даже угрюмо усмехнулся этому парадоксу. Хорош же он ницшеанец, если начинает колебаться в своих взглядах, как только у него дрогнет сердце; да в конце концов разве в данную минуту не та же рабская мораль сказывается в нем, разве его жалость к сестре не рабское чувство? Настоящий сильный человек должен быть выше жалости и сострадания. Эти чувства родились в подземельях, где обитали рабы, и были лишь жалким уделом слабых и несчастных.
Глава сороковая
Работа над «Запоздалым» не двигалась. Рукописи, которые Мартин посылал в редакции, валялись под столом. Только одна рукопись еще продолжала странствовать. То была «Эфемерида» Бриссендена. Велосипед и черный костюм Мартина снова отправились в заклад, а за пишущую машинку, по обыкновению, был просрочен платеж. Но это уже нисколько не тревожило Мартина. Он должен был найти себе новую цель в жизни, и пока эта опора не была найдена, жизнь как будто остановилась.
Прошло несколько недель, и вот однажды случилось то, чего Мартин давно ожидал. Он встретил на улице Руфь. Правда, она шла не одна, а со своим братом Норманом; правда, они оба сделали вид, что не узнали Мартина, а когда он хотел подойти, Норман попытался не подпустить его.
— Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, — сказал он, — я позову полисмена; она не желает с вами разговаривать, и ваша навязчивость оскорбительна.
— Лучше не затевайте спора, — мрачно ответил Мартин, — не то вам в самом деле придется звать полисмена, и тогда ваше имя попадет в газеты. Посторонитесь и не мешайте. Мне нужно поговорить с Руфью.
— Я хочу слышать это из ваших уст, — сказал он ей. Она побледнела и задрожала, но остановилась и взглянула на него вопросительно.
— Ответьте мне на вопрос, который я задал вам в письме, — настаивал он.
Норман сделал было нетерпеливое движение, но Мартин взглядом смирил его. Руфь покачала головой.
— Вы действовали по доброй воле? — спросил Мартин.
— Да, — проговорила она тихо, но твердо, — действовала по доброй воле. Вы опозорили меня, мне стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы сделали меня несчастной, и я больше не хочу вас видеть.
— Знакомые! Сплетни! Газетное вранье! Такие вещи не могут оказаться сильнее любви! Значит, вы никогда не любили меня.
Бледное лицо Руфи вспыхнуло.
— После всего того, что произошло? — произнесла она. — Мартин, вы сами не знаете, что говорите! За кого вы меня принимаете?
— Вы видите, она не хочет с вами разговаривать! — воскликнул Норман, взяв сестру под руку, чтобы увести ее.
Мартин поглядел им вслед и машинально полез в карман за папиросной бумагой и табаком, которых там не было.
До Северного Окленда путь был не близок; но Мартин не заметил, как прошел этот путь. Опомнился он в своей комнате на кровати и огляделся растерянно, как проснувшийся лунатик. В глаза бросилась рукопись «Запоздалого», лежавшая на столе; он придвинул стул и взялся за перо. Его натуре свойственно было стремление доводить начатое до конца. А тут перед ним была неоконченная работа. В свое время он отложил ее, чтобы заняться другим делом. Теперь это другое дело было кончено, и надо было опять вернуться к «Запоздалому». Что будет он делать потом, Мартин не знал. Он знал только одно: какой-то этап в его жизни пришел к концу и нужно было закруглить фразу, прежде чем поставить точку. Будущее не интересовало его. Вероятно, он скоро узнает, что ждет его. Но это было не так уж важно. Все было неважно.
Пять дней Мартин работал над «Запоздалым», никуда не выходя, никого не видя и едва отрываясь, чтобы кое-как поесть. На шестой день утром почтальон принес ему письмо от редактора «Парфенона». Вскрыв конверт, он сразу увидел, что «Эфемерида» принята.
«Мы дали поэму для прочтения мистеру Картрайту Брюсу, — писал редактор, — и он так благоприятно отозвался о ней, что мы сочтем за удовольствие напечатать ее в нашем журнале. Если мы откладываем печатание поэмы до августовского номера, то только потому, что июльский уже набран. Передайте мистеру Бриссендену нашу глубочайшую признательность и наше восхищение. Не откажите прислать его портрет и биографические данные. Если предлагаемый нами гонорар покажется недостаточным, благоволите телеграфировать, какие условия вы сочли бы приемлемыми».
Так как предложенный гонорар составлял триста пятьдесят долларов, то Мартин решил, что телеграфировать не стоит. Оставалось лишь добиться согласия Бриссендена. В конце концов Мартин оказался прав. Нашелся редактор, который понимал кое-что в истинной поэзии. И гонорар был блестящий, даже для «поэмы века». Кроме того, Мартин знал, что Бриссенден считал Картрайта Брюса единственным из всех критиков, заслуживающим уважения.
Мартин вышел из дому, сел в трамвай и, глядя на мелькавшие мимо дома и перекрестки, с грустью думал о том, что его не волнует ни успех друга, ни держанная победа. Лучший критик в Соединенных Штатах оценил поэму по достоинству, и, следовательно, Мартин не ошибался, утверждая, что настоящее произведение искусства в конечном счете пробьет себе дорогу в печать. Но прежнего энтузиазма не было, и Мартин отлично сознавал, что ему скорее хотелось просто повидать Бриссендена, чем сообщить радостную новость. Только теперь Мартину пришло в голову, что за все пять дней, проведенных в работе над «Запоздалым», он не имел от Бриссендена никаких известий и даже ни разу не вспомнил о нем. Мартин понял, что находится в состоянии какого-то духовного оцепенения, и ему стало стыдно перед другом. Но и стыд он ощущал как-то вяло. Ничто не волновало его, кроме творческого подъема, который он испытывал над рукописью «Запоздалого». Все остальное было ему безразлично. Он находился словно в каком-то трансе. Жизнь, кипевшая на улицах, по которым бежал трамвай, казалась ему далекой и призрачной, и он не очень бы удивился, если бы церковная колокольня вдруг рассыпалась у него на глазах.
Войдя в гостиницу, он торопливо поднялся в номер Бриссендена и через минуту так же торопливо спустился вниз. Комната была пуста. Все вещи были вынесены.
— Разве мистер Бриссенден уехал? — спросил Мартин у портье. — Он не оставил своего адреса?
Тот как-то странно посмотрел на него.
— Да разве вы ничего не слыхали? — сказал он. Мартин отрицательно покачал головой.
— Все газеты писали об этом. Его нашли мертвым в постели. Самоубийство! Выстрелил себе в голову.
— Его уже похоронили?
Мартину показалось, что этот вопрос задал чей-то чужой, незнакомый голос.
— Нет. После следствия тело было отправлено на Восток. Адвокаты, приглашенные его родными, уладили все это дело.
— А почему они так спешили? — проговорил Мартин.
— Как спешили? Да ведь это произошло пять дней тому назад!
— Пять дней тому назад?
— Да, пять дней.
— Ах, вот оно что! — пробормотал Мартин и вышел из гостиницы.
По дороге он зашел на телеграф и известил издателя «Парфенона», что он может печатать поэму. Телеграмму он послал наложенным платежом, потому что в кармане у него оставалось всего пять центов на обратный проезд.
Вернувшись к себе, Мартин опять принялся за работу. Шли дни и ночи, а он все сидел за столом и писал. Он почти не выходил из дому, равнодушно ел, если было из чего сварить похлебку или кашу, и так же равнодушно обходился без еды, когда варить было нечего. Хотя вся повесть была заранее продумана во всех подробностях, он решил по-иному строить экспозицию, что удлинило ее на двадцать тысяч слов. Не было, казалось, никакой необходимости так тщательно отделывать рукопись, но иначе он работать уже не мог. Он писал, словно в оцепенении, перестав воспринимать окружающий мир, он обращался к творческим навыкам своей прошлой жизни, подобно тому как привидение бродит среди знакомых мест. Ему вспомнились чьи-то слова о том, что привидение — это дух человека, который умер, хотя сам не сознает этого. И на какое-то мгновение Мартин задумался: не происходит ли и с ним нечто подобное?
Наконец пришел день, когда «Запоздалый» был окончен. Агент прокатной конторы пришел за пишущей машинкой и, сидя на кровати Мартина, дожидался, когда он допишет последнюю страницу. «Конец» — выстукал на машинке Мартин, и для него это был в самом деле конец. С чувством некоторого облегчения он смотрел, как агент взял машинку и унес ее. После этого он упал на кровать. Он совершенно ослаб от голода. Он не ел уже тридцать шесть часов и даже ни разу не вспомнил о пище. Он лежал на спине, закрыв глаза, и какой-то туман постепенно заволакивал его сознание. В полусне он бормотал какое-то стихотворение, которое часто читал Бриссенден. Мария, стоя за дверью, с тревогой прислушивалась к монотонному бормотанию своего жильца. Слова стихотворения не имели для нее никакого смысла, но ее пугало, что Мартин говорит сам с собой.
Мария не выдержала; она кинулась к печке, налила полную миску супа, щедро зачерпнув со дна кастрюли крошеного мяса и овощей, и побежала к Мартину. Приподнявшись на локте, он начал есть, уверяя ее, что вовсе не бредит и что совершенно здоров.
Когда Мария ушла, Мартин сел на кровать и долго сидел так, сгорбившись и бессмысленно глядя в одну точку, пока не заметил, что перед ним лежит номер журнала, присланный с утренней почтой. «Это «Парфенон», — подумал он, — августовский «Парфенон», и в нем должна быть напечатана «Эфемерида». Ах, если бы Бриссенден был жив!»
Он стал перелистывать страницы журнала и вдруг остолбенел: «Эфемерида» была украшена пышным заголовком и заставками в стиле Бердсли; с одной стороны заголовка находился портрет Бриссендена, а с другой — сэра Джона Вэлью, британского посла. В предисловии от редакции сообщалось, что сэр Джон Вэлью недавно сказал, будто в Америке нет поэтов, и, печатая «Эфемериду», «Парфенон» как бы отвечает ему: «Нате-ка, получите, сэр Джон Вэлью!» О Картрайте Брюсе говорилось как о величайшем американском критике и приводились его слова: «Эфемерида» — величайшее произведение американской поэзии». Заканчивалось предисловие так: «Мы еще не можем оценить все красоты «Эфемериды»; быть может, нам никогда не удастся вполне оценить ее. Но, читая и перечитывая поэму, мы изумлялись необычайному словесному богатству мистера Бриссендена и не раз спрашивали себя, как и откуда мог мистер Бриссенден почерпнуть такое сокровище слов и так искусно скомпоновать их».
Затем следовала сама поэма.
«Хорошо, что ты умер, бедный Брис!» — подумал Мартин, уронив журнал на пол.
Все было пошло и мерзко до тошноты, но настоящего омерзения Мартин не почувствовал. Ему хотелось рассердиться, но не хватало энергии. Он словно отупел. Кровь застыла в его жилах и не могла бурлить от возмущения. В конце концов что тут особенного? Вполне в духе буржуазного общества, которое так глубоко ненавидел Бриссенден.
— Бедный Брис! — пробормотал Мартин. — Он никогда бы не простил мне этого!
С усилием поднявшись, Мартин выдвинул ящик, где прежде у него хранилась бумага для машинки. Порывшись в нем, он извлек одиннадцать стихотворений, написанных его другом. Он медленно разорвал их одно за другим и бросил в корзинку. Потом опять сел на кровать и невидящим взглядом уставился в пустоту.
Сколько времени просидел он так, он не знал; наконец из туманного пространства возникла перед ним длинная ярко-белая полоса. Это было очень странно. Но, вглядевшись, Мартин увидел, что это линия прибоя у кораллового рифа где-то в Тихом океане. Мгновение спустя он разглядел в белой пене челнок, маленький, утлый челнок. Молодой бронзовокожий бог, опоясанный пурпурной тканью, сидел на корме, погружая в волны сверкающее весло. Мартин узнал его. Это был Моти, младший сын вождя Тами, — стало быть, это происходило у берегов Таити, и за коралловым рифом лежала чудесная страна Папара, где возле самого устья реки стояла тростниковая хижина вождя.
Наступил вечер, и Моти возвращался с рыбной ловли. Он ждал большой волны, которая перенесла бы его через риф. Мартин увидел и самого себя сидящим в челноке, как бывало не раз, и готовым, по сигналу Моти, бешено заработать веслами, как только встанет над ними бирюзовая громада волны. В следующий миг он перестал быть зрителем; он на самом деле сидел в челноке и с ожесточением греб под дикие возгласы Моти. Они пронеслись вперед, среди грохота и шипения, обдаваемые брызгами, и вдруг очутились в тихой, неподвижной лагуне. Моти, смеясь, протирал глаза, залитые соленой водой, а челнок скользил к коралловому берегу, где среди стройных кокосовых пальм видна была хижина Тами, вся золотая в лучах заходящего солнца.
Но видение вдруг затуманилось, и перед глазами Мартина возник опять беспорядок его тесной каморки. Напрасно силился он снова увидеть Таити. Он знал, что теперь в пальмовой роще звучат песни и девушки пляшут при лунном свете. Но он ничего не видел больше, кроме стола, заваленного бумагами, и тусклого, давно не мытого окна. Он со стоном закрыл глаза и погрузился в сонное забытье.
Глава сорок первая
Всю ночь Мартин проспал тяжелым сном, а утром его разбудил стук почтальона. Усталый и безучастный ко всему Мартин вскрывал полученные письма. В одном из них, со штампом известного «пиратского» журнала на конверте, оказался чек на двадцать два доллара. Этих денег он добивался почти полтора года. Но теперь, получив их, он остался равнодушным. Он уже неспособен был замирать от восторга при виде издательских чеков. Прежде чеки казались ему залогом будущих великих успехов, а сейчас перед ним лежали просто двадцать два доллара, на которые можно было купить чего-нибудь поесть. Вот и все.
С этой же почтой пришел еще чек на десять долларов — от одного нью-йоркского журнала за юмористические стишки, принятые уже давно. Мартину пришла в голову идея, которую он тут же хладнокровно обдумал. Он не знал, что будет делать дальше, и не испытывал желания что-нибудь делать. А между тем надо было жить, надо было платить долги. Не выгоднее ли истратить эти десять долларов на марки и вновь отправить в путешествие валявшуюся под столом груду рукописей? Может быть, одну или две где-нибудь примут. А это даст ему возможность просуществовать. Мартин так и сделал. Получив по чекам в оклендском банке, он купил марок. Но мысль вернуться в свою каморку и приняться за стряпню показалась ему невыносимой. В первый раз он решил пренебречь долгами. Он отлично знал, что дома можно сытно пообедать за пятнадцать — двадцать центов. Но вместо этого отправился в кафе «Форум» и заказал обед, обошедшийся в два доллара. Он дал двадцать пять центов на чай и пятьдесят истратил на египетские папиросы. Он не курил с тех пор, как Руфь запретила ему. Но теперь у него не было никаких причин отказывать себе в удовольствии, а курить очень хотелось. И стоит ли беречь деньги? Конечно, за пять центов он мог купить табаку и бумаги на сорок самокруток, но какой смысл? Деньги не имели для него никакого значения, кроме того, что на них сейчас, сегодня можно было что-то купить! Он остался без руля и без компаса, и торопиться ему было некуда. Плывя по течению, он меньше ощущал жизнь; а ощущение жизни причиняло боль.
Дни проходили за днями, похожие один на другой; спал Мартин теперь по восьми часов в сутки. Хотя в ожидании новых чеков он кормился в японских ресторанчиках, где можно поесть за десять центов, он даже пополнел. Щеки его округлились, потому что он не изнурял себя недосыпанием и напряженной работой. Он ничего не писал, его книги мирно отдыхали на полке. Мартин часто уходил за город на холмы, долгие часы проводил в парке. У него не было ни друзей, ни знакомых, да и не хотелось их заводить. К чему? Он безотчетно ожидал какого-нибудь толчка извне, который вновь привел бы в движение его остановившуюся жизнь.
А пока существование оставалось томительным, однообразным, пустым и лишенным всякого смысла.
Однажды он вздумал съездить в Сан-Франциско, повидаться с «настоящими людьми». Но у самых дверей он вдруг круто повернулся и торопливо пошел назад по людным улицам гетто. Мысль, что он услышит сейчас философские споры, так испугала его, что он почти бежал, боясь, как бы не повстречался ему кто-нибудь из «настоящих людей» и не признал его.
Иногда он просматривал журналы и газеты, чтобы осведомиться, что пишут об «Эфемериде». Поэма наделала шуму. Но какого шуму! Все прочли, и все спорили о том, поэзия это или нет. Местные газеты были полны ученых статей, иронических рецензий, взволнованных читательских писем — все по поводу этой поэмы. Элен Делла Дельмар (под звуки труб и бой барабанов провозглашенная величайшей поэтессой Соединенных Штатов) не пожелала освободить для Бриссендена место рядом с собой на Пегасе и писала многословные письма к читающей публике, доказывая, что он вовсе не поэт.
«Парфенон» в очередном номере самодовольно пожинал плоды поднятого им шума, издевался над сэром Джоном Вэлью и бессовестно использовал смерть Бриссендена в целях рекламы. Одна газета, имевшая будто бы больше полумиллиона подписчиков, напечатала поэму Элен Деллы Дельмар, где высмеивался Бриссенден. Не успокоившись на этом, поэтесса написала еще и пародию на «Эфемериду».
Мартин не раз радовался, что друг его не дожил до этого часа. Он ненавидел толпу, а теперь толпе было брошено на поругание самое для него святое и сокровенное. Сотворенная им красота ежедневно подвергалась вивисекции. Каждый ничтожный щелкопер радовался случаю покрасоваться перед публикой в лучах величия Бриссендена. Одна газета писала: «Мы получили письмо от одного джентльмена, который сообщает, что сочинил в точности такую же поэму, только лучше, уже несколько лет тому назад». Другая газета совершенно серьезно замечала, упрекая Элен Деллу Дельмар за ее пародию: «Мисс Дельмар, написав эту пародию, очевидно, забыла о том, что великий поэт всегда должен уважать другого, быть может, еще более великого. Но несомненно одно: хотя мисс Дельмар несколько ревниво относится к успеху «Эфемериды», она, как и все, находится под впечатлением этого произведения, и, быть может, настанет день, когда она сама попробует написать нечто подобное».
Проповедники избрали «Эфемериду» темою для своих проповедей, и один из них, пытавшийся защищать ее, был обвинен в ереси. Великая поэма послужила увеселению почтеннейшей публики. Поставщики комических стишков и карикатуристы наперебой старались рассмешить читателей, фельетонисты тоже упражнялись в остроумии, рассказывая, как некий Чарли Френшэм по секрету сказал Арчи Дженнингсу, что от пяти строк из «Эфемериды» человек способен прибить калеку, а от десяти — броситься в реку вниз головой.
Мартин не смеялся, но и не скрежетал зубами от ярости. Ему было лишь невыносимо грустно. После того как рухнул его мир, увенчанный любовью, крушение веры в печать и в публику уже не казалось катастрофой. Бриссенден был прав в своем мнении о журналах, и Мартин зря потратил столько времени, чтобы убедиться в его правоте. Журналы не только подтвердили опасения Бриссендена, они их превзошли. Ну что ж, это конец, мрачно утешал себя Мартин. Он хотел взлететь в заоблачную высь, а свалился в зловонное болото.
И опять перед ним возникли прекрасные, светлые картины далекого Таити! Вот равнинные Паумоту, вот гористые Маркизские острова. Мартину часто казалось, что он стоит на палубе торговой шхуны или на маленьком, хрупком катере, плывущем мимо рифов Папеэты или вдоль жемчужных отмелей Нукухивы к бухте Тайо-хаэ, где, он знал, Тамари заколет кабана в честь его прибытия, а дочери Тамари окружат его со смехом и песнями и украсят цветочными гирляндами. Тихий океан настойчиво звал его, и Мартин знал, что рано или поздно он откликнется на этот зов. А пока он продолжал плыть по течению, отдыхая после своего долгого утомительного путешествия по великому царству знания.
Получив от «Парфенона» чек на триста пятьдесят долларов, Мартин передал его под расписку душеприказчику Бриссендена и, в свою очередь, дал ему расписку в том, что остался должен Бриссендену сто долларов.
Однако время японских ресторанчиков уже кончалось для Мартина. Как раз в тот миг, когда он прекратил борьбу, колесо фортуны повернулось. Но оно повернулось слишком поздно. Без всякого волнения он вскрыл конверт «Миллениума», из которого выпал чек на триста долларов. Это был гонорар за «Приключение». Долги Мартина, включая ссуду под заклад со всеми процентами, не достигали и ста долларов. Уплатив их и переслав сто долларов душеприказчику Бриссендена, Мартин оказался обладателем огромной для него суммы в сто долларов. Он заказал себе хороший костюм и начал обедать в лучших кафе города. Жил он в той же маленькой комнатке у Марии, но его новый костюм произвел на соседей столь сильное впечатление, что мальчишки больше не решались кричать ему с крыш и заборов, что он бродяга и лодырь.
«Вики-Вики», его «гавайский» рассказ, был куплен «Ежемесячником Уоррена» за двести пятьдесят долларов. «Северное обозрение» напечатало «Колыбель красоты», а «Журнал Макинтоша» принял «Гадалку» — стихотворение, написанное им в честь Мэриен. Редакторы и рецензенты вернулись после летнего отдыха, и рукописи оборачивались необыкновенно быстро. Мартин никак не мог понять, почему все то, что так упорно отвергалось в продолжение двух лет, теперь принималось почти без разбора. Ведь ни одна из его вещей еще не успела пока увидеть света. Он по-прежнему не был известен за пределами Окленда, а те немногие жители Окленда, которые о нем слыхали, считали его ярым социалистом из «красных». Ничем нельзя было объяснить такую внезапную перемену. Это была просто прихоть судьбы.
После того как несколько журналов подряд отвергли «Позор солнца», Мартин, памятуя совет своего покойного друга, решил предложить его какому-нибудь книгоиздательству. После нескольких неудач рукопись была наконец принята к изданию одной из крупнейших фирм — «Синглтри, Дарнлей и К°». В ответ на просьбу Мартина об авансе издатель написал ему, что это у них не принято, что подобного рода книги обычно не окупаются и вряд ли удастся продать более тысячи экземпляров. Мартин вычислил, что если книга будет продаваться по цене один доллар, то, считая из пятнадцати процентов, он получит сто пятьдесят долларов. После этого он решил, что если будет когда-нибудь писать, то только беллетристику. «Приключение» было в четыре раза короче «Позора солнца» а принесло ему вдвое больше. В конце концов вычитанные когда-то из газет сведения о писательских гонорарах оказались верными. Первоклассные журналы действительно платили по принятии рукописи, и платили очень хорошо. «Миллениум» заплатил ему даже не по два, а по четыре цента за слово. А кроме того, настоящая литература все-таки находила сбыт — ведь купили же его произведения. При этой мысли Мартин печально усмехнулся.
Он написал «Синглтри, Дарнлею и К°», что согласен продать им «Позор солнца» в полную собственность за сто долларов, но издательство не пожелало рискнуть. Впрочем, Мартин не нуждался в деньгах, так как за последнее время были приняты к печати и оплачены еще пять или шесть его рассказов. Мартин даже открыл в банке текущий счет на несколько сот долларов. «Запоздалый» после недолгого путешествия обрел пристанище в издательстве Мередит-Лоуэл. Вспомнив о своем обещании возвратить Гертруде пять долларов сторицею, Мартин написал в издательство письмо с просьбой выслать аванс в размере пятисот долларов. К его удивлению, чек на эту сумму был немедленно выслан. Мартин разменял его на золото и позвонил Гертруде, что хотел бы повидать ее.
Гертруда пришла запыхавшись, так как очень торопилась. Предчувствуя недоброе, она положила в сумочку весь свой скудный наличный капитал; она была настолько уверена, что с Мартином стряслась беда, что сразу же расплакалась у него на груди и стала совать ему в руку принесенные деньги.
— Я бы сам пришел к тебе, — сказал Мартин, — но я не хотел ругаться с мистером Хиггинботамом! А без ссоры, наверное, не обошлось бы!
— Ничего, он скоро успокоится, — уверяла его сестра, стараясь угадать, что именно случилось с Мартином. — Но только ты поскорей поступай на службу. Бернард любит, чтобы люди занимались честным трудом. Эта статья в газете совсем взбесила его. Я никогда не видела его в таком остервенении.
— Я не хочу поступать на службу, — с улыбкой сказал ей Мартин, — можешь передать ему это от моего имени. Мне никакая служба не нужна. Вот тебе доказательство.
И он высыпал ей на колени сто сверкающих и звенящих золотых пятидолларовых монет.
— Помнишь, ты мне дала пять долларов, когда у меня не было на трамвай? Вот тебе эти пять долларов и еще девяносто девять братьев, разного возраста, но одинакового достоинства.
Если Гертруда спешила к Мартину в тревоге, то теперь ею овладел панический ужас. Сомнениям не оставалось места. Она не подозревала, она была уверена. В страхе она смотрела на Мартина, дрожа всем телом, словно эти золотые кружочки жгли ее адским огнем.
— Это все твое! — сказал Мартин со смехом. Гертруда разразилась громкими рыданиями.
— Бедный мой мальчик! Бедный мой мальчик! — запричитала она.
На мгновение Мартин опешил. Но тут же он понял причину волнения сестры и показал ей письмо книгоиздательства. Гертруда с трудом прочла его, вытерла глаза и наконец неуверенно спросила:
— Значит, ты получил эти деньги честным путем?
— Еще бы! Я даже не выиграл их, а заработал.
Сестрин взгляд понемногу прояснился, и она внимательно перечла письмо. Мартин не без труда объяснил ей, за что он получил такую большую сумму денег. Еще трудней было объяснить, что деньги эти принадлежат ей, что он в них не нуждается.
— Я положу их в банк на твое имя, — решила Гертруда.
— Нет! Если ты не возьмешь их, я отдам их Марии. Она сумеет их использовать. Я требую, чтобы ты наняла служанку и отдохнула как следует.
— Пойду расскажу Бернарду, — сказала Гертруда, вставая.
Мартин слегка нахмурился, но тотчас же рассмеялся.
— Расскажи, расскажи, — сказал он. — Может быть, теперь он пригласит меня обедать.
— Конечно, пригласит! То есть я просто уверена в этом! — с жаром воскликнула сестра, бросаясь ему на шею.
Глава сорок вторая
Прошло некоторое время, и Мартин затосковал. Он был здоровый и сильный мужчина, а делать ему было решительно нечего. После того как он перестал писать и забросил книги, после смерти Бриссендена и разрыва с Руфью в жизни его образовалась зияющая пустота. Напрасно пытался он заполнить эту пустоту ресторанами и египетскими папиросами. Правда, его неодолимо влекли к себе южные моря, но ему казалось, что здесь, в Соединенных Штатах, игра еще не закончена. Скоро будут напечатаны две его книги, может быть, и другие найдут себе издателей. А это означало — деньги; стоило подождать, чтобы отправиться в южные моря с полным мешком золота. Он знал на Маркизских островах одну прелестную долину, которую можно было купить за тысячу чилийских долларов. Долина тянулась от подковообразного заливчика до высоких гор, вершинами уткнувшихся в облака. Там цвели тропические цветы, в диких зарослях водились куропатки и кабаны, а на горах паслись стада диких коз, преследуемые стаями диких собак. Это был уголок девственной природы. Ни единая человеческая душа не обитала там, И все — долину вместе с заливом — можно было купить за тысячу чилийских долларов.
Залив, помнилось ему, был хорошо защищен от ветров и глубоководен, в нем могли бросать якорь большие океанские суда, и Тихоокеанский маршрутный справочник рекомендовал его как лучшую гавань в той части океана. Мартин купит шхуну, быстроходное суденышко типа яхты, и будет заниматься ловлей жемчуга и торговать копрой. В долине будет его база. Там он построит себе тростниковую хижину, вроде той, в которой жил вождь Тами, и наймет к себе на службу черных туземцев. Он будет принимать у себя факторов из Тайо-хаэ, капитанов торговых судов, контрабандистов и благородных морских бродяг. Он будет жить открыто и по-королевски принимать гостей. И, быть может, там он забудет читанные когда-то книги и мир, который оказался сплошной иллюзией.
Но для этого нужно было сидеть в Калифорнии и ждать, пока мешок наполнится золотом. Деньги уже начали стекаться к нему. Если пойдет хотя бы одна книга, то он легко продаст остальные рукописи. Можно составить сборники из мелких рассказов и стихов, чтобы скорей стали доступными и долина, и залив, и шхуна. Писать он больше никогда не будет. Это Мартин решил твердо и бесповоротно. Но пока книги печатаются, надо что-нибудь придумать. Нельзя жить в таком оцепенении и равнодушии.
Как-то раз он узнал, что в воскресенье должно состояться в Шелл-Моунд-парке гулянье каменщиков, и решил отправиться туда. В прежние годы он частенько бывал на подобных гуляньях, отлично знал, что они собой представляют, и теперь, войдя в парк, почувствовал, как проснулись в нем давно забытые ощущения. В конце концов он был своим среди рабочего люда. Он родился и вырос в этой среде и был рад после недолгого отчуждения снова в нее вернуться.
— Да ведь это Март! — услыхал он вдруг, и чья-то рука дружески легла ему на плечо. — Где тебя носило, старина? В плаванье ты был, что ли? Ну, садись, разопьем бутылочку!
Тут оказалась вся его старая компания, только кое-где мелькали новые лица да кой-кого из прежних не хватало. К каменщикам они не имели никакого отношения, но, как и встарь, не пропускали ни одного воскресного гулянья, где можно было потанцевать, погалдеть и помериться силами. Мартин выпил с ними и сразу ожил. Дурак он был, что отстал от них! Он твердо верил в эту минуту, что был бы гораздо счастливее, если б не уходил из своей среды, не гнался бы за книжными знаниями и обществом людей, которые считали себя выше него. Однако пиво было не так вкусно, как в былые годы! Вкус был совсем не тот. Видно, Бриссенден отучил его от простого пива; может быть, книги отучили его от дружбы с веселыми товарищами его юности? Решив доказать самому себе, что это не так, он отправился танцевать в павильон. Тут он наткнулся на жильца своей сестры, водопроводчика Джимми, в обществе какой-то высокой блондинки, которая не замедлила оказать предпочтение Мартину.
— А с ним всегда так! — сказал Джим в ответ на поддразнивания приятелей, когда Мартин и блондинка закружились в вальсе. — Я даже и не сержусь. Уж очень рад опять его повидать! Ну и ловко же танцует, черт его побери! Тут никакая девчонка не устоит!
Но Мартин честно возвратил блондинку Джимми, и все трое продолжали хохотать и веселиться вместе с полдюжиной друзей. Все были рады возвращению Мартина. Еще ни одна его книга не вышла в свет, и, стало быть, он еще не имел в их глазах никакой ложной ценности. Они любили его ради него самого. Он чувствовал себя, словно принц, вернувшийся из изгнания, и его одинокое сердце отогревалось среди этого искреннего и непосредственного веселья. Он разошелся вовсю. В карманах у него звенели доллары, и он тратил их щедрой рукой, совсем как в прежние времена, вернувшись из плавания.
Вдруг среди танцующих Мартин заметил Лиззи Конолли: она кружилась в объятиях какого-то рабочего парня. Несколько позже, бродя по павильону, он увидел ее за столиком, где пили прохладительные напитки, и подошел. Лиззи Конолли очень удивилась и обрадовалась встрече. После первых приветствий они пошли в парк, где можно было поговорить, не стараясь перекричать музыку. С первой же минуты Мартин понял, что она вся в его власти. Об этом можно было догадаться и по влажному блеску ее глаз, и по горделивой покорности движений, и по тому, как жадно ловила она каждое его слово. Перед Мартином была не та молоденькая девчонка, которую он когда-то повстречал в театре. Лиззи Конолли стала женщиной, и Мартин сразу отметил, как расцвела ее живая, задорная красота; живость была все та же, но задор она, видимо, научилась умерять.
— Красавица, настоящая красавица, — про себя шептал Мартин с невольным восхищением. И он знал, что стоит ему только позвать и она пойдет с ним хоть на край света.
В этот самый миг он получил вдруг такой удар по голове, что едва устоял на месте. Удар был нанесен кулаком, и человек целил, должно быть, в челюсть, но в спешке и ярости промахнулся. Мартин повернулся как раз в то время, когда нападавший занес кулак для второго удара. Он ловко уклонился, удар не попал в цель, и Мартин левой сбил противника с ног. Но тот сейчас же вскочил. Мартин увидел перед собой перекошенное от бешенства лицо и удивился: чем он мог так рассердить этого человека? Однако удивление не помешало ему снова отразить атаку и сильным ударом свалить нападавшего на землю. Джим и другие уже бежали к месту драки.
Мартин дрожал от упоения. Вернулись былые счастливые деньки: танцы, веселье, драки! Не теряя из виду своего противника, он кинул быстрый взгляд на Лиззи Конолли. Обычно девушки принимались визжать, когда случались подобные схватки, но эта не завизжала. Она смотрела, затаив дыхание, наклонившись вперед всем телом, прижав руку к груди, щеки ее горели и в глазах светилось восхищение.
Человек, напавший на Мартина, между тем вскочил на ноги и старался вырваться из рук Джима и его приятелей.
— Она дожидалась меня! — кричал он гневно. — Она дожидалась меня, а этот нахал увел ее! Пустите! Я покажу ему, где раки зимуют!
— Да ты спятил! — говорил Джимми, удерживая юношу. — Ведь это же Март Иден! Ты лучше с ним не связывайся. Он тебе так всыплет, что от тебя мокрое место останется.
— А зачем он увел ее? — кричал тот.
— Он побил Летучего Голландца, а ты помнишь, что это был за парень! И он побил его на пятом раунде! Ты и минуты не выстоишь против него. Понял?
Это сообщение, по-видимому, немного утихомирило парня; он смерил Мартина внимательным взглядом и произнес, все еще хорохорясь, но уже без прежней запальчивости:
— Что-то не верится.
— Вот и Летучему Голландцу не верилось, — возразил Джимми. — Пойдем! Брось это дело! Что, других девчонок здесь нет, что ли?
Тот наконец послушался, и вся компания двинулась по направлению к павильону.
— Кто это? — спросил Мартин у Лиззи. — И чего он разбушевался?
Пыл драки не в пример прежним дням уже остывал в нем, и он с грустью убеждался, что привычка к самоанализу лишила его непосредственности и чувства и мыслей.
Лиззи тряхнула головой.
— Да так, один парень, — сказала она, — я с ним гуляла последнее время.
Помолчав немного, она прибавила:
— Просто мне скучно было… но я никогда не забывала… — Она понизила голос и устремила взгляд в пространство. — Я бы на него и не взглянула при вас!..
Мартин смотрел на нее и понимал, что ему сейчас нужно только протянуть руку; но, слушая ее простые слова, он задумался над тем, стоит ли придавать такое большое значение изысканной книжной речи, и… забыл ей ответить.
— Вы здорово отделали его, — сказала она со смехом.
— Он парень крепкий, — великодушно возразил Мартин. — Если бы его не увели, мне бы, пожалуй, пришлось с ним повозиться.
— Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила? — спросила вдруг Лиззи.
— Так, одна знакомая, — ответил он.
— Давно это было, — задумчиво произнесла девушка, — как будто тысячу лет тому назад!
Мартин ничего не ответил и переменил тему разговора. Они пошли в ресторан, Мартин заказал вина и дорогих закусок, потом он танцевал с ней, только с ней- до тех пор, пока она, наконец, не устала. Мартин был прекрасный танцор, и девушка кружилась, не чуя под собой ног от блаженства; она склонила голову к нему на плечо, и ей хотелось, чтобы так продолжалось вечно. Потом они пошли снова в парк, где, по старому доброму обычаю, она села на траву, а Мартин лег и положил голову ей на колени. Он скоро задремал, а она нежно поглаживала его волосы, всей душой отдаваясь охватившему ее чувству.
Мартин вдруг открыл глаза и прочел в ее взгляде нежное признание. Она было смутилась, но тотчас оправилась и посмотрела на него решительно и смело.
— Я ждала все эти годы, — сказала она чуть слышно.
И Мартин почувствовал, что это правда, удивительная, чудесная правда. Великое искушение овладело им; в его власти было сделать эту девушку счастливой. Если самому ему не суждено счастье, почему не дать счастье другому человеку? Он мог бы жениться на ней и увезти ее с собою на Маркизские острова. Ему очень хотелось поддаться искушению, но какой-то внутренний голос приказывал не делать этого. Наперекор самому себе, он оставался верен своей Любви. Дни вольностей и легкомыслия миновали. Вернуть их было невозможно. Он изменился и только сейчас понял, насколько он изменился.
— Я не гожусь в мужья, Лиззи, — сказал он, улыбаясь.
Ее рука на мгновение остановилась, но потом пальцы ее снова стали нежно перебирать его волосы. Мартин заметил, что ее лицо вдруг приняло суровое, решительное выражение, которое, впрочем, быстро исчезло, и опять щеки ее нежно зарумянились, а глаза смотрели мягко и ласково.
— Я не то хотела сказать… — начала она и запнулась. — Во всяком случае, мне это все равно. Да, да, мне все равно, — повторила она. — Я горжусь вашей дружбой. Я на все готова для вас. Такая уж я, верно, уродилась.
Мартин сел. Он взял ее руку и тепло пожал ее, но в его пожатии не было страсти, — от этого тепла на Лиззи повеяло холодом.
— Не будем говорить об этом, — сказала она.
— Вы хорошая, благородная девушка, — произнес Мартин, — это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да, да! Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире, и я буду с вами так же честен, как и вы были со мною.
— Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной, что хотите. Можете швырнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. Но это можете только вы, — сказала она, гордо вскинув голову, — недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться!
— Вот потому-то я и должен быть честен с вами, — ласково сказал он. — Вы такая славная и благородная, что и я должен поступить с вами благородно. Я не могу жениться и не могу… ну да, и не могу любить просто так, хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь. Не думал я, что все так получится. Я ведь к вам очень хорошо отношусь, Лиззи, вы даже не представляете, как хорошо. Больше того, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами. Вы замечательная, поистине замечательная девушка! Но что пользы говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее! — Радостный блеск вспыхнул в ее глазах и тотчас же угас. — Я скоро получу много денег! Очень много!
И в этот миг он забыл о долине и о заливе, о тростниковой хижине и о белой яхте. В конце концов зачем все это? Ведь он отлично может отправиться в плавание на любом судне и куда ему вздумается.
— Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию. Можете стать стенографисткой. Я помогу вам в этом. А может быть, у вас еще живы родители? Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, чего вы хотите, и я все для вас сделаю.
Лиззи сидела неподвижно, глядя перед собой сухими глазами, и ничего не отвечала. Какой-то ком в горле мешал ей дышать, и Мартин вдруг ясно понял, что она чувствует, и у него самого болезненно сдавило горло. Не надо было заводить этот разговор. То, что он предлагал ей, было ничтожно в сравнении с тем, что она готова была отдать ему. Он предлагал ей то, что у него было лишним, без чего он мог обойтись, — а она отдавала ему всю себя, не боясь ни позора, ни греха, ни вечных мук.
— Не будем говорить об этом, — сказала она и кашлянула, словно стараясь освободиться от этого мешавшего ей комка в горле. — Пора идти! Я устала!
Гулянье кончилось, и публика почти уже разошлась. Но когда Мартин и Лиззи вышли из-за деревьев, то они увидели поджидавшую их кучку людей. Мартин сразу понял, в чем дело. Готовилась потасовка. Это были их телохранители. Все вместе они пошли к воротам парка, а в некотором отдалении двигалась туда же другая компания — это незадачливый поклонник Лиззи, готовясь отомстить за обиду, уже успел собрать своих сторонников. Несколько полисменов, предвидя столкновение, проводили обе компании до поезда, идущего в Сан-Франциско. Мартин предупредил Джимми, что сойдет на остановке Шестнадцатой улицы и пересядет в оклендский трамвай. Лиззи оставалась безучастной к происходящему.
Поезд остановился у Шестнадцатой улицы. Кондуктор трамвая, дожидавшегося на остановке, нетерпеливо бил в гонг.
— Ну, бери ее и давай ходу! — крикнул Джимми. — Живо! А мы тут их задержим.
Враждебная партия была в первую минуту озадачена этим маневром, но тотчас, выскочив из вагона, пустилась вдогонку убегавшим.
Сидевшие в трамвае пассажиры не обратили особого внимания на молодого человека и девушку, которые быстро подбежали к трамваю и заняли два свободных места в углу. Никто не подозревал, что эта парочка имела какое-то отношение к Джимми, который, вскочив на ступеньку, закричал вагоновожатому:
— Давай, давай, приятель, жарь вовсю!
В следующий момент Джимми уже отбивался кулаками от первого преследователя, пытавшегося вскочить в трамвай. Кулаки заработали вовсю: товарищи Джимми заняли длинную ступеньку открытого вагона и геройски отбивали атаку. Трамвай тронулся под громкие удары гонга, и друзья Джимми соскочили со ступеньки. Поле сражения осталось далеко позади, и пассажирам даже в голову не пришло, что сидевшие в уголке элегантный молодой человек и хорошенькая работница были причиной происшедшего скандала.
Стычка взволновала Мартина, в нем проснулся былой воинственный задор. Но вскоре им снова овладела привычная тоска. Он был стар, на целые века старше беззаботных товарищей своей беззаботной юности. Слишком большой путь он прошел, и о возвращении назад нельзя было и думать. Его не привлекал тот образ жизни, который он некогда вел. Прежние друзья стали чужими. Их жизнь была ему противна, как вкус дешевого пива, от которого он отвык. Он слишком далеко ушел. Тысячи прочитанных книг, как стена, разделяли их. Он добровольно обрек себя на изгнание. Его увлекло путешествие по безграничным просторам разума, откуда не было возврата к тому, что осталось позади. Однако человеком он не перестал быть, и его по-прежнему тянуло к людям.
Но новой родины он пока еще не обрел. Ни друзья, ни родные, ни новые знакомые из буржуазного круга, ни даже эта девушка, которую он высоко ценил и уважал, не могли понять его. Он думал об этом с грустью и с горечью.
— Помиритесь с ним, — посоветовал Мартин на прощание Лиззи, проводив ее до рабочего квартала, где она жила, между Шестой и Маркет-стрит.
Он имел в виду того молодого парня, чье место он сегодня невольно занял.
— Не могу… теперь, — отвечала она.
— Пустяки! — весело воскликнул он. — Вам стоит только свистнуть, и он прибежит.
— Не в этом дело, — просто сказала она. И Мартин понял, что хотела она сказать.
Лиззи вдруг потянулась к нему. В этом движении не было ничего властного и вызывающего. Оно было робко и смиренно и тронуло Мартина до глубины души. Природная доброта заговорила в нем. Он обнял Лиззи и крепко поцеловал, и не было в мире поцелуя чище и целомудреннее, чем тот, которым ответили ее губы.
— Боже мой, — всхлипнула она. — Я с радостью умерла бы за вас!.. Умерла бы за вас!
Она вдруг вырвалась от него и исчезла в воротах. Слезы выступили у него на глазах.
— Мартин Иден, — пробормотал он, — ты никакой не зверь и никудышный ницшеанец. Ты бы должен жениться на этой девушке и дать ей то счастье, к которому она так рвется. Но ты не можешь. И это стыд и позор! «Старик бродяга жалуется горько», — пробормотал он, вспоминая Гэнли: — «Вся наша жизнь — ошибка и позор!» Да, наша жизнь — ошибка и позор!
Глава сорок третья
«Позор солнца» вышел в октябре. Когда Мартин вскрывал почтовую бандероль с шестью авторскими экземплярами, присланными ему издателем, на душе у него было тяжело и грустно. Он думал о том, какой огромной радостью явилось бы для него это событие несколько месяцев назад и как не похоже на ту радость холодное равнодушие, которое он испытывал сейчас. Его книга, его первая книга, лежала перед ним на столе, сердце его билось ровно, и он не чувствовал ничего, кроме тоски. Теперь это уже не имело значения. В лучшем случае это означало, что он получит деньги, но зачем ему теперь деньги?..
Взяв один экземпляр, он вышел на кухню и преподнес его Марии.
— Эту книгу сочинил я, — объяснил он, видя ее изумление. — Я написал ее вот в этой каморке и думаю, что ваш суп сыграл тут немаловажную роль. Возьмите ее и сохраните. Будете смотреть на нее и вспоминать меня.
У Мартина и в мыслях не было хвастаться перед Марией. Ему просто хотелось доставить ей удовольствие, оправдать ее долголетнюю веру в него. Мария положила книгу в гостиной рядом с семейной библией. Эта книга, написанная ее жильцом, была для нее священной реликвией, символом дружбы. Теперь Мария примирилась даже с тем, что Мартин прежде был простым рабочим в прачечной. Хотя она не могла понять в книге ни одной строчки, она была твердо убеждена, что каждая строчка в ней замечательна. Простая, неискушенная, привыкшая к тяжелому труду женщина обладала одной драгоценной способностью — верить.
Так же равнодушно, как и к авторским экземплярам, относился Мартин к отзывам, которые ему каждую неделю присылали из бюро вырезок. Книга наделала много шуму, это было очевидно. Ну что ж, значит, его мешок с золотом наполнится быстрее. Можно будет устроить Лиззи, исполнить все обещания и поселиться наконец в тростниковом дворце.
Издательство «Синглтри, Дарнлей и К°» из осторожности напечатало всего тысячу пятьсот экземпляров, но первые же рецензии побудили его выпустить второй тираж — в три тысячи; а вскоре последовал и третий, — на этот раз в пять тысяч. Одна лондонская фирма начала переговоры об английском издании, а из Франции, Германии и Скандинавских стран приходили запросы об условиях перевода. Критика школы Метерлинка оказалась как нельзя более своевременной. Началась ожесточенная полемика. Салиби и Геккель поддерживали и защищали «Позор солнца», впервые оказавшись единомышленниками. Крукс и Уоллес выступили против, а сэр Оливер Лодж пытался найти компромисс в пользу собственной космической философии. Сторонники Метерлинка сплотились под знаменем мистицизма. Честертон заставил смеяться весь мир серией статей, якобы беспристрастно трактовавших модную тему, а Бернард Шоу обрушил на публику лавину своего остроумия, которая едва не погребла под собой и споривших и самый предмет спора. Нечего и говорить, что, кроме этих великих светил, на сцену выступили и менее крупные звезды, — словом, шум принял грандиозные размеры.
«Это совершенно небывалое событие, — писала Мартину фирма «Синглтри, Дарнлей и К°», — критико-философская книга расходится, как роман. Трудно было удачнее выбрать тему, к тому же успеху способствует необычайно благоприятное стечение обстоятельств. Можете быть уверены, что мы стараемся как можно лучше использовать момент. В Соединенных Штатах и Канаде разошлось сорок тысяч экземпляров вашей книги, и в настоящее время уже печатается новое издание, тиражом в двадцать тысяч. Мы едва успеваем удовлетворить спрос. С другой стороны, мы немало способствовали увеличению этого спроса. Мы истратили на рекламу более пяти тысяч долларов. Книга эта побьет все рекорды.
При сем имеем честь препроводить проект договора на вашу следующую книгу. Заметьте, что мы увеличили ваш гонорар до двадцати процентов, — это высшая ставка, возможная для такой солидной фирмы, как наша. Если вы находите условия подходящими, благоволите проставить на бланке договора заглавие книги. Мы не выдвигаем никаких условий относительно ее содержания. Любая книга, на любую тему. Если у вас уже есть что-либо готовое, тем лучше. Не следует медлить. «Куй железо, пока горячо».
Тотчас же по получении подписанного вами договора вам будет выслан аванс в размере пяти тысяч долларов. Как видите, мы верим в вас и не боимся риска. Может быть, мы договорились бы с вами относительно исключительного права издания всех ваших сочинений на известный срок — ну, скажем, на десять лет. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся».
Отложив письмо, Мартин занялся арифметикой и, помножив пятнадцать центов на шестьдесят тысяч, получил результат — девять тысяч долларов. Он подписал договор, проставив заглавие новой книги — «Дым радости», и отправил его издателю вместе с двадцатью небольшими рассказами, написанными еще до того, как он нашел рецепт сочинения газетных фельетонов. И со всей быстротой, на которую только способна американская почта, пришел чек на пять тысяч долларов.
— Я бы хотел, чтобы вы сегодня пошли со мною в город, Мария, часа в два, — сказал Мартин, получив чек, — или лучше так: встретимся с вами ровно в два часа на углу Четырнадцатой улицы и Бродвея.
Мария явилась в назначенное время; она была очень заинтересована, но ее догадки дальше новых башмаков не шли. Поэтому она испытала даже некоторое разочарование, когда Мартин, миновав обувной магазин, привел ее в какую-то контору.
То, что случилось потом, навсегда осталось у нее в памяти, как чудесный сон. Элегантные джентльмены, вежливо улыбаясь ей, беседовали с Мартином и друг с другом. Стучала машинка. Была подписана какая-то важная на вид бумага. Тут же был и домохозяин Марии, и он тоже поставил свою подпись.
Когда они вышли на улицу, домохозяин сказал ей:
— Ну, Мария, в этом месяце вам уж не придется платить мне семь с половиной долларов.
Мария онемела от удивления.
— Да и в следующие месяцы тоже, — продолжал он. Мария стала благодарить его, словно он оказал ей милость. И только вернувшись домой и потолковав с соседями, в первую очередь с лавочником-португальцем, она поняла, что этот маленький домик, в котором она прожила столько лет, платя за наем, отныне стал ее собственностью.
— Почему вы теперь ничего не покупаете у меня? — дружелюбно окликнул португалец Мартина, когда тот, сойдя с трамвая, шел домой.
Мартин объяснил ему, что он уже не стряпает сам, и тогда лавочник пригласил его распить с ним бутылочку. Он угостил его самым лучшим вином, какое только нашлось в лавке.
— Мария, — объявил Мартин в тот же вечер, — я уезжаю от вас. Да вы и сами скоро отсюда уедете. Можете теперь сдать кому-нибудь дом и получать за него помесячную плату. У вас, кажется, есть брат в Сан-Леандро или Хэйуордсе, который занимается молочным хозяйством? Так вот, верните клиентам белье нестираным — понимаете? нестираным! — и поезжайте в Сан-Леандро или в Хэйуордс, — одним словом, к вашему брату… Скажите ему, что мне надо поговорить с ним. Я буду жить в Окленде, в «Метрополе». Может быть, у него есть на примете подходящая молочная ферма.
И вот Мария сделалась домовладелицей и хозяйкой фермы; у нее было два работника, исполнявшие тяжелую работу, а ее текущий счет в банке все возрастал, несмотря на то, что дети были теперь обуты и ходили в школу. Редко кому удается встретить в жизни сказочного принца. Но Мария, отупевшая от тяжкой работы и никогда не мечтавшая ни о каких принцах, встретила такого принца в лице бывшего рабочего из прачечной.
Между тем публика начала интересоваться, кто же такой этот Мартин Иден. Он отказался дать издателям биографические сведения о себе, но от газет было не так-то легко отделаться. Он был уроженцем Окленда, и репортеры разыскали достаточно людей, знавших Мартина Идена с детства. Таким образом, в газетах появились подробные описания, кем он был и кем он не был, чем он занимался и чем не занимался. Статьи иллюстрированы рисунками и фотографиями — нашелся предприимчивый фотограф, у которого Мартин когда-то снимался, и теперь он бойко вел торговлю его карточками. Сначала Мартин боролся с этой шумихой: в нем еще сильна была неприязнь к журналам и к буржуазному обществу. Но в конце концов он примирился — так было спокойнее. Ему неловко было отказывать в интервью корреспондентам, специально приехавшим издалека. Кроме того, с тех пор, как он перестал писать и забросил книги, дни стали тянуться невыносимо медленно и надо было чем-нибудь заполнить время. Поэтому он разрешил себе эту маленькую прихоть: беседовал с журналистами, излагал свои литературные и философские взгляды и даже принимал приглашения в богатые буржуазные дома. Он обрел вдруг необычайное спокойствие. Ничто не трогало его. Он простил всем и все — простил даже молодому репортеру, некогда изобразившему его в виде опасного социалиста, и дал ему интервью на целую полосу с приложением фотографического снимка.
Время от времени Мартин виделся с Лиззи и понимал, что она жалеет о его возвеличении. Пропасть между ними теперь стала еще больше. Может быть, в надежде перебросить мостик через эту пропасть, Лиззи согласилась на его уговоры, стала посещать вечернюю школу и курсы стенографии и сшила платье у лучшей портнихи, содравшей огромные деньги. Ее быстрые успехи заставили наконец Мартина призадуматься над тем, правильно ли он поступает. Все, что делала Лиззи, она делала ради него, и он знал это. И ей хотелось подняться в его глазах, приобрести те качества, которые, как ей казалось, он особенно ценит. А он между тем не давал ей никакой надежды, виделся с ней редко и обращался всегда только как брат с сестрой.
«Запоздалый» был выпущен издательством Мередит-Лоуэл, когда Мартин находился в зените славы, а так как это была беллетристика, то повесть имела даже больший успех, чем «Позор солнца». Обе книги Мартина занимали первое место в списке бестселлеров — факт почти небывалый. И любители занимательного чтения и серьезные читатели, поклонники «Позора солнца», зачитывались повестью, восхищались ее силою и необычайным мастерством автора. Мартин Иден только что с успехом атаковал мистицизм теоретически; теперь он и на практике доказал, что такое настоящая литература. В нем, таким образом, счастливо сочетался талант критический с талантом художественным.
Мартин, словно комета, проносился по горизонтам большой литературы. Деньги так и текли к нему, слава росла непомерно, но это скорее забавляло его, нежели радовало. Один ничтожный факт привел его в полное недоумение, и факт этот, наверное, немало удивил бы и публику. Впрочем, публика удивилась бы не самому факту, а скорее тому, что он привел Мартина в недоумение… Судья Блоунт пригласил Мартина к себе обедать! Это событие, само по себе ничтожное, должно было вскоре приобрести для Мартина огромное значение. Ведь он оскорбил судью Блоунта, разговаривал с ним непозволительным образом, а теперь судья Блоунт, встретившись с ним на улице, пригласил его обедать. Мартин вспомнил, как часто встречался он с судьею в доме Морзов и тот ни разу не подумал пригласить его обедать. «Почему же он тогда не приглашал меня?» — спрашивал себя Мартин. Ведь он ничуть не изменился. Он все тот же Мартин Иден. В чем же дело? Только в том, что его произведения теперь напечатаны? Но ведь написал он их давно. С тех пор ничего не написал. Все лучшее было создано им именно тогда, когда судья Блоунт, присоединяясь к общему мнению, высмеивал его взгляды и его увлечения Спенсером. Значит, судья Блоунт пригласил его не ради настоящих его заслуг, а ради того, что было, в сущности, только их отражением.
Мартин с улыбкой принял приглашение, сам изумляясь своей сговорчивости. За обедом, где присутствовало шесть или семь важных особ с женами и дочерьми, Мартин сразу же почувствовал себя центром внимания. Судья Блоунт, которого горячо поддержал судья Хэнуэл, просил у Мартина разрешения записать его в члены своего клуба «Стикс»: доступ туда был открыт только людям не просто богатым, но чем-либо выдающимся.
Мартин еще больше удивился, но предложение отклонил.
Он по-прежнему был занят распределением своих рукописей. Издатели положительно осаждали его письмами. Все единогласно решили, что он превосходный стилист и что под красотою формы у него скрывается богатое содержание. «Северное обозрение», напечатав «Колыбель красоты», обратилось к нему с просьбой прислать еще несколько подобных статей, и Мартин собирался уже исполнить эту просьбу, переворошив свой запас, как тут «Журнал Бэртона», войдя в азарт, предложил напечатать пять его статей с оплатой по пятьсот долларов за каждую.
Мартин написал, что согласен, но не по пятьсот, а по тысяче. Он очень хорошо помнил, что рукописи были в свое время отвергнуты теми самыми журналами, которые теперь спорили из-за них. Он помнил их равнодушные, стандартные отказы. Они немало помучили его, и теперь ему хотелось помучить их. «Журнал Бэртонг» уплатил ему назначенную цену за пять статей, а оставшиеся четыре были подхвачены на тех же условиях «Ежемесячником Макинтоша». «Северное обозрение» было слишком бедно и не могло тягаться с ними. Так увидели свет: «Жрецы чудесного», «Мечтатели», «Мерило нашего «я», «Философия иллюзий», «Бог и зверь», «Искусство и биология», «Критика и пробирки», «Звездная пыль», «Сила ростовщичества». Все эти вещи вызвали надолго шум.
Издатели просили Мартина самого назначать условия, что он охотно делал. Но печатал он только то, что было написано раньше. От всякой новой работы он категорически отказывался. Мысль снова взяться за перо казалась ему невыносимой. Он слишком хорошо помнил Бриссендена, который пал жертвой толпы, и потому он продолжал презирать и ненавидеть толпу, хотя она и рукоплескала ему. Даже популярность Мартин считал оскорблением памяти Бриссендена. Он морщился, но не отступал, твердо решив наполнить свой мешок золотом.
Неоднократно приходилось Мартину получать от издателей письма такого содержания:
«Около года тому назад мы имели несчастье отказаться от цикла ваших лирических стихотворений. Они и тогда произвели на нас огромное впечатление, но некоторые обстоятельства помешали нам в то время их использовать. Если стихи эти еще не напечатаны и вы будете настолько добры, что согласитесь прислать их нам, то мы немедленно напечатаем весь цикл, уплатив вам гонорар, который вы сами соблаговолите назначить. Мы согласны были бы издать их и отдельной книгой на выгоднейших для вас условиях».
Мартин вспомнил про свою стихотворную трагедию и послал ее вместо стихов. Перечитав это произведение перед отправкой, он был поражен его слабостью и напыщенностью. Однако он все-таки послал трагедию, а журнал напечатал, в чем потом немало раскаивался. Публика была возмущена и отказывалась верить, что прославленный Мартин Иден написал такую чушь. Стали кричать, что это грубая подделка или же Мартин Иден, подражая Дюма-отцу, поручает другим писать за себя. Но когда Мартин разъяснил, что произведение это было, что называется, грехом его литературной юности и появилось в печати только потому, что к нему очень уж приставали, поднялся общий хохот, и журналу пришлось переменить редактора. Трагедия не вышла отдельным изданием, но Мартин Иден, без всякого сострадания к издателю, оставил у себя полученный аванс.
«Еженедельник Колмэна» прислал Мартину длиннейшую телеграмму, которая обошлась по меньшей мере в триста долларов, предлагая написать двадцать очерков, по тысяче долларов за каждый. Для этого Мартин должен был за счет издательства совершить путешествие по Соединенным Штатам и выбрать темы, которые покажутся ему интересными. В телеграмме было перечислено несколько примерных тем, чтобы показать наглядно, насколько широки и разнообразны замыслы издательства. Единственное условие, которое ставилось Мартину, — писать на материале Соединенных Штатов.
Мартин в телеграмме, посланной наложенным платежом, выразил свое глубокое сожаление, что не может воспользоваться этим лестным предложением.
Повесть «Вики-Вики», напечатанная в «Ежемесячнике Уоррена», имела необычайный успех. Выпущенная вскоре отдельным роскошным изданием, она разошлась чуть ли не в несколько дней. Все критики единогласно признали, что это произведение может стать в ряд с такими классическими шедеврами, как «Дух в бутылке» и «Шагреневая кожа».
Однако сборник «Дым радости» был встречен с некоторым недоумением и даже холодком. Буржуазное общество было шокировано слишком смелой моралью и полным пренебрежением к предрассудкам. Но когда Париж положительно сошел с ума по только что выпущенному французскому переводу книги, то Англия и Америка тоже набросились на сборник, и Мартин потребовал с издательства «Синглтри, Дарнлей и К°» за третью книгу двадцать пять, а за четвертую — тридцать процентов. В эти две книги вошли все рассказы Мартина, напечатанные в различных журналах. «Колокольный звон» и все «страшные» рассказы составили первый том. Во второй том вошли: «Приключение», «Котел», «Вино жизни», «Водоворот», «Веселая улица» и еще несколько рассказов. Кроме того, вышел сборник всех его статей, а также том стихотворений, куда вошли «Песни моря» и «Сонеты о любви», — последние были предварительно напечатаны в «Спутнике женщин», заплатившем Мартину неслыханный гонорар.
Мартин вздохнул с облегчением, когда последняя рукопись была, наконец, пристроена. И тростниковый дворец и белая шхуна стали вполне досягаемы. В конце концов он все-таки опроверг мнение Бриссендена, будто ни одно истинно художественное произведение не попадает в журналы. Его собственный пример блестяще доказал, что Бриссенден ошибался. И все-таки втайне Мартин чувствовал, что друг его был прав. Ведь главной причиной его успехов был «Позор солнца», остальное пошло в ход чисто случайно. Ведь эти самые вещи много лет подряд отвергались всеми журналами. Но появление «Позора солнца» вызвало сенсацию и оживленную полемику, что создало ему имя. Не появись «Позор солнца», не возникла бы полемика; успех книги был, в сущности говоря, чудом. Это признавали даже «Синглтри, Дарнлей и К°». Они не решились на первый раз выпустить больше тысячи пятисот экземпляров; опытные издатели, они сами были изумлены успехом книги. Им этот успех действительно казался чудом. Они и впоследствии не могли отделаться от этого ощущения, и в каждом их письме сквозило благоговейное удивление перед таинственной удачей. Они и не пытались объяснить ее себе. Объяснения тут быть не могло. Уж так случилось, вот и все. Случилось вопреки всем вероятиям и расчетам.
Мартин не слишком обольщался своей популярностью. Книги его читала буржуазия, и это она набивала его мешок золотом, а Мартин знал буржуазию и не понимал, что может ее привлекать в его произведениях. Для тех сотен тысяч, которые прославляли его и нарасхват покупали его книги, красота их и смысл не имели решительно никакой ценности. Он был просто баловнем судьбы, выскочкой, который вторгся на Парнас, воспользовавшись тем, что боги зазевались. Эти сотни тысяч читают его и восхищаются им с тем же скотским непониманием, с каким они накинулись на «Эфемериду» Бриссендена и растерзали ее в клочки, — подлая стая волков, которые перед одним виляют хвостом, а другому вонзают клыки в горло. Все дело случая! Мартин по-прежнему был твердо уверен, что «Эфемерида» неизмеримо выше всего созданного им. Она была выше всего того, что он мог создать, — это была поэма, делающая эпоху. Так многого ли стоило преклонение толпы, той самой толпы, которая еще так недавно втоптала в грязь «Эфемериду»? Мартин вздохнул с облегчением и удовлетворением. Последняя рукопись продана, и скоро можно будет покончить со всем этим.
Глава сорок четвертая
Мистер Морз повстречался с Мартином в вестибюле гостиницы «Метрополь». Случайно ли он пришел туда, или он втайне надеялся встретить Мартина Идена, — Мартин склонялся в пользу второго предположения, — но, как бы то ни было, мистер Морз пригласил его обедать — мистер Морз, отец Руфи, который отказал ему от дома и расстроил его помолвку!
Мартин не рассердился. Он даже не чувствовал себя задетым. Он терпеливо выслушал мистера Морза, думая, что тому не сладко, должно быть, идти на такое унижение. Он не отклонил приглашения, но ограничился тем, что поблагодарил довольно неопределенно и справился о здоровье всей семьи, в первую очередь миссис Морз и Руфи. Мартин произнес это имя спокойно, без запинки и втайне изумился, что кровь не бросилась ему в голову, а сердце не забилось быстрее.
Приглашения сыпались со всех сторон. Искали случая познакомиться с Мартином только для того, чтобы пригласить его к обеду. И Мартин продолжал недоумевать по поводу этого ничтожного обстоятельства, которое постепенно приобретало, казалось, огромное значение. Даже Бернард Хиггинботам вдруг пригласил его. Это озадачило Мартина еще больше. Он вспоминал то время, когда он едва не умирал с голоду и никто не приглашал его обедать. А тогда ему так пригодилось бы такое приглашение, ведь он с каждым днем худел, бледнел, терял последние силы от голода! Тут был какой-то глупейший парадокс. Когда он неделями сидел без обеда, никому в голову не приходило приглашать его, а теперь, когда у него хватило бы денег на сто тысяч обедов и к тому же он вовсе потерял аппетит, его звали обедать направо и налево. Почему? В том не было ни справедливости, ни его заслуги. Он остался тем же Мартином Иденом. Все его произведения были написаны давным-давно, в те голодные дни, когда мистер и миссис Морз называли его лентяем и бездельником и через Руфь предлагали ему поступить клерком в контору. А ведь они и тогда знали о его работе. Руфь показывала им каждую рукопись, которую он давал ей читать. И они сами читали эти рукописи. А теперь благодаря тем же самым произведениям его имя попало в газеты, и благодаря тому, что его имя попало в газеты, он стал для них желанным гостем.
Одно было совершенно очевидно: Морзам не было никакого дела ни до самого Мартина Идена, ни до его творчества. И если они искали его общества, то не ради него самого и не ради его произведений, а ради славы, которая теперь окружила ореолом его имя, — а может быть, и ради тех ста тысяч долларов, которые лежали у него на текущем счету в банке. Что ж, это была обычная оценка человека в буржуазном обществе, и странно было бы ожидать от этих людей другого. Но Мартин был горд. Ему не нужно было такой оценки. Он хотел, чтобы ценили его самого или его творчество, что было, в сущности, одно и то же. Так именно ценила его Лиззи. Даже его произведения не имели для нее особого значения; все дело было в нем самом. Так же относился к нему и Джимми и вся его старая компания. Они не раз доказывали ему свою бескорыстную преданность в былые дни, доказали ее и теперь, на воскресном гулянье в Шелл-Моунд-парке. На все его писания им было наплевать. Они любили его, Марта Идена, славного малого и своего парня, и за него были готовы пойти в огонь и в воду.
Иное дело — Руфь. Она полюбила его ради него самого, это было вне всякого сомнения. Но как ни дорог был он ей, буржуазные, предрассудки оказались сильнее. Она не одобряла его занятий главным образом потому, что они не приносили ему дохода. С этой точки зрения она оценила его «Сонеты о любви». И она тоже требовала, чтобы он поступил на службу. Правда, на ее языке это называлось «занять положение», но ведь сущность от этого не меняется, а слово «служба» было для Мартина более привычным. Мартин читал ей все свои вещи: читал поэмы, рассказы, статьи, «Вики-Вики», «Позор солнца», — все. А она с неизменным упорством советовала ему поступить на службу, найти себе работу. Всемогущий боже! Как будто он не работал, как вол, лишая себя сна, перенапрягая силы только для того, чтобы стать, наконец, достойным ее!
Так ничтожное обстоятельство превращалось в большое и значительное. Мартин чувствовал себя здоровым и бодрым, ел вовремя, спал вволю, но ничтожное обстоятельство не давало ему покоя. Давным давно! Эта мысль сверлила его мозг. Сидя напротив Бернарда Хиггинботама за одним из воскресных обедов, Мартин едва удерживался, чтобы не закричать:
«Ведь все это было написано давным-давно! Вот ты теперь угощаешь меня, а когда- то предоставлял мне умирать с голоду, отказывал от дома, знать меня не хотел только за то, что я не шел служить. А все мои вещи уже тогда были написаны. Теперь, когда я говорю, ты почтительно молчишь, не спускаешь с меня благоговейного взора, ловишь каждое мое слово. Я говорю тебе, что твоя партия состоит из взяточников и проходимцев, а ты, вместо того чтобы возмутиться, сочувственно киваешь головой и чуть ли не поддакиваешь мне. А почему? Потому что я знаменит! Потому что у меня много денег! А вовсе не потому, что я Мартин Иден, славный малый и не совсем дурак! Если бы я сказал, что луна сделана из зеленого сыра, ты немедленно согласился бы с этим, во всяком случае, не стал бы противоречить, потому что у меня есть груда золота. А ведь работа, за которую я их получил, была сделана давным-давно, в те самые дни, когда ты не ставил меня ни в грош и плевал на меня».
Но Мартин не выкрикнул этого. Тоска грызла его, но с губ не сходила терпеливая улыбка. Видя, что он молчит, Хиггинботам заговорил. Он, Бернард Хиггинботам, добился всего сам и гордится этим. Никто не помогал ему, и он никому не обязан. Он добропорядочный гражданин, содержит большую семью. А эта лавка, «Розничная торговля Хиггинботама» — венец его усилий и добродетелей. Он любил «Розничную торговлю Хиггинботама», как иной муж любит свою жену. Он разоткровенничался с Мартином, стал рассказывать, чего ему стоило оборудовать лавку и поставить дело. А кроме того, у него есть планы, широкие планы. Население в квартале увеличивается. Лавка не может обслуживать всех. Будь у него побольше помещение, он мог бы ввести некоторые новшества и увеличить доход. И он это сделает, но прежде всего ему необходимо купить соседний участок и построить еще один двухэтажный дом. Верхний этаж он будет сдавать, а нижний присоединит к лавке. Даже глаза у него заблестели, когда он заговорил о новой вывеске, которая протянется по фасаду обоих домов.
Мартин почти не слушал. Слова «давным-давно» продолжали звенеть у него в ушах. Этот припев положительно сводил его с ума, необходимо было от него отделаться
— Сколько, ты сказал, это должно стоить? — спросил он вдруг.
Зять прервал свои разглагольствования о коммерческих перспективах квартала и выпучил на него глаза. Он вовсе и не говорил о том, сколько это будет стоить, но если Мартину интересно, он может сказать. У него все высчитано.
— По теперешним ценам, — сказал он, — это обошлось бы тысячи в четыре.
— Включая вывеску?
— Вывески я не считал. Был бы дом, а вывеска будет!
— А земля?
— Еще тысячи три.
Облизывая пересохшие губы и нервно шевеля пальцами, смотрел Бернард Хиггинботам, как Мартин писал чек. Написав, Мартин передал его Хиггинботаму. Чек был на семь тысяч долларов.
— Я… я могу предложить тебе не более шести процентов, — пробормотал Хиггинботам хриплым от волнения голосом.
Мартин хотел рассмеяться, но вместо этого спросил:
— А сколько это будет?
— А вот сейчас подсчитаем. Шесть процентов… Шестью семь — четыреста двадцать.
— Значит, в месяц придется тридцать пять долларов?
Хиггинботам кивнул утвердительно.
— Ну-с, если ты не возражаешь, то мы сделаем так. — Мартин при этих словах взглянул на Гертруду. — Можешь оставить себе основную сумму безвозвратно, но с условием тратить тридцать пять долларов в месяц на кухарку и прачку. Одним словом, семь тысяч твои, если ты гарантируешь мне, что Гертруда не будет больше делать всю грязную работу в доме. Согласен?
Мистер Хиггинботам с шумом перевел дух. Требование, чтобы его жена не занималась черным трудом, показалось ему оскорбительным. Великолепный подарок был только средством позолотить пилюлю, и горькую пилюлю! Чтобы жена не работала! Это его взбесило.
— Как хочешь, — сказал Мартин. — Тогда эти тридцать пять долларов в месяц буду платить я, но…
Он потянулся за чеком, но Бернард Хиггинботам поспешно накрыл его рукой и воскликнул:
— Я согласен! Согласен!
Садясь в трамвай, Мартин чувствовал усталость и отвращение. Он оглянулся на крикливую вывеску. «Свинья, — пробормотал он, — какая свинья!»
Когда в «Журнале Макинтоша» появилась «Гадалка», украшенная рисунками первоклассных художников, то Герман Шмидт вдруг забыл, что он назвал некогда это стихотворение непристойным. Он рассказывал всем и каждому, что стихотворение было написано в честь его жены, и постарался, чтобы слух этот не миновал ушей газетного репортера. Репортер не замедлил явиться в сопровождении фотографа и зарисовщика. В результате на одной из страниц воскресного приложения появился значительно приукрашенный портрет Мэриен, множество интимных подробностей из жизни Мартина Идена и его семьи и с полным текстом «Гадалки», перепечатанным с особого разрешения журнала. Это произвело фурор во всей округе, и окрестные домохозяйки гордились знакомством с сестрой великого писателя, а те, которые до сих пор не удостоились такого знакомства, торопились восполнить этот пробел. Герман Шмидт довольно потирал руки и даже заказал новый станок для мастерской.
— Это лучше всякой рекламы, — говорил он, — и денег не стоит.
— Надо бы пригласить его обедать, — предложила Мэриен.
Мартин пришел к обеду и старался быть любезным с жирным мясоторговцем-оптовиком и с его еще более жирной супругой, — это были важные люди и могли оказаться очень полезными молодому человеку, пробивающему себе дорогу, каким был, например, Герман Шмидт. Конечно, они бы никогда не удостоили последнего визитом, если бы им не обещали, что на обеде будет присутствовать знаменитый писатель. На ту же приманку попался и главный управляющий агентством Тихоокеанской велосипедной компании. Герман Шмидт заискивал перед ним, так как надеялся получить от него представительство в Окленде. Одним словом, Герман готов был занести родство с Мартином Иденом в свой жизненный актив, но в глубине души он решительно не понимал, как все это случилось. Очень часто середь ночи он вставал и, стараясь не разбудить жену, читал сочинения Мартина, и всякий раз убеждался, что только дураки могут платить за них деньги.
Мартин отлично понимал, что думал о нем свойственник; откинувшись на спинку стула и рассматривая Германа Шмидта, он мысленно награждал его здоровыми подзатыльниками — ах, самодовольная немецкая рожа! И все-таки кое-что Мартину в нем нравилось. Как он ни был беден, как ни хотел поскорее разбогатеть, он все же нанимал служанку, чтобы облегчить Мэриен домашнюю работу. Переговорив после обеда с управляющим велосипедной компании, Мартин отозвал Германа в сторону и предложил финансировать оборудование лучшего в Окленде магазина по продаже велосипедов и принадлежностей к ним. Он до того расщедрился, что велел Герману присмотреть заодно гараж и автомобильную мастерскую, так как Герман, несомненно, отлично справится и с двумя предприятиями.
Обняв Мартина со слезами на глазах, Мэриен на прощание шепнула ему о том, как она его любит и как всегда любила. Правда, при последних словах она слегка запнулась, слезы и поцелуи стали обильнее, и Мартин понял, что она просит прощения за то, что когда-то сомневалась в нем и убеждала поступить на службу.
— Ну, у него деньги долго не удержатся, — сказал вечером жене Герман Шмидт. — Он так и вскипел, когда я заговорил о процентах! Знаешь, что он мне сказал? Ему и капитала не нужно, не то что процентов. И если я еще раз заговорю об этом, он расшибет мою немецкую башку. Так и сказал: «немецкую башку». Но он все-таки молодец, хотя и не деловой человек. А главное — он здорово выручил меня!
Приглашения к обеду сыпались со всех сторон, и чем больше их было, тем больше недоумевал Мартин. Он был почетным гостем на банкете одного старейшего клуба, сидел в окружении людей, о которых слыхал и читал почти всю свою жизнь. Эти люди говорили ему, что, прочитав в «Трансконтинентальном ежемесячнике» «Колокольный звон», а в «Шершне» «Пери и жемчуг», они сразу поняли, что появился великий писатель. «Боже мой, — думал Мартин, — а я голодал и ходил оборванцем! Почему они меня в то время ни разу не пригласили обедать? Тогда это пришлось бы кстати. Ведь обе вещи написаны давным-давно. Если вы теперь кормите меня обедами за то, что я сделал прежде, то почему вы не кормили меня тогда, когда я действительно в этом нуждался? Ведь ни в «Колокольном звоне», ни в «Пери и жемчуге» я не изменил ни одного слова. Нет, вы меня угощаете вовсе не за мою работу, а потому, что меня угощают все, и потому, что угощать меня почитается теперь за честь. Вы меня угощаете потому, что вы животные, стадные животные! Потому, что вы повинуетесь слепому и тупому стадному чувству, а это чувство сейчас подсказывает одно: надо угостить обедом Мартина Идена. Но никому из вас нет дела ни до самого Мартина Идена, ни до его работы», — печально говорил он себе и вставал, чтобы остроумно и эффектно ответить на остроумный и эффектный тост.
И так было везде. Где бы он ни был: в фешенебельных клубах, в светских гостиных и на литературных вечерах, — всюду ему говорили одно и то же, когда вышли из печати «Колокольный звон» и «Пери и жемчуг», сразу стало ясно, что появился великий писатель. И всегда в глубине души Мартина копошился все тот же неотвязный вопрос: «Почему же вы меня тогда не кормили обедами? Ведь эти вещи написаны давным-давно. «Колокольный звон», «Пери и жемчуг» не изменились ни на йоту. Они тогда были так же хороши, так же мастерски написаны, как и теперь. Но вы угощаете меня не за эти и не за другие мои произведения. Вы меня угощаете потому, что это теперь в моде, потому что все стадо помешалось на одном: угощать Мартина Идена».
И часто в такие минуты среди блестящего общества перед ним вдруг вырастал гуляка-парень в двубортной куртке и надвинутом стетсоне. Так случилось однажды в Окленде, на литературном утреннике в дамском клубе. Выходя на эстраду, Мартин вдруг увидел вдали, в глубине зала, гуляку-парня в знакомой куртке и шляпе. Пятьсот разодетых дам разом оглянулись, чтобы посмотреть, на что устремил свой пристальный взгляд Мартин Иден. Но они ничего не увидели в пустом проходе. А Мартин смотрел и думал, догадается ли парень снять шляпу, которая словно приросла к его голове. Призрак направился к эстраде и взошел на нее. Мартин чуть не расплакался от тоски, глядя на тень своей юности, думая о том, чем он мог стать и чем стал. Призрак прошел по эстраде, подошел вплотную к Мартину и исчез, словно растворился в нем. Все пятьсот дам зааплодировали своими изящными, затянутыми в перчатки ручками. Они хотели подбодрить знаменитого гостя, вдруг проявившего такую застенчивость. Мартин усилием воли отогнал от себя видение, улыбнулся и начал говорить.
Директор школы, почтенный добродушный человек, встретив однажды Мартина на улице, напомнил ему, какие сцены происходили в его канцелярии, когда Мартина выгнали из школы за буйство и драки.
— Я читал ваш «Колокольный звон», — сказал он, — еще когда он первый раз был напечатан. Прекрасно! Это не хуже Эдгара По! Я тогда, прочтя, сказал: прекрасно!
«Да? А вы в ту пору два раза встретились со мною на улице и даже не узнали меня, — чуть-чуть не сказал Мартин. — Оба раза я, голодный, бежал закладывать свой единственный костюм! Вы меня не узнавали! А все мои вещи были написаны уже тогда. Почему же вы теперь узнали меня?»
— Я как раз на днях говорил жене, что было бы очень хорошо, если бы вы пришли к нам обедать, — продолжал директор, — и она очень просила меня пригласить вас. Да, очень, очень просила.
— Обедать! — неожиданно резко выкрикнул Мартин.
— Да… да… обедать, — забормотал тот растерянно, — запросто, знаете… со старым учителем… Ах вы плут этакий! — Он похлопал Мартина по плечу, стараясь скрыть робость под шутливой фамильярностью.
Мартин сделал несколько шагов, остановился и поглядел вслед старику.
— Черт знает что! — пробормотал он. — Я, кажется, здорово напугал его!
Глава сорок пятая
Однажды к Мартину пришел Крейс — тот самый Крейс, из числа «настоящих людей». Мартин искренне обрадовался ему и выслушал проект необычайного по фантастичности предприятия, которое могло заинтересовать его как писателя, но отнюдь не как финансиста. Посреди изложения проекта Крейс вдруг заговорил о «Позоре солнца» и сказал, что это бред сумасшедшего.
— Впрочем, я пришел сюда не философствовать, — прервал он сам себя. — Все, что я хочу знать, это — вложите вы тысячу долларов в мое предприятие или нет?
— Нет, для этого я недостаточно сумасшедший, — сказал Мартин, — но я сделаю другое. Вы дали мне возможность провести интереснейший вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего нельзя купить ни за какие деньги. Теперь деньги для меня ничего не значат. Я с удовольствием дам вам тысячу долларов просто так, в благодарность за тот незабываемый вечер. Вам нужны деньги, а у меня их слишком много. Вы хотите их получить? Не нужно никаких ухищрений. Получайте!
Крейс не проявил ни малейшего удивления. Он взял чек и сунул в карман.
— На таких условиях я готов вам устраивать подобные вечера каждую неделю.
— Слишком поздно, — покачал головой Мартин, — это был для меня первый и последний такой вечер. Я словно очутился в другом мире. Для вас там не было ничего особенного, я знаю. Но для меня все было особенное, это уже не повторится. Я покончил с философией. Я больше не желаю о ней слышать.
— Первый раз в жизни я нажил деньги на философии, — заметил Крейс, направляясь к двери, — и то акции сразу упали.
Однажды на улице мимо Мартина проехала в коляске миссис Морз и с улыбкой кивнула ему. Он тоже улыбнулся и снял шляпу. Случай этот не произвел на него никакого впечатления. Еще месяц тому назад ему стало бы неприятно, а может быть, смешно, и он постарался бы представить, что чувствовала при этом миссис Морз. Но теперь эта встреча прошла мимо его сознания. Он сейчас же забыл о ней, как забыл бы, например, о том, что проходил мимо здания центрального банка или ратуши. А между тем в его мозгу шла непрерывная сверхнапряженная работа. Все та же неотступная мысль сверлила его: «давным-давно». С этой мыслью Мартин просыпался по утрам, эта мысль преследовала его во сне.
Все, что он видел, слышал, чувствовал, тотчас же связывалось в его сознании с этим «давным-давно». Логически рассуждая, Мартин пришел к беспощадному выводу, что теперь он никто, ничто. Март Иден-гуляка и Март Иден-моряк были реальными лицами, они существовали на самом деле. Но Мартин Иден — великий писатель никогда не существовал. Мартин Иден — великий писатель был измышлением толпы, и толпа воплотила его в телесной оболочке Марта Идена, гуляки и моряка. Но он-то знал, что это все обман. Он совсем не был тем легендарным героем, перед которым преклонялась толпа, изощряясь в служении его желудку. Ему-то было виднее.
Мартин читал о себе в журналах, рассматривал свои портреты, которые постоянно печатались в них, и не узнавал себя. Это он вырос в рабочем предместье, жил, любил и радовался жизни. Это он хорошо относился к людям и с легким сердцем встречал превратности судьбы. Это он странствовал по чужим краям, стоял на вахте в любую погоду и предводительствовал шайкой таких же, как он, сорванцов. Это он был ошеломлен и подавлен бесконечными рядами книг, когда впервые пришел в библиотеку, а потом прочел эти книги и научился понимать их. Это он до глубокой ночи не гасил лампы, клал гвозди в постель, чтобы не спать, и сам писал книги. Но тот ненасытный обжора, которого люди наперерыв спешили теперь накормить, был не он.
Некоторые вещи все же забавляли его. Все журналы оспаривали честь открытия Мартина Идена. «Ежемесячник Уоррена» уверял своих подписчиков, что, постоянно ища новых талантов, он первый набрел на Мартина Идена. «Белая мышь» приписывала эту заслугу себе; то же делали «Северное обозрение» и «Журнал Макинтоша», пока, наконец, не выступил «Глобус» и не указал с торжеством на изувеченные «Песни моря», которые впервые были напечатаны на его страницах. Журнал «Юность и зрелость», который, ухитрившись отделаться от кредиторов, снова начал выходить, тоже предъявил свои права на Мартина Идена. Впрочем, кроме фермерских ребятишек, никто этого журнала не читал. «Трансконтинентальный ежемесячник» опубликовал статью, в которой рассказывалось, как журнал открыл знаменитого автора. Редакция «Шершня» выступила с горячим опровержением, ссылаясь на то, что именно она напечатала «Пери и жемчуг». Скромный голос «Синглтри, Дарнлея и К°» вовсе не был слышен за шумом. У издательства не было своего журнала, в котором оно могло бы громко заявить о своих правах.
Газеты подсчитывали гонорары Мартина. Каким-то образом щедрые условия, предложенные ему некоторыми журналами, сделались достоянием гласности; оклендские проповедники взывали к его милосердию, а разные мелкие вымогатели осаждали его устными и письменными просьбами. Но хуже всего были женщины. Фотографии Мартина Идена расходились по всей стране, а репортеры старались поярче расписать его «бронзовое лицо», «могучие плечи», «ясный, спокойный взгляд», «впалые щеки аскета». Эти «щеки аскета» особенно рассмешили Мартина, когда он припомнил бурные годы своей юности. Очень часто, бывая в обществе женщин, он ловил их красноречивые, оценивающие, одобряющие взгляды. Мартин смеялся, вспоминая предостережения Бриссендена. Нет, женщины не причинят ему страданий. С этим покончено.
Однажды, когда Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, Лиззи перехватила взгляд, брошенный на него проходившей мимо красивой, хорошо одетой дамой. Этот взгляд был чуть-чуть более пристальным, чуть-чуть дольше на нем задержался, чем положено, и Лиззи затрепетала от гнева, так как сразу поняла, что значит этот взгляд. Мартин, узнав причину ее гнева, сказал ей, что он давно привык уже к таким взглядам и они его не трогают.
— Этого быть не может! — вскричала она, сверкнув глазами. — Значит, вы больны!
— Я здоров, как никогда. Даже прибавился в весе на пять фунтов.
— Я не говорю, что вы телом больны; я говорю про вашу душу. У вас внутри что-то неладно! Я и то вижу! А что я такое!
Мартин задумчиво шел рядом.
— Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло! — воскликнула она вдруг. — Не может этого быть, чтобы такого мужчину, как вы, не трогало, когда женщины на него так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась наконец женщина, которая расшевелила бы вас.
Проводив Лиззи, Мартин вернулся в «Метрополь».
Он сидел в кресле, уставясь перед собой, не двигаясь и ни о чем не думая. Только время от времени в памяти вдруг возникали какие-то видения далекого прошлого. Он созерцал эти видения без участия мысли, как бывает во сне. Но он не спал. Вдруг он встрепенулся и посмотрел на часы. Было ровно восемь. Делать было нечего, а ложиться спать рано. И опять мысли его смешались, и видения опять поплыли перед ним, сменяя друг друга. Ничего примечательного в этих видениях не было. Постоянно повторялся один образ: густая листва, пронизанная солнечными лучами.
Стук в дверь заставил его очнуться. Он не спал, и стук тотчас вызвал в его мозгу представление о телеграмме, письме, слуге, принесшем белье из прачечной. Ему почему-то вспомнился Джо, и, спрашивая себя, где сейчас может быть Джо, Мартин крикнул:
— Войдите!
Продолжая думать о Джо, он даже не оглянулся на дверь. Она тихо отворилась, но Мартин словно забыл о стуке и по-прежнему смотрел в пространство невидящим взглядом. Вдруг сзади явственно послышалось короткое подавленное женское рыдание. Мартин мгновенно вскочил на ноги.
— Руфь! — воскликнул он с удивлением и почти с испугом.
Лицо ее было бледно и печально. Она стояла на пороге, одной рукой держалась за дверь, а другую прижимала к груди. Потом она с мольбой протянула обе руки к нему и шагнула вперед. Усаживая Руфь в кресло, Мартин заметил, как холодны ее пальцы. Себе он подвинул другое кресло и присел на ручку. От смятения он не мог говорить. Роман с Руфью был давно уже похоронен в его сердце. Он испытывал такое же чувство, как если бы вдруг на месте отеля «Метрополь» оказалась прачечная «Горячих Ключей» с кучей белья, скопившегося за неделю. Несколько раз он хотел заговорить, но никак не мог решиться.
— Никто не знает, что я здесь, — сказала Руфь тихо, с молящей улыбкой.
— Что вы сказали? — спросил он.
Его удивил звук собственного голоса. Руфь повторила свои слова.
— О! — сказал он; это было все, что он нашелся сказать.
— Я видела, как вы вошли в гостиницу; я подождала немного и вошла тоже.
— О! — повторил он.
Никогда еще язык его не был таким скованным. Положительно все мысли сразу выскочили у него из головы. Он чувствовал, что молчание начинает становиться неловким, но даже под угрозой смерти он не мог придумать, с чего начать разговор. Уж лучше бы в самом деле он очутился в прачечной «Горячих Ключей», — он бы молча засучил рукава и принялся за работу.
— Значит, немного подождали и вошли, — наконец проговорил он.
Руфь кивнула головой с некоторым лукавством и развязала на груди шарф.
— Я сначала видела вас на улице с той девушкой…
— Да, — сказал он просто, — я провожал ее в вечернюю школу.
— Разве вы не рады меня видеть? — спросила она после новой паузы.
— Рад, конечно, рад, — отвечал он поспешно, — но благоразумно ли, что вы пришли сюда одна?
— Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что понимаю, как я была глупа. Я пришла, потому что я не могла больше, потому что мое сердце приказывало мне прийти… потому что я хотела прийти!
Руфь встала и подошла к Мартину. Она положила ему руку на плечо и мгновение стояла так, глубоко и часто дыша, потом быстрым движением склонилась к нему. Добрый и отзывчивый по природе, Мартин понял, что оттолкнуть ее невозможно, что, не ответив на ее порыв, он оскорбит ее так глубоко, как только может мужчина оскорбить женщину. Он обнял ее, но в его объятиях не было ни теплоты, ни ласки. Он просто обхватил ее руками, и все. Она торопливо прижалась к нему, и ладони ее легли ему на шею, но от этого прикосновения горячая волна не прошла по его телу, как бывало прежде, и ему было неловко и стыдно.
— Почему вы так дрожите? — спросил он. — Вам холодно? Не затопить ли камин?
Мартин сделал движение, как бы желая освободиться, но она еще крепче прильнула к нему.
— Это нервное, — отвечала она, стуча зубами, — сейчас все пройдет. Мне уже лучше.
Ее дрожь мало-помалу унялась. Он продолжал держать ее в объятиях, но больше не удивлялся. Он уже знал, для чего она пришла.
— Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хэпгуда, — объявила она.
— Чарли Хэпгуд? Это тот молодой человек, который всегда говорит пошлости? — пробормотал Мартин. Помолчав, он прибавил: — А теперь ваша мама хочет, чтобы вы вышли за меня.
Он сказал это без вопросительной интонации. Он сказал это совершенно уверенно, и перед его глазами заплясали многозначные цифры полученных им гонораров.
— Мама не будет теперь противиться, — сказала Руфь.
— Она считает меня подходящим мужем для вас? Руфь наклонила голову.
— А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расторгла нашу помолвку, — задумчиво проговорил он. — Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я даже стал хуже, я теперь опять курю. Вы чувствуете, как от меня пахнет дымом?
Вместо ответа она кокетливо приложила ладонь к его губам, ожидая привычного поцелуя. Но губы Мартина не шевелились. Он подождал, пока Руфь опустила руку, и потом продолжал:
— Я не переменился. Я не поступил на службу. Я и не ищу службы и даже не намерен ее искать. И я по-прежнему утверждаю, что Герберт Спенсер — великий и благородный человек, а судья Блоунт — пошлый осел. Я вчера обедал у него, так что имел случай убедиться еще раз.
— А почему вы не приняли папиного приглашения? — укоризненно спросила Руфь.
— Откуда вы знаете? Кто подослал его? Ваша мать?
Руфь молчала.
— Ну, конечно, она! Я так и думал. Да и вы теперь, наверно, пришли по ее настоянию.
— Никто не знает, что я здесь, — горячо возразила Руфь. — Неужели вы думаете, что моя мать позволила бы мне такую вещь?
— Ну, что она позволила бы вам выйти за меня замуж, в этом я не сомневаюсь.
Руфь жалобно вскрикнула:
— О Мартин, не будьте жестоким! Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. Только подумайте, на что я решилась! — Она оглянулась со страхом, но в то же время с любопытством. — Подумайте, куда я пришла!
«Я с радостью умерла бы за вас! Умерла бы за вас!» — вспомнились ему слова Лиззи.
— Отчего же вы раньше на это не решились? — спросил он сурово. — Когда я жил в каморке. Когда я голодал. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом — и как человек и как писатель. Этот вопрос я очень часто задаю себе последнее время, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Вы видите, я не переменился, хотя мое внезапное возвышение заставляет подчас меня самого сомневаться в этом. Но я тот же! У меня та же голова, плечи, те же десять пальцев на руках и на ногах. Никакими новыми талантами или добродетелями я не могу похвалиться. Мой мозг остался таким же, как был. У меня даже не появилось никаких новых литературных или философских взглядов. Ценность моей личности не увеличилась с тех пор, как я жил безвестным и одиноким. Так почему же теперь я вдруг стал всюду желанным гостем? Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, — потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели, значит, они ценят во мне нечто другое, что вовсе не относится к моим личным качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится? То, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня. Оно существует в чужих умах. Кроме того, меня уважают за деньги, которые у меня теперь есть. Но и деньги эти тоже вне меня. Они лежат в банках, в карманах всяких Джонов, Томов и Джеков. Так что же, вам я тоже стал нужен из-за этого, из-за славы и денег?
— Вы разбиваете мне сердце, — простонала Руфь. — Вы знаете, что я люблю вас, что я пришла сюда только потому, что люблю вас!
— Я боюсь, что вы меня не совсем поняли, — мягко заметил Мартин. — Скажите мне вот что: почему вы любите меня теперь сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?
— Простите и забудьте! — пылко вскричала она. — Я все время любила вас! Слышите: все время! Вот почему я здесь, в ваших объятиях.
— Я теперь стал очень недоверчив, все словно взвешиваю на весах. Вот и вашу любовь я хочу взвесить и узнать, что это такое.
Руфь освободилась из его объятий, выпрямилась и внимательно посмотрела на него. Она хотела что-то сказать, но промолчала.
— Хотите знать, что я об этом думаю? — продолжал он. — Когда я уже стал тем, что я есть теперь, никто не хотел знать меня, кроме людей моего класса. Когда книги мои были уже написаны, никто из читавших рукописи не сказал мне ни единого слова одобрения. Наоборот, меня бранили за то, что я вообще пишу, как будто я занимался чем-то постыдным по меньшей мере. Все твердили только одно: «Иди работать».
Руфь сделала протестующее движение.
— Да, да, — продолжал он, — только вы говорили не о работе, а о положении в обществе. Слово «работа», так же как и то, что я писал, не нравилось вам. Оно, правда, грубовато! Но, уверяю вас, еще грубее было, с моей точки зрения, то, что все убеждали меня идти работать, словно хотели наставить на путь истинный какого-то закоренелого преступника. И что же? Появление моих книг в печати и признание публики вызвали перемену в ваших чувствах. Тогда вы отказались выйти замуж за Мартина Идена, хотя все его произведения уже были написаны. Ваша любовь к нему была недостаточно сильна, и вы не решились стать его женой! А теперь ваша любовь оказалась достаточно сильна, и, очевидно, объяснения этому удивительному факту надо искать именно в пришедшей ко мне славе. О моих доходах в данном случае я не говорю, вы, может быть, не думали о них, хотя для ваших родителей, вероятно, это главное.
Все это не слишком для меня лестно! Но хуже всего, что это заставляет меня усомниться в любви, в священной любви! Неужели любовь должна питаться славой и признанием толпы? Очевидно, да! Я так много думал об этом, что у меня наконец голова закружилась.
— Бедная голова! — Руфь нежно провела рукой по его волосам. — Пусть она больше не кружится. Начнем сначала, Мартин! Я знаю, что проявила слабость, уступив настояниям мамы. Я не должна была уступать. Но ведь вы так часто говорили о снисхождении к человеческим слабостям. Будьте же ко мне снисходительны. Я совершила ошибку. Простите меня!
— О, я прощаю! — воскликнул он нетерпеливо. — Легко простить, когда нечего прощать! Ваш поступок не нуждается в прощении. Каждый поступает, как ему кажется лучше. Ведь не стану же я просить у вас прощения за то, что не захотел поступать на службу.
— Я ведь желала вам добра, — возразила она с живостью. — Я не могла не желать вам добра, раз я любила вас!
— Верно, но вы чуть не погубили меня, желая мне добра. Да, да! Чуть не погубили мое творчество, мое будущее! Я по натуре реалист, а буржуазная культура не выносит реализма. Буржуазия труслива. Она боится жизни. И вы хотели и меня заставить бояться жизни. Вы стремились запереть меня в тесную клетку, навязать мне неверный, ограниченный, пошлый взгляд на жизнь. — Она хотела возразить, но он остановил ее жестом. — Пошлость — пусть вполне искренняя, но все же пошлость есть основа буржуазной культуры, буржуазной утонченной цивилизации. А вы хотели вытравить из меня живую душу, сделать меня одним из своих, внушить мне ваши классовые идеалы, классовую мораль, классовые предрассудки.
Он печально покачал головой.
— Вы и теперь меня не понимаете. Вы придаете моим словам совсем не тот смысл, который я в них вкладываю. Для вас все, что я говорю, — чистая фантазия. А для меня это реальность. В лучшем случае вас забавляет и изумляет, что вот неотесанный малый, вылезший из грязи, из низов, осмеливается критиковать ваш класс и называть его пошлым.
Руфь устало прислонилась головой к его плечу, и ее опять охватила нервная дрожь. Он выждал минуту, не заговорит ли она, и затем продолжал:
— А теперь вы хотите возродить нашу любовь! Вы хотите, чтобы мы стали мужем и женой. Вы хотите меня! А ведь могло случиться так — постарайтесь понять меня, — могло случиться, что мои книги не увидели бы света и не заслужили бы признания, и тем не менее я был бы тем, что я есть! Но вы бы никогда не пришли ко мне! Только эти книги… чтоб их черт…
— Не бранитесь, — прервала она его. Мартин язвительно рассмеялся.
— Вот, вот! — сказал он. — В тот миг, когда на карту поставлено все счастье вашей жизни, вы боитесь услышать грубое слово. Вы по-прежнему боитесь жизни.
Руфь вздрогнула при этих словах, как бы обесценивавших ее решимость прийти сюда; ей казалось, что Мартин несправедлив к ней, и она почувствовала обиду.
Некоторое время они сидели молча: она — мучительно соображая, что ей делать; а он — раздумывая о своей ушедшей любви. Он теперь ясно понял, что никогда не любил Руфь на самом деле. Он любил некую идеальную Руфь, небесное существо, созданное его воображением, светлый и лучезарный образ, вдохновлявший его поэзию. Настоящую Руфь, буржуазную девушку с буржуазной психологией и ограниченным буржуазным кругозором, он не любил никогда.
Внезапно она заговорила:
— Я признаю, что многое из того, что вы говорите, верно. Я действительно боялась жизни. Я недостаточно сильно любила вас. Но теперь я научилась сильнее любить. Я люблю вас за то, что вы есть, за то, чем вы были, за то, что вас сделало таким, какой вы есть. Я люблю вас за все то, чем вы отличаетесь от людей моего класса. Пусть ваши взгляды иногда непонятны мне. Я научусь их понимать. Я сделаю все, чтобы научиться их понимать! Ваше курение, ваша брань — все это часть вашего существа, и я люблю вас и за это. Я многому научусь. За последние десять минут я уже многому научилась. Разве когда-нибудь раньше я решилась бы прийти сюда к вам? О Мартин!
Руфь заплакала, спрятав лицо у него на груди. Он ласково обнял ее, первый раз за весь вечер. Она почувствовала это и подняла на него просиявшие глаза.
— Слишком поздно, — сказал он. Он вспомнил слова Лиззи. — Я болен, Руфь… Нет, не телом. Душа у меня больна, мозг. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому назад, все могло быть по-другому. Но теперь уже поздно, слишком поздно
— Нет, не поздно! — вскричала она. — Я докажу вам это. Я докажу, что моя любовь теперь крепка, что она мне дороже всего, что мне до сих пор было дорого в жизни. Я готова отречься от всего, чему поклоняется буржуазия. Я больше не боюсь жизни. Я покину отца и мать, отдам свое имя на поношение. Я готова остаться с вами здесь, сейчас же, и пусть это будет свободный союз любви, если вы хотите, и я сумею найти в этом гордость и радость. Если я раньше изменила своей любви, сейчас я готова ради любви изменить всему, что тогда толкнуло меня на измену.
Руфь стояла перед Мартином, глаза ее сверкали.
— Я жду! — прошептала она. — Я жду, Мартин, чтобы вы сказали «да». Взгляните на меня.
«Как это прекрасно, — думал он, глядя на нее, — она искупила свои прежние ошибки, она сделалась настоящей женщиной, сорвала с себя наконец железные цепи буржуазных условностей. Все это прекрасно, великолепно, благородно… Но что же такое со мной?»
Ее решимость не взволновала, не потрясла его. Он только умом отдавал ей должное. Вместо пожара — холодное одобрение. Сердце его не забилось сильнее, желание не загорелось в крови. Ему снова вспомнились слова Лиззи.
— Я болен, очень болен, — сказал Мартин, безнадежно махнув рукой. — Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то во мне ушло. Я никогда не боялся жизни, но не мог себе представить, что потеряю вкус к ней. А теперь я оказался пресыщен жизнью. У меня не осталось никаких желаний. Я даже вас не хочу! Видите, как я болен.
Он откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза; и подобно тому, как плачущий ребенок сразу забывает все свои горести, глядя на солнце сквозь радужную завесу слез, так забыл Мартин и болезнь, и присутствие Руфи, и все на свете, созерцая внезапно возникшее видение — густую листву, пронизанную солнечными лучами. Она была слишком зелена и слепила глаза, эта листва. Ему было больно смотреть на нее, но он, сам не зная почему, смотрел.
Скрип дверной ручки заставил его опомниться. Руфь стояла у двери.
— Как мне выйти отсюда? — жалобно спросила она. — Я боюсь.
— О, простите меня! — вскричал он, вскакивая. — Я сам не знаю, что со мною! Я забыл, что вы здесь.
Он провел рукою по лбу.
— Вы видите, я совсем нездоров. Я вас провожу домой. Мы можем пройти черным ходом. Никто не заметит. Только опустите вуаль.
Руфь крепко держалась за его руку, пока они шли по узким коридорам и полутемным лестницам.
— Ну, теперь я в безопасности, — сказала она, выйдя на улицу, и хотела высвободить руку.
— Я провожу вас до дому, — сказал он.
— Нет, нет, — возразила она, — не нужно.
Она снова сделала попытку высвободить руку. Это сразу возбудило его любопытство. Казалось, она боится чего-то именно теперь, когда всякая опасность миновала. Ей словно хотелось поскорее отделаться от него, и Мартин приписывал это прост расстроенным нервам. Поэтому он удержал ее руку и повернул по направлению к ее дому. Когда они подходили к углу, Мартин вдруг увидел какого-то человека в длинном пальто, который поспешно нырнул в подъезд. Проходя мимо, Мартин загляну туда и, несмотря на то, что воротник у незнакомца был поднят, узнал брата Руфи — Нормана.
По дороге Мартин и Руфь почти не разговаривали. Она была грустна, а он безучастен ко всему. Он сказал ей, что уезжает на острова Тихого океана, а она попросила у него прощения за свой неожиданный приход. Вот и все. Они расстались у дверей ее дома, как будто ничего не произошло. Пожали друг другу руки, пожелали спокойной ночи, причем он церемонно приподнял шляпу. Дверь захлопнулась. Мартин закурил папиросу и пошел обратно в гостиницу. Проходя мимо того подъезда, в котором прятался Норман, Мартин остановился и с минуту постоял в раздумье.
— Она солгала, — сказал он вслух. — Она хотела уверить меня, что поступил решительно и смело, а между тем брат все время ожидал ее, чтобы отвести обратно домой. — Он расхохотался. — Ах, эти буржуа! Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к его сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, он сам приводит ее ко мне.
Мартин хотел продолжать свой путь, как вдруг какой-то бродяга, поравнявшись с ним, тронул его за локоть.
— Одолжите четвертак, хозяин! За ночлег заплатить, — сказал он.
Голос заставил Мартина мгновенно оглянуться. В следующий миг он уже крепко пожимал руку Джо.
— Помнишь, я тебе сказал, что мы встретимся, — говорил Джо. — Я предчувствовал это. Вот мы и встретились!
— Ты смотришь молодцом! — сказал Мартин с восхищением. — Даже как будто пополнел.
— Так оно и есть, — подтвердил Джо, сияя. — С тех пор как я стал бродягой, я понял, что значит жить! Тридцать фунтов прибавил и чувствую себя великолепно! Ведь в прежние времена я до того доработался, что кожа да кости остались. Видно, бродячая жизнь по мне!
— Однако ты просишь на ночлег, — поддразнил его Мартин, — а ночь не очень теплая.
— Гм! Прошу на ночлег! — Джо вытащил из кармана горсть мелочи. — Мне бы этого хватило, — признался он, — да у тебя был очень уж располагающий вид. Вот я тебя и взял на прицел.
Мартин расхохотался.
— Да тут у тебя еще и на выпивку хватит, — заметил он.
Джо важно спрятал деньги в карман.
— Не по моей части! — объявил он. — Я теперь не пью. Нет охоты. Я только раз напился после того, как мы с тобой расстались, да и то потому, что сдуру хлебнул на пустой желудок. Когда я зверски работал, я и пил зверски. Теперь, когда живу по-человечески, то и пью по-человечески! Иногда перехвачу стаканчик — и баста!
Мартин условился встретиться с ним на другой день и пошел в гостиницу. В вестибюле он взглянул на расписание пароходов. Через пять дней на Таити отправлялась «Марипоза».
— Закажите мне по телефону каюту, — сказал он портье, — но не наверху, а внизу, с левого борта. Запомните. Вы лучше запишите: с левого борта.
Придя к себе в комнату, он лег в постель и заснул мгновенно, как ребенок. События вечера не оставили в нем никакого следа. Его мозг уже не воспринимал впечатлений. Даже порыв радости, вызванный встречей с Джо, оказался мимолетным. Он продолжался один миг, а в следующий миг Мартин уже сожалел, что встретил своего бывшего товарища, так как ему не хотелось даже разговаривать. То, что через пять дней он уплывет в свой милый океан, тоже не радовало его. Он с наслаждением сомкнул глаза и спокойно спал восемь часов. Он не метался, не видел снов. Сон помогал забыться, и, просыпаясь, Мартин неизменно испытывал сожаление. Жизнь томила и угнетала его, а время стало настоящей пыткой.
Глава сорок шестая
— Так вот какое дело, Джо, — начал Мартин разговор на следующий день, — есть тут один француз на Двадцать восьмой улице. Он сколотил деньжонок и собирается возвращаться во Францию. У него маленькая отлично оборудованная паровая прачечная. Для тебя это просто находка, если только ты хочешь вернуться к оседлому образу жизни. Вот тебе деньги; купи себе приличный костюм и ступай вот по этому адресу. Это комиссионер, которому я поручил подыскать для тебя что- нибудь подходящее. Он с тобой пойдет и все покажет. Если прачечная тебе понравится и ты найдешь, что она стоит того, что за нее просят, — двенадцать тысяч, — скажи мне, и она твоя. А теперь проваливай! Я занят. Мы с тобой после потолкуем.
— Вот что, Март, — медленно проговорил Джо, сдерживая закипавший в нем гнев, — я пришел сюда для того, чтобы с тобой повидаться. Понял? А вовсе не затем, чтобы получать от тебя в подарок прачечную! Я к тебе как к другу, по старой памяти, а ты мне прачечную суешь! Я тебе на это вот что скажу. Возьми свою прачечную и катись вместе с ней к дьяволу!
Он встал и хотел выйти, но Мартин схватил его за плечи и повернул лицом к себе.
— Вот что, Джо, — сказал он, — если ты мне будешь откалывать такие штуки, я тебя так вздую по старой памяти, что своих не узнаешь! Понял? Ну! Хочешь?
Джо рванулся и хотел оттолкнуть Мартина, но руки, схватившие его, были слишком сильны. Вцепившись друг в друга, они закружили по комнате, сломали по дороге стул, обрушившись на него всей тяжестью, и свалились наконец на пол. Джо лежал на спине, а Мартин сидел на нем, упираясь ему в грудь коленом. Он едва отдышался, когда Мартин отпустил его.
— Ну вот, теперь можно разговаривать, — сказал Мартин. — Как видишь, со мной лучше не связываться. Я хочу в первую голову покончить с прачечной. А потом уж придешь, и мы поговорим о чем-нибудь другом, по старой памяти. Я же тебе сказал, сейчас я занят. Посмотри сам.
Как раз в этот миг лакей принес утреннюю почту: целую кипу писем и журналов.
— Разве можно читать все это и разговаривать? Пойди выясни дело с прачечной и возвращайся сюда.
— Ладно, — неохотно согласился Джо. — Я думал, что ты просто от меня откупиться хочешь, но теперь вижу, что ошибся. Только в боксе тебе меня не побить, Март. Ставлю что угодно.
— Хорошо, мы потом наденем перчатки и попробуем, — со смехом сказал Мартин.
— Непременно! Как только я куплю прачечную. — Джо протянул кулак. — Видал? Я тебя уложу в два счета.
Когда он наконец ушел, Мартин вздохнул с облегчением. Он становился нелюдим. Ему с каждым днем было все труднее и труднее общаться с людьми. Присутствие их тяготило, а необходимость поддерживать разговор раздражала его. Люди действовали ему на нервы, и, не успев встретиться с человеком, он уже искал предлога от него отделаться.
После ухода Джо Мартин не сразу принялся за почту. Около получаса сидел он в кресле, ничего не делая, и в голове у него лишь изредка проносились какие-то обрывки мыслей, короткие проблески погруженного в сон ума.
Наконец он встал и начал разбирать почту. Около дюжины писем заключали в себе просьбы о присылке автографа, — он узнавал такие письма с первого взгляда; далее шли стандартные просьбы о вспомоществовании, письма разных чудаков и прожектеров, начиная от изобретателя, построившего модель вечного двигателя, и математика, доказывавшего, что земная поверхность есть внутренняя часть полого шара, и кончая человеком, просившим финансовой поддержки на предмет приобретения полуострова Калифорния в Мексике, где он хотел устроить коммунистическую колонию. Были письма от женщин, желавших с ним познакомиться; одно из писем вызвало улыбку: корреспондентка, желая доказать свою добропорядочность и благочестие, приложила к письму квитанцию об уплате за постоянное место в церкви.
Издатели и редакторы заваливали его письмами: журналы выпрашивали у него статьи, книгоиздательства молили о новых книгах, — все жаждали его рукописей, бедных рукописей, для рассылки которых он некогда закладывал все свои пожитки. Были тут неожиданные чеки — плата за английские издания, авансы от заграничных издательств. Его английский агент сообщал ему, что в Германии приобретено право перевода на три его книги: его произведения переводились и в Швеции, но Швеция не участвовала в Бернской конвенции, и за эти переводы ничего нельзя было получить. Был запрос и из России, тоже чисто формальный, так как и эта страна не участвовала в Бернской конвенции.
Мартин вскрыл кучу пакетов, доставленных из бюро газетных вырезок, и стал читать то, что говорилось о нем и о его славе, возраставшей с непомерной быстротой. Великолепным жестом он выбросил толпе сразу все свои сочинения. Очевидно, этим и объяснялась такая внезапная слава. Он взял толпу натиском, как было с Киплингом, когда тот лежал при смерти и толпа, повинуясь стадному чувству, вдруг начала запоем читать его книги. Тут Мартин вспомнил, что та же толпа полгода спустя, не поняв ничего из прочитанного, втоптала Киплинга в грязь. Он усмехнулся этой мысли. Как знать! Может быть, и его через полгода ждет такая же участь. Но он перехитрит толпу. Он будет тогда далеко в южных морях, будет строить свою тростниковую хижину, торговать жемчугом и копрой, перелетать на волне через подводные рифы, ловить акул, охотиться на диких коз в долине, что лежит рядом с долиной Тайохаэ.
И в эту минуту вся безнадежность его положения ясно открылась ему. Он вдруг понял, что находится в Долине Теней, теней смерти. Жизнь его прошла: она угасала, меркла и склонялась к закату. Он подумал о том, как много он теперь спит и как хочется ему все время спать. А недавно еще он ненавидел сон. Сон похищал у него драгоценнейшие часы жизни. Спать четыре часа из двадцати четырех значило на четыре часа меньше жить. Как он тогда тяготился сном! И как он теперь тяготится жизнью! Жизнь была томительна и горька. Вот где таилась его гибель. Человек, не стремящийся к жизни, ищет путей к смерти. Старый инстинкт самосохранения пробудился в Мартине. Да, ему надо поторопиться с отъездом. Он оглядел комнату и расстроился от мысли, что нужно укладывать вещи. А впрочем, это не к спеху. Пока можно заняться покупками.
Надев шляпу, он вышел и все утро провел в оружейном магазине, выбирая ружья, патроны и рыболовную снасть. Что касается товаров для торговли, то он решил выписать их по приезде на Таити, так как спрос на товары часто меняется. Их можно будет выписать также из Австралии. Эта мысль обрадовала его. Сознание, что нужно что-то делать и предпринимать, было теперь нестерпимо. Возвращаясь в гостиницу, он с наслаждением думал о своем покойном кресле, готовом принять его, и чуть не завыл от злости, увидев, что в этом кресле расположился Джо.
Джо был в восторге от прачечной. Обо всем было договорено, и с завтрашнего дня он становился ее полноправным владельцем. Мартин лег на кровать и с полузакрытыми глазами слушал Джо. Мысли Мартина витали далеко, почти за пределами сознания. Время от времени он делал над собой усилие, чтобы хоть что-нибудь ответить Джо. А ведь он любил Джо. Но Джо был слишком полон жизни, и это болезненно действовало на Мартина, чересчур большим грузом ложилось на его усталую душу. Когда Джо сказал, что когда-нибудь они еще наденут перчатки и побоксируют, Мартин чуть не вскрикнул от боли.
— Помни, Джо! Ты должен завести в своей прачечной такие порядки, о которых говорил в «Горячих Ключах», — сказал он. — Никаких сверхурочных. Никакой работы по ночам. Приличная плата. И ни в коем случае не нанимай детей! Ни под каким видом!
Джо кивнул головой и вынул записную книжку.
— Я сегодня перед завтраком набросал правила. Вот, слушай.
Он стал читать, а Мартин одобрительно мычал, все время думая об одном: когда наконец Джо уберется?
Было уже довольно поздно, когда Мартин проснулся. Постепенно его сознание вернулось к фактам действительной жизни. Комната была пуста. Очевидно, Джо ушел незаметно, увидав, что Мартин уснул. «Очень деликатно с его стороны», — подумал Мартин. Потом он закрыл глаза и снова заснул.
В следующие дни Джо был занят устройством своих дел и не слишком надоедал ему. Накануне отъезда в газетах появилось сообщение, что Мартин Иден отплывает на «Марипозе». Повинуясь все тому же инстинкту самосохранения, он отправился к доктору, и тот тщательно осмотрел его. Все оказалось в полном порядке. Легкие и сердце были великолепны. С медицинской точки зрения все органы были совершенно здоровы и функционировали вполне нормально.
— У вас нет никакой болезни, мистер Иден, — сказал врач, — положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Какая грудная клетка! При вашем могучем желудке — это залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр попадается один на тысячу, даже на десять тысяч. Вы можете прожить до ста лет, если не какой-нибудь несчастный случай.
Мартин убедился, что диагноз Лиззи был правилен. Физически он совершенно здоров. Но внутри у него что-то неладно, и только в южных морях он мог надеяться обрести исцеление. Хуже всего было то, что теперь, перед самым отъездом, у Мартина вдруг пропала всякая охота ехать. Тихий океан казался ему ничуть не лучше буржуазной цивилизации. Никакого подъема при мысли о путешествии он не испытывал, — напротив, его угнетал предстоящий отъезд, и он предпочел бы уже находиться на судне и ни о чем более не хлопотать и не думать.
Последний день был поистине мучением для Мартина. Прочтя в газетах о его отъезде, Бернард Хиггинботам и Гертруда со всем семейством, а также Герман Шмидт и Мэриен пришли с ним проститься. Потом пришлось закончить некоторые дела, уплатить по счетам, удовлетворить назойливых репортеров. С Лиззи Конолли он коротко простился у дверей вечерней школы. Вернувшись в гостиницу, он застал там Джо, который весь день возился в прачечной и только к вечеру освободился и забежал к нему. Это переполнило чашу терпения, но Мартин все же заставил себя полчаса слушать болтовню приятеля, нервно стискивая ручки кресла.
— Имей в виду, Джо, — сказал он, между прочим, — тебя ничто не привязывает к этой прачечной. В любой момент можешь продать ее и развеять деньги по ветру. Как только тебе все это надоест и захочется опять бродяжничать, собирайся и уходи. Старайся жить так, как тебе нравится!
Джо покачал головой:
— Нет уж, больше я не стану колесить по большим дорогам. Бродягой быть хорошо во всех отношениях, за исключением одного — это я насчет девушек. Не могу без них! Что хочешь, то и делай. А бродить, сам понимаешь, надо одному. Иногда проходишь мимо дома, где играет музыка; заглянешь в окошко — барышни танцуют, хорошенькие, в белых платьях, улыбаются! Ах, чтоб тебе! Прямо жизнь не мила становится. Я ведь люблю пикники, танцы, прогулки под луной и все прочее. То ли дело прачечная, приличный костюм, горсточка долларов в кармане на всякий случай! Я тут повстречал вчера одну девицу. Вот, кажется, так бы сейчас и женился, честное слово. Целый день, как вспомню, на душе веселей становится. Глаза такие ласковые, а голос — просто музыка. Ах, Март, ну какого черта ты не женишься? С такими-то деньгами — да ты можешь жениться на первейшей красавице!
Мартин усмехнулся и в глубине души удивился, почему вообще человеку приходит желание жениться? Это казалось ему странным и непонятным.
Стоя на палубе «Марипозы» перед самым отплытием, Мартин заметил в толпе провожающих Лиззи Конолли. «Возьми ее с собою», — шептал ему внутренний голос. «Ведь так легко быть великодушным, а она была бы безмерно счастлива». На секунду он почувствовал искушение, но тотчас оно сменилось паническим ужасом. Усталая душа громко протестовала. Он отошел от борта парохода и прошептал: «Нет, мой милый, ты слишком тяжко болен».
Мартин заперся в своей каюте и сидел там, пока пароход не вышел в открытое море. За обедом в кают-компании ему отвели почетное место, по правую руку от капитана; и он тут же убедился, что все пассажиры «Марипозы» смотрят на него, как полагается смотреть на путешествующую знаменитость. Но ни одна знаменитость так не разочаровывала окружающую публику. Большую часть времени великий человек лежал на палубе с полузакрытыми глазами, а вечером первый уходил спать.
Дня через два пассажиры оправились от морской болезни и с утра до вечера толкались в салонах и на палубе. Чем больше времени Мартин проводил в их обществе, тем больше они раздражали его. Впрочем, он понимал, что несправедлив. В конце концов это были милые и добродушные люди, он заставлял себя признать это и все-таки мысленно прибавлял: как и вся буржуазия с ее душевной ограниченностью и интеллектуальным убожеством. Мартину становилось скучно от разговоров с этими людьми, — они казались глупыми и пустыми. А шумное веселье молодежи действовало ему на нервы. Молодые люди не могли сидеть спокойно: они носились по палубе, играли в серсо, восхищались дельфинами, приветствовали восторженными кликами стаи летучих рыб.
Мартин много спал. После утреннего завтрака он устраивался в шезлонге с журналом, которого никак не мог дочитать до конца. Печатные строки утомляли его. Он удивлялся, как это люди находят, о чем писать, и, удивляясь, мирно засыпал в своем кресле. Гонг, звавший ко второму завтраку, будил его, и он сердился, что нужно просыпаться.
Однажды, пытаясь стряхнуть с себя это сонное оцепенение, Мартин пошел в кубрик к матросам. Но и матросы, казалось, изменились с тех времен, когда он сам спал на матросской койке. Он не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными, скотоподобными людьми. Он был в отчаянии. Там, наверху, Мартин Иден сам по себе никому не был нужен, а вернуться к людям своего класса, которых он знал и которых некогда любил, он тоже не мог. Они были не нужны ему. Они раздражали его так же, как и безмозглые пассажиры первого класса!
Жизнь стала мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами. Она сверкала перед ним и переливалась всеми цветами радуги, и ему было больно. Нестерпимо больно.
В первый раз за всю свою жизнь Мартин Иден путешествовал в первом классе. Прежде во время плаваний на таких судах он или стоял на вахте, или обливался потом в кочегарке. В те дни он нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли по палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали; натянутый над палубой тент защищал их от солнца и ветра, а малейшее их желание мгновенно исполнялось расторопными стюардами. Ему, вылезавшему из душной угольной ямы, все это представлялось каким-то раем. А вот теперь он сам в качестве почетного пассажира сидит за столом по правую руку от капитана, все смотрят на него с благоговением, а между тем он тоскует о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае. Нового рая он не нашел, а старый был безвозвратно утрачен.
В поисках чего-нибудь, что хоть немного заинтересовало бы его, Мартин решил попытать счастья в среде пароходных служащих. Он заговорил с помощником механика, интеллигентным человеком, который сразу накинулся на него с социалистической пропагандой и набил ему карманы памфлетами и листовками. Мартин лениво слушал его рассуждения о рабской морали и вспоминал ницшеанскую философию, которую когда-то сам исповедовал. В конце концов какой во всем этом толк? Он вспомнил одно из безумнейших положений безумца Ницше, которым тот подвергал сомнению все, даже саму истину. Что ж, может быть, Ницше и прав. Может быть, самое понятие истины нелепо. Но его мозг быстро утомился, и он рад был снова улечься в кресло и подремать.
Как ни тягостно было его существование на пароходе, впереди ожидали еще большие тяготы. Что будет, когда пароход придет на Таити? Сколько хлопот, сколько усилий воли! Надо будет позаботиться о товарах, найти шхуну, идущую на Маркизские острова, проделать тысячу разных необходимых и утомительных вещей. И каждый раз, заставляя себя думать о делах, он начинал ясно понимать, что ему угрожает. Да, он уже находился в Долине Теней, и самое ужасное было, что он не чувствовал страха. Если бы он хоть немного боялся, он мог бы вернуться к жизни, но он не боялся и потому все глубже погружался во мрак. Ничто уже не радовало его, даже то, что он так любил когда-то. Вот навстречу «Марипозе» подул давно знакомый северо-восточный пассат, но этот ветер, некогда пьянивший его, как вино, теперь только раздражал. Он велел передвинуть свое кресло, чтобы избежать непрошеных ласк этого доброго товарища былых дней и ночей.
Но особенно несчастным почувствовал себя Мартин в тот день, когда «Марипоза» вступила в тропики. Сон покинул его. Он слишком много спал и теперь поневоле должен был бодрствовать, глядеть на жизнь и жмуриться от ее невыносимого блеска. Он беспокойно метался по палубе. Воздух был влажен и горяч, и частые ливни не освежали. Мартину было больно жить. Иногда в изнеможении он падал в кресло, но, отдохнув немного, вставал и снова начинал бродить взад и вперед. Он заставил себя дочитать наконец журнал и взял в библиотеке несколько томиков стихов. Но не мог сосредоточиться и предпочел продолжать свои прогулки.
Вечером Мартин спустился к себе в каюту последним, но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком! Он зажег свет и взял книгу. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному. Уронив наконец книгу к себе на грудь, он задумался. Да! Вот оно! То самое! Как странно, что он сразу не подумал об этом раньше. Это был ключ ко всему: он все время бессознательно плутал, а теперь Суинберн указал ему самый лучший выход. Ему нужен покой, а покой был здесь, рядом. Мартин взглянул на иллюминатор. Да, он достаточно широк. В первый раз за много-много дней сердце его радостно забилось. Наконец-то он нашел средство от своего недуга. Он поднял книжку и медленно прочел вслух:
Мартин снова поглядел на иллюминатор. Суинберн указал ему выход. Жизнь томительна, вернее, она стала невыносимо томительна и скучна.
Да, за это стоит поблагодарить богов. Это их единственное благодеяние в мире. Когда жизнь стала мучительной и невыносимой, как просто избавиться от нее, забывшись в вечном сне.
Чего он ждет? Пора.
Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. «Марипоза» сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он с удовольствием почувствовал на губах соленый привкус. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню! Но тут же высмеял себя за это. Да и времени не было. Так хотелось покончить поскорее.
Погасив свет в каюте для большей безопасности, Мартин пролез в иллюминатор ногами вперед. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему, он выскользнул и повис на руках. В тот миг, когда ноги его коснулись воды, он разжал руки. Белая теплая вода подхватила его. «Марипоза» прошла мимо, как огромная черная стена, кое-где прорезанная освещенными дисками иллюминаторов. Пароход шел быстро. И едва Мартин успел опомниться, как очутился далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.
Бонита, привлеченная белизной, его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде. В своих стараниях выбраться он совсем было забыл о главной цели. Огни «Марипозы» уже терялись вдали, а он все плыл и плыл, словно хотел доплыть до ближайшего берега, который был за сотни миль отсюда.
Это был бессознательный инстинкт жизни. Мартин перестал плыть, но, как только вода стала заливать рот, он снова заработал руками. «Воля к жизни», — подумал он и презрительно усмехнулся. Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие.
Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на тихие звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он наполовину высунулся из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен скользнуть в глубину без единого движения, как белая статуя. Погрузившись, он начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотическое средство, чтобы скорей забыться. Но когда вода хлынула в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды.
«Воля к жизни», — думал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он попробует по-другому! Он глубоко вздохнул несколько раз. Набрав как можно больше воздуха, он нырнул, нырнул головою вниз, со всею силою, на какую был только способен. Он плыл ко дну, погружаясь все глубже и глубже. Он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули, и он мысленно поблагодарил жизнь за эту последнюю милость.
Все глубже и глубже погружался он, чувствуя, как немеют руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, раскалывалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, но тут остатки воздуха вырвались вдруг из его легких. Пузырьки скользнули у него по щекам и по глазам и быстро помчались кверху. Начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боли. Это была еще жизнь, последнее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.
Его руки и ноги начали делать судорожные, слабые движения. Поздно! Он перехитрил волю к жизни! Он был слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно скользит по безбрежному морю каких-то видений. А это что? Словно маяк! И он горел в его мозгу — яркий, белый свет. Он сверкал ярче и ярче. Где-то страшный гул прокатился, и Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз, в темную бездну. Это он ясно понял! Он летит в темную бездну, и в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.
ПОТЕРЯВШИЙ ЛИЦО
Потерявший лицо
Это был конец. Стремясь, подобно перелетным птицам, домой, в европейские столицы, Субьенков проделал длинный путь, отмеченный страданиями и ужасами. И вот здесь, в русской Америке, дальше, чем когда-либо, от желанной цели, этот путь оборвался. Он сидел на снегу со связанными за спиной руками и ожидал пытки. Он с ужасом смотрел на распростертого перед ним огромного казака, стонущего от боли. Мужчинам надоело возиться с этим гигантом, и они передали его в руки женщин. И женщины, как о том свидетельствовали вопли жертвы, сумели превзойти мужчин в своей дьявольской жестокости.
Субьенков наблюдал за этим и содрогался от отвращения. Он не боялся смерти. Он слишком часто рисковал жизнью на протяжении тягостного пути от Варшавы до Нулато, чтобы испытывать страх при мысли о смерти. Но все его существо восставало против пытки. Это вызывало отвращение — не потому, что придется перенести нечеловеческие страдания, — вызывало отвращение то жалкое зрелище, когда он, корчась от боли, будет просить, умолять, выпрашивать, точно также, как это делали Большой Иван и другие. Это отвратительно. Встретить смерть мужественно, оставаясь самим собой, с улыбкой и шуткой на устах — вот это было бы достойно! Но потерять самообладание, когда дух твой раздавлен физической болью, визжать и корчиться, как обезьяна, превратиться в животное — вот что ужасно.
Никаких шансов спастись не было. С самого начала, загоревшись страстной мечтой о свободе Польши, он оказался игрушкой в руках судьбы. И с самого начала — в Варшаве, в Санкт-Петербурге, в сибирских рудниках, на Камчатке, на утлых суденышках охотников за пушным зверем — судьба вела его к этому концу. Поистине еще при сотворении мира ему была назначена именно такая смерть — ему, такому утонченному и чувствительному ко всему, что окружало его, мечтателя, поэта и художника. Он еще не родился на свет, а уже было предопределено, что трепещущий комок нервов, который он собой представлял, будет обречен жить среди звериной вопиющей жестокости и умереть в этой далекой стране северной ночи, в этом мрачном уголке на самом краю света.
Он вздохнул. Неужели то, что он видит сейчас перед собой, и было Большим Иваном — человеком без нервов, словно выкованным из железа, казаком, ставшим морским грабителем, существом флегматичным, как бык, со столь примитивной нервной системой, что какой-нибудь удар, причинявший нормальному человеку боль, воспринимался им едва ли не как простая щекотка. И все-таки эти индейцы из Нулато нашли у Большого Ивана нервы и прощупали их до самых корней его трепещущей души. Они добились своего. Казалось непостижимым, что человек может перенести такое и еще оставаться живым. Большой Иван дорого расплачивался за примитивность своей нервной системы. Он продержался вдвое дольше, чем все остальные.
Субьенков чувствовал, что ему не вынести мучений казака. Почему Иван не умирает? Субьенкову казалось, что он сойдет с ума, если не прекратится этот душераздирающий вопль. Но ведь когда вопль прекратится, настанет его, Субьенкова, очередь. А вон там стоит, ожидая того момента, Якага, уже ухмыляющийся в предвкушении пытки, тот самый Якага, которого какую-нибудь неделю назад он выгнал из форта, хлестнув по лицу бичом. Якага о нем позаботится. Якага, конечно, припас для него самые изощренные пытки, самые утонченные мучения. Очевидно, эта новая пытка была особенно хороша, судя по тому, как взвыл Иван. Женщины, склонившиеся над ним, расступились, смеясь и хлопая в ладоши. Субьенков увидел чудовищное дело, которое они сделали, и начал истерически хохотать. Индейцы смотрели на него, изумляясь, что он способен смеяться. Но Субьенков не мог сдержаться.
Нет, этого делать нельзя. Он кое-как справился с собой, спазматические судороги в горле постепенно затихли. Он заставил себя думать о чем-нибудь постороннем и принялся вспоминать свою прошлую жизнь. Он представил себе мать и отца, своего маленького, в яблоках, пони, гувернера-француза, который учил его танцам и однажды тайком принес ему старый, затрепанный томик Вольтера. Вновь Субьенков видел перед собой Париж, сумрачный Лондон, веселую Вену, Рим. Вновь ему представилась компания отчаянных молодых людей, которые, как и он, мечтали о свободной Польше с польским королем на троне в Варшаве. Вот откуда начался этот долгий путь. Что ж, он остался последним из всех. Одного за другим вспоминал Субьенков этих погибших в пути храбрецов, начиная с тех двух, которые были казнены в Санкт-Петербурге. Один был забит насмерть тюремщиком, другой, отправленный по этапу, свалился где-то на далеком, кровью политом тракте, которым они шагали бесконечные месяцы, подгоняемые ударами казаков-конвоиров. И всегда их окружала жестокость, дикая, звериная жестокость. Они умирали — от лихорадки, в рудниках, под кнутом. Последние двое погибли уже после побега, во время схватки с казаками, и только он один добрался до Камчатки, украв у какого-то путника документы и деньги и оставив его умирать на снегу.
Он не видел ничего, кроме жестокости. Все эти годы, когда сердце его жило прошлым — в мастерских художников, в театрах, на светских приемах, — его окружала жестокость. Он покупал свою жизнь ценой крови. Убивали все. И он убил того путника ради документов. Он показал, на что способен, когда в один и тот же день дрался на дуэли с двумя русскими офицерами. Ему приходилось как-то проявлять себя, чтобы занять достойное место среди охотников за мехами. Он должен был завоевать себе это место. Позади лежал долгий, отнявший, казалось, тысячу лет, путь через всю Сибирь и всю Россию. Тем путем бежать было невозможно. Он мог идти только вперед — через мрачное, покрытое льдами Берингово море на Аляску. Путь этот вел в мир, где дикость с каждым шагом становилась все более ужасающей. На суденышках охотников за мехами, среди свирепствующей цинги, без пищи и воды, в борьбе с бесконечными морскими штормами люди превращались в животных. Трижды он отплывал на восток от Камчатки. И трижды, после невероятных трудностей и страданий, оставшиеся в живых возвращались назад. Путь к бегству был закрыт, а идти назад тем путем, которым он попал сюда, Субьенков не мог, ибо там его ждали рудники и кнут.
Наконец, в четвертый и последний раз он поплыл на восток. Он отправился с теми, кто впервые открыл легендарные Котиковые острова, но он не вернулся с ними, чтобы принять участие в дележе добычи и в диких оргиях на Камчатке. Он поклялся никогда не возвращаться туда. Он знал: чтобы добраться до дорогих его сердцу европейских столиц, он должен идти вперед. Поэтому он переходил на другие суда и остался в этих незнакомых полуночных краях. Его спутниками были охотники-славяне и русские — искатели приключений, монголы, татары и исконные жители Сибири; они кровью прокладывали путь среди дикарей этого нового света. Они вырезали целые становища за то, что эскимосы отказывались платить им дань мехами, а на них, в свою очередь, нападали команды других кораблей. Субьенков вместе с одним финном оказался единственным, кто в конце концов спасся из всей их шайки. Они провели одинокую и голодную зиму на одном из пустынных Алеутских островов, а весной им выпал один шанс из тысячи — их подобрало какое-то судно охотников за пушниной.
Но всегда его окружали ужасающая жестокость и дикость. Переходя с одного судна на другое и ни за что не желая возвращаться назад, он попал, наконец, на судно, отправившееся на юг. Они шли вдоль побережья Аляски и всюду наталкивались на толпы дикарей. Каждый раз, когда они бросали якорь у островов или у мрачных утесов материка, их встречала битва или шторм. Либо на них обрушивалась буря, угрожая разбить судно, либо появлялись боевые каноэ, переполненные завывающими туземцами с раскрашенными боевой краской лицами, которые подплывали, чтобы испытать на себе убойную силу ружей пиратов. Так они пробирались на юг, в сказочную страну Калифорнию. Говорили, что там обретаются испанцы, искатели приключений, прибившиеся туда из Мехико. Он возлагал свои надежды на этих испанцев. Только бы удрать к ним, дальше уже будет проще: через год или два — это уже не имеет значения, — но рано или поздно он доберется до Мехико, затем корабль — и он в Европе. Но они не встретили испанцев. Вновь и вновь они наталкивались на ту же неприступную стену дикости. Обитатели этого края, с лицами, раскрашенными для войны, отгоняли их прочь от берега. Под конец, когда одно судно было захвачено и вся команда перебита, капитан решил прекратить поиски и повернул обратно на север.
Шли годы. Субьенков служил под началом Тебенкова, когда строился Михайловский редут. Два года он провел в низовьях Кускоквима. Два раза летом, в июне месяце, ему удавалось побывать в устье залива Коцебу, где в такую пору собирались племена для меновой торговли. Здесь можно было найти шкуры пятнистых оленей из Сибири, кость с островов Диомида, моржовые шкуры с берегов Северного океана, какие-то удивительные, неизвестно откуда, каменные светильники, переходившие от одного племени к другому, однажды ему даже попался охотничий нож английской работы. Субьенков знал, что здесь та школа, где можно изучить географию. Ведь здесь он встречал эскимосов из пролива Нортон, с острова Кинг и с островов Святого Лаврентия, с мыса Принца Уэльского и с мыса Барроу. Здесь эти места именовались по-иному и расстояние до них мерилось не километрами, а днями пути.
Туземцы сходились сюда для торговли с огромной территории, а каменные светильники или этот стальной нож, переходя из рук в руки, попадали из еще более отдаленных мест. Субьенков запугивал эскимосов, улещивал, подкупал. Каждого дальнего путника или представителя неизвестного племени приводили к нему. Они рассказывали ему о несчетных и невероятных опасностях, подстерегавших путешественника, о диких зверях, враждебных племенах, непроходимых лесах и высоких горных хребтах, но во всех этих рассказах непременно фигурировали белые люди с голубыми глазами и белокурыми волосами, которые сражались, как дьяволы, и постоянно искали меха. Они находились на востоке, и далеко-далеко на востоке. Никто не видел их. Это были только слухи, которые передавались из уст в уста.
Тяжелой была эта школа. Нельзя изучать географию через посредство непонятных диалектов, от людей, в чьем темном мозгу факты мешаются с вымыслом, людей, измеряющих расстояния ночевками, колеблющимися в зависимости от трудности перехода. В конце концов Субьенков узнал то, что придало ему мужества. На востоке есть большая река, где и обретаются эти голубоглазые люди. Река эта называется Юконом. Южнее Михайловского редута в море впадала большая река, известная русским под названием Куикпак. Ходили слухи, что это одна и та же река.
Субьенков вернулся на Михайловский редут. В течение года он добивался, чтобы организовали экспедицию вверх по Куикпаку. Тут выделился Малахов, наполовину русский, возглавивший отряд самых отчаянных и жестоких авантюристов, которые когда-либо переправлялись сюда с Камчатки. Субьенков стал его помощником. Они пробрались сквозь лабиринт дельты Куикпака, миновали первые невысокие холмы на северном берегу и в обитых кожей каноэ, груженных до планшира товарами и боевыми припасами, на протяжении пятисот миль плыли против сильного, в пять узлов, течения по реке, ширина которой колебалась от двух до десяти миль, и глубиной в много сажен. Малахов решил построить форт в Нулато. Субьенков поначалу уговаривал плыть дальше, но потом примирился с Нулато. Приближалась долгая зима. Лучше было переждать. Как только наступит лето и сойдет лед, он отправится вверх по Куикпаку и будет пробиваться к факториям Компании Гудзонова залива. До Малахова никогда не доходили слухи о том, что Куикпак и есть Юкон, а Субьенков не рассказывал ему об этом.
Началось строительство форта. Они заставили работать местных жителей. Стены из тесаных бревен вырастали под аккомпанемент вздохов и стонов нулатских индейцев. По их спинам гулял бич, и держала этот бич железная рука морских грабителей. Кое-кто из индейцев убегал, но когда их ловили, то возвращали назад и раскладывали перед фортом, и тут они вместе с соплеменниками узнавали на своей шкуре силу кнута. Двое индейцев умерли под кнутом, другие остались калеками на всю жизнь. А остальные усвоили этот урок и больше не пытались бежать. Снег выпал еще до того, как был закончен форт, и настало время для добычи пушнины. На племя была наложена тяжелая дань. Индейцев продолжали избивать и пороть кнутами, а для того, чтобы дань поступала, женщин и детей взяли в качестве заложников и обращались с ними с той жестокостью, на которую способны только охотники за мехами.
Что ж, то был кровавый посев, а теперь пришла пора жатвы. Форт был спален. При зловещем свете пожара половина партии была перебита. Остальные были подвергнуты пыткам. Остался только Субьенков, или, точнее, Субьенков и Большой Иван, если это стонущее и визжащее существо на снегу можно было назвать Большим Иваном. Субьенков заметил, как ухмыляется, глядя на него, Якага. Ему нечего было сказать Якаге. На лице у того до сих пор виднелся след от бича. В конце концов Субьенков не мог осуждать его, но ему была противна мысль о том, что с ним сделает Якага. Он подумал было просить вождя племени Макамука, но разум подсказал ему, что такая просьба окажется бесполезной. Тогда он решил разорвать ремни и погибнуть в схватке. Такой конец был бы скорым. Но разорвать их он не мог. Ремни из оленьей кожи оказались сильнее его. Он продолжал искать выход, и в голову ему пришла новая идея. Он сделал знак Макамуку, чтобы привели переводчика, знающего наречие прибрежных жителей.
— О Макамук, — сказал Субьенков, — я не собираюсь умирать. Я великий человек, и глупо было бы мне умирать. Да я и не умру. Я ведь не то, что вся эта падаль.
Он глянул на стонущее существо, которое когда-то было Большим Иваном, и презрительно пнул его ногой.
— Я слишком мудр, чтобы умереть. Я знаю великое лечебное снадобье. Только я один знаю это снадобье. Поскольку я не собираюсь умирать, я готов в обмен дать тебе это средство.
— Что, это за средство? — потребовал ответа Макамук.
— Это особенное средство.
Субьенков сделал вид, словно он колеблется, стоит ли делиться своим секретом.
— Ладно, тебе я скажу. Если каплей этого зелья помазать кожу, то она становится твердой, как скала, и прочной, как железо, и никакое оружие не может ее рассечь. Самый сильный удар ничего не может с ней сделать Костяной нож против нее все равно, что комок грязи, от нее отскочит даже стальной нож, какие мы раздавали вам. Что ты мне дашь за секрет этого зелья?
— Я подарю тебе жизнь, — ответил Макамук через переводчика.
Субьенков презрительно расхохотался.
— И ты будешь до смерти рабом в моем доме, — продолжал Макамук.
Поляк расхохотался еще более презрительно.
— Пусть мне развяжут руки и ноги, и тогда мы будем разговаривать.
Вождь сделал знак, и, когда Субьенкову освободили руки, он сделал самокрутку и закурил.
— Это глупые слова, — сказал Макамук, — нет такого зелья. Не может быть. Нож сильнее любого зелья.
Вождь был настроен скептически, но все-таки он колебался. Он не раз видел, как охотникам за мехами удавались всякие дьявольские фокусы. Он не мог ни в чем быть уверен.
— Я сохраню тебе жизнь, и ты не будешь рабом, — заявил он.
— Этого мало.
Субьенков играл свою роль абсолютно хладнокровно, как будто торговался за лисий мех.
— Это великое снадобье. Много раз оно спасало мне жизнь. Я хочу получить нарты и собак, и чтобы шестеро твоих охотников сопровождали меня вниз по реке и в безопасности проводили до последней ночевки перед Михайловским редутом.
— Ты должен жить здесь и обучить нас всем твоим дьявольским штукам, — был ответ.
Субьенков молча пожал плечами. Он выпускал табачный дым в морозный воздух и с любопытством рассматривал то, что осталось от казака-гиганта.
— А это? — неожиданно сказал Макамук, показывая на шею Субьенкова, где виднелся синеватый шрам от ножевого удара, который ему нанесли на Камчатке во время какой-то ссоры. — Твое зелье — плохое зелье. Лезвие было сильнее, чем твое средство.
— Тот, кто нанес удар, был очень сильный человек. — Субьенков оценивающе взглянул на Макамука. — Сильнее, чем ты, сильнее самого сильного твоего охотника, сильнее, чем был он.
И опять он пнул носком своего мокасина казака; тот являл собой отвратительное зрелище. Хотя Большой Иван и потерял сознание, его измученное пытками тело еще цеплялось за жизнь.
— И, кроме того, зелье было слабым. В тех местах не было нужных мне ягод, которых полно, как я вижу, в ваших краях. Здесь средство будет сильным.
— Я отпущу тебя вниз по реке, — сказал Макамук, — и дам тебе нарты, собак и шестерых охотников.
— Ты слишком долго раздумываешь, — последовал холодный ответ. — Ты оскорбил мое средство тем, что не сразу принял мои условия. Слушай же, теперь я требую большего. Я хочу получить сотню бобровых шкур. — Макамук насмешливо усмехнулся. — Я хочу получить сотню фунтов сушеной рыбы. — Макамук кивнул головой, рыбы было вдоволь, и она мало чего стоила. — Я хочу получить двое нарт, одни для меня и вторые для моих мехов и рыбы. Кроме того, пусть мне вернут ружье. Если тебя не устраивает моя цена, то имей в виду, что она вскоре увеличится.
Якага что-то шепнул на ухо вождю.
— А как я узнаю, что твое зелье настоящее? — спросил Макамук.
— Это очень легко. Прежде всего я пойду в лес… Якага опять стал шептать на ухо Макамуку, который недоверчиво покачал головой.
— Ты можешь послать со мной двадцать охотников, — продолжал Субьенков. — Я должен найти ягоды и корни, из которых варится средство. Потом ты приготовишь нарты, нагрузишь их рыбой и бобровыми шкурами, положишь туда ружье и отберешь шестерых охотников, которые пойдут со мной, а когда все будет готово, я натру зельем шею и положу голову вот на это бревно. И тогда пусть самый сильный твой охотник возьмет топор и трижды ударит меня по шее. Ты сам можешь трижды ударить меня.
Макамук стоял с разинутым ртом, дивясь этому новому для него и самому удивительному чуду охотников за мехами.
— Но имей в виду, — торопливо добавил поляк, — что перед каждым ударом я должен заново смазывать шею своим зельем. Топор — штука тяжелая и острая, и я не хочу, чтобы произошла ошибка.
— Ты получишь все, что требуешь, — торопливо закричал Макамук. — Готовь свое зелье.
Субьенков постарался скрыть свою радость. Он вел отчаянную игру и оступиться было нельзя. Он высокомерно произнес:
— Ты слишком медлил. Мое средство оскорблено. Чтобы смыть это оскорбление, ты должен отдать мне свою дочь.
И он показал пальцем на девушку, несчастное создание, у которой был кривой глаз и торчащие по-волчьи зубы. Макамук был рассержен, но поляк невозмутимо свернул и закурил новую самокрутку.
— Поспеши, — с угрозой в голосе сказал он, — если ты будешь медлить, я потребую большего.
В наступившем молчании Субьенков перенесся мысленным взором от мрачной картины северной природы, расстилавшейся перед ним, к своей родине и к Франции и, взглянув на эту девушку с торчащими зубами, он вспомнил другую девушку, певицу и балерину, которую знал, когда юношей впервые попал в Париж.
— Зачем тебе нужна девушка? — спросил Макамук.
— Чтобы она поплыла вместе со мной вниз по реке. — Субьенков критически оглядел ее. — Из нее выйдет хорошая жена, и честь жениться на девушке твоей крови — достаточная плата за мое средство.
Он вновь вспомнил певицу и балерину и принялся мурлыкать песню, которой та научила его. Он заново переживал всю свою жизнь, но на этот раз рассматривая сцены из своего прошлого как будто со стороны, словно это были картинки в книге, рассказывающей о чьей-то чужой судьбе. Голос вождя неожиданно нарушил молчание, и он вздрогнул.
— Все будет сделано, — сказал Макамук. — Девушка отправится вместе с тобой вниз по реке. Но имей в виду, что я сам трижды ударю топором по твоей шее.
— Но я каждый раз буду заново намазываться своим средством, — отозвался Субьенков, изображая плохо скрытое беспокойство.
— Ты будешь намазываться своим зельем перед каждым ударом. Вот охотники, которые будут следить, чтобы ты не сбежал. Отправляйся в лес и собирай свое зелье.
Макамука убедила в ценности зелья именно жадность поляка. Конечно, только величайшее средство могло дать силу человеку, над которым нависла тень смерти, упорствовать и торговаться, как старая баба.
— Кроме того, — шепнул Якага, когда поляк вместе со своей стражей исчез среди елей, — когда ты узнаешь средство, ты легко сможешь убить его.
— Как же это я смогу убить его? — спросил Макамук. — Средство не даст мне убить.
— Будут какие-то места, которые он не натрет своим зельем, — ответил Якага.:- Мы и умертвим его через такое место. Может быть, это будут его уши. Тогда мы воткнем ему копье в одно ухо, а выйдет оно в другое. Очень хорошо. А может быть, это будут глаза. Наверняка зелье слишком сильное, чтобы он намазал им глаза.
Вождь кивнул головой.
— Ты мудр, Якага. Если у него в запасе нет других дьявольских штук, мы убьем его.
Субьенков не тратил много времени для сбора составных частей для своего зелья. Он поднимал все, что попадется под руку, — еловую хвою, ивовую кору, бересту и множество клюквы, которую он заставлял охотников выкапывать из-под снега. К своим запасам он добавил несколько замерзших корней и направился обратно в лагерь.
Макамук и Якага не отходили ни на шаг, тщательно запоминая количество и вид составных частей, которые он кидал в чан с кипящей водой.
— Заметьте, клюкву надо класть в первую очередь, — объяснил Субьенков. — Ах, да, еще одна вещь, человеческий палец. Дай-ка, Якага, я отрежу у тебя палец.
Но Якага спрятал руки за спину и сердито посмотрел на него.
— Всего только мизинец, — просил Субьенков.
— Якага, дай ему свой палец, — приказал Макамук.
— Здесь вокруг много пальцев, — проворчал Якага, показывая на валявшиеся на снегу останки замученных насмерть.
— Это должен быть палец живого человека, — возразил поляк.
— Ну так ты получишь палец живого человека, — Якага нагнулся над казаком и отсек у него палец.
— Он еще не умер, — объяснил Якага, швыряя свой кровавый трофей к ногам поляка. — И вообще это хороший палец, потому что он большой.
Субьенков бросил палец в пламя под чаном и начал петь. Это была французская любовная песенка, и он исполнял ее с необычайной торжественностью.
— Без этих слов зелье не будет иметь силы, — пояснил он. — Эти слова составляют его главную силу. Ну вот, готово!
— Повтори слова медленно, чтобы я мог запомнить их, — приказал Макамук.
— Только после испытания. Когда топор трижды отскочит от моей шеи, тогда я раскрою тебе секрет этих слов.
— А если средство окажется плохим средством? — с беспокойством спросил Макамук.
Субьенков в гневе обернулся к нему.
— Мое средство не может оказаться плохим. А если оно окажется плохим, тогда сделайте со мной то же, что вы сделали с остальными. Разрежьте меня на куски, как вы разрезали его. — Он кивнул на казака. — Зелье уже остыло. Итак, я натираю им шею и говорю при этом заклинания.
Субьенков с самым серьезным лицом медленно пропел строку из "Марсельезы", одновременно натирая себе шею отвратительным варевом.
Его представление было прервано диким воплем. Огромный казак, в котором в последний раз вспыхнула его чудовищная жизненная сила, приподнялся на колени. Индейцы принялись смеяться, кричать от удивления, хлопать в ладоши, а Большой Иван бился на снегу в страшных судорогах.
Субьенкову стало нехорошо от этого зрелища, но он справился с приступом тошноты и притворился рассерженным.
— Так дело не пойдет, — сказал он, — прикончите его, и тогда мы приступим к испытанию. Ну-ка, Якага, прекрати этот шум.
Когда это было исполнено, Субьенков повернулся к Макамуку.
— И помни, что ты должен бить изо всех сил. Это занятие не для детей. Возьми-ка топор и ударь по бревну, чтобы я мог видеть, что ты делаешь это как мужчина.
Макамук повиновался и дважды со всего маху ударил по бревну, отколов порядочный кусок.
— Хорошо! — Субьенков оглядел лица туземцев, которые словно символизировали ту стену варварства, которая окружала его с тех пор, как царская полиция арестовала его в Варшаве.
— Бери топор, Макамук, и стань вот здесь. Я лягу. Когда я махну рукой, бей что есть мочи. И смотри, чтобы никто не стоял позади тебя. Мое средство крепкое, и топор может отскочить от моей шеи и вылететь у тебя из рук.
Он посмотрел на две собачьи упряжки с нартами, нагруженными мехами и рыбой. Сверху на бобровых шкурах лежало его ружье. Шестеро охотников, которые должны были составлять его охрану, стояли у нарт.
— А где девушка? — спросил поляк. — Приведите ее сюда прежде, чем мы приступим к испытанию.
Когда девушку привели, Субьенков опустился на снег и положил голову на бревно, словно усталый ребенок, собирающийся уснуть. Он пережил столько тяжелых лет, что и в самом деле чувствовал себя смертельно уставшим.
— Я смеюсь над тобой и над твоей силой, о Макамук, — сказал он, — бей, бей изо всех сил!
Он поднял руку. Макамук поднял топор, огромный топор, которым обтесывают бревна. Блестящая сталь сверкнула в морозном воздухе, на какое-то едва уловимое мгновение топор задержался над головой Макамука и затем обрушился на обнаженную шею Субьенкова. Топор рассек мышцы и позвоночник и глубоко вонзился в бревно. Изумленные дикари увидели, как голова отскочила на добрый ярд от кровоточащего туловища.
Все стояли в страшном замешательстве и молчали, пока постепенно не начали соображать, что никакого средства и не было. Охотник за мехами перехитрил их. Единственный из всех пленников он избежал пытки. Такова была ставка, ради которой он вел игру. И тут все разразились хохотом. Макамук от стыда опустил голову. Охотник за мехами обманул его. Макамук потерял лицо, потерял уважение в глазах своих соплеменников. Они продолжали хохотать. Макамук повернулся и побрел прочь. Он знал, что отныне он никогда не будет зваться Макамуком. Его будут звать Потерявший лицо, и ему не искупить своего позора до самой смерти, и когда бы ни собирались окрестные племена, — весной ли для лова лосося или летом для меновой торговли, — повсюду, у всех костров будут вновь и вновь рассказывать историю о том, как спокойно, с одного удара умер охотник за мехами от руки Потерявшего лицо.
И он словно заранее слышал, как какой-нибудь наглый юнец будет спрашивать:
— А кто такой Потерявший лицо?
— Потерявший лицо? — скажут в ответ. — Его звали Макамуком до того, как он отрубил голову охотнику за мехами.
Поручение
Отдали швартовы, и "Сиэтл-4" стал медленно отходить от берега. Его палубы были битком забиты грузами и багажом, на них кишела разношерстная толпа индейцев, собак, погонщиков, торговцев и возвращающихся домой золотоискателей. Добрая часть населения Доусона выстроилась на берегу, провожая отъезжающих. Когда сходни были убраны и пароход начал выходить на фарватер, прощальные возгласы стали еще оглушительнее. Все в последний момент вспомнили, что не сказали еще чего-то важного, и громко кричали, стараясь, чтобы их услышали по ту сторону разделявшей их полосы воды, которая с каждой минутой становилась шире. Луи Бонделл, покручивая одной рукой свои рыжие усы, а другой вяло махая друзьям, остающимся на берегу, внезапно что-то вспомнил и бросился к борту.
— Эй, Фред! — завопил он. — Фред!
Фред растолкал плечами стоящую на берегу толпу и протиснулся вперед, стараясь разобрать, что хочет передать ему Луи Бонделл. У того уже лицо побагровело от крика, но слов все равно не было слышно. Между тем полоса воды между пароходом и берегом становилась все шире.
— Эй, капитан Скотт! — крикнул Бонделл, обернувшись к капитанской рубке. — Остановите пароход!
Звякнул сигнальный колокол, большое колесо под кормой крутанулось в обратную сторону и остановилось. Все находившиеся на борту и на пристани воспользовались этой задержкой, чтобы прокричать друг другу последние и уже окончательные пожелания. Тщетно Луи Бонделл пытался, чтобы его услышали. "Сиэтл-4" потерял ход, его начало сносить течением, капитан Скотт вынужден был дать передний ход и во второй раз остановить машины. Голова его скрылась в капитанской рубке, и через мгновение он вынырнул с большим мегафоном в руках.
Теперь у капитана Скотта голос приобрел необычайную силу, и когда он рявкнул толпе на палубе и на берегу "Заткнитесь!", то его, вероятно, было слышно на вершине Оленьей горы и даже на улицах Клондайка. От этого официального призыва из капитанской рубки шум стих.
— А теперь говорите, что вы хотите передать, — приказал капитан Скотт.
— Передайте Фреду Черчиллю… Он там, на берегу… Скажите ему, чтобы он зашел к Мак-Дональду. У него на хранении мой маленький саквояж. Передайте ему, чтобы он захватил его и привез с собой.
В наступившем молчании капитан Скотт проревел это сообщение через мегафон на берег:
— Эй, вы, Фред Черчилль, пойдите к Мак-Дональду… У него на сохранении маленький саквояж… Принадлежит Луи Бонделлу… Это очень важно… Привезите его с собой… Поняли?
Черчилль помахал рукой в знак того, что понял. Впрочем, если бы Мак-Дональд, живший в полумиле отсюда, открыл окно, он бы тоже разобрал, в чем дело. Вновь воздух огласился прощальными приветствиями, раздался удар судового колокола, "Сиэтл-4" двинулся вперед, развернулся на стремнине и пошел вниз по Юкону. Бонделл и Черчилль до последней минуты махали друг другу, выказывая свою взаимную симпатию.
Это происходило летом. А в конце года двинулся вверх по Юкону "У. Х. Уиллис" с двумя сотнями возвращающихся домой путников на борту. Среди них был и Черчилль. В его каюте в мешке с одеждой лежал и саквояж Луи Бонделла. Это был небольшой прочный кожаный чемоданчик, весил он фунтов сорок, и это обстоятельство заставляло Черчилля нервничать каждый раз, когда ему приходилось хоть ненадолго отлучаться от саквояжа. Человек в соседней каюте вез с собой уйму золотого песка, спрятанного просто в чемодане с бельем, и они в конце концов договорились караулить поочередно. Если один из них спускался поесть, другой не спускал глаз с дверей обеих кают. Когда Черчиллю хотелось сыграть в вист, его сосед оставался на посту, а когда тому хотелось отвести душу, Черчилль принимался за чтение газет четырехмесячной давности, сидя на откидном стульчике в проходе между двумя дверьми.
Зима, судя по всем признакам, сулила быть ранней, и пассажиры с утра и до темноты и еще далеко за полночь толковали об одном: удастся ли им выбраться до того, как река станет, или они вынуждены будут оставить пароход и двинуться дальше по льду. А тут еще случались всякие раздражающие задержки. Дважды ломалась машина, и ее приходилось чинить на скорую руку, и оба раза начинался снегопад, предупреждая их о скором приходе зимы. Девять раз "У. Х. Уиллис" пытался со своей слабенькой машиной преодолеть пороги Пяти Пальцев, а когда это наконец удалось, выяснилось, что пароход опаздывает на четыре дня даже против своего весьма приблизительного расписания. Тогда встал вопрос, будет ли пароход "Флора" дожидаться их повыше Ящичного ущелья. Отрезок реки между Ящичным ущельем и порогами Белой Лошади был недоступен для судов, и пассажиры перебирались здесь в обход порогов пешком, чтобы пересесть с одного парохода на другой. В ту пору телефона в этих местах не существовало, и поэтому предупредить "Флору" о том, что "Уиллис" хотя и с опозданием на четыре дня, но все же подходит, никакой возможности не было.
Когда "Уиллис" вошел в Белую Лошадь, стало известно, что "Флора" ожидала его три дня сверх положенного срока и ушла всего несколько часов назад. Передали также, что "Флора" будет стоять у поста Тагиш до девяти часов утра воскресенья. Дело происходило в четыре часа дня в субботу. Пассажиры собрали митинг. На борту "Уиллиса" находилось большое канадское каноэ, предназначавшееся для полицейского поста у входа в озеро Беннет. Пассажиры договорились, что они берут на себя ответственность за это каноэ и за его доставку. После этого стали вызывать добровольцев. Для того, чтобы догнать "Флору", решено было выбрать двоих.
Тотчас же вызвалось десятка два желающих. Среди них был и Черчилль, уж такой у него характер, что он вызвался прежде, чем подумал о саквояже Бонделла. Когда же он вспомнил о нем, то у него затеплилась надежда, что его не выберут, но человек, прославившийся, как капитан футбольной команды в колледже, как президент атлетического клуба, считавшийся одним из лучших погонщиков собак и ходоков на Юконе, да еще обладавший такими плечами, как он, не мог рассчитывать, что ему не окажут чести быть избранным. Поручение было возложено на него и на гиганта-немца Ника Антонсена.
Пока толпа пассажиров поспешно тащила на своих плечах каноэ, Черчилль бросился в каюту. Он вытряхнул содержимое своего чемодана на пол и схватил саквояж, намереваясь передать его на сохранение соседу. Но тут же его взяло сомнение: ведь это была чужая вещь, и он, пожалуй, не имел права выпускать ее из рук. Поэтому он схватил саквояж и побежал по берегу, то и дело перекладывая его из одной руки в другую и гадая про себя, не весит ли саквояж в действительности больше сорока фунтов.
Была половина пятого пополудни, когда Черчилль и Антонсен отправились в путь. Течение на Тридцатимильной было настолько сильным, что им почти не удавалось пользоваться веслами. Им приходилось идти по берегу с бечевой на плече, спотыкаясь о камни, продираясь сквозь поросль кустарника, пробираясь по колено и по пояс в воде, то и дело срываясь и падая, а когда на пути вставали непреодолимые скалы, приходилось опять садиться в каноэ, стремительно грести к другому берегу, пока не снесло течением, и вновь тащить лодку на бечеве. Это была изнуряющая работа. Антонсен трудился изо всех сил, безропотно и упорно, как и подобает такому гиганту, но Черчилль, наделенный мощным телом и неукротимой волей, вконец загонял его. Они ни разу не остановились на отдых. Они шли и шли вперед и только вперед. В лицо дул резкий ветер, руки стыли, и приходилось время от времени колотить рука об руку, чтобы восстановить кровообращение в онемевших пальцах.
Когда наступила ночь, пришлось положиться на волю случая. Они то и дело были вынуждены высаживаться на берег и брести по бездорожью, разрывая в клочья одежду о кустарник. У обоих все тело было исцарапано и кровоточило. Раз десять переплывая от берега к берегу, они напарывались на коряги, и лодку опрокидывало. Когда это случилось в первый раз, Черчилль нырял и на глубине в три фута искал в воде саквояж. Он потерял полчаса на поиски и в конце концов для сохранности привязал его к лодке. Таким образом, пока каноэ сохраняло плавучесть, саквояж находился в безопасности. Антонсен издевался по поводу саквояжа, а к утру начал проклинать его, но Черчилль не удостаивал спутника объяснениями.
Задержки и неудачи преследовали их на каждом шагу. На одной излучине реки, перерезанной мощным порогом, они потеряли два часа на бесчисленные попытки преодолеть стремнину, и лодка дважды переворачивалась. По обоим берегам здесь вздымались из глубины воды отвесные скалы, так что не было никакой возможности ни протащить лодку на канате, ни пройти с помощью багра, а преодолеть течение на веслах никак не удавалось. Они напрягали все силы, так налегая на весла, что, казалось, сердце выскочит из груди от напряжения, но каждый раз их сносило назад. В конце концов им удалось одолеть этот порог только благодаря чистой случайности. На самой стремнине, когда они терпели очередную неудачу, течение вырвало рулевое весло из рук Черчилля и швырнуло лодку к утесу. Черчилль наугад прыгнул на скалу и, ухватившись одной рукой за расщелину, другой придерживал тонущую лодку, пока Антонсен выбирался из воды. Затем они вытащили каноэ и передохнули. Двинувшись со свежими силами с этого критического места, они перешли пороги. Они пристали к берегу чуть повыше, немедленно выбрались на сушу и побрели через кустарник, волоча за собой лодку на бечеве.
Рассвет застал их еще далеко от поста Тагиш. В девять часов утра они услышали прощальный гудок "Флоры". А когда в десять часов они добрались до поста, то увидели лишь дымок парохода, уходящего на юг. Капитан Джонс из конной полиции принял этих двух совершенно изнуренных оборванцев и накормил, а впоследствии уверял, что никогда в жизни не видел, чтобы люди ели с таким чудовищным аппетитом. Поев, они свалились тут же у плиты, не снимая своих лохмотьев, и заснули. Через два часа Черчилль встал, отнес саквояж Бонделла, служивший ему подушкой, в каноэ, растолкал Антонсена, и они снова пустились вдогонку за "Флорой".
— Мало ли что может случиться? — отвечал Черчилль на все уговоры капитана Джонса. — Машина может сломаться или еще что-нибудь. Я должен догнать пароход и вернуть его, чтобы забрать ребят.
Озеро Тагиш побелело от сильного, по-осеннему, встречного ветра. Волны обрушивались на лодку, заставляя одного из них все время вычерпывать воду, и на веслах, таким образом, мог сидеть только один гребец. Двигаться вперед при таких обстоятельствах было невозможно. Они прибились к пологому берегу, вылезли из каноэ, один взялся за бечеву, а второй подталкивал лодку. Они боролись с ветром, пробираясь по пояс в ледяной воде, частенько по самую шею; огромные валы то и дело покрывали их с головой. Они не знали ни отдыха, ни минутной передышки в той нечеловеческой, жестокой схватке. В эту ночь у выхода из озера Тагиш во время снежной бури они нагнали "Флору". Антонсен свалился на палубу и тут же захрапел. Черчилль выглядел совершенно ужасно. Одежда едва держалась на плечах, лицо было отморожено и распухло, после непрерывной работы в течение двадцати четырех часов вены на руках вздулись, и он не мог сжать кулак. Ноги болели так, что стоять было невероятным мучением.
Капитан "Флоры" ни за что не соглашался возвращаться обратно к Белой Лошади. Черчилль был настойчив и решителен, но капитан заупрямился. В качестве последнего аргумента он заявил, что ничего они не достигнут, даже если "Флора" вернется, потому что единственный океанский пароход в Дайе, "Афинянин", должен отплыть во вторник утром и "Флора" не успеет подобрать застрявших в Белой Лошади путешественников и обернуться до ухода "Афинянина".
— Когда отплывает "Афинянин"? — спросил Черчилль.
— Во вторник, в семь часов утра.
— Ладно! — сказал Черчилль, отбивая ногой сигнал подъема по ребрам храпящего Антонсена. — Возвращайтесь к Белой Лошади. Мы отправимся вперед и задержим "Афинянина".
Обалдевшего от сна и ничего толком не соображавшего Антонсена спихнули в каноэ, и немец не мог сообразить, что происходит, до тех пор, пока его не окатила огромная ледяная волна и он не услышал крик Черчилля:
— Ты что, разучился грести? Или хочешь, чтобы нас затопило?
Рассвет застал их у Оленьего перевала, ветер стих, но Антонсен был уже совершенно неспособен работать веслами. Черчилль вытащил каноэ на пологий берег, и они решили поспать. Черчилль подвернул руку под голову так, что каждые несколько минут рука немела; тогда он просыпался от боли, смотрел на часы и подкладывал другую руку. Через два часа он растолкал Антонсена, и они двинулись дальше. Озеро Беннет, тридцати миль в длину, было спокойным, словно пруд, но на полпути налетел южный ветер, и вода побелела от пены. Час за часом вели они ту же борьбу, что и на озере Тагиш, волоча и подталкивая каноэ по пояс и по шею в ледяной воде, которая то и дело окатывала их с головой, пока здоровенный Антонсен не выбился из сил совершенно. Черчилль безжалостно подгонял его, но когда Антонсен шагнул вперед и чуть не захлебнулся на глубине трех футов, Черчилль втащил его в каноэ. Черчилль продолжал борьбу один и около полудня добрался до полицейского поста у входа в озеро Беннет. Он пытался вытащить Антонсена из каноэ, но не смог. Он прислушивался к тяжелому дыханию совершенно измученного товарища и позавидовал ему, когда подумал, что предстоит ему самому впереди. Антонсен может лежать и спать, а он, чтобы не опоздать, должен еще подняться на высоченный Чилкут и спуститься к морю. Настоящие трудности были еще впереди, и Черчилль почти пожалел о том, что в теле у него еще достаточно сил, потому что из-за этого его телу предстояли немалые муки.
Черчилль вытащил каноэ на берег, подхватил саквояж Бонделла и, прихрамывая, рысцой направился к полицейскому посту.
— Там внизу каноэ из Доусона, предназначенное для вас, — выпалил он офицеру, открывшему на его стук дверь, — и человек в нем, еле живой. Ничего опасного, просто выбился из сил. Позаботьтесь о нем. А я должен спешить. До свидания. Хочу захватить "Афинянина".
Между озером Беннет и озером Линдерман лежит перемычка в милю длиной, и последние слова Черчилль бросил через плечо, почти на бегу. Бежать было очень больно, но он сжал зубы и несся вперед. Он даже забывал о боли, настолько его переполняла жгучая ненависть к саквояжу. Это было тяжкое испытание. Черчилль перекладывал саквояж из руки в руку. Он засовывал его под мышки. Он закидывал руку с саквояжем через плечо, и тот при каждом шаге колотил его по спине. Было ужасно трудно держать саквояж разбитыми и распухшими руками, и он несколько раз ронял его. Один раз, когда он перекладывал саквояж из руки в руку, тот выскользнул и упал, Черчилль споткнулся и тоже свалился на землю.
Добравшись до конца перемычки, Черчилль купил за доллар старые ремни и привязал саквояж к спине. Там же он нанял баркас, который доставил его за шесть миль к верхней оконечности озера Линдерман, куда Черчилль добрался к четырем часам дня. "Афинянин" должен был отплыть из Дайи в семь часов утра на следующий день. До Дайи было двадцать восемь миль, и перед ним высился Чилкут. Черчилль присел, чтобы поправить обувь перед долгим подъемом, и проснулся. Он заснул в ту же секунду, как только присел. Хотя спал он не больше тридцати секунд, он испугался, что в следующий раз задремлет надолго, и кончал приводить обувь в порядок уже стоя. И даже стоя он не мог побороть слабость сразу. На какое-то мгновение он потерял сознание; он понял это, когда ослабевшее тело начало валиться на землю, но тут же вернул себя в чувство судорожным усилием мышц и удержался на ногах. Этот резкий переход от состояния бессознательности оставил по себе тошноту и дрожь. Черчилль принялся бить себя кулаком по голове, возвращая бодрость отупевшим мозгам.
Вьючный караван Джека Бэрнса возвращался налегке к озеру Кратер, и Черчиллю предложили ехать на муле. Бэрнс хотел погрузить саквояж на другого мула, но Черчилль оставил его при себе, пристроив на луке седла. Однако то и дело дремота охватывала его, и саквояж упорно соскальзывал то на одну сторону седла, то на другую, и каждый раз Черчилль мучительно просыпался. Затем, когда уже начало темнеть, мул задел за выступавшую ветку, и Черчиллю разодрало щеку. В довершение всего мул сбился с дороги и упал, сбросив седока и саквояж на скалы. Дальше Черчилль предпочел идти, точнее сказать, тащиться, по отвратительной, едва ли достойной своего названия тропе, ведя за собой мула. Ужасающий смрад, доносившийся с обочин, говорил о том, сколько лошадей полегло тут жертвами людской погони за золотом. Но Черчилль ничего не чувствовал. Он слишком хотел спать. Однако к тому времени, когда они добрались до Долгого озера, он оправился от сонливости; у Глубокого озера он поручил саквояж Бэрнсу, с которого при тусклом свете звезд не спускал глаз. С саквояжем не должно было ничего случиться.
У озера Кратер караван остался в лагере, а Черчилль, привязав саквояж к спине, принялся карабкаться по склону к перевалу. На этой почти отвесной крутизне он впервые почувствовал, как он устал. Он полз на четвереньках, как краб, явственно ощущая тяжесть своих рук и ног. Каждый раз для того, чтобы поднять ногу, ему приходилось до боли напрягать всю волю. Черчиллю начало казаться, что на ногах у него свинцовые башмаки, как у водолаза, и он едва перебарывал желание нагнуться и пощупать свинец руками. Что касается саквояжа Бонделла, то казалось непостижимым, как могут сорок фунтов весить так много. Саквояж давил на него так, словно он тащил на спине гору, и Черчилль не верил сам себе, вспоминая, как год назад он поднимался на этот самый перевал с грузом в сто пятьдесят фунтов за плечами! Если в тот раз он тащил сто пятьдесят фунтов, то саквояж Бонделла весил, наверное, фунтов пятьсот.
Первый подъем от озера Кратер к перевалу пролегал через небольшой ледник. Тропа здесь была хорошо видна. Но выше, за ледником, являвшимся границей лесной зоны, не было ничего, кроме хаоса голых скал и огромных валунов. Тропинку в темноте не было видно, и он двигался вслепую, ощупью, затрачивая раза в три больше усилий, чем обычно. Он добрался до перевала в разгар снежной бури и, на свое счастье, натолкнулся на маленькую заброшенную палатку, в которую немедленно заполз. Там он нашел несколько старых и засохших картофелин и полдюжины сырых яиц, которые с аппетитом проглотил.
Когда снег и ветер стихли, он начал почти немыслимый спуск. Тропинки здесь не было, и он брел наугад, спотыкаясь, то и дело в самый последний момент обнаруживая, что находится у края какого-нибудь обрыва или ущелья, глубину которых он даже представить не мог. Вскоре тучи вновь закрыли звезды, и в наступившем мраке он поскользнулся и катился вниз футов сто, очутившись исцарапанным и окровавленным на дне большой ямы. Здесь стояло зловоние от лошадиных трупов. Яма была поблизости от тропинки, и погонщики обычно сбрасывали сюда разбитых и умирающих лошадей. От зловония Черчилля затошнило и, словно в каком-то кошмаре, он стал карабкаться наверх. На полпути он вспомнил о саквояже. Саквояж свалился в яму вместе с Черчиллем, ремни, видимо, лопнули, и он совсем забыл про него. Опять ему пришлось лезть в эту вонючую яму и полчаса ползать на коленях, на ощупь отыскивая саквояж. Прежде чем он наткнулся на саквояж, он насчитал семнадцать дохлых лошадей и одну живую, которую пристрелил из револьвера. Оглядываясь на прошлое, в котором он не раз проявлял храбрость и одерживал победы, Черчилль, не задумываясь, заявил сам себе, что это возвращение за саквояжем было самым героическим поступком в его жизни. Настолько героическим, что прежде чем выбраться из ямы, он дважды оказывался на грани обморока.
Когда наконец он добрался до ступеней и крутой спуск Чилкута остался позади, дорога стала легче. Нельзя сказать, чтоб это была очень хорошая дорога даже в лучших местах, но вполне приемлемая тропинка, по которой он мог бы идти нормально, если бы не был изнурен до последней степени, если бы у него оказался фонарь, чтобы светить под ноги, и если бы не саквояж Бонделла. Черчилль находился в таком состоянии, когда саквояж оказался для него той соломинкой, которая, как говорит пословица, переломила спину верблюду. У него едва хватало сил нести самого себя, но добавочный вес валил его на землю почти каждый раз, когда он спотыкался. А когда удавалось удержаться на ногах, откуда-то из темноты высовывались ветки, цеплялись за саквояж на спине и тащили Черчилля назад.
Постепенно у Черчилля крепло убеждение, что если он упустит "Афинянина", то только из-за саквояжа. Вообще в сознании у него осталось только два предмета: саквояж и пароход. Он думал только о двух этих предметах, и они казались почему-то неотделимы от некой суровой миссии, ради которой он странствовал и трудился в течение долгих столетий. Он шел и боролся, как будто во сне. Словно во сне вошел он в Овечий Лагерь. Он ввалился в салун, высвободил плечи от ремней и начал опускать саквояж на пол. Тот выскользнул у него из пальцев и упал на пол с тяжелым стуком, который не остался незамеченным двумя мужчинами, собиравшимися уходить. Черчилль выпил стакан виски, сказал хозяину бара, чтобы тот разбудил его через десять минут, и уселся, поставив ногу на саквояж и опустив голову на колени.
Его измученное тело так было сковано от усталости, что, когда его разбудили, потребовалось еще десять минут и еще один стакан виски, чтобы он смог распрямить члены и расправить мускулы.
— Эй, да не туда пошел! — крикнул ему хозяин бара, потом вышел вслед за Черчиллем и в темноте вывел его на дорогу на Каньон-сити. Какие-то проблески сознания подсказали ему, что он идет в правильном направлении, и по-прежнему, как во сне, Черчилль брел по тропинке через ущелье. Он сам не знал, что его насторожило, но в этот момент путешествия, прошагав, казалось, уже несколько столетий, он почуял опасность и вытащил револьвер. Все еще будто во сне он увидел, как на тропинку вышли двое мужчин и потребовали, чтобы он остановился. Его револьвер выстрелил четыре раза, и он увидел вспышки их револьверов и услышал выстрелы. Кроме того, он понял, что ранен в бедро. Он увидел, как один из мужчин упал, а когда второй подбежал поближе, Черчилль ударил его тяжелым револьвером в лицо. Потом повернулся и бросился бежать. Вскоре он очнулся от своего полусонного состояния и обнаружил, что бежит, прихрамывая, по тропинке. Он был уверен, что все это ему только приснилось, пока он не стал шарить в поисках револьвера и убедился, что револьвер пропал. Потом он почувствовал острую боль в бедре и ощупал себя: рука у него была влажная от крови. Да, он ранен, правда, рана оказалась несерьезной. Тогда он окончательно проснулся и припустился к Каньон-сити.
Там он нашел человека с лошадьми и фургоном, который за двадцать долларов выбрался из постели и пошел запрягать. Черчилль свалился в фургоне на лавку и заснул, не снимая саквояжа со спины. Фургон с грохотом катился по скользким от дождя валунам вниз, по долине, ведущей к Дайе, но просыпался Черчилль только в тех случаях, когда колеса наскакивали на самые высокие валуны. Когда же его подбрасывало ниже, чем на фут, это его ничуть не беспокоило. Последняя миля дороги оказалась более ровной, и он крепко заснул.
Когда на рассвете они прибыли на место, возчик варварски растолкал Черчилля и прокричал ему в ухо, что "Афинянин" ушел. Черчилль тупо смотрел на опустевшую гавань.
— Вон там виден дымок у Скагуэя, — сказал возчик. Черчилль ничего не видел, так как веки у него распухли, но он сказал:
— Это он, достаньте мне лодку.
Возчик оказался человеком обязательным, раздобыл ялик и нашел человека, который за десять долларов — деньги вперед — взялся грести. Черчилль заплатил, и ему помогли сойти в ялик. Сам он сойти был не в состоянии. До Скагуэя было шесть миль, и у него была блаженная мечта поспать. Но человек, поехавший с ним, не умел грести, и Черчилль сам еще несколько столетий работал веслами. Шесть миль никогда прежде не оказывались такими длинными и мучительными. Не сильный, но свежий бриз дул им навстречу и гнал ялик назад. Черчилль ощущал слабость в желудке, его мучила тошнота, руки и ноги совершенно окоченели. По его приказанию спутник зачерпнул соленой воды и плеснул ему в лицо.
Когда они подплыли к "Афинянину", якорь уже был поднят, а Черчилль вконец выбился из сил.
— Остановите! Остановите! — хрипло закричал он. — Важное сообщение! Остановите!
И он уронил голову на грудь и уснул. Когда шесть человек переносили его вверх по сходням, он проснулся, потянулся за саквояжем и уцепился за него, как утопающий цепляется за соломинку.
На палубе все смотрели на Черчилля с ужасом и любопытством. Одежда, в которой он отправился из Белой Лошади, превратилась в жалкие лохмотья, да и сам он был не в лучшем состоянии. Он находился в пути пятьдесят пять часов при невероятном напряжении сил. За это время он спал всего шесть часов и потерял двадцать фунтов в весе. Лицо, руки и все тело его были исцарапаны и избиты, глаза почти ничего не видели. Черчилль попытался встать, но не смог удержаться на ногах, свалился на палубу, не выпуская из рук саквояж, и передал свое сообщение.
— А теперь положите меня спать, — закончил он, — есть я буду, когда проснусь.
Черчиллю оказали честь и поместили грязного, в лохмотьях в каюте для новобрачных, которая была самой большой и самой роскошной каютой на пароходе. Он проспал двое суток, потом принял ванну, побрился, поел и стоял у поручней, покуривая сигару, когда прибыли двести путников из Белой Лошади.
К тому времени, когда "Афинянин" прибыл в Сиэтл, Черчилль вполне оправился и бодро сошел на берег с саквояжем Бонделла в руках. Он гордился этим саквояжем. В нем для Черчилля воплощалось представление о подвиге, честности и доверии. "Я выполнил поручение" — такими словами выражал он для себя эти высокие понятия. Было еще не поздно, и Черчилль направился прямо к дому Бонделла. Луи Бонделл встретил его радостно, обеими руками пожал ему руку и потащил в дом.
— О, спасибо, старик, хорошо, что ты привез его, — сказал Бонделл, получая саквояж.
Он небрежно бросил саквояж на кушетку, и Черчилль понимающе заметил, как саквояж всей тяжестью подпрыгнул на пружинах. Бонделл закидал Черчилля вопросами.
— Как ты живешь? Как там ребята? Что случилось с Биллом Смитерсом? Что, Дел Бишоп все еще в компании с Пьерсом? Продал он моих собак? Как на Серном Ручье, нашли что-нибудь? Ты прекрасно выглядишь. На каком пароходе ты приехал?
Черчилль обстоятельно отвечал на все вопросы; так прошло полчаса, и в разговоре наметилась первая пауза.
— Не лучше ли тебе посмотреть его? — предложил Черчилль, кивая на саквояж.
— Да там все в порядке, — ответил Бонделл. — Скажи мне, что, россыпь Митчелла действительно дала так много, как ожидали?
— Я все-таки думаю, что тебе следует посмотреть, — настаивал Черчилль. — Когда я передаю доверенную мне вещь, я хочу быть уверен, что все в порядке. Могло случиться, что кто-нибудь залез в твой саквояж, пока я спал, или еще что-нибудь.
— А там нет ничего важного, старик, — со смехом ответил Бонделл.
— Ничего важного, — повторил Черчилль едва слышно. Потом решительно сказал: — Луи, что находится в этом саквояже? Я хочу знать.
Луи с удивлением посмотрел на него, вышел из комнаты и вернулся со связкой ключей. Он запустил руку в саквояж и вытащил оттуда кольт 44-го калибра. За ним последовало несколько коробок с патронами для револьвера и для винчестера.
Черчилль взял саквояж и заглянул в него. Затем он перевернул и легонько потряс.
— Револьвер заржавел, — заметил Бонделл. — Наверное, попал под дождь.
— Да, — ответил Черчилль. — Жаль, что туда проникла сырость. Видимо, я был неосторожен.
Он поднялся и вышел. Через десять минут вышел из дома и Луи Бонделл. Черчилль сидел на ступеньках, подперев подбородок руками, и пристально смотрел в темноту.
Меченый
Не очень-то я теперь высокого мнения о Стивене Маккэе, а ведь когда-то божился его именем. Да, было время, когда я любил его, как родного брата. А попадись мне теперь этот Стивен Маккэй — я не отвечаю за себя! Просто не верится, чтобы человек, деливший со мной пищу и одеяло, человек, с которым мы перемахнули через Чилкутский перевал, мог поступить так, как он. Я всегда считал Стива честным парнем, добрым товарищем; злобы или мстительности у него в натуре и в помине не было. Нет у меня теперь веры в людей! Еще бы! Я выходил этого человека, когда он помирал от тифа, мы вместе дохли с голоду у истоков Стюарта, и кто, как не он, спас мне жизнь на Малом Лососе! А теперь, после стольких лет, когда мы были неразлучны, я могу сказать про Стивена Маккэя только одно: в жизни не видал второго такого негодяя!
Мы собрались с ним на Клондайк в самый разгар золотой горячки, осенью 1897 года, но тронулись с места слишком поздно и не успели перевалить через Чилкут до заморозков. Мы протащили наше снаряжение на спинах часть пути, как вдруг пошел снег. Пришлось купить собак и продолжать путь на нартах. Вот тут и попал к нам этот Меченый. Собаки были в цене, и мы уплатили за него сто десять долларов. Он стоил этого — с виду. Я говорю "с виду", потому что более красивого пса мне еще не доводилось встречать. Он весил шестьдесят фунтов и был словно создан для упряжки. Эскимосская собака? Нет, и не мэлмут и не канадская лайка. В нем было что-то от всех этих пород, а вдобавок и от европейской собаки, так как на одном боку у него посреди желто-рыжих и грязновато-белых разводов — преобладающая окраска этого пса — красовалось угольно-черное пятно величиной со сковородку. Потому мы и прозвали его "Меченым".
Ничего не скажешь, — на первый взгляд пес был что надо. Когда он был в теле, мускулы так и перекатывались у него под кожей. Во всей Аляске не сыскалось бы пса более сильного с виду. И более умного — тоже с виду. Попадись этот Меченый вам на глаза, вы бы сказали, что в любой упряжке он перетянет трех собак одного с ним веса. Может, и так, только видеть этого мне не приходилось. Его ум не на то был направлен. Вот воровать и таскать что ни попало — это он умел в совершенстве. Кое в чем у него был особый, прямо-таки необъяснимый нюх: он всегда знал заранее, когда предстояла работа, и всегда успевал улизнуть. Насчет того, чтобы вовремя пропасть и вовремя найтись, у Меченого был положительно какой-то дар свыше. Зато когда доходило до работы, весь его ум мгновенно испарялся и вместо собаки перед вами была жалкая тварь, дрожащая, как кусок студня, — просто сердце обливалось кровью, на него глядя.
Иной раз мне кажется, что не в глупости тут дело. Быть может, подобно некоторым, хорошо знакомым мне людям, Меченый был слишком умен, чтобы работать. Не удивлюсь, если при своей необыкновенной сметливости он просто-напросто нас дурачил. Может, он прикинул все "за" и "против" и решил, что лучше уж трепка раз-другой и никакой работы, чем работа с утра до ночи, хоть и без трепки. На это у него ума хватило бы. Говорю вам, иной раз сижу я и смотрю в глаза этому псу — и такой в них светится ум, что мурашки по спине побегут и дрожь пробирает до самых костей. Не могу даже объяснить, что это такое, словами не передашь. Я видел это — вот и все. Да, посмотреть ему в глаза было все равно, как заглянуть в человеческую душу. И от того, что я там видел, на меня нападал страх и всякие мысли начинали лезть в голову — о переселении душ и прочей ерунде. Говорю вам, я чувствовал нечто очень значительное в глазах у этого пса: они говорили со мной, но во мне самом не хватало чего-то, чтобы их понять. Как бы там ни было (знаю сам, что, верно, кажусь дураком), но, как бы там ни было, эти глаза сбивали меня с толку. Не могу, ну вот никак не могу объяснить, что я в них видел. Не то чтобы глаза у Меченого как-то особенно светились: нет, в них словно появлялось что-то и уходило в глубину, а глаза-то сами оставались неподвижными. По правде сказать, я не видел даже, как там что-нибудь появлялось, а только чувствовал, что появляется. Говорящие глаза — вот как это надо назвать. И они действовали на меня…
Нет, не то, не могу я этого выразить. Одним словом, у меня возникало какое-то чувство сродства с ним. Нет, нет, дело тут не в сантиментах. Скорее это было чувство равенства. У этого пса глаза никогда не молили, как, например, у оленя. В них был вызов. Да нет, не вызов. Просто спокойное утверждение равенства. И вряд ли он сам это сознавал. А все же факт остается фактом: было что-то в его взгляде, что-то там светилось. Нет, не светилось, а появлялось. Сам знаю, что несу чепуху, но если бы вы посмотрели ему в глаза, как это случалось делать мне, вы бы меня поняли. Со Стивом происходило то же, что со мной. Короче, я пытался однажды убить Меченого — он никуда не был годен — и провалился с этим делом. Завел я его в чащу, — он шел медленно и неохотно, знал, верно, какая участь его ждет. Я остановился в подходящем местечке, наступил ногой на веревку и вынул свой большой кольт. А Меченый сел и стал на меня смотреть. Говорю вам, он не просил пощады, — он просто смотрел. И я увидел, как нечто непостижимое появилось — да, да, появилось — в глазах у этого пса. Не то чтобы я в самом деле что-нибудь видел, — должно быть, просто у меня было такое ощущение. И скажу вам напрямик: я спасовал. Это было все равно, как убить человека — храброго, сознающего свою участь человека, который спокойно смотрит в дуло твоего револьвера и словно хочет сказать: "Ну, кто из нас струсит?" И потом мне все казалось: вот-вот я уловлю то, что было в его взгляде. Надо бы поскорее спустить курок, а я медлил. Вот, вот оно — прямо передо мной, светится и мелькает в его глазах. А потом было уже поздно. Я струсил. Дрожь пробрала меня с головы до пят, под ложечкой засосало, и тошнота подступила к горлу. Тогда я сел и стал смотреть на Меченого, и он тоже на меня смотрит. Чувствую, еще немного, и я свихнусь. Хотите знать, что я сделал? Швырнул револьвер и со всех ног помчался в лагерь — такого страху нагнал на меня этот пес. Стив поднял меня на смех. Однако я приметил, что неделю спустя Стив повел Меченого в лес, как видно, С той же целью, и вернулся назад один, а немного погодя приплелся домой и Меченый.
Как бы там ни было, а только Меченый не желал работать. Мы заплатили за него сто десять долларов, последние деньги наскребли, а он не желал работать, даже постромки не хотел натянуть. Стив пробовал уговорить Меченого, когда мы первый раз надели на него упряжь, но пес только задрожал слегка, — тем дело и кончилось. Хоть бы постромки натянул! Нет! Стоит себе как вкопанный и трясется, точно кусок студня. Стив стегнул его бичом. Он взвизгнул — и ни с места. Стив хлестнул еще раз, посильнее. И Меченый завыл — долго, протяжно, словно волк. Тут уж Стив взбесился и всыпал ему еще с полдюжины, а я выскочил из палатки и со всех ног бросился к ним.
Я сказал Стиву, что нельзя так грубо обращаться с животными, и мы немного повздорили — первый раз за всю жизнь. Стив швырнул бич на снег и ушел злой, как черт. А я поднял бич и принялся за дело. Меченый задрожал, затрясся весь и припал к земле, прежде даже чем я взмахнул бичом. А когда я огрел его разочек, он взвыл, словно грешная душа в аду, и лег на снег. Я погнал собак, и они потащили Меченого за собой, а я продолжал лупить его. Он перекатился на спину и волочился по снегу, дрыгая всеми четырьмя лапами и воя так, словно его пропускали через мясорубку. Стив вернулся и давай хохотать надо мной. Пришлось мне попросить у него прощения за свои слова.
Никакими силами нельзя было заставить Меченого работать, но зато я еще сроду не видал более прожорливой свиньи в собачьей шкуре. И в довершение всего это был ловкий вор. Перехитрить его было невозможно. Не раз оставались мы без копченой грудинки на завтрак, потому что Меченый успевал позавтракать раньше нас. По его вине мы чуть не подохли с голоду в верховьях Стюарта: он ухитрился добраться до наших мясных запасов и чего не смог сожрать сам, прикончила сообща вся упряжка. Впрочем, его нельзя было упрекнуть в пристрастии — он крал у всех. Это была беспокойная собака, вечно рыскавшая вокруг да около или спешившая куда-то с деловым видом. Не было ни одного лагеря на пять миль в окружности, который не подвергся бы его набегам. Хуже всего было то, что к нам поступали счета за его трапезы, которые, по справедливости, приходилось оплачивать, ибо таков был закон страны. И нас это прямо-таки разоряло, особенно в первую зиму на Чилкуте, — мы тогда сразу вылетели в трубу, платя за все свиные окорока и копченую грудинку, которых никто из нас не отведал. Драться этот Меченый тоже умел неплохо. Он умел делать все что угодно, только не работать. Сроду не натянул постромок, но верховодил всей упряжкой. А как он заставлял собак держаться от него на почтительном расстоянии! На это стоило посмотреть — поучительное было зрелище. Он вечно нагонял на них страху, и то одна, то другая собака всегда носила свежие отметины его клыков. Но Меченый был не просто задира. Никакое четвероногое существо не могло внушить ему страха. Я видел, как он один-одинешенек ринулся на чужую упряжку, без малейшего повода с ее стороны, и расшвырял вверх тормашками всех собак. Я, кажется, говорил вам, какой он был обжора? Так вот, как-то раз я поймал его, когда он жрал бич. Да, да, именно так. Начал с самого кончика и, когда я застал его за этим занятием, добрался уже до рукоятки и продолжал ее обрабатывать.
Но с виду Меченый был хорош. В конце первой недели мы продали его отряду конной полиции за семьдесят пять долларов. У них были опытные погонщики, и мы думали, что к тому времени, когда Меченый покроет шестьсот миль до Доусона, из него выйдет приличная упряжная собака. Я говорю "мы думали", потому что в то время наше знакомство с Меченым только начиналось. Потом уже у нас не хватало наглости что-нибудь "думать", когда дело касалось этого пса. Через неделю мы проснулись утром от такой неистовой собачьей грызни, какой мне ни разу не приходилось слышать. Это Меченый возвратился домой и наводил порядок в упряжке. Смею вас уверить, что мы позавтракали без особого аппетита, но часа через два снова воспрянули духом, продав Меченого правительственному курьеру, отправлявшемуся в Доусон с депешами. На сей раз пес пробыл в отлучке всего трое суток и, как водится, отпраздновал свое возвращение хорошей собачьей свалкой.
Переправив наше снаряжение через перевал, мы всю зиму и весну занимались тем, что помогали переправляться всем желающим, и здорово на этом заработали. Кроме того, неплохой доход приносил нам Меченый: мы продавали его не раз и не два, а все двадцать.
Он всегда возвращался к нам, и ни один покупатель не потребовал обратно денег. Да и нам эти деньги были не нужны, — мы сами рады были хорошо заплатить всякому, кто помог бы нам навсегда сбыть Меченого с рук. Нам нужно было отделаться от него, но ведь даром собаку не отдашь — сразу покажется подозрительным. Впрочем, Меченый был такой красавец, что найти на него покупателя не составляло никакого труда.
— Не обломался еще, — говорили мы, и нам платили за него, не торгуясь. Иной раз мы продавали его всего за двадцать пять долларов, а однажды выручили целых сто пятьдесят. Так вот, этот самый покупатель возвратил нам нашего пса лично и даже деньги отказался взять обратно. И уж как он нас поносил — страшно вспомнить! Это совсем недорогая плата, сказал он, за удовольствие выложить напрямик все, что он о нас думает. Да мы и сами понимали, что он прав, и крыть нам было нечем. Но только с того дня, выслушав все, что говорил этот человек, я навсегда потерял уважение к самому себе.
Когда с рек и озер сошел лед, мы погрузили наше снаряжение в лодку на озере Беннет и поплыли в Доусон. У нас была неплохая упряжка, и мы, разумеется, и ее погрузили в лодку. Меченый был тут же, отделаться от "его не представлялось никакой возможности. В первый же день он раз десять затевал с собаками драку и сбрасывал в воду всех своих противников по очереди, — в лодке было тесновато, а он не любил, когда его толкают.
— Этой собаке необходим простор, — сказал Стив на следующий день. — Давай-ка высадим его на берег.
Так мы и сделали, причалив ради этого к берегу у Оленьего перевала. Еще две собаки — очень хорошие собаки — последовали за ним, и мы потеряли целых два дня на их розыски. Так мы этих собак больше и не видели. Но у нас словно гора с плеч свалилась: мы наслаждались покоем и, как тот человек, который отказался взять обратно свои сто пятьдесят долларов, считали, что дешево отделались. Впервые за несколько месяцев мы со Стивом снова смеялись, насвистывали, пели. Мы были счастливы, беспечны, как мотыльки. Черные дни остались позади. Кошмар рассеялся. Меченого больше не было.
Три недели спустя, как-то утром мы со Стивом стояли на берегу реки в Доусоне. Подошла небольшая лодка, только что прибывшая с озера Беннет. Я увидел, что Стив вздрогнул, и услышал, как он произнес нечто не вполне цензурное и притом отнюдь не вполголоса. Смотрю на лодку и вижу: на корме, навострив уши, сидит Меченый. Мы со Стивом немедленно дали тягу, как трусы, как побитые дворняжки, как преступники, скрывающиеся от правосудия. Верно, это последнее пришло в голову и полицейскому сержанту, который видел, как мы улепетывали. Он решил, что в лодке прибыли представители закона и что они охотятся за нами. Не теряя ни минуты на выяснения, сержант погнался за преступниками и в салуне припер нас к стенке. Произошел довольно веселый разговор, так как мы наотрез отказались спуститься к лодке и встретиться с Меченым. В конце концов сержант приставил к нам другого полисмена, а сам пошел к лодке. Отделавшись наконец от полиции, мы направились к своей хижине. Подошли — и видим: Меченый уже поджидает нас, сидя на крылечке. Ну как он узнал, что мы тут живем? В то лето в Доусоне было тысяч сорок жителей. Как же ухитрился он среди всех других хижин разыскать именно нашу? И откуда, черт возьми, мог он знать, что мы вообще находимся в Доусоне? Предоставляю вам решить это самим. Не забудьте только то, что я говорил о его уме. Недаром что-то светилось в его глазах, словно этот пес был наделен бессмертной душой.
Теперь уж мы потеряли всякую надежду избавиться от Меченого: в Доусоне было слишком много людей, покупавших его в Чилкуте, и молва о нем быстро распространилась повсюду. Раз шесть мы сажали его на пароход, спускавшийся вниз по Юкону, но он просто-напросто сходил на берег на первом же причале и не спеша трусил обратно. Мы не могли ни продать его, ни убить (оба пробовали, да ничего не вышло). Никому не удавалось убить Меченого, он был точно заколдован. Я видел как-то его на главной улице, в самой гуще собачьей свалки. На него налетело штук пятьдесят разъяренных псов, а когда эти псы рассыпались в разные стороны, Меченый стоял на всех четырех лапах, целый и невредимый, а две собаки из своры валялись на земле без всяких признаков жизни.
Я видел, как Меченый стащил из погреба у майора Динвидди такой тяжеленный кусок оленины, что еле-еле ухитрялся прыгать с ним на шаг впереди краснокожей кухарки, гнавшейся за похитителем с топором в руке. Когда он взобрался на холм (после того как кухарка отказалась от преследования), сам майор Динвидди вышел из дому и разрядил свой винчестер в расстилавшийся перед ним пейзаж. Он дважды заряжал ружье, расстрелял все патроны — и ни разу не попал в Меченого. А потом прибежал полисмен и арестовал майора за стрельбу из огнестрельного оружия в черте города. Майор Динвидди уплатил положенный штраф, а мы со Стивом уплатили ему за оленину по одному доллару за фунт вместе с костями. Он сам покупал ее по такой цене, — мясо в тот год было дорогое.
Я рассказываю только то, что видел собственными глазами. И сейчас расскажу вам еще кое-что. Я видел, как этот пес провалился в прорубь. Лед был толщиной в три с половиной фута, и Меченого, как соломинку, сразу затянуло течением вниз. Ярдов на триста ниже была другая прорубь, из которой брали воду для больницы. Меченый вылез из этой больничной проруби, облизал с себя воду, обкусал сосульки между пальцами, выбрался на берег и задал трепку большому ньюфаундленду, принадлежавшему приисковому комиссару.
Осенью 1898 года, перед тем как стать рекам, Стив и я поднимались на баграх вверх по Юкону, направляясь к реке Стюарт. Собаки были с нами — все, кроме Меченого. Мы решили: хватит кормить его! С ним было столько хлопот, мы столько потратили на него времени, денег, корма… Особенно корма, а ведь этого ничем не окупишь, хоть мы и немало выручили, продавая этого пса на Чилкуте. И вот мы со Стивом привязали Меченого в хижине, а сами погрузили в лодку наше снаряжение. В эту ночь мы сделали привал в устье Индейской реки и вдоволь повеселились, на радостях, что наконец-то избавились от Меченого. Стив был мастер на всякие штуки, а я сидел, завернувшись в одеяло, и помирал со смеху. Вдруг в лагерь ворвался ураган. У нас волосы встали дыбом, когда мы увидели, как Меченый налетал на собак и разносил всю стаю в клочья. Ну как, скажите на милость, как удалось ему освободиться? Гадайте сами — у меня нет никаких соображений на этот счет. А как он переправился через Клондайк? Вот вам еще одна загадка. И главное, откуда он мог знать, что мы отправились вверх по Юкону? Ведь мы плыли по воде, значит, нас нельзя было найти по следу. Мы со Стивом сделались прямо-таки суеверными из-за этого пса. К тому же он действовал нам на нервы, и, признаться вам по секрету, мы его немножко побаивались.
Когда мы прибыли к ручью Гендерсона, реки стали, и нам удалось продать Меченого за два мешка муки одной группе, направлявшейся вверх по реке Белой за медью. Так вот, вся эта группа пропала. Сгинула бесследно: никто больше не видел ни людей, ни собак, ни нарт — ничего. Все они словно сквозь землю провалились. Это было одно из самых таинственных происшествий в здешних местах. Стив и я двинулись дальше, вверх по реке Стюарт, а шесть недель спустя Меченый притащился к нам в лагерь. Пес был похож на скелет, он еле волочил ноги, а все же добрался до нас. А теперь пусть мне скажут: кто это сообщил ему, что мы отправились вверх по Стюарту? Мы могли направиться в тысячу других мест. Как он узнал? Ну, что вы на это скажете?
Нет, избавиться от Меченого было невозможно. В Мэйо он затеял драку с одной собакой. Ее хозяин-индеец бросился на него с топором, промахнулся и убил свою собственную собаку. Вот и толкуйте о разной там магии и колдовстве, которыми отводят в сторону пули! На мой взгляд, куда трудней отвести в сторону топор, в особенности если за его рукоятку уцепился здоровенный индеец. И вот я видел, своими глазами видел, как Меченый это сделал. Тот индеец вовсе не хотел убивать собственную собаку, можете мне поверить.
Я рассказывал вам, как Меченый добрался до наших мясных запасов? Вот тут уж нам прямо конец пришел. Охота кончилась; кроме этого мяса, у нас ничего не было. Лоси ушли за сотни миль, индейцы со всеми припасами — следом за ними. Прямо хоть ложись и помирай.
Приближалась весна. Оставалось только ждать, когда вскроются реки. Мы здорово отощали, прежде чем решились съесть собак, и в первую очередь решено было съесть Меченого. Так что же вы думаете, как поступил этот пес? Он улизнул. Ну как он мог знать, что было у нас на уме? Мы просиживали ночи напролет, подстерегая его, но он не вернулся, и мы съели остальных собак, съели всю упряжку.
Теперь послушайте, чем все это кончилось. Видели вы когда-нибудь, как вскрывается большая река и миллионы тонн льда несутся вниз по течению, теснясь, перемалываясь и наползая друг на друга? И вот, когда река Стюарт с ревом и грохотом ломала лед, в самой гуще ледяного месива мы углядели Меченого. Он, должно быть, пытался переправиться через реку где-нибудь выше по течению, и в эту минуту лед тронулся. Мы со Стивом носились по берегу взад и вперед, вопя и улюлюкая что было мочи и размахивая шапками. Потом останавливались и душили друг друга в объятиях; мы бесновались от радости, видя, что Меченому пришел конец. У него не было ни единого шанса выбраться оттуда! Как только лед сошел, мы сели в челнок и поплыли вниз по течению до Юкона и вниз по Юкону до Доусона, остановившись всего лишь раз — в поселке у ручья Гендерсона, чтобы немного подкормиться. А когда в Доусоне мы причалили к берегу, на пристани, навострив уши и приветливо помахивая хвостом, сидел Меченый и скалил зубы, словно говорил нам: "Добро пожаловать!" Ну как он выбрался? И откуда мог узнать, когда мы приплывем в Доусон? А ведь встретил нас на пристани минута в минуту!
Чем больше я думаю об этом Меченом, тем бесповоротнее прихожу к убеждению, что есть такие вещи на свете, которые не по плечу науке. Никакая наука не в силах объяснить Меченого. Это совсем особое физическое явление, или даже мистическое, или еще что-нибудь в этом роде, и, насколько я понимаю, с прибавлением солидной доли теософии. Клондайк — хорошая страна. Я мог бы и сейчас жить там и стать миллионером, если б не этот пес. Он действовал мне на нервы. Я терпел эту собаку целых два года, а потом, как видно, силы мои истощились. Летом 1899 года мне пришлось выйти из игры. Я ничего не сказал Стиву. Я просто удрал, оставив ему записку и приложив к ней пакетик "Смерть крысам", с объяснением, что с этим надо делать. Я совсем отощал из-за этого Меченого и стал таким нервным, что вскакивал и оглядывался по сторонам, когда кругом не было ни души. И просто удивительно, как быстро я пришел в себя, стоило мне только избавиться от этого пса. Двадцать фунтов прибавил, прежде чем попал в Сан-Франциско, а когда сел на паром, чтобы добраться до Окленда, то уже настолько оправился, что даже моя жена тщетно старалась найти во мне хоть какую-нибудь перемену.
Как-то раз я получил письмо от Стива, и в этом письме сквозило некоторое раздражение: Стив принял довольно близко к сердцу то, что я оставил его с Меченым. Между прочим, он писал, что использовал "Смерть крысам" согласно инструкции, но ничего путного из этого не вышло.
Прошел год. Я опять вернулся в свою контору и преуспевал как нельзя лучше, даже раздобрел слегка. И вот тут-то и объявился Стив. Он не зашел повидаться со мной. Я прочел его имя в списке пассажиров, прибывших с пароходом, и был удивлен, почему он не показывается. Но долго удивляться мне не пришлось. Как-то утром я вышел из дому и увидел Меченого: он был привязан к столбу калитки и держал молочника на почтительном расстоянии от себя. В то же утро я узнал, что Стив уехал на Север в Сиэтл. С тех пор я уже не прибавлял в весе. Моя жена заставила меня купить Меченому ошейник с номерком, и не прошло и часа, как он выразил ей свою признательность, придушив ее любимую персидскую кошку. Никакие силы теперь не освободят меня больше от Меченого. Этот пес будет со мной до самой моей смерти, ибо он-то никогда не издохнет. С тех пор как он объявился, у меня испортился аппетит, и жена говорит, что я чахну на глазах. Прошлой ночью Меченый забрался в курятник к мистеру Харвею (Харвей — это мой сосед) и задушил у него девятнадцать самых породистых кур. Мне придется заплатить за них. Другие наши соседи поссорились с моей женой и съехали с квартиры: причиной ссоры был Меченый. Вот почему я разочаровался в Стивене Маккэе. Никак не думал, что он окажется таким подлецом.
Костер
День только занялся, холодный и серый — очень холодный и серый, — когда человек свернул с тропы, проложенной по замерзшему Юкону, и стал подниматься на высокий берег, где едва заметная тропинка вела на восток сквозь густой ельник. Подъем был крутой, и, взобравшись наверх, он остановился перевести дух, а чтобы скрыть от самого себя эту слабость, деловито посмотрел на часы. Стрелки показывали девять. Солнца не было, ни намека на солнце в безоблачном небе, и потому, хотя день был ясный, все кругом казалось подернутым неуловимой дымкой, словно прозрачная мгла затемнила дневной свет. Но человека это не тревожило. Он привык к отсутствию солнца. Оно давно уже не показывалось, и человек знал, что пройдет еще несколько дней, прежде чем лучезарный диск на своем пути к югу на мгновение выглянет из-за горизонта и тут же скроется с глаз.
Человек посмотрел через плечо в ту сторону, откуда пришел. Юкон, раскинувшись на милю в ширину, застыл под трехфутовым слоем льда. А лед был прикрыт такою же толстой пеленой снега. Девственно белый покров ложился волнистыми складками в местах ледяных заторов. К югу и к северу, насколько хватал глаз, была сплошная белизна; только очень тонкая темная линия, обогнув поросший ельником остров, извиваясь, уходила на юг и, так же извиваясь, уходила на север, где исчезала за другим, поросшим ельником островом. Это была тропа, снежная тропа, проложенная по Юкону, которая тянулась на пятьсот миль к югу до Чилкутского перевала, до Дайи и Соленой Воды, и на семьдесят миль к северу до Доусона, и еще на тысячу миль до Нулато, и дальше до Сент-Майкла на Беринговом море, — полторы тысячи миль снежного пути.
Но все это — таинственная, уходящая в бесконечную даль снежная тропа, чистое небо без солнца, трескучий мороз, необычный и зловещий колорит пейзажа — не пугало человека. Не потому, что он к этому привык. Он был чечако, новичок в этой стране, и проводил здесь первую зиму. Просто он, на свою беду, не обладал воображением. Он зорко видел и быстро схватывал явления жизни, но только явления, а не их внутренний смысл. Пятьдесят градусов ниже нуля означали восемьдесят с лишним градусов мороза. Такой факт говорил ему, что в пути будет очень холодно и трудно и больше ничего. Он не задумывался ни над своей уязвимостью, ни над уязвимостью всякого живого существа, способного жить только в строго ограниченных температурных пределах, и не пускался в догадки о возможном бессмертии или о месте человека во вселенной. Пятьдесят градусов ниже нуля предвещали жестокий холод, от которого нужно защитить себя рукавицами, наушниками, мокасинами и толстыми носками. Пятьдесят градусов ниже нуля были для него просто пятьдесят градусов ниже нуля. Мысль о том, что это может означать нечто большее, даже не приходила ему в голову.
Повернувшись лицом к тропинке, он задумчиво сплюнул длинным плевком. Раздался резкий внезапный треск, удививший его. Он сплюнул опять. И опять, еще в воздухе, прежде чем упасть на снег, слюна затрещала. Человек знал, что при пятидесяти градусах ниже нуля плевок трещит на снегу, но сейчас он затрещал в воздухе. Значит, мороз стал еще сильнее; насколько сильнее — он не знал. Но это не важно. Цель его пути — знакомый участок на левом рукаве ручья Гендерсона, где его поджидают товарищи. Они пришли туда по перевалу с берегов Индейской реки, а он пошел в обход, чтобы посмотреть, можно ли будет весной переправить сплавной лес с островов на Юконе. Он доберется до лагеря к шести часам. Правда, к этому времени уже стемнеет, но там его будут ждать товарищи, ярко пылающий костер и горячий ужин. А завтрак — здесь; он положил руку на сверток, оттопыривавший борт меховой куртки.
Завтрак был завернут в носовой платок и засунут под рубашку. Иначе лепешки замерзнут. Он улыбнулся про себя, с удовольствием думая о вкусном завтраке: пропитанные жиром лепешки были разрезаны пополам и переложены толстыми ломтями поджаренного сала.
Он вошел в густой еловый лес. Тропинка была еле видна. Должно быть, здесь давно никто не проезжал — снегу намело на целый фут, и он радовался, что не взял нарт, а идет налегке и что вообще ничего при нем нет, кроме завтрака, завернутого в носовой платок. Однако его удивляло, что так холодно. Очень скоро он почувствовал, что у него немеют нос и скулы. Мороз нешуточный, что и говорить, подумал он, растирая лицо рукавицей. Густые усы и борода предохраняли щеки и подбородок, но не защищали широкие скулы и нос, вызывающе выставленный навстречу морозу.
За человеком по пятам бежала ездовая собака местной породы, рослая, с серой шерстью, ни внешним видом, ни повадками не отличавшаяся от своего брата, дикого волка. Лютый мороз угнетал животное. Собака знала, что в такую стужу не годится быть в пути. Ее инстинкт вернее подсказывал ей истину, чем человеку его разум. Ведь было не только больше пятидесяти градусов, было больше шестидесяти, больше семидесяти. Было ровно семьдесят пять градусов ниже нуля. Так как точка замерзания по Фаренгейту находится на тридцать втором градусе выше нуля, то было полных сто семь градусов мороза. Собака ничего не знала о термометрах. Вероятно, в ее мозгу отсутствовало то ясное представление о сильном холоде, которое существует в человеческом мозгу. Но собаку предостерегал инстинкт. Ее охватывало смутное, но острое чувство страха; она понуро шла за человеком, ловя каждое его движение, словно ожидая, что он вернется в лагерь или укроется где-нибудь и разведет костер. Собака знала, что такое огонь, она жаждала огня, а уж если его нет — зарыться в снег и, свернувшись клубочком, сберечь свое тепло.
Пар от дыхания кристаллической пылью оседал на шерсти собаки; вся морда была густо покрыта инеем, даже ресницы побелели. Рыжая борода и усы человека тоже замерзли, но их покрывал не иней, а плотная ледяная корка, и с каждым выдохом она утолщалась. К тому же он жевал табак, и намордник изо льда так крепко стягивал ему губы, что он не мог сплюнуть, и табачный сок примерзал к нижней губе. Ледяная борода, плотная и желтая, как янтарь, становилась все длинней; если он упадет, она, точно стеклянная, рассыплется мелкими осколками. Но этот привесок на подбородке не смущал его. Такую дань в этом краю платили все жующие табак, а он уже дважды делал переходы в сильный мороз. Правда, не в такой сильный, как сегодня, однако спиртовой термометр на Шестидесятой Миле в первый раз показывал пятьдесят, а во второй — пятьдесят пять градусов ниже нуля.
Несколько миль он шел лесом по ровной местности, потом пересек широкое поле, заросшее темным кустарником, и спустился к узкой замерзшей речке. Это и был ручей Гендерсона, отсюда до развилины оставалось десять миль. Он посмотрел на часы. Было ровно десять. Он делает четыре мили в час, значит, у развилины будет в половине первого. Он решил отпраздновать там это событие — сделать привал и позавтракать.
Собака, уныло опустив хвост, покорно поплелась за человеком, когда тот зашагал по замерзшему руслу. Старые борозды, оставленные нартами, были ясно видны, но свежие следы полозьев дюймов на десять занесло снегом. Вероятно, целый месяц никто не проходил здесь ни вверх, ни вниз по течению. Человек уверенно шел вперед. Он не имел привычки предаваться размышлениям, и сейчас ему решительно не о чем было думать, кроме как о том, что, добравшись до развилины, он позавтракает, а в шесть часов будет в лагере среди товарищей. Разговаривать было не с кем; и все равно он не мог бы разжать губы, скованные ледяным намордником. Поэтому он продолжал молча жевать табак, и его янтарная борода становилась все длиннее.
Время от времени в его мозгу всплывала мысль, что мороз очень сильный, такой сильный, какого ему еще не приходилось переносить. На ходу он то и дело растирал рукавицей щеки и нос. Он делал это машинально, то одной рукой, то другой. Но стоило ему только опустить руку, как в ту же секунду щеки немели, а еще через секунду немел кончик носа. Щеки будут отморожены, он знал это и жалел, что не запасся повязкой для носа, вроде той, которую надевал Бэд, собираясь в дорогу. Такая повязка и щеки защищает от мороза. Но это, в сущности, не так важно. Ну, отморозит щеки, что ж тут такого? Поболят и перестанут, вот и все; от этого еще никто не умер.
Хотя человек шел, ни о чем не думая, он зорко следил за дорогой, отмечая каждое отклонение русла, все изгибы, повороты, все заторы сплавного леса, и тщательно выбирал место, куда поставить ногу. Однажды, огибая поворот, он шарахнулся в сторону, как испугавшаяся лошадь, сделал крюк и вернулся обратно на тропу. Он знал, что ручей Гендерсона замерз до самого дна — ни один ручей не устоит перед арктической зимой, но он знал и то, что есть ключи, которые бьют из горных склонов и протекают под снегом, по ледяной поверхности ручья. Самый лютый мороз бессилен перед этими ключами, и он знал, какая опасность таится в них. Это были ловушки. Под снегом скоплялись озерца глубиной в три дюйма, а то и в три фута. Иногда их покрывала ледяная корка в полдюйма толщиной, а корку, в свою очередь, покрывал снег. Иногда ледяная корка и вода перемежались, так что если путник проваливался, то он проваливался постепенно и, погружаясь все глубже и глубже, случалось, промокал до пояса.
Вот почему человек так испуганно шарахнулся. Он почувствовал, что наст поддается под ногами, и услышал треск скрытой под снегом ледяной корки. А промочить ноги в такую стужу не только неприятно, но и опасно. В лучшем случае это вызовет задержку, потому что придется разложить костер, чтобы разуться и высушить носки и мокасины. Оглядев русло реки и берега, он решил, что ключ бежит справа. Он постоял немного в раздумье, потирая нос и щеки, потом взял влево, осторожно ступая, перед каждым шагом ногой проверяя крепость наста. Миновав опасное место, он засунул в рот свежую порцию табака и зашагал дальше со скоростью четырех миль в час.
В ближайшие два часа он несколько раз натыкался на такие ловушки. Обычно его предостерегал внешний вид снежного покрова: снег над озерцами был ноздреватый и словно засахаренный. И все-таки один раз он чуть было не провалился, а в другой раз, заподозрив опасность, заставил собаку идти вперед. Собака не хотела идти. Она пятилась назад до тех пор, пока человек не подогнал ее пинком. И тогда она быстро побежала по белому сплошному снегу. Вдруг ее передние лапы глубоко ушли в снег, она забарахталась и вылезла на безопасное место. Мокрые лапы мгновенно покрылись льдом. Собака стала торопливо лизать их, стараясь снять ледяную корку, потом легла в снег и принялась выкусывать лед между когтями. Она делала это, повинуясь инстинкту. Если оставить лед между когтями, то лапы будут болеть. Она этого не знала, она просто подчинялась таинственному велению, идущему из сокровенных глубин ее существа. Но человек знал, ибо составил себе суждение об этом на основании опыта, и, скинув рукавицу с правой руки, он помог собаке выломать кусочки льда. Пальцы его оставались неприкрытыми не больше минуты, и он поразился, как быстро они закоченели. Мороз нешуточный, что и говорить. Он поспешил натянуть рукавицу и начал яростно колотить рукой по груди.
К двенадцати часам стало совсем светло. Но солнце, совершая свой зимний путь, слишком далеко ушло к югу и не показывалось над горизонтом. Горб земного шара заслонял солнце от человека, который шел, не отбрасывая тени, по руслу ручья Гендерсона под полдневным безоблачным небом. В половине первого, минута в минуту, он достиг развилины ручья. Он порадовался тому, что так хорошо идет. Если не убавлять хода, то к шести часам наверняка можно добраться до товарищей. Он расстегнул куртку, полез за пазуху и достал свой завтрак. Это заняло не больше пятнадцати секунд, и все же его пальцы онемели. Он несколько раз сильно ударил голой рукой по ноге. Потом сел на покрытое снегом бревно и приготовился завтракать. Но боль в пальцах так скоро прошла, что он испугался. Не успев поднести лепешку ко рту, он опять заколотил рукой по колену, потом надел рукавицу и оголил другую руку. Он взял ею лепешку, поднес ко рту, хотел откусить, но не мог — мешал ледяной намордник. Как же это он забыл, что нужно разложить костер и оттаять у огня. Он засмеялся над собственной глупостью и тут же почувствовал, что пальцы левой руки коченеют. И еще он заметил, что пальцы ног, которые больно заныли, когда он сел, уже почти не болят. Он не знал, отчего прошла боль: оттого ли, что ноги согрелись, или оттого, что они онемели. Он пошевелил пальцами в мокасинах и решил, что это онемение.
Ему стало не по себе, и, торопливо натянув рукавицу, он поднялся с бревна. Потом зашагал взад и вперед, сильно топая, чтобы отогреть пальцы ног. Мороз нешуточный, что и говорить, думал он. Тот старик с Серного ручья не соврал, когда рассказывал, какие здесь бывают холода. А он еще посмеялся над ним! Никогда не нужно быть слишком уверенным в себе. Что правда, то правда — мороз лютый. Он топтался на месте и молотил руками, пока возвращающееся тепло не рассеяло его тревоги. Потом достал спички и начал раскладывать костер. Топливо было под рукой: в подлесок во время весеннего разлива нанесло много валежника. Он действовал осторожно, бережно поддерживая слабый огонек, пока костер не запылал ярким пламенем. Ледяная корка на его лице растаяла, и, греясь у костра, он позавтракал. Он перехитрил мороз хотя бы на время. Собака, радуясь огню, растянулась у костра как раз на таком расстоянии, чтобы пламя грело ее, но не обжигало.
Кончив есть, человек набил трубку и спокойно, не спеша выкурил ее. Потом натянул рукавицы, поплотнее завязал тесемки наушников и пошел по левому рукаву ручья. Собака была недовольна, она не хотела уходить от костра. Этот человек явно не знал, что такое мороз. Может быть, все поколения его предков не знали, что такое мороз, мороз в сто семь градусов. Но собака знала, все ее предки знали, и она унаследовала от них это знание. И она знала, что не годится быть в пути в такую лютую стужу. В эту пору надо лежать, свернувшись клубочком, в норке под снегом, дожидаясь, пока безбрежное пространство, откуда идет мороз, не затянется тучами. Но между человеком и собакой не было дружбы. Она была его слугой, его рабом и никогда не видела от него ласки — только удары бича и хриплые, угрожающие звуки, предшествующие ударам. Поэтому собака не делала попыток поделиться с человеком своими опасениями. Она не заботилась о его благополучии, ради своего блага не хотела она уходить от костра. Но человек свистнул и заговорил с нею голосом, напомнившим ей о биче, и собака, повернувшись, пошла за ним по пятам.
Человек сунул в рот свежую жвачку и начал отращивать новую янтарную бороду. От его влажного дыхания усы, брови и ресницы мгновенно заиндевели. На левом рукаве ручья Гендерсона, по-видимому, было меньше горных ключей, и с полчаса путник не видел угрожающих примет.
А потом случилась беда. На ровном сплошном снегу, где ничто не предвещало опасности, где снежный покров, казалось, лежал толстым, плотным слоем, человек провалился. Здесь было не очень глубоко. Он промочил ноги до середины икр, пока выбирался на твердый наст.
Неудача разозлила его, и он выругался вслух. Он надеялся быть в лагере среди товарищей к шести часам, а теперь запоздает на целый час, потому что придется разложить костер и высушить обувь. Иначе нельзя при такой низкой температуре — это он по крайней мере знал твердо; он повернул к высокому берегу и вскарабкался на него. В молодом ельнике, среди кустов, нашлось хорошее топливо — не только прутья и ветки, но и много сухих сучьев и высохшей прошлогодней травы. Он бросил на снег несколько палок потолще, чтобы дать костру прочное основание и чтобы слабое, еще не разгоревшееся пламя не погасло в растаявшем под ним снегу. Потом достал из кармана завиток березовой коры и поднес к нему спичку. Кора вспыхнула, как бумага. Положив ее на толстые сучья, он стал подкладывать в огонь сухие травинки и самые тонкие сухие прутики.
Он работал медленно и осторожно, ясно понимая грозившую ему опасность. Мало-помалу, по мере того как пламя разгоралось, он стал подкладывать прутья потолще. Он сидел в снегу на корточках, выдергивал хворостинки из кустарника и клал их в костер. Он знал, что должен с первого раза развести огонь. Когда термометр показывает семьдесят пять ниже нуля, человек должен без задержки разжечь костер, если у него мокрые ноги. Если ноги сухие, он может пробежать с полмили и восстановить кровообращение. Но никакой пробежкой не восстановишь кровообращения в мокрых, коченеющих ногах при семидесяти пяти градусах ниже нуля. Как быстро ни беги, мокрые ноги будут только еще пуще мерзнуть.
Все это человек знал. Тот старик с Серного ручья говорил ему об этом осенью, и теперь он оценил его совет.
Он уже совсем не чувствовал ног. Чтобы разложить костер, ему пришлось снять рукавицы, и пальцы тотчас же онемели. При быстрой ходьбе со скоростью четырех миль в час сердце накачивало кровью все сосуды, тепло было и рукам и ногам. Но как только он остановился, подача крови прекратилась. Полярный холод обрушился на незащищенную точку земного шара, и человек, находясь в этой незащищенной точке, принял на себя всю силу ударов. Кровь в его жилах отступала перед ними. Кровь была живая, так же как его собака, и, так же, как собаку, ее тянуло спрятаться, укрыться от страшного холода. Пока он делал четыре мили в час, кровь волей-неволей приливала к конечностям, но теперь она отхлынула, ушла в тайники его тела. Пальцы рук и ног первые почувствовали отлив крови. Мокрые ноги стыли все сильнее, пальцы оголенных рук все сильнее мерзли, хотя он еще мог двигать ими. Нос и щеки уже мертвели, и по всему телу, не согреваемому кровью, пробегала дрожь.
Но он спасен. Пальцы ног, щеки и нос будут только обморожены, — ведь костер уже разгорается. Теперь он подбрасывал ветки толщиной с палец. Еще минута — и можно будет класть сучья толщиной с запястье, и тогда он скинет мокрую обувь и, пока она будет сохнуть, отогреет ноги у костра, после того, конечно, как разотрет их снегом. Костер удался на славу. Он спасен. Он вспомнил советы старика на Серном ручье и улыбнулся. Как упрямо он твердил, что нельзя в одиночку пускаться в путь по Клондайку, если мороз сильнее пятидесяти градусов! И что же? Лед под ним проломился, он совсем один и все-таки спасся. Эти бывалые старики, подумал он, частенько трусливы, как бабы. Нужно только не терять головы, и все будет в порядке. Настоящий мужчина и один всегда справится. Но странно, что щеки и нос так быстро мерзнут. И он никак не думал, что руки мгновенно омертвеют. Он едва шевелил пальцами, с большим трудом удерживал в них сучья, и ему казалось, что руки где-то очень далеко от него и не принадлежат к его телу. Когда он хватался за сучок, ему приходилось смотреть на руку, чтобы убедиться, что он действительно подобрал его. Связь между ним и кончиками его пальцев была прервана.
Но все это не важно. Перед ним костер, он шипит и потрескивает, и каждый пляшущий язычок сулит жизнь. Он принялся развязывать мокасины. Они покрылись ледяной коркой, толстые шерстяные носки, словно железные ножны, сжимали икры, а завязки мокасин походили на клубок побывавших в огне, исковерканных стальных прутьев. С минуту он дергал их онемевшими пальцами, потом, поняв, что это бессмысленно, вытащил нож.
Но он не успел перерезать завязки — беда случилась раньше. Это была его вина, вернее, оплошность. Напрасно он разложил костер под елью. Следовало разложить его на открытом месте. Правда, так было удобнее вытаскивать хворост из кустарника и прямо класть в огонь. Но на ветках ели, под которой он развел огонь, лежал снег. Ветра не было очень давно, и снегу на ветвях скопилось много. Каждый раз, когда он выдергивал хворост из кустов, ель слегка сотрясалась — едва заметно для него, но достаточно сильно, чтобы вызвать катастрофу. Одна из верхних ветвей сбросила свой груз снега. Он упал на ветви пониже, увлекая за собой их груз. Так продолжалось до тех пор, пока снег не посыпался со всего дерева. Этот снежный обвал внезапно обрушился на человека и на костер, и костер погас! Там, где только что горел огонь, лежал свежий слой рыхлого снега.
Человеку стало страшно. Словно он услышал свой смертный приговор. С минуту он сидел не шевелясь, пристально глядя на засыпанный снегом костер. Потом вдруг сделался очень спокоен. Быть может, старик на Серном ручье все-таки был прав. Будь у него спутник, ему не грозила бы опасность. Спутник развел бы костер. Что же, значит, надо самому сызнова приниматься за дело, и на этот раз ошибки быть не должно. Даже если ему удастся развести огонь, он, вероятно, лишится нескольких пальцев на ногах. Ноги, наверно, сильно обморожены, а новый костер разгорится не скоро.
Таковы были его мысли, но он не предавался им в бездействии. Он усердно работал, пока они мелькали у него в голове. Он сложил новое основание для костра, теперь уже на открытом месте, где ни одна предательская ель не могла загасить его. Потом набрал прошлогодней травы и сушняку из подлеска. Пальцы его не двигались, поэтому он не выдергивал отдельные веточки, а собирал их горстями. Попадалось много гнилушек и комков зеленого мха, которые для костра не годились, но другого выхода у него не было. Он работал методически, даже набрал охапку толстых сучьев, чтобы подкладывать в огонь, когда костер разгорится. А собака сидела на снегу и неотступно следила за человеком тоскливым взглядом, ибо она ждала, что он даст ей огонь, а огня все не было.
Приготовив топливо, человек полез в карман за вторым завитком березовой коры. Он знал, что кора в кармане, и, хотя не мог осязать ее пальцами, все же слышал, как она шуршит под рукой. Сколько он ни бился, он не мог схватить ее. И все время его мучила мысль, что ноги у него коченеют сильней и сильней. От этой мысли становилось нестерпимо страшно, но он гнал ее и преодолевал страх. Он зубами натянул рукавицы и, сначала сидя, а потом стоя, принялся изо всех сил колотить руками по бедрам; а собака сидела на снегу, обвив пушистым волчьим хвостом передние лапы, насторожив острые волчьи уши, и пристально глядела на человека. И человек, размахивая руками и колотя ладонями по бедрам, чувствовал, как в нем подымается жгучая зависть к животному, которому было тепло и надежно в его природном одеянии.
Немного погодя он ощутил первые отдаленные признаки чувствительности в кончиках пальцев. Слабое покалывание становилось все сильнее, пока не превратилось в невыносимую боль, но он обрадовался ей. Он скинул рукавицу с правой руки и вытащил кору из кармана. Голые пальцы тотчас же стали неметь. Потом он достал связку серных спичек. Но леденящее дыхание мороза уже сковало его пальцы. Пока он тщетно пытался отделить одну спичку, вся связка упала в снег. Он хотел поднять ее, но не мог. Омертвевшие пальцы не могли ни нащупать спички, ни схватить их. Он старался не спешить. Он заставил себя не думать об отмороженных ногах, скулах и носе и сосредоточил все внимание на спичках. Он следил глазами за своей рукой, пользуясь зрением вместо осязания, и, увидев, что пальцы обхватили связку, сжал их, вернее, захотел сжать; но связь была прервана, и пальцы не повиновались его воле. Он натянул рукавицу и яростно начал бить рукой по бедру. Потом обеими руками сгреб спички вместе со снегом себе на колени. Но этого было мало.
После долгой возни ему удалось зажать спички между ладонями и поднести их ко рту. Лед затрещал, разламываясь, когда он нечеловеческим усилием разжал челюсти. Он втянул нижнюю губу, приподнял верхнюю и зубами стал отделять спичку. Наконец, это удалось, и спичка упала ему на колени. Но и этого было мало. Он не мог подобрать ее. Потом выход нашелся. Он схватил спичку зубами и стал тереть о штанину. Раз двадцать провел он спичкой по ноге, раньше чем она зажглась. Когда пламя вспыхнуло, он, все еще держа спичку в зубах, поднес ее к березовой коре. Но едкий дым горящей серы попал ему в ноздри и в легкие, и он судорожно закашлялся. Спичка упала в снег и погасла.
Старик был прав, подумал он, подавляя отчаяние: если температура ниже пятидесяти градусов, нужно идти вдвоем. Он снова заколотил руками, но они не оживали. Тогда он зубами стащил рукавицы с обеих рук и подобрал ладонями всю связку спичек. Мышцы предплечья не замерзли, и, напрягая их, он крепко сжал спички в ладонях. Потом провел всей связкой по штанине. Вспыхнуло яркое пламя — семьдесят серных спичек запылали, как одна! И ни малейшего ветра, можно было не опасаться, что ветер задует огонь. Он отвернул голову, чтобы не вдохнуть удушливый дым, и поднес пылающую связку к березовой коре. Вдруг он почувствовал, что пальцы правой руки оживают. Запахло горелым мясом. Где-то глубоко под кожей он ощущал жжение. Потом жжение превратилось в острую боль. Но он терпел, стиснув зубы, неловко прижимая горящие спички к коре; его собственные руки заслоняли пламя, и кора не вспыхивала.
Наконец, когда боль стала нестерпима, он разжал руки. Пылающая связка с шипением упала в снег, но кора уже горела. Он начал подкладывать в огонь сухие травинки и тончайшие прутики. Выбирать топливо он не Мог, потому что ему приходилось поднимать его ладонями. Замечая на хворосте налипший мох или труху, он отгрызал их зубами. Он бережно и неловко выхаживал огонь. Огонь — это жизнь, и его нельзя упускать. Отлив крови от поверхности тела вызвал озноб, и движения человека становились все более неловкими. И вот большой ком зеленого мха придавил едва разгоревшийся огонек. Он хотел сбросить его, но руки дрожали от озноба, и он, ковырнув слишком глубоко, разрушил слабый зародыш костра — тлеющие травинки и прутики рассыпались во все стороны. Он хотел снова сложить их, но, как ни старался, не мог преодолеть дрожи, и крохотный костер разваливался. Хворостинки одна за другой, пыхнув дымком, угасали. Податель огня не выполнил своей задачи. Когда человек с равнодушием отчаяния посмотрел вокруг, взгляд его случайно упал на собаку, сидевшую в снегу напротив него, по другую сторону остатков костра; сгорбившись, она беспокойно ерзала, поднимая то одну, то другую переднюю лапу, и выжидательно, с тоской смотрела на него.
Вид собаки навел его на безумную мысль. Он вспомнил рассказ о человеке, который был застигнут пургой и спасся тем, что убил вола и забрался внутрь туши. Он убьет собаку и погрузит руки в ее теплое тело, чтобы они согрелись и ожили. Тогда он разложит новый костер. Он заговорил с собакой, подзывая ее; но его голос звучал боязливо, и это испугало животное, потому что человек никогда не говорил с ней таким голосом. Что-то было неладно, врожденная подозрительность помогла ей почуять опасность. Она не знала, какая это опасность, но где-то в глубине ее сознания зашевелился смутный страх перед человеком. Она опустила уши и еще беспокойнее заерзала, переступая передними лапами, но с места не трогалась. Тогда человек стал на четвереньки и пополз к собаке. Это еще больше испугало ее, и она опасливо подалась в сторону.
Человек сел на снегу, стараясь вернуть себе спокойствие. Потом зубами стянул рукавицы и встал. Прежде всего он посмотрел вниз, чтобы убедиться, что он действительно стоит, потому что онемевшие ноги не чувствовали земли. Стоило ему встать на ноги, как подозрения собаки рассеялись, а когда он повелительно заговорил с ней голосом, напомнившим ей о биче, она выполнила привычный долг и подошла к нему. Как только она очутилась в двух шагах от него, самообладание покинуло человека. Он бросился на собаку — и искренне удивился, когда оказалось, что руки его не могут хватать, пальцы не сгибаются и не держат. Он забыл, что они отморожены и все больше и больше мертвеют. Но в ту же секунду, прежде чем собака успела убежать, он стиснул ее в объятиях. Потом сел на снег, прижимая ее к себе, а животное вырывалось, рыча и взвизгивая.
Но это было все, что он мог сделать: сидеть на снегу и сжимать собаку в объятиях. Он понимал, что ему не убить ее. Это было невозможно. Своими обессиленными руками он не мог ни ударить ее ножом, ни задушить. Он выпустил собаку, и она кинулась прочь, поджав хвост и все еще рыча. Шагах в двадцати она остановилась и с любопытством, подняв уши, оглянулась на него. Он искал глазами свои руки и, только скользнув взглядом от локтя к запястью, нашел их. Странно, что приходится полагаться на зрение, чтобы найти свои руки. Он начал неистово размахивать ими, колотя себя ладонями по бедрам. Через пять минут кровь быстрее побежала по жилам и озноб прекратился. Но кисти рук по-прежнему не действовали; у него было такое ощущение, словно они гирями висят на запястьях. Откуда взялось это ощущение, он не мог бы сказать.
Гнетущая мысль о грозящей гибели сначала лишь смутно и тупо шевельнулась в его мозгу. Но очень скоро этот неопределенный страх превратился в мучительное сознание смертельной опасности: речь шла уже не о том, отморозит ли он пальцы на руках и ногах, и даже не о том, лишится ли он рук и ног, — теперь это был вопрос жизни и смерти, и надежды на спасение почти не было. Его охватил панический ужас. Он повернулся и побежал по занесенной снегом тропе. Собака последовала за ним. Он бежал без мысли, без цели, во власти такого страха, какого ему еще никогда не приходилось испытывать. Мало-помалу, пока он бежал, спотыкаясь и увязая в снегу, он снова начал различать окружающее: берега реки, заторы сплавного леса, голые осины, небо над головой. От бега ему стало легче. Он уже не дрожал от холода. Может быть, если и дальше так бежать, ноги отойдут; может быть, он даже сумеет добежать до лагеря, где его ждут товарищи. Конечно, несколько пальцев на руках и ногах пропали, и лицо обморожено, но товарищи позаботятся о нем и спасут, что еще можно спасти. И в то же время сознание говорило ему, что никогда он не доберется до товарищей, что до лагеря слишком далеко, что ноги его слишком закоченели и что скоро он будет мертв и недвижим. Но он не позволял этой мысли всплыть на поверхность и отказывался верить ей. Иногда она вырывалась наружу и требовала внимания, но он отталкивал ее и изо всех сил старался думать о другом.
Его удивляло, что он вообще может бежать, потому что ноги совсем омертвели и он не чувствовал, как они несут его тяжесть и как касаются земли. Тело словно скользило по тропе, не задевая ее. Он как-то видел на картинке крылатого Меркурия, и ему пришло в голову, что, должно быть, у Меркурия было такое же ощущение, когда он скользил над землей.
В его плане добежать до лагеря имелся существенный изъян — у него не было сил выполнить его. Он то и дело оступался, потом ноги стали заплетаться, и, наконец, он свалился в снег. Встать он уже не мог. Надо посидеть и отдохнуть, решил он, а потом просто пойти шагом. Посидев и отдышавшись, он почувствовал, что хорошо согрелся. Его не знобило, и в груди даже разливалось приятное тепло. Но, дотронувшись до щек и носа, он убедился, что они все еще бесчувственны. Даже от бега они не отошли. Не отошли и руки и ноги. Потом его поразила мысль, что отмороженных мест на его теле, вероятно, становится все больше. Он хотел отогнать эту мысль, забыть ее, старался думать о другом; он понимал, что это внушает ему ужас, и боялся поддаться ужасу. Но мысль не уходила, она сверлила мозг, пока он не увидел себя полностью закоченевшим. Это было свыше его сил, и он снова, как безумный, бросился бежать по снежной тропе. Потом перешел было на шаг, но мысль о том, что он замерзнет насмерть, подгоняла его.
А собака неотступно бежала за ним по пятам. Когда он упал во второй раз, она села против него, обвив хвостом передние лапы, зорко и настороженно приглядываясь к нему. Увидев собаку, которой было тепло и надежно в ее шкуре, он пришел в ярость и до тех пор неистово ругал ее, пока она не повесила уши, словно прося прощения. На этот раз озноб охватил его быстрее, чем после первого падения. Мороз брал верх над ним, вползал в его тело со всех сторон. Он принудил себя встать, но, не пробежав и ста футов, зашатался и со всего роста грохнулся оземь. Это был его последний приступ страха. Отдышавшись и придя в себя, он сел на снег и стал готовиться к тому, чтобы встретить смерть с достоинством. Впрочем, он думал об этом не в таких выражениях. Он говорил себе, что нет ничего глупее, чем бегать, как курица с отрезанной головой, — именно это сравнение пришло ему на ум. Ну что же, раз все равно суждено замерзнуть, то лучше уж держать себя пристойно. Вместе с этим внезапно обретенным покоем пришли первые предвестники сонливости. Неплохо, подумал он, заснуть насмерть. Точно под наркозом. Замерзнуть вовсе не так страшно, как думают. Бывает смерть куда хуже.
Он представил себе, как товарищи завтра найдут его, и вдруг увидел самого себя: он идет вместе с ними по тропе, разыскивая свое тело. И вместе с ними он огибает поворот дороги и видит себя лежащим на снегу. Он отделился от самого себя и, стоя среди товарищей, смотрит на свое распростертое тело. А мороз нешуточный, что и говорить. Вот вернусь в Штаты и расскажу дома, что такое настоящий холод, подумал он. Потом ему примерещился старик с Серного ручья. Он ясно видел его: тот сидел, греясь у огня, и спокойно покуривал трубку.
— Ты был прав, старый хрыч, безусловно прав, — пробормотал он, обращаясь к старику.
Потом он погрузился в такой сладостный и успокоительный сон, какого не знавал за всю свою жизнь. Собака сидела против него и ждала. Короткий день угасал в долгих, медлительных сумерках. Костра не предвиделось, и, кроме того, опыт подсказывал собаке, что не бывает так, чтобы человек сидел на снегу и не разводил огня. Когда сумерки сгустились, тоска по огню с такой силой овладела собакой, что она, горбясь и беспокойно переступая лапами, тихонько заскулила и тут же прижала уши в ожидании сердитого окрика. Но человек молчал. Немного погодя собака заскулила громче. Потом, подождав еще немного, подползла к человеку и почуяла запах смерти. Собака попятилась от него, шерсть у нее встала дыбом. Она еще помедлила, протяжно воя под яркими звездами, которые кувыркались и приплясывали в морозном небе. Потом повернулась и быстро побежала по снежной тропе к знакомому лагерю, где были другие податели корма и огня.
Золотая Зорька
Лон Мак-Фейн был несколько раздражен из-за того, что потерял свой кисет, иначе он рассказал бы мне хоть что-нибудь о хижине у Нежданного озера до того, как мы добрались туда. Весь день напролет, вновь и вновь сменяя друг друга, шли мы впереди нарт, утаптывая в снегу тропинку для собак. Это тяжелая работа — утаптывать снег, и она не располагает к болтливости, но все-таки в полдень, когда мы сделали остановку, чтобы сварить кофе, Лон Мак-Фейн мог бы перевести дух и кое-что рассказать мне. Однако он этого не сделал. Нежданное озеро? Для меня это оказалась Нежданная хижина. Я ничего до тех пор о ней не слышал. Признаться, я немного устал. Я все ждал, когда Лон устроит привал на часок, но я был слишком горд, чтобы самому предложить передохнуть или спросить, что он намеревается делать, хотя, между прочим, он служил у меня и я платил ему немалые деньги за то, чтобы он погонял моих собак и выполнял мои приказания. Пожалуй, я и сам был немного раздражен. Он ничего не говорил, а я решил ничего не спрашивать у него, даже если придется идти всю ночь.
Мы наткнулись на хижину совершенно неожиданно для меня. За неделю нашего путешествия мы не встретили ни одной живой души, и что касается меня, то я полагал, что у нас весьма мало шансов встретить кого-нибудь и в предстоящую неделю. И вдруг прямо перед носом оказалась хижина, в окошке- пробивается слабый свет, а из трубы вьется дымок.
— Почему же вы мне не сказали?.. — начал я, но Лон прервал меня, проворчав:
— Нежданное озеро… Оно в полумиле отсюда, за небольшой речкой. Это всего-навсего пруд.
— Но эта хижина… кто в ней живет?
— Женщина, — услышал я в ответ.
В ту же минуту Лон постучал в дверь, и женский голос пригласил его войти.
— Вы не встречали за последнее время Дэйва? — спросила она.
— Нет, — небрежно отозвался Лон, — я был в других краях, за Сёрклом. А Дэйв ведь ушел вверх, к Доусону?
Женщина кивнула, и Лон принялся распрягать собак, а я развязал нарты и перенес спальные мешки в хижину. Хижина представляла собой одну большую комнату, и женщина была здесь одна. Она показала на печку, где кипела вода, и Лон занялся приготовлением ужина, а я открыл мешок с сушеной рыбой и стал кормить собак. Я ожидал, что Лон представит меня хозяйке, и был раздосадован, что он этого не делает, — ведь совершенно очевидно, что они были старыми друзьями.
— Вы ведь Лон Мак-Фейн? — услышал я ее вопрос. — Я припоминаю вас. Последний раз я, кажется, видела вас на пароходе. Я помню…
Она внезапно запнулась, словно увидела нечто ужаснувшее ее. Я понял это по тому страху, который мелькнул у нее в глазах. К моему удивлению, слова и поведение женщины сильно взволновали Лона. На лице у него появилось отчаяние, но голос прозвучал очень сердечно и мягко.
— Последний раз мы с вами виделись в Доусоне, когда отмечался не то юбилей бракосочетания королевы, не то день ее рождения. Разве вы не помните: на реке устраивались гонки каноэ и были еще гонки на собаках с препятствиями по главной улице?
Ужас исчез из ее глаз, и вся она словно обмякла.
— Ах да, теперь я припоминаю, — сказала она. — И вы выиграли один заплыв.
— Как дела у Дэйва за последнее время? Наверное, напал на новую жилу? — спросил Лон без всякой связи.
Женщина улыбнулась и кивнула, потом, заметив, что я развязал спальный мешок, показала в дальний конец комнаты, где я мог разложить его. Ее собственная койка, я заметил, находилась в другом углу.
— Когда я услышала лай собак, я подумала, что это Дэйв приехал, — сказала она.
Больше она не сказала ни слова и только смотрела, как Лон готовит ужин, и словно прислушивалась, не раздастся ли на тропе лай. Я растянулся на одеялах, курил и ждал. Здесь была какая-то тайна, это я сообразил, но больше ничего не мог понять. Какого черта Лон ничего мне не намекнул до того, как мы приехали? Она не видела, что я разглядываю ее, а я смотрел на ее лицо, и чем дольше я смотрел, тем труднее было отвести глаза. Это было необыкновенно красивое лицо. Я бы сказал, в нем было что-то неземное, оно озарялось каким-то светом, особенным выражением или чем-то, чего "не встретишь ни на суше, ни на море". Страх и ужас совершенно исчезли, и сейчас оно было безмятежно и прекрасно, если словом "безмятежность" можно охарактеризовать то неуловимое и таинственное, что не назовешь ни сиянием, ни озаренностью, ни выражением.
Неожиданно она повернулась, словно впервые заметив мое присутствие.
— Вы видели последнее время Дэйва? — спросила она.
У меня с языка уж готов был сорваться вопрос: "А кто такой Дэйв?" — как вдруг Лон, окутанный дымом от жарящегося сала, кашлянул. Может быть, он закашлялся от дыма, но я воспринял это как намек и проглотил свой вопрос.
— Нет, не видел, — ответил я, — я новый человек в этих краях…
— Вы на самом деле не слышали о Дэйве, о Большом Дэйве Уолше? — прервала она меня.
— Видите ли, — сказал я извиняющимся тоном, — я новичок в этих краях. И жил я большей частью в Низовьях, поближе к Ному.
— Расскажите ему про Дэйва, — обратилась она к Лону.
Лона эта просьба, видимо, вывела из себя, но он принялся рассказывать с той же сердечной и мягкой интонацией, которую я заметил и раньше. Она показалась мне чересчур сердечной и мягкой, и это меня раздражало.
— О, Дэйв-это замечательный парень, — рассказывал Лон. — Настоящий мужчина с ног до головы, а росту в нем шесть футов и четыре дюйма — без башмаков. Слово его нерушимо, что долговое обязательство. И если кто-нибудь попробует утверждать, что Дэйв хоть раз солгал, то он сам лжец. И этому человеку придется иметь дело со мной, конечно, если от него хоть что-нибудь останется после того, как с ним разделается сам Дэйв. Потому что Дэйв — это боец. Да, да, он боец, каких теперь не встретишь! Он добыл гризли с хлопушкой тридцать восьмого калибра. Тот его, правда, немного порвал, но Дэйв знал, на что идет. Он нарочно полез в пещеру, чтобы выкурить оттуда этого гризли. Он ничего не боится. С деньгами он не жмется, а если у него нет денег, так готов поделиться последней рубашкой, последней спичкой. Разве он за три недели не осушил Нежданное озеро и не выкачал из него золота на девяносто тысяч?
Женщина вспыхнула от гордости и закивала. Она с глубочайшим интересом следила за каждым словом рассказчика.
— И должен еще сказать, — продолжал Лон, — что я очень огорчен, что не встретил здесь сегодня Дэйва.
Лон поставил ужин на стол из струганых еловых досок, и мы принялись за еду. Женщина услышала лай собак, пошла к двери и, приоткрыв ее, стала прислушиваться.
— А где Дэйв Уолш? — тихо спросил я.
— Умер, — ответил Лон. — Может быть, в аду. Я не знаю. Заткнитесь.
— Но вы ведь только что сказали, что надеялись встретить его здесь сегодня? — настаивал я.
— Да заткнитесь вы наконец, — так же тихо отозвался Лон.
Женщина прикрыла дверь и вернулась, а я сидел и размышлял над тем, что человек, только что предложивший мне заткнуться, получает у меня жалованья двести пятьдесят долларов в месяц да еще питание.
Лон взялся мыть посуду, а я курил и наблюдал за женщиной. Она казалась еще обворожительнее, хотя красота ее была удивительной и необычной. Я, не отрываясь, в течение пяти минут смотрел на нее и лишь потом заставил себя вернуться в мир реального и взглянуть на Лона Мак-Фейна. Это дало мне возможность бесспорно осознать тот факт, что женщина тоже существо реальное. Сначала я принял ее за жену Дэйва Уолша, но если, как сказал Лон, Дэйв Уолш умер, то она могла быть только его вдовой.
Мы рано улеглись спать, ибо наутро нам предстоял трудный день. Как только Лон заполз под одеяла рядом со мной, я отважился задать ему вопрос.
— Эта женщина помешанная?
— Она вроде лунатика, — ответил он.
И прежде чем я успел сформулировать следующий вопрос, Лон Мак-Фейн, могу в том поклясться, уже спал. Он всегда засыпал таким образом: заберется под одеяло, закроет глаза — и готов, только легкий пар от дыхания виден. Лон никогда не храпел.
Утром мы на скорую руку позавтракали, накормили собак, нагрузили опять нарты и двинулись в путь. Мы попрощались с женщиной, она долго стояла в дверях, провожая нас взглядом. Я унес с собой образ этой неземной красоты; он словно запечатлелся в моих глазах, и для того, чтобы увидеть ее, мне стоило только опустить веки. Нежданное озеро лежало вдалеке от обычных дорог, и тропа здесь была не протоптана. Лон и я по очереди уминали нашими широкими плетеными лыжами пушистый снег, чтобы собаки не проваливались. Множество раз у меня на языке вертелся вопрос: "Но ведь вы сказали, что думали встретить Дэйва Уолша в хижине?" Я удержался. Я решил подождать, пока мы сделаем привал в середине дня. Но когда наступила середина дня, мы продолжали идти, потому что, как объяснил Лон, у соединения Тили с другой речкой находится лагерь охотников за лосями, и мы можем добраться туда засветло. Однако добраться туда до темноты нам не удалось, так как наш вожак Брайт сломал себе лопатку и мы, провозившись с ним целый час, вынуждены были пристрелить беднягу. Потом, когда мы пробирались через завал бревен на замерзшей Тили, опрокинулись нарты, и пришлось устраивать стоянку и чинить полозья. Я приготовил ужин и накормил собак, пока Лон занимался починкой, а потом мы вместе отправились собрать дров и льда на ночь. После этого мы уселись на своих одеялах, наши мокасины сушились на веточках перед огнем, и закурили.
— Вы не знали ее? — неожиданно спросил Лон. Я отрицательно покачал головой.
— Вы обратили внимание на цвет ее волос и глаз, на ее фигуру? Так вот отсюда она и получила свое имя. Она вся была, как первая теплая зорька золотого восхода. Ее так и прозвали — Золотой Зорькой. Неужели вы никогда не слышали о ней?
Где-то в глубине памяти у меня было смутное и неясное ощущение, что я когда-то слышал это имя, и все же оно ничего не говорило мне.
— Золотая Зорька? — повторил я. — Это похоже на имя какой-нибудь танцовщицы.
Лон покачал головой.
— Нет, она была порядочной женщиной, во всяком случае, в том смысле, хотя и совершила ужасный грех.
— Но почему вы говорите о ней в прошедшем времени, как будто она умерла?
— Потому что ее сознание покрыто мраком, а это все равно, как мрак смерти. Золотая Зорька, которую я знал, которую знал Доусон, а еще раньше — Сороковая Миля, умерла. Молчаливое, рехнувшееся существо, которое мы вчера видели, не Золотая Зорька.
— А Дэйв? — спросил я.
— Он построил эту хижину, — ответил Лон. — Он построил эту хижину для нее… и для себя. Он умер. А она ждет его. Она наполовину уверена, что он жив. Кто может понять капризы безумного ума? А может, она и вполне уверена, что он не умер. Во всяком случае, она ждет его там, в хижине, которую он построил. Зачем тревожить мертвых? И кто станет будить живого, который, по существу, умер? Мне это, во всяком случае, ни к чему, и поэтому я сделал вид, будто думал встретить Дэйва Уолша вчера вечером. Держу пари, что я удивился бы гораздо больше, чем она, если бы действительно встретил его.
— Я ничего не понимаю, — сказал я. — Расскажите мне всю историю с самого начала, как подобает белому человеку.
И Лон начал рассказывать.
— Был такой старик француз, Виктор Шове, родился он на юге Франции. В Калифорнию он приехал в дни золотой лихорадки. Был из пионеров. Золота он не нашел, но вместо этого стал вырабатывать золото в бутылках, короче говоря, он стал разводить виноград и делать вино. Он шел за золотоискателями. Поэтому он перевалил через Чилкут и отправился вниз по Юкону на Аляску задолго до находки Кармака [30]. Участок, где стоит старый поселок Десятой Мили, был открыт Шове. Он привез первую почту в Арктик-сити. Он сделал заявку на угольные копи в Поркьюпайне лет двенадцать назад. Он открыл прииск Лофтус в стране Ниппениука. Надо сказать, что Виктор Шове был ревностным католиком, который любил в жизни две вещи — вино и женщину. Вино он любил всех сортов, а женщину только одну, и это была мать Мари Шове.
Тут я громко вздохнул, теряя самообладание при мысли, что плачу этому человеку двести пятьдесят долларов в месяц.
— В чем дело? — спросил Лон.
— В чем дело, в чем дело? — недовольно проворчал я. — Я думал, вы расскажете мне историю Золотой Зорьки. Мне не нужно жизнеописание вашего старого пьяницы француза!
Лон спокойно раскурил трубку, глубоко затянулся и отложил ее.
— А вы ведь просили меня начинать с самого начала, — сказал он.
— Да, — подтвердил я, — с самого начала.
— А начало истории Золотой Зорьки и есть старый пьяница француз, потому что он отец Мари Шове, а Мари Шове — Золотая Зорька. Что вы еще хотите? Виктору Шове никогда по-настоящему не везло. Он кое-как сводил концы с концами и воспитывал Мари, которая напоминала ему единственную и любимую им женщину. Он души в ней не чаял. Он-то и прозвал ее ласково Золотой Зорькой. Ручей Золотой Зорьки назван в ее честь, и поселок Золотая Зорька тоже. Старик был великим мастером находить места для поселков, только он никогда не заселял их.
А теперь скажите честно, — продолжал Лон, по своему обыкновению неожиданно меняя тон, — вы вот видели ее, что вы о ней думаете, о ее внешности, я имею в виду? Как она с точки зрения вашего чувства прекрасного?
— Она удивительно прекрасна, — отвечал я. — Никогда в жизни не видел ничего подобного. Вчера вечером, хотя я и предполагал, что она сумасшедшая, я не мог отвести от нее глаз. И это было не любопытство. Это было изумление, абсолютное изумление, она так необычайно красива.
— Она была еще красивее до того, как мрак завладел ее сознанием, — мягко сказал Лон. — Она воистину была Золотой Зорькой. Она разбивала сердца мужчин и кружила им головы. Она едва вспомнила, что однажды я выиграл гонку на каноэ в Доусоне, а ведь я любил ее, и она говорила мне, что любит меня. Ее красота покоряла всех мужчин. Парис наверняка присудил бы ей яблоко Эриды, и никакой Троянской войны не было бы, а она ко всему бросила бы Париса. А теперь эта женщина живет во мраке. Та, которая всегда была само непостоянство, впервые хранит верность — верность тени, мертвецу, человеку, в чью смерть она не верит.
Вот как это все случилось. Вы помните, что я вчера рассказывал о Дэйве Уолше, о Большом Дэйве Уолше? Он был именно таким, как я говорил, и еще во много раз лучше. Он приехал в эти края в конце восьмидесятых годов, для вас он пионер. Ему тогда было двадцать лет. Он был здоров и смел, как бык. Когда ему исполнилось двадцать пять, он мог поднять тринадцать пятидесятифунтовых мешков с мукой. Поначалу голод гнал его отсюда каждый раз на исходе года. В те времена это была пустынная страна. Ни речных пароходов, ни продовольствия, ничего, кроме лососей и кроличьих следов на снегу. Но после того, как голод трижды выгонял его, он заявил, что с него хватит, и на следующий год остался. Дэйв питался одним мясом, когда выпадало счастье на охоте. В ту зиму он съел одиннадцать собак, но не уехал. Остался он и на следующую зиму и еще на одну. С тех пор он не уезжал отсюда. Здоров он был, как бык. Он мог работать так, что самые сильные мужчины в стране валились с ног. Он мог тащить на себе больше груза, чем любой чилкутский индеец, умел работать веслами лучше любого индейца стика, мог находиться в пути целый день с промокшими ногами, когда термометр показывал пятьдесят ниже нуля, а это, должен вам сказать, кое о чем говорит. Вы отморозите себе ноги при двадцати пяти ниже нуля, если промочите их и не переобуетесь.
Дэйв Уолш был силен, как бык. И при этом он был мягким и простодушным человеком. Любой мог надуть его, последний прохвост в лагере мог вытянуть из него последний доллар. "Это меня не огорчает, — смеялся Дэйв, когда ему говорили, что он рохля, — от этого я не просыпаюсь по ночам". Только не подумайте, что у него не было характера. Помните, я рассказывал, как он полез на медведя с каким-то паршивым ружьишком? Когда дело доходило до схватки, Дэйв бывал неукротим. Остановить его, когда он вступал в бой, было невозможно. Со слабыми он бывал мягок и добр, но сильный должен был уступать ему дорогу. Словом, он был таким мужчиной, которых любят мужчины, а это наивысшая похвала.
Дэйв не ринулся за всеми к Доусону, когда Кармак наткнулся на жилу в Бонанзе. Дэйв в ту пору промышлял на Маммон-Крик. Там он открыл золотые россыпи. В ту зиму он намыл золота на восемьдесят четыре тысячи и застолбил участок, который обещал на следующую зиму дать пару сот тысяч. А когда пришло лето и почва раскисла, он отправился вверх по Юкону, в Доусон, чтобы посмотреть, что представляет собой участок Кармака. Там-то он и увидел Золотую Зорьку. Я помню эту ночь. Я ее никогда не забуду. Это произошло совершенно неожиданно. Страшно подумать, что такой могучий человек стал совершенно беспомощным при одном ласковом взгляде слабой белокурой женщины, какой была Золотая Зорька. Это произошло в хижине ее отца, старого Виктора Шове. Какой-то приятель затащил туда Дэйва, чтобы потолковать о расположении поселков на Маммон-Крик. Однако Дэйв говорил нехотя и мало вразумительно. Я вам говорю, один вид Золотой Зорьки совершенно лишил Дэйва разума. Старик Виктор Шове уверял после ухода Дэйва, что тот был пьян. А он и вправду был пьян. Но крепким напитком, вскружившим ему голову, была Золотая Зорька.
Это решило дело, тот первый взгляд, который он бросил на нее. Дэйв не отправился через неделю вниз по Юкону, как собирался. Он задержался на месяц, на два месяца, на все лето. А мы, пострадавшие от ее чар, все понимали и гадали, чем же это кончится. Мы не сомневались, что Золотая Зорька обрела, наконец, своего господина. А почему бы и нет? О Дэйве Уолше ходили легенды. Он был король Маммон-Крика, человек, открывший золотые россыпи Маммон-Крика, старатель старой закваски, один из пионеров в этих краях. Мужчины оборачивались, когда он проходил, и почтительно шептали: "Это Дэйв Уолш". Почему бы и нет? В нем было шесть футов и четыре дюйма роста, белокурые волосы спадали ему на плечи, и он был великолепным белокурым гигантом, которому только что пошел тридцать первый год.
Дэйв пришелся по сердцу Золотой Зорьке, она танцевала с ним на вечеринках, и к концу лета стало известно об их помолвке. Настала осень, и Дэйв должен был возвращаться, чтобы вести зимние работы на Маммон-Крике, но Золотая Зорька захотела повременить со свадьбой. Дэйв послал Даски Бэрнса заниматься разработкой россыпей на Маммон-Крике и сам остался в Доусоне. Толку от этого было мало. Ей взбрело в голову еще на некоторое время сохранить свою свободу, и она решила отложить замужество до следующего года. В результате Дэйв отправился по первому льду со своей упряжкой вниз по Юкону в уверенности, что свадьба состоится, когда на следующий год он вернется с первым пароходом.
Дэйв был постоянен, как Полярная звезда, а она переменчива, как магнитная стрелка подле железного груза. Дэйв был настолько же устойчив и верен, насколько она была непостоянна и ветрена, и вот он, который всем верил, стал сомневаться в ней. Может быть, это была ревность, а может, он что-то предчувствовал, но только Дэйв боялся ее непостоянства. Он опасался, что она не будет ему верна до будущего года, боялся доверять ей и был вне себя. Кое-что я узнал потом от старого Виктора Шове и, сопоставив все сведения, понял, что перед тем, как Дэйв тронулся на север со своими собаками, там произошла какая-то сцена. Стоя рядом с Золотой Зорькой, Дэйв заявил старому французу, что они принадлежат друг другу. Старик Виктор говорил, что вид у Дэйва был весьма драматический, глаза сверкали. Он говорил что-то вроде того, что "разлучит их только смерть", и особенно запомнилось Виктору, как Дэйв, схватив Мари своей огромной лапищей за плечо, притянул ее к себе так, что она чуть не упала, и сказал: "Даже после смерти ты будешь принадлежать мне, и я приду за тобой из могилы". Старик отчетливо запомнил эти слова: "Даже после смерти ты будешь принадлежать мне, и я приду за тобой из могилы". Он говорил мне потом, что Золотая Зорька была ужасно испугана и что он после этого отвел Дэйва в сторонку и сказал ему, что таким путем нельзя завоевать Золотую Зорьку, что если он хочет удержать ее, то должен приноравливаться к ней и быть помягче.
Я ничуть не сомневаюсь, что Золотая Зорька была перепугана. Она жестоко обращалась с мужчинами, а мужчины носились с ней, считали ее существом мягким, нежным, которое уж никоим образом нельзя обидеть. Она не знала, что такое грубость, пока Дэйв Уолш, этот здоровяк шести с лишним футов ростом, не схватил ее своей ручищей и не поклялся, что она будет принадлежать ему до самой смерти и даже после. Между тем в ту зиму в Доусоне был музыкант-итальяшка, один из этих макаронников со слащавым голосишком, и Золотая Зорька влюбилась в него. Может быть, она только воображала, что влюбилась, я уж не знаю. Иногда мне кажется, что в действительности-то она любила Дэйва Уолша. Быть может, так случилось потому, что Дэйв перепугал ее, заявив, что она принадлежит ему до самой смерти и что он придет за ней из могилы, но как бы там ни было, она в результате подарила свою благосклонность тому итальяшке-музыканту. Впрочем, все это были догадки, а нам известны факты. Он был вовсе не итальянец, а русский граф. Это точно, и никаким профессиональным пианистом не был. Да, он играл на скрипке, на пианино, пел, пел хорошо, но только ради собственного удовольствия и ради того, чтобы доставить удовольствие другим. Кроме того, у него водились деньжата, но здесь я должен оговориться, что Золотая Зорька не гналась за деньгами. Она была непостоянна, это верно, но не корыстолюбива.
Но слушайте дальше. Она была обручена с Дэйвом, и Дэйв должен был приехать с первым рейсом, чтобы жениться на ней. Это было летом девяносто восьмого года, и первый пароход ожидали в середине июня. А Золотая Зорька боялась порвать с Дэйвом и после этого встретиться с ним. Вот тут-то она и задумала одну штуку. Русский музыкант, граф, был ее послушным рабом. Так что это она все придумала, я знаю. Потом я все выяснил у старого Виктора. Граф, выполняя ее распоряжение, взял билеты на первый пароход, идущий вниз по реке. Это была "Золотая ракета". На этот же пароход села и Золотая Зорька. Там же оказался и я. Я направлялся в Серклсити и был совершенно поражен, когда на борту встретил Золотую Зорьку. В списке пассажиров я не видел ее фамилии. Она все время была вместе с графом, счастливая и веселая, и я узнал, что в списке пассажиров граф значится с женой. Там был указан номер каюты и все такое прочее. Тогда я впервые узнал, что он женат, только я не видел никакой жены… если не считать таковой Золотую Зорьку. Я подумал, что, может быть, они успели пожениться до того, как отправились путешествовать. Понимаете, в Доусоне о них ходили разные слухи, кое-кто даже держал пари, что граф-таки отбил ее у Дэйва.
Я поговорил с пароходным экономом. Однако он знал не больше моего, он вообще ничего не слышал о Золотой Зорьке и был до смерти замучен своими обязанностями. Вы ведь знаете, что такое юконские пароходы, но вы и представить не можете, что творилось на "Золотой ракете", когда она вышла из Доусона в июне 1898 года. Чистый улей! Поскольку это был первый рейс, то на пароход собрали всех цинготных больных и покалеченных из больницы. Кроме того, на нем везли миллиона на два клондайкского золотого песку и самородков, не говоря уже о пассажирах, набившихся в каютах, как сельди в бочке, о невероятном количестве палубных пассажиров, о бесчисленных индейцах со своими скво и собаками. А трюмы были загромождены товарами и багажом. Горы багажа высились и на нижней палубе, и с каждой остановкой на пути парохода эти горы росли. Я видел, как на перекате Тили на борт погрузили ящик, и догадался, для чего он, хотя меньше всего я мог предполагать, что за сюрприз скрыт там. Ящик затолкали на самый верх багажа на нижней палубе и даже не привязали как следует. Помощник капитана собирался заняться им потом, но запамятовал. Мне тогда еще чудилось что-то знакомое в большой эскимосской собаке, которая вскарабкалась наверх и улеглась рядом с ящиком. Вскоре мы встретили "Глендейль", который шел вверх к Доусону. Когда "Глендейль" приветствовал нас гудком, я подумал о Дэйве, который спешит на нем в Доусон к Золотой Зорьке. Я обернулся и посмотрел на нее. Она стояла у борта. Глаза ее блестели, но при виде того парохода она, видимо, слегка испугалась и прижалась к графу, словно прося защитить ее. Ей незачем было так прижиматься к нему, а мне не следовало с такой уверенностью думать о том разочаровании, которое постигнет Дэйва, когда он приедет в Доусон. Дело в том, что Дэйва Уолша на "Глендейле" не было. Я не знал тогда многого, что мне предстояло узнать впоследствии. Не знал, например, что эти двое вовсе не были женаты. Не прошло, однако, и получаса, как начались приготовления для бракосочетания. В центральной каюте лежали больные, и при перенаселенности "Золотой ракеты" единственным подходящим местом для этой церемонии оказалась передняя часть нижней палубы, где было свободное место, а рядом возвышалась гора багажа, на самой верхушке которой находились тот большой ящик и рядом спящая собака. На борту парохода нашелся миссионер, направлявшийся в Игл, а так как до Игла оставался один перегон, то надо было торопиться. Вот, оказывается, что они задумали — обвенчаться на пароходе!
Однако я забегаю вперед. Дэйв Уолш не был на борту "Глендейля" по той простой причине, что он находился на "Золотой ракете". Вот как это произошло. Задержавшись в Доусоне из-за Золотой Зорьки, Дэйв по льду отправился на Маммон-Крик. Там он обнаружил, что Даски Бэрнс так отлично справляется с делом, что ему самому нет никакой необходимости торчать на прииске. Тогда он нагрузил нарты продовольствием, запряг собак, взял с собой индейца и двинулся к Нежданному озеру. Его всегда привлекали те места. Вы, наверное, не знаете, что ручей оказался пустышкой, но тогда думали, что за ним большое будущее, и Дэйв решил построить там хижину для себя и для Золотой Зорьки. Это та самая хижина, в которой мы с вами ночевали. Закончив хижину, Дэйв с индейцем отправился к развилине Тили охотиться на лосей.
И вот что случилось. Ударил трескучий мороз. Ртуть в термометре упала до сорока ниже нуля, потом до пятидесяти, потом до шестидесяти. Как сейчас помню этот мороз — я был тогда на Сороковой Миле, — даже день запомнился. К одиннадцати часам утра термометр на лавке Компании Н. А. Т. и Т. показывал семьдесят пять ниже нуля. В это утро Дэйв вместе с индейцем — будь он проклят — охотился за лосем у развилки Тили. Я узнал все это потом от этого индейца, нам случилось вместе путешествовать по льду до Дайи. Так вот в то утро этот господин индеец провалился сквозь лед и промок по пояс. Конечно, он сразу начал замерзать. По-настоящему надо было тут же развести костер. Но ведь Дэйв Уолш был упрям. До стоянки, где полыхал костер, оставалось всего полмили. Так зачем было раскладывать новый костер? Он взвалил господина индейца на спину и бежал полмили, когда термометр показывал семьдесят пять ниже нуля. Вы знаете, что это означает. Самоубийство — вот что! Иначе не назовешь. Паршивый индеец весил больше двухсот фунтов, и Дэйв бежал с ним полмили. Естественно, что он застудил себе легкие. Они, наверное, просто смерзлись в ледышку. Это была непростительная глупость. Во всяком случае, провалявшись несколько недель, Дэйв Уолш умер.
Индеец понятия не имел, как ему поступить. Если бы он имел дело с обычным человеком, он бы его просто закопал, и все тут. Но индеец знал, что Дэйв Уолш большой человек, у него много денег, важная фигура среди белых людей. Ему уже не раз приходилось видеть, как везли через всю страну трупы умерших белых людей, как будто они представляли какую-то ценность. Вот он и решил привезти труп Дэйва на Сороковую Милю, где была главная стоянка Дэйва. Знаете, как здесь промерзает дерн? Так вот индеец накрыл тело Дэйва слоем земли толщиной в фут, иначе говоря, положил его в лед.
Дэйв мог оставаться там тысячу лет и ни капельки не измениться. Это все равно что холодильник. Потом этот индеец притащил из хижины на Нежданном озере пилу и напилил досок. Ожидая оттепели, он продолжал охотиться и добыл десять тысяч фунтов лосиного мяса, которое он тоже положил на лед. Началась оттепель, Тили вскрылся. Тогда он сколотил плот, погрузил мороженое мясо, ящик с телом Дэйва, упряжку собак, принадлежавшую Дэйву, и поплыл вниз по Тили.
Плот застрял у завала леса и сидел там двое суток. Началась жара, и у господина индейца чуть не пропало все его мясо. Так что, когда он добрался до переката Тили, он сообразил, что на пароходе он попадет на Сороковую Милю быстрее, чем на своем плоту. Он погрузил все имущество на пароход. Так вот оно получилось: на нижней палубе "Золотой ракеты" Золотая Зорька собирается венчаться, а на нее падает тень от большого ящика с телом Дэйва Уолша. Еще одну штуку я забыл вам рассказать. Ничего удивительного, что эскимосская собака, которую погрузили на борт у переката Тили, показалась мне знакомой. Это был Пилат, вожак в упряжке Дэйва и его любимец, к тому же отчаянный драчун. Он лежал рядом с ящиком.
Золотая Зорька, заметив меня, подозвала к себе, поздоровалась и представила меня графу. Она была восхитительна. Я был так же без ума от нее, как и прежде. Она улыбнулась мне и сказала, что я должен расписаться в качестве одного из свидетелей. Отказать ей было невозможно. Она всегда оставалась ребенком, жестоким ребенком, как все дети. Кроме того, она тут же сообщила мне, что является счастливой обладательницей двух бутылок шампанского — единственных в Доусоне, вернее, тех, которые были в Доусоне накануне вечером; и не успел я оглянуться, как уже был включен в число тех, кто должен был выпить за здоровье новобрачных. Все пассажиры столпились вокруг, во главе с капитаном парохода, который все старался пролезть вперед, верно, ради вина. Странная это была свадьба. На верхней палубе столпились больные, стоящие одной ногой, а кто и двумя, в могиле, и глазели вниз. Вокруг сгрудились индейцы — мужчины, женщины, дети, — не говоря уже о рычащих собаках, которых тут насчитывалось штук двадцать пять. Миссионер попросил обоих бракосочетающихся стать рядом и начал церемонию. И как раз в этот момент наверху, на груде багажа, началась драка между Пилатом, лежавшим у большого ящика, и свирепой белой собакой, принадлежавшей кому-то из индейцев. Драка началась не сразу. Собаки издали рычали друг на друга, но, знаете, как это у них бывает, словно вызывая друг друга. Шум этот, конечно, мешал, но голос миссионера тем не менее был слышен.
Прогнать собак было нелегко, до них можно было добраться только с другого края груды. Но там никого не было: все, конечно, столпились здесь, чтобы поглазеть на церемонию. И даже тогда все обошлось бы, не швырни, капитан в собак дубинкой. С этого началось. Да, если бы капитан не швырнул в собак дубинкой, ничего бы не случилось.
Миссионер только начал произносить слова: "… в болезни и в здравии" и потом: "пока смерть не разлучит нас". И как раз в этот момент капитан швырнул дубинку. Я все видел своими глазами. Дубинка попала в Пилата, и в ту же секунду белый пес бросился на него. Дубинка словно подстегнула их. Собаки, схватившись, толкнули ящик, и он начал медленно сползать одним концом вниз. Это был большой длинный ящик, он медленно сползал, пока не принял вертикального положения, уперевшись в пол. Зрители, толпившиеся с этого края, успели отскочить в сторону. Золотая Зорька и граф стояли на противоположной стороне круга, лицом к ящику, а миссионер спиной к нему. Ящик съехал с высоты в десять футов и встал торчком на палубу.
Заметьте, никто не знал, что Дэйв Уолш умер. Мы были уверены, что он находится на "Глендейле", идущем в Доусон. Миссионер отскочил в сторону, и таким образом Золотая Зорька оказалась прямо перед ящиком. Так чисто вышло, как в театре. Лучше не придумать. Ящик встал на торец и как раз на тот торец, какой нужно, крышка ящика отлетела, и оттуда вывалился Дэйв Уолш, — он был завернут в одеяло, белокурые волосы развевались и сверкали в солнечных лучах. Он словно выскочил из ящика на Золотую Зорьку. Она не знала, что он умер, но это было несомненно: он ведь пролежал два дня у затора и теперь восстал из мертвых, пришел за ней из могилы. Возможно, так она и подумала. Во всяком случае, она окаменела, увидев его. Она не могла двинуться с места, только растерянно смотрела, как Дэйв Уолш двигался к ней. Он пришел за ней. Это выглядело так, словно он обхватил ее руками, и было это или не было, но на палубу они упали вместе. Чтобы освободить ее, нам пришлось сначала оттащить тело Дэйва Уолша. Она была в обмороке, и, пожалуй, было бы лучше, если бы она никогда не приходила в себя, потому что, придя в себя, она начала кричать, как безумная. Она кричала несколько часов, пока не выбилась из сил. Да, теперь она выздоровела. Вы видели ее вчера и знаете, насколько она выздоровела. Она не буйная, но она живет во мраке. Она уверена, что Дэйв Уолш жив, и ждет ее в хижине, которую он построил для нее. Теперь она удивительно постоянна. Вот уже девять лет, как она верна Дэйву Уолшу, и похоже на то, что она будет верна ему до конца дней своих.
Лон Мак-Фейн отогнул край одеяла и приготовился залезть в постель.
— Мы каждый год привозим ей продукты, — добавил он, — и вообще присматриваем за ней. Хотя вчера она впервые узнала меня.
— Кто это мы? — спросил я.
— Гм… тот граф, старый Виктор Шове и я, — последовал ответ. — Знаете, я думаю, что граф — единственный человек, который пострадал во всей этой истории. Ведь Дэйв Уолш так и не узнал, что она обманула его. Да и она не страдает. Безумие спасает ее.
Несколько минут я молча лежал под одеялом.
— А что, граф все еще живет здесь? — спросил я.
В ответ я услышал ровное, глубокое дыхание и понял, что Лон Мак-Фейн уже спит.
Исчезновение Маркуса О'Брайена
— Итак, суд выносит решение, что вы должны покинуть лагерь… обычным путем, сэр, обычным путем.
Судья Маркус О'Брайен несколько замечтался, и Муклук Чарли легонько толкнул его в бок. Маркус О'Брайен откашлялся и продолжал:
— Взвесив всю тяжесть преступления, сэр, и смягчающие обстоятельства, суд пришел к решению и вынес приговор, что вы получите с собой трехдневный запас продовольствия. Этого, я думаю, будет достаточно.
Аризона Джек бросил мрачный взгляд на Юкон — вздувшийся, мутно-шоколадный поток шириною в милю и с глубиной, которую никто не мерял. Берег, где стоял Аризона Джек, обычно возвышался на дюжину футов над водой, но сейчас река бурлила уже у самого края, каждую минуту отрывая и унося куски верхнего слоя почвы. Эти куски земли попадали в широко разинутые пасти бесчисленных бурых водоворотов и исчезали в них. Если вода поднимется еще на несколько дюймов, Ред Кау затопит.
— Нет, недостаточно, — с горечью возразил Аризона Джек. — На три дня продовольствия — это мало.
— А как было с Манчестером? — важно ответил Маркус О'Брайен. — Он вообще не получил никакого продовольствия.
— Ну да, и его останки нашли у Нижней реки, наполовину обглоданные собаками, — отпарировал Аризона Джек. — И, кроме того, когда он убил, то это было без всякого повода. Джо Диве ничего худого не делал, никогда не пытался петь. Только из-за того, что у Манчестера был не в порядке желудок, он взорвался и всадил нож в Джо. Я тебе прямо заявляю, что ты несправедлив ко мне. Дайте мне продовольствия на неделю, и я попробую выиграть. А на три дня — это я наверняка загнусь.
— Ну за что ты укокошил Фергюсона? — потребовал ответа О'Брайен. — Терпения моего уже не хватает, то и дело убивают без всякого повода. Пора с этим покончить. В Ред Кау не так уж много жителей. У нас хороший лагерь, и никогда здесь не случалось убийств. А теперь просто эпидемия какая-то. Мне жаль тебя, Джек, но этот случай с тобой должен стать примером. Фергюсон не провоцировал тебя настолько, чтобы убивать его.
— Провоцировал! — фыркнул Аризона Джек. — Да ведь ты просто ничего не понимаешь, О'Брайен. У тебя нет никакого артистического чутья. Зачем Фергюсон пел "Я хотел бы стать маленькой птичкой"? Вот что я хочу знать. Ответь мне. Зачем он пел "маленькой птичкой, маленькой птичкой"? Одной птички было вполне достаточно. Одну птичку я еще мог выдержать. Я ведь дал ему возможность подумать. Я подошел к нему и совершенно вежливо и ласково попросил его выбросить одну птичку. Я умолял его. Были же свидетели, которые подтвердят это.
— А голос у Фергюсона был совсем не как у соловья, — добавил кто-то из толпы.
О'Брайен заметно заколебался.
— Разве человек не имеет права иметь музыкальный слух? — настаивал Аризона Джек. — Я ведь предупреждал Фергюсона. Его маленькие птички оскорбляли все мое существо. Тонкие ценители музыки могут убить и не за такое. Ну что ж, я готов расплачиваться за свое артистическое чувство. Я могу принять лекарство и облизать ложку, но давать продовольствия на три дня — это значит прямым ходом отправлять меня на тот свет. Валяйте, хороните меня, чего уж там!
О'Брайен колебался. Он вопросительно посмотрел на Муклука Чарли.
— Я бы сказал, судья, что на три дня продовольствия — это несколько сурово, — высказался Муклук
Чарли, — но здесь вы решаете. Когда мы избрали вас судьей, мы договорились подчиняться вашим решениям, и видит бог, мы им подчинялись и будем подчиняться и дальше.
— Может, я действительно был слишком строг, Джек, — извиняющимся голосом начал О'Брайен, — но я не собираюсь больше терпеть этих убийств. Я согласен, чтобы продовольствия было на неделю. — Он торжественно откашлялся и быстро огляделся вокруг. — А теперь мы можем покончить с этим делом. Лодка готова. Леклер, пойди принеси продовольствие. Остальное мы решим потом.
Аризона Джек с благодарностью глянул на него и, бормоча что-то насчет "этих проклятых маленьких птичек", шагнул в лодку, бившуюся о берег. Это была довольно большая лодка, сколоченная из неотесанных сосновых досок, распиленных вручную из сосен у озера Линдерман за несколько сот миль отсюда, у подножия Чилкута. В лодке лежали пара весел и одеяла Аризоны Джека. Леклер притащил продовольствие, увязал его в мешок из-под муки и положил в лодку, шепнув:
— Я положил тебе хорошую порцию, Джек. Тебя вызвали на это.
— Отпускайте! — крикнул Аризона Джек.
Кто-то отвязал конец и бросил в лодку. Течение подхватило ее и понесло прочь. Убийца не собирался браться за весла, он сидел на корме и сворачивал себе самокрутку. Потом он зажег спичку и прикурил. Стоявшие на берегу могли видеть тонкий дымок. Они стояли на берегу до тех пор, пока лодка, обогнув излучину реки полумилей ниже, не исчезла из виду. Правосудие свершилось.
Жители Ред Кау сами устанавливали законы и приводили приговоры в исполнение без проволочек, свойственных мягкотелому цивилизованному обществу. На Юконе не было других законов, кроме тех, что они сами устанавливали для себя. Они были вынуждены это делать. Расцвет Ред Кау относился к 1887 году — к тем ранним дням, когда еще никто не предполагал, что будет открыт Клондайк и многолюдные толпы устремятся туда. Жители Ред Кау не знали даже, находится ли их лагерь в Аляске или на Северо-Западной территории и под сенью какого флага они живут — звездно-полосатого или британского. Топографы не добирались сюда, чтобы сказать, на какой широте и долготе они расположены. Ред Кау находился где-то на Юконе, и этого для них было достаточно. Что касается государственных флагов, то жители здесь были вне всякой юрисдикции. Что касается законов, то они жили на Ничейной земле.
Они установили свой собственный закон, и закон этот был весьма прост. Юкон исполнял их приговоры, Где-то тысячи за две миль вниз от Ред Кау Юкон впадал в Берингово море, разливаясь дельтой шириной в сотни миль. Каждая миля из этих двух тысяч представляла собой совершенно дикую страну. Правда, за Полярным кругом, там, где Поркьюпайн впадал в Юкон, имелась фактория Компании Гудзонова залива. Но до нее было много сотен миль. Ходили также слухи, что на много сотен миль ниже есть миссии. Но это были только слухи, люди из Ред Кау никогда там не были. Они попадали в эту заброшенную страну через Чилкут и верховья Юкона.
Всякие мелкие преступления обитатели Ред Кау не считали за преступления. Напиваться, буянить и ругаться последними словами считалось здесь естественным и неотъемлемым правом каждого. Жители Ред Кау были ярыми индивидуалистами и почитали только две вещи — собственность и жизнь. Здесь не было женщин, которые могли бы усложнить их простую мораль. В Ред Кау было всего три хижины — большинство населения, состоявшего из сорока человек, жило в палатках или шалашах. Здесь не было тюрьмы, в которой можно было бы держать злоумышленников, а жители были слишком заняты добычей или поисками золота, чтобы потратить хоть день на строительство тюрьмы. Кроме того, первостепенной важности вопрос о продовольствии исключал возможность такой сложнейшей процедуры. Поэтому, когда человек нарушал права собственности или жизни, его швыряли в лодку и отправляли вниз по Юкону. Запас продовольствия, который он получал, зависел от тяжести содеянного им преступления. Таким образом, обычный воришка мог получить продовольствия недели на две, крупный же вор — не больше половины такого запаса. Убийца вообще не получал ничего. Человек, виновный в непредумышленном убийстве, получал продовольствие на срок от трех дней до недели. Маркус О'Брайен, избранный судьей, определял, на сколько дней давать продовольствие. Человек, нарушивший закон, знал, на что он идет. Юкон уносил его прочь, и ему или удавалось, или не удавалось добраться до Берингова моря. Запас продовольствия давал ему возможность бороться за свою жизнь. Отказ в продовольствии означал практически смертную казнь, хотя и тогда оставался ничтожный шанс на спасение — все зависело от времени года.
Избавившись от Аризоны Джека и поглазев вслед, пока он не скрылся из виду, обитатели Ред Кау покинули берег и вернулись к работе на своих участках, за исключением Кэрли Джима, который владел единственной на всем севере колодой карт для фараона и спекулировал золотоносными участками.
В этот день произошли два крупных события. К середине дня Маркусу О'Брайену повезло. С одного лотка он намыл золотого песку на доллар, со второго — на полтора, с третьего — на два доллара. Он напал на жилу. Кэрли Джим заглянул в шурф, самолично промыл несколько лотков и предложил О'Брайену за все права на участок десять тысяч долларов — пять тысяч в золотом песке, а вместо остальных пяти тысяч — половинное участие в прибылях от фараона. О'Брайен отказался. Он с жаром заявил, что находится здесь для того, чтобы выжимать деньги из земли, а не из своих товарищей. И вообще он не любит фараон. Кроме того, он оценивает свой участок немного больше, чем в десять тысяч.
А второе событие произошло к концу дня, когда Сискью Перли причалил на своей лодке к берегу. Он только что прибыл из цивилизованного мира и имел в своем распоряжении газету четырехмесячной давности. Кроме того, он привез полдюжины бочек виски, предназначавшихся для Кэрли Джима. Жители Ред Кау тут же побросали работу. Они опробовали виски — по доллару за порцию, отвешивая золотой песок на весах Кэрли Джима и обсуждая новости. И все было бы в порядке, если бы Кэрли Джим не замыслил подлый план, который заключался, во-первых, в том, чтобы напоить Маркуса О'Брайена, а во-вторых, — выкупить у него участок.
Первая половина плана удалась блестяще. Начали они ранним вечером, а к девяти часам О'Брайен достиг той стадии, когда горланят песни. Он обнимал Кэрли Джима за шею и дошел до того, что во всю глотку распевал ту самую песню покойного Фергюсона о маленьких птичках. Он полагал, что может распевать ее совершенно спокойно, ибо единственного в лагере человека с артистическим чутьем несло сейчас вниз по Юкону со скоростью пять миль в час.
Но вторая половина плана не сработала. Сколько бы виски "и вливалось в его глотку, О'Брайен никак не мог осознать, что его святой и дружеский долг заключается в том, что он должен продать свой участок. По правде сказать, он колебался и порой готов был согласиться. В глубине своего затуманенного сознания он посмеивался. Он понимал игру Кэрли Джима и был доволен своими картами. Виски было отличным. Его наливали из особой бочки, и оно было раз в десять лучше того, которое пили из остальных пяти.
Сискью Перли бойко подавал в баре виски остальному населению Ред Кау, в то время как О'Брайен и Кэрли за стаканчиком решали свои дела на кухне. Но у О'Брайена была широкая душа. Он пошел в бар и вернулся вместе с Муклуком Чарли и Перси Леклером.
— Мои компаньоны, мои компаньоны, — заявил он, подмигнув своим приятелям и выдав невинную улыбку в сторону Кэрли. — Я всегда прислушиваюсь к их мнению, всегда доверяюсь им. Хорошие люди! Налей им огненной водицы, Кэрли, и давай поговорим.
Компаньоны явно напрашивались на угощение, но Кэрли Джим, памятуя о заявке и о том, что с последнего лотка он намыл на семь долларов, сообразил, что дело стоит того, чтобы потратиться на лишнее виски, даже когда в соседней комнате оно идет по доллару за порцию.
— Я даже не хочу обсуждать это, — икая, объяснил О'Брайен своим друзьям существо дела. — Кто, я? Продать за десять тысяч долларов? Да никогда! Я сам буду добывать золото, а потом я поеду в эту райскую страну, в Южную Калифорнию… вот место, где я хочу провести остаток своих дней… а потом я начну… как я уже говорил, я начну… а что я говорил вам, что я начну?
— Заведешь страусовую ферму, — предположил Муклук Чарли.
— Вот именно, вот это я и собираюсь завести. — О'Брайен словно протрезвел и с благоговейным ужасом взглянул на Муклука Чарли. — А откуда ты знаешь? Я ведь никогда не говорил об этом. Я только думал сказать. Чарли, ты умеешь читать мысли. Давай еще по одной.
Кэрли Джим наполнил стаканы и имел удовольствие видеть, как виски на сумму в четыре доллара было проглочено вмиг, причем на один доллар он наказывал сам себя, потому что О'Брайен настаивал, чтобы хозяин пил наравне с гостями.
— Бери лучше деньги сейчас, — убеждал его Леклер. — Ведь у тебя уйдет два года на то, чтобы начисто выбрать эту дыру, а тем временем ты преспокойненько будешь выводить малюток-страусят и выщипывать перья из больших страусов.
О'Брайен взвесил это предложение и кивнул в знак согласия. Кэрли Джим с благодарностью глянул на Леклера и вновь наполнил стаканы.
— Нет, постойте, — пробормотал Муклук Чарли, у которого язык уже совершенно заплетался, — как твой духовный отец… я должен… как твой брат… а, черт! — Он замолк и собрался с духом. — В качестве твоего друга… я бы сказал, в качестве твоего товарища по делу, я скорее предложил бы тебе… я позволил бы себе заметить… я хочу заметить, что там может быть больше страусов… А, черт! — Он опрокинул еще один стаканчик и продолжал, более тщательно подбирая слова. — Я хочу сказать, что… А что я, собственно, хочу сказать? — Тут он несколько раз стукнул себя рукой по затылку, чтобы выколотить оттуда свою мысль. — Поймал! — торжествующе заорал он. — А вдруг в этой заявке больше, чем на десять тысяч?
Тут О'Брайен, который, судя по всему, был уже готов заключить сделку, неожиданно повернул курс.
— Правильно! — воскликнул он. — Блестящая идея! Мне она в голову не пришла. — Он нежно обнял Муклука Чарли. — Дружище! Хороший товарищ! — И он с воинственным видом обернулся к Кэрли Джиму. — Может, в этом шурфе долларов тысяч на сто. Ты ведь не захочешь обокрасть своего старого друга, Кэрли, так ведь? Конечно, не захочешь. Я тебя знаю… лучше, чем сам себя знаешь, да-да, лучше. Давай-ка выпьем еще по одной. Мы все здесь хорошие друзья, все, говорю я, все!
Так оно и шло, виски убывало, а надежды Кэрли Джима то возрастали, то падали. Снова Леклер доказывал необходимость немедленно заключать сделку и почти убедил О'Брайена, но и на этот раз его блестящие доводы натолкнулись на еще более блестящие доводы Муклука Чарли. А потом Муклук Чарли выдвигал убедительные аргументы в пользу продажи, а Перси Леклер упрямо тянул в другую сторону. Через некоторое время сам О'Брайен настаивал на продаже своего участка, а оба друга со слезами и проклятиями старались разубедить его. Чем больше виски они поглощали, тем необузданнее становилась их фантазия. Против любого трезвого довода за или против продажи они находили множество пьяных возражений, и им так легко удавалось каждый раз убедить друг друга, что они непрерывно меняли свои позиции.
Наконец наступил такой момент, когда и Муклук Чарли и Леклер оба настаивали на продаже и с легкостью разбивали любое возражение О'Брайена тут же, как только он его выдвигал. О'Брайен уже приходил в отчаяние. Он исчерпал свои последние аргументы и сидел молча. Он только умоляюще поглядывал на своих друзей, которые покинули его в трудную минуту. Он толкнул под столом Муклука. Чарли, но этот ренегат немедленно выдвинул еще один, самый разумный довод в пользу продажи. Кэрли Джим принес чернила, бумагу и составил купчую. О'Брайен сидел в нерешительности с пером в руке.
— Налей-ка нам еще по одной, — попросил он. — Еще по одной, прежде чем я подпишу и откажусь от ста тысяч долларов.
Торжествующий Кэрли Джим наполнил стаканы. О'Брайен опрокинул свою порцию и придвинулся, готовясь поставить трепещущей рукой свою подпись. Он успел только посадить кляксу, как вдруг поднялся на ноги, словно его подбросила мысль, внезапно озарившая его сознание. Он стоял, покачиваясь из стороны в сторону, и в его растерянных глазах отражался мыслительный процесс, происходивший у него в голове. Наконец он пришел к выводу. Весь он засветился доброжелательностью. Он повернулся к владельцу карточной колоды, взял его за руку и торжественно произнес:
— Кэрли, ты мой друг. Вот тебе моя рука. Пожми ее. Старик, я это не сделаю. Не продам. Я не могу ограбить друга. Ни один прохвост не скажет, что Маркус О'Брайен ограбил друга, когда тот был пьян. Ты пьян, Кэрли, и я не стану грабить тебя. Я только что подумал… до сих пор мне это в голову не приходило. Не знаю, что со мной случилось, но мне это и в голову не приходило. Ты представь себе, Кэрли, ты только представь себе, а если во всем этом проклятом участке нет десяти тысяч! Ты же будешь разорен. Нет, сэр, я этого не сделаю. Маркус О'Брайен добывает деньги из земли, а не из своих друзей!
Перси Леклер и Муклук Чарли заглушили все возражения владельца фараона аплодисментами по поводу благородства друга. Они с двух сторон упали на О'Брайена, любовно обнимая его за шею; им так много хотелось сказать, что они не слышали предложения Кэрли внести в документ оговорку, что если в шурфе окажется меньше, чем на десять тысяч, то он получит разницу между продажной ценой и добычей. Чем дальше они говорили, тем более сентиментальным и благородным становился спор. Всякие корыстные соображения были отброшены прочь. Сейчас они являли собой трио филантропов, стремившихся уберечь Кэрли Джима от него самого и его филантропических побуждений. Они настаивали на том, что он филантроп. Они отказывались даже на мгновение предположить, что в мире могут иметь место хоть какие-нибудь низменные чувства. Они поднимались, карабкались и забирались в недосягаемые сферы этики или тонули в метафизическом море сентиментальности.
Кэрли Джим потел, пыхтел и вновь и вновь наливал виски. Его завалили доводами, и ни один из них не имел ничего общего с золотоносным участком, который он хотел приобрести. Чем больше они говорили, тем дальше они удалялись от золотого участка, и к двум часам ночи Кэрли Джим понял, что он потерпел поражение. Одного за другим он вывел своих беспомощных гостей через кухню и вытолкал на улицу. Последним вышел О'Брайен, и все трое, покачиваясь и уцепившись друг за друга, чтобы не упасть, смело ступили на крыльцо.
— Ты деловой парень, Кэрли, — говорил О'Брайен, — я должен сказать, что мне нравится твой стиль в делах… деликатный и благородный, твое щедрое госте… госте… гостеприимство. Это делает тебе честь. В твоих поступках нет ни тени низменного или корыстного. Я уже говорил…
Но тут владелец фараона захлопнул дверь. Все трое захохотали, стоя на крыльце. Они долго смеялись. Потом Муклук Чарли произнес речь.
— Смешно… посмеялись на славу… но я не то хотел сказать. Я хотел сказать… что же я хотел сказать? А, поймал! Чудно, как ускользают мысли. Мысль удирает… поймать ее… это трудное дело. Перси, друг мой, ты когда-нибудь охотился на кроликов? Была у меня собака… замечательная собака для охоты на кроликов. Как. же ее звали? Не помню… никогда не запоминаю имен… забыл имя… Удрало имя… поймать ускользнувшее имя… нет, мысль… удрала мысль… но я поймаю ее… что же я хотел сказать?.. Ах, дьявол!
После этого наступило долгое молчание. О'Брайен выскользнул из их объятий и тихо заснул, сидя на крылечке. Муклук Чарли разыскивал ускользнувшую мысль по всем извилинам и закоулкам своего мозга. Леклер, словно очарованный, ждал, когда же он вновь заговорит. Вдруг приятель стукнул его по спине.
— Нашел! — громовым голосом возопил Муклук Чарли.
Встряска от удара прервала мыслительный процесс Леклера.
— Сколько с лотка? — спросил он.
— Лоток здесь ни при чем! — рассердился Муклук Чарли. — Мысль… я поймал ее… поймал плутовку… догнал ее…
На лице Леклера появилось восхищение и обожание, и он весь обратился в слух.
— Ах, дьявол! — пробормотал Муклук Чарли.
В этот момент кухонная дверь открылась и Кэрли Джим заорал:
— Убирайтесь домой!
— Смешно, — сказал Муклук Чарли, — та же идея… именно та же идея, что и у меня. Пойдем домой.
Они с двух сторон подхватили О'Брайена и тронулись в путь. Муклук Чарли во весь голос припустился за новой мыслью. Леклер с восторгом следил за погоней. Один только О'Брайен никак не мог уследить за мыслью своего друга. Он ничего не слышал, ничего не говорил и ничего не знал. Он представлял собой просто покачивающийся автомат, любовно и бережно поддерживаемый своими компаньонами.
Они шли по тропинке, которая вела по берегу Юкона. Их дома были в противоположной стороне, но идея ускользала, видимо, по этой тропинке. Муклук Чарли хихикал над идеей, но никак не мог ее поймать, чтобы высказать в назидание Леклеру. Они дошли до того места, где стояла лодка Сискью Перли. Канат, которым она была привязана, тянулся поперек тропинки к сосновому пню. Трое друзей споткнулись о канат и повалились, причем О'Брайен оказался внизу. Слабый проблеск сознания озарил его мозг. Он почувствовал на себе тяжесть тел и в тот же момент принялся, как безумный, работать кулаками. Потом он тут же опять заснул. Окрестности огласились легким храпом, Муклук Чарли вдруг захихикал.
— Новая идея, — предложил он, — колоссальная новая идея. Только что поймал ее… без всякого труда. Шла прямо на меня, и я ухватил ее в голову. Теперь она моя. О'Брайен пьян… нализался, как скот. Позор… стыд и позор… надо его проучить. Вон лодка Перли. Положим О'Брайена в лодку Перли. Отвяжем ее… пусть плывет вниз по Юкону. О'Брайен проснется утром. Течение слишком сильное, на веслах против течения не пойдешь… придется ему пешком топать! Придет злой, как черт. Мы с тобой проявим себя как люди высоких моральных качеств. Пусть это будет ему хорошим уроком.
В лодке Сискью Перли не было ничего, кроме пары весел. Она терлась бортом о берег как раз у того места, где свалился О'Брайен. Друзья перекатили его в лодку. Муклук Чарли отвязал канат, а Леклер оттолкнул лодку на стремнину. После чего, утомленные трудами, они свалились тут же на берегу и захрапели.
На следующее утро весь поселок знал о шутке, которую сыграли с Маркусом О'Брайеном. Заключались даже крупные пари насчет того, что будет с обоими озорниками, когда вернется их жертва. После полудня выставили наблюдательный пост, чтобы узнать заранее, когда он покажется. Всем хотелось увидеть, как он будет возвращаться. Но Маркус О'Брайен не появился, хотя они ждали до полуночи. Не появился и на следующий день и через день. Ред Кау никогда больше не видел Маркуса О'Брайена, и хотя строилось множество предположений, ключ к разгадке тайны его исчезновения так никогда и не был найден.
Знал тайну один только Маркус О'Брайен, но он не вернулся, чтобы раскрыть ее. Он проснулся на следующее утро в ужасных мучениях. Желудок у него был обожжен невероятным количеством выпитого накануне виски, все внутри пересохло и горело. Голова раскалывалась на части, и, что, пожалуй, хуже всего, страшно болело лицо. В течение шести часов мириады москитов питались им, и лицо чудовищно опухло от укусов. Только невероятным напряжением воли сумел он приоткрыть узенькие щелочки, сквозь которые мог глянуть на белый свет. Он случайно пошевелил руками и почувствовал, как они болят. Скосил глаза и не узнал своих рук, настолько они распухли от укусов москитов. Он потерял себя или, вернее сказать, потерял свое обличье. Он не находил в себе ничего знакомого, такого, что помогло бы ему путем ассоциаций восстановить в сознании свое существование. Он оказался абсолютно отрезан от своего прошлого, ибо ничто в нем не напоминало о том прошлом. Кроме того, он чувствовал себя таким больным и несчастным, что у него не хватало ни сил, ни желания выяснить, кем и чем он был.
Так продолжалось до тех, пор, пока он не обнаружил у себя кривой мизинец — результат перелома, и тогда он начал догадываться, что является Маркусом О'Брайеном. В то же мгновение он стал быстро припоминать прошлое. А когда он нашел кровоподтек под ногтем на большом пальце, который он посадил на прошлой неделе, он уже не сомневался в том, кто он такой, и достоверно знал, что эти незнакомые руки принадлежат Маркусу О'Брайену, или, наоборот, что Маркус О'Брайен принадлежит этим рукам. Первая мысль была, что он болен, что у него лихорадка. Было мучительно больно открывать глаза, и он лежал с закрытыми глазами. Проплывавшая мимо ветка стукнула по борту лодку. Он решил, что кто-то стучит в дверь хижины, и сказал: "Войдите". Подождав немного, он раздраженно сказал: "Тогда оставайтесь там, черт вас побери". Но все-таки ему хотелось, чтобы они вошли и сказали ему, чем он болен.
Пока он так лежал, в мозгу у него начали восстанавливаться события прошлой ночи. Ему пришла в голову мысль, что он вовсе не болен, а просто напился и что пора вставать и приниматься за дело. Дело было связано с представлением о шурфе, и он вспомнил, что отказался продать свой участок за десять тысяч долларов. Он резко приподнялся, сел и через силу открыл глаза. Он увидел, что находится в лодке посреди бурного и вздувшегося Юкона. Поросшие хвойным лесом берега и острова были незнакомы ему. Некоторое время он сидел, совершенно ошеломленный. Он не мог ничего понять. Он помнил вчерашнюю выпивку, но между ней и его нынешним, положением не находил никакой связи.
Он сомкнул глаза и уронил ноющую голову на руки. Что же произошло? Постепенно в голову ему закралась страшная мысль. Он сопротивлялся ей, старался отогнать ее прочь, но она настойчиво возвращалась: он кого-то убил. Только этим можно было объяснить, почему он находился в лодке, которую несет вниз по Юкону. Закон Ред Кау, который он так долго применял в отношении других, теперь был применен к нему. Он кого-то убил, и его отправили вниз по течению. Но кого? Он напрягал память, но единственное, что всплыло в его затуманенном мозгу, было воспоминание о телах, навалившихся на него, и о том, как он отбивался, выбираясь из-под них. Но кто это был? Быть может, он убил не одного, a нескольких. Он потянулся к поясу. Ножа там не оказалось. Сомнений не оставалось, он прикончил кого-то ножом. Но должны же были быть какие-то причины для убийства. Он открыл глаза и в панике начал осматривать лодку. Продовольствия в ней не было, ни одной унции продовольствия. Он опустился на дно лодки со стоном. Это значило, что он убил кого-то без всякого повода. К нему применили закон во всей его строгости.
С полчаса сидел он неподвижно, держась руками за разламывающуюся от боли голову и пытаясь сообразить что-нибудь. Затем он успокоил свой желудок глотком воды из-за борта и почувствовал себя лучше. Он поднялся на ноги и, стоя в лодке посреди широко разлившегося Юкона, где некому было услышать его, кроме первобытной дикой природы, проклял алкогольные напитки. Потом он прицепился к проплывавшей мимо большой сосне, которую течение несло быстрее, потому что она глубже сидела в воде. Он вымыл лицо и руки, уселся на корме и принялся размышлять. Был конец июня. Расстояние до Берингова моря составляло две тысячи миль. Лодка делала в среднем пять миль в час. В это время года здесь, на этих высоких широтах, было светло круглые сутки, и он мог плыть все двадцать четыре часа. Таким образом, за сутки он будет делать сто двадцать миль. Отбросим двадцать миль на всякие задержки, остается сто миль в сутки. За двадцать дней он доплывет до Берингова моря. И ему не потребуется тратить никакой энергии, работать за него будет река. Он может лежать на дне лодки и беречь силы.
В течение двух дней он ничего не ел. Потом он причалил к одному из пологих островков и набрал яиц диких гусей и уток. Спичек не было, и он яйца ел сырыми. Они были довольно питательны и поддерживали в нем силы. Когда он пересек Полярный круг, он натолкнулся на факторию Компании Гудзонова залива. Отряд еще не прибыл из Маккензи, и в фактории не оказалось ни крошки продовольствия. Ему предложили яйца диких уток, но он в ответ сообщил, что у него в лодке имеется целый бушель такой еды. Предложили выпить виски, но он отказался, и на лице его выразилось неподдельное отвращение. Однако он достал спички и теперь мог варить яйца. В низовьях реки встречные ветры задержали его, и он пробыл на яичной диете двадцать четыре дня. К несчастью, он оба раза спал, когда проплывал мимо миссий Святого Павла и Святого Креста. Поэтому он мог со всей искренностью уверять и уверял впоследствии, что все разговоры о миссиях на Юконе — пустые слухи. Никаких миссий там нет, уж он-то это точно знает.
Попав в Берингово море, он получил возможность сменить яичную диету на тюленью и никак не мог решить, которая же из них хуже. К концу года его подобрал таможенный катер Соединенных Штатов, и на следующую зиму он завоевал своими лекциями в Сан-Франциско репутацию рьяного поборника трезвенности. На этом поприще он обрел свое призвание. "Избегайте бутылки" — таков его лозунг и боевой клич. Он намекает, что в его собственной жизни бутылка послужила причиной ужасной катастрофы. Он даже упоминает о потере состояния из-за этой приманки дьявола, но слушатели чувствуют, что за рассказом об этом случае кроется какое-то ужасное и загадочное злодеяние, причиной которого послужила бутылка. Он делает большие успехи на этом поприще, поседел в крестовом походе против крепких напитков и заслужил всеобщее уважение. Но на Юконе исчезновение Маркуса О'Брайена так и осталось легендой. Это тайна, которая стоит в одном ряду с исчезновением сэра Джона Франклина.
Шутка Порпортука
Эл-Су выросла в миссии. Ее мать умерла, когда она была совсем крошкой, и сестра Альберта однажды летним днем подобрала ее, как головню, выхваченную из пожара, увела в миссию Святого Креста и посвятила служению богу. Эл-Су была чистокровной индианкой, но превзошла в успехах всех девочек, в которых текла половина или четверть белой крови. Сестрам миссии никогда еще не приходилось иметь дела с такой легко приспосабливающейся и в то же время такой одаренной девочкой.
Эл-Су была живой, способной и умной девочкой, но самое главное — она была как огонь, в ней билось пламя жизни, светилась яркая индивидуальность, сочетавшая в себе волю, нежность и смелость. Ее отец был вождем, и кровь его текла в ее жилах. Эл-Су повиновалась только тогда, когда добровольно соглашалась на это. Она ко всем относилась как к равным, и, быть может, поэтому она преуспевала в математике.
Впрочем, она преуспевала и по другим предметам. Она выучилась читать и писать по-английски так, как не удавалось ни одной девочке в миссии. Она пела лучше других, и в пение она вкладывала свою страсть к справедливости. Она была художественной натурой, и огонь ее души стремился к творчеству. Родись она в более благоприятной среде, она, наверное, посвятила бы себя литературе или музыке.
Но ее звали Эл-Су, и она была дочерью Клаки-На, вождя, и жила она в миссии Святого Креста, где не было людей искусства, а только непорочные сестры, интересовавшиеся чистотой, праведностью и благополучием души в мире бессмертия, там, на небесах.
Шли годы. Эл-Су было восемь лет, когда она попала в миссию, теперь ей исполнилось шестнадцать, и сестры как раз вступили в переписку со своим начальством по Ордену, хлопоча о том, чтобы послать одаренную ученицу в Соединенные Штаты для завершения образования, когда в миссию прибыл человек из ее родного племени и пожелал поговорить с ней.
Вид его несколько напугал Эл-Су. Он был грязен. Он смахивал на Калибана [31] — этакое безобразное существо с копной никогда не чесанных волос. Он посмотрел на нее неодобрительно и отказался сесть.
— Твой брат умер, — кратко сказал приезжий. Эл-Су не была особенно потрясена этим известием.
Она почти не помнила своего брата.
— Твой отец — старый человек, и он одинок, — продолжал посланец, — его большой дом пустует, и он хочет слышать твой голос и смотреть на тебя.
Отца, Клаки-На, она помнила — он был вождем деревни, приятелем миссионеров и торговцев, огромным мужчиной, обладавшим гигантской силой, добрыми глазами и властным характером, поведение которого отличала примитивная величественность.
— Передай ему, что я приду, — таков был ответ Эл-Су.
К великому огорчению сестер-миссионерок, головешка, выхваченная из пожара, возвращалась обратно на свое пепелище. Все попытки отговорить Эл-Су оказались тщетными. Было много увещеваний, разговоров и слез. Сестра Альберта даже сообщила Эл-Су, что ее думают послать в Соединенные Штаты. Широко раскрытыми глазами глядела Эл-Су на открывающиеся перед ней блестящие дали и качала головой. Перед ней стояло другое видение. Это была мощная излучина Юкона у Танана, где по одну сторону стоит миссия Святого Георгия, а по другую — фактория, и между ними индейская деревушка и знакомый большой бревенчатый дом, в котором живет старик, обслуживаемый слугами.
Все обитатели берегов Юкона на две тысячи миль знали этот большой бревенчатый дом, старика, живущего в нем, и ухаживающих за ним рабов; сестры-миссионерки тоже прекрасно знали этот дом, царящий там нескончаемый разгул, пиры и веселье. Вот почему поднялся плач в миссии Святого Креста, когда уезжала Эл-Су.
С приездом Эл-Су в доме была устроена грандиозная уборка. Клаки-На, который привык сам быть хозяином, поначалу протестовал против порядков, устанавливаемых его властной юной дочерью, но, в конце концов, на свой варварский манер мечтая о величии, занял тысячу долларов у старого Порпортука, самого богатого индейца на Юконе. Кроме того, он на большую сумму набрал в фактории товаров. Эл-Су словно возродила старый дом. Она придала ему новое великолепие, в то время как Клаки-На поддерживал здесь древние традиции гостеприимства и разгула.
Все это было необычным для юконских индейцев, но Клаки-На недаром был необычным индейцем. Он не только любил щедрое гостеприимство, он мог и позволить себе это, будучи вождем и имея много денег. В те дни, когда здесь шла еще меновая торговля, он был владыкой своего народа и выгодно торговал с белыми. Впоследствии вместе с Порпортуком он открыл золотую россыпь на Коюкуке. По натуре и по привычкам Клаки-На был аристократом. Порпортук же был типичным буржуа, и он выкупил у Клаки-На золотую россыпь. Порпортук довольствовался тем, что упорно трудился и копил деньгу, а Клаки-На вернулся в свой большой дом и продолжал тратить их. Порпортук был известен как самый богатый индеец на Аляске. Клаки-На был известен как самый благородный. Порпортук занимался ростовщичеством. Клаки-На был анахронизмом — осколком средневековья, любителем боев и пиров, поклонником вина и песен.
Эл-Су привыкла к большому дому и к его порядкам с такой же легкостью, с какой она до того привыкла к миссии Святого Креста и тамошним порядкам. Она не пыталась переделать своего отца и направить его на стезю господа бога. Правда, она корила его, когда он слишком много пил, но делала она это ради его здоровья и во имя благополучного пребывания на грешной земле.
Двери большого дома никогда не запирались. Жизнь в нем не замирала ни на минуту: люди то приезжали, то уезжали. Стропила просторной комнаты постоянно сотрясались от шума пирушек и песен. За столом сидели вожди далеких племен и люди со всех концов света: англичане и жители колоний, худощавые торговцы-янки и толстяки — чиновники крупных компаний, ковбои с Запада, моряки, охотники и погонщики собак самых разных национальностей.
Эл-Су дышала этой атмосферой космополитизма. По-английски она говорила так же хорошо, как и на родном языке, пела английские песни и баллады. Она знала уходящие в прошлое индейские обряды и умирающие традиции. Если случалась необходимость, она умела нарядиться в традиционную одежду дочери вождя. Но обычно она одевалась на манер белых женщин. Ведь не напрасно ее учили в миссии шить, и не зря она обладала художественным вкусом. Она носила свои платья, как носят их белые женщины, и шила себе такие, которые шли ей.
Эл-Су была по-своему столь же необычным явлением, как и ее отец, и положение, которое она занимала, было столь же необычным, как и его положение. Она была единственной индианкой, с которой держались как с равной те немногие белые женщины, что жили в Танане. Она была единственной индианкой, которой белые мужчины делали предложения руки и сердца. И, наконец, она была единственной индианкой, которую никогда не пытался оскорбить ни один белый.
Дело в том, что Эл-Су была очень красива — не так, как бывают красивы белые женщины, и не так, как бывают красивы индианки. Красота ее была в том внутреннем огне, который не зависит от черт лица. Если же говорить о чертах лица, то она являла собой классический тип индианки. У нее были черные волосы и кожа цвета бронзы, черные глаза, блестящие и смелые, острые, как отблеск стали, маленький орлиный нос с тонкими трепещущими ноздрями, чуть выдающиеся, но не слишком широкие скулы и в меру тонкие губы. Но что было в ней главным — это внутренний огонь, то необъяснимое пламя в душе, что наполняло теплым светом ее глаза или сверкало в них, пробивалось румянцем щек, раздувало ноздри, срывалось смехом с губ и даже, если она была серьезна, пряталось в уголках рта, всегда готовое рассыпаться веселым смехом.
Эл-Су была остроумна, шутки ее редко бывали обидными, но она быстро подмечала маленькие слабости у окружающих. Ее веселый смех, как искрящийся огонек, зажигал людей, и они отвечали ей такими же веселыми улыбками. И тем не менее она никогда не оказывалась в центре внимания. Этого она не допускала. И самый дом и его слава были созданы ее отцом, радушным хозяином, повелителем пирушек, законодателем, и его героическая фигура царила здесь до последних его дней. Правда, по мере того, как силы оставляли его, она понемногу принимала всю тяжесть дел из слабеющих рук отца. Но внешне все оставалось по-прежнему, он правил, как и встарь, хотя частенько дремал, даже за столом, — былой гуляка лишь по видимости оставался еще хозяином пирушек.
А по большому дому между тем бродила зловещая фигура Порпортука, который неодобрительно покачивал головой, осуждая этот разгул, но платил за все. Нельзя сказать, что он особенно тратился, ибо какими-то таинственными путями ему удавалось соблюдать собственные интересы и постепенно год за годом прибирать к рукам имущество Клаки-На. Один-единственный раз Порпортук взял на себя смелость упрекнуть Эл-Су за расточительный образ жизни, царящий в большом доме, — это произошло как раз тогда, когда он поглотил уже почти все богатство Клаки-На, но больше он никогда не отваживался попрекать ее. Эл-Су, как и ее отец, была аристократкой, подобно своему родителю, она с презрением относилась к деньгам и ставила честь превыше всего.
Порпортук продолжал с неохотой одалживать деньги, но деньги эти тут же таяли золотой пеной. Эл-Су твердо решила одно: отец должен умереть так же, как и жил. Он не должен ощущать падения своего величия, пиры не должны стихать, не должно иссякать щедрое гостеприимство. Когда случался голод, страдающие индейцы, как и в былые времена, приходили к большому дому и уходили оттуда сытые. Если в доме не было денег, их занимали у Порпортука, и индейцы все равно уходили довольные. Эл-Су могла бы повторить вслед за аристократами иных времен и иных стран, что после нее хоть потоп. В данном случае для нее потопом был старый Порпортук. С каждым разом, одалживая деньги, он смотрел на нее с растущим чувством собственника и ощущал, как разгораются в нем старые, как мир, желания.
Но Эл-Су не смотрела на него. Впрочем, точно так же она не смотрела и на белых мужчин, которые предлагали обвенчаться с ней, как принято среди белых — с кольцами, священником и клятвой на библии. Дело в том, что в Танане жил юноша по имени Акун, одной крови с ней, одного племени и из одного селения. Ей он казался самым сильным и самым красивым, он был великий охотник, но так как часто и далеко путешествовал, то не нажил богатств. Он побывал в неизведанных и диких местах, путешествовал на Ситху и даже в Соединенные Штаты, пересекал материк до Гудзонова залива и обратно, охотился на тюленей и доплывал на судне до Сибири и Японии.
Вернувшись с золотых приисков в Клондайке, он, как обычно, пришел в большой дом, чтобы рассказать старому Клаки-На обо всем, что повидал на белом свете, и там он впервые встретил Эл-Су, которая вот уже три года как приехала из миссии. После этого Акун больше не уходил в странствия. Он отказался работать лоцманом на больших пароходах, хотя ему предлагали двадцать долларов в день. Он понемногу охотился и удил рыбу, но никогда не забирался далеко от Тананы и часто и подолгу бывал в большом доме. Эл-Су сравнивала его со многими мужчинами и нашла, что он лучше всех. Он пел для нее песни, загорался и пылал страстью, и скоро все селение знало, что он влюблен в Эл-Су. Порпортук только щерил зубы и давал еще денег на содержание большого дома.
И вот наступил последний предсмертный пир Клаки-На. Он сидел за столом, и в горле у него застряла смерть, которую нельзя было залить вином. Вокруг него раздавались смех, шутки и песни, Акун рассказал такую историю, что стропила дрогнули от хохота. За этим столом не было ни слез, ни вздохов. Всем казалось совершенно естественным, что Клаки-На должен умереть так, как жил, и никто не знал этого лучше, чем Эл-Су с ее артистическим чутьем. На пир, как и в былые времена, собралась вся старая компания и, кроме того, трое пообмороженных матросов, только-только вернувшихся из далекого путешествия в Арктику, единственных спасшихся из команды в семьдесят четыре человека. Позади Клаки-На стояли четверо стариков — последние из слуг, которые прислуживали ему в молодости. Слезящимися глазами они следили за каждым жестом вождя, дрожащими руками наполняли ему стакан и колотили его между лопатками, когда смерть поднимала голову и тот начинал кашлять и задыхаться.
Это была разгульная ночь, шли часы, кругом царило веселье и хохот, но вот смерть снова зашевелилась в горле у Клаки-На. Тогда он послал за Порпортуком. И Порпортук пришел сюда с мороза и неодобрительно смотрел на стол, уставленный мясом и вином, за которые он заплатил. Но когда он обвел глазами длинный ряд разгоряченных лиц и в дальнем конце стола увидел лицо Эл-Су, глаза его загорелись и на миг осуждение исчезло с его лица.
Его посадили рядом с Клаки-На и поставили перед ним стакан. Собственной рукой Клаки-На наполнил ему стакан огненным напитком.
— Пей! — закричал он. — Разве он не хорош?
И глаза у Порпортука увлажнились, он склонил голову в знак согласия и причмокнул губами.
— Разве ты в своем доме пил когда-нибудь такой напиток? — спросил Клаки-На.
— Я не буду отрицать, что этот напиток хорош для моего старого горла, но… — ответил Порпортук и помедлил, словно не желая высказываться до конца.
— Но он слишком дорого стоит, — расхохотался Клаки-На, заканчивая за него.
Порпортук вздрогнул от хохота, который прокатился вдоль всего стола. Глаза его вспыхнули недобрым огоньком.
— Мы росли вместе, и мы с тобой одного возраста, — сказал он, — но в твоем горле сидит смерть, а я жив и полон сил.
Среди собравшихся послышался угрожающий ропот. Клаки-На закашлялся, начал задыхаться, и старики-слуги принялись колотить его между лопатками. Он с трудом перевел дух и поднял руку, чтобы успокоить раздраженных гостей.
— Тебе было жалко разводить огонь в своем собственном доме, потому что дрова были слишком дороги! — крикнул он. — Ты скупился жить. Жизнь стоит слишком дорого, а ты не хотел платить эту цену. Твоя жизнь похожа на хижину, в которой нет огня и нет одеял на полу. — Он подал слугам знак наполнить стакан и поднял его. — А я жил! И жизнь согревала меня, как никогда не согревала тебя. Это правда, ты проживешь долго. Но самые длинные ночи — холодные ночи, и тогда человек дрожит и не может уснуть. Мои ночи были короткими, но я спал в тепле.
Он осушил свой стакан. Дрожащие руки слуг не успели подхватить стакан, и он упал на пол. Клаки-На откинулся назад, тяжело дыша, и следил глазами, как все осушают свои стаканы, и губы его слегка улыбались в ответ на крики одобрения. Он подал знак, и двое слуг попытались вновь посадить его прямо. Но они были старыми и слабыми, а он был могуч телом, и тогда на помощь пришли еще двое слуг и вчетвером они с трудом усадили его.
— Но мы говорим не о том, кто как живет, — продолжал Клаки-На. — У нас с тобой, Порпортук, сегодня есть другое дело. Долги — это несчастье, а я тебе должен. Сколько же я задолжал тебе?
Порпортук порылся в своей сумке и вытащил оттуда бумажку. Он отхлебнул из стакана и начал:
— Вот расписка от августа 1889 года на триста долларов. Проценты не были уплачены. Расписка за следующий год на пятьсот долларов. Этот долг был включен в расписку, которую ты выдал мне через два месяца на тысячу долларов. Потом есть расписка…
— К дьяволу все эти расписки! — нетерпеливо закричал Клаки-На. — У меня от них голова идет кругом, и все в ней путается. Сколько всего? Сколько я тебе должен?
Порпортук заглянул в свои записи.
— Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят центов, — прочитал он.
— Пусть будет шестнадцать тысяч, — великодушно бросил Клаки-На, — считай, что шестнадцать тысяч. Некруглые числа меня путают. А теперь — для этого я и позвал тебя — пиши новую расписку на шестнадцать тысяч, и я подпишу ее. Мне все равно, какие проценты ты будешь брать с меня. Пиши, какие хочешь, и пометь, что этот долг я верну тебе в том мире, где мы встретимся с тобой у костра Великого Отца всех индейцев. Там я заплачу тебе по этой расписке. Это я тебе обещаю. Даю слово Клаки-На.
Порпортук был озадачен, а громкий хохот присутствующих потряс стены комнаты. Клаки-На поднял руку.
— Нет! — воскликнул он. — Это не шутка. Я честно говорю. Я для этого и послал за тобой, Порпортук. Пиши расписку.
— Я не веду никаких дел с тем миром, — медленно произнес Порпортук.
— Разве ты не уверен, что встретишь меня перед лицом Великого Отца? — потребовал ответа Клаки-На и добавил: — Я наверняка буду там.
— Я не веду дел с тем миром, — раздраженно повторил Порпортук.
Умирающий смотрел на него с искренним изумлением.
— Я ничего не знаю про тот мир, — пояснил Порпортук. — Я делаю дела здесь, на земле.
Лицо Клаки-На прояснилось.
— Это оттого, что ночи твои холодны, — рассмеялся он, помолчал некоторое время и потом сказал: — Значит, ты хочешь получить свой долг здесь, на земле. Ну что ж, у меня остается этот дом. Бери его и сожги долговые расписки на свече.
— Это старый дом, он не стоит таких денег, — отозвался Порпортук.
— У меня есть еще прииск у Кривого Лосося.
— Он никогда не окупал себя.
— Тогда у меня есть доля в пароходе "Коюкук". Я владею половиной его.
— Он лежит на дне Юкона. Клаки-На вздрогнул.
— Правда, я забыл об этом. Это случилось прошлой весной, когда сошел лед.
Клаки-На задумался, никто не притрагивался к стаканам, ожидая, пока он заговорит.
— Выходит, что я должен тебе такие деньги, которые я не могу заплатить… здесь, на земле?
Порпортук кивнул головой и огляделся.
— Тогда получается, что ты, Порпортук, плохой делец, — насмешливо сказал Клаки-На.
Порпортук нагло ответил:
— Нет, это не так. У тебя есть еще собственность.
— Как? — воскликнул Клаки-На. — У меня есть еще имущество? Назови его, и оно твое, и долг будет погашен.
— Вот оно. — Порпортук показал на Эл-Су.
Клаки-На не понял. Он посмотрел туда, куда показывал Порпортук, протер глаза и опять посмотрел.
— Твоя дочь Эл-Су… Отдай ее мне, и долг будет заплачен. Я тут же сожгу твои расписки на этой свече.
Могучая грудь Клаки-На заколыхалась.
— Ха! Ха! Вот так шутка! Ха-ха-ха! — Клаки-На разразился гомерическим хохотом. — Это с твоей-то холодной постелью и с дочерьми, которые годятся в матери Эл-Су! Ха-ха-ха!
Он закашлялся, начал задыхаться, и старики-слуги принялись похлопывать его по спине.
— Ха-ха-ха! — вновь захохотал Клаки-На, и опять его схватило удушье.
Порпортук терпеливо ждал, потягивая из своего стакана и изучая лица сидевших по обе стороны стола. Наконец он сказал:
— Это не шутка. Я говорю дело.
Тут Клаки-На протрезвел, глянул на Порпортука и потянулся за своим стаканом, но не сумел достать его. Один из слуг подал ему стакан, и Клаки-На швырнул этот стакан вместе с содержимым в лицо Порпортука.
— Вытолкайте его вон! — загремел Клаки-На, обращаясь к сидевшим за столом, которые подобно своре охотничьих собак, рвущихся с поводка, только и ждали его сигнала. — И вываляйте его в снегу!
Когда взбесившийся клубок людей прокатился мимо него и вывалился за дверь, Клаки-На подал знак своим слугам, и четверо трясущихся стариков помогли ему встать на ноги и встретить возвращающихся бражников стоя, с поднятым стаканом, провозглашающим тост за короткие ночи, когда человек спит в тепле.
Для того, чтобы разобраться в запутанных делах Клаки-На, потребовалось совсем немного времени. Эл-Су пригласила для помощи англичанина Томми, младшего агента фактории. От Клаки-На не осталось ничего, кроме долгов, просроченных долговых расписок, залоговых квитанций на собственность и заложенной собственности, которая ничего не стоила. Все долговые расписки и залоговые квитанции находились у Порпортука. Томми, изучая проценты, которые брал Порпортук, каждый раз обзывал его ворюгой.
— Это долг, Томми? — спрашивала Эл-Су.
— Это грабеж, — отвечал Томми.
— И все-таки это долг, — настаивала Эл-Су. Кончилась зима, наступила весна, а долг Порпортуку все еще не был уплачен. Он частенько заходил к Эл-Су и каждый раз пространно объяснял ей, как объяснял однажды ее отцу, каким путем может быть погашен этот долг. Он даже привел с собой старого шамана, который растолковал ей, что если долг не будет уплачен, то ее отцу суждено вечное проклятие. И наконец после одного такого посещения Эл-Су объявила Порпортуку свое окончательное решение.
— Я скажу тебе две вещи, — сказала она. — Во-первых, я никогда не буду твоей женой. Запомни это. А во-вторых, ты получишь свои шестнадцать тысяч долларов — все, до последнего цента…
— Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов, — поправил Порпортук.
— Мой отец сказал шестнадцать тысяч, — был ее ответ, — ты их получишь.
— Каким образом?
— Я сейчас еще не знаю, каким образом, но я найду способ. А теперь уходи и не надоедай мне больше. А если будешь приставать ко мне… — она помедлила, придумывая подходящее наказание, — если ты будешь приставать ко мне, я прикажу опять вывалять тебя в снегу, как только выпадет первый снег.
Разговор этот происходил ранней весной, и вскоре Эл-Су удивила всю страну.
В июне, когда пойдет лосось, Эл-Су, дочь Клаки-На, будет продавать себя с аукциона, чтобы расплатиться с долгом Порпортуку. Слух об этом разнесся по всему Юкону, от Чилкута до дельты Юкона, его передавали от лагеря к лагерю, до самых отдаленных стоянок. Попытки разубедить ее были напрасны. Священник из миссии Святого Георга долго и горячо убеждал ее, но она ответила:
— На том свете расплачиваются с долгами только перед господом богом. Долги людям должны уплачиваться здесь, на земле, — здесь они и будут уплачены.
Акун пытался переубедить ее, но она ему ответила:
— Да, я люблю тебя, Акун, но честь выше любви. Разве я могу опозорить моего отца?
Сестра Альберта прибыла на первом пароходе из миссии Святого Креста, но тоже ничего не добилась.
— Мой отец блуждает в дремучем и бесконечном лесу, — ответила ей Эл-Су, — и ему суждено блуждать там среди рыдающих и неприкаянных душ до тех пор, пока не будет выплачен долг. Тогда, только тогда, сможет войти он в дом Великого Отца.
— И ты веришь в это? — спросила сестра Альберта.
— Не знаю, — ответила Эл-Су, — в это верил мой отец.
Сестра Альберта недоверчиво пожала плечами.
— А кто знает, — продолжала Эл-Су, — может быть, иной мир и в самом деле окажется таким, как мы верим? Почему бы и нет? Для вас иной мир — небеса, где играют на арфах… потому что вы верите в небеса с арфами. А для моего отца иной мир — это большой дом, где он вечно будет пировать вместе с богом.
— А ты? — спросила сестра Альберта. — Каким ты представляешь иной мир?
Эл-Су на мгновение помедлила с ответом.
— Мне бы хотелось и того и другого понемногу, — сказала она, — мне хотелось бы встретить там и вас и моего отца.
Настал день аукциона. Танана стала весьма многолюдной. Согласно обычаю, здесь в эту пору собирались индейские племена и ожидали, когда пойдет лосось, а пока что развлекались танцами и играми, торговали и сплетничали. Сюда съехались искатели приключений, торговцы, золотоискатели и, помимо них, еще множество белых, которых привело сюда любопытство или свой расчет.
Весна в этом году была поздней, и лосось запоздал. Эта задержка только разжигала всеобщий интерес. А в день аукциона напряженность стала еще больше благодаря Акуну. Он в присутствии множества людей торжественно заявил, что тот, кто купит Эл-Су, немедленно умрет. При этом он потряс в руке своим винчестером, показывая, откуда придет эта смерть. Эл-Су рассердилась, но он отказался разговаривать с ней и отправился в факторию, чтобы запастись патронами.
Первого лосося выловили в десять часов вечера, а в полночь начался аукцион. Он происходил на высоком берегу Юкона. Скрытое за горизонтом солнце спешило на север, и небо было зловеще-багрового цвета. У самого обрыва поставили стол и два стула, а вокруг собралась огромная толпа. В первых рядах расположились многочисленные белые и несколько вождей племен. А на самом видном месте в первом ряду стоял Акун с ружьем в руке. Томми по просьбе Эл-Су взял на себя обязанности аукционера, но открыла аукцион сама Эл-Су, которая описала товар, выставленный для продажи. Одетая в национальный костюм, в одежду дочери вождя, по-варварски великолепную, она поднялась на стул, чтобы все могли хорошенько рассмотреть ее.
— Кто хочет купить себе жену? — обратилась она к толпе. — Посмотрите на меня. Мне двадцать лет, и я девушка. Я буду хорошей женой тому, кто купит меня. Если это будет белый мужчина, я буду одеваться, как одеваются белые женщины, если он будет индеец, я буду одеваться… — она заколебалась на мгновение, — как скво. Я умею шить себе платья, умею стирать и штопать. Меня восемь лет учили всему этому в миссии Святого Креста. Я умею читать и писать по-английски и играю на органе. Кроме того, я знаю арифметику и немного алгебру, совсем немножко. Меня купит тот, кто предложит самую высокую цену, и я выдам ему расписку, что продала себя. Да, забыла сказать, что хорошо пою и ни разу в жизни не болела. Вес мой — сто тридцать два фунта, отец умер, других родственников нет. Кто хочет купить меня?
Горящим и смелым взглядом она обвела толпу и сошла со стула. Томми предложил ей опять стать на стул, а сам он вскарабкался на другой и открыл аукцион.
Вокруг Эл-Су стояли четверо старых слуг ее отца. Старость скрючила их, сделала беспомощными; представители давно ушедшего поколения, которые без всякого интереса взирали на проделки молодости, они думали только о пище. Впереди толпы заняли места несколько королей Бонанзы и Эльдорадо, рядом с ними, на костылях, распухшие от цинги, стояли двое неудачливых золотоискателей. Вот из гущи толпы высунулась, широко раскрыв от любопытства глаза, скво с Верхней Тананы, забредший с побережья ситка был рядом со стиком с озера Ле-Барж, а неподалеку от них особняком стояли человек шесть проводников-канадцев. Издалека доносился приглушенный гомон бесчисленных диких птиц с их гнездовий. Ласточки проносились низко над головами и над спокойной поверхностью Юкона, пели зорянки. Косые лучи невидимого солнца пробивались сквозь дым, поднимавшийся от лесных пожаров где-то за тысячу миль отсюда, и окрашивали небо в мрачно-багровые тона; отраженный свет солнца делал и землю красноватой. Этот отраженный свет ложился на лица собравшихся и придавал всему сборищу какой-то потусторонний и фантастический вид.
Поначалу ставки поднимались весьма туго. Ситка, который был впервые в этих краях и прибыл сюда всего за полчаса до начала аукциона, уверенно предложил сто долларов и был крайне удивлен, когда Акун с ружьем в руке угрожающе обернулся к нему. Никто не назначал новую цену. Потом индеец-лоцман с Тоцикакаты предложил сто пятьдесят долларов, а через некоторое время некий игрок, изгнанный с Верховий Юкона, поднял цену до двухсот долларов. Эл-Су переживала, самолюбие ее было уязвлено, но она и виду не подала, а лишь еще более вызывающе оглядывала толпу.
Толпа зрителей зашевелилась, когда вперед пробился Порпортук.
— Пятьсот долларов! — громко выкрикнул он и оглянулся с гордостью, чтобы посмотреть, какой эффект произвела его сумма.
Он решил использовать свое огромное богатство в качестве дубинки, с помощью которой он мог пришибить всех соперников с самого начала. Но один из проводников, глядя на Эл-Су горящими глазами, повысил ставку еще на сотню.
— Семьсот! — немедленно отозвался Порпортук. И с той же готовностью ему ответил проводник:
— Восемьсот!
Тогда Порпортук вновь пустил в ход свою тяжелую дубину.
— Тысяча двести! — выкрикнул он.
На лице проводника отразилось горькое разочарование, и он вынужден был признать себя побежденным. Никто не повышал ставок. Томми старался изо всех сил, но не мог добиться новых предложений.
Эл-Су обратилась к Порпортуку:
— Порпортук, тебе следует хорошенько взвесить то, что ты делаешь. Разве ты забыл, что я тебе сказала, — что я никогда не буду твоей женой?
— Это публичный аукцион, — возразил Порпортук, — и я куплю тебя как полагается. Я предложил тысячу двести долларов. Ты пока что ценишься дешево.
— Слишком дешево, черт побери! — выкрикнул Том-Ми. — Что из того, что я аукционер? Никто не запретит мне самому принять участие в торге. Я предлагаю тысячу триста.
— Тысяча четыреста, — отозвался Порпортук.
— Я куплю тебя, и ты будешь мне сестрой, — шепнул Томми Эл-Су и громко сказал:
— Тысяча пятьсот!
Когда ставка дошла до двух тысяч, в торг вступил один из королей Эльдорадо, а Томми вышел из игры.
В третий раз Порпортук пустил в ход тяжелую дубинку своего богатства и поднял ставку сразу на пятьсот долларов. Гордость короля Эльдорадо оказалась задетой. Кто посмел перебить его? И он поднял ставку еще на пятьсот долларов.
Теперь за Эл-Су давали три тысячи долларов. Порпортук поднял ставку до трех тысяч пятисот и раскрыл от изумления рот, когда король Эльдорадо накинул сразу тысячу долларов. Порпортук опять набавил пятьсот долларов и опять ахнул, когда король Эльдорадо прибавил еще тысячу долларов.
Порпортук начинал злиться. Его задело, что кто-то бросил вызов его могуществу, которое для него воплощалось в богатстве. Он не мог позволить, чтобы его унизили перед лицом людей. Дело было уже не в Эл-Су. Он готов был бросить на ветер все, что скопил за все холодные долгие ночи своей жизни. Цена Эл-Су поднялась уже до шести тысяч. Порпортук назвал семь тысяч. После этого ставки стали расти по тысяче с такой быстротой, что участники торга едва успевали называть сумму. Когда цена подскочила до четырнадцати тысяч, оба замолчали, чтобы перевести дыхание.
Но тут произошло нечто неожиданное. В борьбу вступила еще более увесистая дубинка. Игрок с Верховий Юкона, который почуял выгодное дельце, организовал в наступившей паузе синдикат из нескольких своих приятелей и поднял цену до шестнадцати тысяч долларов.
— Семнадцать тысяч, — слабеющим голосом произнес Порпортук.
— Восемнадцать тысяч, — парировал король. Порпортук собрался с силами.
— Двадцать тысяч.
Синдикат выбыл из игры. Король Эльдорадо поднял ставку еще на тысячу, Порпортук тоже, и пока они попеременно повышали цену, Акун поворачивался то к одному, то к другому, он посматривал на них угрожающе и одновременно с любопытством, словно желая выяснить, что же представляет собой человек, которого он должен сейчас убить. Король собирался назвать очередную надбавку, Акун стал пробираться поближе к нему, и тот, прежде чем назвать сумму, сначала высвободил висевший на боку револьвер.
— Двадцать три тысячи.
— Двадцать четыре тысячи, — ответил Порпортук. При этом он злорадно ухмыльнулся, заметив, что его уверенность, с которой он поднимал цену, поколебала короля. Тот подошел поближе к Эл-Су и долго и внимательно рассматривал ее.
— И еще пятьсот, — наконец сказал он.
— Двадцать пять тысяч, — вновь поднял цену Порпортук.
Король долго смотрел на Эл-Су и покачал головой. Потом глянул еще раз и неохотно процедил:
— И еще пятьсот.
— Двадцать шесть тысяч! — выпалил Порпортук. Король отвернулся, чтобы не видеть умоляющих глаз Томми. Между тем Акун стал пробираться поближе к Порпортуку. Острые глаза Эл-Су заметили это, и пока Томми убеждал короля Эльдорадо еще раз повысить ставку, она нагнулась и сказала что-то на ухо старому слуге. И в то время, пока слова Томми "Продается… Продается…. Продается" звучали в воздухе, слуга подошел к Акуну и тоже шепнул ему что-то на ухо. И хотя Эл-Су с нетерпением смотрела на него, но Акун не подал вида, что расслышал хоть что-нибудь.
— Продана! — прозвучал голос Томми. — Продана Порпортуку за двадцать шесть тысяч долларов.
Порпортук с опаской посмотрел на Акуна. Все глаза были устремлены туда же, но он стоял недвижимо.
— Пусть принесут весы, — сказала Эл-Су.
— Я буду расплачиваться у себя в доме, — произнес Порпортук.
— Пусть принесут весы, — повторила Эл-Су. — Оплата должна быть произведена здесь, чтобы все видели.
Из фактории принесли весы, а Порпортук тем временем сходил к себе и вернулся в сопровождении человека, который тащил на спине мешки из лосиной кожи, набитые золотым песком. Кроме него, за Порпортуком следовал еще один человек с ружьем в руках, который не сводил глаз с Акуна.
— Вот здесь долговые расписки и закладные на пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов.
Эл-Су взяла документы у него из рук и сказала Томми:
— Пусть они считаются за шестнадцать тысяч.
— Остается выплатить еще десять тысяч золотым песком, — сказал Томми.
Порпортук кивнул в знак согласия и развязал свои мешки. Эл-Су, стоя у самой воды, разорвала бумаги на клочки и пустила их по ветру, дувшему вдоль Юкона. Начали отвешивать золото, но тут произошла заминка.
— Считать будем, конечно, по семнадцати долларов, — сказал Порпортук Томми, когда тот начал регулировать весы.
— Нет, по шестнадцати долларов, — резко сказала Эл-Су.
— Повсюду принято считать золотой песок по семнадцать долларов за унцию, — ответил Порпортук, — у нас здесь деловая сделка.
Эл-Су рассмеялась.
— А это новый обычай, — сказала она, — он заведен с этой весны. В прошлом году и раньше считали по шестнадцати долларов за унцию. Когда мой отец одалживал деньги, считали по шестнадцати долларов. Когда он покупал в лавке товары, то за унцию золотого песка, который он одалживал у тебя, он получал муки на шестнадцать долларов, а не на семнадцать. Поэтому и ты должен считать мне по шестнадцати долларов, а не по семнадцати.
Порпортук проворчал что-то и приказал отвешивать песок.
— Развешивай его на три части, Томми, — сказала Эл-Су, — сюда на тысячу долларов, сюда на три тысячи, а сюда на шесть.
Это была медленная процедура, и пока развешивали песок, присутствующие не сводили глаз с Акуна.
— Он ждет, когда будут отданы деньги, — предположил кто-то, и эти слова облетели всех; и толпа ждала, что же будет делать Акун.
Наконец Томми закончил развешивать, и золотой песок лежал на столе тремя темно-желтыми кучками.
— Мой отец остался должен Компании три тысячи долларов, — сказала Эл-Су, — возьми их, Томми, и передай Компании. Теперь здесь остаются четверо стариков. Ты их знаешь. Вот тысяча долларов. Возьми ее и сделай так, чтобы старики всегда были сыты и у них всегда был табак.
Томми высыпал золото в отдельные мешки. На столе осталась кучка песка на шесть тысяч долларов. Эл-Су подхватила его совком и, неожиданно повернувшись, высыпала золотым дождем в Юкон. Когда она во второй раз воткнула совок в золотой песок, Порпортук схватил ее за кисть.
— Это мое, — спокойно сказала она, и он отпустил ее руку, но пока она швыряла песок в реку, Порпортук смотрел на нее и скрежетал зубами, весь почернев от злости.
Толпа смотрела только на Акуна; слуга Порпортука, стоявший в ярде от Акуна, направил ружье на него, держа палец на спуске. Но Акун стоял спокойно.
— Пишите бумагу о продаже, — мрачно сказал Порпортук.
И Томми составил купчую, согласно которой все права на женщину по имени Эл-Су получал человек по имени Порпортук. Эл-Су подписала документ, Порпортук сложил его и спрятал в мешочек. Вдруг глаза его вспыхнули, и он обратился к Эл-Су с неожиданной речью.
— Это не был долг твоего отца, — сказал он, — то, что я заплатил, я заплатил за тебя. Ты продавала себя сегодня, а не вчера, не в прошлом году или еще раньше. За каждую унцию песка, которым я заплатил за тебя, сегодня в фактории дают муки на семнадцать долларов. Я потерял доллар на каждой унции. Я потерял шестьсот двадцать пять долларов.
Эл-Су раздумывала мгновение и поняла, что ошиблась. Она рассмеялась.
— Ты прав, — смеясь, сказала она, — я ошиблась. Но теперь уже поздно. Ты заплатил, и золота уже больше нет. Ты стал тугодумом. И потому прогадал. Твой хитрый ум стал неповоротлив. Ты стареешь, Порпортук.
Порпортук ничего не ответил. Он опасливо посмотрел на Акуна и успокоился. Потом поджал губы, и в лице появилась жестокость.
— Пойдем, — сказал он, — пойдем в мой дом.
— Разве ты забыл те две вещи, которые я сказала тебе весной? — спросила Эл-Су, не выказывая желания следовать за ним.
— Я бы давно свихнулся, если бы помнил все. что говорят женщины, — ответил он.
— Я сказала, что ты получишь свой долг, — старательно продолжала Эл-Су, — и я еще сказала, что никогда не буду твоей женой.
— Но это было до того, как ты подписала купчую, — ответил Порпортук и потрогал пальцами хрустящую бумагу. — Я купил тебя на глазах у всех. Ты принадлежишь мне. Ты не можешь отрицать, что ты моя.
— Да, я твоя, — спокойно подтвердила Эл-Су.
— Ты принадлежишь мне.
— Я принадлежу тебе.
Голос Порпортука зазвучал чуть громче, в нем послышались торжествующие нотки.
— Ты принадлежишь мне, как собака принадлежит хозяину.
— Я принадлежу тебе, как собака принадлежит хозяину, — спокойно сказала Эл-Су, — но ты, Порпортук, забыл то, что я тебе говорила. Если бы меня купил любой другой мужчина, я стала бы его женой. Я была бы хорошей женой. Так я решила. Но твоей женой я никогда не буду. Поэтому я только твоя собака.
Порпортук знал, что играет с огнем, и решил быть твердым.
— Тогда я буду говорить с тобой не как с Эл-Су, а как с собакой, — сказал он, — и я приказываю тебе идти со мной.
Он хотел было взять ее за руку, но Эл-Су оттолкнула его.
— Не спеши, погоди, Порпортук. Ты купил собаку. А собака убегает. Я ведь только твоя собака. Что, если я убегу?
— Я побью тебя, как хозяин бьет собаку…
— Когда поймаешь меня?
— Когда поймаю тебя.
— Тогда лови меня.
Порпортук быстро подскочил к ней, но Эл-Су увернулась. Она смеялась, бегая вокруг стола.
— Лови ее! — крикнул Порпортук индейцу с ружьем, который оказался неподалеку от Эл-Су.
Но как только индеец попытался схватить ее, король Эльдорадо сбил его с ног ударом кулака по скуле. Ружье звякнуло о землю. Тут, казалось бы, наступил черед Акуна. Глаза его сверкнули, но он остался на месте.
Порпортук был старый человек, но холодные ночи помогли ему сохранить силы. Он не стал бегать вокруг стола. Он неожиданно перескочил прямо через стол. Эл-Су оказалась застигнутой врасплох. Она отскочила назад с испуганным криком, и Порпортук поймал бы ее, если бы не Томми. Тот вытянул ногу, Порпортук споткнулся и свалился на землю. Эл-Су бросилась бежать.
— Тогда лови меня, — смеясь, бросила она ему через плечо, убегая.
Она бежала легко и быстро. Порпортук был в ярости. Он бежал быстрее ее. В молодости он считался самым лучшим бегуном среди юношей. Но Эл-Су была хитрее и изворотливее. Она была в туземном костюме, и юбка не путалась у нее в ногах, а ее гибкое тело оказалось слишком увертливым для цепких пальцев Порпортука.
С хохотом и шумом огромная толпа рассыпалась, чтобы поглазеть за погоней. Эл-Су и Порпортук бежали по становищу и, делая круги, то исчезали, то вновь появлялись среди палаток. Эл-Су размахивала руками, чтобы сохранить равновесие при беге, и временами ее тело, казалось, отрывалось от земли, когда она делала крутые повороты. А Порпортук все бежал в каком-нибудь шаге позади или сбоку от нее, как тощая гончая собака.
Они миновали открытое место позади становища и скрылись в лесу. Танана ждала их возвращения, ждала долго, но тщетно.
Тем временем Акун ел, спал и подолгу шатался у пароходной пристани, оставаясь глух к растущему возмущению обитателей становища по поводу того, что он ничего не предпринимал. Через сутки Порпортук вернулся. Он устал и был в ярости. Он не стал разговаривать ни с кем, кроме Акуна, и попытался вызвать его на ссору. Но Акун пожал плечами и ушел прочь. Порпортук не терял времени. Он нанял шесть юношей, отобрав лучших следопытов и проводников, и вместе с ними отправился, в лес.
На следующий день пароход "Сиэтл", направлявшийся вверх по реке, пристал к берегу, чтобы запастись топливом. Когда концы отдали и пароход отошел от берега, Акун находился в лоцманской рубке. Прошло немного часов, и, встав на вахту у руля, он увидел маленькое каноэ из березовой коры, отчалившее от берега. В каноэ виднелась одна-единственная человеческая фигура. Акун пристально вглядевшись, повернул руль и скомандовал замедлить ход.
В рубку вошел капитан парохода.
— Что случилось? — спросил он. — Здесь нет мелей.
Акун проворчал что-то. Он увидел, как от берега отвалило большое каноэ, в котором было несколько человек. Как только "Сиэтл" отклонился от фарватера, Акун повернул рулевое колесо еще круче. Капитан рассердился.
— Там всего-навсего скво, — запротестовал он.
Акун не отвечал. Он, не отрываясь, смотрел на женщину и преследующее ее каноэ. Там шесть человек сидели на веслах; женщина гребла куда медленнее.
— Ты посадишь пароход на мель! — заорал капитан, хватаясь за рулевое колесо.
Но руки Акуна с железной силой держали рулевое колесо, а сам он посмотрел капитану прямо в глаза. Тот медленно отпустил колесо.
— Чудак человек, — пробормотал он.
Акун держал пароход у самого мелководья и выжидал, пока не увидел, как женщина уцепилась за передние поручни. Тогда он скомандовал полный вперед и завертел рулевое колесо обратно. Большое каноэ было уже совсем рядом, но расстояние между ним и пароходом стало быстро увеличиваться.
Женщина расхохоталась и перевесилась через поручни.
— Так лови меня, Порпортук! — крикнула она.
Акун сошел с парохода в форте Юкон. Он нанял небольшую лодку и отправился вверх по реке Поркьюпайн. С ним была Эл-Су. Это было тяжелое путешествие, путь их лежал через хребет, пересекавший страну, но Акун раньше путешествовал этим путем. Когда они добрались до истоков Поркьюпайна, они оставили лодку и пешком отправились через Скалистые горы.
Акуну очень нравилось идти позади Эл-Су и любоваться ее походкой. В ней была музыка, которую он любил. И особенно он любил смотреть на ее округлые икры, завернутые в мягко выделанную кожу, стройные лодыжки и маленькие, одетые в мокасины ножки, не знающие усталости на протяжении многих дней пути.
— Ты легкая, как воздух, — говорил Акун, глядя на нее, — тебе совсем не трудно идти. Ты словно плывешь, так плавно поднимаются и ступают твои ноги. Ты похожа на лань, Эл-Су, ты похожа на лань, и глаза у тебя, когда ты смотришь на меня или когда оглядываешься на шорох, тоже как у лани. Вот и сейчас, когда ты смотришь на меня, глаза твои похожи на глаза лани.
И Эл-Су, сияющая и растроганная, поворачивалась и целовала Акуна.
— Когда мы доберемся до индейцев-маккензи, мы не будем задерживаться, — сказал Акун, — мы двинемся на юг раньше, чем зима застанет нас. Мы пойдем с тобой на солнечные земли, где нет снега. Но мы вернемся. Я видел много стран, но нет другой такой земли, как Аляска, нигде нет такого солнца, как наше солнце, и после долгого лета хорошо увидеть снег.
— И ты научишься читать, — сказала Эл-Су. И Акун ответил:
— Конечно, я научусь читать.
Однако, когда они добрались до озера Маккензи, им пришлось задержаться. Они встретились с группой индейцев, и во время охоты Акуна случайно ранили. Стрелял юноша, пуля пробила Акуну правую руку и сломала два ребра. Акун знал примитивную медицину индейцев, а Эл-Су в миссии Святого Креста немного научилась оказывать помощь пострадавшим. В конце концов кости вправили, и Акун лежал у огня, ожидая, пока кости срастутся. Он лежал у огня так, чтобы дымом табака отгонять москитов.
И вот сюда добрался Порпортук со своими шестью молодцами. Акун стонал, сознавая свое бессилие, и обратился за помощью к индейцам-маккензи. Но Порпортук предъявил свои претензии, и маккензи были озадачены. Порпортук хотел увести Эл-Су, но маккензи воспротивились. Спор нужно было рассудить, и поскольку дело касалось мужчины и женщины, был созван совет из стариков: молодые, у которых горячие сердца, могли вынести несправедливое решение.
Старики уселись вокруг костра. Лица у них были худы и изборождены морщинами, они тяжело дышали, хватая ртом воздух. Дым мешал им дышать. Время от времени они дрожащими руками били москитов, которые отваживались лететь на дым. После таких упражнений они глухо и надрывно кашляли. Некоторые из них отхаркивались кровью, а у одного старика, сидевшего чуть поодаль с опущенной головой, безостановочно текла изо рта кровь: у всех у них была горловая чахотка. Это были умирающие люди, жить им оставалось совсем немного. Это был совет мертвецов.
— И я заплатил за нее огромную цену, — заключил Порпортук свою жалобу, — таких денег вы никогда не видели. Продайте все, что у вас есть, — продайте ваши копья, стрелы и ружья, продайте ваши шкуры и меха, продайте ваши палатки, лодки и собак — продайте все, и вы вряд ли наберете тысячу долларов. А я заплатил за эту женщину Эл-Су цену в двадцать шесть раз большую, чем стоят все ваши копья, стрелы и ружья, ваши шкуры и меха, ваши палатки, лодки и собаки. Это очень высокая цена.
Старики важно кивали головами, хотя их ссохшиеся глазные щелочки расширялись от удивления, что какая-то женщина вообще может стоить таких денег. Тот, у которого изо рта шла кровь, вытер губы.
— Это правда? — спросил он по очереди каждого из молодых охотников, сопровождавших Порпортука. И каждый ответил, что это правда.
— Это правда? — спросил он у Эл-Су, и та ответила:
— Это правда.
— Но Порпортук не сказал, что он старик, — вмешался Акун, — и что дочери у него старше, чем Эл-Су.
— Это правда, Порпортук старый человек, — сказала Эл-Су.
— Это уже дело Порпортука мерить силы своего возраста, — сказал старик, у которого текла изо рта кровь. — Все мы стареем. Но помни, старость никогда не бывает настолько слаба, как это кажется юности.
И все старики, сидевшие кругом, жевали беззубыми дёснами, одобрительно кивая и кашляя.
— Я сказала ему, что никогда не буду его женой, — настаивала Эл-Су.
— И все-таки ты взяла у него в двадцать шесть раз больше, чем все, что мы имеем? — спросил одноглазый старик.
Эл-Су молчала.
— Это правда? — И его единственный глаз вонзился в нее, как буравчик.
— Это правда, — сказала она.
Но через мгновение ее взорвало, и она со страстью воскликнула:
— Я все равно опять убегу! Я всегда буду убегать от него!
— Это уже забота Порпортука, — заметил другой старик, — наше дело — вынести решение.
— А какую цену ты за нее уплатил? — спросили у Акуна.
— Я ничего за нее не платил, — ответил он, — ибо она дороже любых денег. Я не могу оценить ее ни на золотой песок, ни на собак, ни на палатки или меха.
Старики принялись спорить о чем-то между собой приглушенными голосами.
— Эти старики, как лед, — сказал Акун по-английски, — я не буду слушать их решения, Порпортук. Если ты возьмешь Эл-Су, я непременно убью тебя.
Старики перестали разговаривать и подозрительно посмотрели на Акуна.
— Мы не понимаем языка, на котором ты говоришь, — сказал один из них.
— Он сказал, что убьет меня, — поспешил ответить Порпортук, — так что лучше отобрать у него ружье и посадить рядом кого-нибудь из ваших юношей, чтобы он не причинил мне вреда. Он молод, а что такое для молодого поломанные кости!
У беспомощного Акуна отобрали ружье и нож, и по бокам сели два молодых индейца-маккензи. Одноглазый старик встал и выпрямился.
— Нас поражает цена, которая уплачена за женщину, — начал он, — но разумность этой цены нас не касается. Мы здесь для того, чтобы вынести решение, и мы выносим решение. У нас нет никаких сомнений. Всем известно, что Порпортук заплатил высокую цену за женщину Эл-Су. Поэтому женщина Эл-Су принадлежит Порпортуку и никому другому.
Он тяжело опустился на землю и закашлялся. Старики закивали и тоже закашлялись.
— Я убью тебя! — закричал по-английски Акун. Порпортук усмехнулся и встал.
— Вы вынесли справедливое решение, — сказал он судьям, — и мои люди дадут вам много табаку. А теперь пусть подведут ко мне эту женщину.
Акун заскрежетал зубами. Молодые индейцы схватили Эл-Су — она не сопротивлялась, только лицо ее горело мрачным огнем — и притащили к Порпортуку.
— Сиди здесь, у моих ног, пока я буду говорить, — приказал он. Потом он помолчал мгновение. — Это правда, — сказал он, — что я старый человек. Но я еще могу понять пути молодости. Огонь еще не погас во мне. И все-таки я уже не молод и не собираюсь все годы, которые мне осталось прожить, гоняться на своих старых ногах за Эл-Су. Она бегает быстро и хорошо. Она похожа на лань. Я это хорошо знаю, потому что я видел это и гнался за ней. Плохо, когда жена бегает так быстро. Я заплатил за нее большую цену, а она убегает от меня. Акун ничего не заплатил за нее, а она бежит к нему.
Когда я пришел к вам, люди маккензи, у меня была одна мысль в голове. Когда я слушал ваш суд и думал о быстрых ногах Эл-Су, у меня было много мыслей в голове. Теперь у меня опять только одна мысль, но совсем не та, с которой я пришел сюда. Я скажу вам, о чем я думаю. Если собака однажды убежала от хозяина, она всегда будет убегать от него. Сколько бы раз ее ни возвращали, она каждый раз будет убегать. Когда нам попадается такая собака, мы ее продаем. Эл-Су вроде такой собаки, которая убегает. Я продам ее. Кто из совета купит ее?
Старики кашляли и молчали.
— Акун купил бы Эл-Су, — продолжал Порпортук, — но у него нет денег. Поэтому я отдам ему эту женщину без всякой платы. Я отдам ему ее сейчас же.
Нагнувшись, он взял Эл-Су за руку и повел ее через круг, туда, где лежал на спине Акун.
— У нее есть дурная привычка, Акун, — сказал он, усаживая Эл-Су у ног Акуна. — Раньше она убегала от меня, а впредь она может убежать и от тебя. Но ты можешь не бояться, Акун, что она когда-нибудь убежит от тебя. Я позабочусь, чтобы она не сделала этого. Она никогда не убежит от тебя, даю слово Порпортука. Она очень любит шутить. Я знаю это, она часто шутила надо мной. И все-таки я решил один раз тоже пошутить. И благодаря этой шутке я сохраню ее для тебя, Акун.
Нагнувшись, Порпортук скрестил ноги Эл-Су так, что одна нога лежала на другой, и, прежде чем успели разгадать его замысел, разрядил свое ружье так, что пуля прошла через обе лодыжки. Когда Акун пытался подняться под тяжестью двух навалившихся на него юношей, послышался хруст вновь ломающихся костей.
— Это справедливо, — сказал один старик другому. Эл-Су не издала ни звука. Она сидела и смотрела на свои раздробленные ноги, на которых она уже никогда не сможет ходить.
— У меня крепкие ноги, Эл-Су, — сказал Акун, — но они никогда не унесут меня прочь от тебя.
Эл-Су посмотрела на него, и в первый раз за все время, что он ее знал, Акун увидел в ее глазах слезы.
— У тебя глаза, как у лани, Эл-Су, — сказал он.
— Это ведь справедливо? — спросил Порпортук, собираясь уходить и злобно ухмыляясь сквозь дым.
— Это справедливо, — сказали старики и продолжали сидеть молча.
ПРИМЕЧАНИЯ
МАРТИН ИДЕН
Роман «Мартин Иден» печатался в журнале «Пасифик мансли» с сентября 1908 года по сентябрь 1909 года и в сентябре 1909 года вышел отдельным изданием (Нью-Йорк). В нашем издании роман печатается по тексту Гослитиздата (1955), с некоторыми исправлениями.
Стр. 7. Суинберн, Алджернон Чарльз (1837–1909) — английский поэт. В своих сборниках «Песни перед восходом солнца», «Поэмы и баллады», в драматической трилогии, посвященной Марии Стюарт («Шестеляр», «Босуэл», «Мария Стюарт») и других произведениях протестовал против лицемерия и ханжества современной ему действительности буржуазной, викторианской Англии. Однако в своей критике Суинберн не шел дальше мелкобуржуазного радикализма; в последние годы жизни стал петь гимны британскому империализму, прославляя англо-бурскую войну. Произведения Суинберна высоко ценились на рубеже XIX–XX веков в Англии и США.
Стр. 25. Браунинг, Роберт (1812–1889) — английский поэт. Эпигон реакционного романтизма. Его драматические поэмы «Парацельз», «Сорделло», «Страфорд» и другие отличаются нарочитой усложненностью формы.
Стр. 43. Лекки, Уильям (1838–1903) — английский буржуазный историк. Основной его труд «История Англии в XVIII в.» содержит значительный фактический материал, но написан с идеалистических позиций.
Маршал, Альфред (1842–1924) — английский вульгарный экономист. Работы Маршала «Начала политической экономии», «Промышленность и торговля», «Деньги, кредит и коммерция» представляют собой эклектическую смесь из положений различных вульгарных школ буржуазной политической экономии.
Стр. 52. Рикардо, Давид (1772–1823) — английский экономист. Идеолог промышленной буржуазии в ее борьбе с землевладельческой аристократией в период промышленного переворота. Главное произведение Рикардо — «Начала политической экономии и налогового обложения». К. Маркс, дав последовательную и всестороннюю критику теории Рикардо, показал историческое значение его теории стоимости.
Смит, Адам (1723–1790) — английский экономист. Один из выдающихся представителей классической буржуазной политической экономии. Основное произведение — «Исследование о природе и причинах богатства народов».
Милль, Джеймс (1773–1836) — английский экономист, публицист и философ, идеолог либерализма. Основная работа — «Принципы политической экономии», где он, выступив в защиту теории Рикардо, вместе с тем вульгаризировал ее, прийдя к явно апологетическим выводам. Взгляды Милля были подвергнуты уничтожающей критике со стороны К. Маркса.
Стр. 53. Блаватская, Елена Петровна (1831–1891) — писательница (псевдоним Радда-Бай), создательница т. н. современной теософии, то есть реакционного религиозного учения, признающего источником познания мистическую интуицию, откровение. В 1875 году основала «теософическое общество» с центром в Нью-Йорке, окружала себя таинственностью и производила «феномены», долгое время интересовавшие ученый мир; впоследствии они были разоблачены как самое грубое шарлатанство.
Стр. 64. …он испытывал какое-то демократическое пристрастие к Вагнеру… Вагнер Рихард (1813–1883) — немецкий композитор. Опера «Тангейзер» (1843–1845) — выдающееся произведение мирового искусства — написана в период, когда на Вагнера заметное воздействие оказывали философские и социально-экономические идеи Фейербаха, Бакунина, Прудона. В ней, как и в других операх этого периода — «Летучий голландец» (1841), «Лоэнгрин» (1848), — ярко отражена идейно-художественная противоречивость творческого развития композитора.
Стр. 83. Теннисон — см. примеч. к стр. 115.
Стр. 98. Спенсер, Герберт (1820–1903) — английский философ, социолог и психолог, представитель позитивизма. В философии выступал как агностик, утверждал, что всякая попытка выйти за пределы субъективного человеческого опыта является «метафизикой» и задача исследователя поэтому заключается в положительном описании явлений. В. И. Ленин подверг критике взгляды Спенсера как врага материализма.
Стр. 99. Роменс, Джорж Джон (1848–1894) — английский биолог, современник и друг Ч. Дарвина.
Стр. 107. Соломон (960–935 до н. э.) — царь объединенного Израильско-Иудейского царства. В литературе Среднего Востока и средневековья — премудрый, справедливый царь, повелитель духов и т. д. Соломону ошибочно приписывается ряд произведений, вошедших в библию: «Книга притчей», «Книга премудрости», «Песнь песней» и др.
Стр. 115. «In Memoriam» — поэма английского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892). В ней сказалась попытка поэта примирить религию с наукой. Теннисон в своем творчестве продолжал традиции реакционных романтиков, воспевал патриархальные нравы, религиозное самоотречение. Приверженность к буржуазному строю, отсутствие каких-либо отступлений от ханжески-пуританской морали снискали поэту быстрое признание.
Стр. 127. Фиск, Джон (1842–1901) — американский буржуазный историк и социолог; был идеологом нарождавшегося американского империализма.
Стр. 220. Метерлинк, Морис (1862–1949) — бельгийский писатель-символист.
В основе философских взглядов и эстетики писателя лежат идеалистические идеи приоритета «высшего» духовного мира над миром реальным, утверждения мистической иррациональности жизни и обреченности всего существующего, отрицания роли разума и науки. Эти взгляды выражены в книгах «Сокровище смиренных», «Жизнь пчел» и в драмах «рока»: «Слепые», «Пелеас и Мелисанда» и др.
Стр. 231. Джефферсон, Томас (1743–1826) — выдающийся американский просветитель XVIII в., идеолог буржуазно-демократического направления во время войны за независимость в Северной Америке 1775–1783. В 1801–1809 — президент США. Общественный идеал Джефферсона был близок к мелкобуржуазному утопическому идеалу Ж.-Ж. Руссо и предусматривал бесплатное наделение землей всех трудящихся. Джефферсон осуждал гигантскую концентрацию собственности в руках немногих, с одной стороны, и разорение и обнищание трудящегося большинства общества — с другой.
Стр. 235. Цирцея — в древнегреческой мифологии дочь Гелиоса и нимфы Персы, волшебница. Цирцея обратила в свиней спутников Одиссея, который вынудил ее, однако, вернуть им человеческий образ.
Стр. 249. Вейсман, Август (1834–1914) — немецкий биолог, один из основателей идеалистического учения о «веществе наследственности» и независимости наследственности организмов от условий их жизни. К. А. Тимирязев резко критиковал ряд теоретических положений Вейсмана.
Стр. 257. Китс, Джон (1795–1821) — английский поэт-романтик. Подобно Шелли и Байрону, критически относился к буржуазному обществу. Идеал общественного устройства видел в античной Греции. Поэмы «Эндимион», «Ламия» и «Гиперион» передают общественные и эстетические воззрения поэта в символических и мифологических образах. Лирика Китса — одно из сокровищ английской национальной поэзии. «Ода к осени» — образец высокого мастерства Китса.
Стр. 280. Джеймс, Генри (1843–1916) — американский писатель, непопулярный в широкой публике, так как его произведения были лишены фабульной занимательности, а утонченный анализ человеческой психики, художественная техника и изобретательные приемы оставляли равнодушными его современников Вместе с тем Джеймс — любимый писатель американских эстетских кругов. Лондон относился к романам Джеймса критически.
Россетти, Данте Габриель (1828–1882) — английский живописец и поэт. Основатель и главный представитель «Братства прерафаэлитов», зачинатель символизма в английском искусстве, обращался к религиозным и мифологическим темам, средневековым легендам, поэзии Данте.
Стр. 281. Беркли, Джордж (1685–1735) — реакционный английский философ, субъективный идеалист, епископ. Отстаивал взгляд, будто вещи — это лишь совокупность ощущений, что «существовать — значит быть воспринимаемым» и что понятия — лишь условные знаки, не имеющие объективного содержания. Его философия послужила одним из теоретических источников эмпириокритицизма.
Юм, Дэвид (1711–1776) — английский философ, психолог, историк и экономист. В философии выступал и как агностик, утверждая непознаваемость сущего, и как идеалист, не признавая существования независимого от человека материального мира; за единственную реальность принимал лишь психические переживания человека. Юм — предшественник психологического направления буржуазной политической экономии.
Стр. 282. Локк, Джон (1632–1704) — английский философ-деист. Основная заслуга Локка в области философии состоит в том, что он детально, в основном с материалистических позиций, обосновал принцип происхождения знаний и идей из чувственного опыта, отвергая идеалистическую теорию врожденных идей и моральных принципов. Идеи Локка в дальнейшем были использованы представителями как материалистической, так и идеалистической философии. Идеалистические стороны учения Локка, в частности т. н. учение о вторичных качествах, использовали субъективные идеалисты Беркли и Юм.
Стр. 285. Конрад, Джозеф (1857–1924) — псевдоним Юзефа Конрада Коженевского, английского писателя, автора мастерски написанных приключенческих новелл и романов.
ПОТЕРЯВШИЙ ЛИЦО
Сборник «Потерявший лицо» впервые издан в 1910 году (Нью-Йорк. изд. Макмиллан).
Рассказ «Потерявший лицо» впервые опубликован в периодическом издании «Нью-Йорк Гералд» 19 декабря 1908 года.
«Поручение» — в журнале «Сэнчури мэгэзин» в январе 1908 года.
«Меченый» — в журнале «Сансет мэгэзин» в феврале 1908 года.
«Костер» — в периодическом издании «Юс компэнион» в мае 1902 года.
«Золотая Зорька» — в журнале «Хэмптонс Бродвэй мэгэзин» в октябре 1908 года.
«Исчезновение Маркуса О'Брайена» — в журнале «Ридер» в январе 1908 года.
«Шутка Порпортука» — в журнале «Таймс мэгэзин» в декабре 1906 года.
Стр. 434. …задолго до находки Кармака. — 16 августа 1896 года Джорджем Кармаком в районе Клондайка было открыто богатейшее месторождение золота, послужившее сигналом для начала «золотой лихорадки».
Стр. 461. Калибан — получеловек, получудовище; в переносном смысле — неуклюжее, неряшливое существо.
СОДЕРЖАНИЕ
МАРТИН ИДЕН...5
ПОТЕРЯВШИЙ ЛИЦО
Потерявший лицо. Перевод Б. Грибанова...371
Поручение. Перевод Б. Грибанова...385
Меченый. Перевод Т. Озерской...399
Костер. Перевод В. Топер...411
Золотая Зорька. Перевод Б. Грибанова...428
Исчезновение Маркуса О’Брайена. Перевод Б. Грибанова...445
Шутка Порпортука. Перевод Б. Грибанова……………460
П р и м е ч а н и я...486