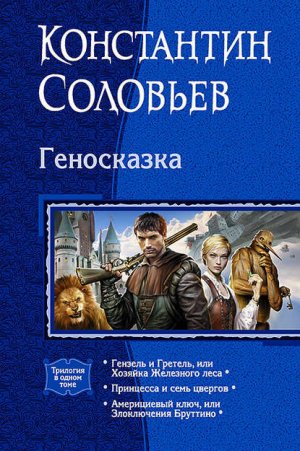
Гензель и Гретель,
или Хозяйка Железного леса
Отцовская нога отвратительно скрипела. Так невыносимо, что Гензелю временами хотелось заткнуть уши, лишь бы не слышать этого ритмичного «скруээ-э-пп-п-п, скруээ-э-пп-п-п» — ни дать ни взять кому-то пилят хребет тупой и ржавой пилой…
Нога у отца была старой, другой Гензель и не помнил. Громоздкая, неуклюжая, из темного щербатого металла, со скрипучими, движущимися внутри поршнями, она была такой же привычной, как старенькая печь в их каморке или рассохшийся потолок. Нога была ворчливой и уродливой, но Гензель привык считать ее частью своего привычного мира, как нелюбимого дальнего родственника или уродливый дом по соседству. И теперь эта часть словно в насмешку каркала ему в левое ухо свое бесконечное «скруээ-э-пп-п-п», и в карканье этом Гензелю чудилось ехидство, сдерживаемая радость скорого расставания.
Отец шагал размеренно, тяжело переваливаясь со здоровой ноги на механическую и обратно. Он не оборачивался, не делал лишних движений, даже головы не отрывал от стелющейся перед ним лесной тропинки, и оттого сам казался механическим, заведенным, незнакомым. Но Гензель знал, что отец видит гораздо больше, чем кажется.
На том месте, где тропинка вихляла в сторону, превращаясь в зыбкий пунктир среди жирной болотной жижи, отец резко остановился.
— Где эта девчонка? — спросил он сердито, упершись посохом в бесформенную кочку.
Гензель рефлекторно оглянулся. Какое-то мгновение ему казалось, что позади них с отцом ничего нет, только протоптанная в лесном чреве смрадная колея двух параллельных цепочек следов. «Гретель!» — хотел было он воскликнуть, совсем позабыв о том, что шуметь в Ярнвиде не полагается. Но кричать не потребовалось, зря набирал воздух в легкие. Поодаль, среди колючих ветвей, мелькнул клочок серой ткани, и почти тотчас он увидел Гретель — та торопливо нагоняла их, на ходу оправляя фартук.
— Рядом, — с облегчением сказал Гензель отцу. — Вот она, идет… Отстала маленько.
Но отец не обрадовался, из-под грязно-седых волос по-волчьи сверкнули глаза.
— Сколько раз вам говорить! — рявкнул он. — Не отставайте, чтоб вас черти по кусочкам растащили! Это Ярнвид, а не ваша песочница! Гензель, следи за сестрой!
Гензель помнил, что это Ярнвид.
Он и рад был бы забыть, но это было совершенно не в человеческих силах. Ярнвид обступал их со всех сторон, из его гнилостных объятий невозможно было вырваться. Стоило прикрыть глаза — Гензель пару раз малодушно пытался прикрывать, — как делалось еще хуже. Скользкое чавканье жижи под ногами становилось жутким, как дыхание притаившегося водяного, а острые ветки, задевающие плечи, ощущались стальными когтями неизвестных чудовищ из чащи. Приходилось открывать глаза и вновь с отвращением таращиться в гнилое нутро Ярнвида, бездонное, бесконечное и зловонное.
Ярнвид, Железный лес.
Гензель не знал, отчего его кличут Железным. Сколько он себя помнил, все тринадцать лет, Ярнвид был каким угодно, но только не железным. Здесь никогда не видели блеска металла, если не считать топоров дровосеков или охотничьих ружей, да и те встречались лишь в руках круглых дураков — кому взбредет в голову отправляться на промысел сюда, в гиблое место?..
Здесь неоткуда было взяться благородному железу. Здесь было царство гнили, разложения, упадка и смрада, чертоги уродства и искаженных, чудовищных форм. Гензель иногда задумывался о том, кто бы мог создать такое, и неизбежно приходил к выводу, что, кто бы это ни был, этот кто-то столь чужд человеку и столь сильно ненавидит все человеческое, что даже и представлять его не хотелось.
Деревья здесь торчали из болотной жижи, как обломанные кости из трупа давно умершего животного. Они переплетались друг с другом, порождая самые жуткие формы, которые невозможно было описать человеческим языком, да и тот лип к нёбу при одном лишь виде здешних чащ. Ветви, изломанные, острые, зубрящиеся то ли шипами, то ли листьями, тянулись со всех сторон, чтобы заполонить собой все свободное пространство. В них было что-то невыносимо зловещее и вместе с тем гадостное, напоминающее о мучительных болезнях, вырождении, скверне, изувеченных генетических цепочках. Но хуже всего то, что эти деревья были не просто декорациями Ярнвида, некогда железного леса, — они являлись его обитателями. И они жили.
Вместо коры их изувеченные стволы обтягивала шкура, где-то серая, где-то пятнистая или бурая. Иногда эта шкура оказывалась покрыта жестким волосом, иногда была по-змеиному маслянистой, и по ней плыли, переливаясь желтым и сизым, отвратительные нечеловеческие узоры. Гензель не мог себя заставить прикоснуться к стволу, даже когда требовалось перескочить глубокую, полную колышущейся жижи яму. Он видел, как тела здешних деревьев медленно пульсировали, гоня в своих паукообразных отростках гнилые соки проклятой земли. Как отверстия от обломанных веток истекали полупрозрачным ихором, а чудовищные плоды, похожие на человеческие потроха, развешанные по ветвям, едва заметно шевелились, как если бы в них что-то ворочалось. Что-то, чего Гензель не готов был увидеть.
Таков был Ярнвид, царство умирающей плоти и тлена, в котором человек чувствовал себя переваривающейся в гигантском желудке мошкой. Средоточие болезни и медленной смерти. Колыбель чудовищных мутаций, которые, обгоняя друг друга, мчались в слепой гонке окончательного вырождения. Ветви над головой сплетались в подобие колючего купола, сквозь который солнечный свет проходил лишь в виде редких и разрозненных лучей, что мгновенно теряли свою небесную чистоту, стоило им коснуться гнилостной почвы. И запах… Гензель ненавидел этот запах. Так пахнуть может лишь в больничных палатах, наполненных прокаженными, или в разворошенных некрополисах. Не запах, а сгущающаяся в воздухе слизь, пропитывающая одежду и кожу под ней, слипающаяся в легких, забивающая горло. Когда отец не видел, Гензель прижимал ко рту рукав, пытаясь дышать сквозь плотную ткань, но облегчения это не приносило.
«Сюда бы огнемет, — тоскливо подумал он, вспомнив неприветливые, обычно тесные улочки Шлараффенланда и урчащее, издающее едкий бензиновый аромат стальное чудовище в сильных руках городского стражника. — По веткам всем этим, по стволам — фрр-р-р-р-р! Чтобы аж копоть…»
Огнемета у них не было. У отца за спиной висело старенькое, одолженное у соседа ружье с разношенным стволом и потертыми кремнями, да у самого Гензеля за ремнем, беспокойно тычась в поясницу оголовьем, сидел небольшой ножичек. Какой уж тут огнемет…
Здесь, в извечных владениях Железного леса, не существовало ничего созданного человеческими руками. И отчего-то казалось, что лес давно уже разросся на весь мир, поглотив и переварив все то, что попалось ему на пути, — горы, распадки, поля, пашни, а затем и сам Шлараффенланд с его крепостными стенами, церквями и гнилыми трущобами. Все кануло в жадную раззявленную пасть. Все поддалось генетической скверне. Шлараффенланд был не просто далек, он существовал в каком-то отдельном, скрытом от взора мире. Сейчас он казался Гензелю почти уютным. Даже Мачеха, при мысли о которой всякий раз под языком делалось холодно, как от взятой в рот сосульки, теперь казалась не такой уж и страшной…
Гензель охнул от неожиданности и страха, когда возле его лица на стволе дерева что-то зашевелилось. Сперва показалось, дерево ожило, как в дурных детских снах, изогнуло изломанные кости-ветви, чтобы сграбастать его и утянуть на дно черного болота. Но нет. Это ползло по стволу одно из существ, которые с полным на то правом могли именовать зловещий Ярнвид своим домом. Что-то похожее на сколопендру, только двигающуюся разболтанно и резко, как не двигаются привычные городские сколопендры, выползающие погреться вечером на улицы. Гензель проворно отскочил в сторону и только затем дал себе возможность рассмотреть странную тварь. Это была не сколопендра.
Перед оторопевшим Гензелем, беспорядочно вихляясь из стороны в сторону, проползло скопление глаз, связанных узловатыми жгутами-хлястиками. Может, это и не были глаза, но Гензелю почудилось, что в этих мутных бусинах размером с орех он видит вполне человеческую радужку и даже зрачок. Глаза ползли по ветке и слепо таращились на Гензеля. При них не было ни щупалец, ни лап, однако они умудрялись тащиться вперед, обхватывая пульсирующую кору отростками жгутов, словно крохотными извивающимися ресничками…
— Чего кричишь, дуралей? — сердито спросил отец, оказываясь рядом. — Этот лес крикливых не любит.
— Я… — Гензель сглотнул. — Пустое, показалось.
Отец с брезгливым выражением на лице проследил путь странной твари. Кажется, та не искала человеческого общества, просто тащилась куда-то наугад.
— Испугался?
Гензель мотнул головой, но попробуй солги отцу, чьи глаза пронзают тело вместе со всеми его потрохами и мыслями подобно всепроникающему альфа-излучению. «Скруээ-э-пп-п-п! — насмешливо сказала механическая отцовская нога, явно издеваясь. — Какой трусливый мальчишка, гляньте только. Скруээ-э-пп-п-п!..»
— Нашел чего бояться, — буркнул отец, явно недовольный. — Дрянь всякая… Тебе только зубами щелкнуть — она и лопнет со страху. Ты, может, и лягушки болотной испугаешься?
«Нет здесь лягушек, — подумал Гензель хмуро. Он не любил, когда отец поминал его зубы. — А если и есть, так та лягушка нас обоих сожрет недорого возьмет. Зубы у здешних лягушек небось побольше моих будут…»
— Не испугаюсь.
— По делу надо бояться, — пояснил отец, поправляя ружье. — Без дела боязнь — дурная… Вот как та тварь, что на прошлой неделе Карла сожрала… Притворилась деревом, а он ее возьми и коснись, на свою беду. А она в него кислотой… Только дым пошел. Думали, хоть обувка от него останется, да куда там. Домой в казане разве что нести, вдове на радость… А ты дури всякой боишься. Гретель! Во имя Бессмертного и святого Человечества, куда сестра твоя опять запропастилась?
— Здесь я, отец! — донесся из-за спины тонкий голос, точно птица какая-то пискнула в сумрачном, наполненном миазмами лесу.
Гретель шла по следам Гензеля, придерживая подол и широко переставляя ноги. Время от времени она отставала, но быстро нагоняла их, и Гензель всякий раз дивился тому, откуда в этом тощем девчачьем теле столько выносливости. Гретель не жаловалась, не стонала, не просила сделать привал. С осунувшегося лица, бледного, как свежеслитое молоко в крынке, внимательно взирали глаза, большие, внимательные и кажущиеся почти прозрачными. «Бес у нее в глазах, — шептались за спиной соседки в Шлараффенланде, но, конечно, просто из дрянной своей зависти. — Экие же глазищи безумные!..»
Они могли завидовать Гретель. Лицо у нее, пусть и ужасно бледное, было с вполне человеческими чертами, а по нынешним временам — даже миловидное. Что же до глаз и их странной прозрачности, Гензель за сестру и подавно не беспокоился — глаза эти были зрячими и, как он не единожды убеждался, удивительно зоркими. Белыми были и волосы Гретель, что легко было заметить по выбившимся из-под платка прядям, время от времени досадливо одергиваемым. Когда-то, когда Гензель был достаточно мал, чтоб пройти под кухонным столом, а Гретель вообще была пищащей крошкой, он спрашивал у отца, отчего у сестры такие дивные, белого цвета, волосы. Отец ворчал: «В молоке парном искупалась, когда рожали… Иди во двор, делом займись лучше!»
Поймав обеспокоенный взгляд брата, Гретель едва заметно кивнула и поспешно вытащила руку из кармана передника. Судя по тому, как карман оттопыривался, пуст он определенно не был. И Гензель сомневался, что сестра набила его ягодами: здесь, в сердце Железного леса, ягоды напоминали скорее нарывы или бородавки, чем что-то съедобное, и съесть их не решился бы даже самый отважный смельчак из Шлараффенланда.
— Опять вошкаешься, чумная твоя душа? — буркнул отец с досадой. — Не отставай от брата, Гретель! Слышишь? Или хочешь, чтобы тебя цверги уволокли в свою нору? Они тебя живенько по косточкам растащат! Цверги детей непослушных любят, у непослушных мясо сладкое, как мед!
«Скруээ-э-пп-п-п!» — злорадно подтвердила механическая нога, что означало: «Именно так! Мне ли не знать?»
Гретель вздрогнула. Она была смела и рассудительна, как знал Гензель, и подчас возилась с такими вещами, при одной мысли о которых его передергивало. Но все же она была всего лишь десятилетней девочкой, уставшей, со сбитыми ногами и ноющей от постоянного внутреннего напряжения спиной. Девочкой в скользких объятиях умирающего и жуткого леса. Сегодня же на ее долю выпала дополнительная нагрузка, и Гензель мог лишь подбодрить ее взглядом. Он знал, что от девочки с бледным лицом и белыми волосами зависят как минимум две жизни.
Гретель некоторое время шагала наравне с ними, но быстро начала вновь отставать. Заполненные бурой слизью ямы, через которые перешагивали Гензель с отцом, для ее маленьких ног были настоящими колодцами, а переплетения шипастых ветвей — изгородями. Не прошло и минуты, как она вновь оказалась позади них, а обтянутая белоснежной кожей ручонка опять нырнула в карман фартука.
Отец не должен был этого заметить. Чтобы отвлечь его, Гензель нарочито громко спросил:
— Отец, а тут что, и верно есть цверги?
Отец пожевал губами. Лицо его, сухое, невыразительное, изрезанное морщинами, как истощенная пашня лезвиями плуга, не переменило выражения. Оно его, насколько помнил Гензель, вообще никогда не меняло.
— Это Ярнвид, Железный лес. Самая большая помойка к югу от Лаленбурга, бестолочь. Тут есть вся дрянь, которая только встречается в нашем грешном мире.
В то, что здесь могут встретиться цверги, Гензель не верил. Цверги — кровожадные уродливые коротышки, живущие в земле, своими кривыми зубами они могут обглодать взрослого мужчину за пару минут, но даже они должны окончательно рехнуться, чтобы перебраться в Железный лес, который всей своей сутью и природой был враждебен жизни в любой ее форме, пусть даже такой уродливой и страшной, как цверги.
— Что же они тут едят?
— Кто?
— Цверги.
— Глупых мальчишек едят, — отрезал отец. — И их непослушных сестер.
Гензель подавил ухмылку, чтобы не озлить отца. Он знал, что на всех окружающих его ухмылка обычно производит самое наисквернейшее впечатление, не исключая и близких родичей. Напоминание о грехах деда, судя по всему… Что ж, подумалось ему, если цверги и в самом деле питаются глупыми мальчишками, сегодня им точно придется ложиться спать в своей земляной норе несолоно хлебавши. Сам он был тощим, как иссохшая рыбешка, одни кости. Не то что стае цвергов — даже вурколаку не наесться. Щедрот Мачехи, выдаваемых каждый день под традиционное напутствие, хватало лишь на то, чтобы не хлопнуться в обморок посреди рабочего дня, а если повезет, дотащиться до лежанки.
Отец засопел. Кажется, ему тоже было неловко — за свой неуместный гнев, за раздражительное настроение. И еще за то, что, как он думал, было известно только ему, но никак не плетущимся за ним сквозь сумрачный гнилой лес детям.
— Сегодня добудем что-то, что не стыдно засунуть в горшок и поставить в печь, — сказал он отрывисто через плечо. — Вот увидите. Сегодня нам повезет, печенкой чую. Что-то живое, с горячей кровью, с кучей настоящего, всамделишного мяса, а не какой-нибудь протоплазмы… Должно же нам наконец повезти, а? Похлебку сварим… Сто лет, кажется, не ел похлебки, все эта дрянь из пробирки… Похлебку, значит, поставим, и мяса еще останется… Помните настоящее мясо, оглоеды? Ну да, откуда вам помнить…
От отцовской лжи отчего-то стало неловко Гензелю, точно это он сам сейчас солгал. Пришлось сделать вид, что изучает какую-то тварь, расположившуюся поодаль на кочке и похожую на трепыхающийся эмбрион цыпленка. Отец не обратил на нее внимания — на добычу, как и все прочие обитатели этого проклятого леса, она не тянула.
Позади них что-то булькнуло, Гензель мгновенно обернулся, внутренне холодея, представляя, как клок белых, точно паутина, волос Гретель пропадает в какой-то зубастой, выросшей из ниоткуда пасти. Но успел заметить только то, как Гретель бросила что-то в кусты. Повернувшийся мгновением позже отец не заметил и этого.
— Гипохромная анемия! Что за ленивая девчонка… — выругался он было, но сам отчего-то быстро смолк. Двигай, бедовая! Ох, несчастье мне с вами. Угораздило же взять с собой на охоту… Надо было дома оставить, хоть какой-то прок был бы. Ну давайте же… Вон уже поляну видать. Там и остановимся.
То, что отец назвал поляной, Гензелю показалось огромным лысым лишаем, выросшим посреди хлюпающей топи. Бессмысленно разрастающаяся ткань, розовая, с серым налетом, выпирала на пол-локтя вверх из тела Железного леса и была обрамлена зарослями тонкой и жесткой, как старушечий волос, травы. Может, это была раковая опухоль, зародившаяся внутри гниющего леса и медленно пожирающая его?.. Гензель не хотел об этом задумываться. Он безропотно ступил ногой на отвратительно упругую поверхность и ощутил подошвой изношенного сапога что-то вроде испачканной в прогорклом сале губки. Гретель забралась на «поляну» без его помощи, молча замерла поодаль.
— Ждите меня здесь, — решил отец, переступая с ноги на ногу. — Наломайте веток, разведите костер… Я по округе похожу, может, и подстрелю кого. Буду до темноты. Только не вздумайте никуда отходить, как в прошлый раз, а то всыплю так, что мало не покажется! Слышите меня, чертенята? Я скоро вернусь.
Шумно дыша, отец зашагал по направлению к проходу между зарослями. Гензель думал, что сможет это выдержать, но зрелище удаляющейся отцовской спины, такой знакомой, неуклюжей, прочной и привычной, едва не заставило его по-детски хлюпнуть носом. Даже отцовская нога, механическая и противная, не вызывала у него привычного раздражения, напротив, ее ритмичный скрип стал звучать едва ли не жалобно.
«Скруээ-э-пп-п-п! Ах, прощайте, бедные, бедные дети… Скруээ-э-пп-и-п!.. Теперь-то мы уж не встретимся. Скруээ-э-пп-п-п! Не натирать меня вам больше масляной тряпицей, не полировать песком! Скруээ-э-пп-п-п! Скруээ-э-пп-п-п!»
«Неужели больше ничего не скажет? — подумал Гензель, разглядывая скособоченную отцовскую спину, уже наполовину скрытую скользкой серой листвой Железного леса. — Так запросто и уйдет?..»
Ему показалось, что отец вот-вот остановится, повернется и что-то скажет им на прощанье. Пусть даже это будет что-то нарочито-грубое вроде: «Не вздумайте съесть обед сразу же, лентяи!» — или: «Не приведи Человечество вам куда-то отойти!» Но отец не сказал и этого. Замедлил на мгновение свой тяжелый шаг, но даже не повернулся. Нырнул в колючие заросли, листья за его спиной плотоядно зашипели, — и пропал. Даже скрежет механической ноги оборвался почти мгновенно. Словно топь мигом сомкнулась над головой отца. Или же над их с Гретель головой.
— Он ведь не вернется, да?
Гензель обернулся. Гретель сидела на кучке хвороста, обхватив тощие, в рваных чулках коленки. Ее огромные полупрозрачные глаза посерели от усталости и страха. Гензель хотел было ее утешить, но вовремя вспомнил, что теперь он — единственный мужчина здесь. А мужчинам непозволительны всякие глупые нежности.
— Откуда нам знать? — буркнул он нарочно грубовато. — Может, и придет.
— В прошлый раз не пришел.
— Так то в прошлый… Заплутал небось, тут это запросто. Еще не родился, сестрица, тот следопыт, что здешние тропы знает. Да и нельзя здешним тропам доверять, сама знаешь.
Гретель вздохнула:
— Знаю.
Гензель понимал, что больше она ничего не скажет, так и будет молча сидеть, не жалуясь и не хныча.
— Вернется он, поняла? В прошлый раз он нас случайно потерял. А сейчас — вернется. Я чувствую.
— Ты же только кровь чувствуешь, Гензель… — пробормотала Гретель, но Гензель упрямо мотнул головой.
— Чувствую, и все тут, ясно? Вернется он за нами. Так что нечего сопли до земли тянуть, вот что. Давай-ка и верно костер разведем, все одно не так пакостно ждать будет.
— Давай…
Но костра им развести не удалось. Гензель возился с хворостом часа два, сперва терпеливо, потом упрямо и под конец остервенело, но не добился даже язычка пламени. Обломки сухих веток, валявшиеся под ногами, не хотели гореть. Они были похожи на кости мумифицированных животных, твердые и ломкие, неохотно щепились и совсем не давали жара. Гензель складывал их то так, то этак, чиркал кремнями до тех пор, пока подушечка большого пальца не превратилась в кровоточащую мозоль, — тщетно. Здешний мох не горел, от огня он чернел и съеживался, распространяя запах, похожий на трупный смрад. Гензель попытался ножиком оторвать кусок сухой коры, но бросил это — стоило ему приложить усилие, как ствол дерева затрепетал, словно от боли, а из разреза выступила багряная, похожая на кровь смола. Гензель чертыхнулся и бросил свои попытки.
— Посидим без огня, — решил он, плотнее кутаясь в свои обноски. — Не помрем небось.
Гретель кивнула. Она редко заговаривала первой и уж точно не собиралась пенять брату за неумелость. Сжавшись в комочек, нахохлившись, она серым воробушком сидела на своем месте, не обращая внимания на страшный лес, окружающий ее со всех сторон.
А лес чувствовал их беспомощность. Сперва Гензель гнал эти мысли, силясь уверить себя в том, что шипение Ярнвида, от которого кожа на спине покрывается колючими ледяными мурашками, вовсе не стало громче. Но через три часа, когда отец все еще не вернулся, почувствовал, что долго не выдержит. Лес обступал их со всех сторон, и узкое кольцо «поляны», казалось, делается все меньше с каждой минутой. Лес шипел, трещал, скрежетал, бормотал тысячью гадостных змеиных голосов и предвкушал сытную трапезу. Двое детей на поляне, точно на блюде, тощих, но полных теплой и сладкой крови, — крови и приятно хрустящих тонких косточек…
— Скоро вернется, — убежденно сказал Гензель. — Ей-ей, скоро уже. Наверно, дичь какую-то в самом деле нашел.
Но Гретель лишь качнула белокурой головой.
— Здесь нет дичи, братец.
Он разозлился, хотя Гретель, конечно, ничуть не была виновата в том, что с ними приключилось. И замечание ее насчет дичи тоже было верным. Дичи в Железном лесу отродясь не водилось. По крайней мере такой, что не была бы ядом человеческому метаболизму.
Нету! — фыркнул он. — Уж тебе-то знать, малявка! Можно подумать, весь Ярнвид исходила.
— Я знаю, что нету, — сказала она по-детски упрямо, но тихо. — И ходить для этого никуда не надо. Это старый лес, больной.
Насчет больного — это она, пожалуй, верное слово нашла. Именно такое ощущение у Гензеля и возникло.
— Чем же он болен? — тем не менее спросил он немного насмешливо. — Скажите на милость, госпожа геномастер!
Но Гретель никогда не обижалась на него, даже когда он позволял себе зубоскалить, насмехаясь над ее единственным увлечением. Она отбросила со лба прилипший к нему белый локон и сказала:
— Он болен… всем, братец. Всем сразу. Эта хворь, что поселилась в нем, не обычная. Это генетическая хворь. Страшная. Все его генетические цепочки перепутались, обросли грязью и трухой, изменились… Полное генетическое вырождение, что длится уже не одно поколение. Каскадная хромосомная аберрация…
Гензель терпеть не мог, когда Гретель говорила на эту гему. Во-первых, ужасно чудно это звучало, когда девчонка, от горшка два вершка, произносила мудреные слова про геномагию и всякие там ее процессы. Во-вторых — в этом Гензель не хотел признаться даже себе, — самые невинные словечки из лексикона геномастеров звучали зловеще и таинственно. Как и все мальчишки Шлараффенланда, он знал некоторые из них, но чтобы произнести вслух… Если застукает отец — точно ремнем выпорет, по-взрослому, до крови. А даже если нет, себя-то самого не обманешь — язык немеет при попытке произнести какое-то геномагическое словечко, а дух под ребрами спирает. И еще более жутко было слышать, как подобные слова, даже не запинаясь, выплевывает десятилетняя девчонка.
— Чертовщина какая-то, — перебил ее Гензель. — Начиталась всяких книжек… Прав был отец, спалить их надо было. Лес — и болеет! Чушь все это, любому в городе известно. Просто проклят Железный лес, проклят, и все тут. На людей, чай, не бросается… А что гадкий… Ну не всем же альвами прекрасноликими быть. Вспомни нашего соседа, дядюшку Вайнберга. Страшен был, как кобольд, а внутри добряк добряком!
— Дядюшка Вайнберг был мулом, — тихо сказала Гретель. — В нем человеческого самую малость было. Но все же человек… А тут уже и деревья — давно не деревья. Перемешалось тут все, как похлебка в горшке, перемешалось, забродило да и испортилось…
Гензель вспомнил дядюшку Вайнберга и мысленно признал, что на человека тот был похож не очень-то. Двадцать процентов человеческого фенотипа, едва не за пределом красной черты — чего же тут удивительного?.. Дядюшка Вайнберг походил на тюленя, огромного, неуклюжего, лишенного конечностей, если не считать нескольких тонких щупалец, которые помогали ему худо-бедно передвигаться. Голова у дядюшки Вайнберга была похожа на кувшин, только несимметричный, сделанный неуклюжим мастером, вдобавок — с огромными оттопыривающимися ушами и одним-единственным глазом, в котором не было даже радужки. Дядюшка Вайнберг был жутковат даже для мула. Его большое неуклюжее тело часто можно было увидеть на улице, где оно с грацией дождевого червя двигалось по направлению из дома к трактиру, если было утро, или же из трактира домой, если сгущались сумерки.
При этом дядюшка Вайнберг был добр к детям, любил поболтать и никогда не отказывал в мелких соседских услугах. Просто он был мулом. Не таким, как все. В Шлараффенланде всегда было много тех, кто не такой, как все, в этом городе всегда нужны были рабочие руки, даже если выглядели совсем не как руки…
Гензель заметил, что его собственная рука машинально коснулась узкого металлического браслета на левом запястье. Браслет был серебристым, приятного глазу цвета, и мог бы выглядеть украшением, если бы не маленький искусный замочек, смыкающий его половинки. На тусклом серебре не напрягая глаз можно было различить две цифры — «17». Гензель отдернул руку от браслета. Хоть и знал, что через какое-то время она машинально вновь потянется к нему, как язык к ноющему зубу. Тут же он вспомнил и браслет дядюшки Вайнберга — тот был еще более блеклым, даже не серебро, а шлифованная жесть, и цифра на нем была иной, пугающей и жуткой: «80».
Это означало — восемьдесят процентов бракованного фенотипа, восемьдесят частей оскверненной генетическими мутациями крови. Это означало — мул. Чернь. Бесправный городской раб. Впрочем, дядюшка Вайнберг никогда не унывал и прочим жителям не завидовал.
— Когда-то здесь был настоящий лес, — задумчиво сказала Гретель. Может быть, просто оттого что в тишине сидеть было жутковато. — Я видела на картинках. Зеленый, густой… Тогда он был здоровым. А сейчас умирает. Болезнь его точит, выедает изнутри.
Гензель не мог представить себе Железный лес каким-нибудь другим, но все-таки спросил:
— Был, значит, настоящим, а потом сам собой заболел? — Неохота было разговаривать про такую дрянь, как Ярнвид, но всякий разговор может скрасить ожидание, особенно такое тревожное, как нынешнее.
Гретель задумчиво коснулась пальцем шляпки гриба, что торчал возле нее. На вид тот был почти обычным, но стоило ему ощутить чужое прикосновение, как мясистая поверхность заволновалась, пошла буграми, окрасилась в смесь багрового и желтого. Гензель хотел было крикнуть, предупредить, что эта пакость может быть ядовитой или, иди знай, скрывает под поверхностью бритвенно-острые зубы-крючки. Но сдержал себя. Давно пора привыкнуть, что во всех делах, что касаются внутреннего устройства вещей, особенно животных и растений, малолетняя сестра понимает куда больше его, взрослого лба.
— Не сам собой заболел. Его отравили. Когда-то давным-давно, когда еще и отца на свете не было. Болезнь эта развивалась в нем много лет, передавалась доминантными генами, видоизменялась, мимикрировала, разъединялась и вновь объединялась, порождала другие болезни…
Свои геномагические словечки Гретель произносила тихо, но очень старательно, словно повторяла за невидимым учителем, каждый раз заставляя Гензеля сжимать зубы.
— Кто же ее наслал? — спросил Гензель недоверчиво. — Болезнь — она из ниоткуда не берется, сама же недавно говорила. Кто мог болезнь на целый лес наслать? И к чему?
Гретель пожала худыми плечами с выпирающими ключицами.
— Не знаю, братец. Может, во время войны кто-то специально генозелье использовал, чтобы лес уничтожить, да только не рассчитал… Может, кто-то из геномастеров опыты ставил, не нам это знать. А может, и вовсе никто не виноват… Просто лес — он как большая губка, он вдыхает все то, что делает человек. Генетическая дегенерация шла в нем веками, от малого к великому! А теперь он неизлечимо болен, как и мы все. Только мы следим за генетическими отклонениями, ведем учет грязной крови, а в лесу этого делать некому…
Гензель не был уверен в том, что полностью понимает. Гретель говорила медленно, нарочно используя попятные ему слова, но кое-где сами собой вкраплялись жутковатые геномагические словечки, от которых он невольно морщился.
Мерозигота. Кариогамия. Сиблинги. Трансмутация. Аллели. Хиазма…
Когда слышишь такое, поневоле возникает желание сплюнуть. По счастью, Гретель всегда была молчаливой, а уж подробными объяснениями генетической сути редко беспокоила окружающих. Скорее напротив. И все равно Гензелю иногда было жутковато от ее слов. Видит Человечество, что-то неискоренимо Опасное и дрянное есть во всех этих геномагических штучках…
Понял я, — буркнул он. — Не такая уж и хитрая наука. Я, может, в школе не учился, но про дефектные гены понимаю не хуже. Так что, значит, рано или поздно эта болезнь лес доконает?
Гретель осторожно, точно через силу, кивнула, белоснежные волосы рассыпались по плечам.
— Когда-нибудь.
«Он-то, может, и когда-нибудь, — Гензель сдержал на языке рвущуюся наружу едкость. — А вот мы, может, и завтрашнего дня не увидим…»
Лес большой, это верно. А дети — маленькие, совсем крошки по сравнению с ним. Поднимется из чащи огромная скользкая лапа, махнет — и смахнет те крошки, никто и не заметит. Только короткий крик метнется над болотом. Был бы рядом отец с ружьем — он бы, конечно, тут же поспел на помощь. Но Гензель знал, что отца рядом нет. Знал, хоть столько времени и пытался уверить себя в обратном.
Гензель вслушивался в звуки Железного леса, пытаясь различить среди его зловещего шипения, скрежета и причмокивания треск ветки под отцовской ногой. Сейчас уродливые заросли раздадутся в стороны, и на поляне покажется отец. Уставший, исцарапанный, без добычи, но живой, со своей противной скрипящей ногой. Махнет рукой и буркнет: «Чего уселись, как слизни под лопухом? Домой пойдем!»
Несколько раз Гензель едва не вскакивал от неожиданности — ему казалось, что в окружающих полянку зарослях кто-то шевелится. Но это были лишь порождения Железного леса, его бессменные слуги и обитатели, одним своим видом заставлявшие желудок болезненно сжиматься.
Один раз Гензель увидел что-то извивающееся, точно клубок змей, только клубок этот был, судя по всему, единым существом, неторопливо ползущим по болотной жиже. Существо не шипело, как можно было бы ожидать, лишь посвистывало, и свист этот напоминал полувопросительное бормотание беззубой старухи: «Фью-уи-и-ить?.. Фьють?.. Фифифиють?..» По счастью, на полянку отвратительное существо не выбралось, уползло обратно в заросли. Гензель не знал, было ли оно опасным, но на всякий случай сжал в кармане рукоятку ножа. От жителей Железного леса ничего хорошего ждать явно не приходилось. В лучшем случае они были просто ядовиты. О худшем и думать не хотелось.
Сумерки поспели раньше отца. Они были еще неразличимы глазом, лишь угадывались по накатившей из подлеска холодной и липкой влажности, а Железный лес уже ощутил их наступление. Закопошился, заскрипел своими изъеденными древними костями, закряхтел, как умирающий старик на продавленном годами смертном ложе. Гензель ощутил по всему телу противные сквознячки страха. Один раз ему уже приходилось встречать темноту здесь, и он хорошо помнил, чего это ему стоило.
— Отец не придет, — тихо сказала Гретель, обхватившая руками колени и безучастно глядевшая в сторону. — Нам надо идти домой, братец. Как в прошлый раз.
— Придет! — упрямо мотнул головой Гензель. — Он же обещал! Он сказал ждать его!
— В прошлый раз он тоже так сказал. И не пришел.
— Он сам заблудился!
— Он оставил нас в чаще, а сам вернулся домой. К Мачехе.
Что-то внутри Гензеля отказывалось в это верить, упрямо топорщило перья и порывалось огрызнуться. Отец не мог их бросить в чаще Железного леса на верную смерть. Не такой он. Отец, конечно, строг, лаской своих отпрысков не баловал, но чтобы самолично обречь их на подобное… Да мыслимо ли!
— Это все Мачеха… — сказала Гретель тихонько. — Ты же знаешь, братец. Это Мачеха захотела нас сгубить. Отец не виноват. Пошли домой. Пожалуйста. Мне страшно.
В лесу делалось все темнее. Небо еще было серым, но стремительно мутнело, утрачивало прозрачность. Еще час или два — и темнота обрушится со всех сторон, заперев детей в Железном лесу, окружив их шипами, зубами и невесть чем.
«Мне тоже, — подумал Гензель. — Мне тоже страшно, сестрица, только говорить об этом вслух я не буду, чтобы тебя еще больше не перепугать».
— Ну пошли, наверно, — сказал он нарочито небрежно. — Один раз выбрались, значит, и в этот раз дорогу найдем, верно я говорю? Покажи-ка своих проводников…
Гретель запустила руку в карман передника. Когда ладонь разжалась, на бледной коже можно было рассмотреть несколько предметов. Каждый из них размерами не превышал желудь, но на крохотной ладошке Гретель выглядел большим. Бесформенные комки каши — вот первое, что приходило на ум Гензелю.
Белесая рыхлая плоть, едва заметно шевелящаяся, из этой плоти торчат короткие отростки, но явно слишком немощные, чтобы передвигать непомерно большое тело. Кажется, были и глаза, по крайней мере Гензель в сумерках разглядел на диковинных «желудях» крохотные точки. Впрочем, насчет глаз — это едва ли. К чему им глаза?.. Гретель никогда не создавала ничего лишнего. С глазами или без, а выглядели они не лучшим образом. Складки плоти подрагивали, отростки бездумно шевелились, а разбухшие тельца едва заметно вибрировали. Какие-то опарыши, подумалось ему, только беспомощные и несуразно большие.
— Какие противные! — не сдержался он. — Неужели нельзя было сделать их более… ну…
Гретель лишь пожала плечами.
— Это же просто катышки. Они не для красоты, они простенькие совсем. Ни думать не умеют, ни двигаться.
— Еще не хватало, чтобы двигались эти твои… катышки! Еще уползут к черту на рога, вместо того чтобы на месте лежать, там, где их кинули. Светиться-то ночью будут?
— Будут, — кивнула Гретель. — Я в чулане проверяла, светятся как лампочки в ночи. Они днем от солнышка тепло запасают, а ночью его высвобождают… Это нетрудно совсем, я давно так умела.
— Не знаю, что они там высвобождают, — буркнул он. — Мне главное — чтобы дорогу указывали. Много ты их кинула по пути?
— Через каждые полсотни шагов, братец. Ох и страху натерпелась… Все время приходилось отставать, чтобы отец не заметил… Я катышки в траве пристраивала, но не там, где слишком густо. Так, чтобы их днем заметно не было, а ночью, как засветятся…
— Ясно. — Гензель взглянул на быстро темнеющее небо. — Если светятся, как те твои прошлые, значит, отыщем.
— Отыщем, братец. Но…
Гензель нахмурился. Не любил он таких «но».
— Что такое?
— Эти катышки не… не такие, как прежние, — смущенно сказала Гретель, ковыряя пальцем дырку в чулке. — Они…
— Что — они? Сама же говоришь, что светятся?.. Ну так нам больше ничего и не надо, пойдем домой, как по путеводным звездам. Ну что?
— Ты понимаешь, братец… Я же эти катышки делала из того, что нам Мачеха каждое утро на завтрак давала, — пробормотала Гретель.
Гензель вспомнил неизменный, как каменные улицы Шлараффенланда, завтрак Мачехи, выдаваемый всем на рассвете под утробный бубнеж давно выученных наизусть наставлений. Контейнер с мутным бульоном, кажется, белковым, невероятно соленым на вкус. «Всегда помни о своем месте в обществе и уважай тех, кто занимает более достойное положение». Одноразовый тюбик сладковатой пасты с глюкозой. «Помни: каков бы ни был твой фенотип, ты человек, что означает не только права человека, но и обязанности человека». Запаянная упаковка с чем-то рыхлым, похожим на грибную мякоть, кажется, биополимерная пищевая смесь. «Трудись на благо общества и помни, что нет большего счастья, чем быть человеком». Еще один контейнер, наполненный крошечными серыми гранулами, минеральные соли. «Будь ты октороном, квартероном или даже мулом по крови — не отравляй себя гордыней или принижением, чти свой фенотип таким, каким он был создан, и не помышляй о другом…»
Голос Мачехи был сухим, как смесь минеральных солей, и столь же скрипучим. Гензель давно привык к его отстраненности, как привык когда-то давно к неизменным завтракам. Наставления выдавались теми же взвешенными дозированными порциями, что и пища, однако насыщали еще меньше. Голос Мачехи, который он слышал каждое утро, звучал всегда неизменно, но Гензель знал, что, несмотря на это показное безразличие, Мачеха обращает на него, Гензеля, самое пристальное внимание. Каждый день, перед гем как отправить на работу, Мачеха придирчиво изучала его — рост, вес, состав крови, артериальное давление, процент жировых отложений. Мачеха заботилась о нем, пусть и без лишней нежности. Вспомнив ее неуклюжую заботу, Гензель ощутил щемящую тоску по дому. В гнилом нутре Железного леса становилось все более и более жутко.
— Так в чем беда? — спросил он у Гретель, виновата повесившей голову. — Какая разница, из чего ты делала свои катышки?
— Сегодня утром Мачеха не дала нам пасты с глюкозой.
Действительно, Гензель только сейчас вспомнил это. Нынешним утром им не выдали пасту с глюкозой. На мгновение вспомнилось короткое утреннее огорчение — паста была самым вкусным блюдом в дневном рационе. Но он быстро забыл об этом, помогая отцу смазывать механическую ногу и чистить ружье… А Гретель, выходит, не забыла.
— Чтобы катышки были правильными, им нужна эта паста, — пояснила она. — В пасте есть специальные штуки… Они для запаха.
— Какого запаха? — не понял Гензель. — Зачем им запах, твоим козявкам?
— Для специального противного запаха, — терпеливо объяснила Гретель, — чтобы катышки плохо пахли и лесные звери их не ели.
Гензель сжал зубы. Об этом он тоже не подумал. А Гретель молодец, все предусмотрела. И в самом деле, они в самой гуще Железного леса, где на каждом шагу хищные твари и невиданные чудовища, коварные или же бездумные уничтожители живой плоти. Сколько часов пролежит беззащитный крошечный катышек на тропинке, прежде чем пропадет в чьей-то жадной пасти?..
— Так, значит, эти твои катышки без противного запаха? Просто светятся, и все?
Гретель кивнула, отчего непослушные белые пряди в очередной раз выбились из-под платка.
— Угу.
Гензель похолодел, собственное его сердце стало одноклеточным комочком ткани, крошечным и твердым. Гретель всю дорогу от Шлараффенланда разбрасывала свои катышки. Светящиеся в темноте, но не имеющие никакой защиты от здешних хищников.
— Пошли! Живо!
Он схватил сестру за руку и потянул к тропинке. Гретель покорно пошла следом, придерживая подол, норовивший зацепиться за обломки выпирающих из земли корней.
— Помедленнее, братец! — попросила она жалобно.
Гензель мог ей разве что посочувствовать.
— Бежим со всех ног! Ты что, не понимаешь? Солнце уже садится! Стоит опуститься ночи твои катышки загорятся на весь лес, как лампочки. И их тут же сожрут. А мы с тобой останемся в Железном лесу навсегда!.. Бежим, сестрица, бежим скорее!
Они побежали.
Сперва бежать было легко, тропинка, по которой они пришли к полянке, сама стелилась под ноги, извиваясь между скрипучими деревьями, похожими на засевшие в десне гнилые зубы. Эту тропинку Гензель хорошо помнил. Украдкой от отца сам на всякий случай оставлял на ней метки — чиркал ножиком по коре то здесь, то там, обламывал незаметно тонкие ветви… Да и нелегко заблудиться на тропе, знай себе ногами работай, тропа на то и тропа, куда-то да выведет, можно не искать по зарослям крошечные белые катышки.
Их тропа скрестилась с другой, поуже. Ее Гензель тоже помнил, на перекрестке торчало приметное дерево, кора которого отслаивалась лоскутами, обнажая кровоточащую красноватой смолой сердцевину. Гензель улыбнулся, стараясь не обращать внимания на то, как стремительно темнеет Железный лес, как острые силуэты кустарника превращаются в рыцарей в шипастых доспехах, а небо заволакивает густой сизой кашей. Он помнит дорогу… Конечно, помнит. Вот она, дорога, послушно вьется змейкой. Час, может, полтора — и впереди появится сонная громада Шлараффенланда, открытый зев городских ворот, шпили сторожевых башен…
Он остановился на развилке, где тропинка вновь сливалась со своей близняшкой — ну точно змеи переплелись. По которой тропе вел их отец?..
— Катышки! — указала Гретель, дернув Гензеля за рукав.
Присмотревшись, куда она указывает, Гензель и в самом деле увидел крошечный размытый огонек в ближайших кустах. Огонек был слабым, колеблющимся, неуверенным, но он горел, и Гензель машинально пробормотал:
— Слава Человечеству, Извечному и Всеблагому!.. Ты молодец, сестрица. Ишь как нам дорогу украсила! Значит, вот наша тропинка, правая. Ну точно. Бежим, бежим!
Если бы не катышки, они заблудились бы, не успев отойти от полянки и на сотню шагов. Это Гензель понял очень быстро, и чувство собственной гордости несколько поблекло. Он уже и забыл, как меняется Железный лес, стоит только темноте поселиться меж его изувеченных ветвей. Знакомые тропинки становятся чужими, грозными — точно и не тропинки вовсе, а жилы, петляющие по скользкой шкуре огромного существа. Просветы между деревьями и вовсе исчезают, отчего стена леса кажется сплошной.
— Там! — указывала Гретель, тыча в темноту своим бледным крошечным пальцем. — Там! Вперед!
И они бежали вперед, от одного огонька к другому. Иногда огонька долго не было видно, и они бежали едва ли не вслепую, спотыкаясь на корнях и рискуя шлепнуться в жирную болотную жижу. Железный лес насмешливо подгонял их, ухая где-то в глубине и скрежеща на разные голоса. Где же новый огонек?..
Гензель похолодел, когда не смог через полсотни шагов разглядеть очередной белый катышек. Он уже давно забыл, по какой тропе они шли, а заметить собственные ориентиры нечего было и думать — деревья давным-давно стали похожими друг на друга, как близнецы. Один раз они нырнули в глубокий овраг, который Гензель точно помнил. Они проходили здесь с отцом. Потом оказались в густом подлеске, где хищные когти ветвей вцеплялись в волосы со стервозностью голодных гарпий. Вышли на другую тропу, совсем узенькую и давно не хоженую. Гензель не мог вспомнить этих мест. Но за очередным поворотом призывно мелькал крошечный дрожащий огонек, и они с сестрой вновь бежали вперед, держа друг друга за руки.
Они вернутся домой. И в этот раз. Отец онемеет, стоя на пороге. Он хлопнет себя по ляжкам тяжелыми, грубыми, как сосновая доска, ладонями, и крикнет во все горло: «Ах вы разбойники! Где же вас носило, бездонные утробы? Чего же на месте не сидели, где я вас оставил? Мерзавцы этакие! Да я весь Железный лес обыскал!..» Наверняка всыплет ремнем. Ремень у отца широкий, коснется обожжет как раскаленный металл. Но Гензель знал, что нынешним вечером ни ремень, ни ругань не будут казаться очень уж обидными… Может, потому что отец будет сердиться лишь для виду, чтобы Мачеха не заругала, а в глазах у него будет тревожное, но облегчение. Ну а Мачеха равнодушно взглянет на детей своим круглым серым глазом, проворчит что-то под нос и сделает вид, будто ничего не случилось.
— Не вижу огонька, Гензель! Где огонек?
Гензель встрепенулся. Оказывается, он глушил сладкими мыслями растущую внутри тревогу, не позволяя ей пробиться наружу. Попытался вспомнить, когда он видел последний светящийся катышек. Выходило, две сотни шагов назад, не меньше. Лес качался перед глазами черным лабиринтом без малейшего просвета. И в этом лабиринте — Гензель чувствовал это всеми нервами своего щуплого тела, ставшими вдруг чувствительными, как антенны, — они были не одни.
Сейчас будет твой огонек, — уверенно сказал он, не выпуская холодной сестринской ладошки из пальцев. — Не хнычь! Сейчас сама увидишь…
Огонька все не было, и Гензель поймал себя на том, что сам начинает паниковать. В прошлый раз, когда они с Гретель выбирались из проклятого леса, огоньков было много, катышки вышли на славу и горели ярко, ну прямо как фонари на вечерней улице. Они с сестрой бежали по тропинке из огоньков, ни минуты не сомневаясь, где свернуть, и даже лес не виделся им столь опасным.
Гензелю показалось, что он увидел впереди, по правую сторону от тропинки, проблеск белого света.
— Там! — воскликнул он. — Ну вон же! А ты боялась, глупышка… Бежим, бежим, Гретель. Ух черт! Он двигается!..
Огонек и в самом деле двинулся, недалеко, но резко, скачком, как поплавок на водной глади в тот момент, когда рыбак подсекает наживку. Но ведь у катышков и ног-то нет!.. Что за чертовщина?
Гензель все понял еще до того, как увидел катышек собственными глазами, поэтому не испугался. Рядом с тропинкой сидела какая-то тварь, грузная и обвисшая, как старая жаба, но размером с приличный мяч. Шкура у нее была оливково-лоснящейся, в крупных стяжках, по этой шкуре бежал узор из рваных звездообразных нарывов, жуткий и неестественный, но взгляд отчего-то буквально примерзал к нему. Отвисающее брюхо придавало обитателю Железного леса сходство с бурдюком, который вдруг встал на небольшие и кривые, но крепкие лапы. Тварь утробно сопела, из ее пасти, полной полупрозрачных желтоватых зубов, доносилось чавканье. На детей она взглянула с безразличием, почти как Мачеха, только рефлекторно шевельнулись острые отверстия ноздрей. Судя по всему, дети не относились к ее привычной пище, но и бояться их она не собиралась. Тварь быстро работала зубами, между которыми еще можно было различить влажные комья катышка. Он едва заметно светился, и свечение это угасало с каждой секундой.
— Ах ты выродок! — крикнул Гензель, выпуская руку Гретель. — А ну не смей!
Злость, накатившая — на него, в мгновение выбила из головы все мысли, и те рассыпались бесполезными осколками. Он знал эту свою черту и даже иногда сам ее побаивался — слишком уж быстро тело и разум переключались в режим холодной хищной ярости. Боль, страх и неуверенность пропадали, лишь на дне сознания, становившегося в такие мгновения чем-то вроде глубокого прохладного колодца, маячила зыбкая тень — его собственные чувства и мысли. Отцу не единожды приходилось его пороть, прежде чем Гензель научился сдерживать себя.
Как-то раз он отхватил одному мальчишке с их улицы всю пятерню и даже сам не понял, как это произошло. Он помнил, что шел по поручению Мачехи, сжимая в кулаке пару неровных медяков с заусенчатыми краями. Помнил, что на тротуаре перед ним вырос угловатый силуэт, на миг заслонивший жидкое шлараффенландское солнце. Помнил и презрительное: «Эй, акула, тебе зубы разговаривать не мешают?» — брошенное ему в упор. Гензель не ответил, отец запрещал ему ввязываться в уличные ссоры. Да и жутковато, если честно, было: парень-то на голову выше… Мало того, выглядел он неожиданно прилично — ни сросшихся глаз, ни лишних конечностей, даже кожа — и та чистая, гладкая. Браслета на руке не видать, скрыт рукавом, но хозяин его определенно не мул, да и, кажется, не квартерон. Вдруг, чем черт не шутит, окторон?.. С таким связываться — себе дороже.
Долго думать в тот раз Гензелю не пришлось. Потому что мостовая вдруг скакнула в сторону и ударила его по ребрам, родив в груди тупую, парализующую дыхание боль. Мальчишка торжествующе усмехнулся и поднес к его носу ногу. Ту самую, что поставила подножку. «Убирайся с этой улицы, — сказал мальчишка, щурясь. — Тут с такими зубами не ходят, понял, ты? Грязный мул!»
И вот тогда сознание Гензеля на шаг отступило в сторону, как бы скрывшись в тени. Осталась только ненависть, ледяная, прозрачная, кристально-чистая — как глыба замерзшего льда с бритвенно острыми краями. Эта ненависть не затмевала глаз, не полнила вен кипящим огнем.
Совсем напротив.
Гензель чувствовал себя невероятно спокойным, но спокойствие это было зловещим, гибельным, как спокойствие прохладного стального лезвия, готового без размышлений погрузиться в чью-то плоть. Гензель сознавал происходящее, но не вполне мог им управлять — тело передавало управление тому, кто был Гензелем и в то же время не был им. Тому, кто привык находиться на дне его разума, в толще образованных подсознанием водорослей. Хладнокровному хищнику, который всплывал только для того, чтобы нанести удар, и, утолив голод, погружался обратно в свои непроглядные глубины.
В тот раз хищник не вернулся голодным. Гензель ощутил боль в челюсти от неожиданно резкого сокращения мышц. И хруст, с которым его зубы сошлись вместе. В рот хлынула сладковато-соленая жидкость, теплая и густая. Кто-то рядом оглушительно завизжал. Когда Гензель разжал зубы, по его подбородку что-то потекло, а на мостовую шлепнулись короткие белые обрубки с неровно обгрызенными желтоватыми ногтями…
История получилась скверная, отец отходил его ремнем так, что спина и все, что располагалось пониже нее, пылало еще неделю. Больше всего Гензель боялся гнева Мачехи, но обошлось. На его счастье, обидчик сам оказался квартероном…
— Не смей жрать! — Ярость внутри Гензеля на миг разогнала темноту Железного леса, словно, переполнив его тощее тело, хлынула холодным светом из его глаз в окружающий мир. — Не смей!.. Ах ты гадюка…
Гензель схватил с земли палку и ударил ею раздувшуюся жабу поперек спины. Удар получился хорошим, от плеча, упругий бурдюк ее тела сморщился то ли от боли, то ли от неожиданности. Жаба зашипела, обнажив неровные ряды полупрозрачных зубов-конусов, по которым вперемешку с остатками внутренностей катышка стекала прозрачная слюна.
— Убирайся! Убирайся, дрянь! — Гензель ударил ее еще дважды, по морде и по боку.
Жаба не спешила убираться. Она прижалась к земле, забыв про свое пиршество, и устремила на Гензеля взгляд своих мутных, ничего не выражающих глаз. Гензель был больше нее, но она чувствовала, что здесь, под гнилостной сенью Железного леса, у него нет над ней превосходства. Она была плотью от плоти Ярнвида, его врожденной и неотъемлемой частью, а человеческий ребенок всегда будет здесь чужим. Жаба зашипела, получив еще один удар по носу, ее короткие лапы напряглись для прыжка, под гладкой кожей натянулись струны мощных сухожилий. И глаза, прежде мутные и пустые, осветились изнутри влажной животной яростью.
— Гензель!.. — Что-то дергало его за рукав. — Брось ее, братец! Гензель! Бежим же! Бежим дальше! Пока не поздно!
Ледяная пелена ярости, сквозь которую Гензель смотрел на мир, стирала черты лица, как морозное стекло: он видел человека, но не мог разобрать, кто это. Однако растрепанные белые волосы, выбившиеся из-под платка, невозможно было с чем-то спутать. Уставившись на них, Гензель неожиданно вспомнил, где находится, ощутил тяжесть палки в руке и приятное нытье напряженных для схватки мускулов. Жаба пялилась на него, выжидая. Но Гензель уже овладел собой. Хищник внутри него бросил на тварь презрительный взгляд из его, Гензеля, глаз и погрузился обратно в ледяные глубины. Затаился.
— Пошли, Гензель! — молила Гретель. — Иначе и прочих не найдем!
Она была права. Нет смысла расправляться с гадкой тварью, сожравшей беспомощный катышек, только альвам известно, сколько их вообще уцелело. И сколько гибнет каждую минуту, пока они с Гретель стоят на месте.
Бежать!..
Они вновь помчались вперед, больше угадывая направление, чем ощущая его, — тропинка под ногами давно растаяла в накатившей темноте. Они бежали сквозь липкую ночь, то и дело поскальзываясь, спотыкаясь, помогая друг другу. Крошечная ладошка Гретель слабым насекомым билась в пальцах Гензеля, но он знал, что ни за что на свете ее не выпустит. Умрет, а не выпустит.
Они нашли еще два катышка. Первый доедала стая крупных насекомых, похожих на серых влажных муравьев с непомерно длинными лапами. Катышек беспомощно трепетал, раздираемый на части деловитыми челюстями, но его гаснущего света хватило Гензелю и Гретель, чтобы понять направление. Следующий катышек тоже стремительно таял, от него осталась только выгрызенная оболочка вроде ореховой скорлупы. Гензелю стало жаль катышков, этих бессловесных и крошечных существ, которые не умели ни мыслить, ни даже чувствовать боль и которые были созданы Гретель с одной-единственной целью — давать свет и направлять путников. У катышков даже не было выбора, светить или нет. И они светили, светили сквозь липкую темноту Железного леса, привлекая внимание его обитателей и тем самым обрекая себя на быструю гибель. Но не светить они не могли. Таково было их предназначение, и они встречали его молча.
А потом катышки пропали. Гензель напрягал глаза, пытаясь в сплетении ветвей и умирающих остовов деревьев разглядеть слабое свечение, но тщетно. Они пробежали, кажется, уже тысячу шагов, но до сих пор не нашли ни единого катышка. Гензель стиснул зубы. Еще не все потеряно. Не могло же здешнее зверье за считаные минуты съесть все катышки?.. «Могло, — неохотно признал он мысленно. — Еще как могло. Эти светящиеся крошки тварям из Железного леса — на один укус…» А на сколько укусов хватит их с Гретель, когда они сдадутся и окажутся окружены в темноте хищно клацающим голодным лесом?..
Они не останавливались. Гретель совсем изнемогала, она уже не могла бежать, да и шла с трудом. Гензель пытался тянуть ее за собой, но без особого успеха. Гретель была тощей, ему под стать, но собственные силы убывали с пугающей скоростью. Железный лес вытягивал их с каждым шагом, как комар вытягивает кровь из своей жертвы, неумолимо и равнодушно. Они карабкались по осыпающимся бокам оврагов, пачкая пальцы липким мхом, от которого несло гнилыми фруктами. Раздвигали колючие заросли, оставлявшие на ладонях тысячи тончайших жгущих заноз. Переступали через невесть откуда взявшиеся канавы, на дне которых собралась чернильная, жадно хлюпающая жижа.
Гензель знал, что, если они не найдут направления к дому, их отчаянный бег не продлится долго. Легкие точно принимали в себя на каждом вздохе разъедающий газ вместо воздуха. Суставы стонали от чрезмерных усилий и скрежетали, как шестерни, в которые набился песок. Волокна мышц раскалились до такой степени, что сплавлялись в единую массу. Где же катышки? Хотя бы один, чтобы понять, верным ли они движутся направлением! Или, может, сбившись в темноте, давно идут в чащу Железного леса, удаляясь с каждым шагом от дома?..
— Держись, сестрица, — бормотал Гензель, хотя его собственные ноги дрожали, а глаза почти ничего не видели. — Нам бы еще сто шагов сделать, а там уже и дом… Места-то знакомые, смотри. Зуб даю, мы тут нынче утром с отцом шли!..
Гретель была измождена настолько, что могла разве что стонать. Но, услышав брата, она нашла силы улыбнуться:
— Толку с твоего зуба… У тебя же через день новый вырастет, больше предыдущего…
Еще получасом позже, когда Железный лес полностью утонул в жирной лоснящейся ночи, Гретель уже не могла улыбаться. Уцепившись за корягу, чья кора была похожа на кожу прокаженного, она лишь хватала губами воздух. И Гензель понимал, что не в его силах заставить ее двигаться дальше. Он бы понес ее, но понимал, что собственных сил осталось самую малость, только для того, чтобы держаться на ногах.
Железный лес, окружавший их со всех сторон, довольно булькал своими черными потрохами. Он знал, что теперь они от него не убегут. Он переварит их, как тысячи прочих глупцов и смельчаков, так что не останется даже косточек. Высосет из них кровь, растворит своими едкими соками остатки, даже одежку — и ту сгноит в считаные дни.
Увидеть бы спасительный катышек… Но Гензель знал, что надежде этой сбыться не суждено. Катышков больше не было. А может, это они с Гретель так далеко углубились в чащу, что катышки остались далеко в стороне…
— Братец…
— Что, Гретель?
— Мы ведь заблудились, да?
— Ничего не заблудились, — сердито сказал Гензель. — Вот еще придумаешь! Просто отдыхаем. Ты сиди, сиди. Вот я тебе подушку из листьев сгребу… Отдышись.
Гретель взглянула на него своими большими доверчивыми глазами. Сейчас они слезились от усталости и готовы были вот-вот сомкнуться. Гензелю представился их старый дом. Рассохшиеся балки, увитые металлическими лозами силовых кабелей, потрескивающий в углу старый монитор, грубо сколоченный стол. Представилось, как отец открывает дверь и заходит внутрь, поскрипывая механической ногой, как обводит взглядом пустую комнату и как тишина обтекает его. Убийственная тишина, в которой нет больше знакомых детских голосов. Отец снимает с плеча ружье, садится за стол и долго молчит, уставившись на собственные колени… «Что же я наделал? — бормочет отец, его гулкий и тяжелый голос всхлипывает. — Что же я натворил, старый мул?..»
— Ты отдыхай, Гретель, — сказал Гензель как можно мягче. — Отдохнем немножко, и пойдем дальше.
— А катышки?..
— Дойдем без катышков. Что нам твои катышки?.. Руки-ноги у нас есть, да еще и головы свои на плечах. Неужели из какого-то леса не выйдем? Не дураки же мы с тобой, сестрица, а?
— Угу…
Будем идти-идти по тропинке, а там, глядишь, и Шлараффенланд. Он большой город, туда все тропинки ведут. Вернемся домой, а там отец. Сидит, черный от горя, плачет и сам себя корит: «Зачем я деток своих на охоту в Железный лес взял, отчего дома не оставил?» А тут мы в воротца стучим и смеемся. Отец вскочит, точно его пониже спины обожгло. «Ах вы, ротозеи! — закричит и ногами затопает. Куда же вас унесло, мыши вы безмозглые? Разве не говорил я вам меня дождаться?.. Разбойники!» А потом обнимет нас крепко-крепко и к себе прижмет. А в воскресенье поведет на ярмарку. Тебе подарит орехов, меда и платок шелковый, а мне — ружье настоящее…
Геностанцию… пробормотала Гретель, уже с закрытыми глазами. — С синтезатором. И реактивы… И…
И геностанцию тоже, — согласился Гензель. — Новенькую, только с завода. Такую, что не у каждого геномастера есть. Ты на ней таких катышков наделаешь, что их вовек никто не съест, это они сами всех зверей в лесу съедят…
Гретель улыбалась сквозь сон — наверно, ей снились огромные катышки, которых никто не сможет обидеть, с большими зубами, острыми рогами и зазубренными шипами. Гензель подгреб сухих листьев ей под бок, чтобы было мягче, и сам сел рядом. Тело затрещало, как древнее, рассохшееся дерево, и стало совершенно ясно, что подняться своими силами оно не сможет — рассыплется в труху. Надо немножко посидеть, собирая силы, совсем чуть-чуть, только чтобы обрели чувствительность ноги. Потом поднять Гретель и вновь идти. Каждая минута промедления удаляет их от дома, ведь где-то еще остались белеть в ночи маленькие глупые катышки, и надо спешить, пока их…
В груди сладко заныло, под язык словно накапали густого сладкого варенья, и глаза сами собой стали закрываться. Не спать! Нельзя спать в Железном лесу!.. Гензель попытался мотнуть головой, чтобы выкинуть из нее сон, но с тем же успехом можно было ворочать многотонный валун.
Гаснущей искрой сознания Гензель понял, что засыпает. И в следующий миг ночь потушила ее, набросив поверх свое тяжелое и мягкое одеяло.
Проснулся он от холода. В обычном лесу даже в рассветный час не бывает так холодно, но обычный лес живой, он греет забредшего путника одним только своим присутствием, своим неуклюжим, кряжистым телом. Железный лес — напротив, лишь высасывал тепло.
Гензель обнаружил, что в углублении, которое продавило его тело в опавших листьях, полно воды, ржавой и мутной. То ли с деревьев натекло, то ли это сок мертвых листьев… Пить воду Гензель не стал, хотя спросонок отчаянно хотелось. Что-то подсказывало ему, что в лучшем случае эта жидкость не сможет усвоиться его организмом. В худшем…
— Вставай, Гретель! — Он потряс сестру за плечо. — Нам надо идти, помнишь?
— Идти?
— Домой.
Гретель просыпалась быстро, еще с тех пор как была совсем ребенком. Глаза моргнули — и перестали быть сонными, заблестели. Но почти тут же потемнели от нахлынувших воспоминаний.
— Как мы попадем домой без катышков? Мы же не знаем, куда идти!
Это, увы, было сущей правдой. Некоторое время Гензель пытался оттолкнуть эту правду от себя, но она липла к нему, и в конце концов не замечать ее сделалось невозможно. Есть вещи, с которыми рано или поздно надо смириться. Они с сестрой в чаще Железного леса, без помощи, без еды, без оружия — и без представления о том, куда им идти.
— Как-нибудь да попадем, — не очень охотно сказал Гензель. — Сама увидишь. Не бесконечный же этот лес! Если повезет, выйдем к окраинам Шлараффенланда. А не повезет… Ну мало ли хороших городов на свете? Нам главное — идти, а куда выйдем — это уже как повезет. Ну давай поднимайся. Пока идешь, мысли дурные в голову не лезут.
Гретель поднялась и привела в порядок платье. Скрюченные и немощные листья Железного леса осыпались с нее, как стрелы, оказавшиеся не в силах пробить доспех.
— Все в порядке, сестрица?
— Ага, — сказала она, потом помялась и тихо сказала: — Только я есть очень хочу.
Гензель лишь беззвучно вздохнул. У него у самого желудок подводило от голода, но он надеялся, что Гретель ощутит подобные муки не так быстро. Зря надеялся, выходит.
— Держи. — Запустив руку в карман, он вытащил белковую плитку в прозрачной упаковке.
Будучи размером с его собственную ладонь, она походила на кусок пересушенного волокнистого пластика. Такая полагалась взрослым за день работы на гидропонной ферме — день выматывающего труда, после которого душа едва держится в теле. Свою последнюю Гензель не съел, хотя очень хотелось. Сунул в карман, едва увидел вечером лицо отца. И правильно, выходит, сделал.
Гретель уставилась на плитку с нескрываемым вожделением, таким, что Гензель украдкой усмехнулся. Чего с нее взять — ребенок. К тому же не от мира сего. Такие слишком поздно учатся лгать.
— Дели скорее, братец!
— Эта вся твоя. Я свою ночью съел, — легко солгал он. — Держи, ешь.
Он достал нож и помог Гретель снять упаковку. От шелеста целлофана по желудку проходили короткие, но злые судороги. «А ну молчи! — приказал ему Гензель. — Утроба ненасытная. Пожрешь еще, чай, пустым не останешься». Желудок недовольно заворчал. Он знал то, что было известно и его хозяину, — еды у них больше нет, если не считать маленького тюбика пищевой смеси, который остался у Гензеля со вчерашнего завтрака. Тюбик этот он взял именно по причине малого размера, и его содержимого не хватит им обоим даже для того, чтобы заморить червячка. Надо было взять больше еды!.. Но тогда Мачеха наверняка что-то заметила бы. Она невероятно зоркая, у нее тысячи глаз и сотни ушей. Если бы отец раньше сказал про охоту в Железном лесу, Гензель и Гретель успели бы, откладывая по крошке с каждой трапезы, накопить хоть сколько-нибудь существенных запасов. Но в этот раз отец не счел нужным заранее посвящать их в свои планы. Значит…
— Я знаю, отчего он нас тут бросил, — сказал Гензель.
Гретель встрепенулась, на несколько секунд даже забыв про еду. «Дурак! укорил себя он, да только поздно. — Чего разорался?»
— Отчего? — спросила она с тревогой.
Пришлось отвечать.
— Потому что не хотел отдавать Мачехе. Решил, что даже в Железном лесу нам будет безопаснее, чем дома.
— Но здесь совсем не безопасно! — воскликнула Гретель. — Это очень плохой лес!..
Точно в подтверждение ее слов, по дереву над их головами проползла какая-то здешняя тварь, выбравшаяся, казалось, ночью из детских кошмаров, пока они спали. Раздутая голова слепо смотрела в разные стороны десятком паучьих глаз, а тело выглядело полуптичьим-полузвериным, оно густо поросло то ли перьями, то ли свалявшейся шерстью, и передвигалось за счет маленьких уродливых лап, вцепившихся в кору. Был это хищник или просто уродливое травоядное? А может, это был мутант, вовсе лишенный пищеварительной системы и с момента своего рождения обреченный на голодную смерть. Про тварей Железного леса Гензелю приходилось слышать самые разные истории.
— Это плохой лес, — сказал он. — Здесь на каждом шагу нас могут съесть или отравить. Но выйти из этого леса живыми у нас больше шансов, чем покинуть Шлараффенланд, если мы понадобимся Мачехе. Поэтому отец и вывел нас. Я думаю, он знал, что у Мачехи насчет нас свои планы… Решил — раз уж погибать, так пусть у них хоть крошечный шанс, да будет. Глядишь, Железный лес их и помилует…
— Лучше Железный лес, чем Мачеха, — серьезно кивнула Гретель. — Она ест детей. Это все знают.
— Меньше слушай, что кухарки на рынке болтают, — поморщился Гензель. — Ест!.. Придумаешь тоже. К чему ей дети? Она же даже голода не знает.
Но во взгляде Гретель обнаружилась уверенность, которая редко встречается у детей.
— Не все дети. Только те, у которых внутри порчи мало. Квартероны, как мы. Мулы Мачехе не нужны, у них внутри все грязное и порченое. Слишком много генетических дефектов. Бракованная плоть.
— Иной мул на человека больше похож, чем наш брат, квартерон, — из упрямства заявил Гензель. — Горазда же ты выдумывать, сестрица! Всем известно, что Мачеха забирает себе только непослушных детей, которые родителей не слушают или против власти идут. Больно нужно ей наше квартеронское мясо!
— А вот и нужно! — не согласилась Гретель, обычно редко спорившая со старшим братом. — Наше мясо лучше прочих. У мулов все мясо испорченное, там человеческого — половина или меньше. Такому цена медяк, если каких-нибудь полезных мутаций нет. У нас, квартеронов, максимум четвертушка. Значит, внутренние органы немного у нас не человеческие, но только на четвертушку эту. А все прочее можно использовать, пока это мясо не натянуло в себя ядов и токсинов из города, не стало жестким от работы или не испортилось.
Гензель с сомнением бросил взгляд на собственные руки. Руки были тощими, жилистыми и грязными, с острыми костяшками и обломанными ногтями. Едва ли Мачеха, даже будь она так жестока, как говорят слухи, соблазнилась бы таким. Из его, Гензеля, мяса даже похлебки не сварить, а если и сваришь, то, должно быть, будет горше полыни…
— Ну и куда это мясо?
— По-разному, — совсем по-взрослому вздохнула Гретель. — Для города все сгодится. Город — это ведь тоже как тело, только очень большое и прожорливое. Ему нужна свежая кровь, эритроциты, гемоглобин и…
— Завязывай ты со своими словечками, — недовольно буркнул Гензель. — Опять понесло.
Гретель отщипывала от белковой плитки маленькие кусочки и отправляла их в рот.
— Нервную ткань — в геномастерские. В городе их много, она всегда в цене… Желчь и лимфу в лаборатории, говорят, отправляют. На питательные растворы для всяких бактерий, им это как похлебка… Кости — на гидропонические фермы. Кожу — в мастерские… У мулов кожа грубая и толстая, не везде годится…
Гензель не некоторое время даже забыл про голод, наблюдая, как с ладони сестры исчезают один за другим кусочки плитки. Было что-то жуткое в том, каким спокойным тоном она перечисляла все это, размеренно поглощая еду.
Гензелю показалось, что полуптица-полузверь с раздутой головой протопталась своими лапами аккурат по его груди, и оттого сделалось внутри тошно и противно. Он и прежде слышал подобные слухи, да и пострашнее от мальчишек или пьяных подмастерьев можно было подчас перехватить.
Например, о том, что Мачеха держит личный цирк уродцев, куда со всего света поставляются самые страшные мутанты, даже не мулы, а те, кого генетическое семя лишило и надежды на человекоподобие. Или о том, что у Мачехи есть собственное тело, сшитое из частей людей и животных, только его никто не видел, потому что оно не выходит из своих чертогов. Или…
Да мало ли о чем болтают на грязных улочках Шлараффенланда! Можно подумать, не болтали там намедни о том, что войско небесных альвов с золотым оружием летит разить городских мулов — за их греховную природу и издевательство над Человечеством, Извечным и Всеблагим. Все городские мулы неделю в страхе по подвалам прятались, и что же, заявился в Шлараффенланд хоть один альв?..
— Даже если и так, как ты говоришь, все равно нечестно выходит, — сказал Гензель. — Тогда Мачехе надо господ побогаче потрошить и есть. Окторонов, седецимионов, тригинтадуонов. У них-то, чай, человеческого в мясе и крови побольше!.. У некоторых порченого — всего по проценту-трем. А у меня семнадцать! Чего же сразу нас, квартеронов?
— Господское мясо слаще, но и дороже, братец. Не каждому по карману. Да и кто же станет седецимионов и тригинтадуонов потрошить, если они все Мачехе служат да посты важные занимают? Судьи, чиновники из ратуши, генералы, прочие…
Гретель не знала многих слов, иные по-детски коверкала, но Гензель чувствовал, что какая-то толика правды в этих словах есть. Он и сам не раз задавался вопросом, отчего в городе пропадает детвора, причем именно из их чернового квартеронского сословия. Мулы почти никогда не пропадали, они даже не пытались бежать из города. Положение их полурабское было настолько плачевным, что, имея раз в день миску белковой похлебки от Мачехи, они уже были счастливы. Да и многие из них с рождения были обладателями стольких генетических хворей, пороков и отклонений, что редко доживали до возраста, в котором захочется куда-то бежать.
— Может, это из-за меня все?
Задумавшись, Гензель не заметил, что Гретель давно покончила с плиткой и теперь бессмысленно комкает в пальцах целлофановую упаковку.
— Что? — спросил он рассеянно.
— Может, это меня Мачеха захотела съесть? А в лесу оба оказались…
Гретель потеребила свой браслет. Он был серебристым, как у брата, но казался лучше отполированным, его металл вспыхивал искрами, стоило поймать редкий в Железном лесу солнечный лучик. На ее браслете была выгравирована цифра «11», и по этой цифре Гретель бездумно водила пальцем.
— Шесть процентов разницы, ерунда какая! — сказал Гензель. — У меня семнадцать — что же с того? Может, наоборот, Мачеха меня выбрала, чтобы порчу по наследству не нести. Вдруг у меня дети и вовсе мулы будут?
— Это никому, братец, не известно — ни тебе, ни мне. Разве что Мачехе. У тебя семнадцать процентов фенотипа порченого, а за детей не он, а генотип отвечает. У тебя семнадцать процентов, а у детей твоих может быть и пять процентов, и сорок. Это анализы надо специальные делать…
— Пусть у них будет три процента, — предложил Гензель, потрепав сестру по волосам. — Тогда они станут урожденными седецимионами. Мачеха пожалует им богатый дом с прислугой и чины соответствующие. Они нас к себе заберут, там и заживем, а? Будем как яблоки в меду купаться, одежку носить из тонкой ткани, челядью командовать… Ты будешь балы и приемы устраивать, а я охотой стану баловаться, как граф какой-нибудь. Закажу геномастерам свору борзых, таких, чтобы след даже через неделю вели. Ну и зубы себе выправлю, конечно. Чтобы были человечьими, как у тебя.
Гретель улыбнулась.
— У тебя хорошие зубы, не надо их менять.
— А вот и поменяю! Надоело, что на улицах на меня пялятся, словно я мул какой. Акулой обзывают. Угораздило же: семнадцать процентов, да так изукрасило, что хоть маску носи… Некоторые с двадцатью процентами живут, а по виду — ну ни за что не догадаешься.
— Порча не всегда на виду, — согласилась Гретель. — Она разная бывает. У кого-то — три процента, да так вышло, что на лице ногти растут. А у другого может быть и пятьдесят, но только все внутри — все органы перемешаны друг с другом…
— У отца вот пятнадцать, и он без ноги одной родился, зато в остальном повезло. А нам с тобой в высший свет вход заказан, — заметил Гензель. — Да и черт с ним, со светом, хоть и несправедливо это. Ничего, и квартеронам можно жить, главное — место свое знать и к почестям не рваться. Пошли, что ли, сестрица. Дом нас ждет. Новый ли, старый, кто знает?.. Раз от Мачехи ушли, может, и дальше повезет, а?
Гретель кивнула и схватила его за руку.
— Пошли, братец.
Железный лес насмехался над ними весь бесконечный день. На их пути он обнажал овраги, глубокие, зловонные и полные ломких корней — точно незатянувшиеся, тронутые гангреной раны. Насаждал чащи из колючих деревьев, которые впились друг в друга мертвой хваткой, будто пытаясь удушить сами себя. Разбрасывал по камням отвратительный липкий мох, который вонял, как брошенное на жаре мясо, и привлекал насекомых, столь же мерзких на вид.
Безжалостный к людям, Железный лес не щадил и своих собственных слуг. То здесь, то там Гензель и Гретель замечали плоды его ненависти, столь же слепой, сколь и разрушительной. Мох, привлекающий насекомых, их же и пожирал. Огромные мухи, упоенно гудящие над ним, садились на заляпанные мхом камни, но не проходило и секунды, как к ним тянулись крохотные, не толще паутинки, отростки, мгновенно оплетающие тело. Жужжание резко смолкало, а мох едва заметно колыхался, выталкивая на поверхность то, что от них осталось, — мелкие хитиновые осколки и прозрачную шелуху крыльев.
В Железном лесу то и дело кто-то погибал. Иногда они видели это, иногда до слуха доносился лишь предсмертный крик очередной жертвы, сокрытой среди серой, источающей серую слизь листвы. Весь здешний лес был не более чем одной бескрайней ареной смерти, на которой смерть торжествовала, пировала и ублажала себя миллионами различных способов.
Какая-то тварь, покрытая жирно блестящей серой чешуей, гибкая и стремительная, как ящерица, молниеносно ухватила пастью длинноногого паука, дремавшего на коре дерева. Хруст — и паук целиком скрылся в ней, снаружи остались лишь еще трепещущие лапки. Но минуту спустя охотник сам стал жертвой. Гензель заметил его в клетке из узловатых сплетающихся ветвей, ощетинившихся зазубренными иглами. Клетка эта сжималась сама собой, заставляя хищника метаться внутри и издавать беспокойные быстрые щелчки. Ловушка, в которую он попал, не имела выхода. Ветки пронзили его и стали медленно врастать в тело, деловито шевелясь и отрывая клочья серой чешуи. Тварь кричала до тех пор, пока Гензель и Гретель не отошли достаточно далеко: здешняя смерть в своих приговорах была лишена милосердной поспешности.
При мысли о том, какие опасности поджидают здесь человека, Гензель ощущал на спине едкие капли выступающего пота. С малых лет он слушал отцовские рассказы о зловещем Ярнвиде, который, подобно злобному кобольду, обожал издеваться над неосторожными путниками и незваными гостями. Ставшие объектом его шуток редко возвращались домой, а если и возвращались, навсегда сохраняли память о них. Но все же горожане Шлараффенланда ходили время от времени в проклятый генетической порчей Железный лес — некоторые сорта мутировавших растений обладали необычайными свойствами, а городские геномастера охотно платили за образцы чудовищной флоры.
По вечерам, когда работа по дому была закончена, отец обыкновенно располагался за верстаком со своими инструментами и принимался за изготовление маленьких деревянных фигурок, которые по воскресеньям продавал на базаре. Из больших его плотницких рук, в совершенстве владевших и топором, и рубанком, выходили на удивление ладные игрушки, сделанные с немалым старанием, с великим множеством деталей.
Атлетически сложенные альвы были прекрасны, как изображения на алтаре Церкви Человечества, которыми Гензель украдкой любовался во время проповеди. Деревянные тролли внушали уважение своими гипертрофированными разбухшими мускулами и искаженными в оскалах лицами. Игрушечные цверги на рынке часто пугали детей до слез — стараниями отца крошечным резцом их лицам придавалась совершенно жуткая реалистичность. Вырезал он и всякого рода уродцев — анэнцефалов в сложносоставных рыцарских доспехах с приплюснутыми, почти лишенными мозга головами. Караульных спригганов с их насекомоподобными колючими телами. Жутковатых химер — сросшихся телами людей, животных и птиц.
Гензель любил наблюдать за тем, как отец аккуратно орудует своими инструментами, цепляя большими пальцами то миниатюрный резец, то специальную щеточку. Пахло свежей древесной стружкой — лучший запах из всех, существующих в мире! — лаком и жженым деревом. Обычно неразговорчивый и строгий, отец делался спокоен и внимателен, стоило ему взяться за инструмент, — ведь, как известно, тонкая работа не терпит поспешности и сильных эмоций. В такие минуты отца можно было расспрашивать о самых разных вещах, включая те, за которые еще днем мог влететь основательный, отпущенный тяжеленной отцовской рукой подзатыльник.
— Железный лес?.. хмурился отец, работая над очередной игрушкой. — Чего это тебя Ярнвид заинтересовал, подменыш ты дикий? Опять проказу какую придумал? С Железным лесом не шутят. Запомни и на носу у себя топором заруби. Когда в Железный лес идут, на алтаре свечку ставят Бессмертному Человечеству, а если приходят в целости — еще две.
Знал Гензель и то, что ответы отца в таком настроении частенько бывают многословными. Нужно лишь выжидающе помолчать или задать пару невинных вопросов — и отец рано или поздно, сам того не замечая, примется рассказывать, ощипывая очередную деревяшку и глядя лишь на нее:
— Был у меня приятель, де Фризом звали, а по имени — Хуго. Угольщик. Зачастил в Железный лес по своим делам, хотя ему сорок раз было говорено: не лезь. Но того всю жизнь тянуло туда, куда не велено. «Я, — говорит, — при удаче. Все деревья в Ярнвиде знаю, сколько их там есть. Каждую опасность разумею и никогда не рискую лишний раз, вот отчего всегда домой возвращаюсь». А Железный лес самоуверенных не любит. Он таких испытывает, черту, стало быть, определяет… Да так, что, как наиграется, сам же и ломает. Не любит он слишком слабых и слишком сильных — тоже… А ну сиди не вертись, Гензель, лошадиное отродье! Сам речь завел — теперь слушай, что с людьми бывает, которые старших не слушают и на себя слишком уж надеются…
Гензель терпеливо слушал, хотя деревянная скамья буквально обжигала седалищное место. Невозможно было усидеть на месте, слушая все эти отцовские истории, хотелось вскочить, пробежаться по огороду, сшибая сухой веткой покачивающиеся чертополошьи головы, крикнуть: «Вот тебе, Ярнвид! Получай, старое болото!..» Тогда он сам был возрастом не старше Гретель. Будь он постарше да поумнее — постарался бы получше запомнить советы отца…
— …И полез этот Хуго в очередной раз в чащу. Все ему один цветок покоя не давал. Слыхал про Алый Цветок, немощь ты моя безродная? А? Ну конечно слыхал. Будешь столько языком чесать с мальчишками уличными — точно ремня у меня отведаешь… В общем, наслушался Хуго про этот Алый Цветок — и решил его добыть во что бы то ни стало. Он говорил, то ли для жены, то ли для дочери хочет, но мы так поняли, что Алый Цветок ему для личного пользования нужен. Он же знаешь чего… Ну все-то ты знаешь, а! Смотри-ка на него, подлеца! Не положено тебе таких вещей знать еще, огрызок! В общем, ходит слух, что Алый Цветок на силу мужскую сильно воздействует. Ну как потроха мантикоры, только в тысячу раз сильнее. Вот наши бабы в свое время и погнали мужей в Железный лес за этим своим Алым Цветком… Сколько из-за этой прихоти головы лишилось, вспомнить страшно. А, бабы, одно слово…
Гензель старался слушать внимательно, не пропуская ни единой подробности. Гретель же почти не обращала на отцовские истории внимания, а может, просто не подавала виду, поди пойми. Когда у нее не было работы по дому, Гретель предавалась своему излюбленному времяпрепровождению — пробиралась в угол за печкой и шуршала там страницами «Классических генетических моделей» Менделя. Книга досталась ей случайно и чуть не была утоплена отцом под горячую руку. Он считал, что книги для геномастеров до добра не доведут и не стоит обычному квартерону лезть в подобные дела, пусть и краем глаза. Но Гретель каким-то чудом книгу отстояла и теперь по вечерам, когда отец брался за инструменты, тихонько шелестела тонкой бумагой. Долгое время Гензель был уверен, что сестра просто по-детски глядит на мудреные картинки. Хватало там картинок — сложных, как микросхема, исчерченных десятками разных рисок, с хитрыми символами, точками… Когда выяснилось, что Гретель не просто разглядывает картинки, что-то делать с ней или с книгой было уже поздно.
Отец надолго замолкал — не ладилась какая-то мелкая деталь. Например, не выходил глаз у крошечного скорчившегося утбурда или недостаточно страшным получался пещерный кобольд с узловатыми клешнями-руками.
— И что с угольщиком сталось? — не выдерживал наконец Гензель, мучившийся любопытством.
— Да не спрашивай ты под руку, холера! — сердился отец, но быстро возвращался в благодушное состояние. — Говорю же, понесло его в Ярнвид вновь, за Алым Цветком этим, чтоб ему сгореть… Скольких людей пережил, а так и не понял, что Ярнвид людей так просто не отпускает. Говорят, в пыльце его смесь какая-то особая, которая в нашем мозговом веществе на какие-то там центры воздействует… Ну и тот, кто в Ярнвид слишком часто забредает, потом без этой смеси дышать не может, тянет его к лесу, как к бутылке… Ну, этого я не знаю, это геномастера пусть сами решают, их парафия… Знаю только, что цветок этот Хуго на свою беду нашел. Алый, говорит, как огонь в ночи, так глаза и притягивает… Ну, пока еще мог говорить. Прикоснулся он к тому цветку рукой. И нет чтобы перчатку натянуть, словно не знал, какие цветочки могут в Ярнвиде расти… Сорвал и сорвал. Только, говорит, кольнуло немного в пальцы, словно занозу мелкую загнал. Помчался Хуго с цветком домой, словно за ним стая вурколаков гналась. Только впустую все. Цветок в несколько минут завял и рассыпался прахом, даже лепестков не осталось. Ругнулся он, но делать нечего, вернулся в дом и спать лег с горя. Мол, в следующий раз повезет… Только не было ему уже следующего раза. Ночью, жена говорила, просыпался несколько раз от жажды и горел весь, точно не на кровати, а на углях лежал. С утра ослабел, на работу чуть живой выполз. Лицо осунулось, глаза навыкате… Иные в гробу лучше выглядят, одним словом. Знали бы мы, что потом только хуже будет, — сами бы прикончили бедолагу…
— Это цветок его так?..
— Да уж не василиск! Не перебивай, сказано же! Цветок, цветок… Алый, будь он неладен. С того дня стало Хуго все хуже и хуже. Сперва кожа у него начала твердеть по всему телу. Словно бы коростой покрываться. Жена ему и компрессы делала, и мазями всякими лечила, да толку, если человек, считай, сам свою голову на плаху отнес… Руки-ноги у него отниматься начали, сам без чужой помощи через пару дней уже и с кровати не вставал. И вообще во всем теле одеревенение какое-то началось. Руки еще гнутся, а пальцы перестали, один от другого не оторвать. И по всему телу отростки пошли расти. Тут мы и поняли, что Хуго генетическую погань какую-то подцепил от того цветка. Кости у него срастаться между собой начали, а лицо таким сделалось, что даже нам смотреть тошно было: корой покрылось, мхом, дрянью всякой… Был человек, а стал — дерево. Ночами от боли ревел, полгорода слышало. Есть уже не мог, жена его через трубку бульоном кормила…
В углу прекратился шелест страниц — кажется, Гретель тоже стала слушать. Это было редкостью: в противовес всем обыкновенным детям Шлараффенланда она не любила историй про геноволшебство. Удивительно, но так и было — слушая истории про зачарованных принцев, сказочные превращения и невероятных созданий, Гретель обычно морщила нос. Этого Гензель никогда понять так и не смог. В голове не укладывалось, отчего ей больше по душе тяжеленные книги с черно-белыми картинками, а не захватывающие дух отцовские истории. И там, и там на каждом шагу случались геномагические чудеса, только что за интерес следить за чудесами по непонятным схемам да сложным рисункам с рисками?..
Отец тем временем продолжал свой рассказ, не обращая внимания на то, кто из детей его слушает:
— Поняли мы, что несдобровать Хуго. Вот-вот слуги Мачехи за ним явились бы. С такими, сам знаешь, разговор короткий. Нечего генетическую инфекцию сыпать в городе!.. Решили мы помочь ему по старой дружбе, на тот свет отправить без мучений. Только оказалось, что поздно мы это придумали. Сидит он дома, в угол врос, деревянный как чушка для колки дров. Корой со всех сторон укрыт, даже рта не видать, а вместо глаз — какие-то гнилушки светятся… Ох и картина. И что прикажете с ним делать? Сперва решили просто есть не давать — пусть, мол, от голода умрет. Куда там! Он уже корни пустил, прямо сквозь пол. Впился в землю этими корнями, а те прочные, как стальные канаты! Из земли какие-то соки и сосет… Хотели тогда голову отрубить. Позвали дровосека с топором, чтобы тот, значит, ему голову смахнул. Полдня он своим топором работал, но шею даже на четвертушку не перерубил. Зато сам трясется. Бросил топор, крикнул: «Да не могу я так человека мучить!» — и был таков. Человека, скажи на милость… Долго мы пытались Хуго извести. Все пробовали. Жгли его, кислотой растворяли, из ружей палили. Впустую. Таким он оказался живучим и крепким, ничто его не брало. А он, бедолага, и поделать ничего не мог. Пялился только на нас своими гнилушками и корой скрипел. Не понять даже, мучается он или сам забыл, что человеком был. Коряга бездушная, и все. В общем, закончилось наше терпение, и послали мы за священником, в Церковь Человечества. Тот через день явился. Наполовину механический, как моя нога, поршнями стучит, гудит, меди больше, чем плоти на костях, но дело свое хорошо знал. Прочитал литургию… Так, мол, и так, именем Человечества Извечного и Всеблагого, да уйдет скверная генетическая зараза, порочащая род людской. И иголкой его из инъектора! Мы думали, толку от той иголки… Но видим — вроде действует. Кора словно бы размягчаться начала, а дерево задрожало мелко, и ветви вроде съеживаются… Ну, мы на это дело смотреть не стали, нет таких охотников. Может, геномагия и светлая, от священника, но все равно симпатичного мало. На следующий день явились, а Хуго уже и нет. Весь пол только в доме жижей какой-то зеленой залит, а в ней мусор всякий плавает — кости человеческие и ветки вперемешку. Да гнилушек пара, только уже не светятся… Ты слушай, слушай, подлец, и на ус крути! Вот что бывает с теми, кто в Ярнвид без дела суется!
Были и другие жуткие истории, рассказанные под аккомпанемент тихого скрипа резака. Про пекаря Палотье, что съел в лесу выглядящую сочной ягоду, а через день оброс шерстью, обратился вурколаком и был травлен сеньорами на охоте. Про мехоса Паабо, который решил, что его гидравлическое тело может пройти сквозь весь Ярнвинд, но был искусан мутировавшими термитами со слюной на основе кремниевого клея и обратился в неподвижную статую в самой чаще, так и не опустив топора. Про городского геномастера Гершензона, двадцать лет собиравшего в лесу плоды и возвращавшегося невредимым, а к исходу двадцать первого пойманного и заживо переваренного хищным деревом.
И все эти истории одна за другой оживали в воспоминаниях Гензеля, пока они с Гретель пробирались чащей Железного леса. Несмотря на то что все истории без исключения были жутковаты, Гензель вспоминал отца с благодарностью. Эти истории научили его относиться к умирающему лесу с осторожностью и почтением, не тревожить его лишний раз и вообще по возможности к нему не прикасаться.
Один раз Гретель хотела перейти глубокий овраг по длинному и толстому корню, но Гензель задержал ее. Не зря — стоило бросить на корень небольшой камешек, как корень зашипел, извернулся кольцом, и на его поверхности выступили сотни крошечных зазубренных пластин. Окажись на нем человек — уже превратился бы в кровавую мешанину на дне оврага. В другой раз они чуть было не угодили на обед стае хищных растений, выглядевших как самые обычные цветы. В этот раз их спас случай: какая-то мелкая лесная тварь решила срезать путь через заросли и была мгновенно растерзана — бутоны цветов оказались крошечными, но невероятно сильными пастями, с легкостью вырывавшими из тела жертвы куски мяса. Через считаные секунды от твари остался лишь распластанный скелет — его костями, судя по всему, охотник побрезговал. Гензель рассудил, что и человеческое мясо покажется этим кровожадным существам вполне достойным продолжением трапезы.
В этом лесу двое беспомощных детей, несомненно, были бы настоящим подарком для плотоядных животных и растений, из которых мало кто помнил вкус сладкого, с минимумом генетических дефектов мяса…
Гензель и Гретель шли практически наугад, не руководствуясь никакими ориентирами, — ориентиров здесь, в самой чаще, попросту не существовало, и даже расположение солнца невозможно было определить. Гензель лишь надеялся, что они не петляют кругами. В этом случае надежды на спасение нет. Железный лес мало-помалу выпьет из них все соки, как паук — из попавших в паутину мух. А Гензель уже начал чувствовать себя слабой и сонной осенней мухой. Каждый шаг вытягивал в десять раз больше сил, чем в Шлараффенланде, а голод казался не в пример более резким и требовательным. Еще не минуло двух суток с тех пор, как отец отвел их в лес, а Гензель уже чувствовал себя так, словно отшагал полсвета в железных башмаках. Желудок его сморщился, ссохся и превратился в одну крошечную ноющую раковую опухоль.
Гретель, несомненно, приходилось еще сложнее, но она ни разу не пожаловалась брату. Старалась идти вровень с ним, не просила сделать перерыв, не вспоминала про пищу. Гензель, мысленно усмехнувшись, подумал, что в этой тощей бледной девчонке куда больше сил, чем кажется на первый взгляд. Но она была всего лишь ребенком. Время от времени она начинала отставать от брата, прихрамывать и закусывать губу.
— Давай сделаем привал, Гретель, что-то я устал, — приходилось говорить Гензелю в такие моменты. — Измотайся я что-то. Мне бы дух чуть-чуть перевести.
— Давай минутку посидим, братец, — покорно говорила она, оправляя изорванный и болтающийся лохмотьями подол.
Потом они поднимались и вновь брели вперед, обходя стороной деревья, поросшие изогнутыми черными когтями, болотные кочки, похожие на чьи-то разлагающиеся головы с треснувшими черепами, и лианы, кажущиеся распотрошенным и развешанным на ветвях кишечником.
Стали ли они ближе к Шлараффенланду? Гензель не знал этого. Они шли уже долго, очень долго, куда дольше, чем вел их отец. Значит, стучала крохотной серебряной птичкой в висок неутешительная мысль, они шли по неверному направлению. Но как выбрать верное в том месте, где никаких направлений и вовсе нет? Последний раз они видели тропинку вчерашним вечером, когда бежали в поисках катышков. Но в темноте, видно, сошли с нее, а новых все не появлялось. Не удивительно — кто будет натаптывать тропинки в Железном лесу?..
Здесь отказывало даже чувство времени. Гензель с трудом представлял, сколько они идут и сколько осталось до заката. Иной раз казалось, что они проснулись час назад, иной — что должно было пройти уже два-три дня. Гензель невесело подумал о том, что яд Железного леса пропитал даже само время, теперь оно тоже больно и чуждо всему человеческому. Но надо было идти, пусть даже без направления и времени. Это он чувствовал так же безошибочно, как распознавал врагов в неприметных на вид деревьях. Стоит надолго остановиться — и все, пропали.
«Надо идти, — говорил он себе, подбадривая взглядом Гретель. — Представь, что это просто прогулка по обычному лесу…»
Постоянно нависшая опасность сжимала череп, точно обручи — разбухшую с годами пивную бочку. Гензель шел, стараясь ступать бесшумно, обходя любые подозрительные места, хоть чем-то выделяющиеся среди умирающих деревьев, и постоянно держал руку на рукояти ножа. Но голод, как оказалось, был еще худшим врагом. Сперва он лишь шуршал, как крыса в подполе, но с каждой минутой делался все сильнее и наглее. Он подтачивал решимость, вытягивал силы, копался во внутренностях колючими жадными лапами.
Ужасно хотелось есть. Гензель боялся признаться самому себе в этом желании, как будто оно могло обрести над ним власть, стоило лишь признать его существование. «Не хочу я есть, — думал он, ощущая, как ворчит желудок. — Недавно только ел, куда еще! Прав был отец, бездонное брюхо какое-то! А ну молчок там, в подвале!..»
Тюбик с пищевой смесью он хотел приберечь на завтрашний день. Но понял, что Гретель он понадобится гораздо раньше. Иначе она просто не сможет идти. Молча достал из кармана, протянул ей.
— Пополам! — запротестовала она.
Пришлось делить тюбик ножом надвое. Обычно пищевая смесь казалась Гензелю сухой, безвкусной и пахнущей чем-то затхлым, но сейчас она таяла во рту, впитываясь, казалось, в слизистую и совершенно не доходя до желудка. Он высосал свою половинку тюбика насухо и с огорчением заметил, что не стал сытее даже на самую малость. Только раздразнил аппетит, и без того клокочущий внутри.
Будь они сейчас дома, в Шлараффенланде, Мачеха уже давно накормила бы их. Еда из ее рук была скудной, однообразной и редко вкусной. Как рачительная хозяйка, Мачеха полагала, что назначение еды — поддерживать жизненные силы, и только. Но сейчас Гензель был бы рад обычной белковой похлебке не меньше, чем блюдам, что подают в графском дворце на серебряных подносах. Если бы, конечно, в эту минуту сама Мачеха не пировала бы ими, непутевыми детьми… Гензель представил, как слуги Мачехи, исполнительные и грозные анэнцефалы, тащат их с Гретель в подземелье, где уже жадно скрежещут разделочные ножи, — и случилось чудо, голод как будто немного отступил.
— Сейчас бы каши… — вздохнула Гретель. Свою порцию она прикончила еще быстрее и теперь пыталась слизать с пластика едва видимые остатки.
— Каши! — насмешливо фыркнул Гензель. — Может, еще бесконечный горшочек, как в истории?
— Бесконечный? — спросила Гретель, широко открыв свои большие глаза, и Гензель с опозданием вспомнил, что история про бесконечный горшочек — не для маленьких девочек. И уж точно не для девочек, которые читают в десять лет «Классические генетические модели» Менделя.
Гензель ожидал, что Гретель по своему обыкновению сморщит нос. Но она неожиданно попросила:
— Расскажи.
Она никогда не капризничала, ничего не требовала, да и просила редко. А уж чтобы просила рассказать историю… Гензель подумал, что нынешнее приключение в лесу изменило не только его.
— Жила-была в Шлараффенланде одна девочка, — неохотно заговорил он, внимательно поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить очередной опасности. — Было ей десять лет, как тебе сейчас. И тоже очень любила набить живот… поесть то есть. Все, что ей Мачеха давала, съедала враз! И все равно жаловалась, что ее не кормят вдосталь…
— И вовсе я не такая обжора! — возразила Гретель, поджав губы. Сказано это было с такой детской обидой, что Гензель едва не засмеялся. Вот тебе и «Классические генетические модели», вот тебе и Мендель…
— Ладно, значит, ты совсем не похожа на эту девочку. Это была совсем другая девочка, ясно? У нее была большая семья — отец, бабка, тетка, пять братишек и пять сестричек. Все работали на фабрике и получали свои порции, и только она одна постоянно ныла, что кормят ее хуже прочих.
Мы совсем не похожи, — решила Гретель, немного успокоившись. Рассказывай дальше, братец.
Буду, если ты не станешь меня перебивать! — Гензель попытался повторить выражение отца, которого он сам отрывал от рассказа, но едва ли у него это хорошо вышло. Махнув рукой, он стал рассказывать дальше: — Однажды Мачеха наказала ей сходить по одному поручению в соседний город. Пошла она по дороге мощеной и встретила на окраине старуху. Старуха была страшной, зубы до пояса, косы нечесаные до земли, глаз один, а зубов вообще нет. «Здравствуй, девочка, — прошамкала старуха. — Ты еще не знаешь, что свет Человечества сегодня озарил твою дорогу, ибо я — геноведьма и могу выполнить любое…»
— Это выдумки все, — не по-детски решительно сказала Гретель. — Неправильная история, нечестная.
— Геноведьмы — это никакие не выдумки! — решительно возразил Гензель. — Я от самого священника слышал в церкви. Это те, кто, не имея прав, занимается генным волшебством, портит людям кровь и внутренности… Вот ты, если свои глупости не бросишь, точно геноведьмой станешь! Потому что квартеронам такая милость не положена, не берут их в цех геномастеров!
Гретель досадливо дернула головой так, что белые волосы, давно не чесанные и грязные, разлетелись в стороны.
— И вовсе я не про это! Геноведьмы не бывают страшными! Они же генами занимаются. И всем, что… внутри. Все живое им послушно. Значит, и свое тело они могут менять как вздумается!
— Всем известно, что они страшные, — не согласился Гензель. — Это потому что они от света Человечества отвернулись и всякие незаконные генетические зелья на себе испытывают. Оттого они гадкие, как столетние жабы!
— Если я стану геноведьмой, то такой не буду.
— Геноведьмой она станет!.. — рассердился Гензель почти взаправду. — На костер захотелось? Будто не знаешь, что с геноведьмами делают!
Гретель засопела, потом сказала:
— Так то у нас, в Шлараффенланде… Я слышала, в других городах геноведьм не жгут. А некоторые даже в почете и золоте…
— Цверги тоже в золоте живут, — насмешливо сказал Гензель. — Только водиться с ними желающих маловато. А ты, юная геноведьма, раз меня слушать не хочешь — и не слушай.
Сопротивление Гретель длилось недолго.
— Хочу, — кивнула она. — Рассказывай дальше, братец.
— То-то… Была та геноведьма страшна и уродлива на вид, и сказала она девочке: «Радуйся, ибо я могу выполнить любое твое желание». Глупышка не знала, что нельзя связываться с геноведьмами, потому как любое твое желание они вывернут так, что себе дороже будет. И сказала она геноведьме: «Сделай так, чтобы у меня всегда была еда!» Геноведьма усмехнулась беззубым ртом и сказала: «Будь по-твоему, девочка. Вот тебе волшебный горшочек. Он делает кашу из протеинов, аминокислот и глюкозы, да такую вкусную, какой ты вовек не едала. А включить его просто — скажи „Горшочек, вари!“ — и он будет варить в автономном режиме. А скажешь „Горшочек, не вари!“ — он и перестанет». Обрадовалась девочка, что каши теперь будет вдосталь, схватила волшебный горшочек и, не поблагодарив геноведьму, побежала со всех ног домой. А горшочек был механизированным и сложным, с ногами, кнопками и сенсорами. И таким большим, что человек внутрь поместился бы. «Много каши будет!» — обрадовалась девочка и домой его потащила…
— Если он из железа и с механикой, то какой же он генетический? — возразила Гретель. — Это же машинерия, а не геноволшебство.
Гензелю не хотелось спорить, поэтому он сказал:
— Снаружи он был железным, а внутри — генетическим, ясно? Что, не бывает так, скажешь?
Гретель задумалась.
— Бывает иногда. Вот стражники в городе, например. Они генетически измененные, но немножко и мехосы. Это когда живые кусочки мяса с железом объединяются…
Гензель не любил, когда прерывали его истории.
— Вот и котелок был таким, ясно? Принесла его девочка домой и сказала: «Горшочек, вари!» Тот зажужжал, ногами задрыгал и стал кашу варить. Сытную, жирную, вкусную, такую, что пальчики оближешь…
Зря это он про кашу. Собственный желудок, на время было замолкший, вновь стал посылать тревожные и болезненные сигналы. Оставалось только догадываться, каково приходилось Гретель. Но, так или иначе, историю нужно было закончить. Во-первых, не годится обрывать на полуслове, во-вторых, кто знает, может, Гретель из нее что-то и вынесет, геноведьма курносая…
— Покушала девочка сама вволю, как никогда не ела. Но, хоть кашу горшочек варил и варил, родни своей не угостила. Ни отца, ни бабку, ни тетку, ни пятерых братишек, ни пятерых сестренок. Решила — чего с ними делиться?.. Горшочек, может, и волшебный, а вдруг соврала геноведьма, вдруг каша в нем закончится?
— Каша не может сама из воздуха браться… — громко возразила Гретель, но Гензель так взглянул на нее, что она поспешно замолчала. И правильно. Пусть учится уважать старших, а не книги свои геномагические листать.
— Поела девочка каши и ушла гулять, сытая, счастливая. А горшочек не выключила, не сказала ему: «Горшочек, не вари!» Пусть, решила она, работает весь день напролет, пусть варит вкусную рассыпчатую кашу сколько есть мочи! Пошла она гулять и целый день по городу беззаботно ходила. Знала: дома ждет ее горшочек, который кашу варит… Работать не надо, и в очереди за вечерней порцией у распределителя тоже ждать надобности нет. Вернулась она, только когда звезды на небе зажглись. Сразу за ложку схватилась — и к ужину, кашу уплетать. Смотрит, а кашей уже весь дом залит! И на мебели каша, и на полу каша, и повсюду каша, столько ее в доме, что вот-вот на улицу хлынет…
Гретель сглотнула — то ли пыталась подавить волнение своего желудка, то ли вовремя опустила очередное возражение. Если так, то правильно сделала — Гензель не собирался тратить время на лишние препирательства с сестрой. По-хорошему, им давно пора было продолжать свой путь.
Крикнула девочка быстро: «Горшочек, не вари!» — тот и перестал. Но рано она обрадовалась. Зашла в дом, залитый кашей, смотрит, а родни-то и нет. Ни отца, ни бабки, ни тетки, ни братишек, ни сестренок. Только вещи их пустые по дому разбросаны, в каше перепачканы… Там же и протез бабкин, и ожерелье теткино, и заколки детские… Тут-то и поняла девочка, что проклятый горшочек их всех съел и превратил в кашу. Ведь каша из воздуха не получается, ты сама сказала, сестрица. Так и было. Пока девочки не было дома, горшочек по ведьминому наущению нападал на всех ее домашних, хватал их своими механическими руками и перерабатывал в кашу. Рассыпчатую, жирную, с глюкозой, аминокислотами, протеинами… Ту самую кашу, что девочка полной ложкой ела.
Гретель скривилась:
— Гадость какая!
— Говорил же, рано тебе эту историю. — Гензель зевнул и стал растирать ноги. — Зато теперь будешь знать цену ведьминым подаркам.
— А… а с девочкой что было?
— Это никому точно не известно. Одни говорят, что она пошла к Мачехе, повинилась, и ее приговорили к генетической модификации в болотную ехидну, такую страшную, что до конца жизни скиталась она, людям на глаза не показываясь. Другие — что с горя сказала она горшочку «Горшочек, вари!» — и сама в него сиганула… А вкусную рассыпчатую кашу всей улицей еще два года ели!
— Гадость какая, — повторила Гретель все еще с хмурым лицом. — Гадость и глупость! Не бывает такого. Это ты выдумал все, братец!
— Вот встретим в лесу геноведьму — сама у нее и спросишь. Давай-ка, поднимаемся да пошли потихоньку, пока ночь не упала, а то опять ни зги не видать…
Лес не хотел их выпускать. Сперва Гензель думал, что это выходит само собой. Тропинка, которую они обнаружили, самым естественным образом оборвалась через полста шагов, растаяла в серой, как металлическая стружка, траве. Удобный проход между деревьями оказался намертво перекрыт рухнувшим стволом, таким огромным, что не взобрался бы и взрослый мужчина. То, что издалека выглядело светом солнца, на деле оказалось не более чем потеками белесого древесного сока. Чем дальше они шли, тем больше уверялся Гензель в том, что это не нелепая череда случайностей. Железный лес, проклятый Человечеством Ярнвид, не хотел выпускать детей, намеренно подстраивая им подлости и ловушки.
С коварством старого хитрого зверя он вновь и вновь пытался поймать их на беспечности, усыпить бдительность и в конце концов разорвать на части. Гензелю стало мерещиться, что лес — живое существо, невообразимо древнее, алчное и больное, наблюдающее за каждым их шагом. То и дело он ловил на себе взгляд горящих яростью глаз, от которого обмирало все внутри, и только спустя несколько секунд, когда сердце отлипало от ребер, понимал, что это не глаза вовсе, а пара скользких разлагающихся грибов или отвратительные на вид плоды, свисающие с ветки.
Или вдруг чувствовал, как когтистая лапа хватает его за сапог и ворочается, пытаясь поудобнее ухватиться, чтобы утащить под землю. Он в панике отдергивал ногу — и с муторным облегчением, от которого отчего-то не становилось легче, убеждался в том, что никаких лап под ногами нет, а есть только уродливые изогнутые корни и гниющие ветки. А то вдруг чудилось, что к обнаженной шее сладострастно прижимается чей-то тонкий и влажный язык, который обращается бесформенной лианой, истекающей ядовитым соком или еще какой-нибудь гадостью. Нет, Железный лес не просто растянулся вокруг, он забавлялся, разглядывая двух путников, и смаковал их испуг и усталость, как ценитель вина смакует запах, доносящийся из только что откупоренной бутылки.
Гензель не заговаривал об этом, чтобы окончательно не лишить сил сестру, но той, видно, и так приходилось несладко — Гретель шла все медленнее, вжав голову в плечи, то и дело испуганно озираясь. Видимо, и ей мерещились за каждым деревом жуткие образы. Гензель поймал себя на невеселой мысли — может, и лучше пугаться несуществующих чудовищных ликов. Потому что если не пугаться, мысли, сколь ни встряхивай их в гудящей от усталости голове, возвращаются к голоду и жажде.
Жажду они ощутили только на второй день, но если про голод хоть на время можно было забыть, то жажда впилась в них мертвой хваткой. Не так удивительно, что они не сразу ощутили ее в холодном и сыром лесу, зато когда ощутили, враз пожалели, что не захватили из города хотя бы фляги с обеззараженной водой.
Жажда… Сперва Гензель пытался себя уверить, что это просто во рту от страха пересохло, отгоняя от себя навязчивую мысль. Но вскоре это перестало помогать. А еще через несколько часов хода — утомительного, выматывающего, опасного — пришлось признать, что дело тут вовсе не в страхе.
Гензель уже и забыл, что на свете существует такая отвратительная штука, как жажда. Не обычная, ватными шариками обкладывающая язык, которая мгновенно пройдет, стоит лишь сделать глоток-другой чистой воды или витаминной смеси. А другая, настоящая, которая, оказывается, была ему прежде незнакома. Эта жажда высушивала слизистую рта и язык с хладнокровием термического излучателя, обрабатывающего лабораторные образцы. Во рту сделалось так сухо, что беспокойно ерзающий язык, сам сухой, как столетняя коряга, грозил вот-вот порезать нёбо.
Водицы бы… Гензель машинально стал приглядываться к лесу, пытаясь сообразить, как бы утолить жажду. Плоды Ярнвида он исключил сразу. Они росли в великом многообразии, и, кажется, за все время, что они с Гретель шли, им не попалось ни одного одинакового, все были по-своему уникальны, как бородавки на старушечьем лице. Большие, малые, выпуклые, вытянутые, суховатые или сочащиеся соком — все они были так или иначе ядовиты, иначе и быть не могло. Ядовитые деревья никогда не родят нормального плода. Об этом Гретель предупредила его еще утром, когда они только тронулись в путь:
— Ты, братец, только не вздумай ничего с ветки сорвать. — Она серьезно взглянула на него, сверкнув своими серо-прозрачными глазами. — Тут все, чего ни коснешься, яд и отрава! Даже если выглядит как наливное яблочко из сада. Не касайся их и в рот не клади!
— Научил пастух епископа молиться, — буркнул Гензель недовольно. — Тоже мне большая наука. Это и так каждому ребенку давно известно.
— Это геномагия, — терпеливо сказала Гретель. — Даже то, что на вид словно обычное яблоко, внутри совсем не яблоко. В этом гадком лесу нет ничего съедобного, помни это, братец. Ничто здесь не совместимо с нашим метаболизмом.
Гензель не знал, что такое «метаболизм», но уточнять и не требовалось. Не дурак небось.
— Сам знаю! — отрезал он. Не хватало еще советов десятилетней пигалицы.
Тогда, утром, он еще не ощущал этой ужасной жажды, и предупреждение Гретель казалось ему пустым и излишним. Только круглый дурак осмелится съесть что-то в Железном лесу. Это то же самое, что напиться из родника, бьющего на чумном кладбище!
Но сейчас, когда жажда скручивала его своими щупальцами, а язык вместо слюны оказался покрыт слоем густой зловонной слизи, Гензель поймал себя на том, что вглядывается в попадающиеся на пути фрукты.
Они были уродливы, это верно. Какие-то толстобокие несимметричные кабачки с выпирающими то ли шипами, то ли листьями покачивались вровень с глазами, назойливо тычась в лицо. Кожистые и морщинистые изюмины, каждая — с кулак отца размером, гроздями свисали с кривых и немощных веток. Под сумрачной кроной леса то здесь, то там висели крошечные ярко-алые бусины, ну точно капли артериальной крови, повисшие в воздухе…
Гензель облизнул губы и поморщился — только хуже стало. Мысль о воде с каждым шагом все глубже проникала в голову, точно была гвоздем, шляпку которого он постоянно придавливал подошвой. Вода… В Шлараффенланде никогда не было проблем с водой. Тамошняя вода, конечно, была не очень чистой, отфильтрованной ревущими под землей машинами из подземных водохранилищ, горчила, оставляла на языке привкус смазочного масла и ржавчины, но это была вода. Ее выделялось по два литра в день на каждого взрослого мужчину и по полтора — на ребенка. Гензель редко выпивал всю свою норму — от жажды на фабричных работах, в холодных металлических цехах, редко мучаешься, скорее уж донимает непрестанный голод. Приходилось и выливать из контейнера излишки — не нести же домой, в самом деле… Сейчас Гензелю казалось, что те полтора литра настоящей, почти прозрачной воды были королевским сокровищем в сверкающем сосуде. Полтора литра!.. Да он был отдал ногу за такое богатство! Ну, может, не всю, как отец, а половину, до колена…
Гензель заметил, что стал спотыкаться и шагает так медленно, что теперь уже Гретель приходится немного отставать, чтобы идти вровень. «Ну конечно, — подумал Гензель, испытывая стыд и досаду одновременно. — У меня площадь тела больше, вот и влаги испаряю больше… Вот будет история, если я сломаюсь первым. Ох срам. Взрослый дылда, а язык тянет как старая лошадь… А может, тут в моих генах дело? Рыбьи потроха проклятые… Может, мне нельзя долго без воды? Ах ты…»
Силы уходили все быстрее, вскоре колени уже дрожали, едва выдерживая вес тела, а горло словно залили шершавым бетонным раствором. Если так пойдет и дальше, он не дотянет даже до третьего рассвета, свалится мешком под ядовитый куст еще нынешним днем.
— Сестрица… — Ох как царапает язык, кажется, стал таким же острым, как и зубы. — Я вот что подумал… Может, не все плоды здесь так опасны, а? Ну ведь не бывает такого, чтобы непременно все?..
Гретель упрямо мотнула головой:
— Все. Каждый ядовит на свой лад, но один яд другого не слаще. Нет здесь ничего того, что человек съесть или выпить сможет. Разве что ручей в лесу найдем, да и то…
Кажется, не только под язык, но и в уши набилась плотная вата. Неужели так быстро от обезвоживания слабеет слух?..
— Гретель, ну мы же животы набивать не будем, а? Ягодку где перехватит!.. мелкую… Знаешь ведь, даже среди гадов змеиных не у всякого ядовитые зубы найти можно. Наверняка тут и нормальные плоды удастся отыскать, если с головой… Ну или хотя бы не шибко ядовитые…
— Нет, — Гретель произнесла это так убежденно, что пропала всякая возможность спора. — Нету таких. Не в Железном лесу. Знаю, что тяжело тебе, братец, но надо идти. Помнишь, как нам отец прежде говорил?.. Не ешь в лесу ягодку, чудищем генетическим станешь.
— Нельзя от одной ягодки чудищем стать, — буркнул Гензель. — Это сказки — детей пугать.
— Это у тебя сказки, — обиженно сказала Гретель, тряхнув своими нечесаными белыми космами. — А здесь — всамделишная геномагия. Ягоды ведь тут особые, генетически порченные многими поколениями, внутри них любая зараза вызреть может. Даже та, которая в твой собственный генокод встроится, ты и моргнуть не успеешь! Мутантом жутким, может, и не станешь, но кровь и мясо себе на всю жизнь испортить можешь, — рассудительно сказала Гретель и протянула ему тонкую ладошку. — Пошли.
Спустя еще два часа ходьбы, когда крошечные осколки неба, запутавшиеся в грязном пологе Железного леса, стали сереть, предвещая сумерки, Гензель был готов отдать за стакан воды не одну ногу, а обе и целиком. Под язык словно сыпанули толченого стекла, в горле скрежетали жернова, а пищевод превратился в раскаленную деревянную трубу, полную сора и пыли. Пить! Во имя Человечества, пить!..
Что-то легонько ударило его по подбородку. Гензель встрепенулся, вспомнив про те тысячи опасностей, что поджидают их в Железном лесу. Хищное насекомое, вздумавшее поживиться нежной детской плотью, могло нарочно устроить засаду на ветке или… Но это был всего лишь очередной плод. Покрытый тонкой зеленоватой кожицей, он свисал на длинном черенке и так соблазнительно крутился вокруг своей оси, что Гензель на миг забыл обо всем прочем. Этот плод, явно наполненный живительной влагой, сейчас казался ему миниатюрной планетой, на миг застывшей в зоне его собственного притяжения. И планета эта, без сомнения, была прекрасна.
Гензель прикоснулся к плоду рукой и ощутил под огрубевшими пальцами податливость и прохладу. Кожица у дикого плода и правда была нежной, как у наливного яблока. Сорвать плод с ветки он не решился. Словно могла быть здесь какая-нибудь хитроумная ловушка, которая сработает тут же, как только он избавит плод от удерживающей его связи с родительским деревом.
Гензель окликнул сестру:
— Гретель… Гретель!.. Смотри, какое… — Он не закончил говорить, рот вдруг наполнился неведомо откуда взявшейся слюной. Удивительное дело: еще минуту назад он был уверен в том, что его слюнные железы навеки пересохли и атрофировались.
Гретель вздрогнула, повернувшись.
— Не ешь, братец! — крикнула она поспешно. — Не ешь!
— А то что? — криво усмехнулся он. — Мутантом стану?..
Плод выскользнул из руки и остался качаться на своей ветке — такой близкий и одновременно недоступный. Гензель проводил его взглядом, горящим от злости. Пить хотелось невыносимо. Всю содержащуюся в плоде влагу он, кажется, впитал бы одними только потрескавшимися губами, даже не закидывая в рот. Но если он и привык в чем-то верить Гретель, так это во всякие генетические штуки, особенно опасные и дрянные. Нюх у нее какой-то на такие дела, в этом он давно убедился. Как у него самого — на пролитую кровь.
Пить!.. Кажется, во всем его теле, в каждой его несчастной клеточке не осталось воды, ни единой капли, и все тело состоит из трущихся между собой костей. Ох, как тяжело переставлять ноги, каждая из которых весит по тонне… Сейчас бы лужу грязной воды — он жадно выхлебал бы ее, припав к земле, как мучимая жаждой скотина.
«В этом лесу не больше чистой воды, чем слез в глазах ростовщика, — прошептал чей-то голос. — Ты никогда не найдешь ее здесь, глупый маленький Гензель. Но ты посмотри, сколько здесь плодов!.. Они на земле, они на деревьях, они свисают вниз, и каждый из них трещит от переполняющей его влаги. Они готовы лопнуть соком прямо у тебя в руках. Они доступны, стоит просто протянуть руку… Ты ведь не будешь есть много, немощный маленький Гензель, верно? Ты ведь съешь всего один или два, так, чтоб Гретель не заметила и не волновалась. У тебя сразу прибавится сил, и ты доведешь ее до безопасного места. Ты ведь обещал отцу, что будешь заботиться о своей сестрице? Так как же ты будешь заботиться, если свалишься прямо тут?..»
Это было правдой. Одна она долго здесь не протянет. Он должен ее охранять, а для этого… Рука сама ухватила очередной плод, словно в издевке спускавшийся с ветки на уровне его лица. Большой, с кулак размером, распухший, как насосавшийся крови комар, и сам красный, как кровь, — этакий здоровенный помидор. Но Гензель отчего-то решил, что внутри он должен быть сладким, как сок, который пьют альвы в своем сказочном небесном королевстве. Пальцы, еще минуту назад беспомощные, как издыхающие пиявки, впились в плод так, что чуть не раздавили. Прижать к губам, прокусить податливую шкурку и…
— Грет… Гретель, — проскрипели сухие веревки его голосовых связок, пилящие друг друга. — Глянь… Ну смотри, какое оно… Я кусочек…
Но Гретель, едва увидела соблазнительно покачивающийся плод, вскрикнула, как при виде ядовитой змеи:
— Не вздумай, братец! — и вновь ухватила его за руку. — Там порча генетическая, понимаешь? Съешь и все, прощай навсегда. Нельзя нам их есть, никак нельзя. Потерпи еще немножко, а? Найдем ручеек чистый, там и попьем… Потерпи чуток!
Ей легко говорить. Всего одиннадцать процентов порченого фенотипа. Она не понимает, что такое нечеловеческая жажда, которая давит мысли и потрошит тело. Ее слизистые оболочки наверняка не превратились в жесткую хитиновую корку, как у него. А глаза не ссыхаются в глазницах, теряя драгоценную влагу…
Гретель указала на что-то пальцем:
— Смотри, какие тут листья. Вон там, видишь?
Гензель едва мог разглядеть собственную руку в окутавшем его грязно-сером тумане, но все-таки послушно задрал голову. Гретель показывала ему, предусмотрительно не касаясь пальцем, обычный листок. Лист как лист… Только через несколько секунд до затуманенного сознания Гензеля дошло, что лист этот, как и его соседи, здорово отличается от обычных здешних листов. Он был сморщенным, с уродливыми язвами по всей поверхности, словно искалечен одновременно множеством болезней. Но он хоть отчасти напоминал обычный лист, а не те клочья гнилого мяса, что свисали с ветвей в Железном лесу.
— Деревья здесь чище, — объяснила Гретель терпеливо. — Порчи в них меньше. Это значит, что где-то здесь может быть чистая вода. Чистое тянется к чистому, так в природе устроено.
Гензель что-то неразборчиво пробормотал, сам не понимая что. Как вода может быть не чистой?.. Даже та вода, в которой мыл копыта последний мул Шлараффенланда, сейчас показалась бы ему кристально-чистой и упоительно вкусной. Гретель просто вбила себе в голову эти генетические словечки, вот и пугает… Гензель твердо решил, что следующий плод, который ему попадется, он съест. И плевать, что будет. Съест, даже если тот окажется горьким, как адская сера, или будет наполовину состоять из кислоты. Закинет в рот, прожует, и будь что будет…
Плод попался ему на глаза так быстро, словно почувствовал слабый ток болезненных мыслей и сам выпростался из колючих, ощерившихся шипами листьев навстречу руке Гензеля. Он был не так примечателен, как предыдущие, но и в нем угадывалась влага. Сочной темной сливой он покачивался на невидимом ветру, кокетливо демонстрируя свои бока цвета застарелого кровоподтека. Пальцы Гензеля ощутили его тугое сопротивление еще прежде, чем мозг сообразил, что происходит.
Плод был в руках. Неведомый, неизвестный, но столь близкий. Первым желанием было запихнуть его в рот, пользуясь тем, что Гретель идет впереди и ничего не видит. С наслаждением сдавить зубами и впитать в себя его влагу, сдавить мякоть, высосать все соки.
Он поднес плод ко рту и сдавил пальцами, примериваясь, где укусить, когда Гретель вдруг замерла, да так внезапно, что он, переставляющий ноги с размеренностью старого ржавого мехоса, едва в нее не врезался.
— Что?.. — выдавило его иссохшее горло.
— Внизу, — кратко ответила Гретель. — Под кустами. Ох…
Шерсть. Это было первое, что он заметил. Груду грязной шерсти, свалявшейся и отвратительно пахнувшей. Как будто кто-то бросил посреди леса груду испорченных отходов с прядильной фабрики. Как начинка матраса, которая сгнила и превратилась в скользкие серые клочья. И пахло здесь как возле прядильной фабрики, только еще более остро и пронзительно. Гензель думал, что его нос утратил возможность ощущать запахи из-за обезвоживания слизистых оболочек, но оказалось, что это не так. Запах был столь силен, что горлу пришлось вновь напрячься, в этот раз для того чтобы не пропустить рвотного спазма. Гензель мысленно выругался. Да кому вообще придет в голову тащить в Железный лес груду шерстяного хлама? Ведь на деревьях не растет шерсть!..
— Бедняга, — только и сказала Гретель.
Гензель собирался огрызнуться, но тут сообразил, что слово это обращено не к нему. А к той самой груде шерсти под кустом. Осторожно приблизившись и отстранив с дороги Гретель, он присмотрелся. И ощутил, как желудок, еще недавно бывший сморщенной неподвижной оболочкой, вдруг мягкой медузой пополз вверх по пищеводу.
То, что казалось ему грудой гниющей шерсти, когда-то было живым существом. Зверем. Или не зверем, но чем-то, что состояло с ним в родстве. Гниение быстро уничтожало тело и работало над ним уже не меньше недели. Кроме того, останками занялись здешние плотоядные плющи, жадно оплетшие их своими отвратительными сизыми жгутами. Плющи неспешно насыщались, едва заметно пульсируя и перекачивая полезные вещества. Их трапеза длилась достаточно долго, чтобы уничтожить большую часть внутренностей покойника, но от внешней оболочки сохранилось достаточно много, чтобы Гензель смог составить о ней представление.
Это был не просто зверь, погибший в чаще Железного леса. Сдерживая тошноту, Гензель заставил себя присмотреться. И констатировать то, что поначалу хотелось проигнорировать, не заметить. Этот зверь, судя по всему, приходился родственником человеку. По габаритам он мог соответствовать взрослому мужчине, да и в его скелете можно было заметить нечто схожее. Кости были целы, не переломаны, они вылезали из гниющего нутра, напоминая каркас разрушающегося здания, блестящие и гладкие. Некоторые суставы были вполне человеческими, но строение бедер, позвоночника… Кроме того, при жизни существо было покрыто густым слоем шерсти, то ли белой, то ли серой. А морда…
Во имя изначальной Двойной Спирали! Гензель несколько секунд пытался понять — можно назвать это лицом или оно все-таки морда? Удлиненный костный выступ и черты костей черепа наталкивали на мысли о пасти животного, но зубы в ней были совершенно человеческими, мелкими, и Гензель, кажется, вздрогнул, рассмотрев в одном из них примитивную свинцовую пломбу. По глазам что-то понять было уже невозможно — глаз не было, в их липких остатках, как рабочие в болоте, суетливо копались муравьи. Совсем сбитый с толку, Гензель перевел взгляд на конечности, чтобы определить, чем они заканчиваются, но и тут его ждало что-то странное. Вместо животных когтей они заканчивались какими-то странными наростами, неровными, растопыренными и грубыми, смутно похожими на человеческие пальцы, только окаменевшие.
— Кто это? — И откуда только взялась слюна во рту?.. — Вулвер?
— Не вулвер, — сказала Гретель тихо, но уверенно. — Человек. Вулверы — они с волчьими мордами, и шерсть на теле у них тоже волчья, жесткая. А это… Козлиная как будто?
— Человек-козел? — глупо спросил Гензель. — Никогда не видел таких мулов.
— Он не мул.
— Такой страшный — и не мул?
— Вон браслет. Посмотри сам, братец.
Задержав дыхание, Гензель склонился над тусклым браслетом, окольцовывающим одну из конечностей. Можно было бы, конечно, и сразу сообразить, но и без этой вони голова едва соображает… На браслете были цифры. Разобрав их, Гензель похолодел.
— Двадцать два, — пробормотал он. — Чуть больше, чем у меня. Этот парень — квартерон! Но… Ведь быть такого не может, чтобы с такими огромными мутациями — и квартерон!
— Он был квартероном, когда оказался здесь, — сказала Гретель. — А вот что сделал с ним Ярнвид, я не знаю… Что-то страшное тут произошло. Каскадная трансформация фенотипа. Он…
— Он превратился в козла?
— Да, братец. И, кажется, это его и убило. Тело не выдержало форсированной деформации. Ткани на такое не рассчитаны. Видишь, как искривлены кости? Он умер в мучениях. Еще до того, как успели прорасти рога…
— Но из-за чего?
Гретель пожала худыми плечами.
— Это Ярнвид, — сказала она так, словно это слово было самым емким, универсальным и окончательным объяснением всему. — Здесь везде генетическое зло. Не знаю, как он проник в человеческое тело и как его извратил. Но не хочется стоять здесь, пошли-ка на всякий случай отсюда…
— Да, — кивнул Гензель, отворачиваясь от тела. — И верно.
Но прежде чем они успели отойти, он заметил то, чего не успел ухватить цепкий взгляд Гретель. То, что показалось ему россыпью гладких черных камешков неподалеку от распростертого тела, оказалось вовсе не камешками.
А гладкими, похожими на сливы плодами.
Деревья в Железном лесу могли быть пугающими, чудными или смертельно опасными, но вот чего они точно не могли — так это сбрасывать свои плоды в маленькие аккуратные кучки. Кто-то нарочно сгреб плоды. Кто-то, кто, возможно, успел закинуть один из них в рот и разжевать, прежде чем его пальцы вдруг отказались подчиняться и превратились в уродливые копытообразные наросты?..
Гензель разжал пальцы, и темный плод беззвучно шлепнулся наземь. Лежа на заскорузлом ковре из старых листьев, он не казался страшным. Но Гензель ощутил, как по всему телу прошла колючая ледяная дрожь. Он вытер пальцы, которые держали плод, о штаны и с тревогой рассмотрел их, но кожа казалась вполне обычной человеческой кожей, разве что грязной и расцарапанной. Пальцы не превращались в копыта, и на них не было видно густой шерсти.
Как ни странно, приступ накатившего страха смягчил иссушенную глотку и прояснил взгляд. Пошатываясь и едва переставляя ноги, Гензель побрел вслед за сестрой.
На лицо шлепнулось что-то тяжелое, мокрое, холодное. Гензель попытался оторвать его от себя, но оно намертво прижалось к его рту. Что-то злое, неведомое, явившееся из самой чащи смертоносного Железного леса, оно пыталось пробраться в ротовую полость… Гензель стиснул зубы, застонал — оказывается, это было единственное сопротивление, которое он мог оказать. Руки и ноги не слушались, а может, и не было их уже вовсе, этих рук и ног…
— Тихо, тихо, братец… — сказал кто-то знакомым голосом. — Ты не дергайся, ты пей. Тряпица мокрая, ты пей, главное…
Гензель покорился этому голосу и открыл рот. Кажется, челюсти разжались со скрежетом, точно их соединяли давно проржавевшие петли. Гензель успел подумать о том, что его открытый рот — не самая красивая картина, с такими-то зубищами… Наверно, со стороны похоже на зев капкана с ужасными лезвиями. Но Гретель никогда не считала его зубы чем-то страшным.
В рот полилась обжигающая жидкость, которая сперва показалась Гензелю то ли ужасно горячей, то ли едкой. Как будто в него заливали раскаленную кислоту. Пищевод воспротивился, желудок полыхнул огнем, зубы чуть рефлекторно не сомкнулись, и тогда то, что оказалось между ними, превратилось бы в клочки.
— Пей! — приказал голос Гретель. — Вода хорошая, почти чистая. Сейчас пройдет. Ты медленно…
Гензель стал глотать медленно, позволяя жидкости сперва наполнить рот. Сразу стало легче. Жидкость сделалась обычной водой, ничуть не горячей, только сильно отдающей вонючей тиной. Но Гензель был готов не обращать внимания на этот запах, готов был пить целую вечность. Однако желудок вновь скрутило от боли, пришлось сделать перерыв.
— В-вода чистая?.. — спросил он, тяжело дыша.
Глаза открылись сами собой. Вот он уже видит лицо Гретель, бледным солнцем нависшее над ним, уродливые кроны деревьев, похожие на сброшенные в неразобранную кучу пыточные механизмы, крошечные кусочки неба…
— Почти чистая, — подтвердила Гретель. — Я нашла маленький ручеек под камнями. Там вокруг него растения почти без порчи.
— Да хранит тебя Человечество… — Гензель сделал еще несколько глотков.
Только сейчас он сообразил, что мокрая тряпица, из которой он пьет, это платок Гретель. Сама она выглядела осунувшейся, безмерно уставшей, поперек лба тянулась прерывистая свежая царапина. Интересно, сколько колючих кустарников с ядовитыми шинами и смертельных ловушек пришлось ей преодолеть, чтоб принести своему непутевому братцу тряпицу с водой?.. Защитник…
— Ты чего? Лежи!
— Належался, — буркнул он, кряхтя. — Пора и кости размять. Какой нынче день?
— Четвертый. Утро.
Четыре дня испытания Ярнвидом. И они все еще живы. Возможно, Человечество на небесах прикрывает их невидимыми ладонями от всех опасностей. Если так, Гензель был ему благодарен, хотя в своей старой жизни церковь Извечного и Всеблагого Человечества посещал лишь от случая к случаю — после воскресных проповедей монахи часто раздавали протеиновые лепешки. Вспомнив о лепешках, Гензель погрустнел. Может, Человечество незримо и прикрывает их от опасностей, но еды от него явно не дождешься. Разве что с неба подобно дождю хлынет белковый концентрат…
— А там, где вода… Там растений съедобных каких-то не росло, часом?
Гретель вздохнула.
— Ручеек совсем крошечный, я и воду битый час набирала. Накопала немного корешков, что там росли, наверно, съедобные. Но на завтрак их не хватит.
Гензель взглянул на ее добычу и вынужден был признать, что на завтрак их не хватило бы и белке.
— Съедим немножко, — решил он, — остальное возьмем с собой. Должен же этот проклятый лес рано или поздно закончиться!
Внутренне он уже сомневался в этом. Страшные мысли бродили вокруг огонька его сознания, как мутировавшие хищники — вокруг костра в ночи. Мысли эти он пытался не обдумывать, отогнать обратно в ночь, но все-таки ухватывал их жуткие силуэты. Может, все это время они с Гретель ходят по лесу кругами?.. Может, сейчас они двигаются не к опушке, а, напротив, в гибельные топи, из которых нет выхода?.. Или вовсе лежат, одурманенные каким-то ядом, на полянке и все происходящее им только мерещится?..
«Нет, — подумал Гензель, поднимаясь. — Такой лютый голод мерещиться просто не может».
В четвертый день они даже не шли — едва ползли, как столетние старики. Овражки и корни, которые дети прежде перемахивали, не замечая, теперь отнимали невероятно много времени. Спуски и подъемы тянулись бесконечно. Лишь утолив мучившую его жажду, Гензель понял, какие муки голода терзали все это время его сестру. Четыре дня без еды, на пределе выносливости тела, в неизвестности и страхе могли подкосить и взрослого мужчину. Гретель всегда выглядела невероятно бледной, но сейчас Гензелю стало казаться, что от усталости и голода лицо ее почернело. Несчастные корешки они сгрызли почти сразу, те не дали сытости, да и не могли ее дать эти крошечные хрустящие на зубах комочки.
— Сейчас бы аминокислотного бульона, а? — усмехнулся Гензель. Время от времени он тормошил Гретель, когда та совсем засыпала на ходу и делалась похожа на мертвую, да так, что аж жутко было. — Три порции сразу, пожалуй, а?
Гретель кивала или отвечала односложно. Глядя на нее, Гензель понимал, как скверно выглядел сам вчера. Теперь был его черед тащить сестру вперед.
— А знаешь что… К черту бульон! Ноги нашей в Шлараффенланде больше не будет! Пусть Мачеха сама им зальется. Хоть утонет в нем! А мы будем жить в богатом каменном городе, где ни очередей, ни лимитов, ни нормированных выдач. Хлебать будем сразу ковшом! Представляешь, заходишь ты в трактир, кидаешь монету — а тебе уже несут… Рыба печеная, мясо копченое, пироги с почками, трюфели, спаржу и пумперникель на золотом блюде!
Что такое «пумперникель», Гензель сам толком не знал, слово это услышав случайно от шлараффенландских мальчишек, что работали на кухне одного окторона. Звучало на редкость вкусно и загадочно.
Но Гретель не отзывалась даже на «пумперникель». Она брела в никуда, опустив голову и покачиваясь на ходу. Даже наполовину безмозглые анэнцефалы, покорные слуги Мачехи, — и те больше походили на людей, чем она.
Трижды, несмотря на придерживающего его Гензеля, Гретель падала. Каждый раз она словно просыпалась, но уже через несколько минут ее охватывало прежнее оцепенение. Гензель слишком хорошо знал, чем оно заканчивается. «Голодная спячка» — так называли ее в квартеронских районах, где смерть от голода не была чем-то из ряда вон выходящим. От «голодной спячки» люди соловели, делались безразличными, сонными, вялыми, как осенние мухи. От такой спячки, как правило, уже не отходили, если не было заботливых родственников и хорошего питания. Нередко, выбираясь на рассвете из дома, Гензель видел под стенами неподвижные тощие тела, укутанные в ветхую одежду, но уже не дрожащие от ночной сырости. Те, кто уснул окончательно. И это в квартеронском районе, где нормы выдачи пищи считались научно обоснованными и высочайше утвержденными. В трущобах, где ютились мулы, «голодная спячка» встречалась чаще простуды.
Если сегодня он не найдет еды, завтра Гретель просто не сможет подняться на ноги. Осознавая эту простую мысль, Гензель грыз губы от бессилия. Раздобыть в Железном лесу что-то съедобное не проще, чем найти порченые гены у высокородного графа. Все, что здесь живет, изувечено генетическими болезнями, порчей и мутациями. Все жители этого леса отравлены, несъедобны и отвратительны. Но ему придется что-то раздобыть — или завтра продолжать путь в одиночку.
— Посиди немного здесь, — сказал Гензель Гретель, помогая ей сесть на поросшую мхом кочку. — А я пройдусь немного.
— Угу, — кивнула Гретель.
Ему надо найти пропитание. И сделать это как можно скорее.
Гензель усмехнулся, уже не опасаясь испугать кого-то своими обнаженными зубами. Мальчишка с ножом идет на охоту в Железный лес? У муравьев было бы больше шансов вернуться с охоты с коровой. Вспомнилось старое отцовское ружьишко. Било оно слабо и не очень-то метко, но с ним было бы спокойнее.
«Ничего, — успокоил он себя. — Похожу часок по окрестностям — вдруг попадется что-то похожее на обычного зверя. Хоть бы и белка какая-то…»
Но в лесу, не схожем с лесом, не водились звери, похожие на зверей. Гензелю приходилось отмечать это на каждом шагу. По коре ближайшего дерева ползла вверх бурая скользкая клякса — то ли разумное существо, то ли бездумная амеба. «Если она и похожа на зверя, то только на такого, по которому проехал автотранспортер, — безрадостно подумал Гензель, бессмысленно вертя в руках нож. — Нет, из него, пожалуй, завтрака не получится…»
Тихонько пощелкивая, по земле пробиралось существо, состоящее, казалось, из одних только щупалец, зато на любой вкус. Тут были и тонкие, беспокойно вертящиеся щупальца, и коренастые отростки цвета артериальной крови, и липкие волочащиеся хвосты. Эту штуку Гензель обошел подальше. Наверняка ядовита, иначе и быть не может. Ох, были бы у него глаза Гретель, способные все подмечать… Но именно Гретель сейчас нужна помощь. Его помощь.
Следующий встреченный им зверь оказался столь большим, что Гензель мгновенно оцепенел, прижавшись к стволу дерева. Кряхтя и ворча, зверь пробирался сквозь чащу, и деревья, казавшиеся цельнолитыми, взрывались щепками на его пути. Огромные лапы, одновременно неуклюжие и странно грациозные, словно вывернутые в суставах, прорубали себе дорогу. Лапы эти были покрыты то ли чешуей, то ли мехом — Гензель не хотел оказаться к чудовищу настолько близко, чтобы это выяснить. Он даже не догадывался, где у того голова: на торсе неведомого уродца было несколько огромных опухолей, из которых свисали жесткие жгутовидные усы, и каждая из них могла оказаться головой. Слепо или руководствуясь каким-то инстинктом, зверь двигался не в ту сторону, где ждала Гретель, и Гензель возблагодарил за это Человечество. Верно говорят — только дураки охотятся в Железном лесу… Он отошел, стараясь шагать как можно тише, и зверь вскоре удалился по своим делам, так его и не приметив.
Нужно искать что-то поменьше, решил Гензель. Кроме того, нехудо бы двигаться подальше от подобных просек и держать уши открытыми. В здешнем смешении цветов и красок зачастую только слух может подсказать тебе, в какую сторону драпать.
С мелкими животными дело тоже не задалось. Гензель выслеживал их у корней деревьев, в ямах и оврагах, иногда даже в зарослях, но все они выглядели настолько неестественно, что брезгливость побеждала голод.
Что-то похожее на бескрылую муху, с жадно чавкающим хоботком и беспокойно вертящимися глазами-стебельками, попалось ему на огромном листе. Гензель уже собирался было ткнуть ее ножом, но та, мгновенно ощутив опасность, вдруг прыснула во все стороны капельками ярко-голубой жижи, от которой поверхность листа испустила сотни извивающихся дымных струек. Кислота!.. Гензель вовремя отскочил и связываться с подобными существами больше не рисковал. Себе дороже.
Затем ему попалось не очень большое существо, поросшее жестким оранжево-серым волосом, с длинными и многосуставчатыми, как у паука, конечностями, которыми оно впилось в дерево. Существо равнодушно рассматривало все происходящее внизу жутковатыми глазами, которые выглядели словно надувшиеся белые пузыри. Морда была бы похожа на обезьянью, если бы не жвалы, торчащие из пасти. Гензель уже собирался было подобрать осколок камня и метнуть в него, но тут обезьянопаук зашевелился и, подтянувшись, легко переломил своими тонкими лапками, которых было не менее десятка, ветку дерева толщиной с ногу Гензеля. С существом, наделенным подобной силой, связываться, имея при себе лишь нож, Гензель счел безрассудным.
Спустя несколько часов безуспешной охоты ему пришлось сделать неутешительный вывод: охотиться на дичь в Железном лесу было сродни попытке засунуть наугад голову в глубокую и темную нору, не зная, кто там обитает. Существа Ярнвида, безобразно изуродованные и искаженные, были той формой жизни, о которой он не знал ровным счетом ничего. Их внешний вид и поведение ничего ему не говорили, и только врожденная осторожность позволила ему сохранить жизнь и не получить увечий, потому что в здешних гибельных краях даже самая мельчайшая тварь могла оказаться смертоносной ловушкой.
На его глазах мотылек размером с чашку, оказавшись в пасти мелкой чешуйчатой твари с тремя несимметричными черными глазами, одним незаметным взмахом тончайших усиков рассек ее на несколько дергающихся частей. Подобие птицы, которое можно было бы даже принять за птицу, не будь у него двух деформированных голов, слитых воедино и глядящих в разные стороны, увлеченно порхало над распространяющими гнилостный запах цветами, но ровно до тех пор, пока под ним не оказался какой-то ползучий извивающийся гад. «Птица» с быстротой падающей капли спикировала вниз, перья ее еще в падении стали разворачиваться, обнажая торчащие между ними полупрозрачные изломанные шипы. Добыча мгновенно оказалась пригвожденной к земле — и извивалась еще некоторое время, пока «птица», покачивая своими сросшимися головами, деловито пировала ее потрохами.
Здесь все было не таким, как казалось. Пороки плоти и генов смешали все сущее здесь в безобразный коктейль, в котором человеческий глаз не мог найти ни одной понятной или знакомой детали. Здесь все было чужим, опасным и отвратительным.
Гензель не собирался сдаваться. Упрямо стиснув зубы, он продолжал свою охоту, понимая, что шансов быть разорванным какими-нибудь щупальцами, лапами или когтями у него гораздо больше, чем шансов раздобыть что-то, совместимое с человеческим метаболизмом. Из обломанной ветки при помощи ножа он выточил копьецо, не очень прочное, но, по крайней мере, достаточное для того, чтобы поразить добычу с нескольких шагов.
В какой-то момент ему даже показалось, что небесные альвы вновь прикоснулись к нему своей дланью. В тени густого дерева, чьи ветки выглядели как загнутые вверх черные крючья, он нашел издыхающую тварь, которая не выглядела опасной. Тело ее, округлое и приплюснутое, было защищено чешуей из полированных костяных щитков. Но судя по всему, эта естественная броня не помогла ей в схватке — в нескольких местах она зияла разломами, сквозь которые тек мутный ихор. Тварь едва заметно дергалась и, кажется, не собиралась долго оставаться в живых. Кратко помолившись, Гензель набрался духу и пырнул ее копьем в подбрюшье, на всякий случай сразу же отскочив.
Тварь не вскрикнула, не зашипела. Резко вскинув треугольную безглазую голову, она несколько секунд покачивала ею из стороны в сторону, после чего мгновенно обмякла.
Мертва.
Однако эта удача обернулась жестоким разочарованием. Гензель потратил полчаса и едва не сломал нож, вскрывая ее бронированный панцирь, но лишь за тем, чтобы убедиться: это не та добыча, которая подойдет человеку. Вместо костей, мяса, потрохов и всего того, что обыкновенно помещается в теле человека или животного, тварь из Железного леса была наполнена черт знает чем.
Выпотрошив ее, Гензель обнаружил прозрачные пузыри, полные густой голубоватой слизи, какие-то волосяные обрывки в мелких почках, точно бусы, губчатую и ужасно смердящую массу, бесформенные костяные осколки и еще что-то густое и мучнистое, медленно растворяющееся…
Гензель бросил безнадежное дело и с отвращением вытер нож о траву. Даже последнему тупице было бы ясно, что это существо просто не предназначено для употребления в пищу человеком, пусть даже и квартероном. Наверняка Гретель сказала бы это сразу, как только увидела умирающую тварь…
Надо возвращаться. Заставить Гретель подняться на ноги, пусть даже и силой, и тащить ее дальше. В этом лесу они не найдут пищи, лишь свою смерть. Гензеля передернуло, когда он подумал о том, что здешние обитатели как раз могут найти человеческие тела вкусными и питательными. Возможно, они с сестрой еще будут живы, когда к ним потянутся тонкие лапки, а острые жвалы вопьются в беззащитную кожу…
— Хрена вам коровьего, а не крови горячей! — буркнул Гензель, поднимая копье.
Когда они с Гретель не смогут ни идти, ни ползти, он сам предпримет все необходимое. Сперва рассечет вены ей, потом себе. Дело нехитрое, человеческое тело просто устроено, не спутаешь…
Новый, непривычный звук он ощутил лишь на обратном пути. Может быть, звук этот был слышен уже долгое время, но только сейчас, когда Гензель оказался предельно вымотан и опустошен, сигнал сделался доступен для человеческого уха. В Железном лесу было множество звуков, и некоторые из них он уже научился автоматически определять как источник опасности. Но этот звук был новым, не похожим на все предыдущие. Сперва он даже сомневался, не шелест ли это ветра в кронах. Но деревьев Железного леса редко касался ветер, воздух тут, под грязно-серой листвой, был стоячим, как на болоте. Не ветер.
«Дыхание, — подумал Гензель. — Как будто сопит кто-то».
От этой мысли сделалось неуютно, даже сквознячок возник между лопатками. Несмотря на то что звук был приглушенным, почти даже неслышным, Гензель понимал, что доносится он издалека, да еще и искажается лесом. А значит, кто бы это ни дышал, он должен быть велик. Очень велик.
— Тролль!.. — прошептал Гензель и сам же хлопнул себя ладонью по лбу. Даже среди троллей нет дураков блуждать в чаще Ярнвида. Можно подумать, мало здесь своих чудовищ, огромных и способных грозно сопеть. Просто им с Гретель пока везло…
Гензель несколько минут напряженно вслушивался, готовый броситься бежать в любую секунду, стоит лишь треснуть ветке под тяжеленной лапой или мелькнуть между деревьями уродливой туше. Но ничего такого не происходило. Более того, размеренный ритмический звук мало-помалу стал успокаивать. Это дыхание, если, конечно, оно было именно работой легких, было дыханием чего-то спящего.
Спящий великан?.. Глупости, Гретель всегда говорила, что великанов не существует. Есть, конечно, здоровенные дылды, на которых генетическая порча, какие-то там грамоны не те организм вырабатывает, но таких, как в сказках, с каланчу размером, точно не бывает. Даже здесь, в краю немыслимого и невозможного, извращенного и чудовищного.
«Проверю, — подумал Гензель, холодея от собственной наглости. — Просто подойду чуть-чуть и гляну одним глазком. Может, мерещится все от голодухи, никого тут нет, а просто ветер камням спины чешет. А если и есть — что ж, от взгляда-то он не проснется!»
Идти пришлось не очень долго — чуткий слух позволял Гензелю верно угадывать направление. Как он и думал, источник звука приближался с каждым шагом. Вскоре его уже невозможно было спутать с ветром. Ну точно дыхание! Медленный протяжный «Вуу-у-у-ух!» — это, значит, вдох, и через некоторое время выдох — «Ф-фвы-ы-ыых!». Отец похоже дышал душными летними ночами под одеялом в их крошечной комнатушке. Только отец еще хрипел во сне и перхал, а лесной великан дышал так легко и свободно, словно легкие его были из горного хрусталя.
Спустя некоторое время Гензель сообразил, где должен располагаться источник звука. В плотных зарослях какой-то местной дряни, чьи сморщенные листья были покрыты жирными желтыми потеками, как от горелого сала, скрывалась ложбина. Судя по всему, немаленькая. Оттуда и доносился звук. Замирая после каждого шага, Гензель приблизился. Вот сейчас размеренное дыхание внезапно прервется, раздастся резкий треск веток — и из ложбины вынырнет голова, огромная, как замок, с налитыми яростью глазами, и каждое — размером с озерцо…
То, что находилось в ложбинке, скрытое густыми зарослями, было, без сомнения, огромно, даже стоя по другую сторону от кустов, Гензель отчетливо чувствовал движение воздуха, точно стоял возле работающего двигателя. Но это что-то явно спало. Гензель решительно взялся за ветви.
Прикосновение к листьям было неприятным, они липли к коже, за ними тянулись белесые нити слизи, мгновенно испачкавшие одежду. Да и пахло здесь как из протухшей консервной банки… Но Гензель продолжал работать руками, время от времени пуская в ход нож, чтоб справиться с самыми неудобными ветвями.
«Спокойно! — приказал он себе, когда почувствовал, как слабеет сопротивление ветвей. — Может, в этой ложбине ты увидишь что-то такое, от чего у тебя глаза на лоб полезут. Не вздумай закричать или пуститься наутек!»
И все-таки, раздвигая последнюю преграду, Гензель корил себя за проклятое любопытство.
«У любопытной Бабетты нос распух», — поговаривали старики в Шлараффенланде. Жила ли эта Бабетта когда-либо в самом деле, Гензель точно не знал. Говорили, она работала служанкой у могущественного геномастера и пользовалась почти полным его доверием, несмотря на врожденное и неискоренимое любопытство, нередкое среди прислуги. Однажды геномастер вручил Бабетте контейнер, наказав отнести в замок местного тригинтадуона. «Да только смотри, контейнер не открывай!» — наказал он ей, и Бабетта двинулась в путь. К несчастью, ее любопытство раздувалось с каждым пройденным шагом все больше и больше. От рождения испытывая страсть к генетическим чарам, она места себе не находила, гадая о содержимом контейнера. Наконец она сдалась и решила всего самую малость приоткрыть герметичную крышку контейнера и одним глазом заглянуть внутрь. Но как только она это сделала, из контейнера вырвались помещенные туда генетические чары — и нос ее, вдохнувший их малую толику, стал огромным, как арбуз. Любопытство Бабетты сыграло злую шутку не только с ней. Запертые в контейнере геночары расползлись далеко окрест, превратившись в целое сонмище генетических болезней и проклятий. Гензель подозревал, что история это выдуманная, но чувствовал также и то, что его собственное любопытство может принести не меньше горя. Тут, пожалуй, и оторванным носом не отделаешься…
Гензель выглянул из кустов. Ложбина, поросшая по краю зарослями, и в самом деле оказалась велика. Пожалуй, вместила бы в себя половину городского квартала. Этакая чаша, утопленная в чреве Железного леса. Но чтобы найти источник звука, Гензелю не потребовалось долго ее рассматривать. Потому что источник этот находился прямо у него перед глазами. И не заметить его он не мог, даже если бы глаз и вовсе не было.
То, что он увидел, оказалось невообразимо.
Невозможно.
Он услышал, как клацнули его собственные зубы — судя по всему, мышцы челюсти рефлекторно сократились. Хорошо еще, язык не откусил… Не в силах оторваться от открывшегося зрелища, Гензель попятился. Это было… Чарующе и необычно. Жутковато и прекрасно. Проще говоря, это было нереально — нереально, как и все остальное в этом лесу. Но нереальность того, что находилось в ложбине, была особенного рода. Это была самая странная нереальность на свете.
Может, это творение солнцеликих альвов?.. Но те не избрали бы сумрачный Ярнвид, сочащийся генетическим грехом, местом своего обитания.
Почувствовав, что глаза начинают слезиться оттого, что он долго не моргал, Гензель наконец нашел в себе силы оторваться от необыкновенного зрелища и нырнуть в кусты.
Обратный путь он преодолел за считаные минуты. Бежалось на удивление легко, возбуждение подгоняло короткими электрическими разрядами, от которых мышцы наполнялись позабытой уже силой. И даже голод как будто бы сделался не таким уж и досаждающим.
Гретель сидела там, где он ее оставил, и в прежней позе. Ссутулившись, мертвым взглядом смотрела в землю, и глаза ее, прежде напоминавшие прозрачные горные родники, выглядели пустыми стеклышками. На миг Гензелю показалось, что сестра мертва — просто тихо испустила дух, сидя здесь, на поляне леса, — и сердце от испуга хрустнуло, как попавший под колесо осколок льда. Но Гретель была жива, пусть и обессилена. Услышав шумное дыхание брата, она с трудом подняла голову и даже улыбнулась. Улыбка была слабой, вымученной, но и такая заставила свалиться с души Гензеля многотонный валун.
— Сестрица! — Он торопливо присел рядом. — Слушай, что расскажу! Не поверишь, что я в лесу нашел.
— Что? — спросила она беззвучно, одними губами.
— Это… — столкнувшись с необходимостью описать ей то, что видел сам, Гензель только теперь сообразил, что даже не представляет, с чего начать. — Это… Штука, в общем. Сумасшедшая штука. Но особенная, понимаешь? Я такого прежде… В общем, это как бы мясо.
— Мясо? — В прозрачных глазах Гретель не возникло удивления. Должно быть, даже удивление требует наличия у организма каких-то сил, а их у нее уже не было. — Ты нашел мясо?..
— Мясо. Плоть.
— В лесу?.. На земле?
— На земле, но как бы… О Человечество, ну как тут объяснишь… В общем, это целая гора мяса. Огромная, как трехэтажный дом. Только, видишь ли, это не совсем мясо. Оно как бы… живое.
Вот теперь он увидел в ее глазах удивление. Гретель нахмурилась — так, как обычно хмурилась, встречая в книге сложную страницу, от количества мудреных знаков на которой у Гензеля обыкновенно темнело в глазах. Гретель никогда не перелистывала такой страницы. Она хмурилась и смотрела на нее до тех пор, пока в конце концов лоб ее не разглаживался и она не улыбалась. Тогда она переворачивала ее и читала следующую.
— Живая гора плоти! — выпалил наконец Гензель. — Я не знаю, что это за чертова геномагия, но само по себе такое появиться не могло. Это куча плоти, которая… Кхм… В общем, оно живет. Дышит. Я видел его вблизи. Это как бесформенная куча, в которой все вместе, как в теле, только тело это не человеческое и не звериное. Каркас там из огромных костей, которые удерживают все вместе. А между ними — мышцы, хрящи, вены, артерии… Оно дышит, сестрица! И кровь в нем бегает.
— Это какое-то животное, должно быть, братец.
— Нет! — сказал Гензель с уверенностью, которая взялась в нем непонятно откуда. — И вовсе это не животное. У него ни головы нет, ни рук, ни ног. Ничего, одним словом, кроме внутренностей. Просто огромный живой ком мяса с гору размером. Представляешь себе? У меня аж дух перехватило…
Гретель думала недолго.
— Пошли туда, — сказала она, вставая. Покачнулась, едва не лишившись равновесия, но осталась стоять на ногах. Туфли ее были сбиты и едва держались, чулки давно висели лохмотьями, но, судя по всему, она действительно была готова идти.
— Зачем? — не понял Гензель. — Ты что, сестрица? Я сам туда сунуться не решился, а тебя-то вести… Я не знаю, что это за штуковина такая и как она тут появилась, только вот рисковать и соваться к ней в пасть я не хочу.
— Ты же сказал, что нету головы?.. Какая же пасть?
— И знать не хочу, где у нее пасть! Не наше это дело, Гретель. Уйти бы нам по-хорошему и забыть про эту штуку.
— Нет. — Она мотнула головой. — Идем к ней.
— Да зачем?!
Она взглянула на него так, что он почувствовал себя не старшим, а младшим братом. Трудно глядеть в такие прозрачные глаза, особенно когда в них выражение легкой досады на чужую несообразительность.
— Разве ты не понял, братец?.. — проговорила Гретель с трудом, еле слышно. — Сам же сказал… Мышцы, кости…
— Ну сказал…
— Ты ведь сразу понял, что это мышцы и кости?
— Ну конечно, сразу! Что я, дурак, что ли, мяса от соломы не отличу?
— А у животных из леса здешнего ты что-то похожее видел?
Тут до него дошло. О Человечество, какой остолоп! Оставь его отец меж трех сосен — и то заблудился бы, пожалуй.
— Ты имеешь в виду, сестрица… Ух!
— Да, — устало улыбнулась Гретель. — Если это мясо похоже на наше мясо, мы, наверно, можем его есть. Оно может быть совместимо с нашим метаболизмом.
— Но оно лежит посередке леса! Откуда оно здесь взялось? И как выросло до таких размеров?
— Это мы узнаем потом, братец. Пока мы знаем только то, что тут, в лесу, может жить что-то, что генетически как-то связано с нами. Если может оно, сможем и мы.
«Она права, — подумал Гензель. — Волосы белые — вот и голова светлая. Откуда бы здесь ни оказался этот шмат дышащего мяса, он нам почти родственник. Ну, по сравнению со здешней нечистью. Он, если подумать, нам больше чем родственник…»
Он молча протянул Гретель руку и больше не проронил ни слова, пока они не оказались у окаймлявших ложбину зарослей. Они потратили на этот путь в пять раз больше времени, чем он в одиночку, но эта трата времени никому из них не казалась напрасной.
— Здесь придется продираться, — предупредил он. — Давай за мной, я тут просеку соорудил…
Колючие ветви кустарника довольно шипели, выхватывая из волос Гретель целые пряди, но все равно не смогли ее задержать. Она пробиралась вслед за братом с совсем не детской целеустремленностью. Однако когда увидела то, что видел он, она замерла в молчаливом потрясении.
Гензель и сам не мог проронить ни слова, даром что видел эту штуку во второй раз. Пожалуй, подойди он к ней сто раз, все сто и замирал бы с открытым ртом, как истукан.
Больно уж штука эта была грандиозна.
Она и в самом деле была большой, как дом, и побольше того, в котором они жили в Шлараффенланде. Пожалуй даже, с целую церковь, даже если считать ее шпиль, увенчанный на конце символом Двойной Спирали. От отца Гензелю доводилось слышать про слонов, жили когда-то на земле такие огромные существа с хвостами на морде, как у некоторых нынешних мулов. Их изображений Гензель не видел, но сразу решил, что внутри этого куска мяса могло бы поместиться несколько сотен этих самых слонов.
Багровые волокна мышц лоснились на солнце, образовывая бесформенные, непонятные и причудливые переплетения сродни хаотическому узору. Здесь не было привычной человеческой геометрии, прямых углов и четко очерченных границ. Бесформенная шишкообразная гора — такой она предстала перед ними.
«Не гора, — поправил Гензель сам себя, задрав голову и разглядывая это лесное чудо. — Это тело. Живое существо огромного размера».
Это и было телом. Огромным дышащим бесформенным телом, раскинувшимся в лесной ложбине.
Грудой живого мяса.
Откуда оно взялось здесь? Гензель, хоть и не знал ни единой геномагической формулы, готов был поставить на кон половину своего генома — эту штуку не мог породить Железный лес. Слишком чуждой ему она смотрелась.
Пронизывающие толщу плоти вены казались гудящими трубопроводами, они образовывали сложную сеть с гроздьями багровых, как сладкий виноград, капилляров. Кости выступали там и тут, поддерживая все эти тонны тканей. Размер у этих костей был исполинским, но в то же время Гензель не мог представить себе животного, которому они могли бы принадлежать, — кости подчас скручивались под самыми невозможными углами, которые не могут пригодиться ни одному живому организму. Эти кости были уместны только здесь, они служили естественными опорами и креплениями, и Гензель был уверен, что кости эти возникли не просто так, что чей-то умысел — знать бы только чей! — расположил их в определенном порядке, как зодчий располагает систему опор и колонн.
Между слоями плоти можно было разглядеть внутренние органы, некоторые из них вздувались и опадали, а другие были практически неподвижны. Органы были расположены повсюду без всякой видимой системы и, видимо, все функционировали. Гензель четко видел вылезающий край печени, лоснящийся, скользкий и коричневый. Возможно, здесь было даже несколько печенок, в этом он не был уверен. Зато четко различал вздувающиеся и опадающие купола легких на самом верху, тоже совершенно нечеловеческой формы, но выглядящие отчего-то естественно в этой жуткой мешанине тканей.
На поверхность мясного пирога тут и там выступали кишечные трубы, такие большие, что внутри них Гензель, пожалуй, мог бы пройти не сгибаясь. Он не знал, что перекатывается в этих трубах, откуда и куда они ведут, но выглядели они не менее внушительно. Гензель даже не знал, что вызывает его потрясение больше — то, что вся эта плоть оказалась здесь, в Железном лесу, или то, что в ней каким-то образом поддерживается жизнь.
— Давай обойдем кругом, — предложила Гретель, — я хочу посмотреть со всех сторон.
На мясную гору она взирала блестящими от восхищения глазами, но впадать в ступор отнюдь не собиралась.
Они обошли гору, потратив на это добрых полчаса, столь огромна она оказалась во всех направлениях. Сперва шли с опаской, держась за руки, потом уже забыв про предосторожности. Почти сразу выяснилось то, что Гензель подозревал с первого момента: у этого существа, если оно, конечно, было существом, не было ни головы, ни глаз, ни лица — словом, ничего того, что позволило бы считать его человеком хоть в какой-то степени. Этот вопрос занимал Гензеля с самого начала, он сам не знал отчего. Наверно, если бы груда мяса была в родстве с человеком, к ней стоило бы испытывать определенное почтение. В конце концов он не выдержал:
— Сестрица, так что это?
— Не знаю, — беззаботно сказала Гретель. — Но ты прав, оно живое. Оно функционирует. И еще оно теплокровное.
— Уж точно живое! Я имел в виду — из чего оно состоит? Чьи это органы, человеческие или нет? Может, животные какие-то?
— Тоже не знаю. Некоторые похожи на человеческие, а другие — нет. А некоторые вообще очень странные.
— Это уж я заметил, — проворчал Гензель. — Треугольных легких у человека точно не бывает.
— Не в этом дело. У мулов бывают и треугольные, и даже по шесть штук легких. Ткани очень похожи на человеческие… Хотя органы, братец, сильно увеличены и стоят в странном порядке. Это как… Ну как будто кто-то хотел собрать человека из разных его частей, точно в детском конструкторе, но сложил их не в том порядке.
Конструктор?.. Да, пожалуй, в этом что-то было. Жуткий конструктор, собранный слепым или безумным существом. Гензель попытался представить возможности такого существа и ощутил едва ли не религиозную дрожь сродни той, что охватывала его обыкновенно в храме Человечества.
Именно так. Кто-то попытался собрать из частей великана, но не прочитал инструкции. Кости он соединял бездумно, ткани сращивал наугад, внутренние органы наращивал в случайном порядке. Но человека не получилось. Получился огромный ком живой материи. И кто-то разочарованно махнул на него рукой и ушел, оставив плод своего неудачного труда брошенным в лесной чаще.
Но был еще один важный вопрос, ответ на который, пожалуй, могла дать только Гретель.
— Оно способно думать? Оно чувствует боль?
— Не знаю. — Она вновь покачала головой. — Тут нужны инструменты. Много инструментов. Анализы, пробы. И даже с ними… Не знаю, братец.
Гензель теребил без всякого смысла нож, не решаясь открыть его. Он был порядком смущен, хоть и не хотел демонстрировать этого перед сестрой. С одной стороны, перед ними возвышалась настоящая мясная гора. Без всяких анализов и проб Гензель готов был поручиться за то, что розовое мясо, выпирающее со всех сторон, влажное, пронизанное сосудами и лоснящееся — это действительно самое настоящее мясо. Он видел такое — в витринах мясных лавок шлараффенландских окторонов. Квартеронов, конечно, в такие лавки даже на порог не пускали, но ловкий мальчишка всегда найдет способ подсмотреть или даже понюхать. Без сомнения, это было самое настоящее мясо: съедобное, богатое белками и микроэлементами, сочное. Здесь его было настолько много, что поневоле кружилась голова — половина города могла набить себе живот.
С другой стороны… Гензель нерешительно переступил с ноги на ногу. Это было живое мясо. Не парное, а живое, в полном смысле этого слова. Живая ткань, напитанная циркулирующей кровью. Как вонзить в такую нож? Это ведь будет сродни ампутации плоти у живого человека.
«Это не человек, — напомнил себе Гензель, но решимости от этого больше не стало. — Представь, что это лабораторный образец, выращенный в пробирке. Ничего не чувствует, ничего не понимает. Как катышки Гретель…»
Нож в руке с готовностью щелкнул, открываясь.
— Сейчас добуду тебе образцов, — пообещал Гензель, делая первый, самый нерешительный шаг. — Поджарим их и съедим эти образцы. А потом и думать будем.
— Мясо выглядит чистым, — сказала Гретель. — Надо попробовать…
Несмотря на то что мясная туша выглядела ничуть не грозно, Гензель долго примеривался, как бы полоснуть по ней ножом. Она была столь велика, что вблизи он чувствовал естественную робость, почти страх. А вдруг у этой мясной горы есть цепь тонких и быстро реагирующих нервных окончаний?.. Ощутив боль от укола, она может проснуться и продемонстрировать, есть ли у нее разум.
Но голод оказался штукой посильнее страха, он уверенно загнал все страхи вглубь, и рука с ножом перестала дрожать.
Гензель вздохнул поглубже — и провел острым лезвием по мясной складке с жировыми вкраплениями, что свисала ближе всего. Ломоть мяса отделился неожиданно легко, из чистого разреза вылилось немного крови, отчего его ноздри сами собой затрепетали. Запах крови, ужасно тревожный, знакомый и мощный, заставил его оцепенеть. Акулье чутье, как называл его отец, еще один дар порченого фенотипа.
Гензель готов был проворно отскочить в сторону, стоит лишь мясной туше шевельнуться или издать какой-нибудь звук.
Но ничего не произошло.
Никто не взвыл от боли, не дернулся, не закричал. Мясная туша продолжала безразлично рокотать, загадочные процессы, текущие в ее недрах, не прервались ни на секунду.
— Просто колбаса, — с невыразимым облегчением сказал Гензель. — Эта штука — просто огромная колбаса! Ох и пир же мы с тобой закатим!..
Повозившись, он отсек давно затупившимся о плоть Железного леса ножом несколько увесистых мясных кусков. От одного только прикосновения к ним рот наполнялся тягучей сладкой слюной.
Сперва резать было жутковато: в конце концов, он отрезал мясо у живого существа, пусть даже и бесчувственного. Но он быстро приноровился. От свежего мяса шел такой невообразимый аромат, что только присутствие Гретель удержало его от того, чтобы сожрать мясо сырым. По рукам текла кровь, теплая, пахнущая так упоительно, что акула внутри Гензеля лишь плотоядно скалилась.
У него хватило терпения найти подходящую древесину, лишенную шипов и колючек, сломать несколько веток поменьше и развести небольшой костерок. Насаженные на импровизированные вертелы сочные мясные куски зашипели, роняя в огонь капли жира.
После четырех голодных дней у них наконец-то была еда. Глядя на то, как мясо подсыхает и покрывается румяной поджаристой корочкой, Гензель думал лишь о том, как бы не свалиться в обморок. Они не смогли дождаться, когда мясо приготовится, съели его полусырым.
Они рвали нежнейшие волокна зубами, захлебываясь мясным соком, тихо стонали, рыгали и хватали все новые куски. Гензель чувствовал себя диким зверем, терзающим добычу. Даже Гретель, евшая обычно медленно и с недетским достоинством, преобразилась. Ее бледные щеки и губы заалели от запекшейся крови, глаза сверкали.
«Мы точно дикие вулверы, — подумал Гензель, ощущая приятную тянущую боль в животе, которая сигнализировала о том, что желудок больше не пуст. — Жрем, жрем и жрем… Ох Человечество, до чего вкусно!»
Им не хватило одной порции. Чувствуя себя опьяневшим от еды и немного пошатываясь, Гензель отсек еще несколько больших ломтей. Их они тоже съели, без прежней животной жадности, но с такой поспешностью, которую отец едва ли одобрил бы во время трапезы. Только после третьего раза они утолили терзавший их голод и смогли дождаться, когда мясо как следует поджарится. В этот раз они уже старались не спешить, но воспоминания о проведенных в Железном лесу днях и о голоде будили дремлющие рефлексы — и зубы вновь жадно впивались в мясо.
Там, где Гензель отрезал мясо, в туше осталась глубокая кровоточащая впадина, но это никак не сказалось на поведении мясной туши. Она все так же размеренно дышала, не ощущая ни боли, ни каких бы то ни было неудобств. Гензель собирался было отрезать мяса и в четвертый раз, но обнаружил, что тело размякло настолько, что едва способно шевелиться, а голова от сытости полна сладкого тумана. Он развалился возле костерка кверху животом. В этот миг блаженства даже проклятый Ярнвид показался ему не столь зловещим и отвратительным. Пожалуй, не так он и страшен, если подумать…
Впрочем, несмотря на сытость, искра здравого рассудка все еще тлела в сознании. Пожалуй, нечего на ночь глядя отходить далеко от мясной глыбы, их спасителя и благодетеля. Во-первых, объевшиеся и сонные, они сами могут стать легкой добычей для здешних жителей. А те слопают детей с не меньшим аппетитом. Во-вторых, гора из мяса уже доказала свою безопасность, ее общество больше не пугало. Была и третья причина, которой Гензель не хотел бы озвучивать. Вдруг исполинский запас еды пропадет, стоит им отойти подальше?.. Он понимал, что это глупо, что гора плоти не может убежать или провалиться под землю, но ничего не мог с собой поделать, страх потерять весь провиант оказался живуч и силен.
А может… Гензель задумался и думал несколько минут.
— Давай не станем никуда идти, — предложил он Гретель. — Останемся жить здесь, а? Заживем как сущие тригинтадуоны! Да что там тригинтадуоны, как короли заживем! Мы же тут можем до конца жизни есть, подумай! Гора мяса! Нам этого за всю жизнь не съесть, хоть каждый день обжирайся!
Гретель, лицо которой немного порозовело, клевала носом — обильная жирная пища подкрепила ее, но клонила в сон. Ее белые как снег волосы местами были перепачканы кровью, местами землей и выглядели плачевно, но взгляд ничуть не переменился. Глядя в эти глаза, Гензель всегда невольно ощущал себя мальчишкой, заглядывающим в прозрачный пруд невероятной глубины, полный ледяной воды.
— Хорошо бы, братец, — пробормотала она. — Чистое мясо, хорошее мясо… Только не гора это вовсе.
— Не гора? — удивился Гензель. — А что?
— Симбиотический футляр, — сказала она так просто, словно говорила очевиднейшую в мире вещь. — Экзоорганизм. Ну или просто дом.
Гензель некоторое время молчал. Это было нетрудно — сытая нега, сковав члены, связала и язык. Но беспокойную мысль, шмыгающую серой мышкой внутри черепа, остановить было куда сложнее.
— Какой еще дом?
— В котором живут.
— Это — дом? — растерялся Гензель. — Это как же, дом из мяса, что ли? Живой дом?
— Дом из мяса, — подтвердила Гретель. — Посмотри вон туда…
Кажется, она указывала на участок «стены», располагавшийся почти вровень с землей неподалеку от них. Гензель не увидел ничего примечательного, но присмотревшись, понял, что зоркие глаза сестры и тут опередили его собственные. Там, где указывала Гретель, в багрово-алой туше мясной глыбы можно было различить почти идеальный круг, выдающийся из мышечной ткани. Он был словно покрыт кожей, сероватой и складчатой, стягивающейся к центру. Судя по размеру, прикинул Гензель, эта штука была на голову-две выше него самого. Удивительно, что он не приметил ее прежде.
— Что это? — настороженно спросил он.
— Сфинктер.
— Чего?..
— Дырочка в теле, — помедлив, чтобы подыскать подходящие слова, пояснила Гретель. — Такая круглая мышца. Она открывается и закрывается. Этот дом не выводит отходов, ведь тут совершенно чисто. Значит, сфинктер нужен для чего-то другого. Я думаю, туда можно войти.
— Войти внутрь этой туши? Как в дверь?
— Угу. Как в дом.
Гензель попытался это обмозговать, но мысли совсем обленились, сбились в кучу, как сонные овцы.
— Не все то, где есть дверь, считается домом, — наконец заявил он. — Отчего ты взяла, что этот мясной пирог — непременно дом? И чей?
— Это видно, братец. Там внутри должны быть очень хорошие условия для жизни. Человеческой жизни, а не чьей-то еще. В организме, который такой большой, да еще и живой, можно устроить все нужные условия. Саморегулируемая температура, влажность, бактериальная среда… Такой организм, если его как следует настроить, будет и домом, и крепостью, и кормильцем. Он может очищать воздух и воду, выделять питательные элементы, даже давать электричество…
— Дом… из мяса? — Гензель фыркнул, не сдержавшись. — Вот уж глупости! Кому придет в голову жить в доме из мяса?
— В наших телах живут же, — улыбнулась, засыпая, Гретель. — Только они махонькие… Мы же им как дом. Греем, кормим, защищаем…
— Как глисты? — уточнил Гензель.
— Мм…
Гретель уже спала. А на Гензеля внезапно накатило беспокойство, хотя еще минуту назад он сам готов был провалиться в сон.
Что же это получается? Ну, допустим, живут в человеке всякие разные мелкие букашки, глисты те же. Но они просто пользуются человеком, как вши собакой. Эта же мясная гора была кем-то создана, и явно не Железным лесом. Ярнвид умеет порождать чудовищ на любой вкус, но вырастить что-то подобное — не в его силах. Да и дверь эта… Как там ее Гретель назвала? Сфинктер? Больно уж удобно расположена, и размер для человека подходящий. Как будто кто-то специально разместил ее именно там, где у обычного дома располагалась бы входная дверь.
Словно…
Гензель вздрогнул. Словно глисты построили себе человека. Специального человека, который не умеет двигаться, сопротивляться и думать. Идеального человека в представлении глистов. Человека, который умеет только греть, защищать и кормить… Вот ведь дрянь какая в голову лезет! Это все от переедания, ведь говорила Мачеха: излишнее насыщение организма — не благо, а вред, никогда не ешь больше, чем требуется для удовлетворения твоих биологических потребностей.
Дом, сделанный из еды… Кто способен такой построить? И самое главное — кто способен в таком жить? Что за сила обосновалась здесь, под пологом Железного леса? И как эта сила посмотрит на двух заблудившихся человеческих детей, если вдруг обнаружит их?
По счастью, мясной дом, видимо, сейчас необитаем. Иначе хозяин, кем бы он ни был, наверняка заметил бы нахалов, отхватывающих от его жилища целые куски и тут же на месте их пожирающих. Он, Гензель, сам бы небось быстро спохватился, если бы кто-то у их дома в Шлараффенланде начал стреху обламывать… Нет, наверняка хозяин в отлучке. Значит, повезло им, не познакомятся. Отчего-то ему не хотелось знакомиться с хозяином, кем бы он ни был.
«Уходить отсюда надо, — подумал Гензель, чувствуя, как сон вновь налипает на веки тысячами капель густого сиропа и тянет, тянет их вниз. — Еды здесь, конечно, завались, только чует моя печенка: от тех, кто в подобных домах живет, ничего доброго ждать не приходится. Нарежу завтра мяса, сколько унесу, — и прощай, домишко!..»
Гензель улыбнулся оттого, что решение принято, а это, как известно, половина дела.
И уснул.
Сон оказался мутным и липким, как жижа в лужах Железного леса.
Гензель барахтался в нем, пытаясь вырваться, но все усилия были тщетны. В этом сне страшные чудовища, прятавшиеся в лесу, окружили его со всех сторон. Гензель пытался убежать от них, но, как это часто бывает в кошмарах, руки и ноги его подламывались, отнимались, делались бесполезными. Чудовища вновь настигали его и протягивали свои изъязвленные щупальца, гнилые клешни и отвратительные подобия человеческих рук. «Мясо, — довольно булькали и хрипели они, корча морды в ужасных гримасах. — Сладкое человечье мясо! Ух-ух-ух! Давненько не пробовали мы сладкого человечьего мяса!..» — «Убирайтесь! — кричал им во сне Гензель, тщетно пытаясь нащупать в кармане нож. — Пошли вон!»
Потом он почувствовал, как дрожит земля и его накрывает тенью, ледяной, как могильная плита. Что-то невероятно огромное нависло над ним, такое, что все прочие чудища вдруг показались щенками. Это был дом, огромный мясной дом, который отрастил две самого отвратительного вида ноги. Он сильно изменился. Из толщи его спутанных тканей на Гензеля смотрели глаза, десятки самых разных глаз, некоторые из них могли принадлежать насекомым, а некоторые были вполне человеческими. Глаза эти жадно пялились на Гензеля, в них сверкало черное злорадство. А потом распахнулся рот. «Вот он! — прогремел мясной дом, щеря свои зубы, огромные как валуны, в недрах его пасти клокотала грязно-желтая слюна и пересыпались молотые груды старых костей. — Вот этот мальчишка, который отрезал от меня кусок! Ну-ка, ну-ка, теперь мое время отведать кусочек дрянного мальчишки!..»
Он легко подхватил Гензеля бугристой и мощной конечностью, выросшей из разбухшей’ туши, и потащил прямо к пасти. Гензель ощутил липкий гангренозный смрад, источаемый ею, закричал от ужаса, стал лягаться ногами изо всех сил — и вдруг в какой-то момент понял, что уже проснулся.
Он лежал на твердой земле, в щеку упирались травинки, пахло раскисшей землей и древесной трухой — самые обычные запахи, если спишь, уткнувшись лицом в траву.
А еще он вдруг понял, что кроме них с Гретель в ложбине кто-то есть.
Ощущение это было жутковатым, потому что показалось, будто оживший мясной дом из его сна пялится Гензелю в спину. Чтобы сбросить морок и убедиться, что дом стоит на прежнем месте, Гензель быстро продрал глаза.
И не удержался от судорожного испуганного вздоха. Они и в самом деле были не одни.
Неподалеку от них, задумчиво разглядывая детей, стоял человек. Женщина — машинально определил разум, быстро сбрасывающий с себя звенящие оковы сна.
Несмотря на неожиданность встречи, взгляд Гензеля быстро обежал незнакомую фигуру, схватывая детали.
Молодая. Он всегда плохо угадывал возраст взрослых, не считая разницу в десяток лет чем-то существенным. Но эта женщина действительно выглядела молодо, лет на двадцать или, может, двадцать два. Гладкая кожа, чистые и ясные глаза, голубоватые, как легкие весенние облака, блестящие черные волосы. Удивительно свежий вид для человека, оказавшегося в Железном лесу, подумалось Гензелю. Ни тебе исцарапанного лица, как у них с Гретель, ни землистого оттенка кожи, ни даже пятен грязи. Ни дать ни взять — словно полчаса назад вышла из горячей ванны.
И одета совсем неподходяще для здешних краев: средней длины черное платье из мягкой ткани, которое мгновенно оказалось бы порванным, сунься она в лесную чащу. В городе подобных не носили, но Гензель интуитивно решил, что оно сродни окторонскому гардеробу: без показной роскоши, но сшито очень добротно и элегантно. Ноги стройные, и тоже без малейших царапин, а на ногах — легкие туфли.
Эта женщина не выглядела опасной, и руки ее были пусты, но у Гензеля отчего-то засосало под ложечкой, когда он встретил чужой взгляд. Так бывает, если оказаться вблизи от неизолированного силового кабеля под большим напряжением, — глаза не видят явственной опасности, но тело улавливает разлитые в воздухе частицы затаенной силы, гудящее вокруг напряжение. В женщине сила была, это он сразу почувствовал. Сила неизвестная, незнакомая, но из числа тех, с которыми определенно не стоит связываться.
— Так-так-так, — сказала женщина, без смущения разглядывая его и Гретель. — Вот это новости. Я думала, видела уже всех зверей Ярнвида, даже самых причудливых из них. Но, оказывается, ошибалась. Подобных зверят мне видеть еще не приходилось.
От звуков ее голоса проснулась Гретель. Как и Гензель, она мгновенно напряглась, прозрачные глаза потемнели. Она тоже что-то чувствовала, но что — Гензель не знал.
— Странные, очень странные зверьки, — продолжала женщина, продолжая рассматривать их с явственным любопытством. — Внешний вид, конечно, обманчив, ему нельзя доверять, а Ярнвид — прирожденный мастер иллюзий. Но кое-что о вас, пожалуй, уже можно сказать. Как и все дикие звери, вы очень хитры и жадны, но при этом совершенно чужды таким человеческим качествам, как совесть и благодарность. Зачем вы испортили мой дом, а, зверята?
Вопрос был задан без злости, всего лишь с насмешливым любопытством, но Гензель все равно поежился. Крыть было нечем, и следы вчерашнего пиршества говорили сами за себя. Там, где он отсекал от глыбы мяса куски, остался широкий воспаленный след, только начавший рубцеваться и выглядевший довольно зловеще. Наверно, через несколько недель рана на боку мясной глыбы сама затянется, но пока еще следы их недавнего преступления выглядели как нельзя ярко.
Гензель понял, что надо оправдываться. И делать это как можно убедительнее. Он чувствовал себя неловким воришкой, застигнутым на месте кражи. И испытывал именно ту смесь стыда и страха, которую должен испытывать воришка. Это было глупо, но он ничего не мог с собой поделать. У женщины в руках не было оружия, да и сильной она ничуть не выглядела. И вокруг нет стражников Мачехи, которые готовы схватить за шиворот и запихнуть в тюрьму. Однако же Гензель явственно ощущал, что эта странная женщина в силах сделать с ними что-то очень скверное. Может, это из-за той насмешливой уверенности, с которой она говорила, а может, из-за взгляда, прямого и просвечивающего насквозь. Как бы то ни было, запираться смысла не было. И уж того меньше Гензель собирался оказывать сопротивление.
— Мы не портили, госпожа, — заставил он себя сказать, опасаясь вновь взглянуть женщине в глаза. — Мы отрезали кусочек, потому что были очень голодны.
— Отрезали кусочек! Подумать только, какие глупые и наглые зверята! — Женщина покачала головой. — Они были голодны, представьте себе!.. Неужели из-за этого надо было по-варварски калечить сложнейший организм? Удивительное бесстыдство! Вы знаете, как сложно заживают ткани при таких повреждениях, да еще в здешнем климате? Вы вообще что-то знаете о формировании грануляционной ткани? А коллагеновых волокон? А цитокинов?.. Ну что же вы молчите?
— Цитокины происходят от тромбоцитов, — вдруг тихо сказала Гретель. — Они заживляют раны. Формируют соединительную ткань.
Гензель напрягся. Он терпеть не мог всех этих магических словечек, они всегда казались ему грозными и опасными. От них веяло демоническими силами, жуткими и порочными. Но из уст Гретель прозвучала эта тарабарщина почти музыкально.
— Ого! — Женщина прищурилась, теперь ее внимание целиком переключилось на Гретель, и Гензель почувствовал себя немного легче. — Кажется, и верно очень странные зверята оказались у меня на пороге. Ты действительно знаешь значение слов, которые произнесла, малышка? Или просто повторяешь то, что когда-то услышала?
Гретель заколебалась.
— Я… читала книги.
— Книги по генетике? Скажите пожалуйста!.. Сколько тебе лет, дитя? Двенадцать? Одиннадцать?
— Десять, госпожа.
Женщина нахмурилась. На гладкой коже ее лица появились легкие морщины, опасные, как первые трещины на поверхности льда.
— Ты лжешь мне, зверенок, — сказала она резко. — И на твоем месте я бы трижды подумала, перед тем как совершать подобное. Десятилетняя девчонка не может читать книги по геномагии. Уже не говоря о том, чтобы понимать их суть.
— Я читала! — Гретель вскинула голову — видимо, обида возобладала над страхом. — Читала! И «Классические генетические модели» Менделя, и «Расширенный фенотип» Докинза, и «Гены и геномы» Берга!
Женщина задумчиво поправила пряди своих черных волос. Волосы были легкими, красивыми, летящими, по сравнению с их собственными волосами они выглядели шелком рядом с грубой дерюгой.
— Этого не может быть. Насколько я вижу по твоему браслету, ты квартерон, а значит, несешь в себе порочное генетическое семя. Ни один геномастер не взял бы тебя даже для того, чтобы мыть пробирки. Значит, тебе неоткуда было взять подобные знания. Значит, ты все же лжешь.
— Она не лжет, госпожа, — осторожно вставил Гензель, почтительно склонив голову. — Ее зовут Гретель, она моя сестра. И она понимает геномагию.
— Понимает геномагию, ну надо же! — На лице женщины появилась саркастическая улыбка. Совсем не добродушная, но морщины от нее были не столь пугающими. — Зверята, я изучаю геномагию много-много лет, всю свою жизнь, которая куда длиннее, чем вы бы по мне сказали. И даже я не могу сказать, что понимаю геномагию. Удивительная самоуверенность! Геномагия — наука высших сфер, недоступная обычному человеческому пониманию. Метаморфозы живой плоти, которые изучает геномагия, неподвластны примитивному мозгу. Мы можем лишь выискивать и обобщать те крупицы информации, которые оказались нам открыты, но даже тогда ни одна сила в мире не сможет гарантировать результата. Геномагия — самое драгоценное сокровище человечества и его же самая ужасная кара. Так откуда же ты брала геномагические книги? Они не валяются на каждом углу, как тебе известно.
— Брала у соседа.
— Наш сосед, господин Холдейн, был геномастером в Шлараффенланде, — торопливо пояснил Гензель, опасаясь, что женщина сочтет ответ Гретель резким, а пожалуй, что и дерзким. — У него было много таких книг. Целый кабинет.
— Вот как? И геномастер позволял соседской девчонке-квартерону копаться в своих книгах? Вот уж во что я никогда не поверю!
— Он был добрым человеком, госпожа. Он сразу заметил, что у Гретель есть способности к геномагии, и стал ее учить.
— Квартеронку?
Это было сказано со столь естественным презрением, что Гензель ощутил, как пылают щеки. Гретель смолчала. Она всегда молча сносила любые оскорбления, так уж была устроена.
— У нее всего одиннадцать процентов дефектного фенотипа!
— Какая разница? — удивилась женщина. — Ремесло геномастера доступно лишь для касты окторонов и выше. Это значит — максимум шесть процентов оскверненного фенотипа. Твоя сестра не окторон, а значит, она никогда не смогла бы стать геномастером. Более того, всякий, кто передал бы ей запрещенные знания, обрек бы себя на гибель. Неужели ваш сосед этого не понимал?
— Понимал, наверное… Его казнили еще год назад.
— За то, что он учил девчонку геномагии?
— Нет.
— Тогда за что же?
— За шутку над тригинтадуоном.
Женщина задумалась.
— Тригинтадуоны, наверно, в вашем городе важные птицы?
— Сплошь бароны, маркизы и князья, — подтвердил Гензель. — Шутка ли, не больше одного процента испорченного фенотипа…
— Один процент! — Она фыркнула. — Чем меньше человек представляет собой, тем с большими амбициями он требует уважать процент своей человечности, разве это не смешно? К тому же, по правде говоря, далеко не у каждого тригинтадуона отыщется тот самый хваленый процент… Я видела среди них таких типов, которых можно было принять за мулов, — с лишними конечностями, с тремя сердцами, с атрофированными органами… Самое интересное, что некоторые из них и в самом деле по крови были полноценными тригинтадуонами. Один процент — это такая малость, но знали бы вы, как причудливо и где может вылезти этот один процент… Значит, ваш покойный сосед был большим шутником?
— Господин тригинтадуон приказал ему разработать особенную, персональную мутацию для его особы.
— Тригинтадуон по доброй воле пошел на искажение собственного фенотипа? — Женщина покачала головой. — Как низко пали нравы в вашем краю, зверята. Как правило, эти хлыщи так трясутся над своим одним процентом, что запрещают геномастерам даже уничтожать их потовые железы…
— Господин тригинтадуон любил приемы и торжественные парады, — пробормотал Гензель, не зная, как отреагировать на это замечание. — Он попросил господина Холдейна придумать ему новый способ украшения кожи…
— Декорация эпидермиса? Есть такое увлечение среди знати. Между слоями эпителия размещаются биологические красители… Примитивная работа с пигментацией, ничего сложного. По-моему, один из самых дурацких способов изуродовать свое тело. Какой идиот будет носить свою кожу в качестве костюма?.. Ладно, продолжай. Насколько я поняла, несчастный господин Холдейн не очень-то ответственно подошел к выполнению пресветлой воли?
Женщина улыбнулась, и Гензель немного приободрился.
— Он выкинул странную штуку. Говорят, сошел с ума под конец жизни, но на самом деле он просто был большим шутником… Он пообещал тригинтадуону, что соорудит специально для него особый подкожный пигмент. Только вот увидеть его сможет лишь тот, у кого меньше трех процентов искаженного фенотипа. Какие-то там особые вещества, секреции…
Женщина рассмеялась. Смех у нее был красивым, но Гензелю он показался злорадным.
— Кажется, у тебя был интересный наставник, девочка. И, конечно, никакого пигмента на самом деле не было, так?
Гензель нерешительно кивнул. Рассказывая про геномастера Холдейна, он думал лишь о том, как бы не сболтнуть чего лишнего. Здесь, в обществе этой странной женщины, он и сам не знал, что считать лишним.
— Так говорят. Господин тригинтадуон несколько месяцев делал визиты и устраивал приемы для знати. Он был уверен в том, что окружающие тригинтадуоны и седецимионы видят на нем искусный многоцветный костюм из подкожного пигмента…
— А они не видели. Но боялись в этом признаться, чтобы никто не усомнился в чистоте их фенотипа. Ох, как это по-человечески! Но что же сам обладатель роскошного костюма, господин тригинтадуон? Он же не мог не видеть своего отражения в зеркале?..
— Про это я не знаю, — сказал Гензель уклончиво. — Поговаривали, насчет чистоты его крови тоже были сомнения… Может, он и вовсе никаким тригинтадуоном не был… Но если бы он устыдился своей наготы, все прочие бы решили, что…
— …Что он — нечистой крови и недостоин титула. Конечно. Но, видимо, однажды тайна его костюма оказалась раскрыта?
— Да, госпожа. На каком-то приеме один мальчуган из седецимионов вдруг закричал: «Смотрите, а тригинтадуон голый!» Тригинтадуон сделал вид, что ничего не случилось, но покраснел и быстро удалился в свои покои. А на следующий день геномастера Холдейна казнили на площади…
Женщина рассмеялась. Смеялась она легко и приятно, ее смех напоминал журчание звонкого ручейка. Только ручеек этот не освежал, как освежает обыкновенно искренний женский смех.
— Не каждый осмелится сыграть такую шутку. А тут еще и обучение квартеронов запретному искусству… Ваш Холдейн, должно быть, много лет ходил по краю. Ну да не мне его судить. Взять в ученики существо с одиннадцатью процентами порченого фенотипа… Впрочем, малышка, кажется, тебе еще повезло, а? — Женщина по-приятельски подмигнула Гретель, и та в ответ несмело улыбнулась. — Насколько я вижу, у тебя почти нет внешних проявлений мутации. Да и внутренних, кажется, не очень много. У меня глаз наметан… Выраженный альбинизм — это неприятно, но не смертельно. Обычная блокада организмом фермента тирозиназы, что приводит к подобному обесцвечиванию. Тебе повезло, девочка. Могла бы родиться с тремя селезенками, например, или с деформированными конечностями… У квартеронов это не редкость. А твой брат, кажется, интересный экспонат.
Гензель напрягся. Внимание странной женщины, обращенное к нему, казалось жгучим, как жесткое излучение. Он бы дорого дал за возможность покинуть общество хозяйки мясного дома, пусть даже для этого пришлось бы вернуться в смертельно опасный Ярнвид. Только у него ничего не было, кроме одежки и плохонького ножа. Явно не та цена, на которую можно договориться в этой ситуации.
— Какие милые зубы! — улыбнулась женщина. — Наверно, в детстве тебя много дразнили, а?
Гензель насупился. Он-то надеялся, что во время разговора открывал рот нешироко и женщина не успела заметить его зубов. Но она была внимательнее, чем он полагал.
— Было, — буркнул он. — Не без этого.
— Можешь приоткрыть рот?
Просьба была мягкой, вежливой, но Гензелю ужасно не хотелось ее выполнять. Что-то в этой женщине заставляло его тело пребывать в состоянии постоянного напряжения.
Рот открыть все же пришлось. Увидев все ряды его зубов, женщина искренне изумилась:
— Потрясающе. А ты удачливый мальчишка, Гензель. Судя по всему, тебе перепал генетический фрагмент какой-то хищной рыбы из отряда хрящевых. Редкий гость в глубине нашего континента.
— Самая настоящая акула. — Гензель впервые в жизни испытал что-то вроде гордости и, понизив тон, добавил: — От деда подарок.
Его собеседница приподняла красивую бровь.
— Ну надо же. Впрочем, я видела подарки куда хуже. Иные спят в течение поколений, просыпаясь лишь у праправнуков и одаряя их самыми жуткими чертами. Чрезмерно увлекаясь геночарами, многие, сами того не зная, завещают своим потомкам птичьи клювы, змеиную кожу и прочее непотребство. Но акула?.. Не скрою, я удивлена.
— Наш дед был на войне, — пояснил Гензель без особого желания.
Деда Гензель не любил, хоть особо и не помнил. Из-за этого старого дурака ему и приходится сносить все следы чужой генетической забавы. И ладно бы следы были как у Гретель, можно и не заметить, а с такими зубищами, как у него…
— Понимаю. Попал под действие генетической бомбы. В прежние времена их охотно пускали в ход. Совершенно забывая о том, что наносят катастрофический удар по собственному генофонду.
— Нет, он сам. Узнал где-то, что у акул живучесть высокая. Раны у них быстро заживают, болезней почти нет, да и вообще… Пошел, значит, к геномастеру и…
— …И внедрил себе генетический материал акулы?
— Угу. Ему хорошо, вернулся живым и до самой смерти не болел. А нам, значит, расхлебывать. Отцу еще повезло, он без ноги родился. Ну а мне…
— А еще он кровь чувствует, — неожиданно сказала Гретель, чтобы поддержать брата. Видимо, в ее глазах это было несомненным достоинством. — С нескольких километров может каплю крови учуять. Это тоже от акулы чутье…
«Да уж, — подумал Гензель мрачно, сердясь на сестру за эту поправку. — Ужасно помогает, когда живешь в городе. Всегда можно находить мясные лавки и свежие трупы».
— Не очень изящно, конечно, — сказала женщина. — В королевских дворцах с такой челюстью постоянным гостем, пожалуй, не станешь. Но бывает наследство и пострашнее, уж поверь мне. Поблагодари судьбу и генокод за то, что тебе, к примеру, не досталась пищеварительная система паука или по десять пальцев на каждой руке… А теперь я задам вам еще один вопрос. Как вы оказались тут, звереныши?
Гензель потупился. На месте женщины он задал бы этот вопрос в первую очередь, но она, видимо, отличалась нешуточным терпением. И понимала, что гости никуда не денутся, пока не ответят на все ее вопросы, сколько бы их ни оказалось.
— Это все из-за Мачехи… Долго рассказывать, — протянул он неохотно.
— Еще одна история? И, полагаю, не очень короткая. — Женщина вздохнула и на миг прикрыла глаза. — Ладно, может, вы и худшие на свете гости, но я-то еще не забыла правил гостеприимства. Добро пожаловать в мой дом. Отдохнете, подкрепитесь, а заодно и расскажете, каким недобрым ветром занесло вас сюда.
Она поманила их пальцем. Гензель нерешительно сделал шаг вперед. Чутье подсказывало ему, что с подобными вещами и подобными людьми связываться нельзя. Он инстинктивно чувствовал в женщине опасность, хоть и не мог определить, какого рода. Может, не поздно еще убежать?.. Схватить Гретель за руку — и припустить вверх по склону, прочь из проклятой ложбины с ее огромным обитателем и странной хозяйкой…
Гензель встретился взглядом с женщиной. В весенних облаках, плававших внутри ее глаз, сверкнуло что-то, точно разряд в зарождающейся буре. И Гензель вдруг понял, что никуда не побежит. Духу не хватит. Он осознал то, что должен был осознать с самого начала: эта женщина может быть опаснее любого здешнего хищника.
— Не бойтесь, — беспечно улыбнулась та. — Мой дом безопасен. И он сможет о вас позаботиться.
К огромной дышащей мясной груде она подошла без всякой опаски, как раз туда, где располагался кожистый сфинктер. Усмехнувшись Гензелю и Гретель, женщина облизнула правую ладонь и приложила ее к плотной поверхности. И Гензель ничуть не удивился тому, что мышца почти бесшумно разомкнулась, мгновенно превратившись в темный провал. Изнутри пахнуло затхлым и влажным — как из чьего-нибудь рта. И Гензель поежился, представив себе, как слепо идет навстречу спрятавшимся в толще плоти огромным зубам…
— Смелее, — подбодрила хозяйка, улыбнувшись их нерешительности. — И не удивляйтесь тому, что увидите. Впрочем, едва ли вы сильно удивитесь, если уже поняли, к кому вас занесло в дом, глупые звереныши.
— Мы знаем, кто вы, — тихонько сказала Гретель, становясь рядом с братом.
Женщина вновь улыбнулась. Ее улыбка была искренней, но Гензелю показалась острой и тонкой, как след росчерка скальпеля по бледной коже.
— Да? — спросила она с интересом и подмигнула Гретель. — Ну и кто же я?
— Геноведьма, — сказала Гретель спокойно.
Гензель ожидал, что внутри окажется темно, тесно и липко. Ему никогда не приходилось бывать в чьих-то внутренностях, но он догадывался, что может там увидеть. И заранее ощущал под ребрами тревожный зуд.
Обитель геноведьмы. Что может быть опаснее и хуже? Логово существа, которое отдалось запретной геномагии, скрывшись в лесу, несомненно, чтобы творить здесь что-то недоброе. Проклятый дом из живого мяса! Лучше бы они с Гретель сейчас тащились темными тропами Железного леса, изнемогая от жажды и голода…
Геноведьма шла впереди, ничуть, казалось, не беспокоясь о том, идут ли Гензель и Гретель следом за ней. Впрочем, с чего бы ей беспокоиться? Гензель не сомневался в том, что вокруг них — настоящая биологическая крепость, способная защитить свою хозяйку с помощью токсинов, ядов, острых шипов или чего-нибудь в этом роде. Если твой дом — один огромный организм, у него должны быть защитные органы. Особенно если угораздило жить в подобном месте…
Живой дом оказался внутри не столь просторным, как представлялось Гензелю, и не столь ужасным. Его невысокие коридоры представляли собой медленно колышущиеся трубы из множества крохотных алых волокон. Они вибрировали под ногами, что поначалу вызывало легкую тошноту, шли волнами, точно подталкивая людей вперед. Гензель не знал, произвольная это реакция организма на гостей или нет, но ощутил затаенное беспокойство: слишком уж легко было представить себя крошкой еды, которую тащит сквозь кишечник великана.
Света здесь хватало — все вокруг было исчерчено светящимися жилами, которые давали немного рассеянный, но все же устойчивый свет. Гензель прикинул, что читать в таком было бы затруднительно, но озираться, разглядывая предметы обстановки, — вполне.
— Это лантерны, — пояснила геноведьма, даже не обернувшись. — В человеческом организме нет подобных органов, нет и у млекопитающих. Пришлось адаптировать некоторые органы светлячков и интегрировать их в общую сущность. Это не так и сложно. Для реакции свечения требуется лишь несколько соединений. Аденозинтрифосфат этот дом вырабатывает даже с запасом, что же до люциферазы и люциферина, с ними сложнее, но и здесь нет ничего невозможного.
Комнаты живого дома оказались небольшими, но достаточно просторными для трех человек. Здесь было немного душно, что неудивительно при полном отсутствии окон, но не настолько душно, как ожидал Гензель. Судя по едва слышному шипению и идущему вдоль стен постоянному легкому сквозняку, организм, прокачивая воздух через свои исполинские легкие, снабжал им внутренности.
Комнаты были неправильной формы, что-то вроде несимметричных пузырей, у них не было ни пола, ни стен, изнутри их равномерно покрывала пронизанная багровыми и черными капиллярами волокнистая поверхность. Она выглядела влажной, и Гензель рефлекторно опасался прикасаться к ней. Наверно, подобное устройство весьма удобно в некотором смысле — по крайней мере, такие комнаты не нужно мыть, слизистая сама справляется с работой…
А еще его поразила обстановка. Еще снаружи он пытался представить, как должна выглядеть мебель внутри живого дома, и теперь смог разглядеть ее в деталях. Разумеется, здесь не оказалось ни дерева, ни пластика, ни металла. Мясной дом сам позаботился об интерьере. В комнатах, сквозь которые они проходили, им встречались диванчики, софы, уютные ниши, выполняющие, вероятно, роль кроватей — все было живым, едва заметно вибрирующим, и тоже из плоти. Несмотря на накопившуюся в теле усталость, у Гензеля не возникало желания их испробовать — благодаря своей неестественной и выпирающей форме подобная мебель больше походила на раковые опухоли, выдающиеся из тела.
— Пришлось повозиться, — доверительно сообщила геноведьма Гензелю, заметив, как он разглядывает обстановку. — Знаешь, как непросто собрать из обычных тканей хоть что-то похожее на диван?.. Пришлось использовать хрящи, слизистую и соединительную ткани, упругие железы, наполненные слизью полости и прочее.
— Наверно, это очень сложно, — сказал Гензель вежливо.
— О, представь себе. Примитивные паразиты, обживающиеся в наших телах, никогда не обеспечивают себя мебелью и прочими приятными мелочами. Бесхитростные биологические машины, способные лишь поедать чужую добычу и испражняться в нашу кровеносную систему… Но человеку свойственно окружать себя комфортом.
— Дом — живой? — внезапно спросила Гретель. Как и Гензель, она крутила головой по сторонам, но без излишнего любопытства. Впрочем, она всегда отличалась несвойственной для ее возраста сдержанностью.
Геноведьма с интересом взглянула на девочку.
— Смотря в каком качестве ты видишь жизнь. Этот дом не способен думать, если ты имела в виду именно это. Он всего лишь упорядоченная груда протоплазмы.
— Но он чувствует?
— Разумеется, чувствует. Как же без этого? Организм, не способный ощущать воздействие раздражителей, не способен и реагировать на них, а значит, строить свою внутреннюю деятельность. Мой дом ощущает температуру, уровень насыщенности кислородом, кислотный баланс в различных жидкостях, сердечно-сосудистое давление… Он насыщает себя необходимыми веществами и поддерживает внутренние условия на установленном уровне. И все — заметьте, звереныши, — все здесь основано на метаболизме млекопитающих. Это значит, что все ткани чисты и практически не имеют порочных генетических отклонений. Разве что в сотых процента. Если бы жилые дома могли сертифицироваться по генетическим кастам, как вы, мой дом был бы королем!
Гензель вспомнил один вопрос, который уже не раз всплывал в его мыслях, но который он всякий раз пытался загнать поглубже. Теперь он почувствовал себя достаточно уверенным, чтобы наконец его задать.
— Эти ткани… Они человеческие?
— Преимущественно. — Геноведьма небрежно пожала изящными плечами, скрытыми тонкой тканью платья. — Тем лучше. Каждому существу комфортнее и безопаснее, когда он окружен чем-то родственным ему, а что может быть нам роднее и ближе, чем человеческая плоть? Здесь мы в такой же безопасности, как в материнской утробе.
Гензель споткнулся. Наверно, он изменился в лице, потому что геноведьма схватила его за плечо. Пальцы у нее оказались длинными и на удивление сильными.
— Эй, что с тобой? Тошнит?
Он заставил себя кивнуть.
— Мы же… мы… Мясо. Мы ели его вчера.
— Ах, ты об этом! — Геноведьма звучно рассмеялась. — Было бы о чем тревожиться. У моего дома есть сложная нервная система, но это еще не говорит о наличии разума. А что такое тело без разума, если не самый обычный биологический материал? Всего лишь плоть, бездумная, бесчувственная и безэмоциональная. Какая разница, человеческая она или нет?
На взгляд Гензеля, разница была. Но он заставил себя стиснуть зубы. Пожалуй, самое глупое, что можно придумать, — спорить с ведьмой в ее собственном логове.
Она вела их с Гретель все дальше и дальше, в мясном доме оказалось множество комнат. Были крохотные комнатушки из обвисших мышц, чьи волокна выглядели разбухшими и сероватыми, — геноведьма ворчала, что здесь неважное кровообращение, оттого они годятся только под чуланы. Были галереи и переходы, длинные и узкие, напоминавшие кишечные витки, и пол в них скользил из-за настила, похожего на тончайший упругий ворс. Были воспаленные железы в стенах, источающие вонь и едкий гной. Были помещения, безмерно заросшие жировой тканью, — ее лоснящиеся белые вкрапления подчас превращались в подобия грибов и сталактитов.
Лестницы здесь были сложены из костей и укрыты грубой, как дерн, кожей. Сфинктеры играли роль дверей и сами раскрывались, стоило лишь ведьме прикоснуться к ним ладонью. Трубопроводом служили толстые упругие вены, сизыми змеями протянувшиеся вдоль стен, в них что-то двигалось, отчего вены ритмично сокращались. Было даже подобие электропроводки — тончайшая сеть нервов, растянувшаяся по поверхности потолка. Это было похоже на экскурсию по человеческому телу.
«По телу, превращенному в дом, — подумал Гензель, пытаясь понять, что именно он испытывает: восхищение или отвращение. — Я бы, пожалуй, сошел с ума, если бы пришлось жить в таком… Кругом — требуха, жилы, кровь… Но, наверно, со временем к такому привыкаешь. Как глист».
— Сперва перекусим, — сказала геноведьма. — Уже время завтрака. А потом вы расскажете мне, как попали в лес, и мы решим, что с вами делать. Заходите, смелее. Вы, наверно, все еще ужасно голодны, верно? Ужасная степень истощения, кожа да кости… Ничего, это мы исправим. И, заметьте, для этого не придется наносить моему дому такие ужасные раны! На пищу идут лишь поврежденные, старые или отмирающие ткани.
Комната, в которой они оказались, была подобием какой-то внутренней полости, достаточно большой, чтобы в ней без всяких затруднений уместился массивный, выращенный из хрящей стол, да и осталось прилично места для трех человек. Даже после приглашающего жеста хозяйки Гензель не сразу заставил себя сесть на скамью, сделанную из того же материала. Может, для геноведьм любая протоплазма и является всего лишь строительным материалом, но обычному квартерону требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то подобному.
Не обращая внимания на его замешательство, геноведьма вышла из комнаты, но уже через несколько минут вернулась, держа в руках увесистый поднос. Гензель ожидал и на нем увидеть что-то нелицеприятное, но вместо этого обнаружил, что его рот непроизвольно наполняется слюной. В костяных чашках колыхалось густое молоко, которое ему приходилось видеть только раз в жизни, а тарелки были полны мяса и хлебных лепешек.
— Кушайте, зверята, — сделала геноведьма приглашающий жест. — Уплетайте, сколько сможете, мой дом не обеднеет. Он готов предоставить вам все возможные деликатесы, которые может произвести организм. Супы, паштеты, мясные пирожки… А еще можете не забивать себе голову холестерином или нехваткой микроэлементов — все это мясо содержит необходимые вещества для ваших юных желудков, включая клетчатку и минеральные соли.
Их не пришлось долго упрашивать. Гензель и Гретель набросились на еду, точно вчера и не ели. Мясо оказалось сочным, а молоко — густым и жирным, сладким, как сахарин из дневной пайки. Правда, Гензелю не сразу удалось протолкнуть мясо в глотку — слишком уж прилипла мысль о том, что они едят человечину. Никогда не бывшую частью человеческого тела, бездушную и выращенную, подобно яблоку, но все-таки человечину. Однако с этой мыслью оказалось возможно сладить. Тело сделало все само, едва лишь почувствовав запах, рефлексы оказались сильнее разума. Мясо и в самом деле оказалось восхитительным.
Геноведьма наблюдала за тем, как они с Гретель едят, подкладывая им на тарелки самые сочные куски.
— Как же вы оголодали, — обронила она, покачав головой. — Ну ничего. Теперь вы можете есть столько, сколько пожелаете.
Гензель и рад был бы последовать этому совету, но совесть говорила ему, что нельзя есть от пуза, оказавшись в чужом доме.
— А вы… а вам… — неудобно говорить с полным ртом, но геноведьма поняла, что он хочет спросить.
— Не переживайте, этот дом обеспечивает меня с избытком. Он может производить очень много питательных веществ.
— А ему не… больно? Я имею в виду, оно же живое, и…
— Мне не требуется увечить свой дом, чтобы добыть пропитание. То, что мы едим, специально выращенные в его недрах доброкачественные образования. Проще говоря, опухоли. Молоко — продукт молочных желез. Не правда ли, удивительно вкусно? Нет в мире ничего вкуснее настоящего человеческого молока, подобного тому, что вы сосали в детстве.
— Очень вкусно, — сдержанно сказала Гретель. — И тут не только мясо.
Она старалась есть воспитанно, не чавкая и не пачкая рук, как учила Мачеха. Геноведьма наблюдала за тем, как Гретель ест, с легкой улыбкой, которая то появлялась, то исчезала, словно все дело было лишь в освещении: то она есть, а то нет. На Гензеля геноведьма отчего-то почти не смотрела. Но это его не радовало. Казалось бы, он должен был чувствовать себя свободнее, лишенный необходимости терпеть ее скользящий и странный взгляд, но происходило отчего-то обратное. Наблюдая исподлобья за тем, как ведьма разглядывает его сестру, Гензель чувствовал неясное томление и ел с куда меньшим аппетитом, чем мог бы.
— Да, тут не только мясо, — подтвердила ведьма, заботливо подкладывая им на тарелку новые порции. — Кроме мяса этот дом дает мне печенку, селезенку, костный мозг и многое другое. А в качестве растительной пищи он выращивает определенные сорта паразитирующих грибков. Меню получается довольно разнообразным, и все превосходно усваивается человеком.
— Но ведь этот дом умеет делать не только еду, да? — спросила Гретель, осторожно надкусывая копченое ребрышко.
Геноведьма улыбнулась ей по-матерински ласково:
— Ну конечно же не только, моя милая! Стала бы я столько времени и сил тратить на генное конструирование этого дома только ради того, чтоб получать каждый день бифштекс на ужин! Нет, зверята, этот дом не только кормит меня, он заботится обо мне. Он согревает меня, поддерживая внутри постоянную и комфортную температуру. Мощными стенами и костным каркасом он защищает меня от тварей Ярнвида, которых здесь легион. Развитыми почками он очищает воду, которую я пью, а легкими — дает мне отфильтрованный воздух. У моего дома тысячи органов, и каждый из них играет какую-то роль. Но все они сходны в своем предназначении — обеспечивать жизнь своей хозяйки. Впрочем, не хозяйки, а матери или дочери. Мы ведь в некотором смысле творения друг друга, мы вскормлены друг другом, в наших жилах течет одна и та же кровь…
— Почему вы живете тут?
Этот неожиданный вопрос Гретель задала тем же спокойным тоном. Гензель даже покраснел. Но геноведьма ничуть не обиделась на эту очевидную бестактность.
— Ну а как ты думаешь? Неужели ты считаешь, что климат Ярнвида мне полезен? Или я жить не могу без его чудного воздуха? Или, может, я люблю наблюдать за его милыми зверушками?.. Нет, милая Гретель, мне пришлось здесь поселиться, потому что… Ты, наверно, представляешь, что значит хлеб геноведьмы, но едва ли знаешь о том, сколько врагов у нее есть в любом городе. Случается и так, что геноведьме приходится бросать все и искать одиночества. Ах ты, глупышка… Да, если ты собралась учиться всерьез геномагии, придется тебе изучать не только релаксомы, аллели и пластомы! Придется учить и другие вещи, еще более серьезные и сложные.
— Какие вещи? — тут же спросила Гретель, забыв про ребрышко в руке.
Геноведьма потрепала ее по щеке. И даже этот жест, полный неприкрытой нежности, по-матерински ласковый, показался Гензелю каким-то зловещим. Как будто Гретель была товаром в мясной лавке, а геноведьма пыталась нащупать кусочек посочнее.
— Многие. В первую очередь придется изучать людей, их привычки, обычаи и мышление. Пока не научишься понимать некоторые отдельные аспекты. Геноведьм боятся, их уважают, но их же и ненавидят. Геноведьма для обычного человека — как сам дьявол: с одной стороны, воплощенное коварство, с другой — кладезь бездонных возможностей. К нам редко обращаются по пустякам, напротив, лишь тогда, когда идти больше не к кому. Когда нужда сильнее страха. А это накладывает некоторый отпечаток на отношения…
— У нас в Шлараффенланде геноведьмы запрещены, — сказала Гретель с явственным сожалением, которое совсем не понравилось Гензелю. — Их сжигают слуги Мачехи. Есть только цеховые геномастера, но они мало что умеют. Разве что пальцы лишние сводить или там…
Геноведьма досадливо поморщилась. Ее спокойное лицо редко меняло выражение, но даже когда меняло, не теряло своей удивительной привлекательности. Гензель давно уже заметил, что долго вглядываться в это лицо отчего-то не хочется. Странное дело, встреть он подобную женщину на улицах города, таращился бы неотступно, пока отец не проучил бы хворостиной. В Шлараффенланде и обычные человеческие лица были редкостью, а уж такие…
Без всякого сомнения, геноведьма была красива, причем удивительной, даже непонятной, красотой. Каждая черта ее лица идеально гармонировала с прочими, как гармонируют на холсте великого художника штрихи. Ни одной лишней детали, ни единой ненужной точки. Грызя лепешку, Гензель украдкой размышлял, сколько тысячелетий надо было тренироваться судьбе, сколько миллиардов хромосом перебрать, чтобы сотворить подобное произведение искусства?..
Даже брезгливое выражение лица не могло испортить его непорочной красоты.
— Геномастера?.. Отребье, бездельники, вчерашние школяры с немытыми пробирками. Вычитали в ветхих трактатах пару-тройку расшифровок известных аллелей — и уже мнят себя повелителями геномагии! Может, их хватает для того, чтоб сводить чирьи с графских задниц, но, уверяю, все они имеют самое туманное представление об истинной мощи геномагии! Однако при этом они часто вхожи во дворцы, где их привечают как кудесников и чудотворцев. Ирония судьбы, зверята, ведь редкая геноведьма удостаивалась такой чести.
— Почему? — тут же спросила Гретель.
Гензель метнул в сестру яростный взгляд, принуждая к молчанию. Совершенно напрасный, разумеется: Гретель была тихоней лишь до тех пор, пока не слышала того, что ее интересует. После чего вопросы могли сыпаться из нее бесконечно. А единственное, что ее интересовало по-настоящему, всегда была геномагия.
Услышав вопрос, геноведьма зачем-то стала разглядывать свою ладонь, точно колдовское зеркало, в котором сейчас отражалось что-то в высшей степени важное.
— Нашим миром правит кровь, — сказала она и, увидев непонимание на лице Гретель, пояснила: — Так уж повелось. Навеки утратив исходную генетическую культуру человека, мы возносим на престол тех, у кого в теле минимальный генетический брак, и насмехаемся над теми, к кому судьба была не столь благосклонна. Тот, кого череда хромосомного наследования наделила всего четвертушкой процента генетического дефекта, становится королем. А тот, кто человек едва ли наполовину, никогда не поднимется из черни. Кровь правит судьбами мира.
Геноведьма говорила мягко и мелодично, почти торжественно, однако чуткое ухо Гензеля выделяло в ее словах звенящие нотки едкой иронии.
— Это я знаю. — Гретель тряхнула головой. — Но почему геноведьмы не живут вместе с людьми?
Геноведьма улыбнулась ее детскому нетерпению. Еще недавно она казалась Гензелю юной, может, лишь лет на десять старше него. Но улыбка, которая была адресована Гретель, была зрелой и немного горькой улыбкой взрослой женщины.
— Потому что мы, геноведьмы, творим чары вовсе не для того, чтоб разделять королей и свинопасов. Законы геномагии, на которых зиждется сама жизнь, открывают перед нами целый мир — жуткий, захватывающий и волшебный. Мир, в котором царит поэзия плоти, в котором клетки — самый послушный материал, а человек — всего лишь совокупность протекающих процессов. Мы — бесстрастные ученые, первооткрыватели и следопыты этого мира, а не лощеная дворцовая прислуга. Нам безразличны человеческие страхи и предрассудки — это всего лишь пыль на том стекле, что разделяет нас и мир геномагии. Поэтому великородные короли и герцоги готовы обласкать своим вниманием любого генофокусника с ярмарки, лишь бы умел превращать цыплят в фазанов, нас же, истинных хозяев геномагии, гонят со своих земель псами.
Гензель ничего не понял, но, кажется, поняла Гретель.
— Кровь, — сказала она утвердительно, хоть и негромко. — Все дело в крови.
— Умница. — Геноведьма печально улыбнулась, разглядывая содержимое давно опустевшего стакана. — Кровь. Всегда одно и то же. Для них, венценосных кретинов в золоченых мантиях, кровь — не просто биологическая жидкость, бегущая в наших сосудах и разносящая по телу лейкоциты и тромбоциты. Кровь для них — источник не только кислорода и питательных веществ, но и власти. Они кичатся друг перед другом чистотой своей крови и ее близостью к идеальной генетической линии Человечества Извечного и Всеблагого. На самом же деле кровеносная система даже самых коронованных особ представляет собой дрянную и запущенную канализацию, в которую поколениями сливались яды, токсины и помои. Потому они и боятся нас. Знают, что их лелеемый фенотип для нас прозрачен, как хрусталь, что за всеми ухищрениями их придворных медиков и геношарлатанов мы, геноведьмы, всегда видим истинную суть.
Гензель онемел, прикусив язык. То, что произнесла геноведьма, было не просто кощунством, это было самым ужасным святотатством из всех, что он мог представить, даже в ушах на миг загудело. Скажи геноведьма что-то подобное в Шлараффенланде — уже билась бы в руках анэнцефалов из городской стражи. Но здесь, в сердце Железного леса, им неоткуда было взяться.
Геноведьма наконец отставила пустой стакан и вздохнула:
— Вы даже не представляете, зверята, какое месиво подчас бурлит в монарших венах! Сплошь следы генетического вырождения, инцестов, запрещенных зелий, операций и подлога. Те, кто носит золотую корону и строит из себя человека чистой генетической культуры, частенько подвержены бесчисленному множеству невидимых пороков, которых со стороны и не рассмотреть. Но для опытных геноведьм они тайны не представляют. Потому в пыточные подвалы нашу сестру приглашают чаще, чем в тронные залы. Знать очень трепетно бережет свои больные мозоли.
«Неправда!» — хотелось крикнуть Гензелю, но он заставил себя механически откусить очередной кусок. Геноведьмы лживы, всем известно. Ничего на свете они не любят так, как обмануть доверчивого ротозея, чтобы потом обрушить на него жуткое и страшное проклятие. Главное, чтобы на эти рассказы не повелась Гретель. Она, конечно, по-своему умна и осторожна, но она все-таки десятилетняя девчонка, да еще и увлекающаяся генетическими фокусами, то-то заглядывает в рот геноведьме…
— За пределами дворцов геноведьм тоже не очень-то жалуют, сказал Гензель, надеясь резкостью тона пробудить сестру от того транса, в который она медленно впадала. Тщетно: огромные прозрачные глаза даже не моргнули. Устремленные на хозяйку живого дома, они впитывали, казалось, каждое произнесенное ею слово.
Геноведьма несколькими легкими движениями оправила складки на платье. Если зрение и воображение не подводили Гензеля, под тонкой черной тканью скрывалось тело, не менее прекрасное, чем лицо. Изящно очерченные плечи, удивительно тонкая талия, плоский, как на старых церковных иконах, живот. Впрочем, об этом Гензель старался на всякий случай не думать, чтобы не навлечь на себя гнев хозяйки дома. Всем известно, геноведьмы запросто читают мысли…
— У простых людей мы тоже не в почете, — сказала геноведьма, непонятно к кому обращаясь — к Гензелю или Гретель. — Как раз простые люди чаще всего норовят проткнуть нас вилами или заживо похоронить, набив рот освященной землей. На то есть причина. Ходят слухи, это из-за нашего коварства и злопамятности. На самом же деле… Ох, зверята лесные, на самом деле нет ничего более омерзительного, жадного и наглого, чем те самые простые люди. Это они приходят к геноведьме и предлагают ей отдать своего первенца на опыты в обмен на наложение повышающих потенцию геночар. Это они жаждут обменять нелюбимую падчерицу на курс омолаживающих зелий или удаление лишней груди. Это они отчаянно торгуются, пытаясь выгадать себе хоть малейшее преимущество, при этом не считая зазорным обмануть ведьму и оставить ни с чем, а то и швырнуть ее при случае в костер. Люди жадны и злы, вам еще предстоит в этом убедиться.
Гензелю окончательно перехотелось есть. Сладкое мясо стало казаться ему излишне жирным и тяжелым, а кое-где вдруг стал мерещиться не забитый специями душок.
— Не бывает добрых геночар, — сказал он решительно, все еще пытаясь привлечь внимание сестры. — Любое вмешательство в генокод, из лучших помыслов или из корыстных, ослабляет общую генетическую линию Человечества. Выливает из нашей общей чаши те крохи человечности, что еще в ней остались.
Геноведьма рассмеялась. Смех ее неизменно оставался мелодичным, как и голос. Должно быть, ее голосовые струны походили на струны для арфы чистейшего серебра.
— Не слишком ли громкие слова для юной акулы? Где ты их услышал, дружок?
Гензель насупился.
— В Церкви. Священник по воскресеньям читает проповеди.
— Ну конечно. Вещает вам о том, что зерна генетического греха в ваших душах — наказание за грехи, но в каждом из вас, даже в самом последнем муле, теплится частичка извечного и всеблагого человеческого семени?
— Вроде того…
— Поверьте, я куда лучше архиепископа знаю, что такое человек, снаружи и внутри, — геноведьма невесело усмехнулась. — Слишком часто я видела, как люди, часом ранее ставившие свечу в Церкви Человечества, спешили к геноведьме, чтоб заключить с ней контракт. Думаете, их беспокоила чистота их генокода? Напротив. Они готовы были расстаться с мнимой чистотой, отринуть ее, лишь бы получить в свое распоряжение нечто ценное и явственное. Сорокапроцентный мул, жертвующий драгоценные десять процентов остаточного генокода, лишь бы подправить свой фенотип, убрав клешни и хвосты! Квартерон, без сожаления расстающийся со своей частичкой человечности, лишь бы обрести непревзойденную силу! Или окторонка, которой не жаль пяти процентов человеческого генотипа, лишь бы научиться вырабатывать феромоны и чаровать окружающих! Все они идут к геноведьме, чтоб заключить с ней контракт. Да-да, к коварной злопамятной геноведьме, только и ждущей возможности нажиться на них!
— Неправда, — негромко сказал Гензель, водя пальцем по жирной тарелке.
Геноведьма взглянула на него с сочувствием.
— Скажи это своему деду, который наградил тебя акульими зубами! И скажи «спасибо» судьбе, что вашему предку не вздумалось завести себе естество размером как у коня. А то, как знать, может, сейчас ты передвигался бы на четырех ногах! Люди с величайшей небрежностью относятся к тому, что сами именуют самым святым и неприкосновенным. Они жадны и недальновидны, и, по всей видимости, это единственные качества, которыми они обладали во все времена…
— Мы не такие! — Гензель упрямо вздернул голову, непроизвольно клацнув зубами. — Не все!
— Не рассказывай об этом геноведьме, — посоветовала женщина в черном платье и добавила почти без паузы: — Хотите, расскажу сказку?
— Моя сестра не любит сказок.
— Вот как? Ну, я думаю, моя сказка ей понравится. Согласись, Гретель, сказка, рассказанная геноведьмой, это не обычная сказка!
— Расскажите, — согласилась Гретель. Она выглядела неестественно серьезной, такой, какой Гензель не видел ее даже за чтением книг. От этой ее серьезности сквозило чем-то незнакомым и даже немного пугающим. Непривычно было видеть подобный взгляд у десятилетней девочки.
Геноведьма несколько минут молчала, без всякого смысла разглядывая кончики своих ухоженных ногтей.
— Где-то в Руритании жила давным-давно одна девица… — Произнеся это, она вновь надолго замолчала, не глядя на Гензеля и Гретель. Глаза ее потемнели и приобрели тот оттенок, что редко бывает у весенних облаков, скорее, у холодного прибрежного тумана. — Ох, старая это была история, мало кто сейчас помнит ее. Девица жила на берегу моря и была самым настоящим мулом — целых сорок процентов генетического брака. Ее отец был квартероном, ну а ей не повезло. И так случается… От рождения у нее не было нижних конечностей. Ног то есть. А был вместо них самый настоящий рыбий хвост. Довольно распространенная мутация в Руритании, последствия старых генетических инфекций и радиоактивного загрязнения… Причем надо сказать, то, что не было рыбьим, выглядело весьма неплохо. В общем, эту девицу можно было бы даже назвать симпатичной, кабы не чешуя да хвост. А кроме того, у нее был прекрасный голос. Видно, компенсируя ее врожденное увечье, из-за которого она обречена была жить в море подобно рыбе, природа наградила ее золотым горлом. О, как она пела в лунные ночи!.. Песни ее были грустны, от них у слушателей наворачивались слезы, что вполне объяснимо — попробуй жить среди сельди и макрели, питаясь сырыми водорослями, и глядеть на обычных людей — мулов, квартеронов, окторонов, — среди которых никогда не займешь места… Но в один прекрасный день все переменилось. На пристани эта девица увидела местного тригинтадуона, сына тамошнего правителя, кажется, короля. Юноша этот был чист кровью и прекрасен лицом настолько, что вызывал завистливые вздохи даже среди знати. Он был плоть от плоти Человечества.
— И они полюбили друг друга? — спросил Гензель. Он хорошо знал уличные сказки Шлараффенланда, популярные среди ребятни, как правило, довольно бесхитростные и похожие друг на друга по своей сути. Неразделенная любовь всегда была одним из самых стандартных их элементов. Не менее привычным, чем поцелуй, который уничтожал наложенное генопроклятие и превращал чудовище в красавца.
— Да, — сказала геноведьма, прикладывая палец к губам и призывая Гензеля внимательно слушать. — Изуродованная бедняжка, которую дразнили Рыбохвосткой, без памяти влюбилась в молодого тригинтадуона. Настолько, что с того момента забыла все на свете.
Гензель исподтишка взглянул на сестру. Она с детства терпеть не могла историй такого рода. Когда соседские девчонки с затаенным дыханием слушали о том, как чудовище превращается в красавицу, Гретель презрительно хмыкала и пыталась объяснить, что подобное форсированное изменение фенотипа просто взорвало бы плоть несчастного, вне зависимости от того, сколько генетически активного агента было в слюне поцеловавшей его дамы.
Со временем все привыкли к тому, что Гретель совершенно равнодушна к любым сказкам, и только Гензелю удавалось изредка увлечь ее, выбирая те из них, где было поменьше любовных тревог и побольше правдоподобных генотрансформаций. Такие истории Гретель соглашалась слушать, хоть частенько и встречала их неожиданно едкой для десятилетнего ребенка критикой.
Но этот рассказ она слушала затаив дыхание. С таким выражением на лице, с каким никогда не внимала рассказам старшего брата. Гензель ощутил легкий внутренний укол. Излишне глубокий, чтобы можно было назвать его ревностью.
— Рыбохвостка понимала, что у нее нет ни единого шанса влюбить в себя молодого тригинтадуона. Ее генетическое уродство было столь сильным, что ей не под силу было даже выбраться на берег. И она отправилась к геноведьме.
— К вам, госпожа? — не без язвительности поинтересовался Гензель.
Геноведьма рассмеялась. Хрипловато, но вполне музыкально.
— Ну что ты! Я давным-давно зареклась творить геномагию там, где каким-то образом участвуют молодые гормоны. Из этого никогда не выходит ничего хорошего, уж поверь мне. Нет, это была моя… знакомая. И она решила помочь бедняжке, дав ей генетическое зелье. Ты ведь знаешь, что такое генетическое зелье, Гретель?
— Конечно, знаю, — тут же отозвалась Гретель. — Биологически активное вещество. Оно… Манипур… лир… лирует с генетическими цепочками, уничтожая их или необратимо меняя.
— Молодец, — похвалила ее геноведьма покровительственным тоном. — Ты способная ученица. Наверно, ты знаешь и то, что ни одно генетическое зелье не способно на невозможное. Закон сохранения веществ и энергии, множество биологических факторов, особенности самого фенотипа, наконец… Изменить геном — не то же самое, что изменить прическу. А тем более — изменить сам фенотип! Иногда преобразования идут по неожиданному пути или вовсе оказываются фатальными для организма. А те, кто им подвергаются, не всегда получают то, чего хотят. Еще одна причина, отчего с геноведьмами особо не церемонятся… Рыбохвостке было обещано, что после того, как она выпьет генозелье, ее костная и мышечная ткани подвергнутся резкому и очень сложному преобразованию, а затем превратятся из хвоста в пару стройных девичьих ножек. Но за стройные ножки издавна полагалось платить цену… Активные агенты, содержавшиеся в зелье, должны были вызвать распад определенных белков в организме, а вслед за ним — полную деградацию мышцы, отвечающей за голосовые связки. Проще говоря, она должна была онеметь ради возможности ходить на своих двоих. Потерять свой прекрасный голос. И эта цена не показалась Рыбохвостке слишком высокой. Не раздумывая, она выпила зелье.
Гензель напрягся. Ему показалось, что в истории, изначально излишне слащавой и романтической, не для мальчишек, вдруг возник неприятный и неуютный холодок. А может, это похолодел голос рассказчицы, ставший из задумчивого и размеренного почти равнодушным.
— Три недели мучилась Рыбохвостка, пока перестраиватся ее скелет и мышцы. Это оказалось ужасно больно, но она терпела, помня лицо молодого тригинтадуона. И наконец она впервые в жизни вышла на берег. На своих собственных ногах. Она выглядела прекрасной юной девушкой — ведь все следы генетических мутаций и коррекций были отныне невидимы, сокрыты внутри нее, как в непрозрачном сосуде. Извечная человеческая история — фенотип и генотип. Иной раз в хорошем доме вам могут подать старую, запечатанную сургучом бутылку с вином, розлитым в незапамятные времена. Вы срезаете пробку, предвкушая его сказочный вкус, и вдруг вас тошнит прямо под стол. Потому что серая гниль, проникшая в бутылку много лет назад, превратила вино в зловонную жижу. Но можно ли это сказать по бутылке?.. Извините, я отвлеклась. Только говорить она не могла: горло больше не повиновалось ей. Впрочем, это была ее цена, а в вопросе цены люди иногда делают глупости. Рыбохвостке удивительно повезло. Она отправилась в город и встретила там молодого тригинтадуона со свитой. Увидев ее, он влюбился без памяти. Ничего удивительного — ведь внешне она была очень мила и совершенно не имела дефектов. «Эта девушка, должно быть, на удивление чистой крови! — воскликнул потрясенный тригинтадуон. — Возможно, она принцесса или дочь какого-то сеньора. Такая красота невозможна для обычного человека. Клянусь, я возьму ее в жены!» Так и случилось. Он взял ее в жены, несмотря на то что она была нема, уверенный в том, что это не генетический дефект, а последствия травмы. Пара стройных женских ног, как выяснилось, весомый аргумент в любом споре, включая чистоту крови…
— Он женился на ней, не сделав генетического анализа? — удивленно спросила Гретель.
Геноведьма легко погладила ее по белым как снег волосам:
— Мое дитя… Любовь способна ослеплять людей сильнее, чем наследственный дефект сетчатки. Нет, он не сделал анализа. Он был убежден в том, что она чистейшей крови. А она, в свою очередь, не собиралась его разубеждать. Зачем? Кто своими руками режет горло своему счастью?.. Но если геноведьма и ждала благодарности от бывшей Рыбохвостки, которая теперь жила во дворце тригинтадуона и носила в себе его ребенка, то напрасно. Вскоре после свадьбы ее схватили слуги новой госпожи и, удавив петлей, швырнули тело в сточную канаву.
— Почему? — забыв про осторожность, выдохнул Гензель. — Почему они сделали это?
Геноведьма слегка наклонила голову. Посадка ее головы была безупречной, а шея — стройной, как у лебедя. Ни одна из женщин, виденных Гензелем дома, не могла бы похвастаться подобным телосложением и грациозностью движений. Но было это даром природы или же следствием наложенных ею геночар?.. Гензель не был уверен в том, что хочет знать это. Была бы его воля, он предпочел бы вовсе не получать ответов на вопросы, покинув странный дом поскорее.
— Вопрос цены. — На губах геноведьмы заиграла саркастическая улыбка. — Счастье новой жены тригинтадуона стоило жизни одной ведьмы, разве не так? Вдруг их секрет выплыл бы наружу и тригинтадуон внезапно узнал бы, что женщина, которую он почитает едва не за святую, за непорочное и генетически чистое вместилище духа Человечества, суть грязный мул, проживший всю свою жизнь в зловонных морских водах и жрущий сырую рыбу? Она ведь была испорчена от рождения, а зелье дало ей ноги, но не новую суть. Оно изменило ее фенотип, но не генотип. Ты ведь знаешь разницу, дитя мое?
Гретель отозвалась мгновенно. Для нее этот вопрос, в отличие от Гензеля, не представлял никакой сложности.
— Фенотип — это наше тело. Его черты и свойства. Генотип — то, что спит в нем, но что мы передадим нашим потомкам. Но они не равны друг другу. Можно выглядеть как настоящий человек, но при этом рожать одних только жаб…
— В общих чертах правильно. Изменения, которым подверглась Рыбохвостка, касались лишь ее, но отнюдь не ее потомства. Можно изменить внешность, но природу изменить невозможно. За эту сделку Рыбохвостка заплатила голосом, а геноведьма — жизнью.
— Закончилось, конечно, как обычно? — Гензель не скрывал разочарования. Большой знаток подобных историй, он знал несколько дюжин подобных концовок. — Они полюбили друг друга и жили вместе еще сто лет в любви и почете?
Голос геноведьмы стал прохладней. Может, всего на полградуса, но Гензель это отчетливо почувствовал. Вероятно, это был лишь порыв прохладного воздуха, донесшийся из огромных легких мясного дома?..
— Ты-то любишь скалки, Гензель?
Он смутился.
— Не то чтобы люблю… Но кое-что знаю.
— Мой брат знает все сказки на свете, — невпопад похвасталась Гретель, вытирая рукавом испачканное после трапезы лицо.
Геноведьма задумчиво провела пальцем по своему идеально очерченному подбородку.
— Не все сказки, которые рассказывают о геночарах и геноведьмах, правдивы. Люди, которые их рассказывают, часто предпочитают искажать то, чего не понимают, или изменять концовки, которые им не по вкусу. Наверно, это тоже часть человеческой природы. Они хотят, чтобы геночары выглядели загадочными и прекрасными, но совершенно не желают узнавать их подноготной. Подлинное описание процесса делает сказку скучной, а настоящие события — страшной. Если бы сказки рассказывали сами геноведьмы, никто не стал бы их слушать, а дети разбегались бы, плача…
— Так чем закончилась история с тригинтадуоном и его женой?
— История закончилась тем, что бывшая Рыбохвостка родила от него. Наивная душа. Впрочем, многие убийцы чересчур наивны, это их губит… Заполучив прекрасный фенотип, она забыла, что внутри ее генотипа скрывается грязь генетической скверны. Забыть про содержание, упиваясь изысканной формой, — это ведь так по-человечески, верно?.. То ли она понадеялась, что сила любви исправит то, чего не смогли исправить лучшие генетические технологии мертвой ведьмы, то ли просто уверилась в том, что чиста и здорова, разглядывая в зеркало свое новое тело…
— Кто у нее родился? — взволнованно спросила Гретель. Судя по тому, как сжались ее губы, она не ожидала хорошей концовки.
— Иногда бывает такое, что в семье чистых кровью аристократов рождается что-то нелицеприятное, иногда с лишней парой ушей или стрекозиными глазами. Ты ведь знаешь, Гретель, что один процент порченого генома, особенно объединенный с таким же у второго родителя, может привести к чудовищным последствиям? Ну конечно же знаешь. Как глубоко мы ни погрузились бы в чертоги геномагии, всех ее законов и принципов нам никогда не познать. Включая принципы наследования. Какая сила в мире отвечает за то, какими хромосомами вы наделите свое дитя?.. У двух квартеронов, в каждом из которых по пятнадцать процентов порченой крови, может родиться вполне здоровый ребенок, у которого процент будет не выше десяти. Вопрос лишь в том, что он возьмет от своих родителей… Представь, что будет, если взять ведро, насыпать в него поровну чечевицы и фасоли, а потом запускать туда вслепую руку. Вероятность того, что ты вытащишь, чечевицу или фасолину, будет приблизительно одинакова. Но даже если наполнишь ведро почти одной фасолью, всегда остается мельчайший шанс, что вытащить чечевицу, так ведь? Точно так же крошечный генетический брак почти чистокровных родителей может вызывать непредсказуемые уродства плода. Подобные уродства часты в благородных домах, поскольку, как я уже сказала, многие сеньоры отнюдь не настолько чисты кровью, как записано в их генетических картах.
— Ее муж не был чист? — настороженно спросил Гензель. Эта история ему с самого начала не понравилась.
— К несчастью для Рыбохвостки, ее муж был самым настоящим тригинтадуоном с минимумом примесей в геноме. А вот она от рождения была самым настоящим мулом — с соответствующим приданым. Это был союз красавицы и чудовища. Только чудовищем была она сама. А такие союзы, как правило, обречены…
— Ребенок их тоже был мулом? — спросила Гретель удивительно спокойным тоном, который не понравился Гензелю: очень уж по-деловому это прозвучало.
Геноведьма покачала головой.
— Он не был мулом. Семьдесят восемь процентов бракованного генома. Больше половины. Это даже не мул, это человекоподобное чудовище. Таких обычно изгоняют из города, если попросту не убивают при родах.
Гензель машинально стиснул зубы, забыв про еду. Да, то, что рассказывала геноведьма, было плохой, крайне плохой сказкой. По крайней мере, он не был уверен в том, что захочет кому-то ее пересказать.
— Их ребенок был с тремя недоразвитыми руками, сплющенной головой и расколотой волчьей пастью. От своей матери он унаследовал чешую и сильный голос. Говорят, когда он кричал, лопались стекла в дворцовом лазарете… Счастливый отец, ослепленный любовью, весьма быстро обрел ясность зрения. Через час его избраннице насильно сделали генетическую пробу. Через три — Рыбохвостку заживо четвертовал на плахе королевский палач. Говорят, в наказание за ее коварство тригинтадуон повелел каждый год сбрасывать на ее безымянную могилу телегу протухших рыбьих хвостов… В городе, где она жила, эта могила даже стала местной достопримечательностью. Вот так закончилась история про одну наивную девицу и одну глупую ведьму.
— А что сталось с… ребенком? — спросил Гензель против воли.
Но геноведьма лишь пожала плечами:
— Не имею представления. Должно быть, свернули шею и скинули в подвал. Вы даже не представляете, как часто под дворцами встречаются подвалы, набитые плодами несчастной любви…
— Это… плохая сказка, — выдавил из себя Гензель.
Геноведьма мягко коснулась его плеча. Рука у нее была невесомой, а кожа — почти такой же бледной, как у Гретель.
— Зато подлинная до последней точки. Ну а теперь ваш черед рассказывать, зверята. Я уже знаю, что вы из Шлараффенланда, но все еще не представляю, что заставило вас безрассудно углубиться в Ярнвид. Вы ведь, наверно, понимаете, что это не лучшее место для прогулок?
Гензель тщетно пытался нащупать взгляд сестры, сам не зная для чего. Предупредить ее? О чем? Намекнуть, чтобы не откровенничала с геноведьмой? Тоже бессмысленно. Что толку скрывать правду, особенно сейчас, когда они оказались заложниками чужой воли? И пусть воля эта пока что служила им спасением, Гензелю отчего-то не хотелось излишне злоупотреблять чужим гостеприимством. Особенно гостеприимством геноведьмы.
Когда-то давным-давно, когда Гретель только начинала свое обучение, Гензель набрался смелости и спросил у мастера Холдейна про геноведьм. Геномастера таких разговоров обыкновенно не любили, а рассказы о геноведьмах часто объявляли досужими домыслами и базарным враньем. Известное дело. Скрючит какую-нибудь старуху из Шлараффенланда застарелой генетической хворью, много лет спавшей в организме, — она первым делом геноведьму помянет, которая наверняка окажется ее соседкой. Вылезет у рабочего с фабрики чирей на причинном месте — он, конечно, неведомую геноведьму проклянет, мол, навела порчу… На геноведьму можно было списать болезнетворную мутацию риса на полях и новорожденного безголового теленка у коровы. Раковую опухоль и невкусный обед. Засохший сад и скверное настроение.
Но мастер Холдейн не стал говорить ничего такого.
«Всякие есть ведьмы на этом свете, — задумчиво сказал он, откладывая книгу, в которой что-то показывал Гретель. — Иные среди них — старательные и даже талантливые люди, которые из-за излишнего количества порочной крови не имеют права на поступление в наш закрытый цех. Но есть и другие. Этих гонят вперед жадность и зависть. Как правило, такие люди сами пребывают в плачевном генетическом состоянии и уверены, что изучение запретных технологий поможет им обрести счастье через трансформацию собственного тела… А жадность и зависть, Гензель, мой мальчик, реагируя друг с другом, всегда на выходе производят злость. Злость к тем людям, которые чувствуют себя хорошо без генетических чар. Отсюда все эти проклятия, яды и превращения. Человек, отправившийся по темной тропинке запретной геномагии, обречен неизбежно меняться с каждым шагом, и чем дальше эта тропинка его заведет, тем меньше в нем останется искреннего и человеческого. Привыкая играть с геномом, как с детскими кубиками, многие утрачивают чувство меры, а вместе с ним — адекватность в оценке и суждениях. Впрочем, как я уже сказал, всякие бывают ведьмы… Приходилось мне знать и таких, что производили вполне хорошее впечатление. Тут, малыш, все зависит от мотивов, от устремлений души…»
— Ну, что молчите? — спросила их геноведьма нетерпеливо. Закончив собственный рассказ, она вернула себе благодушное настроение, на губах опять мелькала улыбка. — Неужели это такая жуткая тайна, что вы не можете ею поделиться?
Гензель вздохнул. Кажется, за угощение и кров придется расплачиваться собственной историей. Если подумать, не такой уж и плохой обмен. По крайней мере, ничем им не грозящий.
— Это все Мачеха, — неохотно начал он. — Из-за нее все. В общем, дело такое… Город у нас не очень чистый, хватает и мулов, и болезней всяких. А дети год от году рождаются все страшнее и страшнее. Раньше, говорят, половина Шлараффенланда окторонами была, то есть максимум шесть процентов порченого генома, а мулов — тех почти вовсе не было…
— Замкнутая среда, ограниченный генофонд, — кивнула геноведьма так, будто мгновенно ухватила смысл на полуслове. — Ничего удивительного. Представь, что город ваш… как он называется? Шлараффенланд?.. Что город ваш — как котел на огне. Замкнутая генетическая система. Едва ли ты поймешь, но вот сестра твоя — точно… Если в котле все кипит и клокочет, а крышку снять некому, любая похлебка рано или поздно превратится в месиво. При рождении каждый из нас берет генетический материал от своих родителей, но без сложных исследований никогда заранее нельзя сказать, что именно и от кого он возьмет. К примеру, пятнадцать процентов порченой крови у отца и столько же у матери. Сколько будет у их потомства?..
Гензель попытался сообразить, но вопрос был слишком хитер, и неудивительно — куда уж ему разбираться в геномагических делах!
— Ну же! — спокойно сказала геноведьма. — Вспомни, фасоль и чечевица. Кто может родиться у двух квартеронов?
Так было уже понятнее, ответ подсказывал его опыт и простая смекалка.
— Да кто угодно! — с облегчением сказал Гензель. — Только Человечеству ведомо кто. Может, у них тоже квартерон родится. А может статься, и окторон. Хотя это редко бывает, чтоб окторон — да у пары квартеронов… Окторон — это уже не плевок на мостовой. Окторон на фабрике не работает, он придворным может стать, или ремесленником каким, или…
— Все верно. — Она одобрительно коснулась своими невесомыми пальцами его затылка, и от этого прикосновения Гензеля отчего-то пробрало словно электрическим разрядом. — Если двое людей с грязными ладонями пожмут друг другу руки, никогда нельзя сказать, на ком из них после этого грязи останется больше. Уверенным можно быть только в том, что хоть сколько-нибудь да останется. В городе, где много генетических пороков, вырождений и мутаций, грязь останется навсегда. Кому-то может повезти, его фенотип окажется относительно чистым, он переймет из родительских генов больше чистого, чем порочного. Но это везение, и нечастое. Как правило, наследуют и хорошее, и дурное. Но с каждым последующим поколением дурного становится больше. Плод любви двух квартеронов со значительной долей вероятности может тоже быть квартероном. Но вот у двух мулов, окажись они репродуктивны, шанс разродиться квартероном не больше, чем у искры — зажечь море. Кем были ваши родители?
Этого неудобного вопроса Гензель ожидал, поэтому особо не смутился.
— Отец — тоже квартерон, — сказал он, помедлив лишь самую малость. — Только у него двадцать четыре процента. С рождения одной ноги нет. А мать была окторонкой, она умерла много лет назад.
— Значит, живете с мачехой? — уточнила геноведьма. — А она какой крови?
Гензель непонимающе уставился на нее, но геноведьма, кажется, не шутила и не смеялась над ним. Напротив, ее глаза были холодны и внимательны.
— Никакой, — буркнул он. — Какая же кровь у Мачехи? Отродясь у нее крови не было.
— Мачеха — не человек, — тихо пояснила Гретель своим мелодичным голоском. — У нее нет генома.
Геноведьма озадаченно приподняла красивую изогнутую бровь:
— Как так может быть?
— Да так и может. Она правит Шлараффенландом уже много лет, но никто ее не видел, потому что у нее нет тела. Но у нее есть динамики, камеры, слуги и всякое прочее. Мачеха всех видит, но тела у нее нет. Ну, человеческого…
— Не человек? — настороженно спросила геноведьма. — И при этом правит целым городом? Но кто же она? Цверг? Альв? Вулвер, быть может?
Гензель помотал головой. Удивительно было, что геноведьма не знает самых простых вещей из жизни Шлараффенланда. С другой стороны, это и понятно — чай, нечасто будешь слышать новости, если живешь в ложбине посреди Железного леса, где путники появляются реже, чем солнечные лучи в подвале.
— Не то, не то и не то. У нее механическая душа.
Геноведьма уставилась на него в упор, и от близости ее глаз Гензелю сделалось сперва тепло, а потом — вдруг до неуютности холодно. Ох, нехорошо в такие глаза заглядывать! Не такие прозрачные, как у Гретель, но по-своему чистые, даже как будто блестящие — ну точно герметичные крышечки стеклянных контейнеров с неизвестным, но очень едким веществом. А что в этих контейнерах плещется — одному Человечеству ведомо…
— Вашим городом управляет машина? Никогда прежде не слышала о таком.
Гензель смущенно почесал пятерней в затылке. Судя по всему, рассказ окажется дольше, чем ему того хотелось бы. Пожалуй, придется все рассказывать с самого начала!..
— Когда-то давным-давно Шлараффенландом правил граф. Говорят, он был чистым человеком по крови, ни даже сотой доли процента скверны. Вот так-то. Только наследников он не оставил. Болтают, что не мог он зачать ребенка, потому что мутант был, но на то человеку язык и дан, чтобы болтать им когда ни попадя… Умер он, значит, а наследника у трона нет. Тогда-то все и началось. Сеньоры пошли войной друг на друга и воевали лет, может, сто, а то и все двести. Бились, значит, за шлараффенландскую корону и гибли, говорят, стаями, как вороны на зараженном поле. Травили друг друга газами, стрелялись, даже армии мехосов нанимали.
— Эволюция в миниатюре… — пробормотала геноведьма, явно ни к кому не обращаясь. — Люди пожирают друг друга так же яростно, как одноклеточные твари в пробирке. Надо полагать, случилась ничья?
Она задумчиво крутила в тонких пальцах начисто объеденную кость, зачем-то разглядывая ее под разными ракурсами, как занятную деталь сложной головоломки.
— Перебили друг друга, — подтвердил Гензель. — Всех чистокровных господ в округе вырезали, словно мор прошел. Нынче в городе тригинтадуонов едва ли полдесятка наберется, а раньше, говорят, счет на сотни шел. И, значит, те, кто выжил, не торопились за золоченый стул воевать, и так уже потрепанные были, как собаки после уличной драки. Ну и порешили, что лучше пусть королевством механическая душа управляет. Мачеха то есть. Говорят, где-то у нее есть настоящее тело — из чистого золота, а внутри него шестеренки крутятся, все из алмазов и драгоценных камней…
Геноведьма небрежно откинула кость, та звякнула по тарелке. От этого звука Гензель отчего-то едва не вскочил из-за стола.
— Они назвали компьютер Мачехой? Какое странное название.
— Ну, не сразу, — смутился отчего-то Гензель, хотя ровным счетом никаких поводов для смущения не было. — Поначалу его звали Мать. Мол, печется обо всех жителях Шлараффенланда, кормит их, согревает, оделяет жизненными благами… Поначалу, говорят, так и было. Мать считала всех жителей города равными и даже на чистоту крови не смотрела. Каждому полагалось равное количество калорий, и гордые тригинтадуоны лопали ту же белковую похлебку, что и последние мулы. Мать открыла больницы, где лечили запущенные генетические хвори, а детей запретила приставлять к тяжелой работе. В общем, все ее славили как мать родную. Правда, это еще давно, до моего отца было. Я такой Матери не помню, и отец тоже не помнил. При его жизни ее уже Мачехой кликали.
Геноведьма понимающе усмехнулась.
— Могу предположить, что у вашей механической души испортился характер?
— И так тоже говорят. На улицах по-разному судачат… Одни считают, это какой-то сбой у нее во внутренностях, мол, драгоценные шестерни за много лет повытерлись и соскакивают друг с друга. Но это дураки так считают. Другие говорят, просто ресурсы города истощились, а генетические болезни участились. И Мачеха вроде как перешла на другую программу. Чтобы экономить посильнее и ресурсов получать больше. А еще говорят, что это все чистокровные сеньоры устроили. Вроде как обработали ее по-хитрому, и теперь она только их и слушает…
— Ясно. Только вы двое тут при чем?
— Мачеха любит детей, — глухо сказал Гензель. Он не хотел понижать голоса, но тот сам отчего-то зазвучал так, словно что-то пережало голосовые связки. — Это всем на улицах известно. В Шлараффенланде ребятня часто пропадает, причем не грязные, вроде мулов, а такие, как мы. Болтают, что слуги Мачехи отправляют таких в лаборатории, где их кромсают ножами, и самые вкусные куски отдают ей.
Но если ваша Мачеха — компьютер, к чему ей детская плоть?
— Не ей. Прочим. Чистокровные сеньоры из детской требухи делают себе генетические лекарства, притирания и декокты. И отдельные куски, случается, себе перешивают. Ну и прочее там болтают… Мол, кое-кто не прочь детского мяса съесть, вроде как полезно оно при генетических проклятиях и порче…
— Допустим, не врут, — заметила геноведьма, и от ее взгляда у него вновь похолодело внутри, будто все его органы переложили аккуратно тонкими ледяными пластами. — Конечно, есть детское мясо практически бесполезно, это предрассудки и выдумки. Но то, что детские ткани и органы могут кое-кому значительно поправить здоровье, — самая истинная правда. В детском организме текут свои, особенные процессы. Кроме того, знаешь ли, генетические болезни, которые развиваются вместе с человеком, еще не набирают достаточно сил, чтобы отравить весь организм. Так что детские потроха, как ты выразился, могут быть источником ценных генозелий. Очень ценных.
Гензель вновь почувствовал себя ужасно неуютно. Не на своем месте. Точно косточка, затерявшаяся в огромном желудке. Может, ему померещилось, но взгляд геноведьмы, устремленный на него, был не просто холодным. Он был… каким-то оценивающим. Так на рынке придирчивые хозяйки глядят на разложенный товар, машинально прикидывая в уме, какую часть пустить на прокорм подмастерьев и слуг, какую подать на стол, а какую выкинуть в канаву. И в который раз вспомнились все истории про геноведьм — паршивые, надо признаться, истории…
— Значит, вы бежали, — подвела она итог. — И были настолько глупыми зверятами, что бежали прямо в Железный лес.
— Отец завел, — сказал Гензель хмуро. — Мол, на охоту пошли… В первый раз мы домой из лесу вернулись. Гретель катышками запаслась, они путь и указали.
— Катышками? Какими катышками?
— Да мелкими такими… Сестрица, покажи.
Гретель запустила руку в карман платья. Тоже без особой охоты, как заметил Гензель. Катышки, которые она положила на столешницу, оказались едва живы, и, чтобы заметить это, не требовалось быть геномастером. Они сморщились, посерели и едва заметно для глаза подергивались. Судя по всему, в их крошечных телах была заключена лишь малая крупица жизни, и теперь, спустя несколько дней после сотворения, они были на пороге смерти.
Гензель даже испытал подобие жалости к этим уродливым бесформенным комочкам протоплазмы. Они были рождены с одной лишь простой целью и слепо стремились к ее выполнению, не понимая ни ценности ее, ни смысла. Они были порождением жизни, а всякая жизнь, как известно, слепа, глупа и упорна.
«Может, мы их ближайшие родственники, — подумал Гензель с мысленной усмешкой, которая мало чем отличалась от его жуткой обычной усмешки. — Может, и человечество — невесть кем сотворенные комочки жизни, которые брошены кем-то в землю и, сами того не зная, выполняют какое-то задание?»
Но мысль эта показалась никчемной, пустой. Насколько было известно Гензелю, человечество не выполняло никаких заданий, лишь размножалось, уродуя каждое последующее поколение сонмом генетических отклонений, проклятий и хворей.
Геноведьма катышками неожиданно заинтересовалась. Добрую минуту разглядывала их своими красивыми, хоть и холодными глазами, даже тыкала аккуратно ногтем.
— Хорошая работа, — наконец произнесла она одобрительно. — Очень даже. Многоклеточный организм с развитым функционалом и сформированными генетическими цепочками. Не без огрехов, но все же… Сколько они живут?
— Неделю, — покорно сказала Гретель. — В тепле побольше, на холодке поменьше…
— Никаких органов чувств? Никакой центральной нервной системы?
— Угу. Они только светятся по ночам.
Геноведьма взяла один катышек и медленно раздавила его большим и указательным пальцами. Тонкий мешочек лопнул, высвобождая слизистые внутренности, желеобразные и бледно-желтые. Геноведьма покосилась на его потроха и небрежно вытерла перепачканную руку о скамью. От этого жеста Гензеля передернуло.
— Я бы сказала, что подобной работой мог бы похвастаться подмастерье геномастера году на третьем обучения. Даже в такой малости заключено множество сложных генетических аспектов. Но десятилетняя девочка… Ты подаешь надежды, кроха.
Несмотря на благожелательный голос, Гензель вдруг исполнился нехороших мыслей. Похвала, обращенная к сестре, отчего-то показалась зловещей, пугающей. Захотелось побыстрее вскочить из-за стола, взять Гретель за тонкую руку и откланяться.
— Нет у нее никаких задатков, — сказал он грубовато. — Просто по книгам старым нахваталась, и все. Тоже мне большое дело.
— О нет. — Губы геноведьмы вновь изогнулись, но сложно было сказать, улыбка ли это. — Вовсе не каждая способна стать геноведьмой, прочитай она даже тысячу книжек. Геномагия требует не только знания формул и процессов, что протекают в клетках. Даже тот, кто способен заучить наизусть расположение сотен аллелей, не обязательно станет геномастером. Геномагия сложнее любой науки, потому что вовсе не всегда основывается на цифрах и выверенных закономерностях. Она всегда оставляет простор для интуиции, для неизвестных величин. Слепо следующий аксиомам никогда не добьется высот. Чтобы быть геномастером, надо уметь идти сквозь выученные наизусть правила, отбрасывать проверенные временем формулы и делать то, от чего предостерегают все авторитеты. Геномагия — мир, чьи законы зыбки, обманчивы и зачастую не могут быть поняты человеком, лишь интуитивно использованы. Геномагия — великое множество троп, которые сплетаются самым причудливым образом, и чтобы пройти из одной точки в другую, бесполезно заучивать маршрут, нужно лишь верно чувствовать направление.
Гензель вспомнил, как они с Гретель бежали по лесной тропе, едва видимой, пропадающей и возникающей вновь, непредсказуемой. Наверно, геномагия — это что-то вроде Железного леса, столь же непонятное, огромное, пугающее и опасное. Если так, Гретель точно молодец. Он сам оказался неспособен удержаться даже на одной тропе, ей же, выходит, приходится искать правильную среди сотен прочих…
Когда-то он пообещал отцу заботиться о Гретель и защищать ее. Он делал это, как мог, под сенью Ярнвида. И в этом новом лесу, который раскинулся перед Гретель, она тоже не будет одинока. Он не отпустит ее искать наугад опасные тропы. Особенно в компании этой геноведьмы.
Гензель решительно встал. После обильной трапезы живот казался удивительно тяжелым, аж к земле тянул. В глазах образовалась сладкая слабость, от которой веки норовили захлопнуться, как оконные створки. После такого сытного завтрака — да прикорнуть бы на часик… В мясном доме полно кроватей, наверняка можно выбрать любую и позволить уставшему телу хоть немного восстановить силы. Телу это просто необходимо. Иначе оно не выдержит веса набитого желудка, подломится в коленях…
Надо было уходить, не слушая жалоб глупого тела, уже привыкшего к теплу и сытости. Он сам не мог сказать почему, но чувствовал это своим, может быть акульим, нутром.
— Спасибо за еду, госпожа, — поблагодарил вежливо. — Мы с сестрой очень вам признательны. Спасибо и за гостеприимство. Но пора нам, пожалуй, идти дальше. Железный лес велик, а тропинка наша тянется далеко…
Геноведьма отложила кость, которую крутила в руках. Вытерла жир салфеткой, которую медленно скомкала и отправила в урну — большой мясистый нарост с широкой щелью. Судя по тому, как он глухо заворчал, салфетка оказалась мгновенно переварена, а составляющие ее вещества поглощены огромным организмом.
— Вы так сильно спешите?
— Угу, — выдавил Гензель, его запас красноречия, и так небогатый, стремительно иссяк. — Нам пора. Извините.
Геноведьма взглянула на него с укоризной:
— Как это невежливо — убегать, едва только завязалась интересная беседа. Впрочем… Лучше бы вам не торопиться, дети. Вы получили от меня безопасность, пищу и ответы, но как знать, может, этим мои богатства не ограничиваются?.. Может, я могу предложить вам кое-что еще?
В запахе мяса Гензелю почудилось что-то лишнее. Вроде тонкого запаха гниения. Даже желудок, несколькими минутами ранее напряженно урчавший, вдруг напрягся, перестал выделять сок. Голос ведьмы звучал доверительно, ласково, мягко, но именно в нем ему вдруг почудилось что-то неладное. Может, именно так акулы, обитающие в морях, которые он никогда не увидит, чувствуют аромат яда в брошенной им наживке?..
— Что? — спросил он, не зная, как повести себя. — Что вы хотите нам предложить?
— Прежде всего — твоей сестре. — Геноведьма провела рукой по волосам Гретель, слегка разлохматив их, — точно легкий ветерок прошелся по заснеженному кусту. — Конечно, и ты в обиде не останешься, но она — прежде всего. Милая Гретель ведь на самом деле вовсе не обычный квартерон, каким ты, конечно, привык ее считать.
— А что с ней?
— Твоя сестра талантлива, это надо признать. В ее возрасте я демонстрировала сходные результаты. А это говорит о многом. Поэтому я могу дать ей кое-что большее, чем бесплатный завтрак, зверята. Я могу принять ее в обучение.
В горле вдруг появился огромный комок, точно Гензель попытался проглотить, не жуя, целую лепешку.
Гретель — в ученицы к геноведьме?.. Да скорее он отгрызет себе руку!
— Она квартерон, как и я, — отрезал Гензель, чувствуя предательскую слабость в груди. — Ей никогда не получить патента. Она не может стать геномастером!
— Разумеется, — мягко согласилась геноведьма. От ее ослепительной красоты Гензелю отчего-то стало душно. — Но она может быть геноведьмой.
Гензель упрямо мотнул головой, избегая ее взгляда. Но и на сестру он старался отчего-то не смотреть. Быть может, оттого что впервые в жизни ему было страшно узнать, что на нем написано. Или оттого, что он уже подозревал — что.
— Моя сестра не станет геноведьмой! — крикнул он, вспыхивая от негодования. — За это полагается костер!
— Только в вашем провинциальном Шлараффенланде, — невозмутимо усмехнулась геноведьма. — Но, насколько я понимаю, вы не торопитесь туда вернуться? Поверь, маленькая акула, в мире есть много мест, где опытная геноведьма может жить в свое удовольствие, не боясь костра.
— Например, в чаще Железного леса? — ядовито осведомился Гензель.
Это было слишком резко. Это граничило с грубостью. Глаза геноведьмы сверкнули. Неярко, но огонек этот был, несомненно, опасен.
— Не думаешь же ты, что я предлагаю обучение любой встреченной девчонке? Твоя сестра одарена. Геномагия даст ей богатство, могущество, безопасность и смысл существования. А что можешь дать ей ты, мальчишка с ужасными зубами? Смерть в здешнем ядовитом болоте? В когтях какого-нибудь кошмарного порождения? От голода? Вы всего лишь двое детей, заблудившихся в лесу, и вам не выбраться без помощи.
Живот делался все тяжелее. Приятное чувство сытости отчего-то стало слабостью, медленно ползущей из желудка по всем членам, связывающей их невидимой паутиной, гнетущей.
— Мы попытаемся, — пробормотал Гензель, чувствуя, что и язык начинает заплетаться.
Что же это такое? Отчего тело так клонит к земле? Почему перед глазами мелькают пестрые мошки? Гензель попытался сделать шаг к двери, но вдруг споткнулся и едва не упал. Как в тот раз, когда мальчишка на улице поставил ему подножку. Но в этот раз никто к нему не прикасался. Его нога просто врезалась в пол, отказавшись продолжить шаг. Гензель уставился на нее, чувствуя, как его вспотевшей кожи на животе и боках касаются скользкие хитиновые усики страха.
Геноведьма легко и беззвучно поднялась из-за стола. Бледная, в черном платье, она напоминала причудливую тень, дрожащую в неверном освещении лантернов.
— Ты слишком глуп для того, чтоб быть геномастером, звереныш. Слишком ограничен. Ты — кусок слежавшегося угля, которому никогда не стать алмазом. Но твоя сестра… Она из куда более прочного материала. Надо лишь огранить его, придать форму… Гретель! Гретель, пришло время тебе сказать свое слово. Хочешь ли ты остаться со мной и учиться у меня геномагии? Хочешь ли обрести безграничную власть над живой материей? Творить магию плоти?
Гензель с трудом повернулся. Голова казалась набитой влажными ватными тампонами, ужасно тяжелой и невероятно легкой одновременно. «Отрава!» — подумал Гензель, отчаянно сражаясь за свое тело, которое с каждой секундой все меньше оставалось сто собственным. Оно погружалось в стылые глубины подобно кораблю с огромной пробоиной.
Гретель привалилась спиной к стене. Кажется, она даже не могла оторваться от скамьи. Геноведьма подошла к ней, села напротив и вгляделась в бледное лицо. С удовлетворением, которое таяло на дне пересыхающего сознания, Гензель отметил, что растерянности и страха на этом лице не было. Напротив, в нем обозначилась твердость, которой он прежде не замечал. Твердость, из-за которой ему даже показалось, что это лицо не его сестры, а ее близнеца, сотворенного геномагией в пробирке.
Гензель тяжело привалился к столу, рук своих он не чувствовал, а ноги были уже бессильны выдержать вес тела. Кажется, у него осталось совсем мало времени. Он попытался залезть рукой в карман, где лежал нож, но рука лишь беспомощно дернулась раненой птицей. Он почувствовал, как неодолимая тяжесть, взгромоздившись ему на шею, тянет голову к столу. Кажется, уже трещит от непомерных усилий позвоночник…
Сейчас разум выключится, он это чувствовал. Гибельный яд пропитал все тело и забрался в каждую клетку. Единственное, от чего Гензель ощущал удовлетворение, — предвкушение того, как геноведьма разозлится, услышав отказ. Возможно, единственное, что он захватит с собой в темноту, будет выражение ярости на ее безупречном лице. И гордость за сестру.
— Глупые дети, — сказала геноведьма мягко, почти ласково. — Вы думали, что можно вломиться в дом геноведьмы, отъесть от него кусок и уйти как ни в чем не бывало? Какая удивительная наглость. Неужели вы не знали, что гости геноведьмы уходят, когда она этого захочет, а не когда им вздумается? Вы слишком ценны, чтобы умереть в каком-нибудь овраге. Даже сами не подозреваете, насколько ценны. Особенно ты, Гретель. У нас с тобой разный генокод и фенотип, но ты не представляешь, до чего мы внутренне похожи. В нас с тобой куда больше общего, чем у тебя с твоим братом. Там, куда вел тебя он, ты никогда не добилась бы ничего стоящего. Бастард, квартерон, городская чернь, пожива для Мачехи… Там, куда отведу тебя я, ты станешь хозяйкой геномагии, повелительницей плоти, властительницей тел и душ. Хочешь ли ты идти со мной дальше, Гретель? Хочешь творить настоящие чудеса?
— Да, — сказала Гретель, подбородок ее дернулся, но глаза смотрели уверенно и спокойно. — Хочу.
Гензель перестал сопротивляться. Позволил теплым и тяжелым волнам нести его тело в любом направлении. И в следующий миг волны накрыли его с головой, задавив и размыв все остававшиеся мысли.
Он даже не представлял, насколько медленно тянется время, если не видишь солнца. В Железный лес солнечный свет пробирался лишь в виде крохотных капель, словно ему приходилось с величайшим трудом просачиваться сквозь грубую, как дратва, листву. Но и там всегда можно было понять, когда вокруг царит день, а когда ночь. В новом обиталище Гензеля невозможно было определить даже этого.
Тут не было окон, даже крошечных, со всех сторон его окружала бугрящаяся плоть, покрытая скользкими жировыми отложениями. Эта плоть жила, шевелилась, в ее недрах текли тысячи неизвестных ему процессов, что можно было ощутить, стоило лишь приложить к ней руку. Но Гензель, напротив, старался держать руки подальше от этой массы — теплая, немного липкая, она была неприятна и вызывала ощущение, что он запустил пальцы в чью-то свежую рану.
Камера его была небольшой, можно пересечь в пять коротких шагов. Но это было именно камерой, в чем он не сомневался с того самого момента, как очнулся здесь. Она не похожа была на камеры Мачехи, подземные бетонные казематы, источающие вонь разложения, мочи, ржавчины и плесени. Даже своей формой, неправильной, лишенной симметрии, она отличалась от них. Но Гензель не питал иллюзий. Здесь не было мебели, лишь сливное отверстие, забранное плотной и твердой органической мембраной, да узкий проход, закрытый решеткой.
Решетку эту Гензель изучил первым же делом — самая настоящая кость. Ну разумеется, что же еще может использовать геноведьма в своем живом доме?.. Кости были не очень толстыми, с палец толщиной, но столь прочными, что не трещали даже тогда, когда Гензель изо всех сил попытался переломить один из «прутьев», — трещали лишь его собственные зубы. Наверно, в этих костях куча кальция… Гретель разобралась бы в этом, но Гретель здесь не было. Только он один в окружении собственных мыслей, колючих и острых, как стая кружащих плотоядных рыб.
Чертова груда мяса! Гензель трижды проклял собственную беспечность, погубившую их с сестрой. Будто не говорил им отец с самого рождения, что всякая дармовщинка окупается кровинкой. Почувствовал себя вдали от Мачехи, размяк, успокоился… Добро бы себя загубил, но Гретель!.. Ему даже взвыть захотелось от этой мысли, но зубы остались намертво стиснуты. Как знать, нет ли в его камере хитроумно спрятанных барабанных перепонок, которые способны доносить звуки до хозяйки?.. Ни к чему радовать ее своими стонами.
При мысли о геноведьме, отравившей его и заточившей в живом мешке, Гензель ощутил, как знакомая ледяная ярость внутри его тела выделяется неведомыми железами, заставляя пальцы трепетать от нетерпения и наполняя рот слюной. О, чем-то он точно ее порадует… Рано или поздно ей придется прийти сюда, хотя бы для того чтобы накормить. И тогда… Он представил, как она протягивает сквозь костяные прутья решетки свои руки с миской, и как он одним гибким движением хватает их за тонкие запястья. Хруст суставов, треск рвущейся ткани, свинцово-соленый привкус свежей крови на зубах… Он разорвет ее плоть так же легко, как сделал это с ее домом. Изувечит. Растерзает. Размолотит зубами. Он даже слышал крик боли и ужаса геноведьмы, глядящей на обрубки своих рук… Попробуй-ка сотворить свои геночары без пальцев, дьявольская тварь!..
Но никто не приходил. Коридор, обтянутый пульсирующими складками плоти, оставался пуст. Гензель продолжал ждать, заставляя свое нетерпеливо ерзающее тело не менять позы. Геноведьма должна считать, что он слаб и лишен сил. Но вот чего у него действительно осталось мало, так это терпения. Прождав несколько часов, Гензель не выдержал и стал ходить вдоль своей камеры, вновь и вновь отсчитывая пять коротких шагов. Неужели про него забыли? Бросили умирать голодной смертью? Едва ли. Геноведьмы, несомненно, хитрее и прозорливее обычных смертных, что им толку с тела мертвого квартерона, да еще и мальчишки? Если бы она хотела его убить, несомненно, выбрала бы более эффективный и удобный способ. Значит?..
Воображение пришлось укротить, как злого и прожорливого зверя. Видит Человечество, сейчас ему как никогда нужна трезвая голова и ясный взор. И еще терпение. Вот уж чего ему никогда не хватало…
Часы тянулись бесконечной вязкой массой, как комья перемалываемого в огромной мясорубке кишечника. Гензель составлял один план за другим, потом отбрасывал неудачные, придумывал новые детали, комбинировал, вновь возвращался к исходным…
Наверняка геноведьма не будет так глупа, чтобы засовывать руки в его клетку. Может, она просто протолкнет миску с едой. Тогда его оружием будет посуда. Быстро подхватить глиняную миску — и швырнуть ее сквозь прутья решетки, прямо в ненавистное лицо, бесстрастное и насмешливое. Хруст, брызги крови на матовой коже, лопнувшие губы… Этот вариант стоит запомнить.
Если геноведьма будет столь глупа, что в еде будут попадаться кости, — еще лучше! Он станет украдкой прятать их в камере. Пусть даже они будут совсем небольшими, он найдет им применение. В Шлараффенланде из осколков костей делали отличные наконечники для стрел. Что мешает ему сделать маленький, но бритвенно острый нож?.. Конечно, точильного камня здесь не предусмотрено, но ему хватит своих собственных зубов. Об их твердости и прочности Гензель имел отличное представление.
А может, надо действовать осторожнее?.. Например, найти в стенах камеры какой-нибудь крупный сосуд и вскрыть его осколком кости. Польется кровь, и это наверняка не останется незамеченным.
Геноведьма всполошится, подумает на какую-нибудь язву или внутреннее кровотечение в недрах своего дорогого дома, тут-то он ее и…
Время шло, и каждый его час казался Гензелю зудящим стежком на свежезашитой ране.
Геноведьмы все не было. Неужели у нее столько дел, что совсем не остается времени на пленника? Или она слишком хитра, чтобы наносить ему визит? Может, она будет посещать его только тогда, когда он спит?..
Гензель вздрогнул, когда в камере раздалось негромкое хлюпанье. Что такое? Воображение мгновенно нарисовало гадостную картину — мешок плоти, в котором он заключен, медленно наполняется жидкостью. Может, даже обычной кровью. И он плавает в ней, как угодившая в винную бочку мышь, пока остается воздух, пока легкие не рвутся на части…
Но крови не было видно. Из небольшого соска, почти неразличимого на фоне багровой плоти одной из стен, потекло что-то белесое и густое, источающее неприятный кисло-молочный запах. Оно быстро застывало в небольшом углублении, загустевая и на глазах превращаясь в хлопья. Гензель окунул в странную жидкость палец, с подозрением обнюхал, потом даже лизнул. Без сомнения, это была какая-то органическая и питательная жидкость. Что-то вроде молочной сыворотки. Вот как ужинают, стало быть, пленники геноведьм — их вскармливают внутренними секрециями живого дома. Здесь никто не ударит тюремщика миской, не чиркнет заточенной костью… Здесь, в недрах огромного куска мяса, попросту не нужны тюремщики.
Гензель не стал есть. С силой шлепнул по углублению босой ногой, отчего жижа разлетелась по всей камере. Если геноведьма думает, что его, как молодого и беспомощного козленка, можно кормить из вымени, ей придется кое-что узнать об упрямстве настоящих квартеронов, которое, как известно, неотъемлемая часть их генокода. Нет, он добьется того, чтобы ей пришлось встретиться с ним с глазу на глаз.
И убьет ее.
Время в заточении текло невообразимо медленно. Стиснутый со всех сторон стенами из бугрящейся мышечной ткани, Гензель не находил себе места. Дома, в Шлараффенланде, их каморка была тоже невелика, к тому же ее приходилось делить с отцом и сестрой, но теперь она казалась ему просторной, как дворец Мачехи. И там стены были стенами, а пол — из обычного камня. Их хижина не сокращалась, проводя сквозь себя питательные соки, не делалась влажной каждое утро из-за выступавшей слизи, очищающей внутреннюю обстановку, не колыхалась, отзываясь на чей-то неслышный зов. Материя, из которой она состояла, была послушной и мертвой. Но отчего-то именно их старый дом в Шлараффенланде сейчас казался Гензелю по-настоящему живым. А нынешняя камера, хоть и была частью огромного и сложнейшего организма, ощущалась чем-то совершенно бездушным.
Кормили его через каждые несколько часов. Соски на стенах начинали подрагивать и извергали уже знакомую белесую массу, к которой Гензель не прикасался. Он попытался высчитать интервалы между кормежками и пришел к выводу, что случаются они трижды в сутки. В любом случае проверить этого он не мог.
Воздух со временем становился тяжелым, затхлым, но затем неизвестным образом очищался. Не было ни щелей, ни каких-либо воздуховодов, а если и были, то слишком мелкие, чтобы Гензель мог их обнаружить. Видимо, в окружающих его тканях имелись микроскопические поры, удалявшие углекислый газ.
Сперва наибольшие проблемы представляло собственное беспокойство, затем — жажда. Но с жаждой Гензель научился справляться. Жидкость, которой каждый день обволакивались органические стены его тюрьмы, обладала способностью отлично утолять ее. На вкус она была неприятна, похожа на сукровицу, но Гензель сумел к ней привыкнуть. С беспокойством справиться оказалось куда сложнее. Одиночество грызло его тысячью зубов, столь острых и зазубренных, что его собственные зубы казались зубами годовалого ребенка. Он представлял Гретель, запертую где-то в недрах этого чудовищного живого дома, напуганную, сбитую с толку, обессиленную, погруженную в мрачные геночары.
«Брось, — иногда говорил ему внутренний голос, злой и упрямый. — Она выбрала свою собственную тропинку, твоя сестрица. Пошла ученицей к геноведьме. Не пошла — сидела бы рядом с тобой. Небось сейчас на жизнь не жалуется. Учится геномагическим премудростям и ест себе на посуде, как человек, а не вымя сосет…»
Но подобные мысли утешали слабо, а честно говоря, и вовсе не утешали. Он-то знал коварство геноведьм, которое оказалось ничуть не приукрашено рассказами. Геноведьма заманила Гретель в свои дьявольские сети, сковала ее волю, парализовала, как мышцы, сознание возможностью заполучить невероятную власть над живой материей и самой жизнью. Гензель знал, чем кончают все геноведьмы.
Рано или поздно их настигает кара за их еретическое, проклятое Церковью Человечества стремление посягнуть на святость генокода. Иногда расплату несет топор палача, иногда само провидение примеряет на себя багровый колпак с прорезями. Всем известно, что геноведьмы часто губят сами себя в попытке обойти очередное запретное препятствие. А как часто гибнут ученицы и подмастерья геноведьм?..
Гензель тихо застонал. А если Гретель и уцелеет в когтях геноведьмы, что станется с ее чистой и детской душой? Не почернеет ли она в череде безумных экспериментов и генетических чар, не сделается ли уродливой, изувеченной, желающей лишь боли и страданий?..
Убедившись, что никто не спешит его навестить, Гензель удвоил свои попытки бежать из плена. Но спустя лишь несколько часов был вынужден признать, что, даже утрой он их, результат все равно выражался бы одним монументальным и безысходным нулем.
Стены лишь казались сложенными из гладкой и податливой плоти. Когда Гензель попытался проковырять отверстие в пульсирующих волокнах, выяснилось, что ткани защищены своеобразным эпидермисом, тонким, но чертовски прочным. Он не поддавался пальцам, отказываясь растягиваться или рваться. В отчаянии Гензель пустил в ход зубы, рассчитывая растерзать плоть и проделать отверстие наружу, но и тут его ждала неудача. Мышечные волокна были почти неподатливы. У него возникло ощущение, что он пытается откусить кусок от плотной резиновой покрышки. И это с его зубами, способными одним щелчком отхватить руку взрослому человеку!..
Несколько раз ему удавалось разорвать верхний слой, отчего по подбородку текла чужая кровь, но успех быстро оборачивался поражением — кровь эта мгновенно сворачивалась — вероятно, каким-то образом мясной дом увеличивал количество тромбоцитов в ней. Рана тут же запекалась, и процесс рубцевания латал все нанесенные повреждения.
Разглядывая стену из пульсирующего розового мяса, Гензель угрюмо подумал, что с такой системой регенерации нанести существенный ущерб ему удалось бы разве что пушкой.
Гензель искал крупные кровеносные сосуды, которые можно было бы разгрызть и вызвать сильное кровотечение, но таких сосудов в его камере не оказалось. Геноведьма была не так глупа, как ему отчего-то представлялось сперва. Никаких жизненно важных органов в его камере не было, да и не могло их здесь быть. Только переплетения мяса и жира, неподатливые и плотные, как броневые листы.
«Я оказался запечен в мясном пироге, — подумал отрешенно Гензель после очередной попытки, столь же безрезультатной, сколь и утомительной. — Вот чем я закончил. Беспомощная начинка. Стоило ли ради этого бежать из Шлараффенланда?..»
Без пищи Гензель быстро слабел. Когда, по его подсчетам, прошло пять дней заключения в мясной утробе, сил было слишком мало даже для того, чтоб продолжать попытки проделать отверстие в стене. Впрочем, он больше не упорствовал. Теперь он целыми днями лежал почти в полной неподвижности, глядя на пульсирующий багровый свод своей камеры. Что толку трепыхаться мошке, попавшей в чужой желудок?
Наверно, он так и умрет здесь, тихо и незаметно. И лишь когда его тело начнет разлагаться, чувствительный организм дома геноведьмы почувствует что-то неладное. Может, он даже отравится его, Гензеля, трупным ядом? Было бы неплохо…
Но Гензель недооценил свою тюремщицу.
Она пришла к нему на шестой день. Гензель сквозь сон услышал легкий шорох, но не обратил на него никакого внимания, посчитав очередной реакцией в недрах организма. Организм производил много звуков, а шестидневный пост обострил слух. Слишком поздно он сообразил, что подобный шорох могут производить лишь подошвы, легко касающиеся пола.
— Гензель…
Он вскинулся — со сна ему показалось, будто голос принадлежит Гретель. За те две секунды, что ушли у него для того, чтобы убедиться в ошибочности этой мысли, сердце успело сделать добрую дюжину ударов.
Гретель!..
Геноведьма улыбнулась ему. Красивое ухоженное лицо с тонкими чертами. Глаза ее, как и прежде, казались кристально-чистыми иллюминаторами в мир, заполненный клубящимися холодными облаками. Очень красивое по шлараффенландским меркам лицо, удивительно молодое и естественное. Ни бородавок, которые украшали лица многих женщин в его родном городе уже к двадцати годам, ни нарушений пигментации, из-за которых щеки и лбы выглядели пересыхающими коричневыми болотами, ни даже оспяных воронок. У квартеронов редко бывают такие лица, даже у окторонов подобные редкость. Слишком чистые и естественные черты, слишком свежая и гладкая кожа. «Кто же она? — подумал Гензель, еще толком не проснувшись, взирая на геноведьму снизу вверх. — Неужели это проклятое существо — настоящий человек?..»
— Как ты себя чувствуешь, милый Гензель?
Тон вопроса был заботливым, но от этой заботливости веяло чем-то нарочитым, искусственным. Так спрашивают у нелюбимого заболевшего домашнего питомца, а не у человека.
Прежде чем ответить, Гензель мысленно измерил расстояние и не удержался от короткого вздоха разочарования. Геноведьма, словно в насмешку, стояла на палец дальше того места, до которого он смог бы дотянуться сквозь костяные прутья решетки. Скорее всего, это тоже не было случайностью.
— Отлично. — Он ухмыльнулся, чтобы она увидела весь комплект его жутких зубов. — Большое спасибо за гостеприимство, госпожа. Мне здесь очень нравится.
Его зубы не произвели на нее сильного впечатления. Наверно, геноведьмы на своем веку видят и что-то более страшное, чем зубы щенка вроде него.
Держась на прежнем расстоянии, геноведьма с укором сказала:
— Ты уже несколько дней не ешь. Это очень плохо для твоего здоровья. Организм в твоем возрасте должен получать все необходимое для роста. Отказываясь от пищи, ты делаешь ему плохо. Кроме того, твое здоровье изначально оставляло желать много лучшего… — Геноведьма стала загибать тонкие пальцы с ровными полумесяцами жемчужных ногтей: — Очень слабая сосудистая система. Дефект правого сердечного клапана. Неудачное строение некоторых хрящей. Предрасположенность к диабету. Врожденная астма. Ну а генетически твоя картина выглядит совсем скверно. Оксалатная нефропатия, ихтиоз, синдром Рефсума… Твои семнадцать процентов сделали тебя наглядным пособием по всем возможным генетическим отклонениям, мой мальчик.
Гензель сплюнул на пол, и плевок звучно хлюпнул возле ноги геноведьмы.
— Если я вам не нравлюсь, возьмите себе другого.
— Нравишься или нет, не тот вопрос, который стоит обсуждать. Видишь ли, у меня нет возможности выбирать. Дети очень редко заходят в Железный лес, так что даже такое испорченное тело, как твое, представляет для меня настоящее богатство. У тебя множество видоизмененных клеток и даже органов, но все-таки ты на значительную часть человек, а значит, уже мне подходишь. Ну а твои пороки… Знаешь, почти все, что испорчено, может быть исправлено. Почти все.
— Только не гены.
— И гены в том числе. Гены — всего лишь тонкая материя наших тел, книги, на чьих страницах из химических веществ написана наша суть. Книги можно переписывать, Гензель. А я — как раз то самое перо, которое для этого годится.
Она не была похожа на перо. Она скорее походила на острый хирургический ланцет, стерилизованный, блестящий металлом, почти невесомый. Гензель наконец понял, что его пугало в обществе геноведьмы. Она была именно таким ланцетом, который подготовили для операции, но до поры до времени оставили спрятанным под стерильной тряпицей. Ее внешняя чистота была чистотой хирургического инструмента, который хладнокровно умывается чужой кровью, но через час вновь фальшиво блестит полированным металлом, точно никогда и не пачкался.
— Я исправлю некоторые твои пороки, — промурлыкала геноведьма, разглядывая Гензеля сквозь прутья решетки. — Не все, конечно. Такое даже мне не под силу. Но я подлатаю немного твое тело. Устраню некоторые генетические болезни, укреплю мышечную и костную ткань… Тебя надо хорошенько откормить. Поэтому ты должен есть. Смесь, которую я тебе даю, содержит необходимые гормоны и нейроактивные вещества. Ты будешь расти как на дрожжах, мой маленький Гензель, и в считаные дни окрепнешь, как молодой теленок.
— Мне не нужна забота ведьмы! — бросил он.
— Ты и в самом деле куда глупее своей сестры. Телят откармливают не за тем, чтобы они ощутили чью-то заботу.
Ему показалось, что кончик бритвенно-острого лезвия показался из-под ткани. Мелькнула, на мгновение заслонив геноведьму и решетку, жуткая картина — стол, залитый теплой дымящейся кровью. Его, Гензеля, кровью…
Он машинально отступил на шаг назад, хотя еще минутой раньше сам примеривался, как бы добраться до ведьмы через решетку.
— Что тебе нужно от меня?
— От тебя? Нужно? — Геноведьма не сделала даже попытки приблизиться, но Гензелю вдруг показалось, что она оказалась почти вплотную к нему. Так, что дыхание из ее рта, прохладное, проникнутое каким-то тонким и едким медицинским запахом, коснулось его лица. — Очень просто. Мне нужен ты, Гензель.
— 3-зачем?.. — Как некстати лязгнули зубы…
— Ты — это жизнь. Исковерканная, уродливая, оскверненная, но все-таки жизнь. И сейчас мне нужна частица именно такой жизни.
— Вы хотите что-то у меня отрезать?
Страх вонзился в кожу тысячью тончайших инъекционных иголок. Эта сумасшедшая ведьма наверняка способна на все. Что ей стоит отмахнуть ему ту же ногу? Отец был без ноги с рождения, привык с механической, а ему это, быть может, только предстоит… Или даже не ногу. А что? Почку? Селезенку?
— «Отрезать»!.. — рассмеялась геноведьма, но не издевательски, а снисходительно, как смеются взрослые смешному детскому замечанию. — Ну что ты! Геномагия — это законы жизни, Гензель, а жизнь — самая требовательная и жадная любовница. Ей не нужны объедки. Ей нужно все целиком. От начала и до конца. Понимаешь?
— Нет, — сказали окостеневшие и непослушные губы Гензеля.
Но он понимал. Еще не полностью, потому что мозг гнал от себя это понимание, отказывался принять его.
Блеск хирургической стали.
Пятна свежей крови на стерильной салфетке.
Торжество жизни.
— Твое тело, Гензель, — сказала геноведьма, немного утомленная его бестолковостью, — вот мой трофей. Твое смешное, нелепое тело. Я творю жизнь, свидетелем которой ты уже стал, а чтобы породить жизнь, нужна другая жизнь. Пусть даже и крошечная. Искра может быть источником пламени, как тебе известно. Думаешь, мне легко поддерживать жизнь в этом огромном доме?..
Дом. Огромный дом, созданный человеческой волей из настоящей и живой плоти.
О Человечество, как он мог быть столь непроходимо глуп? Почему не бежал без оглядки, едва увидел его? Зачем привел сюда Гретель?..
Геноведьма рассеянно коснулась рукой свитой из мышц стены. Ее касание было мягким, ласковым. Так касаются кожи любимого отпрыска или любовника.
— Геномагия обошла множество хитроумных блокирующих механизмов и ограничений тела, — заметила она, бесцельно поглаживая венозные завитки на стене. — Но есть одна аксиома геномагии, обойти которую невозможно, будь ты хоть трижды геноведьмой. Всякая жизнь конечна, если не подпитывать ее. Ткани стареют, хиреют, слабеют и в конце концов распадаются. Даже самая прочная нервная система с годами превращается в гнилье. Даже самые крепкие железы, прослужив свой срок, отмирают. Мой дом огромен и состоит из миллиардов различных клеток, но он не бессмертен, если ты понимаешь меня. Мне приходится прилагать множество усилий, чтоб сохранить в нем надлежащий уровень метаболизма. А это не так просто. Мне нужна ткань, Гензель. Всякая. Лучше всего, конечно, использовать ту, в которой меньше всего генетических деформаций, ну да часто приходится довольствоваться тем, что есть… Мне нужен ты, Гензель. Твои кости. Твои внутренние органы. Костный мозг. Хрящи. Мочевой пузырь, который, кажется, вот-вот лопнет. Легкие. Печень. Все твои маленькие железы. Ты нужен мне без остатка, от макушки до кончиков ногтей на ногах. Весь.
Гензель издал какой-то странный звук. Кажется, легкие самопроизвольно сжались, породив то ли шипение, то ли хрип.
Геноведьма медленно покачала головой, отчего черные пряди паутиной поплыли в воздухе.
— Не переживай. Это не самое плохое, что могло с тобой случиться. Думай, например, о том, что твое тело, этот драгоценный дар химических процессов, сложнейший коктейль биологических субстанций, не пропадет так бездарно, как пропадают многие. Тебя не сожрут жуки Ярнвида, тебя не выпотрошат слуги Мачехи. Ты вольешься в другую жизнь и тем самым укрепишь ее. Разве есть что-то более волнующее и почетное? Крохотные частицы твоего тела, переработанные моим домом, десятилетиями будут оставаться его частью. Конечно, они будут разрознены, но разве это имеет значение? Ты станешь частью величайшего памятника человеческому телу, как стали многие до тебя. Это ли не достойная награда за голод и все твои лишения?..
Кажется, его кости начали размякать, и вес тела, еще недавно казавшегося щуплым и тощим, вдруг сделался огромным, едва выдерживаемым. Но вместе со страхом появилась и спасительная злость. Ледяная, рассудительная, акулья. Злость на это человекоподобное существо, глядящее на него равнодушным взглядом и рассуждающее о том, как скормить его по кусочкам порождению запретных генотехнологий.
— Только попробуй прикоснуться ко мне! — крикнул он, щерясь. — Чертова ведьма! Я разорву тебя на тысячу клочков и раскидаю по всему лесу!
Кажется, его угроза была проигнорирована.
— Твои планы на будущее мы обсудим позже, Гензель. Пока же ты очень меня обяжешь, если прекратишь свою глупую голодовку. Мне надо подлатать твое тело, прежде чем оно послужит мне и жизни. Поэтому будь умным мальчиком и ешь как следует. Представь, что я — твоя заботливая мама…
— Не стану я есть! — крикнул он. — Куска в рот не возьму! И попробуй заставь меня, старое чудовище!
Геноведьма поморщилась. Гензель подумал, что, возможно, ее покоробило именно слово «старая». Она ведь и верно может быть старой. Даже древней. Молодая подтянутая кожа ничего не значит, если судишь о геноведьме. Черт, может, она старше самой Мачехи…
— Ты глуп и упрям, Гензель, — сказала геноведьма с тихим укором. Если ему и удалось пробудить в ней злость, эта злость была спрятана за тысячью прочных мембран и слоев живой ткани. — К сожалению, геномагия едва ли благостно скажется на твоем характере. Поэтому я просто предлагаю тебе выслушать голос собственного разума. Ты будешь есть.
— Не буду! Вот так! Плевать я хотел на тебя и на твоего ублюдка! Что ты сделаешь со мной, а? Как заставишь? Яд ты мне больше не скормишь, проклятое отродье! Ну что же? Я недостаточно жирный и сладкий для тебя? Ну так выкуси, старуха!
Геноведьма некоторое время молчала, глядя на него. Она не рассердилась, не расстроилась, вообще никак не проявила своих чувств. Впрочем, Гензель сомневался, есть ли они у нее, эти чувства. Возможно, эта геноведьма прошла через огромное множество мутаций и генетических операций, которые навсегда выжгли в ней те человеческие крохи, что когда-то были внутри. Возможно, то, что когда-то составляло ее человечность и ее чувства, превратилось в серый осадок на стекле лабораторной пробирки…
— Ну неужели ты думаешь, что я буду спорить с упрямым мальчишкой? — спросила она, устало закатывая глаза. — Да еще и таким невоспитанным? Это было бы очень… неразумно с моей стороны. Нет, дорогой Гензель, тебе не удастся спровоцировать меня, да и насилие здесь не требуется. Более того, сейчас ты меня внимательно выслушаешь, а потом будешь есть. И выполнять все мои приказы.
— Да ну? — усмехнулся он, надеясь, что этим ледяным тоном геноведьма маскирует собственную слабость. — Это почему?
— Потому, что я пришла к тебе не с пустыми руками. У меня есть для тебя небольшой гостинец. Ты все поймешь, когда увидишь его.
В руках у геноведьмы был маленький тряпичный сверток. Когда он там появился и был ли с самого начала?.. Гензель не был уверен на этот счет. Но сверток ему сразу не понравился. Было в нем что-то от хирургической салфетки, какая-то белизна, но белизна не насыщенная и успокаивающая, как у молока, а какая-то тревожная. Геноведьма стала медленно разворачивать сверток. Судя по всему, там было что-то легкое, не тяжелее стеклянной ампулы. Но оно не звякнуло, когда геноведьма опустила таинственный гостинец на пол, совсем возле решетки.
— Не любопытно? — спросила она.
— Плевать! — зло отозвался Гензель.
— Ну что ж…
Она бесшумно сдернула покров. И Гензель пошатнулся — что-то со всего маху ударило его в грудь, невидимым граненым лезвием пригвоздив к стене. Он еще даже не успел сообразить, что это, а ужас зловонными гниющими губами присосался к чему-то у него внутри.
Палец. Крошечный, как маленькая сосулька, и такой же бледный. Мизинец, каким-то образом понял он. С по-детски розовым ногтем, неровным и до боли знакомым. Срез был ярко-алым, но крови почти не было.
Просто кусочек холодной плоти.
Просто обычный детский па…
Ярость овладела им так внезапно, что сдержать ее он не успел. Проще было задержать акулу, дергая за накинутую на шею бечевку. Холодная ярость швырнула Гензеля прямо на решетку, она же заставила его обнажить зубы. Если они коснутся чего-то мягкого, то захлопнутся с силой стального капкана, круша все на своем пути.
Он совсем забыл про прочность решетки.
Кость, из которой она состояла, оказалась каменной твердости — выбила дыхание из груди Гензеля и отшвырнула его обратно. В голове зазвенело, точно там с грохотом перевернулся заставленный трактирной посудой стол. Он не достал до геноведьмы каких-нибудь полметра. Зубы клацнули, схватив лишь легкий цветочный аромат, окружающий ее. Даже оглушенный, лежащий на полу, Гензель ощущал его — удивительное сочетание запахов человеческого тела, луговых цветов и чего-то еще, летучего и химического.
Геноведьма даже не двинулась с места. Она насмешливо взглянула на распростертого Гензеля:
— Ты слишком привязался к этой девчонке, да? Глупо. Еще одна вырожденческая черта человекоподобных мутантов из квартеронского племени. Они слишком много внимания уделяют родственным связям. Дикарство… Как будто общие элементы генетической цепочки делают вас частями чего-то единого. Подобное примитивное сходство ценят лишь примитивные же организмы. Оно кажется им чем-то важным, значительным. Организмы, не способные понять всю силу генетического материала и того, какие возможности дают операции с ним…
Гензель, не поднимаясь на ноги, бросился на решетку еще раз.
В этот раз ему показалось, что решетка хрустнула, но, кажется, это были его собственные ребра. Он вновь откатился от нее, оставляя на полу липкую багровую нить слюны, перемешанной с кровью.
— Но мы все исправим, — невозмутимо произнесла геноведьма. — Примитив вроде тебя даст пищу жизни, несравненно более сложной и совершенной. Ладно, прекращай, я не хочу, чтобы ты размозжил себе голову! Начинай есть, слышишь? Что, понравился гостинец?
Гензель захрипел, пытаясь найти силы для еще одного броска. Его тело за последние дни сильно ослабло и отказывалось подчиняться. Он взглянул на маленький бледный мизинец и почувствовал, как перекручиваются внутренности.
Прости меня, Гретель.
Прости своего глупого непутевого братца.
Человечества ради…
— Хватит, — немного брезгливо сказала геноведьма, нахмурившись. — Это уже нелепо. Не воспринимай все так близко к сердцу. Этот палец — не Гретель. И в то же время принадлежит ей. Одна из милых загадок геномагии.
— Что?..
— Он выращен в пробирке. Из ее клеток и генетического материала. Что таращишься, глупый мальчишка? Вырастить палец — трюк для ярмарочного генофокусника. Тебе уготовано быть участником куда более сложного действа… Впрочем, я думаю, что ты, несмотря на природную ограниченность, хорошо усвоил урок. В следующий раз… В следующий раз палец будет самым что ни на есть настоящим. Никаких пробирок. Ты понял?
Он понял. Когда смог подняться на колени, не бросился на решетку, отполз молча к стене.
Геноведьма одобрительно улыбнулась.
— Хороший организм, — сказала она. — Примитивный, агрессивный, глупый, но что же… Из тебя будет толк!
Он сломался. Больше не пытался вырвать прутья решетки, не искал слабых мест в своей органической темнице. Как и прежде, он днями напролет лежал без движения, но теперь не от нехватки сил, а от охватившей его апатии.
Геноведьма нашла его слабое место.
Гретель. И насчет пальца она не шутила, он это сразу понял. Что ж, в конце концов, он действительно просто примитивное и глупое животное, слишком поздно сообразившее, что означает щелчок железных челюстей капкана на лапе.
Он начал есть. Сперва неохотно, сдерживая рвотные позывы — при виде густой молочной жидкости, струившейся из соска, тут же вспоминался крохотный бледный палец, лежащий на полу, — потом с безразличием. На вкус пища действительно походила на молочную сыворотку, и в другое время Гензель счел бы ее нектаром альвов. Но сейчас он даже не чувствовал толком вкуса: заправлялся машинально, как старый автомат, и вновь лежал без движения.
Это было не простое молоко, геноведьма не лгала. Первые два или три дня его мутило, кружилась голова, донимала бессонница. Но эта слабость прошла, и Гензель обнаружил, что его тело всасывает питательную жидкость с жадностью полузасохшего дерева. Он ощущал постоянный прилив сил, а сухие и тонкие пучки его мускулов, казалось, разбухали день ото дня. Какое-то стероидное зелье? Сейчас это мало интересовало его. Но перемены продолжались, и если поначалу они пугали его, то потом он перестал обращать на них внимание. Волосы на голове, прежде походившие на бесцветный жесткий пух, стали густыми и мягкими. Перестали ныть суставы, а спина выпрямилась сама собой, отчего Гензель стал ощущать себя на полголовы выше ростом. Даже кожа стала свежее, утратила глинистый желтоватый оттенок, характерный для всех жителей Шлараффенланда.
Все эти перемены, которые происходили с ним, Гензель встречал без радости. Он чувствовал себя скотиной в тесном хлеву, которую хозяева откармливают, чтобы зарезать на праздник. Насчет того, что его обновленное тело сможет справиться с геноведьмой, он иллюзий не испытывал. Ей достаточно всего лишь подмешать парализующий яд в его еду — и он опять свалится без чувств, покорный и бессильный, как ее мясной дом.
Несколько раз он задумывался о том, чтобы все побыстрее закончить. Дело нехитрое. Хоть с этим-то он должен справиться…
Вспороть острыми зубами вены на руках — и через несколько минут уйти в сгущающиеся навечно сумерки. Уж на это-то его хватит. Зубы у него остались прежними, видно, даже всей геномагии не хватило для того, чтоб вымарать оскверненные участки его генетической цепочки. Но он не смог заставить себя сделать это. Слишком боялся за Гретель. Лишившись своего особенного деликатеса, геноведьма может рассудить, что одним квартероном можно заменить другого. Более того, плоть Гретель чище его собственной, а значит, и ценнее… Тропинка, ведущая от ученицы геноведьмы к главному блюду на ужин, может оказаться очень, очень коротка.
Гензель почти перестал реагировать на окружающий мир. К тому же окружающий мир был так тесен и однообразен, что никакой реакции и не требовал. Трижды в день поесть — и все. Остальное время можно лежать на полу, равнодушно глядя на кожистые складки потолка, нависающие над головой. И думать о том, что твое тело, расщепленное на клеточки, растворенное до уровня отдельных химических элементов, будет бежать по гигантским трубопроводам-жилам этого мясного чудовища, насыщая его, питая и укрепляя. «Сперва ты съел кусок дома, потом дом съел тебя, — подумал Гензель, мрачно хмыкнув. — Отец наверняка посмеялся бы над этим».
Постепенно пропало и желание думать. Мысли стекленели, двигались неохотно и вяло, звенели, задевая друг дружку. Гензель отнес бы это на счет действия генетических зелий, которые пил, но чувствовал, что все куда проще. Если дух сломлен, даже крепкое тело бесполезно. А дух его угасал, как чахленький костерок в чаще Железного леса. Еще трещали в его глубине веточки, еще вился дым, но жара делалось меньше с каждой минутой, так что вскоре останется лишь горстка мелкой золы да проплешина в траве… Наверно, когда геноведьма наконец объявит, что пора отправляться в пасть, ему будет настолько плевать на все окружающее, что не потребуется даже усыплять его. Сам поплетется на смерть, как бездумный анэнцефал.
Но это было не так. Когда Гензель услышал ритмичные шлепки шагов, тело рефлекторно напряглось, по обновленным мышцам словно пропустили разряд тока. Эти шаги, негромкие, но приближающиеся, показались ему горном глашатая, последним звуком, что обыкновенно парит над площадью перед тем, как топор палача удовлетворенно хрястнет о деревянную колоду.
«Смерть идет, — подумал Гензель, чувствуя, как сползает с него толстое полотно апатии, как быстро и тревожно сокращается в груди сердце. — Но отчего же она не парализовала меня? Неужели совсем не боится?..»
— Братец!
У Гензеля даже в глазах потемнело — точно кто-то заехал по затылку тяжелой дубиной.
— Гретель! — воскликнул он, вскакивая. — Гретель! Ты ли это?
Она мало изменилась по сравнению с ним. Такая же хрупкая и бледная, разве что болезненная худоба стала не так заметна. А еще Гензелю показалось, что взгляд ее прозрачных глаз неуловимо изменился. Что-то появилось в нем, а что — он не мог сразу определить. То же самое, что смотреть на пробирку с абсолютно прозрачным раствором, гадая, какие вещества в нем растворены. В одном Гензель был уверен: это был взгляд его сестры. Может, немного более взрослый, чем он привык, но, без сомнения, ее собственный. Наверно, темное генетическое колдовство еще не успело изувечить ее душу.
Она была в новом сером платье, именно таком, как приличествует ученице, — скромном и однотонном, с треугольным воротником. Волосы, позабывшие цепкую хватку ветвей Железного леса, были заплетены в аккуратные белоснежные косы.
Он схватил ее за руку через решетку и тотчас испуганно выпустил — Гретель тихо вскрикнула от боли. Ну конечно, он и забыл, какие у него теперь лапищи — крендели из гвоздей крутить горазды…
— Извини! — сказал он торопливо. — Видишь, какой я неуклюжий…
Она протянула другую руку и крепко обняла его за голову. Он заметил, что от ее пальцев пахнет не так, как обычно, наверно, какими-то кислотами и препаратами. Она тоже кое-что заметила.
— Ты окреп, братец Гензель, — сказала она с радостью, отстранившись наконец от решетки и разглядывая его с головы до ног. — И выглядишь отлично. Ну прямо вылитый окторон какой-нибудь! Какие мышцы!
Он через силу ухмыльнулся:
— Только зубы вот прежние остались… Бывают разве октороны с такими зубищами?
— И не такие бывают, уж поверь. Ты, кажется, и ростом выше стал?
— Немного, может. Да, нагулял мяса, пока сидел здесь. Кормежка отменная… Скоро стану толстым, как наш священник из Церкви Человечества.
Она потрепала его по плечу, и он против воли рассмеялся. Одно только присутствие Гретель в его камере делало воздух чище и сытнее. А еще он машинально схватил ее за тонкую полупрозрачную кисть и убедился, что крошечный мизинец на месте.
— Как ты пробралась сюда? — спросил он, заметив, как искорки смеха в глазах Гретель медленно тают, точно она вдруг вспомнила о чем-то плохом и неприятном. — Она знает?..
Гретель помотала головой, косички запрыгали в разные стороны.
— Не знает. Она ушла, но скоро будет. Собирает разные травы на опушке леса. Вытягивает из них… разные… штуки. Мне она запретила сюда заходить. И дверь заперла.
— Дверь? Какую еще дверь?
— Мышечную перепонку, — легко пояснила она, — здесь все двери такие. И на каждой — генетический замок. Такая специальная штука… Ну, чувствует выделения кожи и распознает генокод. Я уже знаю, как эти штуки работают.
Ого. Кажется, сестрица не теряла даром времени — в отличие от него. Пока он строил бессмысленные планы, терзал себя предвкушением мести или валялся в апатии, десятилетняя сестра уже умудрилась стащить ключ!..
— И как ты отперла замки?
Вместо ответа она улыбнулась и показала ему левую руку. Присмотревшись, он заметил на ней тонкую и влажную резиновую перчатку.
— Пот. Он — катализатор для симпатических реакций внутри замка, — пояснила Гретель таким тоном, словно объясняла малышу, отчего дождь падает сверху вниз, а не наоборот. — Понимаешь, весь этот дом — живой. И им управляют нервы, как и нашими телами. Они тут вроде электропроводки. Мы ведь дергаемся, когда чувствуем боль, например. Или потеем, когда нам жарко. Мы делаем это бессознательно, не задумываясь. Вот и дом реагирует на отдельные раздражители определенным…
— К дьяволу его! — воскликнул Гензель в нетерпении. — У нас, кажется, мало времени, а? Ты ведь знаешь, что ведьма хочет сделать со мной?
— Знаю, — сказала она, маленький острый подбородок поник. — Она говорила. Потому-то я и пришла…
— Сбежим? — вскинулся он, хватаясь за решетку обеими руками. — Ты ведь об этом? Ну так давай! Открывай эту проклятую дверь, и побежали!
Гретель печально покачала головой:
— Извини, братец… Эту дверь я не могу открыть. Слишком сложный замок, рассчитанный на определенные ферменты ее тела. Я пока не могу открыть такой. Я учусь, но…
Вздох разочарования, который сам вырвался из его груди, походил на хрип прохудившегося старого меха.
Рано обрадовался, дуралей. Думал, девчонка вытащит тебя из-за решетки и дело в шляпе? Так просто решил отделаться от геноведьмы? Генетический дурак…
— Нам надо потянуть время, — решительно сказала Гретель. — Слушай внимательно. Она считает, что ты уже почти готов. Для… для разделки. Ты достаточно окреп, ткани восстановились.
— Как она может это знать? — искренне удивился он. — Я ее и видел-то только раз. Что же она, щупает меня, когда я сплю?
Гретель опять взглянула на него как на несмышленого городского дурачка-мула. Была бы это какая-то другая девчонка — он бы, пожалуй, щелкнул ее по лбу за такой взгляд. Ученица ты ведьмы или нет, а не задавайся! Но это была Гретель. Его сестрица, на которую невозможно было злиться.
— Твои собственные выделения, Гензель. Ты ведь… кхм… Ну…
Действительно, об этом-то он и не подумал. Слив в камере, который он ежедневно использовал для очистки организма.
— Я понял, — буркнул он. — Как будто у меня есть выбор!
— Особые рецепторы чувствуют химический состав всех жидкостей, что выходят из твоего тела. Ведьме не надо проверять тебя. Она и так знает, как ты себя чувствуешь.
— Ага. Понял. И, значит, она думает, что пришло время ужина? А я буду на нем главным блюдом?
Гретель отвела взгляд. И Гензель вдруг почувствовал, что его собственное беспокойство вовсе не так сильно, как ему казалось. Он совсем не думал о том, как ощущает это Гретель.
— Да, — тихо сказала его сестра. — Она думает, что ты уже… достаточно вкусный. Поэтому я пришла. Нам надо потянуть время. Хотя бы недельку. Я тогда обязательно что-нибудь придумаю, братец!
— Ну и как же мы потянем? — спросил он невесело. — Если ты сама говоришь, что мое тело и так меня выдает?
— Тело — это механизм, братец. — Гретель хитро улыбнулась ему. — А любой механизм можно обмануть. Этому и учит геномагия — как обманывать механизмы наших тел. Защитные, репродуктивные или прочие…
Это ему не понравилось. Механизмы… Тело — оно и есть тело. Руки, ноги, голова… Какие тут еще механизмы?
— Ну и кого ты собралась обманывать?
— Его. — Гретель ткнула пальцем в обвисший складчатый потолок. — Он большой, но иногда очень глупый. Я уже начала это понимать. Можно обмануть что угодно, если понять, как оно работает и из чего состоит. Я много училась… Иногда я почти понимаю. На, держи.
Она сунула ему что-то. Он ощутил на ладони несколько твердых горошин. С опаской взглянул на них — как есть горошины, только не зеленые, а бледно-синие. И еще твердые, а не упругие. Наверно, он выглядел глупо, бестолково пялясь на них.
— Что это?
— Волшебные бобы, — сказала она серьезно.
Он уставился на Гретель, не зная, как на это отреагировать. Историю про волшебные бобы знал любой ребенок в Шлараффенланде. Но ведь это… просто история, так ведь?
— Волшебные? — настороженно уточнил он.
— Генномодифицированные. Если их посадить, стебли вырастут до небес! Специальные изменения в метаболизме, модифицированный фотосинтез, увеличенная скорость деления клеток… Они будут расти до тех пор, пока не пройдут сквозь облака и не упрутся в небесные чертоги альвов…
Гензель фыркнул.
— Только не говори мне, что по ним я поднимусь к альвам! Что еще за глупости? Да альвы меня живьем, может, разорвут! Им и принц крови — словно козопас… А куда мне эти бобы сажать прикажешь, тут и горстки земли нет!
Гретель тихонько засмеялась, мелодично, словно колокольчик зазвенел:
— Какой ты доверчивый, братец Гензель! Все еще веришь в детские небылицы!
Гензель надулся было, но быстро сообразил, что обижаться — это по-детски. К тому же сам виноват, дубовая голова, Гретель его ловко поддела. Ну конечно, она же теперь подмастерье у геноведьмы, а он — взрослый дурак, любящий волшебные истории.
— Значит, это не бобы?
— Это таблетки, глупенький. Спрячь их и незаметно глотай по одной раз в день.
— Это зачем еще?
— Они изменят химический состав твоих выделений. Замаскируют. Совсем чуть-чуть. Но геноведьма будет думать, что ты все еще слишком слаб. И будет продолжать тебя откармливать.
Гензель покатал таблетки по ладони. Ловкий ход, сестрица. Обмануть геноведьму — это не стакан воды выпить. Не каждый ученик способен обмануть своего учителя, особенно в десятилетнем возрасте. Только…
— Это не будет работать вечно, — сказал он с сожалением, пряча свои волшебные бобы. — Рано или поздно она сообразит.
— Да. Она очень умная. Мы не сможем долго обманывать ее. Но у нас будет несколько дней. Может, недель.
— Да, — эхом ответил Гензель. — Как знать, вдруг этого нам хватит, чтобы сбежать, а? Например, ты сделаешь какое-то зелье, чтобы истлела эта проклятая решетка…
Гретель неуверенно кивнула:
— Я попытаюсь. У них хорошая генетическая защита, сложная, много уровней… Но я попытаюсь, братец.
Гензелю пришлось сделать усилие, чтоб сказать:
— Ну ступай теперь отсюда быстрее! Ступай. Вдруг геноведьма вернется… Не хочу, чтобы она тебя здесь застала. Беги, Гретель! Мы еще выберемся из этого проклятого дома, слышишь меня? И из леса тоже выберемся. Никто нас не сцапает — ни Мачеха, ни ведьмы, ни зверье дикое… Пока мы вместе, мы куда хочешь дойдем. Хоть бы и до луны. Ступай, Гретель. Помни о своем братце, но и себя береги. Давай!
Она нехотя оторвалась от решетки, махнула на прощанье рукой:
— Бывай, братец!
Последнее, что он увидел, — кончик ее белой косички.
Гензель не знал, как действовали «волшебные бобы» Гретель, да, наверно, никогда и не смог бы понять. Но судя по тому, что дни сменялись днями, а геноведьма не являлась за ним, они все-таки действовали. Его тело продолжало крепнуть, причем так быстро, что скоро Гензель начал опасаться, не станет ли ему тесно в камере…
Увидь его сейчас отец — наверно, не признал бы. Гензель стал выше и шире в плечах, с его кожи исчезли гнойники, мучившие его от рождения, как и ржавая сыпь, испятнавшая грудь. Разглядывая себя, Гензель подумал, что благодаря генетическим зельям ведьмы он уже совершенно не похож на шлараффенландского квартерона. Те в большинстве своем были сутулыми, кривобокими, с редкими клочьями волос и запавшими мутными глазами. Работать Мачеха заставляла с пяти лет и жалости к своим слугам не знала. Редкий квартерон доживал до четырех десятков лет. Отец, считавшийся в их квартале почтенным стариком, отсчитал тридцать три.
Нет уж, теперь ему в Шлараффенланд вход точно заказан. Сцапают быстрее, чем он дойдет до базарной площади. И хорошо еще, если просто на части разрубят и по ящикам разложат, а то ведь еще пытать могут — мол, каким образом такой фенотип получил? Тут даже рассказы про геноведьму из Железного леса не помогут, и слушать не станут…
Гензель мрачно усмехнулся. Как тропке ни виться, да только сходятся все ее рукава воедино — быть ему разодранным на части. И какая разница, геноведьмой или слугами Мачехи? Да и плевать, решил он со спокойствием обреченного. Главное, чтобы Гретель цела осталась. Как знать, может, и в самом деле геноведьма ей силу даст? Не хочется, конечно, чтобы всю жизнь свою в глухом лесу провела, что ей тут делать…
Гензель вспомнил все известные ему истории о геноведьмах и решил, что если в них есть хоть толика правды, то у Гретель имеются неплохие шансы хорошо обустроиться в жизни. Иногда, говорят, геноведьмы живут в каменных домах посреди города, а иногда даже и во дворцах, но это, конечно, уже досужие вымыслы и сущая чепуха. Но вот что геноведьмы частенько водятся с людьми благородной, чистой крови — это уж наверняка. Гретель умная, она высоко взлетит, как птичка. Как знать, может, станет личным лекарем какого-нибудь знатного седецимиона, а то и тригинтадуона, — уже немалая честь. Правда, серебристого браслета с ее руки никак не снять, он на всю жизнь, и две единицы, выгравированные на нем, навек останутся позорным пятном.
«Если она закончит обучение, — оборвал Гензель сам себя, ощущая в который раз злую пульсацию собственного пульса, — если геноведьма не сожрет ее так же, как и меня. Если не сделает калекой и не погубит. А то, может, просто выгонит одну в Железный лес…»
От таких мыслей беспокойство заедало его с новой силой, будто полчище плотоядной мошкары из Железного леса. Гензель вновь принимался бесцельно ходить по своей камере, то и дело пиная в сердцах бездушную плоть, окружавшую его со всех сторон. Эта плоть была глупа, она умела лишь служить, она не знала того, что знает каждый мальчишка в Шлараффенланде. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя доверять геноведьме, будь ты ее подмастерьем или обычным квартероном. Всякий, кто ей доверится, рано или поздно сделается подобием ее дома — бесчувственным полуживым организмом, из которого она тянет питательные соки и который использует в своих целях.
Гензель стиснул зубы с таким ожесточением, что хрустнули острые акульи резцы. Уповать на Гретель не стоит, это ясно. Не ей, девчонке, тягаться с геноведьмой, несоизмеримо более хитрым и коварным существом. Даже обман с волшебными бобами не может длиться вечно. Рано или поздно ведьма застукает ее. И тогда… В сердце вместо крови вдруг заклокотало обжигающее ядовитое варево.
Нет, нельзя впутывать Гретель. Он должен сам что-то придумать. Пленный и беспомощный мальчишка, ни черта не смыслящий в геномагии, должен придумать способ, как одержать верх над опаснейшей геноведьмой. Вот уж задача…
В историях, что ему доводилось слышать, все было проще. Их героями были люди чистой крови, принцы и герцоги, облаченные в механические доспехи, с мечами и оруженосцами. Таким ничего не стоило пронзить геноведьму или чудовище на всем скаку, потом отрубить ей голову и сжечь остатки. Сложное ли дело?.. Нет, от таких историй едва ли будет прок, по крайней мере в его положении. Но ведь были и другие! Гензель наморщил лоб, пытаясь припомнить все те немудреные истории, россказни и побасенки, которые слышал в детстве.
Гретель была права, он и в самом деле знал множество историй. Но в чем она ошибалась — так это в том, что истории его были бесполезными выдумками досужих бездельников.
Иногда героями таких историй выступали не принцы в сверкающих доспехах, а обычные люди, иногда даже сельские дурачки-мулы. Гензель подобных баек не любил, находя их откровенно надуманными и неказистыми, но, может, настало время обратить на них внимание? Была, например, одна история про отважного парня, у которого злой геноколдун украл невесту. Колдун этот был неимоверно силен и живуч, чтобы его убить, требовалось вколоть ему специальное зелье, инъекционная игла с которым была вживлена в яйцо, яйцо вроде как находилось в утке, а утка с помощью генетических чар находилась внутри зайца, а заяц… Гензель попытался вспомнить подробности. Черт с ним, с зайцем, а при чем тут геноведьма?.. Ах, точно, в поисках загадочной иглы несчастный жених шел по лесу и оказался в доме геноведьмы. Кажется, дом у нее тоже был органическим, на птичьих ногах… Геноведьма собиралась было съесть незадачливого жениха с потрохами, но тот оказался хитер — заявил, что страдает от страшнейшей генетической болезни, так что плоть его отравлена до последней клетки. Геноведьме ничего не оставалось, как ухаживать за ним — вливать свежую донорскую кровь, обмывать, кормить питательной пищей… Это настолько сблизило ее с пленником, что под конец она сама и выдала тому, где искать контейнер с иглой…
Гензель мрачно хохотнул. В его ситуации требовать чего-то подобного не приходилось, он и так был обеспечен всем необходимым. Даже с избытком. Права была Гретель, все эти истории — от начала и до конца детские выдумки и небылицы. Разумного в них не больше, чем золота в коровьем навозе. Гензель припомнил еще несколько, но и там не обнаружилось ничего дельного. В подобных историях геноведьмы обычно представали существами злыми, алчными, но при этом довольно недалекими, и хитрые герои без проблем водили их за нос. При одном только воспоминании о взгляде хозяйки, пустом и чистом, как лабораторное стекло, Гензель сразу выбросил эти истории из головы. Нечего было и думать, что подобного рода фокусы ему помогут или хотя бы отсрочат неминуемую смерть. Приходится смириться с тем, что геноведьма несоизмеримо умнее его и, как знать, может, еще и сильнее. Узнав ее получше, Гензель почти не сомневался в том, что под гладкой молодой кожей скрываются отнюдь не немощные мышцы. Ну и на что надеяться квартерону, если не на силу и не на хитрость?..
В некоторых историях встречались концовки иного рода. В момент, когда геноведьма собиралась восторжествовать, приходила нежданная помощь, например, в лице боевых мехосов короля или доброго геномастера. Но история про маленького глупого Гензеля едва ли закончится именно так. Она закончится иначе: «Тут схватила его геноведьма, разорвала на части, выпотрошила да и съела. А сама жила долго и счастливо в своем мясном доме в самой середке Железного леса…» Да, так наверняка и заканчиваются почти все настоящие истории. Единственное утешение — едва ли ее услышат в Шлараффенланде.
Гензель вздохнул и вновь бездумно уставился в потолок.
Если этой истории и суждено кончиться именно так, пусть это произойдет поскорее.
Он рассчитывал, что пройдет не более двух-трех дней, прежде чем геноведьма спохватится. Но прошло целых десять. Наверно, у нее имелось много других забот. Как бы то ни было, Гензель внезапно ощутил иррациональное удовлетворение, когда понял, что все скоро закончится.
Это случилось сразу после еды — поднявшаяся из желудка тяжесть вновь расползлась по телу, точно закупоривая все вены и артерии, отчего тело почти мгновенно сделалось слабым, непослушным и вялым. По мышцам прошла крупная дрожь, окружающий мир подернулся на несколько секунд туманцем, а когда он рассеялся, Гензель обнаружил, что все его члены полностью потеряли подвижность. Повезло, что пол здесь кругом был мягким: даже не ударился толком, когда ноги внезапно отказались его держать…
Ощущение предательства со стороны собственного тела было удивительно неприятным. Его тело было порочным, безнадежно испорченным и молодым, но Гензель привык доверять ему. Прошло по крайней мере несколько минут бесплодных попыток, прежде чем он понял: тягаться с генозельем невозможно, как невозможно человеку тягаться с геноведьмой. Она попросту диктовала волю любой материи, и спорить с этой волей тело Гензеля отказывалось на клеточном уровне.
Он ожидал, что сознание его быстро потухнет, как тогда, после памятного завтрака. Но этого не случилось. Паралич лишь обездвижил все его мышцы, оставив лежать безвольной грудой протоплазмы на полу камеры. Это не принесло облегчения, напротив, от ощущения собственной беспомощности сделалось тревожно и гадко. Это означало лишь одно. Геноведьме хочется, чтобы он увидел ее перед смертью. А может быть, и нечто куда более худшее…
Она не заставила себя долго ждать. Гензель расслышал ее шаги, ритмичные, легкие, но вместе с тем на удивление властные, и ощутил, как съеживаются внутренности. Звуки шагов были щелчками хронометра, отсчитывающего последние секунды его глупой и никчемной жизни.
— Здравствуй, милый Гензель, — сказала геноведьма мягко. Зверенышем она его уже не называла. Может, оттого что он уже куда меньше был похож на порождение леса, чем в день их встречи. — Извини, что пришлось доставить тебе небольшие неудобства. Некоторых рыб приходится усыплять, прежде чем пересаживать в другой аквариум. Особенно тех, у которых излишне большие зубы и дурной нрав. Не переживай, это не займет много времени.
Гензель хотел бросить грязное ругательство, но обнаружил, что паралич коснулся и голосовых связок. Мог бы и сразу догадаться. Едва ли геноведьмы любят слышать истошные крики тех, кого разрывают на части. Впрочем, как раз может быть, что и любят…
— Как странно, — задумчиво произнесла геноведьма, останавливаясь возле решетки. — Анализ жидкостей твоего тела говорит, что ты слаб и болен, но знаешь, выглядишь ты куда лучше. Я бы сказала, на удивление хорошо. Кажется, я даже перестаралась, выхаживая тебя. О Человечество, ты весишь раза в три больше, чем в день нашей встречи!
Она прикоснулась к решетке, и Гензелю оставалось лишь стиснуть зубы, наблюдая за тем, как костяные прутья сами собой прячутся вниз, точно зубы в десну. Вот, значит, как действует этот особый замок.
Геноведьма склонилась над Гензелем и прижала к его предплечью маленький холодный механизм. Тот несколько секунд молчал, потом загудел, как напившийся крови клоп. Гензель не знал, что это значит, но геноведьма, бросив быстрый взгляд на экран, удивленно склонила голову:
— А ты вовсе не так уж плох, как мне казалось. Даже, кажется, прилично отъелся на ведьминских харчах, а?.. Смотри, какой стал толстый и упругий. Поздравляю, у тебя прекрасные показатели. Давление, ферменты печени, кроветворение… Много хороших клеток, много горячей здоровой крови.
Гензель мог лишь беспомощно наблюдать, как геноведьма ласково поглаживает его по спине узкой ладонью, могильный холод которой он превосходно ощущал, несмотря на онемение. Удивительно, даже в этот момент она не походила на чудовище. Точнее, это было чудовище другого, особого рода, бесконечно более развитое, чем твари из Железного леса. Чудовище в сложной биологической обертке, выглядящее почти человекоподобно. И теперь это чудовище жадно принюхивалось к своей парализованной добыче.
— Пожалуй, дальше медлить ни к чему, — пробормотала геноведьма, щипая его за бок и жмурясь от удовольствия. — Ты уже готов, мой милый Гензель, совершенно готов.
Ее лицо зависло в считаных сантиметрах от его собственного. Может, это его единственный шанс? Выгнуться изо всех сил, молясь, чтобы мышцы шеи хоть немного его слушались, — и сомкнуть зубы прямо на этом точеном красивом лице, срывая с него кожу, хрящи…
Но Гензель понял, что не сможет этого сделать. И дело было не в мышцах.
Ее лицо. Оно больше не казалось ему прекрасным и чарующим, хоть и сохранило все свои черты. Теперь оно наводило на него смертный ужас. Проникнутое чумной бледностью, с широко открытыми глазами, оно казалось не просто маской. Оно казалось чем-то невероятно чужеродным и отвратительным, противоестественным. Словно какое-то существо, безумное и бесстрастное одновременно, освежевав человека, нацепило на себя его покровы, точно перчатку.
Пропасть между человеком и геноведьмой оказалась куда ближе, чем думалось Гензелю. И пролегала она в глазах склонившейся над ним женщины. Не пропасть — страшный провал, на дне которого копошилось что-то безмолвное, скользкое, равнодушное. Что-то, что бесстрастно глядело на Гензеля, оценивая его с хладнокровием линз микроскопа.
Вот что казалось ему пугающим и чужим с первого мгновения их встречи, хоть он и не осознавал этого, пока не заглянул прямо ей в глаза. Геноведьма с прекрасным лицом женщины была не просто холодной или отстраненной. Она взирала на людей как на микроскопические организмы с другой планеты. Она была бесконечно далеким от них существом, лишь прикидывающимся близким биологическим видом. И все ее эмоции были столь же фальшивы, как и гладкая бледная кожа, на которую они проецировались. На самом деле она ничего не чувствовала и не могла чувствовать. Она была властительницей плоти, королевой жизненных процессов — мертвой, истлевшей королевой, навеки сросшейся со своим троном. Заледеневшие кости, покрытые лохмотьями древней гнили. Бесстрастная старая паучиха в своем огромном, свитом из генетических цепочек логове.
Нежить, неспешно и равнодушно копошащаяся в теплых останках своих жертв.
— Пора, — прошептала геноведьма ему на ухо, и Гензель обмер, ощутив себя так, будто ледяная слизь из ее прекрасно очерченного рта сквозь барабанную перепонку стекает прямо ему в мозг. — Нечего тянуть. Мой дом скучает, Гензель. Скучает по сытной горячей крови, по молодым и сильным клеткам. Скучает по тебе, мой милый. А ведь до этого он кормил тебя, согревал и защищал. Кажется, самое время отплатить ему за труды, верно? Он будет доволен. Ему уже давно не попадалось ничего столь питательного и юного. Не переживай, тебе не придется идти. Дама окажет тебе любезность.
Хватка ее пальцев была столь сильна, что Гензель непременно вскрикнул бы, если бы сохранил контроль над голосовыми связками. Несмотря на то что весил он самое меньшее вдвое больше нее, геноведьма легко подняла его с пола и бросила на плечо подобно дорожному тюку. В ее тонких, обтянутых гладкой кожей руках должна была скрываться огромная сила, и Гензелю оставалось только возблагодарить судьбу за то, что ему не довелось осуществить свой предыдущий план. Несмотря на то что в ее руках не было механических частей и усилителей, ей не составило бы труда разорвать его пополам, как тряпичную куклу. Ей и не нужны механические усилители, подумалось Гензелю, у нее есть власть над тем, что бесконечно сильнее и выносливее любой стали: над живой материей.
— Я отнесу тебя в операционную, — произнесла геноведьма таким спокойным тоном, будто речь шла о небольшой прогулке. — Надеюсь, Гретель уже приготовила все необходимое для расщепления. Прости, забыла тебе сказать. Сегодня юная ведьма будет мне ассистировать. Сама попросилась. Знаешь, а ведь она и в самом деле обладает отличным потенциалом. Я бы даже сказала, крайне впечатляющим. За последние несколько месяцев, пока ты пользовался моим гостеприимством, она раскрылась с удивительной стороны. Она стала больше, чем моим подмастерьем. Она стала геноведьмой. Пока еще юной, пока еще неопытной, но все же…
«Гретель! — взмолился Гензель, раскачиваясь на узком и остром плече, цветочный аромат которого теперь казался омерзительным, как трупный запах. — Не верю! Заткнись!»
Геноведьма улыбалась. Гензель поблагодарил судьбу за то, что не может видеть ее лица, но отчего-то почувствовал эту улыбку всеми обмершими от ужаса клеточками своего тела. Как если бы эта улыбка была остро заточенным секционным ножом, мягко скользящим по его коже и выбирающим место для первого надреза.
Многие думают, что для того, чтобы стать геноведьмой, требуется особенный ритуал. Черные свечи из человечьего жира, зловещие клятвы, залитый какой-нибудь гадостью алтарь… Досужие вымыслы городской черни. Чтобы стать геноведьмой, не требуются ритуалы. Только понимание, которое приходит к каждому из нас в свой черед.
Гензель не хотел слышать, о чем говорит геноведьма, но его тело было лишено возможности отключить слух, как отключило прочие чувства и ощущения. Желал он того или нет, сейчас, неподвижным свертком свисая с ведьминского плеча, он был участником разговора.
— Нет, для момента инициации не требуется ритуала. Разве что небольшое жертвоприношение. Уничтожение одного бесполезного, никчемного и трусливого существа. Знаешь, где оно скрывается? — Геноведьма несколько секунд делала вид, что ждет его ответа. — Тут.
Бледный палец геноведьмы с идеально ровным ногтем коснулся ее собственного виска с едва угадываемой голубоватой жилкой.
— Оно обитает тут, это существо. Сплело там себе логово из страхов, стыда, рефлексии и предрассудков. Паразитическая форма жизни, которая заводится там с рождения, отравляя своим существованием ум. Оно выстраивает преграды из ложной жалости на пути нашего ума, разгадывающего генотайны. Оно отравляет своим нытьем наши планы. Оно наделяет эмоциями биологический материал на нашем предметном стекле. Отвратительное существо. Именно оно является тем, что мешает нам ощутить власть над материей по всей ее полноте, принять новые возможности и безраздельно править генетическими чарами. Оно должно необратимо умереть, чтобы его вчерашний раб стал истинной геноведьмой. Мыслительные ресурсы должны быть высвобождены из-под власти этого паразита, которого вы считаете своей человеческой душой. Иногда этот этан может быть болезненным — у паразита есть способы бороться за власть. Возможно, тебе приятно будет узнать, что Гретель прошла этот этап удивительно легко и скоро.
Гензель испытал ужас, как в тот раз, когда на пол его камеры упал крохотный детский палец. Только теперь это был не мизинец. Что-то другое. Что-то, при мысли о чем Гензель похолодел так, словно его собственный кровоток оказался парализован.
— Геноведьма рождается тогда, когда отбрасывает все препятствия, что стоят на ее пути, милый Гензель, все те слабости, что туманят взгляд, как окуляр микроскопа. Геноведьма не может себе позволить подчиняться чему-то столь примитивному. Тот, кто перекраивает саму биологическую суть мироздания, не может быть ее рабом. Поэтому истинная геноведьма не знает чувств. Она холодна, беспристрастна и сосредоточена на достижении своей цели. Все прочее — лабораторный мусор, который подлежит сожжению, бракованные препараты и биологические отходы.
Она лгала, Гензель знал это. Просто хотела напугать его, заставить впасть в предсмертное отчаяние, победить не только тело, но и разум. Гретель никогда бы не отдала свою душу ради того, чтобы стать геноведьмой. Чтобы превратить себя в равнодушный и безразличный аппарат, заключенный в человеческую оболочку, безразлично ткущий ткань реальности из бесконечного количества живых клеток.
«Она не такая!» — крикнул мысленно Гензель и вдруг ощутил прикосновение к собственному обнаженному сердцу десятка твердых острых камешков. Будто спал на них всю ночь. Он вспомнил глаза Гретель, живые, детские, но часто пугавшие окружающих своей прозрачной пустотой. Глаза, которые, казалось, с того момента, как впервые открылись, видели в окружающем мире чуть-чуть больше, чем обычные человеческие. Глаза, которые с готовностью впитывали пугающие иллюстрации Менделя, Докинза и Берга. Которые с удивительной скоростью поглощали бессмысленную писанину с истлевших страниц.
Может, Гретель с самого рождения было предназначено стать геноведьмой? И тропа, которой они шли по лесу, была тропой, которую проложило само провидение, чертя ее жизненный путь?.. Гензель отказывался в это верить. Но что-то шептало изнутри гнилостным шепотом: верь. Ты как никто знаешь свою сестру с пеленок. Знаешь, как неуютно и сложно ей было в этом мире, с каким удовольствием она избегала его, ныряя с головой в старые книги. Возможно, ты этого не замечал, но она отчуждалась с каждым годом. Внешне она оставалась твоей сестрицей, беловолосой Гретель, внутри же нее беспрерывно шел процесс отторжения слабых человеческих фрагментов, замена их на холодные и острые, как куски разбитого зеркала.
— Ты больше ей не брат, — произнесла геноведьма ему на ухо. Он не мог видеть ее лица, но знал, что на нем сейчас улыбка, такая же мертвая и фальшивая, как и все прочие проявления ее чувств, жалкий атавизм. — Ты всего лишь совокупность клеток и хромосомных цепочек, не более значительная, чем сидящая на столе муха.
«Заткнись! — прорычал Гензель, зная, что никто его не услышит. — Ты никогда и не была человеком! Ты — гнилой труп, рядящийся в чужую кожу! Оставь Гретель! Не хочу слышать!»
Она несла его по пульсирующему тоннелю из плоти, легко, совершенно не прикладывая сил. Гензель видел лишь собственные безвольные ноги, свешивающиеся с ее плеча, да бугрящиеся жилами своды. Кое-где из него выпирали старые варикозные вены, свисающие петлями, их поверхность казалась рыхлой, красноватой. Сколько бы ни прожил огромный мясной дом, он явно знавал лучшие времена. И мысль о том, что его, Гензеля, расщепленное тело вскоре пойдет на строительный материал для этого бесформенного чудовища, причиняла дополнительные муки.
— Вот поэтому нас часто считают бездушными чудовищами. — Геноведьма, кажется, уже привыкла говорить с молчаливым собеседником. Гензелю даже показалось, что говорит она в первую очередь сама с собой. — Но мы, в сущности, никакие не чудовища.
Мы исследователи самой могущественной и самой таинственной науки — геномагии. А исследователь не может позволить себе быть пристрастным. Возможно, умирающая мышь, чьи кишки вытянуты на предметное стекло микроскопа, тоже считает, что стала жертвой бездушного чудовища. Ее слабый и болезненный ум, не избавившийся от атавизмов, попросту не в силах понять разницу между нею и человеком в белом халате. А ведь разница огромна.
Она говорила совершенно бесстрастно, в ее голосе не слышалось ни злобы, ни презрения к нему. За это Гензель и ненавидел ее. Исступленно, до рези в стиснутых зубах. Она и в самом деле смотрела на него как на примитивный, жалкий организм, как на амебу, которая, не в силах эволюционировать, проведет весь свой век в зловонной луже. Лишь снисходительное равнодушие ученого, тащащего безвольную мышь на лабораторный стол.
— Эмоции… Жалкие рудименты разума, которые вы бессильны отторгнуть и волочете за собой подобно огрызкам конечностей или хвостам! Вы думаете, что являетесь владельцами эмоций, не замечая того, что все устроено совершенно иначе, а вы — всего лишь их заложники. Гормональные наркоманы, чей разум захлестывает дурманом всякий раз, как какая-нибудь железа в вашем несовершенном теле исторгнет из себя очередную секрецию. Жалкие, нелепые насекомые на древе бесконечного прогресса, отчаянно цепляющиеся своими лапками и неспособные взглянуть на открывающийся с высоты вид. Именно потому вам и недоступны зияющие глубины истинной геномагии, что постижение их требует полного контроля, вы же не способны контролировать даже самих себя. Раз так, вы никогда не станете исследователями. Лишь материей для опытов, расходным клеточным материалом. Это справедливо, хотя само понятие справедливости — тоже примитивное представление, возникшее в слепом человеческом разуме. Геномагия не знает справедливости. Как и наука, она знает лишь цель и средства для ее достижения.
Наверно, геноведьме давно не приходилось с кем-то говорить, решил Гензель. Едва ли она могла позволить себе вести долгие разговоры с Гретель, которая сама теперь стала юной ведьмой. Ни к чему поощрять ее человеческие атавизмы подобными беседами. И уж конечно она не считала достойными собеседниками тех несчастных путников, которые находили в чаще Железного леса ее дом. Ученые не ведут разговоров с мышами, бесстрастно полосуя их ланцетом…
— Знаешь, даже после процедуры инициации не все мы сразу принимаем суть геномагии… — Геноведьма продолжала идти по лабиринту сокращающихся сосудов с Гензелем на плече. За все время она ни единого раза не сбилась с направления — видимо, знала внутреннее устройство дома не хуже, чем папиллярный узор на собственной ладони. — Иногда бывают искушения воспользоваться примитивными человеческими чувствами. Что-то сродни фантомной боли от отвалившихся рудиментарных придатков. Однажды оно возникло и у меня. Но жизнь очень быстро доказала мне, что я ошибалась. Хочешь послушать, как это случилось? И отчего я оказалась здесь, посреди смердящего гнилого леса?.. Ну послушай. Под влиянием волнующих рассказов мозговые волны имеют тенденцию слабеть, это благотворно повлияет на твою пищевую ценность…
Гензель не хотел ничего слушать. Но и возразить он не мог, как не может возразить дорожный тюк, болтающийся у хозяина на плече.
— Нет, мой милый Гензель, я не всегда была вынуждена жить в лесной чаще, в водовороте генетического распада. Я знала и лучшие дни. Я жила в настоящем дворце, отделанном мрамором и драгоценностями, и носила наряды из шелка, любой из которых стоил дороже, чем выводок квартеронов вроде тебя. Это было очень давно и очень далеко отсюда, в королевстве, название которого тебе, скорее всего, незнакомо. Да, я знала, о чем говорю, когда рассказывала вам с Гретель о дворцах и их обитателях. Я прожила там много лет. Отчего, спросишь ты? Во-первых, я была юна. По-настоящему юна и, хоть познала суть геномагии, иногда еще испытывала человеческие слабости. Во-вторых, жизнь при дворце многое дает геноведьме. Золото, любые компоненты для генозелий, собственная лаборатория… Поверь, это немалое подспорье в жизни, даже если она посвящена геномагии — не надо кочевать между городами, ища клиентов и заключая контракты, мокнуть под дождем, находить прекурсоры… Тамошние монархи отличались большим уважением к геноведьмам и охотно их привечали, переводя в разряд фавориток. Знаешь, как нас там называли?
Геноведьма усмехнулась, и, хоть Гензель этой усмешки не видел, вибрация ее тела передалась ему, заставив испытать приступ слабости.
— «Генофеи». Так почтительно именовали нас льстивые придворные аристократы, которым мы убирали дрянные генетические дефекты, лишние пальцы, язвы, последствия всякого рода невоздержанности… Может, снаружи дворец выглядит роскошным сооружением, внутри же он сродни котлу кипящего гноя. Тайные операции по улучшению фенотипа, беспорядочные связи, застаревшие генетические болезни… Столько дряни, сколько я видела там, не встречается даже в кварталах мулов. Но мы работали не покладая рук — я и остальные генофеи. Нас было семеро. Штопали ветхие генетические цепочки, латали врожденные дефекты, превращали сановных уродцев во что-то человекоподобное. Меня боготворили. Я была любимицей королевской четы, выделяясь даже на фоне прочих. Геномагия в моих руках творила настоящие чудеса. Впрочем, я тогда была молода… — Следующий смешок геноведьмы оказался еще менее приятен. — Я создавала зверей для королевского парка, столь удивительных, что люди немели при виде них. Я выводила растения, которые пахли как нектар альвов. Из слабых и трусливых рахитов я делала непобедимых воинов. Из слабоумных придворных потаскух — прекрасных девственниц. Были и другие геномастера, но я всегда была лучшей. Самой целеустремленной, самой решительной, самой дерзкой… Ну как, все еще хочешь узнать, как я очутилась здесь?
Геноведьма, не выпуская Гензеля из цепкой хватки, остановилась напротив проема в пульсирующей стене тоннеля, похожего на обнаженную рану. В его глубине тянулись белесые, проталкивающие кровь сосуды, какие-то костные наросты и серые комья желез.
— Уровень гемоглобина падает, — озабоченно произнесла геноведьма, пристально разглядывая внутренности своего дома. — Этого следовало ожидать. Мой дом силен и вынослив, но даже он не способен бесконечно поддерживать жизненные показатели на стабильном уровне. Извечная беда всех живых организмов, обычных или выведенных в пробирке. Время от времени требуется возобновлять запас питательных веществ… Сейчас мы увеличим количество эритроцитов и… Впрочем, тебе это, наверно, совсем не интересно, верно? То ли дело твоей сестре… Лучше я закончу ту историю, что начала. Историю про одну наивную генофею, которая сломала себе жизнь, единственный раз в жизни поддавшись милосердию.
Узкие пальцы геноведьмы легко касались вен и обнаженных нервов, словно те были клавишами церковного органа. Покорная этим пальцам, струилась по внутренним сосудам кровь огромного организма.
— Все случилось из-за этой проклятой королевской четы. Они одевали меня в шелка и парчу, купали в золоте, но лишь до тех пор, пока я выполняла их маленькие прихоти. Они кичились тем, что их генетическая линия на сто процентов человеческая. Ни малейшего вмешательства в генотип, подумать только!.. Такую чушь можно лить в уши тупоголовых придворных, надменных аристократов или безмозглых квартеронов из городской черни. Но не лучшему геномастеру королевского двора! Я-то знала их старые грешки и пороки… Знала, кто из их предков сделал втайне генетическую операцию, кто баловался зельями, кто пытался модернизировать свой фенотип — успешно или нет… Ты бы удивился, милый Гензель, узнав, сколько дряни плавает в крови у благородных господ. И чем выше их статус, чем больше кичатся они чистотой своей генетической линии, тем зловоннее оказывается дрянь…
Гензель надеялся, что история будет долгой. Быть может, пока геноведьма треплет языком, у него есть шанс нащупать тропу для бегства. Впрочем, оборвал он сам себя, о каком шансе может идти речь, когда болтаешься на чужом плече?.. Что он может — плюнуть ей в лицо?..
— У королевской четы кровь была нечиста. Об этом знали все, но никто не рисковал сказать об этом вслух. Поэтому все генофеи попали в очень неловкое положение, когда королева изволила забеременеть. Отцом ребенка был сам король. И его застарелые генетические пороки, замаскированные, выправленные и скорректированные десятками сложнейших манипуляций над фенотипом, вступили в связь с пороками его венценосной супруги. Ребенок двух чудовищ — вот что должно было появиться на свет. Я поняла это, как только получила пробу околоплодных вод. У бедного дитяти не было и шанса вырасти нормальным. Конечно, на плод можно было воздействовать еще в утробе матери, можно было выправить отдельные огрехи природы, но мое заключение было однозначным: несчастная девочка — а это была именно девочка — не доживет и до совершеннолетия. Однако придворные генофеи решили не подавать виду. Вместо этого они планировали делать вид, будто ребенок развивается как и положено. Несколько инъекций роженице, специально просчитанный режим облучения — и к моменту родов королевская дочка ничем не отличалась бы от обычного розовощекого младенца. Внешне.
От того, каким зловещим тоном было сказано последнее слово, Гензель напрягся. К сожалению, лишь мысленно — тело его все еще висело обмякшим кулем, мышцы отказывались сокращаться.
— Избавить принцессу от той генетической дряни, что накопилась стараниями ее высокородных предков внутри, мы не могли. Могли лишь навести внешний лоск, сокрыв роковые внутренние дефекты. То же самое, что присыпать пудрой язвы больного бубонной чумой. Принцесса была обречена умереть, прожив около шестнадцати лет. И это устраивало всех генофей. Ни одна из них не хотела говорить правды венценосным родителями — ведь это лишило бы нас их милости! Вышло бы, будто мы, всемогущие генофеи, которых за глаза успели поименовать крестными неродившейся принцессы, бессильны противостоять болезни. Никто из нас не собирался рисковать своим положением. Потерять лабораторию, слуг, результаты исследований, возможность вести спокойную жизнь — и ради кого? Ради человеческой личинки? Да любая из нас не испытала бы и тени раскаяния, превратив ее в комнатное растение! Мы лишь выигрывали время. Шестнадцать лет — долгий срок, можно присмотреть себе не менее роскошный дворец и обзавестись новыми покровителями…
Геноведьма произнесла это ровным тоном, без всяких интонаций. И Гензель в очередной раз задался вопросом: кому она рассказывает эту историю — безвольному телу на своем плече или же себе самой?..
— Вот тогда я допустила ошибку. Единственную в своей жизни. Миг слабости. Совесть — то чувство, которое придумали себе людишки на тот случай, когда их внутренности жалит объективная реальность. Я позволила слабости взять над собой верх. Рассказала все королю и королеве. «Ее погубит веретено, — сказала я. — Веретено деления, один из краеугольных генетических механизмов, который определяет деление в ядре живой клетки. Ее эукариоты несут изначальную порчу, которую можно подавить, но невозможно уничтожить. Ваша дочь обречена, вопрос лишь во времени, которое ей отпущено…»
Гензель вскрикнул бы от боли, если бы горло повиновалось ему: геноведьма безотчетно сдавила его тело так, что явственно хрустнули кости. Кажется, она даже не заметила этого, поглощенная собственным рассказом.
Слишком долго у нее не было слушателей. Запершись в уединении, она сама же изолировала себя от человеческого рода, точно оказавшись в опечатанной герметичной пробирке. Огромный живой организм, который она именовала домом, мог заботиться о ней — чистить кровь, насыщать питательными веществами, защищать и укрывать от невзгод. Возможно, у него были барабанные перепонки и чувствительные слуховые нервы. Только слушать свою хозяйку он не мог.
— Конечно, меня никто не поддержал. Кому охота впасть в немилость? Кроме того, для геноведьм нет никакой разницы между правдой и ложью. Есть лишь объективная данность — химические реакции, константы, хромосомные наборы с определенными свойствами… Что есть ложь в представлении науки и что есть правда? Впрочем, ты все равно не поймешь — слишком примитивен разум. То ли дело твоя сестра… Генофеи наперебой заверили их величества, что принцесса родится прекрасной и здоровой. Король с королевой расцвели, слушая всю эту цветистую ложь. Безмозглые коронованные выродки, они ценили позолоту превыше сути. Были поверхностны и тупы, как все люди. А потом…
Геноведьма перекинула Гензеля на другое плечо. Не оттого что у нее устала рука — всего лишь чтобы он не ударился головой об упругую стену, когда перед ними распахнулась очередная дверь-сфинктер.
— Все закончилось в одно мгновение. Я лишилась всего — милости монархов, покоев во дворце, уважения при дворе, даже нелепого титула генофеи. Отныне я была лишним элементом в этой реакции, никчемным осадком. Меня вышвырнули. Больше я не была фавориткой, при виде которой уважительно смолкали графы и герцоги. Я превратилась в нищую бездомную геноведьму, которой боялись и сторонились — никто не хотел притягивать к себе немилость. В один миг, тот самый миг человеческой слабости, я стала посмешищем, изгоем, парией как среди равных мне, так и среди людей. И существа, которых я могла превратить в сгусток слизи одним щелчком пальцев, презрительно смеялись мне в спину.
Бесцветный голос геноведьмы стал едок. Настолько, что в нем, казалось, может раствориться без следа закаленная сталь.
— Я поселилась в покосившейся хибаре на окраине города. Гнилые доски заменили мне вощеный паркет королевского дворца, а есть приходилось богатых белком слизней вместо лакомых миндальных пирожных. Меня лишили всего. Титулов, богатства, положения в обществе. Все это значило для меня не больше, чем песок под ногами. Но оскорбление геноведьмы… Этого я оставить не могла. Я ощутила еще одно чувство, давно позабытое, отринутое вместе с прочими, но вовремя вернувшееся. Жажду мести. Пожалуй, из всех куцых человеческих ощущений она — самое сложное, самое изысканное. Моя месть жгла меня изнутри несколько месяцев, как огонек лабораторной горелки. И она дождалась своего часа.
Гензелю показалось, будто в ребра ему впиваются не тонкие женские пальцы, а стальные когти. Еще немного — и геноведьма, сама того не заметив, разорвет его пополам. Возможно, это будет лучшей концовкой, пронеслось в голове, уж по крайней мере лучшей, чем расщепление и превращение в питательный бульон для дома.
— Эти коронованные ничтожества, эти золоченые болваны, которые в геномагии видели не больше, чем средство от прыщей, они решили отметить рождение принцессы с большим размахом. И великодушно разрешили мне присутствовать на торжестве! Вместе с прочими генофеями и разодетыми в шелк придворными. Золотая колыбель, напыщенные лица… Все присутствующие знали, что в этой колыбели сучит ножками живой труп, но никто не подавал виду. А затем началось самое интересное. Все генофеи достали инкрустированные драгоценными камнями инъекторы. Каждая из них приготовила свой подарок новорожденной принцессе, свое особое генозелье. Они по очереди подходили и касались ее тела иглами. Одна обещала, что у принцессы будут волосы цвета золота и губы как кораллы. Другая гарантировала иммунитет против неожелтухи и мутировавшего тифа. Третья преподнесла в дар низкое содержание подкожных жиров… И так далее. Они все одаривали ребенка, зная, что долго он не проживет. Я намеренно подошла к золотой колыбели последней. Да, вместо былой мантии на мне была истлевшая хламида, но инъектор был при мне, как и зелье. Я готовила его много месяцев, подогревая на огне своей мести…
Геноведьма внезапно погладила Гензеля между лопатками. Не ласково, не страстно, не грубо, а механически, небрежно, как гладят набитое опилками чучело старого домашнего животного. Ее прикосновение не было прикосновением живого человека. Лишь его имитацией. Как и ее лицо, ее тело, ее голос. Все — имитация, понял он. Тщательная, кропотливая, сложная имитация. Геноведьма воссоздала свое тело, как предмет искусства, слепо копируя то, что ей казалось необходимым. Но даже слепой скульптор вкладывает в свои творения душу. Телесная же оболочка геноведьмы так и осталась бездушной и холодной. Тщательная имитация, не хранящая внутри человеческой искры.
— …Я вонзила иглу в пухлую детскую попку и сказала: «Принцесса умрет, не дожив до своего шестнадцатилетия! Ее погубит веретено деления, о котором я вас предупреждала. Но я позволила себе преподнести ей особый подарок… Ваша дочь умрет. Но не просто испустит дух, чтобы вы смогли положить ее в золоченый ящик, закопать и вздохнуть с облегчением. Умрет лишь ее мозг. Генетическая инфекция выест его изнутри, превратив в сгнивший орех. Нейроны обратятся в труху, сознание растает без следа. Но ее тело… Ее тело останется в порядке. Вы ведь так чтите форму, ваше величество, так заботитесь о фенотипе, не обращая внимания на то, что внутри! Принцесса не утратит своей красоты после смерти. Она будет прекрасна, розовощека и голубоглаза. По ее венам будет бежать свежая кровь, легкие будут работать, сердце — биться. Но внутри… Внутри она будет мертва. Я оставлю вам лишь оболочку. Красивую куклу, которая никогда не откроет глаз. Пустое тело, из которого навек ушел разум. Мертвый мозг в живом и прекрасном теле. Живой памятник покойнику. Вот мой подарок вам. Мертвая, хоть и дышащая, принцесса станет тем проклятием, которое повиснет на вас. Вы не сможете убить ее — у вас не поднимется рука повредить ее псевдо-живую оболочку. Вы не сможете вылечить ее — невозможно вылечить то, что было уничтожено. Вы будете обречены годами смотреть в ее пустые глаза, понимая, что ваша дочь и мертва, и жива одновременно. Вот мой дар! Как он вам?..»
Чудовище, понял он. И что самое страшное, не кровожадное чудовище, пышущее злобой, ненавистью ко всему живому, терзаемое голодом. Чудовище иного рода — безразличное, хладнокровное и равнодушное. В когтях которого ощущаешь себя даже не жертвой, а вырванной из тела крохотной трепещущей клеткой, зажатой в холодном металлическом пинцете…
Сделав еще несколько сложных пассов над обнаженной раной, служившей одним из центров управления живым домом, геноведьма легко поправила Гензеля на плече и продолжила путь.
— Из королевства, конечно, пришлось бежать. — Прикосновением изящной руки она отворила очередную дверь-перепонку. — Как ты понимаешь, после всего, что случилось, мне сложно было бы найти там контракты. Пришлось сменить много королевств. От тех, где геноведьм сжигали на площадях, до тех, где о них даже не слыхали. Мир велик, милый Гензель… Сбережений у меня не имелось, а генетические исследования — удовольствие не из дешевых, так что пришлось мне вспомнить ремесло странствующей геноведьмы. Но с тех пор я уже не повторяла прошлых ошибок. Не позволяла гнилым росткам того, что вы называете человечностью, проникнуть в сознание и заразить его. И это самым лучшим образом сказалось на эффективности. Гораздо проще работать, зная, что человек — это не священный сосуд, а груда плоти, в которой сидит самовлюбленный, трусливый и жадный паразит, именуемый человеческим разумом. Больше меня ничто не сдерживало. Я шла тропой истинной геномагии, и то, что она все дальше уводила меня от шумных городов и обитающих в них организмов, уже не казалось мне странным. В какой-то момент вслед мне стали сыпаться одни лишь проклятия. Люди по своему устройству примитивны, но всякий примитивный разум имеет защитные инстинкты, в первую очередь — инстинкт родства, позволяющий отличить близкую форму жизни от чужеродной и, следовательно, опасной. Ксенофобия — очередной бессмысленный и извращенный инструмент вашего сознания. Во мне стали ощущать чужую, где бы я ни оказалась, и в какой-то момент пришлось оставить практику. Но меня это не огорчало. Я поселилась здесь, в глуши, подальше от копошащейся и бурлящей биомассы, молящейся на свой генокод. И знаешь, ничуть об этом не жалею. Единственный недостаток — очень уж редко здесь оказываются молодые, полные живой горячей крови квартероны…
Страх вновь навалился на Гензеля с такой силой, что, казалось, парализовал бы все мышцы надежнее любого яда. Геноведьма мягко улыбнулась, словно какими-то замаскированными рецепторами уловила его страх. Изысканный и сладкий детский страх, пьянящий, как хорошее вино…
— Да, с юными квартеронами сложнее всего, — произнесла она задумчиво. — Редко кто в наше время отпускает детей погулять в Железном лесу. Мне пришлось заключить со здешними обитателями определенный договор. Не удивляйся так, мальчишка, мы, геноведьмы, способны договориться с любой живой материей, пусть даже столь искаженной и изувеченной, как здешние обитатели. Я подкармливаю Железный лес тем, что ему надо. Кусочки генокода, искусственно синтезированные пептидные гормоны, моторные белки, цитокины… У него изощренные вкусы, но в моих возможностях дать ему многое необходимое. Взамен я получаю вас. Маленьких квартеронов со сладким мясом и горячей кровью. Ярнвид — мои охотничьи угодья. Мои живые силки, неуклонно сгоняющие всю неиспорченную живность к моему порогу.
Еще одна гладкая мышца мгновенно раскрылась перед ними, отчего в кишке-коридоре возник порыв сквозняка, донесший до Гензеля множество новых запахов на волне неприятно теплого воздуха. Здесь пахло… Он никогда не мог бы сказать чем. Вроде и кислым, и соленым, и сладким одновременно. Отдавало сразу и едким запахом раздавленного жука, и древесным соком, и кишечными газами, и свежевымытыми волосами… Запахов было слишком много, чтобы человеческий нос смог разобрать их, к тому же сплетались они между собой так густо, что порождали единый удушающий аромат, названия которому Гензель не смог бы дать. Единственное, что их роднило, — все они казались на удивление естественными. Здесь не было запаха озона, который обычно царит на фабриках с плохой изоляцией. И не было запаха металла, оставляющего кислинку на языке.
Чем именно пахнет, Гензель сообразил только тогда, когда геноведьма легко положила его на выступивший из пола мышечный бугор из гладких влажных волокон. Пахло жизнью. Жизнью в сотне ее проявлений, иногда самых невозможных и несочетаемых. Гноем, свежей младенческой кожей, ушной серой, потом, жженой костью, несвежим дыханием…
Это и в самом деле было сердцем живого дома.
Гензель ожидал увидеть сложные механизмы, плюющиеся искрами и деловито жужжащие, но ничего подобного в этой комнате не оказалось. Большая, раздутая, похожая на розовый кожистый пузырь, исчерченная сотнями пульсирующих вен, она была заполнена совсем другими вещами. Наверно, все это были органы. Если так, Гензелю не были известны их названия, как и их предназначение. Единственное, что он мог определенно сказать, — все они были живыми и функционирующими.
Из органических стен выдавались куски плоти, похожие на правильной формы опухоли размером с добрый бочонок. Они ритмично сокращались, пропуская через себя кровь, а некоторые даже едва слышно шипели. Они выглядели безобидными, по крайней мере, ни один из этих живых агрегатов не имел зубов или когтей, но — может, здешний запах тому виной — Гензель вдруг ощутил исходящую от них смертельную опасность. Это было не сердце дома, это был его желудок. Место, где разумные существа прекращают свое существование, превращаясь в питательные субстанции и препарированные образцы. И он уже был в этом желудке, отрезанный от внешнего мира.
Впрочем, здесь находилась отнюдь не только биологическая техника, выращенная в пробирке. На костяных и хрящевых полках, выдающихся из стен, возвышались целые батареи пробирок, реторт и причудливых пузатых бутылок. Наверно, только Гретель могла определить предназначение всего того, что использовала ведьма. Хитрые змеевики, металлические контейнеры, футляры, отдельные механизмы…
Гретель.
Она тоже была здесь. Просто он не сразу заметил ее — слишком уж она сливалась с обстановкой в своем сером платье. Она выглядела уставшей и сосредоточенной. Гензель не мог вскрикнуть от радости, но взгляд его, не скованный параличом, метнулся к сестре со скоростью выпущенной пули. Метнулся — и дрогнул, едва не отскочив в сторону.
Гретель взглянула на брата совершенно равнодушно, как на препарат, распластанный под микроскопом. Не очень интересный препарат. Глаза больше не были прозрачными чистыми стеклышками, теперь они скорее походили на льдинки, начавшие было таять, но прихваченные морозцем. Напрасно Гензель через силу смотрел в эти глаза, пытаясь нащупать присутствие Гретель, — эти глаза не отвечали ему. Словно не узнавали. Возможно, глаза эти за время их разлуки стали столь сложны, что и им теперь нужен специальный ключ, чтобы опознать человека.
Только у Гензеля этого ключа не было.
— Все в порядке? — деловито спросила ученицу геноведьма. — Показатели не выбились?
Гретель коснулась пальцем нескольких багровых желез на поверхности опухоли, провела рукой по слизистой оболочке чего-то, напоминающего гигантскую почку, понюхала испарения какого-то нароста, выдающегося из стены, и задумалась на несколько секунд. Когда она заговорила, голос у нее был ровным и монотонным, похожим на голос прежней Гретель лишь отдельными обертонами.
— Все показатели в норме. Сосудистое давление за последний час немного снизилось, но это нормально на фоне повышенного количества ацетилхолина в крови.
— Уровень сахара?
— Пять и шесть молей.
— Многовато… — прищурилась ведьма.
— Стимулировать поджелудочную для выделения инсулина?
— Нет, пока не будем. Превышение некритичное. Гормональный уровень проверила?
— Тироксин, мелатонин, серотонин, гастрин — в норме.
От ее слов, проникнутых проклятой геномагией, у Гензеля обмирало нутро. Что означали эти заклинания, произнесенные устами Гретель? Что за чудовищные силы они должны были пробудить?
Геноведьма кивнула ей с благодарностью:
— Молодец, все верно. Ты быстро схватываешь. Очень быстро.
«Гретель! — захотелось крикнуть Гензелю изо всех сил. — Сестрица Гретель! Очнись! Это же не жаба на столе перед тобой лежит! Это же я!»
Голосовые связки хрипели, но были бессильны исторгнуть и слово. Гретель на него даже не смотрела, продолжала проверять приборы. Полуприкрыв глаза, она касалась каких-то хрящевых выступов, определяя, судя по всему, их положение и температуру, иногда запускала руку внутрь пульсирующих опухолей, что-то нащупывая… Она выглядела до отвращения естественно в этом ужасном окружении из органических пыточных инструментов. Она легко двигалась среди них, уверенно совершала свои манипуляции, и Гензель подумал о том, каким, оказывается, незнакомым может быть лицо, которое ты видел много лет…
«Просто здесь она на своем месте, — подумал он с тоской, глухой и тяжелой, от которой даже скулы заныли. — Впервые за всю свою жизнь — на своем месте».
Она теперь геноведьма. Она сохранила восемьдесят девять процентов чистого человеческого генокода, но это больше не роднит их. Она изменилась внутренне, безнадежно и окончательно, изменилась сильнее, чем ее могло бы изменить самое страшное и сильное генозелье.
— Готовь Расщепитель! — отрывисто приказала геноведьма.
Сердце Гензеля отозвалось на это жалобным дребезжанием.
— Сейчас, госпожа.
Опухоль, к которой подошла Гретель, была самой большой здесь. Скорее она даже напоминала не опухоль, а мясистый бутон огромного цветка со сложенными лепестками, замерший вертикально. Поверхность его была расцвечена извилистыми реками фиолетовых жил и крохотных папиллом. И бутон этот едва заметно двигался, покачиваясь на своем мышечном постаменте. Гретель быстро и ловко коснулась его в некоторых местах пальцем — и Расщепитель вдруг раскрылся, развернув свои алые кожистые лепестки, обнажал внутреннее пространство — скользкий влажный мешок с ореолом колышущихся липких отростков. Кожа сочилась полупрозрачной жидкостью, напоминающей патоку. Гензель не смог отделаться от мысли, что смотрит в чью-то жадно раззявленную пасть, истекающую слюной. Ждущую, когда внутрь залетит беспечное и вкусное насекомое.
— Расщепитель, — спокойно пояснила геноведьма, наблюдая за тем, как Гретель методично нажимает на отдельные папилломы так, словно те были обычными кнопками. — Простое и эффективное устройство. Пожалуй, его можно сравнить с желудком. Он растворяет все мягкие ткани и превращает их в питательную смесь с неповрежденными генетическими фрагментами. Твердые ткани вроде костей он измельчает, превращая в мелкий порошок. Потом все это подвергается обработке специальными ферментами и впрыскивается в кровеносную систему моего дома, откуда уже доставляется в различные органы в готовом к употреблению виде. Очень надежно и удобно.
Гензель представил себя в готовом к употреблению виде, и его едва не вырвало. Спасло лишь то, что даже рвотный рефлекс оказался парализован, выключен.
«Гретель! — взмолился он безмолвно, вперив взгляд в пробор из снежно-белых волос. — Перестань! Что же ты делаешь, сестрица?»
Показалось ему или нет, но Расщепитель, точно ощутив близость добычи, стал двигаться активнее. Его кожистые лепестки заволновались, слизистые отростки внутри распахнутой алой чаши начали едва заметно шевелиться. Гретель легко коснулась одной из его сторон, и сердце Гензеля дернулось, как рыба, зажатая в когтях взлетающей чайки, — бугристый стол, на котором лежало его безвольное тело, вдруг стал приподниматься одним концом, становясь наклонным. Нижняя его часть оказалась впритык к распахнутой пасти Расщепителя, а сам Гензель словно очутился на наклонной доске. Поверхность которой, как он с ужасом заметил, быстро делается влажной и скользкой. Ему не требовалось познаний в геномагии, чтобы представить дальнейшее. Его парализованное тело попросту соскользнет в ждущую его алую чашу.
— Насчет одежды можешь не беспокоиться, — сказала ровным тоном геноведьма. — Она растворится еще быстрее, чем твоя кожа. Не буду тебе лгать, процедура расщепления немного болезненна. Но ты ведь уже большой мальчик, правда?..
Сейчас он не чувствовал себя большим мальчиком. Он чувствовал себя крошечной съежившейся клеточкой. Напрячь бы хоть одну мышцу, заставить пальцы насмерть впиться в поверхность стола, задержать падение!.. Его мышцы даже не шевельнулись, ни одно их волокно не сократилось. Его тело уже было мертво, хоть и способно ощущать свою участь. Он был парализованным насекомым, которым пирует хищная оса. Абсолютно беспомощным и беззащитным.
Он попытался разбудить в себе ледяную злость, но та не отозвалась. Голодная акула, бороздящая внутреннее море его души, трусливо ушла на дно и затаилась. Акула способна испытывать ярость, сталкиваясь с другим хищником или явной опасностью. Но в этот раз она столкнулась с чем-то столь чужим и незнакомым, что животный инстинкт подсказал ей убираться подальше. У нее, по крайней мере, была возможность это сделать…
— Гретель, дорогая, помоги Гензелю, — попросила геноведьма вкрадчиво. — Надо расположить его тело так, чтобы оно лежало горизонтально и не мешало закрыться кокону. Руки должны лежать чуть в стороны, ноги — вместе… Если тело будет скрючено, процесс растворения пойдет неравномерно, а это помешает правильному усвоению.
Гретель послушно кивнула. Теперь, когда она стояла совсем рядом, Гензелю показалось, что это никакая не Гретель. А что-то столь же нечеловеческое и чужое, как сама геноведьма, просто облачившееся в человеческий, бледный, как кожа его сестрицы, покров. Она смотрела холодно и отстраненно, отчего ее прозрачные глаза казались равнодушными сфокусированными линзами. Переменится ли ее взгляд, когда она услышит крики перевариваемого заживо брата?..
Гретель осторожно взяла Гензеля за одежду и подтащила к открытому, сочащемуся влагой провалу. Это далось ей без особого труда — тело его скользило по наклонной влажной поверхности, почти не встречая сопротивления. Еще немного, и он ухнет вниз, в липкие объятия Расщепителя.
Душа зазвенела в его груди грудой давленого стекла.
Оказавшись вблизи от зева, Гензель разглядел детали, которых хотел бы никогда не видеть. В мясистых складках алых внутренностей прятались полые костяные иглы, немного загнутые наподобие когтей. Они едва заметно блестели, а их острия подрагивали. Наверно, они действуют наподобие шприцев, впиваясь в тело жертвы, уже размягченное кислотой, пробивая кожные покровы и откачивая из нее все то, что может представлять ценность для огромного и совершенно безмозглого хищника. Были там и лезвия, чьи тончайшие слюдяные пластины можно было разглядеть только вблизи. Несимметричные крючья, похожие на тонкие рыбьи кости, ждали своего момента в специальных углублениях. Гензеля затрясло бы, если бы генозелье оставило ему возможность хоть как-то контролировать тело.
Эта штука разорвет его и всосет в себя питательный бульон из внутренностей. Останется ли от него вообще что-нибудь? Наверно, хитрая система Расщепителя настроена на то, чтобы отделять ингредиенты, непригодные в пищу. Ногти, волосы, пуговицы на рубахе… Возможно, через пару дней Гретель, когда будет убирать, выметет все это из какого-нибудь губчатого фильтра…
Гретель тащила Гензеля по скользкой направляющей, равнодушно и уверенно, как человек, выполняющий механическую и не требующую размышлений работу. И все-таки эта работа давалась ей непросто — он прилично набрал веса, и ее худенькие ручки не могли уверенно тащить его.
— Стой, Гретель! — приказала геноведьма, и Гретель мгновенно перестала его тянуть. — Прежде чем ты засунешь его в Расщепитель, я хотела бы спросить у тебя кое-что.
Гретель послушно подняла голову:
— Да, госпожа? Что-то не в порядке?
Геноведьма улыбнулась. Кому-то эта улыбка могла показаться едва ли не материнской, но Гензель уже знал, что породило ее лишь сокращение лицевых мышц и ничего более.
— Нет, я уверена, что ты все сделала правильно. Хочу спросить тебя о другом, дорогая Гретель. Тебе не жаль будет отправлять в Расщепитель этого мальчишку?
Взгляд Гретель прошелся по нему, от ног до головы. Гензель ощутил себя так, словно его просветил безразличный рентгеновский аппарат. Даже почувствовал неприятный холодок его пронизывающего излучения.
— У него подходящее тело, госпожа. Вещества, которые в нем содержатся, хорошо послужат нашему дому.
— Этот мальчишка — твой брат. Ты ведь знаешь, что это такое?
— У нас с ним есть общие фрагменты генетического кода?
— Верно.
— Это имеет какое-то значение?
— Многие люди придают определенный смысл наличию общего генокода.
Глаза Гретель несколько раз моргнули.
— Я не вижу принципиальной разницы, госпожа. Это плохо?
Геноведьма мягко коснулась пальцем ее бледной щеки.
— Это хорошо. Это говорит о том, что ты выздоравливаешь. Культ общего генокода — одна из врожденных болезней человечества. На основании общности хромосом люди способны делать самые нелепые выводы. Но для нас они — всего лишь материал, из которого мы лепим свои шедевры. Помни об этом, Гретель.
— Помню, госпожа.
— Тогда отчего ты передала ему таблетки?
Кажется, Гретель вздрогнула. Но Гензель не мог с уверенностью об этом сказать, хоть и находился в полуметре от нее. Возможно, просто показалось. Глаза ее горели прежним ровным и мягким светом. В котором было не больше чувства, чем в сиянии пары лесных светляков.
— Я…
— Ради двойной спирали, Гретель, я же геноведьма! Неужели ты думала провести меня таким примитивным образом? Имей хоть немного уважения к своей наставнице!
— Я… Я… — Пряди волос Гретель мелко затряслись. — Это была слабость, госпожа. Она уже прошла.
— Ты уверена?
— Да. — Гретель опустила голову, спрятав руки за спиной. — В какой-то момент неизжитые инстинкты заставили меня неправильно оценить происходящее. Это исказило способность разума делать выводы.
— Ты больше этого не допустишь?
— Никогда. — Она вздернула голову, уверенно выставив острый бледный подбородок. — Я геноведьма. Я руководствуюсь разумом, а не паразитическими ростками человеческой сущности. Я выздоравливаю.
— Ты молодец, дорогая Гретель. Ты и в самом деле способная ученица. Отрава постепенно выходит из тебя, нейроны твоего мозга перестраиваются, отторгая все, чем тебя пичкали в детстве. Ложные ценности, слепые инстинкты, самоубийственные желания… Все это выйдет из тебя со временем, оставив только то, что составляет суть геноведьмы — отточенный и хладнокровный ум, жаждущий сорвать покровы с тысячелетних тайн геномагии. Продолжай работу.
Гретель вновь потащила брата к Расщепителю. Гензелю показалось, что онемевшие подошвы его ног уже чувствуют исходящий от кокона жар. Еще секунда, и они скользнут внутрь, навстречу прозрачным шипам, сложенным пилам и бурлящей кислоте. За ними последуют колени, бедра, плечи…
«Во имя Человечества, Извечного и Всеблагого! — взмолился Гензель. Но слова молитвы выскочили из головы, вместо них там зазвенели, как шарики в погремушке, отдельные ее части. — Сохраню свой генокод в чистоте… Извечного и Всеблагого… Да охранит меня от генотоксикантов, развращающих и искажающих… Да минет меня трансгенная ересь…»
— Госпожа…
Гретель мяла в пальцах подол платья. На мгновение — немногим позже Гензель уже сомневался, было ли оно — она вновь стала смущенной десятилетней девочкой, а не бесстрастной, как лабораторное стекло, геноведьмой.
— Я прежде не работала с Расщепителем.
— Ты прекрасно знаешь, что делать.
— Но… Если я ошибусь? Если я неправильно расположу тело, это может вызвать раздражение слизистой Расщепителя. Может нарушиться кислотный баланс, и…
Геноведьма потрепала ее по щеке — совершенно искусственный и лишенный нежности жест.
— Все когда-то приходится делать впервые, моя дорогая ученица.
— Да, госпожа. Но, если возможно… Я хотела бы…
— Говори смелее! Колебания и неуверенность — гнилые плоды человеческого разума, но не разума геноведьмы. О чем ты хочешь попросить?
Гретель наконец решилась взглянуть своей наставнице в глаза.
— Вы не могли бы на минутку залезть в Расщепитель, чтоб я поняла, как правильно располагать тело?
Геноведьма некоторое время молчала, глядя на Гретель сверху вниз. Лицо ее было бесстрастно и мертво, как фарфоровая маска. И столь же прекрасно. А потом в ее взгляде мелькнуло что-то такое, отчего Гензель почувствовал, как его парализованное тело обсыпало колючим ледяным потом.
— Ох, Гретель. Моя любимая ученица…
— Госпожа!..
— Тсс… — Геноведьма приложила палец к ее губам. — Была бы я человеком — сказала бы, что разочарована. Но я не человек. Мне просто неприятно сознавать, что запланированная реакция произошла с ошибкой и я слишком поздно заметила это. Потрачено время и ценные реактивы. Досадно, но не более того.
Геноведьма издала краткий колючий смешок.
— Ты оказалась слишком слаба, не оправдала возложенных ожиданий. Человеческая зараза, видно, слишком сильно укоренилась в твоем мозге. Когда она проникает так глубоко, шансов уже не остается. Я не виню тебя, ты просто не была к этому готова. Поддалась слабости. Выбирая между тем, кем стать, исследователем или расходным материалом, предпочла стать вторым. Даже получив невероятную силу, не выросла из своей примитивной формы, ты так и осталась человеком. Талантливым, но закосневшим в примитивной биологической форме. Качественный переход тебе не дался. Ты так и не поняла самого главного.
— Госпожа, я не собиралась совершать ничего подобного! — В глазах Гретель был самый настоящий испуг. — Я лишь…
Геноведьма сдула пылинку с воротника платья. Если она там была, эта пылинка. Гензель был уверен, что его ткань столь же суха и стерильна, как и тело, которое оно укрывало.
— Ты лишь хотела, чтоб я сама забралась в Расщепитель, да? Как теленок, сам идущий на забой? И после этого тебе бы оставалось только закрыть его и включить, верно? Не самый изящный план. Сразу видно, что он рожден ограниченным и слабым человеческим воображением. Неужели ты всерьез полагала, что я способна купиться на подобное? Впрочем… Все-таки ты долго радовала меня. Отчего бы мне не сделать тебе приятное и не выполнить эту маленькую просьбу?..
На глазах у обмершего Гензеля геноведьма грациозной походкой подошла к Расщепителю и приподняла подол платья. Она села на мягкий лепесток и в одно мгновение перекинула через край ноги. Лодыжки, отметил машинально Гензель, у нее были превосходными, точеными, цвета слоновой кости. В Шлараффенланде никогда не видели столь прекрасных ног. Интересно, сколько омерзительных деяний пришлось ей совершить, чтоб получить подобные ноги? И скольких детей превратить в питательную смесь для своего дома?..
Кокон оказался ей впору, там было достаточно места, чтобы геноведьма могла вместиться целиком. Она спокойно сидела на возвышении в центре открытого кокона и в окружении алых влажных складок выглядела королевой фей, восседающей на троне из лепестков розы.
Геноведьма сморщила нос: видимо, запах внутри Расщепителя был не очень хорош и совсем не походил на цветочный.
— Ну же, Гретель! — позвала она. — Я внутри. Напомни, что ты хотела делать дальше. Закрыть Расщепитель и приказать ему перемолоть мерзкую ведьму? Ну же, я сделала все так, как ты хотела. Нажимай.
Гретель молчала. Лицо ее было по-прежнему бледно, но Гензелю показалось, что он увидел на щеках легкие пятна румянца. Эх, сестрица!.. Неужели ты и в самом деле задумала обмануть ведьму? Неужели ты так просчиталась?
Геноведьма с улыбкой ждала ее ответа. Властная и спокойная, она восседала на своем живом троне, ничуть не беспокоясь о прячущихся в его складках иглах и крюках. Сейчас все они были спрятаны, как когти у домашнего кота, что лежит на хозяйских коленях. Она знала, что в этом доме, созданном из плоти и крови, ничто не в силах причинить ей вред.
— Нажимай! — властно приказала геноведьма.
Рука Гретель дернулась по направлению к кнопкам-папилломам, но не коснулась их, лишь скользнула по боку Расщепителя раненым белым голубем.
— Давай! Чего ты медлишь, человеческое отродье? Нажимай!
Ярость исказила черты геноведьмы. Прекрасное женское лицо превратилось в жуткую маску. Сработанная из прекрасного фарфора, эта маска вдруг выцвела и рассохлась в одно мгновение. Алые губы, казавшиеся прежде такими манящими и мягкими, стали кровавым оскалом. В глазах геноведьмы полыхало ледяное пламя.
— Что же ты не нажимаешь? — Голос геноведьмы стал обманчиво-сладким, как ядовитый мед Железного леса. — Неужели ты оказалась достаточно сообразительна, чтобы понять очевидное? Расщепитель не заработает, повинуясь тебе, он знает лишь мою руку. Ты не была хозяйкой в этом доме, всего лишь гостьей. А скоро станешь питательной смесью, как твой уродливый брат!
— Извините, госпожа. — Тонкий голос Гретель прозвучал неожиданно звучно.
Гензель скосил на нее глаза и обнаружил, что сестра больше не смотрит смущенно в пол. Кажется, румянец уже слетел с ее бледных щек. И глаза… Ее полупрозрачные глаза, в которых вновь плескалась вода свежего полноводного ручья, больше не выражали страха. Странная перемена. Геноведьма умолкла на полуслове, уставившись на свою ученицу. Видимо, каким-то чутьем тоже уловила следы этой странной реакции. Которая уничтожила страх и смущение Гретель, в одно мгновение заменив их чем-то другим. Чем-то незнакомым ни Гензелю, ни геноведьме. Странная, необъяснимая реакция…
— Видите ли, я думаю, что ни одна из нас не сможет стать настоящей геноведьмой, — спокойно пояснила Гретель. — Вы сами говорили: для того чтобы стать настоящей геноведьмой, надо отбросить без остатка все человеческое. Но мы обе не выполнили до конца этого условия. В вас осталось слишком много человеческой злости. Просто вы этого не замечали, но я вижу.
Глаза геноведьмы расширились. Возможно, никто прежде не говорил с ней подобным тоном.
— А у тебя? — спросила она сквозь зубы, не сводя взгляда с Гретель. — Что тогда осталось у тебя, глупая самоуверенная девчонка?
Прозрачные глаза Гретель, невинные и насмешливые одновременно, моргнули.
— У меня осталась хитрость, госпожа. Обычная человеческая хитрость. Ей я училась самостоятельно.
Ее палец коснулся бородавчатой кнопки, и, к ужасу и восторгу Гензеля, Расщепитель вдруг мелко задрожал, точно двигатель, на который наконец подали питание. Геноведьма испуганно вскрикнула и попыталась выбраться из кокона.
Ей помешали упругие вуали, укрывавшие ее со всех сторон. Трон оказался слишком неудобен. Все же геноведьма была сильнее и быстрее любого человека, она начала подниматься и, без сомнения, успела бы выскочить из кокона, если бы Гретель дала ей две лишних секунды.
Но Гретель не дала ей этих секунд. Ее пальцы нажали еще несколько кнопок, и Расщепитель облепил геноведьму со всех сторон своими мясистыми, напоминающими цветочные лепестки складками. Геноведьма успела закричать. Крик был оглушительным, яростным и испуганным одновременно, исполненным чего-то животного, несдерживаемого, страшного. Наверно, голосовые связки ведьмы сейчас перетирали друг друга, порождая жуткий, почти металлический визг.
Лепестки сомкнулись, заворачивая трепыхающуюся геноведьму во много слоев гладкой блестящей плоти, так плотно облепив ее со всех сторон, что Гензелю послышался глухой скрип костей. Кокон вернулся к своей первоначальной форме сомкнутого бутона, разве что в верхней его части можно было разглядеть что-то, напоминающее человекоподобную фигуру. Оттого картина выглядела еще более жутко, напоминая грубую статую человеческой фигуры, выплавленную из живой розовой плоти.
— Расщепление, — прокомментировала Гретель, нажимая еще одну кнопку. — И полная переработка на клеточном уровне.
Расщепитель сделал то, ради чего был создан. Подобие разума, сложенное из совокупности куцых рефлексов, не могло быть наделено тлетворными человеческими чертами, оттого он был лишен возможности рассуждать о природе загруженного в него материала. Он ощутил знакомый вкус, получил необходимую команду — и, не мучая себя сомнениями, приступил к работе.
Фигура в коконе розовой плоти, своими очертаниями еще похожая на человека, захрустела — Расщепитель сдавил ее со всех сторон своими бесчисленными лепестками, в которых, судя по всему, была заключена ужасная сила. Фигура дергалась, дрожала и делалась все меньше похожей на человеческую, ее контуры сглаживались и таяли. Зрелище было ужасным, но и гипнотизирующим. Это напоминало постепенную эрозию каменного изваяния, медленно теряющего очертания и рассыпающегося, только ускоренную в тысячи раз. И каменные изваяния не кричат. Гензель же отчетливо слышал животный рев, доносящийся из Расщепителя сквозь множество слоев плоти, рев нечеловеческий, страшный, утробный. Фигура сотрясалась, дергалась, дрожала, пыталась вырваться, но тщетно — Расщепитель держал свою добычу надежно. И, судя по несмолкающему треску костей, не собирался с ней долго возиться. А судя по размеренным щелчкам, доносившимся из кокона, в дело уже вступили тысячи тончайших ножей, трубок и крючьев.
Геноведьма корчилась в муках, заживо перевариваемая собственным домом.
— Ох, братец… — Он и не заметил, как Гретель вновь оказалась возле него. Сейчас, когда ее лицо потеряло отрешенность, он увидел в глазах сестры испуг и облегчение. — Милый мой братец, как же хорошо, что ты жив… Погоди минутку, у меня есть то, что тебе надо. Вот! Глотай скорее!
Она ловко запихнула что-то ему в рот. Что-то небольшое, твердое и округлое.
«Опять волшебные бобы?» — подумал он с мрачной усмешкой, но послушно проглотил.
Сперва не было ничего. Тело оставалось мертвее камня. Но Гензель знал, что с его телом должно что-то произойти, — и постепенно что-то начало происходить. Сперва появилась слабая боль в мышцах, которая быстро разгоралась, и вскоре ему стало казаться, что он лежит на раскаленном железном листе. Было чертовски больно, так, что он наверняка застонал бы, если бы смог. Появились легкие судороги. Это отчего-то обрадовало Гретель.
— Все в порядке, братец, — сказала она, неуклюже пытаясь размять его. — Это зелье выводит из твоих мышц парализующие их белки. Скоро все пройдет. Терпи.
И он терпел. Единственное, что облегчало жгучую боль во всем теле, от которой, казалось, скрипели кости, — это ритмичная работа Расщепителя. Тот умиротворенно раздувался и опадал, издаваемые им звуки вроде приглушенного чавканья казались наполненными глубоким удовлетворением. Что же, подумалось Гензелю, не только геноведьмам получать удовольствие от своей работы…
Покалывание в горле сменилось острым жжением — точно он опрокинул в себя флакон горчайшей полынной настойки. Может, уже пора проверить голосовые связки?..
— С-сс… Сс-сс-с-сс… — Поначалу он мог только шипеть, а воздуха отчаянно не хватало, но онемение быстро проходило, сползало вниз по позвоночнику. — Сес-сстрица!.. Как же… Ради Человечества, что ты тут натворила?
Гретель звонко рассмеялась, услышав его голос. В прозрачных глазах плеснулась неприкрытая радость. Теперь это была не хладнокровная ученица ведьмы, а десятилетняя девчонка, смеющаяся от облегчения, неловкая и слабая. Кажется, только сейчас сообразившая, что же произошло.
— Оживай, братец! Скорее оживай. Лучше бы нам бежать отсюда поскорее…
— Куда бежать, — с трудом выдохнул он. — Ведьма-то все…
Подтверждая его слова, Расщепитель удовлетворенно гудел и урчал. То, что находилось внутри него, уже ничуть не походило на человека, разве что на стремительно оплывающего под весенним солнцем снеговика.
— Хорошо я придумала, а?
— Очень. Кх-х-хх… Знать бы еще, что…
Гретель широко улыбнулась. Ни дать ни взять сущая девчонка, радующаяся прянику, будто и не она только что хладнокровно отправила геноведьму в огромный желудок.
— Я ее перехитрила. Это все твои сказки, братец! В них же часто обманывают геноведьм, вот я и решила…
— Почему Расщепитель тебя послушал? Я думал…
— Он повиновался только хозяйке, — кивнула Гретель, — как и многое прочее здесь. Биологические замки — очень сложные и сильные. Но к каждому замку есть ключик.
— Ну и где ты нашла свой?
Гретель потерла в пальцах белую прядь и сунула ее за порозовевшее ухо.
— Не нашла, братец. Слишком сложно оказалось ключик подобрать. Поэтому… я сделала свой.
— Что? — Работающий Расщепитель и накатывающая вместе с жжением в мышцах слабость мешали Гензелю поймать смысл сказанного.
— Командовать домом может только хозяйка, — терпеливо сказала Гретель. — И замаскироваться под нее мне никак не удавалось, чего только не пробовала… У нее иной генокод, сложный и уникальный. Тогда я сама стала хозяйкой.
— Вздор какой-то!
— И вовсе не вздор! Я понемногу поила дом собственной кровью, отдавала ему свой генетический материал. Каждый день, понемножку. И он привыкал ко мне. Он ведь всего лишь организм. Большой, сложный, но не умеющий думать. Со временем он менялся. Принимал меня. Мои гены понемногу становились ключом, ну а ее собственные — теряли силу…
— Стой… — В голове у Гензеля сместилась какая-то деталь, отчего возник зазор. — Но ведь она тоже… Я же видел… Она открывала двери, когда несла меня, и дом ее слушался! У дома ведь не может быть двух хозяек?
— Не может, — улыбнулась Гретель. Улыбка у нее была хитрой, а лицо напоминало мордочку нашкодившего щенка, знающего, что его не станут наказывать. — Она и не была больше хозяйкой. Просто сама об этом не знала. Она действовала от моего имени. Не понимаешь?.. Ох, братец, слаб ты в геномагии… На ее ладонях была жидкость, содержащая мои генетические образцы. Она отпирала двери, даже не подозревая, что дом принимает ее за меня, свою новую хозяйку. Вот как. Все это время она пользовалась моим собственным ключом, который я ей одолжила.
— Как это могло получиться? — пробормотал Гензель, борясь с накатывающей после слабости тошнотой. — Как у нее на руках оказались твои генетические образцы?
— Да очень просто. Этим утром я передала ей стеклянную колбу, смазанную нужным составом. Ведьма взяла ее — и на ладонях у нее образовался раствор. Она командовала домом, даже не подозревая, что командует от имени жалкого человека!
Гретель рассмеялась.
— О Человечество! — Ему тоже захотелось рассмеяться, только грудь все еще была стянута ледяным панцирем. — Какая же ты хитрая, Гретель! Настоящая пройдоха!
Она принялась растирать и тормошить его горящие мышцы, и вот уже пальцы на руке заметно шевельнулись. Пока это было похоже на судорогу, но Гензель чувствовал, что тело мало-помалу оживает. Еще минута, другая, и…
Но, кажется, этой минуты у него могло и не быть.
Деловитое чавканье Расщепителя вдруг оказалось заглушено новым звуком, резким и тревожным, донесшимся из его внутренностей. Там что-то захрустело, отчетливо и явственно. Может, это хитроумные крючки вырвали черное сердце из груди мертвой геноведьмы?.. Кокон вдруг качнулся, как от резкого удара. Хруст повторился, и на этот раз он был еще громче. Что-то внутри него резко шевелилось, с такой силой, что Расщепитель покачивался, едва удерживаясь на вросшем в плоть ложементе. Удар, еще один, еще… По выражению лица Гретель Гензель понял, что это не часть его обычного рабочего цикла. Что-то пошло не так.
— Ведьма… — одними губами прошептала Гретель. — Ох…
— Она жива? — вскрикнул он. — Ты хочешь сказать, она все еще жива?
Гретель нерешительно кивнула.
— У нее ведь очень много изменений в генокоде. Даже я не знаю, как много. Как знать, сколько там осталось человеческого и сколько может переварить Расщепитель… И еще она очень сильна. Очень.
— Ах ты, чер…
Удары все сильнее сотрясали Расщепитель. Он походил на туго набитый живот какого-то громоздкого существа, внутри которого оказался еще более опасный зверь. И хищник в ярости искал путь на волю.
Из недр Расщепителя раздался хриплый вой, от которого у Гензеля кровь обратилась жидкой глиной. Это был не человеческий вой и даже не животный. Пожалуй, ни одно существо проклятого Железного леса не смогло бы издать подобного. В нем была не просто ненависть, не просто боль. В нем была смерть — мучительная, страшная, сводящая с ума. Наверно, такие крики раздаются в адских котлах, где с людей заживо сдирают кожу…
Расщепитель вновь тряхнуло, еще сильнее, чем прежде.
И Гензель с ужасом понял, что его оболочка, прежде казавшаяся прочной, как сталь, долго не выдержит. Если Расщепитель не успеет выпотрошить ведьму и переварить ее, его кокон разломится. Гензель завороженно наблюдал, как на жабьей коже, покрытой россыпью бородавок, набухают желваки. Первый, второй, третий… Сила, заключенная в плену алых вуалей, усеянных шипами, прокладывала себе путь наружу. Королева фей, которую проглотил ее трон, плотоядное растение, сама оказалась смертельно опасным хищником.
С отвратительным треском, мягким, как треск гнилого корня под сапогом, в плотной оболочке кокона возникло отверстие. Из него поползла ярко-алая масса, исходящая паром, и в массе этой что-то шевелилось, что-то двигалось…
— Быстрее! — закричал Гензель. — Бежим отсюда!
Гретель старалась сохранять спокойствие, но он видел, как нелегко это дается сестре. Ее обычная броня, отстраненность, сейчас была бесполезна и осыпалась еще быстрее, чем сдавались кожные покровы Расщепителя. Сквозь дыры в этой броне Гензель видел панический страх перепуганной девочки.
— Надо подождать, пока зелье подействует! Еще немножко!
У них не было времени ждать. У него уже шевелилась правая рука, вяло, неохотно, как у древнего, разбитого подагрой старика, но и только. Все остальное тело все еще было сковано и могло лишь подергиваться. Сколько еще будет действовать зелье? И сколько потребуется ведьме, чтоб выбраться наружу и разорвать их живьем?..
Непослушные дети. Глупые человекообразные. Биологический материал…
В отчаянии Гретель принялась разминать его мышцы, но он уже видел, что им не успеть.
Еще один удар — и большой кусок кожных покровов оказался выдран из Расщепителя, шлепнувшись прямо на пол. Сила, которая находилась в его чреве, была ему не по зубам. И сила эта вот-вот готова была вырваться на свободу.
Вой стал громче. Сейчас это был даже не вой, это был скрежет, хрип, рык. Что-то шевелилось в недрах Расщепителя, но контуры того, кто издавал звуки, невозможно было понять. В коконе металась и билась обтянутая алым тряпьем фигура, слишком угловатая и острая, чтобы быть человеческой. В его толще зияло уже полдюжины отверстий, и новые возникали ежесекундно. Что-то с хрустом било в кокон изнутри, распарывая его покровы, — и в образовавшиеся отверстия хлестала черно-красная жижа с кусками прозрачной пленки, каких-то желтоватых комков и обрывков. Гензель не знал, что это — внутренности самого Расщепителя или того, чем он опрометчиво попытался отобедать. Он знал только то, что, когда существо выберется наружу, за его собственную жизнь никто не даст и гнутого гвоздя.
У него заработала левая рука. Тоже вялая, не сильнее умирающей рыбы и не способная толком оторваться от стола, но Гензель ощутил секундную радость. С двумя руками он может попытаться ползти. Нелепо, конечно — далеко ли он уползет? — но есть тень надежды.
А вот Гретель…
Она так и стояла возле него и теперь тоже казалась парализованной, но не зельем, а страхом. На ее глазах кокон Расщепителя превращался в бесформенный ком плоти, содрогающийся под очередными ударами и распадающийся на глазах. Это было похоже на яйцо, из которого пытается вылупиться чудовище. Из дыр хлестала кровь, желчь и зловонный мутный ихор, пол в лаборатории был залит уже по щиколотку.
— Беги, Гретель! — крикнул Гензель. — Убегай же! Чего стоишь!
Она замотала головой. Насмерть перепуганная, заляпанная кровавыми брызгами, она впилась руками в непослушное тело брата, пыталась стянуть его на пол. Ей это удалось — Гензель шлепнулся, как набитый землей мешок, но даже не почувствовал боли от удара. Наверно, если бы ему сейчас отсекли пару пальцев, он и того не почувствовал бы. Страха оказалось так много, что он вытеснил боль даже из самых тесных уголков омертвевшего тела.
Он попытался ползти к выходу, цепляясь непокорными руками за скользкий пол, но смог протащить свое тело не больше пары локтей. Отчаянно не хватало сил, и Гретель тут ничем не могла помочь.
Кокон лопнул. Его куски разлетелись по всей комнате, оставляя за собой густую сукровичную массу цвета гнилой вишни. Где-то из этой мякоти торчали бесполезные крюки и обломанные иглы. Судя по всему, Расщепитель пытался выполнять свою работу до последнего.
Существо, тяжело ступившее из остатков кокона, ничем не походило на геноведьму.
Мяса, оставшегося на нем, было недостаточно даже для того, чтоб разобрать, мужчина это или женщина. Это был полуобглоданный скелет, покрытый клочьями дымящейся багровой плоти. Плоть эта местами почти не держалась на нем, сползая полужидким студнем на пол и растекаясь. Кости местами казались оплавленными, а местами выпирали из тела причудливым каркасом. Ребра с одной стороны оказались срезаны, в хлюпающем коричневой жижей отверстии виднелись внутренности — причудливые, нечеловеческие, асимметричные.
На голове остались клочья волос, но спускались они не на лицо, а на хрипящий и булькающий обнаженный череп, прилипнув к нему как ржавые водоросли. Одного глаза у существа не было, а другой, лишенный века, перекошенный, взирал на детей с полным безразличием.
Существо двигалось неровно, шаталось из стороны в сторону, с трудом удерживая равновесие, ноги почти его не держали. Гензелю вспомнился игрушечный скелет на ниточках, что показывали на прошлой ярмарке. Только тот был безобидным, с нелепой улыбкой от уха до уха, а этот хрипло рычал, скаля остов рта — бездонный черный провал, из которого торчали в хаотическом беспорядке белые осколки зубов.
Гензель заорал и попытался толкнуть свое тело вперед, но пол, состоящий из гладких мышечных волокон, скользил под пальцами.
Гретель, задыхаясь от ужаса, пыталась тащить его. Чудовищное существо, бывшее когда-то прекрасной геноведьмой, захрипело, на его грудь из пасти полилась пузырящаяся кровавая слюна. Когда оно шло, неловко переваливаясь с ноги на ногу, на его голове шипели волосы, соскальзывая с черепа вместе с кусками мягкой плоти и шлепаясь на пол. Единственный глаз смотрел прямо в душу Гензелю, и, хоть он был лишен всякого выражения, Гензель увидел в нем свою неотвратимую смерть. Ужасную, полную муки, тягучую — прямо здесь, на мокром полу лаборатории.
В несколько шагов геноведьма оказалась возле детей. Несмотря на всю свою неуклюжесть и скрежещущие кости, выдающиеся из тела подобно занозам, ведьма еще умела быстро двигаться. Она не обращала внимания за остающийся за ней кровавый след, как и на сползающее по ее костям мясо. Она чуяла добычу и стремилась до нее добраться.
Сладкие непослушные биологические образцы.
Вкусное и свежее детское мясо.
Гензель видел, как потеки плоти и крови стекают с ведьмы на него, заляпывая штанины бурыми брызгами, и изо всех сил упирался руками в пол. Он чувствовал вонь, исходящую от ведьмы… вонь, подобную той, что ощущал лишь однажды, когда квартероны из соседнего квартала забили и сожгли в земляной яме свалившуюся от тифа корову.
Едкая, проникающая через все щели прямо в душу вонь гнилой требухи и запах паленой кости.
Она была совсем близко, в одном шаге — распадающееся, ворчащее, дергающееся месиво из плоти и кости. Какая-то крошечная часть Гензеля, не поддавшаяся панике и сохранившая наблюдательность, отметила, что даже кости ведьмы не похожи на человеческие — слишком тонкие, с острыми непривычными суставами, сероватые. Они располагались в тех местах, где у человека их быть не могло, местами соединяясь в настоящий костяной доспех. Там же, где они были обломаны, вместо костного мозга на пол сочилась густая волокнистая субстанция.
«Сколько же в ней человеческого? — спросила сама себя эта крошечная часть Гензеля. И сама же себе ответила: — Ноль».
Ведьма протянула руку к Гензелю. Плоть облезла с нее кусками, отчего рука походила на разварившуюся в похлебке суповую кость, бледно-багровую, в лохмотьях, бывших когда-то кожей. От нее все еще валил пар, а воздух вокруг обратился бледно-кровянистым туманом. Не в силах пошевелиться, он наблюдал, как движется эта ужасная рука. На одном пальце даже сохранился наманикюренный ноготь — он выпирал из кровоточащего мяса аккуратным ровным полукругом.
Гензель понял, что через секунду эта рука сомкнется на его горле. Успеет ли он почувствовать прикосновение колючих костяных пальцев, прежде чем они сожмутся, разрывая его трахею и шейные позвонки, медленно отделяя голову от туловища?..
Гретель, увидев занесенную руку чудовища, вдруг выпрямилась, прикрыв своим тщедушным телом брата.
— Не его! — крикнула она звонко, как никогда не кричала. — Меня бери, подлая старуха! Это я сделала!
Ведьма осклабилась, в ее пасти сомкнулись торчащие во все стороны зубы и захрустели от усилия, несколько из них выпало. Наверно, это означало улыбку. Но то, что хорошо смотрелось на мраморной гладкой коже, ничем не походило на оскал скелета.
Ведьма махнула рукой — и Гретель бесшумно отлетела в сторону. У ведьмы, даже искалеченной в чреве Расщепителя, было достаточно сил, чтобы разорвать ее на части, но ей не терпелось дотянуться до Гензеля.
Раненой крысой скользнула по краю сознания мысль — ведьма намеренно не убила Гретель. Она хочет сперва убить Гензеля, а потом заняться своей бывшей ученицей. Неторопливо и без спешки.
Существо, бывшее когда-то прекрасной женщиной, нависло над Гензелем, распахнув свою изуродованную пасть. Носа у нее тоже не осталось, вместо него темнели провалы, исторгающие облачка пара.
По скулам медленно ползли комья перемешавшейся с кожей мышечной массы с неровными бугорками хрящей. Взгляд ее единственного глаза ослепил Гензеля, пригвоздив его к полу и иссушив остатки сил. Взгляд полнился нечеловеческой ненавистью, чистым ее излучением, смертоносным и яростным. Этот глаз будет последним, что он увидит.
Гензель понял, что ему не спастись. Перевернулся на спину, пытаясь вскинуть руки для защиты, и понял, что не сможет и этого. Слишком мало сил. Но и страха больше не было. Была глухая тоска, так и не превратившаяся в слезы. Бедная Гретель… Сейчас ведьма размажет его по полу, а потом вернется к ней.
Он хотел зажмуриться, но глаза замерзли, веки распахнулись во всю ширь. Сейчас в его глазах, должно быть, отражается оскал ведьмы… И будет отражаться даже тогда, когда глаза сделаются мутными, пустыми и мертвыми.
Ведьма шевельнулась, протягивая к нему свои дымящиеся лапы в коросте отваливающейся плоти. Гензель попытался закричать, точнее, его тело попыталось закричать, сознавая, что все сущее сейчас перестанет быть, а сам он превратится в крохотный комок бесконечной боли, тающий, меркнущий, уплывающий…
Но вместо скрежета костей по собственному горлу он вдруг услышал совершенно другой звук. Серебристый звон разбитого стекла.
Ведьма замерла, то ли удивленная, то ли сбитая с толку. По ее лицу, шее, груди, смешиваясь с кровью, летели осколки стекла, крошечные и блестящие неровные бусины. И вода. Вода хлынула, срывая лохмотья еще держащейся кожи, разбиваясь сверкающими водопадами о торчащие осколки костей. Ведьма издала короткий глухой рык. И только тогда Гензель увидел за ее спиной Гретель. Все еще держащую в руке неровно обломанное горлышко стеклянной реторты. Глаза ее были прищурены и решительны.
Вода?
Сестрица, ты решила ударить ее бутылью с водой?..
Гензелю хотелось застонать. О Человечество, зачем?
Только в глупых историях ведьмы тают от обычной воды. Но Гретель никогда не любила таких историй, с самого детства. Неужели на самом деле она верила в подобные глупости и теперь, когда их жизни висят на тончайшем волоске, позволила себе действовать инстинктивно?..
Вода стекала по ведьме, лишь несколько капель попало на Гензеля, преимущественно на штаны и рубаху. Ведьма оскалилась, встретив поток воды и стекла, который ничуть ей не повредил. Мелкие порезы были не видны на фоне кровоточащего мяса, разве что мягко блестели кое-где россыпи стеклянных брызг, усеявших ее предплечья и грудь. Лапа, протянутая к Гензелю, замерла лишь на мгновение.
Это мгновение обещало стать самым коротким в жизни Гензеля. И самым последним.
А потом ведьма завизжала.
Гензель видел, как внутри ее вспоротой шеи завибрировали остатки трахеи, больше похожие на раздавленную ящерицу. Как вспучились на уцелевших участках кожи сине-багровые вены. Ведьма завизжала, оглушительно, страшно, пронзительно. Не как человек, но как существо, испытавшее пароксизм невыносимой муки, оказавшееся живьем в аду.
Ведьма забыла про Гензеля.
Она подняла руки и вдруг впилась ими в свое же лицо, мокрое от воды и крови. Под обглоданными пальцами заскрежетали обнаженные кости, и все, что оставалось от ведьминского лица, вдруг стало соскальзывать на пол, шлепаясь с отвратительным хлюпаньем и растекаясь неровными мутными лужицами. Не веря своим глазам, Гензель наблюдал за тем, как обнажается ее череп и как белые кости тоже тают, подобно кускам белоснежного сахара в горячем чае.
Челюсть отломилась с приглушенным треском вроде того, что бывает, если разорвать оберточную бумагу. Отломилась — и шлепнулась на пол, несколько раз перевернувшись. Она уменьшалась на глазах, исходила белым паром и через несколько секунд превратилась в бесформенный осколок кости, лежащий в лужице.
Таял и череп. Ведьма визжала, впившись руками в остатки лица, словно пыталась прижать остатки плоти, но они уплывали сквозь пальцы, и сами пальцы уже исчезали. Ведьма стремительно обращалась в бледно-розовую кашицу, по ее скелетообразному телу вниз сползали большие и маленькие сгустки того, что прежде было плотью. Влажно хрустнул истончившийся череп, и Гензель, едва живой от страха и удивления, видел, как в его проломах мелькнула розовая губчатая масса, а затем начала таять и она.
В теле откуда-то нашлись силы, и Гензель бессознательно отполз на несколько шагов от тающей ведьмы — тело инстинктивно пыталось держаться подальше. Теперь она уже не визжала — от ее горла остался лишь позвоночник, да и тот истончался на глазах. Розовая кашица уже не падала комками, она срывалась с ведьмы огромными кусками, пачкая пол и заливая все вокруг. И даже на полу она продолжала таять с едва слышимым шипением, обращаясь густой вязкой жижей.
Ведьма рухнула на колени и запрокинула голову, от вида которой Гензель едва не лишился чувств. Череп наполовину растаял, остатков лица невозможно было рассмотреть — вся голова ведьмы напоминала протухшее яйцо, небрежно разбитое, состоящее из месива неровных осколков и густых потеков желтка.
Ведьма упала в лужу, образованную ее же телом, и стала корчиться, затихая. Обрубки конечностей бесцельно шевелились, распадаясь на части. Когда движение прекратилось, в луже лежал бесформенный кусок мяса, все еще негромко шипящий, съеживающийся. Гензель не мог оторвать от него глаз. То, что осталось от геноведьмы, теперь могло бы поместиться в небольшое ведро.
Гретель стояла в прежней позе, так и не выпустив из руки горлышка разбитой реторты. В ее взгляде Гензель прочитал смертельную усталость, но страха в них уже не было — растаял, как сама ведьма.
— С-сестрица… — пробормотал Гензель заплетающимся, как у пьяного, языком. — Этт-то как же… Она что же, растаяла?
— Растаяла, — подтвердила Гретель чужим охрипшим голосом, протягивая ему руку, чтобы помочь подняться. — Как снег. Ты только близко к ней не подходи, поранишься…
Гензель растерянно следил за тем, как в мутной лужице, оставшейся от геноведьмы, лениво поднимаются и лопаются пузыри да вертятся мелкие костяные осколки.
— Но ведь это не работает против настоящих ведьм, — неуверенно пробормотал он. — Ведьмы ведь не тают от обычной воды! Только в старых глупых историях…
Гретель разжала пальцы и позволила горлышку разбитой реторты упасть на пол. В том месте, где оно коснулось мягкой мышечной обивки, взвилось несколько тонких струек пара.
— От воды ведьмы не тают, — сказала Гретель рассудительно, вытирая руку о платье. — Но от кислоты — тают. Концентрированная карборановая кислота. Растворяет любую органику.
— А…
— В геноведьме мало что осталось от человека, братец. Но природа у нее все-таки была органической. В этом она не смогла обмануть мироздание.
Вода!..
Гензель опустил взгляд, и в том месте, где на его одежду упало несколько капель жидкости, увидел широкие оплавленные отверстия. Видимо, капли оказались недостаточно большими, чтобы прожечь его кожу. По счастью.
Гензель ощутил под ребрами внезапно давление, которому невозможно было сопротивляться. Он ощущал себя безмерно уставшим, едва удерживающимся на ногах, но чувствовал, что ничего не может с собой поделать. Он прижался к стене и позволил реакции тела, сотрясавшей его изнутри, выйти наружу.
В этот раз ему удалось удивить Гретель.
— Что с тобой, братец? — спросила она, глядя на него распахнутыми полупрозрачными глазами. — Отчего ты смеешься?
Он мог бы попытаться объяснить, но знал, что ничего не выйдет. Не хватит дыхания. Да и Гретель не поймет.
Не суть. Гензель чувствовал катящиеся по лицу слезы, легкие клокотали, изрыгая неконтролируемый бурлящий смех. Сейчас он не думал о громадной мясной глыбе, внутри которой они были заключены, как не думал и об останках ведьмы, о Железном лесе, о Мачехе…
Несколько блаженных секунд он позволил себе не думать вообще ни о чем.
Гензель смеялся.
В путь они тронулись с рассветом. Гензель собирался отправиться немедленно, но Гретель удержала его. Прежде чем уйти, необходимо было закончить приготовления. Разумеется, она была права. Стоило запастись всем необходимым.
Теперь Гензель ощущал за спиной приятную тяжесть заплечного мешка, наполненного мясом, вполне достаточную тяжесть, чтобы даже Железный лес уже не казался бесконечным. За ремнем висел остро заточенный обломок кости размером с приличный кинжал — не чета старому карманному ножу.
Они с Гретель стояли на опушке и молча наблюдали за тем, как умирает мясной дом.
Он умирал по-стариковски, неохотно и медленно. В этом не было ничего удивительного — километры жил и костей, бескрайние пространства внутренних органов и тысячи литров крови… Слишком большой и сложный организм, чтобы умереть мгновенно. Но Гензель знал, что дом обречен.
— Надо подождать, — кратко сказала Гретель, наблюдая за тушей дома в низинке. — Давай постоим тут, братец. Недолго осталось.
За последнее время Гретель сильно изменилась. Он сам точно не знал, в чем именно произошла перемена, но ловил себя на том, что не ощущает желания спорить. Словно Гретель за одну неделю повзрослела на дюжину лет, и теперь уже он был младшим братом, которому вечно надо растолковывать очевидные вещи. Это было обидно, но он не спорил. Возможно, оттого что глаза Гретель, столь же ясные и прозрачные, как прежде, отбивали всякое желание спорить. От них веяло каким-то холодком, которого не было прежде. И от которого у Гензеля неприятно сосало под ложечкой. Слишком спокойные, слишком безмятежные. Он не хотел вспоминать, что ему напоминает этот взгляд.
Они наблюдали за тем, как умирал огромный дом.
Сперва не было заметно никаких признаков грядущей смерти, но Гретель терпеливо ждала, и Гензелю ничего не оставалось делать, кроме как последовать ее примеру. Конечно же она оказалась права. Не прошло и часа, как ритмичное дыхание огромного мясного кома стало сбиваться. Сперва это было не так заметно, но ухудшение быстро становилось явным, вместо ровного гула в лесу теперь раздавался рваный болезненный хрип невидимых легких.
Слушать это было жутковато, но Гензель не пытался закрыть уши. В смерти мясного дома было что-то величественное и грустное, как в смерти огромного лесного зверя. Дом умирал медленно, и хоть он ни единым звуком не выдал боли или горечи, Гензелю казалось, что тот страдает.
— Он не чувствует боли, — негромко сказала Гретель, видно угадав, что чувствует сейчас брат. — Я сделала все аккуратно. Паралич легких и сердечной деятельности. Быстрая безболезненная смерть.
Гензель не хотел знать, что это значит. Довольно ему было наблюдать за тем, как Гретель наполняет инъектор раствором из колбы и, не дрогнув липом, всаживает иглу в какой-то выступающий из стены сосуд.
— Зря мы это сделали, — только и сказал он, наблюдая за тем, как жизнь медленно покидает огромный кусок неразумной протоплазмы, не способный ни жаловаться на судьбу, ни страдать.
Наблюдать за смертью дома оказалось неожиданно тяжело. «Он ведь ни в чем, в сущности, не виноват, — подумал Гензель, глядя, как тяжело шевелится огромная туша, холодеющая на глазах. — Просто бездумная ткань, всю свою жизнь кого-то защищавшая, гревшая и кормившая. У него не было мозга, он не умел думать, но он дышал и наверняка что-то умел чувствовать. Была же у него примитивная нервная система… Наверно, сейчас он чувствует приближающуюся смерть. Любое существо ее чувствует. Он ощущает, как постепенно отказывает его тело, как гаснут ощущения, но не может даже понять, кто его убил и за что…»
Он представил себе, что творится сейчас внутри гибнущего дома. Лопающиеся сосуды, заливающие утробу кровью. Ручьи желчи, льющиеся из расколотых костяных перекрытий. Пульсирующие раскаленные внутренние органы. Изгибающиеся в спазмах боли комнаты и дрожащие тоннели переходов…
— Зря мы так с ним… — повторил он вслух. Прозвучало беспомощно и зло, хоть злиться сейчас было не на кого. Разве что на себя, да и то непонятно за что.
— Почему? — спросила Гретель без всякого интереса.
— Это был твой дом. Он признал тебя как хозяйку. Подчинился тебе. А мы… мы его убили. Это как убить животное, которое тебе доверилось, понимаешь? Как-то… противно.
Глаза Гретель были ясны и чисты. И, глядя в них, Гензель вдруг догадался, что сестра не поняла сказанного. Словно оно было лишь бессмысленным набором слов.
— Без меня этот дом все равно погиб бы рано или поздно. Кто-то должен был о нем заботиться, кормить, лечить…
— Но не ты.
— Не я, братец. Я не могу прожить всю жизнь в Железном лесу. Мир огромен, а мы не повидали даже его крошечного кусочка. Города, о которых рассказывала геноведьма, другие королевства…
— Новые геночары, — сказал он чужим, неестественным голосом. — Новые знания.
Но она не смутилась.
— Да, братец. Мне многое надо узнать. Очень-очень многое. И поэтому нам надо идти.
— Но что мы будем делать, Гретель? Даже если мы выберемся из этого проклятого леса, у нас нет ни гроша за душой!
— Выберемся, — сказала она безмятежно и так уверенно, что Гензель сразу понял: это правда. — А насчет денег… Наверно, я что-нибудь придумаю. Я не геноведьма, но уж пару медяков мы с помощью геночар как-нибудь заработаем.
— Будем шляться по миру? — язвительно спросил он. — Показывать фокусы? Без крова, без крыши над головой?
— Там будет видно, братец. Там будет видно.
Дом умер. Последние несколько минут его сотрясали судороги, огромная глыба ходила ходуном, через открывшиеся язвы хлестала кровь. Без сомнения, это была агония. Последние судороги жизни — одной очень глупой, примитивной и упорной жизни. Но они закончились. Дом замер, медленно оседая, его покровы обмякали. Возможно, он даже не успел понять, что умирает. По крайней мере, Гензель на это надеялся.
— Все, — спокойно сказала Гретель, отворачиваясь. — Он мертв. Мы можем идти, братец.
— Да, — сказал он тихо. — Можем. Пошли, сестрица.
Гензелю мерещилось, что ослепшие глаза мертвого дома глядят ему в спину. Поэтому он так ни разу и не обернулся. А затем они вновь оказались в чаще Железного леса — и все прошлые мысли исчезли сами собой.
Принцесса и семь цвергов
Слежка была организована ловко, этого Гензель не мог не признать.
Скорее всего, их незримо вели с того момента, как они вошли в город, от самых Русалочьих ворот. Гензель не сразу ощутил, что к привычному запаху Лаленбурга, запаху яблок, примешивается еще один — чужого внимания. И внимания, судя по всему, недоброго, пристального.
Мысль об уличных воришках Гензель отбросил сразу же. Одной его улыбки, полной акульих зубов, обычно хватало, чтобы отбить даже у самых дерзких желание интересоваться содержимым кошеля. Да и не станут обычные воры так себя утруждать — не их почерк.
Вели их аккуратно, умело, как опытный егерь ведет дичь, не показываясь на глаза, но не отрываясь от следа, выгадывая момент, когда можно будет настичь добычу и вскинуть ружье, чтоб выстрелить наверняка. Гензель не горел желанием служить для кого-то дичью, но и поделать ничего не мог. Оставалось лишь приглядываться к окружающему, делая вид, что беззаботно разглядывает рыночные ряды и прилавки.
Здесь было на что посмотреть. На дворе стояла поздняя осень, оттого прилавки Лаленбурга были завалены яблоками, великим множеством яблок. Красные, как артериальная кровь, зеленые, как весенний луг, желтые, точно начищенная золотая монета, или даже бесцветные — здесь можно было найти товар на любой вкус, из всех уголков королевства. Каждый год к середине осени Лаленбург превращался в одну огромную яблочную ярмарку, и товара зачастую было так много, что груды битых и гнилых яблок заполняли все городские канавы.
Иногда Гензелю казалось, что в этом городе не знают другой пищи, кроме яблок. Если ему не изменяла память, яблоко красовалось даже на гербе здешней королевской династии. Он любил яблоки, но уже через несколько минут дыхания воздухом, в котором яблочных испарений было ощутимо больше, чем любых других газов, ощутил легкое головокружение. После душистого степного воздуха, которым он дышал последние две недели, Лаленбург был серьезным вызовом его обонянию.
Впрочем, город хранил для гостей и иные ароматы. Чем дальше они с Гретель отходили от ворот, тем сильнее это ощущалось. Они миновали скотобойню (тяжелый запах застарелой крови), мастерские скорняков (едкий до тошноты аромат каких-то красителей) и углеводородную фабрику (оттуда отчего-то тянуло спиртом и чем-то кислым, как забродившее сусло). И сразу оказались в переплетении крошечных улочек и переулков Лаленбурга — настоящая паутина, сотканная гигантским пауком из осыпающихся блоков и позеленевших от времени бетонных плит.
Их по-прежнему вели, так же аккуратно и уверенно. Гензель даже не оглядывался, его чутье уже подняло свою заостренную акулью морду над поверхностью. Чутье говорило, что загонщики уже очень близко. Пользуясь несравненно лучшим знанием окрестностей, они постоянно находились рядом, но ни разу не показались на глаза. Хороший навык, прикинул Гензель. Выдающий крайне настойчивое желание встретиться. По его расчетам, встреча не должна была заставить себя ждать — через полста метров переулок, которым они шли, круто изгибался, а вокруг было множество подворотен самого заброшенного и зловещего вида. Если бы встречу планировал он сам, это место было бы со всех ракурсов идеальным для засады.
— Эй, сестрица! — окликнул он Гретель, шедшую на пару шагов впереди. Обычное дело — погруженная в собственные мысли, она не следила за скоростью шага, а шаг этот порой был не по-девичьи стремителен. — Постой-ка, не лети!
Она подняла на него свои прозрачные глаза:
— Что такое, братец?
— Похоже, кто-то жаждет с нами встретиться.
Кажется, это не произвело на нее никакого впечатления.
— Грабители? — только и спросила Гретель. Таким тоном, каким обычно осведомляются о том, не припустит ли к вечеру дождь.
— Едва ли. — Он покачал головой. — Слишком ловки. Вспомни, пожалуйста, нет ли у нас в Лаленбурге знакомых, коим не терпится с тобой поговорить?
Гретель пожала плечами, которые казались худыми и острыми даже под грубым мужским дублетом. Едва ли кто-то, кроме стражников при воротах, вообще распознал в ней женщину. Грубые потрескавшиеся ботфорты выглядели ничуть не элегантно, зато служили зримым доказательством многих отсчитанных миль. Да и потертый берет, под которым скрывались коротко остриженные волосы белого, как тополиный пух, цвета, не был верхом изящества. Даже двигалась Гретель не по-женски целеустремленно, резко, совершенно не пытаясь придать своим движениям грациозность. За спиной у нее висела бесформенная походная сумка из потрепанного брезента. Словом, совсем не тот тип девушки, на который позарилась бы охочая до женского общества лаленбургская чернь.
— Мы давно не были здесь, братец, — сказала она.
— Четыре года. Кто-то мог соскучиться. Приличный срок, а?
— Смотря для чего.
— Или для кого. Возможно, с тобой не терпится встретиться кому-то из старых клиентов с хорошей памятью? У тебя ведь, помнится, было много контрактов здесь?
— Все мои контракты выполнены. Претензий не было.
— Это Лаленбург, сестрица, — вздохнул Гензель. — Здешние деловые обычаи вполне допускают претензии, высказанные остывающему трупу.
— Ты уверен, что это не грабители?
— Уверен. Слишком уж терпеливы и хитры. Грабители выбирают цель возле ворот, но идут за ней не слишком долго. Чтобы полоснуть бритвой по шее и вырвать котомку, не надо много времени. А эти… Они ждут, пока мы углубимся в переулки. Видно, хотят потолковать обстоятельно и долго, без лишних свидетелей. Один идет позади нас, шагах в двадцати. Еще двое поджидают впереди, вон в той подворотне. Думаю, они собираются выглянуть из норы, как только мы окажемся рядом. Нас отрежут с двух сторон.
Гретель не выглядела обеспокоенной. Насколько Гензель ее знал, она вообще никогда не выглядела всерьез обеспокоенной, сохраняя на бледном лице выражение предельной сосредоточенности, что граничило с отрешенностью. Такая уж она, сестрица Гретель.
— Нас хотят убить? — буднично спросила она.
Подумав, он покачал головой:
— Это можно было бы сделать еще раньше, за фабрикой. Выстрел в спину — и поминай как звали. Там было вполне подходящее место. Но я думаю, они хотят чего-то другого.
— Тогда давай встретимся с ними, братец, и узнаем, чего они хотят.
Ему это не понравилось. На взгляд Гензеля, пустынные переулки Лаленбурга были не лучшим местом для встреч. Слишком уж часто на его памяти подобные встречи заканчивались самым прискорбным для одной из сторон образом. Но спорить с Гретель он не стал. Лишь понадеялся на то, что ее безмятежность имеет под собой надежную почву. Более основательную, чем уверенность в силах старшего брата.
Рука, однако, рефлекторно проверила висящий за правым плечом мушкет. Короткий, трехствольный, с укороченным до предела прикладом, он отлично подходил для узких улочек, однако даже батарея тяжелых картечниц не поможет тому, кто теряет бдительность. Колесцовые замки он завел и смазал еще до входа в город и теперь лишь убедился в том, что они не дадут осечки. Порох на полках сухой, стволы надежно забиты пыжами из промасленной бумаги. В двух стволах пули, в одном рубленая дробь. Хороший трактирщик всегда готовит блюда загодя — чтобы подошли аккурат к приходу гостей. А в том, что гости не заставят себя долго ждать, он уже не сомневался…
Они и в самом деле показались из подворотни, чутье не соврало. А негромкие, отраженные стенами звуки шагов за спиной подсказывали, что их встреча спланирована наилучшим образом.
«Человечество Извечное и Всеблагое! Дай нам, твоим увечным потомкам, силы и смелости да избавь от тяжести грехов наших и наших предков!» Краткую молитву Гензель вознес скорее по привычке, без должного почтения.
Как чувствовал, что не стоило возвращаться в Лаленбург, город тухлых яблок и генетической скверны!..
— Доброго дня, сударыня ведьма!
Сказано было без надлежащего уважения, скорее с насмешкой. От одного этого голоса Гензель ощутил, как дремлющий в его генетических цепочках хищник напрягся. Невидимые зубы едва заметно разомкнулись, обнажаясь в щербатой акульей усмешке. Такой голос не предвещал ничего доброго, ничего хорошего, ничего путного. Такой голос обещал неприятности. Может быть, больше неприятностей, чем он, Гензель, успеет отвести.
Эти двое были бы примечательной парой, но только не для Лаленбурга. Здесь можно было встретить и не такую компанию.
Первый был квартероном, это Гензель мгновенно определил по металлическому блеску браслета на руке. Цифру на браслете с такого расстояния не разобрать, но он готов был поставить половину своих зубов на то, что она не ниже двадцати. Как минимум двадцать процентов порченой крови, генетического сора. Слишком уж раздуто тело, слишком искажены человеческие пропорции.
«Да он похож на огородное пугало, — подумал Гензель, ощущая безмерную брезгливость. — Словно изнутри его набили сеном и тряпьем, да так, что едва не трескается…»
И в самом деле, кожа была растянута, а черты лица поплыли, словно их нарисовали краской на полотне, а само полотно потом натянули на излишне широкий холст. Здоровяк переминался с ноги на ногу и казался неуклюжим, но Гензель не собирался терять бдительности. В этом раздутом теле, судя по всему, скрывалась недюжинная сила, вон какие свисают бурдюки мышц… В блеклых и затертых, как старые пуговицы, глазах почти не угадывалось мысли, чувства, лишь концентрированная и едва сдерживаемая животная ярость. Не человек, а огромный ком плоти, причем плоти явственно агрессивной. Судя по тому, как подергивалось это чучело, как глухо ворчало, пачкая почти отсутствующий подбородок стекающей желтоватой слюной, оно не собиралось вступать в долгие и обременительные беседы.
Второй был мехосом. Это сперва удивило Гензеля — механические люди редко совались в квартеронские кварталы города. Слишком много тут грязи, угрожающей их смазанным сочленениям и фильтрам. Но этот, кажется, не боялся грязи. Он выглядел так, словно вообще ничего не боялся, и, надо сказать, имел для этого все основания.
Огромная, на голову выше Гензеля, металлическая туша, руки — стальные балки, торс — дредноут, укрытый броневыми пластинами, из-под которых свисают гроздья силовых кабелей, голова — литой бункер, разве что торчащих из глазниц орудийных стволов не хватает… Кое-где угадывались островки плоти, но ее было так мало, что она не составляла и процента от общей массы мехоса, лишь зоркий глаз мог заметить ее нездоровую желтизну в пробоинах корпуса.
Когда-то это существо было человеком, но было им так давно, что давно должно было забыть, что это такое. Что ж, подумалось Гензелю, некоторые выбирают и такой путь бегства от несовершенства плоти и генетических увечий. Замени свои мышцы гидравлическими поршнями, кожу броней, а внутренние органы грохочущими железяками, — но полностью от своей генетической сущности все равно не избавиться. Зато все в соответствии с церковными догматами, осуждающими любое вмешательство в генетический код.
Этот тип не был похож на монаха. И едва ли он оказался здесь, в глухой подворотне, по делам Церкви Человечества. По крайней мере, Гензель сомневался, что с подобными гидравлическими сухожилиями и лязгающими пальцами, способными раздавить в кулаке человеческую голову, удобно собирать милостыню или молиться за генетические грехи ныне живущих. Обладая подобным арсеналом, встроенным в тело, проще добывать хлеб насущный куда более простым и древним способом.
Глухая маска, когда-то бывшая человеческим лицом, не сохранила достаточно плоти, чтоб выражать эмоции, но в позе мехоса, в наклоне его головы, даже в равнодушном блеске тусклых объективов Гензелю почудилось сдерживаемое злорадство. И даже нечто сродни голоду, хотя едва ли этот гигант остался в состоянии употреблять обычную человеческую пищу.
Гретель не оскорбилась из-за «ведьмы». И испуганной не выглядела. На странную пару она смотрела совершенно равнодушно, как на самых обычных лаленбургских прохожих.
— И вы здравствуйте, судари, — сказала она спокойно, остановившись в трех-четырех шагах.
Гензель встал по левую сторону от нее. К мушкету он не прикасался, позволив тому висеть за плечом мертвым грузом, даже принял нарочито расслабленную позу. Не стоит заранее провоцировать того, кого собираешься в скором времени убить. А в том, что ему придется это сделать, он уже почти не сомневался. Слишком странная компания, слишком неподходящее место, слишком нехороший тон. Никто не ищет встречи с «сударыней ведьмой» в глухом месте, если не замышляет чего-то недоброго.
— Значит, узнали? — громыхнул мехос. Голос у него был не человеческим и не машинным, а чем-то средним — как будто кто-то наделил даром речи тяжелый металлургический станок. — Нам очень отрадно слышать это. Мы ведь имели счастье общаться с вами, сударыня ведьма. Пять лет назад, если память мне не изменяет.
— Четыре с половиной года, — кивнула Гретель, спокойно разглядывая собеседника. — Или немногим меньше.
— У вас, кажется, отличная память!
— Я всегда помню своих клиентов.
— Вот как… И что скажете про меня?
— Вы обратились ко мне за помощью. И вы ее получили. Контракт был выполнен. Насколько я понимаю, вы собираетесь выразить мне благодарность?
Мехос приблизился на шаг. Слишком резкое движение — брусчатка под его лапами прыснула в разные стороны мелкими каменными осколками.
— Благодарность? — проскрежетал он. Слова словно отделялись от глыбы грязного металла ржавым диском циркулярной пилы. — Пожалуй, можно сказать и так! Да, наверняка. Наша благодарность ждала несколько лет и уже немного залежалась! Мы уже думали, что вы никогда не вернетесь в Лаленбург. И тут, подумать только, такая счастливая новость! Не желаете ли потолковать с вашими благодарными клиентами?
Гензель почувствовал близкое присутствие третьего — того, что прежде таился за их спинами. Осторожно повернулся, чтобы рассмотреть нового противника, и скривился.
Мул. Конечно же. Вот отчего он так тихо крался, как не каждый человек сумеет. Генетическое отродье, чей фенотип обезображен более чем наполовину. Гензелю приходилось видеть самых разных мулов во всех частях света, включая и тех, чье родство с человеком было почти невозможно установить. Но ему пришлось признать, что этот мул был одним из самых отвратительных на его памяти.
Получеловек-полузверь, причудливое сочетание генетического мусора и порочных тканей. Нижнюю, часть тела вполне можно было принять за человеческую, разве что ноги выгнуты в другую сторону и украшены толстыми когтями. А верхняя… Наверно, так могло бы выглядеть существо, которое сумасшедший бог сперва слепил в виде человека, а потом решил превратить во льва, но так и не закончил работы.
Разросшаяся бочкообразная грудная клетка поросла жестким черным и желтым волосом, а конечности можно было назвать и руками, и лапами — сразу и не определишь, кому они принадлежат. Судя по тем же когтям — все-таки зверю. Но ужаснее всего была голова. На плечах у мула торчала несимметричная глыба в обрамлении свалявшейся и висящей грязными клочьями гривы. Вытянутая пасть, полная крупных желтых зубов, а над ней — абсолютно человеческие глаза, полные сдерживаемой, но уже не вполне человеческой злости. Человек-лев. Еще один член здешнего цирка уродов. И, надо думать, еще один недовольный покупатель, имеющий претензии к «сударыне ведьме».
Гензель беззвучно вздохнул, стараясь держаться вполоборота к третьему члену шайки. Так всегда заканчивается, когда возвращаешься в город, где давно не был и чью пыль давно стряхнул с подошв. Всегда — если путешествуешь в компании с геноведьмой. Добрую память о себе может оставить портной или печник, но только не тот, кто манипулирует живой материей, искажая ее по своему разумению. Вслед ему всегда будут нестись проклятия и слезы. Даже если уговор был выполнен самым честным образом. Гензель вздохнул еще раз. Особенно если уговор был выполнен самым честным образом.
— Не в моих правилах возвращаться к старым контрактам. — Гретель с полнейшим равнодушием разглядывала мехоса, который, судя по всему, был главным у этой троицы и выражал от себя ее волю. — Но если у вас есть претензии к моей работе, вы всегда можете обратиться в магистрат. Я буду в городе еще несколько дней.
Похожий на набитое чучело здоровяк глухо заворчал, роняя на мостовую хлопья слюны. Он явно не отличался острым умом, но холодный голос геноведьмы одним своим звучанием скверно на него действовал. Такие обычно и нападают первыми. Гензель хладнокровно наметил здоровяка первой целью.
— Нет, сударыня ведьма, — проскрипел мехос с уже нескрываемым злорадством. — В магистрат нам не с руки обращаться. Пусть там благородные господа заседают, которые не брезгают ручкаться с геноведьмами. Да, пусть они там заседают! А мы, извольте видеть, презренные мулы, у нас другой разговор. Мы так соображаем: если кто-то пообещал, но не дал, а деньги себе зажилил, с этого кого-то полагается спрос. По нашим меркам так выходит, сударыня ведьма.
Кого-то другого подобное замечание, особенно из уст такой компании, могло бы заставить напрячься. Но Гретель и бровью не повела. На странную троицу она, как и прежде, поглядывала совершенно равнодушно, как на досадное, но не представляющее никакого интереса препятствие.
В ее глазах они и были препятствием, понял Гензель. Одним из многих, которые заставляют терять время и вносить коррективы в планы. Геноведьмы не любят излишне навязчивых препятствий. И те из них, которых нельзя преодолеть, они зачастую попросту устраняют — с тем же равнодушием, с которым смахивают мошку со стекла объектива. А еще геноведьмы не умеют приносить извинений и совершенно чужды дипломатии.
Гензель прочистил горло.
— Шли бы вы себе, господа мулы, — сказал он, глядя в мутные глаза мехоса. — Сударыня геноведьма проделала сегодня длинный путь и порядком устала. Не навлекайте себе на голову больше неприятностей, чем сможете унести.
Человек-лев за спиной расхохотался. Вышло удивительно по-человечески, учитывая его полную зубов пасть.
— А ты кто таков, бродячая падаль? Телохранитель? Компаньон? — проревел он.
— Родственник, — кратко ответил Гензель.
— К тебе мы претензий не имеем. Ты не геномаг. Можешь катиться отсюда!
Гензель усмехнулся. На некоторых его усмешка действовала надлежащим образом. Но некоторые — как эти трое — переступили черту. Такие не отступают. Даже увидев человека с полным ртом треугольных акульих зубов.
— Разве это зубы? — расхохотался человек-лев, вокруг пасти которого клочьями повисла пена. — Я могу показать настоящие зубы! Смотри! Эти зубы отгрызут тебе голову быстрее, чем ты моргнешь!..
— Не обломал бы ты их… — пробормотал Гензель и покосился на Гретель: чего ждет?..
Гретель разглядывала странную компанию с прежним равнодушным видом. И Гензель чувствовал, как под взглядом ее прозрачных глаз все трое постепенно теряют уверенность. Они думали, что все будет проще. Проследить, окружить в подворотне, немного надавить — и вот уже «сударыня ведьма» рыдает и просит пощады. Если так, их ждало не самое приятное открытие.
Геноведьмы не испытывают страха. Как и жалости. И прочих человеческих чувств.
— Мой брат прав, у нас мало времени. Какие у вас претензии к моей работе?
— Вы не выполнили уговора! — рявкнул мехос так резко, что внутри него что-то задребезжало. Может, отошла какая-то деталь?.. — Вы не сделали того, за что мы заплатили вам!
— Я всегда выполняю уговор. Я даю людям то, чего они хотят. Если это не противоречит природе геномагии.
— Вы обманули нас! Вы думали, что уйдете от наказания, если сбежите из Лаленбурга? Не вышло! Мы ждали вас. Долго ждали. Вы сами пришли к своей плахе, сударыня ведьма!
— Я помню всех вас, — спокойно обронила Гретель. — У меня хорошая память. Конкретно вы хотели, помнится, настоящее сердце…
Мехос ударил себя в грудь. Будь она человеческой, ребра уже сломались бы, как рыбьи косточки. Но бронированная сталь легко выдержала удар. Такая, пожалуй, выдержит и попадание из мортиры…
— Да, дьявол вас раздери! Человеческое сердце! И я поклялся, что вырву из груди ваше — оно вполне мне подойдет!
— Вы слишком поздно обратились ко мне, — сказала Гретель, не выказывая ни сожаления, ни сочувствия. От ее безэмоционального голоса даже Гензель на какой-то миг ощутил себя неуютно. — Ваше тело страдает от излишней механизации, ваша система кровоснабжения редуцирована и почти уничтожена. Ни одно человеческое сердце не смогло бы функционировать, помести я его в вашу грудную клетку. Слишком много металла, слишком мало органики. Я дала вам кое-что другое.
— Вы дали мне чертов метроном! Он до сих пор отсчитывает удары в моей груди. Я слышу его стук! Но это не сердце. Не человеческое сердце! Я не могу чувствовать им, как чувствуют человеческим сердцем!
Другой человек на месте Гретель пожал бы плечами. Она не сделала и этого. За все время разговора она вообще не пошевелилась, не говоря уже о том, чтобы совершать какие-то жесты. С точки зрения геноведьмы, жесты — всего лишь бесцельный расход энергии. Пустая трата калорий.
— Больше я ничем не могу вам помочь, сударь лесоруб. Но мне показалось, что вы обратились ко мне не ради того, чтобы внутри вашего стального тела медленно некрозировал кусок бесполезной мышцы. Вы хотели вновь почувствовать себя человеком, ощутить давно забытый стук сердца. Я дала вам это.
Мехос зарычал, но Гретель уже повернулась к его соседу, раздувшемуся толстяку.
— И вас я помню. У вас была серьезно нарушена высшая нервная деятельность. Серьезная деградация головного мозга и низкий коэффициент умственного развития. Скорее всего, результат генетической болезни в вашем роду. Мне жаль, но геномагия была здесь бессильна. Нельзя научить думать то, что думать не способно. Даже за все деньги мира. Но я смогла помочь вам. Стабилизировать ситуацию.
— Вы вскрыли ему голову и засунули внутрь пучок иголок! — рыкнул мехос.
Толстяк быстро закивал, но, судя по его пустым глазам, он с трудом сознавал ход разговора. Присмотревшись, Гензель действительно заметил ровный розовый шов, разделяющий вдоль его покатый лоб — след давней трепанации.
— Не иголки. Стимуляторы нервных центров. Они гарантируют ему еще несколько лет почти полноценной нервной деятельности. Он не будет терять память, не превратится окончательно в овощ, останется способным ощущать хотя бы зачаточные эмоции. Если вы ожидали, что я дам ему новый мозг и он выйдет от меня мудрецом, то ваши ожидания были беспочвенными. Это не по силам даже геномагии.
На взгляд Гензеля, этот толстяк и так был овощем, чьего куцего сознания едва хватало для управления телом. Но в разговор он старался не вмешиваться. Это по части Гретель. Когда у нее закончатся слова, а у этих ребят — терпение, придет его черед выполнять свою часть работы.
— А я? — Человек-лев хотел было протянуть лапищу, чтоб схватить Гретель на плечо, но наткнулся на ее взгляд и отчего-то не решился сделать последний шаг. — Помнишь, что ты обещала мне, ведьма?
— Смелость. Я обещала вам смелость, сударь.
— Да! И где она, моя смелость? Где она, я спрашиваю?
Гретель коротко усмехнулась. Гензель знал, что ее усмешка — не вполне то же самое, что усмешка обычного человека. Не обычное, принятое в разговоре среди людей, напряжение мимических лиц. От улыбки геноведьмы непроизвольно хочется осенить себя священным знаком Двойной Спирали. Особенно жутко эта усмешка выглядит в сочетании с пустыми глазами, которые, кажется, смотрят сквозь собеседника, и ничего не выражающим, сродни маске, лицом.
Вы все не понимаете сути геномагии, — произнесла Гретель. — Оттого и просите того, что невозможно. Геномагия — способ воздействия на материю, но она не всесильна. Вы же ждете от нее чуда.
— Хватит болтать! Где моя смелость, ведьма?
— Смелость — не орган и не железа, которую можно пересадить. Я стимулировала ваши надпочечники для выработки большей дозы норадреналина, но дело не в нем. Едва ли вам нужна была смелость. Мне кажется, причина вашего беспокойства в другом. Вы слишком презираете физическое уродство своего тела, свои собственные генетические пороки. И смелость едва ли вам в этом поможет.
Человек-лев хлестнул себя хвостом по боку.
— Ты лжешь, ведьма! Ты украла наши деньги! Ты посмеялась над нами!
Он медленно надвигался на нее. По сравнению с хрупкой фигуркой Гретель этот мул казался огромным и несокрушимым. Одного удара его лапы должно было хватить, чтобы смять ее, раздавить, вбить в брусчатку. Но Гретель даже не попятилась. С прежним спокойствием стояла на месте, не делая и попытки отстраниться. Нечеловеческая выдержка. Выдержка настоящей ведьмы, подумалось Гензелю, человека, слишком глубоко погрузившегося в запретные тайны геномагии, чтобы интересоваться чем-то насущным и обыденным. Вроде сохранности своей головы.
Вот почему рядом с ней всегда должен находиться брат-защитник.
— Отойдите, — сказал он негромко, приподнимая мушкет. — Я, конечно, не геномаг, но кое-какие чудеса делать умею. Если вам не нравится то, что вы получили, я легко могу вышибить все, что вы получили, обратно. Только это будет немного больнее, чем при работе сударыни Гретель…
Какую-то секунду ему казалось, что это может сработать. Что эти трое, давно потерявшие человеческий облик, эти изуродованные дети грязного города вдруг одумаются. И отступятся. И что-то человеческое вдруг проклюнется сквозь их искаженную, полную генетической скверны оболочку. Но это длилось всего секунду.
— Взять ведьму! — проскрежетал мехос, расставляя огромные, гудящие гидравликой лапы. — Рви их!..
Им не было нужды распалять себя. Они уже были готовы, только ждали подходящего момента.
Гензелю приходилось слышать от бывалых воинов, что во время боя время растягивается, а каждая секунда превращается в минуту. Он сам ничего такого не испытывал. А то, что он испытывал, едва ли было кому-то знакомо.
Он просто ощутил, что хищник, плавающий в непроглядных черных глубинах его внутреннего моря, давно напрягшийся в ожидании добычи, поднялся к самой поверхности. Он чуял свежую кровь. Грязную, не вполне человеческую, но горячую и сытную. Этого было довольно.
Кровожадный хищник с гибким и сильным телом акулы. Хладнокровный и в то же время алчущий крови. Спокойный, как сама смерть. Гензель слишком долго сдерживал его. Пришло время дать ему свободу.
Человек-лев, стоявший за спиной Гензеля и Гретель, наверняка считал, что успеет первым. Что его лапа, вооруженная острейшими когтями, вскроет черепа наглецов, пока те таращатся на громыхающего мехоса. В конце концов, он тоже был хищником — опытным, бесшумным и очень ловким. Он знал: самая легкая добыча — та, что смотрит в другую сторону.
Возможно, он просто никогда не сталкивался с акулами. И не знал, что их холодные, как вечная ночь, и столь же равнодушные глаза могут смотреть в любую сторону.
Ствол мушкета крутанулся в руке Гензеля и вдруг уставился в живот мулу. На таком расстоянии не было нужды целиться, даже если стреляешь себе за спину. И Гензель не целился. Он знал, что попадет, еще до того, как курок колесцового замка, звонко клацнув, сработал. Механизм не подвел. Негромкий хлопок сгорающего на полке пороха — и сразу же мгновенно оглушающий грохот мушкета.
Живот человека-льва лопнул, как обивка старого дивана, только в глубине обнажились не ржавые пружины, а влажные комья внутренностей, часть из которых вперемешку с клочьями плоти и шерсти усеяла брусчатку. Возможно, среди них были и модифицированные надпочечники. Если так, человек-лев должен был окончательно утратить смелость. И он ее утратил.
Отшатнувшись к стене дома, мул взвыл, как-то фальшиво и удивительно тонко, и нелепым движением попытался прижать лапы к ране — словно затыкал дырявую трубу, из которой хлещет вода. Но воды уже было слишком много, и цвет у нее был грязно-алым, как дрянной яблочный сидр на здешнем рынке. Человек-лев завыл. Его огромные когти были созданы для того, чтобы впиваться в противника и разрывать его на части, но с удержанием собственных внутренностей справлялись куда хуже…
Гензель сразу же забыл про него, развернувшись к мехосу и его спутнику. У некоторых существ, наделенных в полной мере инстинктом самосохранения, зрелище умирающего товарища может вызвать потерю уверенности. Но эти двое лишь замешкались на пару секунд. Значит, не передумают.
Они бросились на него одновременно, в полном молчании.
Драка в подворотне не любит лишних звуков — угроз, проклятий, выкриков. Настоящие хищники могут скалиться и рычать, когда демонстрируют силу или вызывают противника на бой, но молчат, когда дело доходит до драки. И эти двое вовсе не были новичками, Гензель ощутил это сразу же.
Стальная туша мехоса казалась неуклюжей, лишь пока пребывала в неподвижности. В бою ее хорошо смазанные члены работали почти беззвучно, двигаясь с равномерной машинной грацией. Сошедший с ума многотонный станок летел на Гензеля, занося для удара сверкающую, как хирургический инструмент, руку. Любое существо, не успевшее убраться с ее дороги, превратилось бы в кровавую кашу на мостовой.
Главное было — отвлечь их внимание от Гретель. Кажется, ему вполне это удалось — едва прогремел выстрел, как оба противника забыли про беловолосую ведьму, решив в первую очередь уничтожить ее зубастого защитника. Естественный инстинкт. Его собственные акульи инстинкты диктовали ему совсем иное. Ничего удивительного. Если верить Гретель, инстинкты эти были сформированы в ту доисторическую эпоху, когда священный человеческий геном еще не появился на свет. Увернуться от удара просто лишь в том бою, в котором сам выступаешь зрителем. Хорошо поставленный и грамотный удар точен и быстр настолько, что избежать его дьявольски сложно. А удар мехоса был и поставленным, и грамотным. Стонущая от натуги гидравлика придала его огромным рукам силу, достаточную, чтобы проломить стену дома.
От первого Гензель увернулся лишь чудом, ощутив, как прогудел возле лица многокилограммовый стальной кулак размером с его собственную голову. На миг он ощутил запах смазки, но почти тотчас аромат разлитой по переулку крови затопил его без остатка, смывая все прочие запахи.
Запах крови. Вкус крови. Теплая красная жижа, растворенная вокруг…
Стремительный и грациозный танец хищного стремительного тела в сладком алом облаке.
Акула довольно осклабилась. Она понимала в этом толк. И любила, когда жертва беспомощно трепыхается, совершая множество напрасных движений. Иногда жертва сама не понимает, когда борьба превращается в агонию…
Второй удар прокатился бесконечно высоко над Гензелем. Третий ушел далеко вправо. Четвертый не достал до него полметра. Сочленения мехоса лязгали, когда он пытался двигаться быстрее Гензеля, лязг этот был грозным и яростным, как шум танковых гусениц, давящих бруствер траншеи. Но сам по себе этот лязг не был опасен. Гензель двигался быстро и стремительно, как двигается рожденный в воде хищник, беззвучно скользил, не позволяя себе ни секунды оставаться в одном положении.
Иногда акулы не сразу убивают свою добычу. Даже опьяненные кровью, они ценят азарт настоящей схватки…
Промахнувшись несколько раз, лишенный сердца мехос взревел и принялся колотить обеими руками сразу. Размеренные удары сменились настоящим градом. От стены отлетали куски камня, звенели каскады выбитого стекла, брусчатка волнами прыскала в стороны. Водопроводные трубы, которые задевал мехос, раскалывались подобно стеблям тростника. Ржавые оконные решетки превращались в искореженное переплетение прутьев. Не прошло и десяти секунд, как переулок уже выглядел так, словно его засыпала снарядами тяжелая осадная артиллерия.
Иногда трепыхающаяся жертва делает слишком много лишних движений.
Раздутый толстяк оказался не так уж и глуп, как сперва казался. По крайней мере, ему хватило ума обойти Гензеля сзади и попытаться сграбастать его своими огромными мясистыми руками. Даже в бою лицо его выглядело бессмысленным и пустым — не человек, а биологический механизм, подчиненный единственному приказу. Гензель позволил ему приблизиться — чем дальше от Гретель, тем лучше — и даже схватить себя за плечо.
Хватка была сильнейшей: точно капкан впился. Еще мгновение — и пригвозженного к земле Гензеля настигнет стальной кулак его механического компаньона, расплескав по всему переулку содержимое черепа. Мехос уже занес свою руку-наковальню, готовый обрушить ее. В этот раз он уже не должен был промахнуться.
Расплывшееся чудовище, схватившее Гензеля, довольно заурчало, но насладиться успехом не успело: увидело перед лицом его улыбку, ощетинившуюся десятками акульих зубов.
Гензель извернулся и впился в сдавившую его плечо руку. В рот хлынуло горячее и сладкое, под зубами захрустели, лопаясь подобно старым трухлявым веткам, кости. Упоительное, неповторимое ощущение…
Мозг толстяка был действительно неразвит. Даже боли потребовалась секунда или две, чтобы отыскать верный путь к уцелевшим нервным центрам. Страшилище удивленно уставилось на обрубок своей руки, больше похожий на мясную кость, побывавшую в зубах у своры уличных псов. Осколки костей перемешались с разодранным мясом, на брусчатке стремительно расширялась темная лужа удивительно округлой формы. То, что когда-то было его кистью, шлепнулось беззвучно в пыль. Толстяк зачарованно уставился на руку, на миг показалось, что его пустое лицо озарится какой-то пробившейся на поверхность мыслью, что какой-то импульс, молнией резанувший мозг, сможет поколебать этот застоявшийся пруд. Но лицо расплывшегося мула практически не изменилось, лишь округлились в немом удивлении глаза. Должно быть, впервые в его жизни произошло что-то такое, чего он не понимал.
А спустя еще половину секунды его лицо действительно изменилось — когда кулак мехоса, разогнавшийся так, что вокруг него гудел воздух, разминувшись с Гензелем, врезался толстяку в голову.
Раздался громкий хруст, какой бывает, если наступить каблуком на подгнивший орех. И сходство не ограничивалось одним лишь звуком — голова толстяка лопнула, расколовшись на части, толстенные кости черепа разошлись, обнажив серую мякоть мозга, деформированные зубы неправильной формы и зазубренный остов позвоночника. Один глаз треснул в глазнице, мгновенно став черно-багровым, другой вовсе пропал.
Этот удар, размозживший голову толстяка, на месте уничтожил бы любое живое существо. Но силы генетической скверны, спрятанные в его изуродованном теле, были воистину всемогущи. Рваные лохмотья губ, свисавшие из изломанной челюсти, вдруг шевельнулись. Черно-багровый глаз затрепетал в глазнице. Мул издал нечленораздельный звук и зашатался, но не упал. Это было жуткое зрелище. Практически обезглавленный, он дергался, шатаясь из стороны в сторону, и тянул к своей расколотой голове руки — уцелевшую и культю, — словно пытаясь соединить обратно лопнувшие кости.
Невероятная живучесть за пределами человеческой природы. Далеко за ними.
Но Гензель на него уже не смотрел — толстяк вышел из боя и больше не представлял опасности. А значит, следовало сосредоточиться на последнем противнике.
Мехос исторг из своей стальной груди поток ругательств, слишком сумбурно и нечетко, чтобы Гензель смог их оценить. Гигант, желавший иметь человеческое сердце, на миг опешил, увидев, как его приятель бесцельно бредет по переулку, раскачиваясь как пьяный и пытаясь удержать на плечах расползающуюся бесформенную кучу, прежде бывшую головой. Там, где толстяк задевал еще державшиеся стены, на камне оставались алые, серые и багровые мазки, кое-где на водосточных трубах оставались висеть куски скальпа.
Будь мехос хладнокровнее, не задержись он с атакой, возможно, ему удалось бы прожить на несколько секунд дольше. Но, видимо, что бы ни говорила Гретель, под прочной броней осталось слишком много человеческого.
Воспользовавшись его замешательством, Гензель одним длинным и резким шагом оказался почти вплотную. Бронированные пластины бывшего лесоруба, издалека выглядевшие весьма пристойно, вблизи производили заметно худшее впечатление. Давно не полированные, местами покрытые рыжими пятнами ржавчины, они свидетельствовали о том, что хозяину давно не по карману было ухаживать за ними должным образом. Даже металл, который в сто раз прочнее человеческой плоти, требует ухода.
Кое-где на бронированном теле красовались металлические заплаты и следы ремонта, в других же местах на броне, давно не знавшей пощады, образовались трещины, зазоры и отверстия.
Даже в сверхпрочной шкуре можно найти уязвимое место.
Последний удар мехоса был неуклюж и почти не опасен. Гензель легко пропустил его над головой и, качнувшись, коротким движением вогнал мушкет в проржавевший бок гиганта. В снопе искр стволы погрузились во внутренности мехоса, точно пика, всаженная под ребра огромному быку. Наружу торчал лишь укороченный приклад.
Гензель одновременно спустил оба взведенных курка.
В последнюю секунду перед выстрелом Гензелю показалось, что за скрежетом, шипением и треском большого тела он слышит размеренные ритмичные удары под металлической обшивкой. Точно там и в самом деле работал крошечный метроном…
Громыхнуло так, точно в огромном жестяном тазу взорвалась пороховая граната. С крыш посыпалась крошка глиняной черепицы, зазвенели каскады стеклянных осколков, ссыпаясь из оконных проемов.
Торс стального гиганта дрогнул и навалился на стену, отчего та опасно затрещала. Из щелей, прорех и отверстий, медленно сплетаясь в смоляные косы, потянулись струйки дыма. Мехос выгнулся, заскрежетал, литая голова-шлем стала быстро подергиваться. Гензель на всякий случай проворно отскочил в сторону. Правы старые охотники, умирающая добыча — самая опасная.
Мехос и в самом деле занес огромную руку, которая теперь двигалась неуверенно, рывками. Но вместо того чтобы ударить Гензеля, он помедлил и с оглушающим звоном вдруг ударил себя в грудь-кирасу. Еще один удар. Еще. Дымящийся мехос ворочался, скрипел, дергал головой и раз за разом наносил себе сокрушительные удары. Точно пытался проделать отверстие в своем прочном панцире, чтоб выпустить наружу мучающую его боль. Из зарешеченного отверстия рта доносилось утробное хриплое подвывание вперемешку с шипением — ни дать ни взять кто-то медленно сгорал в раскаленном чреве медного быка…
Гензель наблюдал за ним, сжимая в опущенной руке разряженный мушкет.
Седьмой или восьмой удар оказался последним. Панцирь мехоса заскрежетал и развалился на две неровные части. Из проломов пыхнуло зловонным дымом, вонью горелой изоляции и паленого мяса. Затрещало пламя, кое-где оно прорывалось наружу деловито гудящими оранжевыми языками. Судя по всему, внутри мехоса бушевал пожар.
Когда броневые пластины разошлись, вниз стали хлестать потоки прозрачного, резко пахнущего физраствора пополам с кипящим маслом и быстро сворачивающейся кровью. Потом в быстро образовавшуюся лужу стали шлепаться и шипеть в ней объятые огнем детали и внутренности. Некоторые из них плавились, на глазах превращаясь в бесформенные комки пластика, другие еще долго полыхали, стреляя во все стороны искрами.
Гензель увидел, как глубоко внутри развороченного и чадящего корпуса ворочается что-то скользкое, состоящее из хрящей и влажно блестящих тканей, похожее на человеческий зародыш. Оно дергалось, как птенец, пытающийся выбраться из горящего гнезда. И у него в конце концов это получилось. Комок плоти шлепнулся в лужу из масла, физраствора и крови, полную оплавленных фрагментов, и беспомощно забился в ней, рядом со своей вскрытой неуязвимой оболочкой, привалившейся к зданию застывшей и уродливой статуей. Метроном больше не стучал.
Гензель повернулся к Гретель, и его горящие от пережитого напряжения мышцы вдруг безотчетно сжались для рывка. Гретель была не одна. К ней медленно полз получеловек-полулев с выпотрошенным животом.
Он хрипел, на зубах пузырилась багровая иена, а след, остающийся за ним на камне, казался пунктиром, нарисованным на карте самого ада. Сила ненависти победила и боль, и инстинкт самосохранения. Мул не отрывал по-животному горящего взгляда от Гретель, клыки его щелкали, когти скрежетали по брусчатке. Он не обращал внимания на расплетающиеся клубки собственных внутренностей, на скользкую от крови поверхность, на самого Гензеля, застывшего с разряженным мушкетом в руках. Он видел только Гретель и чувствовал лишь желание вонзить в нее зубы. Даже на пороге смерти это порождение генетических мутаций не собиралось сдаваться. Какой же силой должна обладать ненависть, чтобы суметь тащить вперед умирающее и непослушное тело?..
Гензель собирался подскочить к человеку-льву и раздробить ему затылок стволом мушкета, но Гретель вдруг встретила глазами его взгляд и едва заметно качнула головой. Очень трудно прочитать выражение глаз, прозрачных, как кристаллы хрусталя в горной реке. Иногда кажется, что это вовсе не возможно. Но Гензель вдруг увидел в этих глазах грусть. И остался без движения.
— Вот видите, сударь, сделка была честной, — сказала Гретель, обращаясь к хрипящему животному, тщетно щелкающему челюстями. — Пусть я и ведьма, но я честно выполнила уговор. Ваша кровь кипит от гормонов. Только вот ее остается все меньше и меньше, но это уже не моя вина.
Человек-лев скользнул по ней безумным взглядом. Он даже не попытался ответить. Непонятно было, слышал ли он вообще Гретель. Его огромное тело, поросшее шерстью, агонизировало, мышцы напрягались и опадали. Но он все-таки полз вперед. Умирающий, полный чистой, как слеза альва, ненавистью, он торопился свести счеты с той, кого считал своим врагом. Гензель вздохнул. Под ребра изнутри мягко толкнуло какое-то чувство, похожее на уважение. Даже хищники умеют уважать чужое упорство и бесстрашие.
Гретель убрала со лба несколько коротких белых прядей, как часто делала в минуты задумчивости. Таких минут в ее жизни было много, может, поэтому, как подшучивал Гензель, она нарочно не отпускала длинных волос — чтобы иметь возможность их теребить.
— Вы могли жить, сударь, но вы попросили у ведьмы то, что вас погубило. Кто же из нас виноват?
Она не очень долго ждала ответа. Человек-лев рявкнул и попытался схватить зубами ее ногу. Если бы ему это удалось, ступня Гретель мгновенно превратилась бы в кашу из раздробленных костей, не помог бы и толстый кожаный ботфорт. Но она проворно убрала ногу.
Многие люди считали Гретель отрешенной и слишком задумчивой. Живущей в ином, невидимом мире и слабо реагирующей на внешние раздражители. И многие потом об этом жалели.
— В этом все люди, — задумчиво сказала Гретель, и уже непонятно было, обращается она к хрипящему от ненависти человеку-льву, к Гензелю, к самой себе — или же вовсе ни к кому из перечисленных. — Они отчаянно требуют у ведьмы чуда, не желая слышать предупреждений и оговорок. Они упрямо хотят невозможного и уверены в том, что геномагия вправе им его дать. Увы, иногда они получают то, чего просят. И неминуемо уничтожают себя.
Человек-лев стал задыхаться. Легкие его клокотали, как кузнечные мехи, в которые попала влага, из пасти высунулся длинный алый язык, покрытый кровавой пеной. Но взгляд оставался прежним, черным от ненависти, жгучим, тяжелым. Существа с таким взглядом не отступаются. Наверно, Гретель тоже наконец это поняла.
— Не принимайте подарков от ведьмы, если не уверены, чего на самом деле желаете, — сказала она, запуская тонкую бледную руку за пояс короткого, по мужской моде, дублета. — И, может, тогда геномагия будет милостива к вам…
В руке ее появилась крохотная склянка, прозрачная и невесомая. Но Гензель все равно напрягся. Слишком уж часто он видел, как капля какого-то совсем безобидного на вид зелья творила с людьми и вещами страшные вещи, подчас не подчиняющиеся осознанию.
Но в этот раз ничего откровенно жуткого не произошло, когда Гретель щелчком открыла склянку — и опорожнила ее на умирающего мула. Небо над Лаленбургом осталось его прежнего цвета несвежей мертвой рыбины, гром не грянул, молнии не сверкнули. Но мул вдруг почти мгновенно затих, словно оглушенный тяжелой дубиной между глаз. Он еще пытался рычать, тщетно напрягал мускулы, ворочался, но тело его стало обмякать, набухшие мышечные волокна под шкурой разглаживались, конечности цепенели. Еще несколько секунд — и кипящие ненавистью глаза затуманились, потеряли блеск, стали большими черными жемчужинами, запотевшими от чьего-то дыхания.
— Не очень-то эффектно, сударыня ведьма, — заметил Гензель, подходя поближе, чтобы рассмотреть мертвую тушу получеловека-полузверя. Даже распластанная посреди мостовой, она все еще выглядела угрожающе. — Я думал, ты сделаешь что-то более жуткое. Например, превратишь его в лягушку.
Гретель не торопясь спрятала склянку.
— Сколько раз тебе повторять, братец, я не занимаюсь ярмарочными фокусами.
Гензель поморщился и несколько раз сплюнул на брусчатку, чтобы избавиться от неприятного привкуса чужой крови на губах. Кровь толстяка отдавала чем-то зловонным и приторным.
— Я помню одного наглого парня в Муспелльхейме, которого ты превратила в лилипута. Его еще сожрали чертовы гуси…
— То был другой случай, — спокойно ответила Гретель, поправляя берет. — Этот заслужил безболезненную смерть. Всего лишь нейропарализующий токсин. Мгновенный паралич нервной ткани.
Гензель поморщился, как делал всегда, слыша непонятные и грозные слова из лексикона геномагов. Сам он на дух не выносил таких словечек, даже если их произносила сестра своим тонким голоском. Они всегда казались ему зловещими и какими-то пророческими. Как запах разложения, сопутствующий чумным покойникам.
— Мне плевать, от чего он дух отдал, хоть от простуды. Давай-ка, сестрица, побыстрее делать из этого местечка ноги. Насколько я помню, Лаленбург печально славится тремя вещами — самыми старыми шлюхами на всем континенте, самым гадостным вином и самой проворной городской стражей. И если с первыми двумя я познакомился в достаточной мере, от третьей предпочел бы уклониться…
Гретель фыркнула — как всегда, когда Гензель пытался продемонстрировать лоск высокой речи. Видимо, она находила его попытки говорить аристократическим языком по-детски наивными и неуклюжими. Что ж, каждый в своем нраве… Не пытается же она заставить его полюбить гадостные словечки геномагов!..
— Пора уходить, — согласно кивнула Гретель. — Этот город не любит геноведьм.
— Кто бы мог подумать? Мы в городе неполный час, а тебя пытались убить уже трое. Знаешь, я бы хотел уточнить одну деталь… Насколько богатой у тебя была здесь практика четыре года назад, сестрица?
— Ты же знаешь, Гензель, я не обсуждаю своих контрактов.
— Да, даже с братом. Но это чисто деловой вопрос. Я хочу прикинуть — сколько еще человек попытается перерезать нам горло, прежде чем мы доберемся до постоялого двора. И в чем еще ты здесь упражнялась? Давала ли людям ядовитые зубы и крылья? Может, превращала людей в трехметровых ящеров? Наделяла убийственным взглядом?..
Гретель взглянула на него и вдруг улыбнулась. Ее бледное и худощавое лицо в сочетании с холодными и ясными глазами не сочеталось с улыбкой, как не может сочетаться лед с огнем, но когда она улыбалась, Гензель всегда хмыкал в ответ. Не мог удержаться.
— Эх, братец… От деда тебе достались акульи зубы. Я изучила твою генетическую карту вдоль и поперек, но так и не поняла, от кого из нашей родни ты получил язык попугая!
— Ехидна! — фыркнул Гензель и уже собирался было схватить Гретель за рукав, чтобы утянуть в первый же переулок, когда понял, что дело в общем-то пропащее.
Об этом ему сказала мостовая. Булыжники под ногами, собранные, обтесанные и выложенные кем-то десятки, а то и сотни лет назад, противнейшим образом завибрировали под пятками. Означать это могло лишь одно. По крайней мере, в Лаленбурге.
— Бежим! — крикнул он.
Гретель побежала за ним. В таких вопросах она целиком и полностью полагалась на его чутье. А чутье говорило ему, что на запах свежей крови иногда слетаются не только акулы, но и рыбки поменьше. Но тоже очень голодные и злые. Как их там называют?..
Камень вибрировал все сильнее. Гензель потянул было Гретель в переулок, но тотчас отскочил назад — по переулку к ним приближалась звенящая серая стена. Другой! И здесь тоже. Третий!..
Оттолкнувшись от стены, Гензель свернул за угол — и едва не врезался в глыбу серой стали. Глыба эта каким-то образом передвигалась и, не будь его рефлексы достаточно быстры, уже сломала бы ему полдюжины ребер. Глыба была человекоподобной формы, имела руки и ноги, а на груди — там, где у человека была бы грудь, — имела облупившееся изображение лаленбургского герба: изящно надкусанное яблоко и три скрещенные стрелы.
Глыб этих вокруг Гензеля и Гретель становилось все больше. Они выскакивали из переулков и замирали, звеня железом. Железо это было плохим, опасным — отточенные до желтизны короткие палаши, свернутые кнуты из шипастой проволоки, чеканы и булавы. Что ж, эти судари, похоже, знают, чем сподручнее всего орудовать в узких переулках… Гензель ощутил колючую, как крапива, досаду — не успел взвести курков, не насыпал пороху… Но разум, пробившийся сквозь дремлющее у поверхности чутье вечно голодной акулы, подсказал ему, что хвататься за мушкет в такой ситуации — последнее дело. Разорвут мгновенно, как свора натасканных охотничьих псов.
Стражники окружили их деловито и очень уверенно. Крепкие ребята. Кирасы не из легированной стали, но начищены и блестят на солнце. Руки не дрожат. На лицах, где те не прикрыты забралами, — спокойствие, холодное, как рукоять кинжала, выпавшего из руки мертвеца.
— Мушкет опустить, сударь. И лучше не рыпайтесь, не прыгайте. Дело тут государственное, как вы видите. Ваша работа?
Гензель на всякий случай оглянулся, хотя и так представлял, что увидит в подворотне.
К стене привалилась статуя стального рыцаря, лопнувшая в груди, искореженная, как будто по ней стреляли шрапнелью, мертвая. В луже перед ней барахтался, уже затихая, кровоточащий человеческий комок. Неподалеку от него все еще шатался почти обезглавленный толстяк, бессмысленно шевеля уцелевшей рукой, с его плеч на мостовую медленно сползали мозговые сгустки и бледные пластины лопнувшего черепа вперемешку с лоскутами кожи. У стены лежал человек-лев, вытянув лапы в той позе, в которой смерть милосердно стерла его сознание. Мертвый, но до сих пор угрожающий, свирепый даже в смерти.
Гензель мысленно поморщился. Милая, должно быть, картина. Были бы стражники не так выдержанны — уже разрядили бы в них с Гретель свои жуткие короткие тромблоны, начиненные наверняка рубленой картечью, одним из самых популярных блюд в Лаленбурге после яблок.
— Славная бойня, — пробормотал капитан стражи, хмурый мужчина с тяжелым давящим взглядом. Однако взгляд этот умел перемещаться со скоростью порхающего лезвия шпаги. Он скользнул по трупам, по Гензелю и Гретель, по браслетам на их руках. — Квартероны, значит? Рекомендую вам назваться и сообщить цель прибытия в славный город Лаленбург. Пока не вышло чего-нибудь дурного.
— Гензель. Квартерон. Сопровождаю сестру.
— Гретель. Квартерон. Геномастер. В Лаленбурге нахожусь по делам частной практики.
Гретель подала капитану свой патент, истертую бумагу с множеством поплывших от старости печатей. Ее капитан изучал долго, неспешно переводя взгляд со строки на строку.
— Геномагичка, значит, — сказал он, возвращая документ. — Ну понятно. Редкие гости пожаловали нынче. Значит, не успели прибыть, а уже королевских подданных калечите? Интересная же у вас частная практика… А теперь, судари квартероны, извольте следовать за мной. И ружьишко отдайте на всякий случай. Бежать не советую. Глупостей делать тоже не советую.
По едва заметному жесту капитана стражники выстроились вокруг Гензеля и Гретель. Чувствовалось, что этот маневр они выполняют не впервые и уже успели набраться должного опыта. Гензель, которого ловко и быстро обезоружили, кисло подумал о том, что делать глупости действительно расхотелось.
— Ну и куда теперь? — спросил он с нарочитым безразличием. — В каталажку?
В лаленбургской каталажке ему еще бывать не приходилось, но он сомневался в том, что здешние застенки сильно разнятся от прочих. Вонь пригоревшей каши на прогорклом жиру и человеческих испражнений, отчаянный смрад сотен немытых тел, клочья давно изгнившей скользкой соломы на каменном полу… Все каталажки мира похожи друг на друга, как клоны от одного генетического семени. От каталажки Лаленбурга Гензель чудес не ожидал.
— Нет, — буркнул капитан стражи, и губы его дрогнули, что могло обозначать улыбку. — В королевский дворец.
Гензель никогда прежде не был во дворцах. Сопровождая Гретель, ему приходилось посещать особняки аристократии и духовенства, были среди этих особняков и весьма претенциозные образцы архитектуры, но чтобы дворец…
Камень и металл — вот было первое впечатление от дворца. Очень много камня и металла. Огромные мраморные лестницы, бледные нездоровой чахоточной белизной, величественные арки, украшенные переливающимися золотыми лозами, которые никогда не дадут плодов, вытянувшиеся анфилады, альковы и целые галереи… Дворец был огромен, и у Гензеля спирало дух, когда он запрокидывал голову и видел его своды, парящие на невероятной высоте. А может, все дело было в здешнем воздухе. Какой-то особенный, должно быть, дворцовый воздух, вроде и не ароматизирован никакими искусственными ароматами, а дышится как-то необычно…
Их не сразу впустили во внутренние покои. Сперва пришлось пройти обыденную для посетителей дворца очистку — их тщательно вымыли в специальных кабинках струями воды, пара и ионизированного воздуха, а одежду пропустили через обеззараживающую машину, отчего та стала горячей и липкой. Разумная мера предосторожности. Учитывая, сколько дряни находится в лаленбургском воздухе и воде, не дело коронованным особам рисковать своим здоровьем.
Повсюду — на чеканных рамах огромных зеркал, на резных панелях, даже на медных дверных ручках — красовался герб правящей лаленбургской династии: надкусанное яблоко и три скрещенные стрелы. Лаленбургский герб всегда казался Гензелю неказистым и в некотором смысле недостаточно величественным, но здесь его продублированный тысячи раз облик отчего-то внушал должное уважение. Даже завораживал.
Хоть Гензель и отказывался признаваться себе в этом, атмосфера дворца подавляла его. Он чувствовал себя побирушкой, оказавшимся в богатом доме, неуклюжим, нелепым, оборванным и совершенно неуместным — как бородавка на носу епископа. Отчаянно хотелось вынырнуть обратно на улицу и набрать в легкие воздуха, полного зловонных миазмов, промышленной пыли, бактерий, но все-таки способного насыщать организм. Дворцовый воздух с каждым шагом казался ему все более густым, тягучим и приторным. Точно пьешь патоку вместо чистой воды.
Еще одной причиной для беспокойства была дворцовая стража, которой Гензеля и Гретель передал капитан сразу же при входе во внутренние покои. Новые конвоиры и в самом деле могли вызвать беспокойство одним лишь своим внешним видом. Они были детьми. Но такими детьми, один взгляд на которых заставлял сердце Гензеля нарушать привычный ритм.
У них были младенческие головы, розовощекие, со вздернутыми носами, ясными глазами и губами того невозможно-алого оттенка, которым окрашивают на картинах свежие лепестки лилии. Только венчали эти головы юных херувимов не детские тела, а нечто совсем иное. Могучие атлетические торсы были по-своему идеальны, под гладкой кожей переливались мощные мышцы, пропорционально сложенные и блестящие. Бархатные ливреи королевских лакеев почти не скрывали этого великолепия, напротив, подчеркивали.
Силачи с головами младенцев сопровождали Гензеля и Гретель почти в полном молчании, лишь изредка перебрасываясь отрывистыми птичьими трелями на своем языке. Несмотря на ясность детских глаз, они не выглядели существами, наделенными сознанием, скорее бездушными биологическими особями, выполняющими сложную, но привычную программу. И Гензель не сомневался в том, что стоит им услышать сигнал тревоги, как «херувимы» превратятся в безрассудные карающие мечи. Слыша за спиной шаги этих биологических химер, Гензель ощутимо нервничал. То, что наверняка в глазах Гретель было генетическим чудом, сотворенным специалистом своего дела, ему казалось гротескным и жутковатым произведением безумного искусства.
Были во дворце и прочие обитатели, чей облик указывал на близкое знакомство с геномагией. Уборщики, бесшумно снующие в темных коридорах, были похожи на пауков — крошечные тела и тонкие длинные члены, находящиеся в постоянном движении. Пажи, жизнерадостно резвящиеся у фонтана, издали казались детьми, но лица у них были морщинистыми, оплывшими, и Гензель догадался, что это престарелые карлики, которых геномагия заставила до самой смерти оставаться в детском обличье. Повар, мелькнувший в боковом проходе, казался огромной уродливой птицей — его огромный нос тянул голову вниз. С таким носом, пожалуй, непросто жить, зато можно улавливать тончайшие кухонные ароматы. Дворцовой вентиляцией занимались люди-змеи, чьи вытянутые тела со множеством крошечных отростков-щупалец временами можно было разглядеть за декоративными решетками.
Но больше всего поразили Гензеля придворные гетеры, которых они случайно обнаружили в одном из роскошно отделанных альковов. Сперва Гензель принял их за придворных дам, но даже без подсказки Гретель быстро понял разницу. Тела их были не просто стройны, они были гипертрофированны — словно их породила не природа, а мужская фантазия самого раскованного свойства. Огромные груди казались налившимися до предела ягодами, такими тугими, что могут лопнуть, если коснуться их пальцем. Талии были невозможно стройны, настолько, что каждую можно было обхватить ладонями. В таком объеме не могут умещаться человеческие органы, но девицы выглядели вполне живыми, даже жизнерадостными. Они хихикали, провожая Гензеля кокетливыми взглядами и прикрываясь веерами. Лица их тоже были прекрасны — огромные глаза, чувственные, тоже непомерно большие, губы, пышные прически. Кроме того, он готов был поклясться, что поры дворцовых красавиц вместо сернокислых соединений, калия и продуктов белкового обмена источают чистейшие благовонные масла.
Но Гензель ощутил под сердцем мимолетный холодок, едва представив себе свидание с такими красотками. Они тоже были лишь внутренней обстановкой дворца, искусственно порожденными генетическими куклами, в которых человеческого не больше, чем в гипертрофированных младенцах-херувимах.
— О Человечество… — вздохнул Гензель, надеясь, что их конвоиры не слишком разбирают обычную речь. — Этот дворец все больше напоминает мне какой-то генетический паноптикум. Даже на прошлой ярмарке я не видел такого сборища чудовищ!
— Аристократический шик, — невозмутимо отозвалась Гретель, на которую, кажется, не произвел особого впечатления ни королевский дворец, ни его причудливые обитатели. — Ничего удивительного. У тебя, как и у всякого квартерона, просто отсутствуют гены хорошего вкуса.
Гензель нахмурился. Иногда колкие замечания Гретель могли выглядеть удивительно по-человечески.
— Они… слишком извращены геномагией, — пробормотал он, машинально понижая голос, так чтобы не услышали вооруженные херувимы, молча шагающие за ними. — Мне казалось, человек, свободный от генетической порчи, не станет окружать себя подобными… существами.
— Почему?
И вновь бесхитростный вопрос геноведьмы выбил его из колеи. Гретель превосходно владела подобным умением — смущать самыми простыми вопросами.
— Он — человек. — Даже произнося эту очевидную вещь, Гензель с опаской покосился на дворцовые своды. — Хранитель благословенного и неизменного человеческого генокода.
Может, прозвучало излишне благоговейно, но тут уж Гензель ничего не мог с собой поделать. При одной мысли о том, что он сейчас дышит тем же воздухом, что дышит его величество, по телу пробегала дрожь. Ну а то, что им придется увидеть его величество вживую, заставляло его спотыкаться, точно шел он не по толстым коврам, а по скрипучим ступеням ведущей на эшафот лестницы.
— Церковные догматы, — с безразличным лицом сказала Гретель. — Помнится, они утверждают, что все особы королевской крови чисты, как наши стародавние предки. Полностью идентичные человеческому образцу хромосомы. Ни единого искажения на протяжении многих веков. Ноль целых ноль десятых генетических дефектов. Священный сосуд человеческой сущности — кажется, так?..
Несмотря на отсутствие всякой интонации в ее словах, прозвучало это насмешливо. Как и многое из того, что произносила Гретель. Гензель был убежден, что это всего лишь иллюзия — Гретель была бесстрастна, как лабораторный прибор, и ее внешний вид являлся полным отображением внутреннего. И уж тем более она была практически незнакома с традициями человеческого юмора.
— Ты не веришь? — напряженно спросил Гензель, ощущая, как в груди от этого святотатства нарастает пульсирующий болезненный жар. — Сомневаешься в божественной человеческой природе его величества?
Возможно, подумалось ему, Гретель даже не поняла, что сказала. С геноведьмами такое часто случается. Человеческое общество для них — чужеродная среда, полнящаяся в высшей степени нелепыми, непонятными и примитивными существами. И геноведьмы редко тратят силы на то, чтобы научиться вести себя сообразно социальным правилам. Они попросту не видят в этом никакого смысла, как он сам не видел бы смысла в хаотичных движениях муравьев.
— Я привыкла доверять только тому, в чем можно убедиться. Один из основных принципов геномагии. И в случае с его величеством он явно не поможет. Генетические карты всех монархов засекречены, и доступ к ним имеют разве что придворные геномаги. А если я приближусь к венценосной особе с набором для взятия генетической пробы, меня ждет дыба, разве не так? Согласись, в такой ситуации не так-то просто сделать верное заключение о чистоте монаршей крови.
— Ты уже наговорила на дюжину костров, — сухо сказал Гензель, не глядя на нее. — Хватит.
Гретель улыбнулась. Ее улыбка показалась крохотной бледной бабочкой, невесомо порхающей в душной атмосфере дворца.
— А знаешь ли ты, братец, отчего самые шикарные картины помещаются в нарочито скромных рамах?..
— Нет. Но обязательно это выясню, как только заведу хотя бы одну. Ну или наконец обзаведусь стеной, на которую ее можно будет повесить.
— Контраст. Он рождает иллюзию преувеличения. Окружив себя уродами, куда проще выглядеть красавцем.
— Ты имеешь в виду…
— Это понятно даже ребенку. Куда проще выглядеть человеком, когда тебя окружают нечеловеческие существа.
Некоторое время они молчали. Вопрос, который шмелем вился на языке у Гензеля, был слишком опасен, чтоб задавать его вслух. Кто знает, вдруг лоснящиеся мышцами херувимы способны понимать человеческий язык?.. Несколько минут Гензель сдерживался, делая вид, что разглядывает дворцовые витражи, но в конце концов все же не выдержал:
— Ты ведь не веришь в божественную природу его величества, да?
Гретель задумчиво потеребила белую прядь. Знакомый жест. Один из немногих, которые она сохранила с детской поры и, может, из-за этого все еще выглядевший естественным.
— Из геноведьм никогда не получаются хорошие монахини, — задумчиво ответила она, помолчав какое-то время. — Я посвятила свою жизнь геномагии, а не слепому восхвалению человеческого генокода. Изучению закономерностей и правил, а не пению псалмов о грядущем очищении.
— Значит, не веришь? — требовательно спросил Гензель, не глядя на сестру.
— Я занимаюсь геномагией полтора десятка лет, братец. И за все это время не видела существа, которое могла бы назвать человеком в полном биологическом и генетическом аспекте этого слова. Так что же ты хочешь от меня услышать?
Гензель и сам не знал что.
— Но ведь чистый человеческий код существовал? Этого ты никак отрицать не можешь?
— Несомненно, существовал, братец. Возможно, еще при жизни нашего прадеда.
— Но раз он существовал — и ты это признаешь, — почему ты так скептически относишься к Церкви Человечества и венценосным особам? Почему не признаешь, что его могли сохранить до наших дней? Хранятся ведь изумруды в царских сокровищницах, так почему не мог сохраниться и тщательно сберегаемый генокод? А ведь его охраняют куда лучше, чем любые изумруды! Придворные специалисты составляют генетические карты на каждую особу королевского рода и тщательно следят, чтобы ни единая хромосома в ее наборе не оказалась бракованной. Как там это называется на твоем мерзком ведьмачьем языке?
Губы Гретель тронула едва заметная улыбка.
— Селекция, братец. Это называется селекцией. Не спорю, в ситуации, когда каждый из нас — своего рода склад генетической скверны и рассадник всевозможного вредоносного материала, — селекция могла бы спасти чистый человеческий генокод и сохранить его… на какое-то время. Но дело в том, что спасительный ход обернулся ловушкой.
Гензель насторожился:
— О чем это ты?
— На протяжении поколений особы королевской крови именно этим и занимались. Контролируемым спариванием с целью сберечь свой нетронутый генокод и передать его по наследству. Они поняли, что залог стабильного генофонда — образование потомства с себе подобными. Может, они были хорошими королями, но, к сожалению, весьма неважными генетиками. Это их и погубило. Это — и еще примитивная бесконтрольная селекция в замкнутой биологической группе. Законов геномагии нельзя обмануть, братец. А короли в этом отношении мало чем отличаются от породистых лошадей.
— Ты имеешь в виду…
— Имбридинг, — спокойно пояснила Гретель, без всякого выражения разглядывая украшенные самоцветами колонны. — Кровосмешение. В попытке соблюсти стопроцентную чистоту крови монархи стали жениться на носителях родственного и, значит, столь же чистого человеческого материала. Породив тем самым множество самых разных генетических дефектов в крови своих потомков. Иногда эти дефекты дремлют пару поколений, иногда обнаруживают себя сразу же, но факт остается в том, что королевская кровь давно отравлена. Кроме того, многим монархам свойственны человеческие слабости. Попытки улучшить свой организм с помощью геномагии, случайные генетические инфекции, дефектные генозелья, а то и яд…
Гензель с ужасом представил, что станется, если хотя бы пару слов из речи Гретель, высказанной равнодушным, как всегда, тоном, услышит священник. Тем более, говорят, во дворце их водится немало — ее величество, супруга ныне царствующего короля, известна как набожная прихожанка Церкви Человечества Всеблагого и Изначального. Тут, пожалуй, еще порадуешься, если дело ограничится одним лишь костром, без инструментов из арсенала братьев-монахов…
— Замолчи! — приказал он Гретель шепотом. — Ты не понимаешь, что говоришь!
Скупой жест Гретель был равнозначен пожатию плечами.
— Ты вправе верить во все, что пожелаешь, братец. Это я не могу позволить себе веру. Однако какое тебе дело до того, сколько процентов порченой крови в королевских жилах?
— Ты не понимаешь, сестрица.
— Возможно. — Кажется, это ничуть ее не печалило, но крайней мере, ни лицо, ни взгляд не переменились, оставшись отрешенными, не по-человечески спокойными, холодными.
— Дело не в том, грешен король или нет. А в том, что он, как ты и сказала, священный сосуд Человечества! Вместилище нашего драгоценного, неискаженного, неизувеченного генокода. А раз есть сосуд и его содержимое, как знать, вдруг в будущем нам удастся уронить эти семена на благословенную почву и получить плоды?..
— Заселить мир вновь семенами чистого Человечества?
— Да. — Гензелю даже на миг захотелось сжать ее холодную ладонь. — Начать все сначала. Стереть генетическое проклятие, которое сожрало наших предков и отравило нас самих. Начать с чистого листа! Неужели ты не понимаешь, какой это шанс? Пока на этом свете осталось хотя бы два образца неискаженного человеческого кода, у нас всех есть будущее! Человечество Изначальное и Всеблагое еще может вернуться! Может, не сейчас, может, через много веков, но может!..
— Ты слишком часто посещал проповеди, братец.
Гензелю с трудом удалось сохранить спокойствие. Кровь геноведьмы! Иногда ему казалось, что человеческого в Гретель — лишь внешняя оболочка. А все остальное давно перестало быть человеческим, переродилось под излучением геномагических чар, сделавшись бесконечно чужим и непонятным. Не человек, а загадочное хладнокровное существо, безразлично наблюдающее за копошением примитивных жизненных форм вокруг.
— Так, значит, все зря? — спросил он ее нетерпеливо и зло, забыв про королевскую стражу за спиной, про генномодифицированных гетер, про дворец, даже про их величества. — Так выходит? Что, все тщетно?
— Мне нравится твой оптимизм, братец. — Гретель невозможно было смутить. — Но я ученый. Я работаю только с известными величинами. Наблюдаемыми, проще говоря. Всем остальным пусть занимаются церковники.
— И ты…
— Как ученый, я могу сказать, что невозможно восстановить здоровый генофонд популяции, сто процентов которой не годятся для продолжения рода. Генетическая скверна не только внутри нас. Она повсюду вокруг. Растения, животные, микроорганизмы, бактерии — все это давно утратило срою изначальную генетическую форму, претерпело сотни и тысячи генетических мутаций, бесконечно далеко ушло от своего прообраза. Во всем мире не осталось ничего изначального, чего-то, что не было бы искажено генетической порчей. Ни цветов, ни рыб, ни насекомых. По крайней мере, за все время мне не приходилось встречать ни единого образца. Глупо надеяться, что такой встретится среди людей. Я оцениваю вероятность с математической и логической точки зрения. Она нулевая. Извини, братец.
Он почувствовал, как на смену злости приходит глухая тоска. Зря он завел этот разговор. Что может смыслить в Человечестве геноведьма, существо, для которого человеческие клетки и хромосомы — всего лишь расходный материал?..
— Хватит, — сказал он сквозь зубы. — Не собираюсь спорить с тобой на эту тему.
— Как пожелаешь, братец.
Оставшуюся дорогу они молчали, и, по счастью, эта дорога не затянулась.
— Малый зал для аудиенций его величества Тревирануса Первого! — грянул откуда-то сбоку голос, которым, как показалось Гензелю, можно было сбить с копыт несущегося быка. Даже драгоценные витражи под потолком жалобно звякнули. — Его величество готов вас принять. Слушайте внимательно. Подходить к нему по одному, держась прямо. Целовать руку. Пятиться назад. Не стоять ближе пяти метров к трону — там есть отметка. Обращаться к нему только после того, как он сам заговорит. Не перечить. Не смотреть в глаза. Но и не смотреть в другую сторону. Только на носки туфель его величества. Говорить не громко и не тихо, но четко. Не переспрашивать. Если у вас есть просьба, не называйте ее, пока его величество сам не попросит. Не шевелиться во время разговора. Не зевать. Не улыбаться, если не улыбнется его величество. В стенах зала установлены автоматические термические ружья. Одно резкое движение — и от вас, мелкие квартероны, останется кучка зловонного пепла на полу!
Гензель поспешно сорвал с головы потертый шаперон и успел ткнуть локтем сестру, чтобы та сняла берет. Увы, геноведьмы так же плохо ориентируются в человеческих душах, как и в дворцовом протоколе.
Судя по всему, говоривший был личным церемониймейстером его величества, но выглядел так грозно, что мог сойти за фельдмаршала. Мундир был усыпан многогранными орденами, а выправка такая, что позавидовал бы манекен готового платья из витрины. На посетителей церемониймейстер смотрел с уместной в данном случае долей легкой брезгливости.
Литая дверь распахнулась без предупреждения и даже без скрипа — судя по всему, и здесь автоматика. Если этот зал для аудиенций здесь звался Малым, подумалось Гензелю, в Большом, пожалуй, можно выращивать пшеницу для такого города, как Лаленбург. Зал показался ему огромным. Впрочем, освоившись с освещением, он решил, что первое впечатление было преувеличено: слишком уж много тут было сверкающего стекла и металла. Впереди возвышался трон — массивное сооружение с роскошной золотой отделкой. Но трона, равно как и прочего убранства, Гензель отчетливо не рассмотрел.
Потому что увидел его величество Тревирануса Первого.
Собственное тело предало его. Омертвели, не в силах сделать выдох, легкие, отмерли мышцы, и даже сердце вдруг съежилось где-то в глубине тела, крошечное, как новорожденная опухоль. Гензель ничего не мог с собой поделать. Замер на пороге, не в силах сделать и шага, кровь прилила к лицу. Наверно, в этот миг он выглядел идиотом с пораженным генетической хворью мозгом. Гретель пришлось незаметно ткнуть его под ребра, чтобы тело обрело хоть какую-то чувствительность.
Сама она, кажется, особого волнения при виде царственной особы не испытывала и на его величество взирала с не большим интересом, чем на уличного торговца или садовника. Он вдруг с суеверным ужасом ощутил, что в этом нет ни малейшего притворства, ни малейшей неискренности. Она и в самом деле не видела существенной разницы между его величеством и любым другим организмом на свете. И уж подавно была лишена религиозного трепета.
Гензель заставил себя сделать три шага вперед. Это было пыткой, с которой его тело едва совладало. Он даже не мог поднять головы, глядя себе под ноги, но в то же время ощущая присутствие в зале чего-то столь чистого и мощного, что на всем теле вставали дыбом волосы. Как невидимое излучение огромного неэкранированного реактора.
Увидев расшитые носки королевских туфель, Гензель едва не лишился чувств в благоговейном экстазе.
Человек. Высшее существо, которому суждено править миром. Идеальное сочетание хромосом, не испорченных, подобно его собственным, поколениями генетических вырожденцев. Священный сосуд, полнящийся драгоценной влагой. Величайшая сила, перед лицом которой всякое существо должно онеметь в религиозном экстазе.
Несмотря на все гигиенические процедуры и омовения, Гензель ощутил себя невероятно грязным, настолько, что хотелось рухнуть на колени и приникнуть к полу. Он словно увидел себя со стороны — некрасивое лицо, щерящееся треугольными акульими зубами, потрепанная одежда, несуразные пропорции. Квартеронское отродье. Выродок. Набор бракованных генов. Оскорбление Человечества. Живое воплощение всего самого низменного и позорного.
— Подойдите, — негромко сказал король. — Только вы двое. Остальные пусть ждут снаружи.
На ватных подкашивающихся ногах Гензель добрел до основания трона. Протянутая ему рука была рукой взрослого мужчины, с морщинистой кожей и скромным золотым перстнем. Она источала едва ощущаемый аромат. Гензель поцеловал ее губами, которые вдруг стали непослушными и бесчувственными, как древесная кора. И сердце ухнуло куда-то в самый низ груди. Не лишиться бы чувств прямо в зале…
Но он выдержал. Отошел от трона, стараясь смотреть лишь на кончики королевских туфель, стоящих на нижней ступени трона. Поцелуй Гретель был на удивление долгим и почтительным. За то время, что ей потребовалось, чтобы поцеловать протянутую монаршую длань и вернуться на положенное место, Гензель успел немного прийти в себя. И даже украдкой взглянуть на его величество.
Король был… Наверно, даже будь Гензель придворным поэтом и работай всю жизнь без передышки, едва ли ему удалось бы найти подходящие слова для того, чтобы описать Тревирануса Первого.
Он был…
Идеален.
Гензель рассматривал короля украдкой, чувствуя, как душа преисполняется сладким, как вересковый мед, благоговением. Ему приходилось видеть вблизи и с почтительного расстояния много придворных. Седецимионов, щеголяющих одной шестнадцатой частью дефектной крови, вельможных тригинтадуонов с их одной тридцать второй частью, даже особ королевской крови, чей процент был и вовсе исчезающее мал. Все они, как правило, были хороши лицом, даже очень хороши. Совсем не похожи на серолицых, с неправильными и несимметричными чертами квартеронов или, упаси Человечество, мулов, которые зачастую и вовсе не имели человеческих лиц. Все они были обладателями упругой розовой кожи, мягких овалов и прекрасных волос.
Даже семидесятилетние старцы выглядели моложавыми и полными сил мужчинами, ну а женщины сохраняли свою удивительную красоту до глубокой старости. Гретель объясняла ему, что все это — следы пластической хирургии и целого букета генетически омолаживающих процедур, которые, латая стареющий фенотип, одновременно превращали генотип в кишащее всякой нечистью болото. То болото, из которого черпали генетический материал их потомки. Остающиеся до самой смерти прекрасными аристократы передавали своим отпрыскам генетические дефекты величайшей силы.
Нет ничего удивительного, что баронские, герцогские и графские жены регулярно рожали от своих чистокровных супругов отвратительных мулов, которые втайне сжигались в дворцовых крематориях или по-быстрому закапывались в безымянных могилах.
Бывали в таких делах и казусы. Гретель как-то рассказывала ему о каком-то короле из Пацифиды, который, отправляясь за океан в военный поход, оставил во дворце беременную супругу. К несчастью супруги, ее сестры считали себя мастерицами дворцовых интриг и воспользовались ситуацией. Королева разродилась плодом, это был удивительно здоровый и сильный мальчик практически без следов генетических мутаций. Нет сомнения, в его жилах текла чистая, почти не разбавленная королевская кровь. Но сестры королевы были начеку. Они перехватили гонца с важным донесением и заменили его своим собственным посланием: «Королева ночью родила. Пол плода неясен — то ли мужчина, то ли женщина. Похож и на грызуна и на рептилию одновременно. Явный мул».
Убитый горем отец действовал так, как полагалось королю. Получив ответную депешу, верные слуги схватили ни в чем не повинную жену с крошечным сыном, запаяли их в контейнер для утилизации лабораторных отходов — и вышвырнули в океанские волны. Было у этой истории и продолжение, но уже смутное, обросшее слухами, как молодая раковая клетка обрастает кровеносными сосудами. Мол, принц с матерью умудрились выбраться из контейнера, разбившегося о дальний остров, остались живы и со временем вернулись по дворец, поквитавшись с подлыми интриганками. Так это или нет, Гензель не знал. Да не очень и стремился. К тому времени он уже составил об аристократии не самое лестное мнение.
Но король…
Его величество Тревиранус Первый был идеален. Лицо нельзя назвать прекрасным, оно было лицом рано постаревшего человека, но старость удивительным образом не стерла былой красоты, лишь сделала ее выдержанной, как хорошее вино. Нет, короля настоящим красавцем тоже не назовешь. Его лицо никогда бы не появилось на иконах в Церкви Человечества — у тамошних святых никогда не было темных, немного запавших глаз, припорошенных сединой волос и прыщей на шее. У короля Тревирануса Первого всего этого имелось в избытке. Но, как ни удивительно, эти мелкие детали совершенно не портили его благородного облика. Даже напротив. Он выглядел на удивление… Гензель даже растерялся, но быстро нашел нужное слово. Единственно возможное слово. Его величество Тревиранус Первый выглядел человечным.
Настоящим. Естественным. Таким, каким и должен выглядеть истинный человек.
И еще — безмерно уставшим. На его лице пролегли глубокие морщины вроде тех, что Гензель помнил на лице у отца. Взгляд королевских глаз оказался тяжелым и внимательным, точно принадлежал не королевской особе, а старому бомбардиру, нащупывающему глазами цель. В этот раз цель была прямо перед ним, и ему не требовалось вводить поправку, высчитывая скорость ветра или упреждение. Гензель ощутил предательскую дрожь в коленях, когда Тревиранус Первый неспешно скользнул взглядом по его телу. По сравнению с ним даже взгляд пустых глаз Гретель не казался столь пугающим.
— Хватит поклонов, — немного раздраженно произнес король. — И, ради парика святого Менделя, прекратите с таким почтением пялиться на мои туфли. Если бы я хотел видеть в своем зале столь нелепо согнутые фигуры, я бы поручил придворным геномастерам создать что-то подобное!
Голос у него был мягким и звучным, но чуть-чуть надтреснутым, как металлический кубок с крохотным внутренним дефектом. Удивительно, но из-за этого он казался еще более звучным.
Гензель опешил, не зная, как себя вести и куда девать ноги в растоптанных сапогах. Как ему показалось, король наблюдал за смущением посетителей с определенным удовлетворением. Впрочем, все смущение, как обычно, пришлось на долю самого Гензеля. Гретель разглядывала его величество так запросто, словно он был обычным придворным, вздумавшим посидеть на золоченом стуле в отсутствие хозяина.
— Я немолод, — отрывисто произнес король. — А человеческое тело быстро стареет, особенно если не подпитывать его генетическими зельями. Я привык дорожить временем. Поэтому мы опустим весь этикет вплоть до титулов и представлений. Меня вы, смею думать, знаете. А я уже знаю вас. Гретель и Гензель. Странствующая геноведьма с помощником. Квартероны.
Последнее слово не прозвучало ругательством, как обычно в устах великородных особ.
— Все верно, — кивнула Гретель. — Прибыли в Лаленбург этим утром.
— Собираетесь переждать здесь зиму?
Геноведьма размышляла лишь несколько секунд. Хотя могла бы вообще не размышлять. Просто по своему обыкновению попыталась сымитировать обычную человеческую реакцию.
— Едва ли. Мои старые контракты уже выполнены. Решили погостить в Лаленбурге несколько дней, прежде чем двигаться дальше на юг.
Она не добавила «ваше величество», и Гензель мысленно застонал. Однако Тревиранус не разгневался. Не дернул за шелковый шнур, вызывая стражу, не стал стучать ногами в богато украшенных туфлях. Вместо этого он медленно кивнул.
— Понимаю. Спешите? Или вам не нравятся яблоки?
Гензель отчаянно пожелал, чтобы сестра солгала. Есть у людей такое полезное свойство — лгать при необходимости. Жаль, что геноведьмы в большинстве своем его лишены.
— Мы с братом были в соседнем королевстве, когда до нас донесся слух, что в Лаленбурге резко вырос спрос на геномагов. Четыре года назад он был куда меньше. Вот мы и решили…
— Проверить обстановку?
— Присмотреться. — Гретель спокойно выдержала взгляд старого короля. — Быть может, найти несколько необременительных контрактов. Когда количество геномагов по какой-то причине уменьшается, стоимость на их услуги, как правило, резко возрастает.
— Что ж, мудро. И вполне дальновидно. К тому же вы можете больше не искать подходящего контракта. Вы его уже нашли.
— С кем?
— Со мной, — спокойно сказал Тревиранус Первый, наблюдая за их реакцией. По части Гензеля его ожидания должны были быть вполне оправданны — тот и сам услышал непроизвольный щелчок собственных зубов. Что же до геноведьмы, его величество ожидало разочарование — Гретель осталась совершенно бесстрастной. В этот раз она даже не сочла необходимым изображать задумчивость, а ее прозрачные глаза оставались спокойными и безмятежными, как поверхность озера в безветренную погоду. Непроглядная поверхность озера, истинная глубина которого не была известна ни одному живому существу.
— Боюсь, не могу за него взяться, ваше величество.
Тронутая сединой королевская бровь поднялась самое больше на два миллиметра. Но даже этого хватило, чтоб Гензель вмерз в пол.
— Вот как? Полагаете, что королевское золото пахнет иначе, чем всякое другое? Как интересно. Прежде мне не приходилось встречать принципиальных геноведьм.
— Дело не в золоте.
— А в чем?
— Личные причины. — Гретель засунула ладони за широкий ремень — очередной вызов придворному протоколу, от которого строгого церемониймейстера, надо думать, на месте хватил бы удар. — Мы, геноведьмы, оставляем за собой право выбора заказчика. И отказывать без объяснения причины.
Король немного склонил голову. Так, словно тяжелая корона успела немилосердно натереть ему виски. От Гензеля, однако, не укрылась грозная, белого золота, искра, вспыхнувшая на миг в царственном взгляде.
— Значит, к королевскому золоту вы равнодушны. Что ж, у меня есть и другие средства оплаты. Как вы смотрите на… Скажем, на то, что я позволю вам собственными ногами покинуть мое королевство, вместо того чтобы кликнуть придворного палача и этим же вечером отправить вас на плаху?
Внешне Тревиранус почти не переменился, но Гензель ощутил изменение в излучении его эмоций. Это была часть акульего чутья, которая редко проявляла себя и голоса которой сам Гензель зачастую не понимал. Это было похоже на блеск стальной кольчуги под ветхим плащом. Сквозь морщины стареющего короля на мгновение выглянул истинный Тревиранус Первый, король Лаленбурга, единственный его правитель и, возможно, единственный настоящий человек во всем королевстве.
— Мы не совершили ничего дурного, ваше величество. — торопливо сказал Гензель, чтобы Гретель не ляпнула очередную бестактность. — Если вы имеете в виду тех троих в подворотне…
Тревиранус смерил Гензеля взглядом, от которого его позвонки прикипели друг к другу, точно под воздействием дуговой сварки.
— Пара дрянных мулов и спятивший мехос. Явно не то, чем дорожит мое королевство.
— Тогда…
— Вашу сестру зовут Гретель. Ей двадцать два года, она уроженка Шлараффенланда и имеет одиннадцать процентов порченого генетического материала.
Должно быть, на лице Гензеля отобразилось изумление, потому что Тревиранус Первый не удержался от короткой усмешки, на миг сделавшей его лицо куда моложе и убравшей лишние морщины.
— Этот дворец буквально набит аппаратурой. Не успели вы войти, как ваши расшифрованные генокарты уже легли на мой стол. Кроме того, с давних пор у меня есть привычка собирать информацию обо всех генетических кудесниках в этом королевстве. Простительная слабость для старика…
— Мы покинули Шлараффенланд не по своей воле, ваше величество.
Тревиранус поднял руку с широко расставленными пальцами, заставив Гензеля замолчать.
— Мне нет дела до Шлараффенланда, как и до его спятившей правительницы. Это исключительно ваше дело. А вот что имеет важность — так это процент порченой крови вашей сестры. Одиннадцать процентов! При этом она, кажется, занимается практикой как геномастер?..
— У нее есть соответствующий патент, выданный в Гунналанде. Он допускает к занятиям генетическим ремеслом любого, у кого количество порченой крови составляет менее пятнадцати процентов, ваше величество.
— Разумеется. Только вот в Лаленбурге ей этот патент не поможет. Здесь к занятиям геномагией допускаются лишь те, в ком порчи не больше десяти процентов. Наши новые порядки, призванные оградить жителей королевства от генетической порчи. Это значит, что ваш гунналандский патент на территории Лаленбурга более недействителен. — Король сделал паузу, которая показалась Гензелю удивительно затянувшейся и неуютной. — А следовательно, ваша сестра, сударь Гензель, является геноведьмой. Со всеми вытекающими последствиями.
Король замолчал. Продолжать не было нужды. Первой нарушила тишину Гретель.
— И давно в Лаленбурге действуют эти порядки? — спросила она, разглядывая носки своих ботфортов. Стертые, с разбитой подошвой и подвязанным каблуком, эти ботфорты ничем не напоминали изящных туфелек городских геноволшебниц. Они помнили многие мили пути, десятки перейденных вброд рек, грязь множества королевств и брусчатку неисчислимого количества городов. Едва ли обладание ими доставит радость лаленбургскому палачу, подумал Гензель, разве что если разделить на части и продавать как амулеты от сглаза…
— С сегодняшнего дня.
— Понимаю, ваше величество.
— Конечно, понимаете, — кивнул тот. — Еще бы не понимали. Как понимаете и то, что бежать вам не удастся. Ни из дворца, ни из королевства. Граница Лаленбурга на замке, и, даже вырасти вы себе крылья, вам не уйти от королевской плахи. Ну а палаческому топору и подавно безразлично, чью голову рубить — геноведьмы или самого последнего мула.
— И контракт, который вы предлагали…
Несколько секунд король разглядывал свою ладонь. Когда он вновь поднял взгляд, Гензель сглотнул — в этом взгляде уже не было прежней задумчивой рассеянности. Теперь он казался тяжелым, как золото королевского трона, и целеустремленным.
— Ваши головы, которые останутся на плечах, — часть платы за него. Быть может, эта плата выглядит не очень внушительно, но мне кажется, вы здравомыслящие люди и вполне оцените мою щедрость.
Гензель метнул яростный взгляд в сторону Гретель.
«Во имя Человечества, сестрица!.. — взмолился он мысленно. — Хотя бы сейчас рассуждай как человек!»
Но он зря беспокоился за сестру. Геноведьму можно обвинить в чем угодно, но только не в отсутствии здравомыслия.
— В таком случае я принимаю этот контракт, ваше величество, — произнесла Гретель твердо.
Тревиранус Первый удовлетворенно откинулся на своем троне. Судя по тому, как он при этом поморщился, золоченые выступы спинки, впивавшиеся ему в позвоночник, за много лет немало его утомили.
— Умная геноведьма, — пробормотал он. — Не самая умная из всех, что я повидал, но умнее многих. Раз контракт можно считать заключенным, полагаю, вы захотите узнать его условия?
— Нет нужды, ваше величество, — сухо сказала Гретель. — Они мне известны.
— Так вы знаете, зачем я вас нанял?
— Вы хотите, чтобы я нашла вашу дочь.
— А вы прозорливы. Ведьминское чутье?
— Всего лишь хорошая память. Когда мы были здесь четыре года назад, весь город был увешан объявлениями. Его величество Тревиранус Первый обещал щедрое вознаграждение всякому, кто отыщет след пропавшей принцессы Бланко.
— Бланко Комо-ля-Ньев, — напевно произнес король, и прозвучало это как название изысканнейшего вина. — Но она никогда не любила своего полного имени. Считала слишком длинным и напыщенным. Мы с супругой называли ее просто Бланко.
Теперь наконец и Гензель вспомнил.
И в самом деле были объявления, только за несколько лет, в течение которых судьба водила их вдалеке от Лаленбурга, это совершенно выветрилось из головы. Гензель напряг память, но ничего толкового из нее выудить не сумел, лишь смутные обрывки — «всем подданным короля» и «высочайше благоволит».
— Значит, ее все еще не нашли… — спокойно констатировала Гретель.
— Не нашли, сударыня ведьма. Хотя искали ее шесть лет, денно и нощно. Как только она пропала, я издал указ. Ее искали все. Королевская гвардия, лесники, горожане и стражники. Ремесленники и крестьяне. Священники и челядь. Долгих шесть лет… Сперва добровольцы приходили ко мне по сотне в день. Они были уверены, что легко нападут на след. И в самом деле — далеко ли может сбежать из дворца одиннадцатилетняя принцесса?
— Видимо, далеко.
Король поднялся с трона — тяжело, будто статуя, впервые за много лет оторвавшаяся от своего постамента, — и прошелся вдоль зала. Оказывается, он был не так уж и высок, почти вровень с Гензелем. Однако этого легко можно было не заметить благодаря его царственной осанке и особенной, исполненной благородства грации. Он двигался мягко, но в этой мягкости не было ничего такого, что позволяло бы заподозрить слабость. Напротив, это были мягкие движения взрослого льва, неторопливо обходящего свои владения.
— Ее искало все королевство. Шесть лет подряд. Тело ее так и не было найдено. Поток добровольцев быстро стал иссякать. Первые несколько лет я щедро давал им золото на поиски. От толп желающих не было отбоя. Каждый был уверен, что знает, где искать. Заброшенные деревни, болота, леса… Каждый получал от меня щедрый аванс. Это было опрометчиво с моей стороны. Казна стремительно пустела. Я стал платить серебром. От сотен добровольцев остались десятки, но и они возвращались с пустыми руками. Когда я перешел на медь, желающих осталось совсем мало. Некоторых самых жадных пришлось повесить, как вы понимаете… С тех пор поиски принцессы перестали казаться хорошим способом заработать. «Пойди поищи принцессу», — так нынче говорит чернь в Лаленбурге, когда говорит о каком-нибудь бесполезном и бессмысленном занятии. Моя дочь так и не вернулась. Словно провалилась сквозь землю.
— И тогда вы обратились к геномастерам, — констатировала Гретель безо всякого выражения.
— Они называли себя по-разному. Геномастерами, генопрорицателями, генокудесниками и геноархимагами. — Король вымученно улыбнулся. — Мне не было до этого дела. Я заключил бы договор даже с последним генофокусником, если бы он помог мне разыскать Бланко. Сколько этих проходимцев побывало в Лаленбурге за эти годы… Они исчертили весь дворец странными диаграммами, читали нараспев формулы аминокислот, даже пытались вызвать дух святого Бэтсона… Без малейшего результата, разумеется. А уж каково приходилось моей супруге!.. Впрочем, вы, наверно, не знаете. Моя супруга, королева Лит — человек веры, сударыня геноведьма, и истая прихожанка Церкви Человечества Извечного и Всеблагого. Она очень… серьезно относится к генетической линии наших предков и чтет святые писания. Иногда мне даже кажется, излишне серьезно… Для нее все эти геноритуалы были сущим святотатством. Но, можете представить, я настолько ослеп в своем горе, что продолжал привечать всех этих геношарлатанов до тех пор, пока в казне оставались хоть какие-то деньги. Но беды наши лишь множились. Один из геномагов случайно устроил эпидемию генномодифицированного тифа, что стоило тысяч жизней моих подданных. Другой попытался выдать мне под видом принцессы какую-то крестьянку, которой искусными чарами придал сходство с моей дочерью. Третий под разными предлогами выманил у меня остатки былого состояния… В общем, мне пришлось вспомнить старые способы. Десяток геномагов сожгли на площади в назидание остальным. Но эта публика сделала неверные выводы. Вместо того чтобы удвоить усилия по поиску принцессы Бланко, они сбежали. Все до последнего. Сбежали из Лаленбурга. И с тех пор стараются здесь не показываться.
— Так вот почему у стражи есть приказ тащить всех геномагов в королевский дворец… — Гретель усмехнулась самым непочтительным и нетактичным образом. — Причем, насколько я понимаю, не делается исключений и для геноведьм.
«Прекрасный вывод, сестрица», — язвительно подумал Гензель, но рта открывать предусмотрительно не стал.
Король Тревиранус смерил Гретель своим тяжелым взглядом.
— Да. С тех пор я взял за обыкновение приглашать к себе всех заезжих геномастеров. И даже геноведьм. Я верю, что моя дочь все еще жива. Как верю и в то, что ее можно разыскать. Я люблю ее и боюсь умереть, так больше и не увидев ее лица. Считайте, что я предложил вам контракт, сударыня Гретель. Вам и вашему молчаливому брагу.
«Обычно это ее считают молчуньей, — подумал Гензель хмуро. — Эх, как же сухо во рту…»
— Я была в Лаленбурге четыре года назад, — негромко произнесла Гретель, глядя в непонятном Гензелю направлении. — Как раз тогда, когда шумиха с поисками принцессы была в самом разгаре, а на каждом столбе висело по объявлению, обещавшему золотые горы нашедшему Бланко. Люди на них стали висеть гораздо позже… Я не взялась за эту работу в тот раз. Вы знаете, почему, ваше величество?
Король нахмурился. Как неприятно, оказывается, хмурятся короли. Мочевой пузырь сам собой съеживается.
— Сочли, что дело безнадежное?
— Именно так, ваше величество. Скорее всего, принцесса давно мертва.
— Почему вы так считаете?
Слова короля показались Гензелю звенящей полосой тяжелой стали. Должно быть, такими можно снести голову с плеч не хуже, чем палаческим мечом. По крайней мере, Гензель ощутил, как тело напрягается точно так же, как обычно напрягалось, отражая выпад клинка.
— Иммунитет, — спокойно сказала Гретель. Она никогда не считала нужным что-то пояснять. Объяснять людям суть геномагических терминов с ее точки зрения было не продуктивнее, чем откармливать свиней жемчугом.
— Что это значит?
— Иммунитет — способность организма самостоятельно отражать агрессию внешней среды, вырабатывая особые клетки, лимфоциты. У принцессы Бланко иммунитета нет. Всю свою жизнь она прожила во дворце, под опекой и охраной. Оказавшись за пределами городских стен, она не смогла бы выжить. Она — чужеродный организм в той среде, которую вы называете своим королевством. В очень агрессивной и жесткой среде. Такие, как она, не живут слишком долго. Думаю, она мертва. Просто тело разложилось или было съедено, или…
— Вы говорите про мою дочь!
Гневному возгласу короля витражи тронного зала отозвались жалобным звоном.
«Сейчас кликнет стражу, — понял Гензель с замирающим сердцем. — Проклятый Лаленбург. Проклятые яблоки. Проклятая геномагия…»
Но Тревиранус не стал звать стражу. Сделал еще несколько шагов, тяжело дыша, потом прикрыл глаза и сделал несколько размеренных глубоких вдохов. Было видно, что порыв королевской ярости, едва не испепеливший дерзких квартеронов, взят под контроль. Судя по всему, Тревиранус Первый наилучшим образом умел контролировать не только свое королевство, но и себя самого. Это вызывало уважение.
— Она — человек, — бесстрастно произнесла Гретель. — А люди — весьма хрупкие, примитивные и недолговечные существа. Я должна была сказать вам очевидное.
— Геноведьмы… — В этот раз взгляд короля был приправлен откровенным презрением. — Я знаю, что для вас люди — лишь сор, не стоящий внимания. Впрочем, еще я знаю, что вы не лжете. И все равно желаю заключить с вами контракт.
Интересно, рассеянно подумал Гензель, если бы Гретель на миг обрела возможность испытывать человеческие чувства, что сейчас отразилось бы на ее лице?.. Обреченность? Отчаяние? Обычный страх?.. За свое лицо он был спокоен — несомненно, оно выражало одну лишь бескрайнюю угрюмость.
Искать по всему королевству сбежавшую много лет назад принцессу?.. Едва ли возможен контракт хуже. Гензель еще помнил лихорадку четырехлетней давности. Десятки и сотни добровольных спасателей сложили головы, отправившись в безнадежные поиски.
Заблудились в дебрях и пещерах, разбились в горах, были сожраны чудовищами, перерезали друг другу глотки, спились или просто пропали без вести вслед за принцессой.
И никто из них не мог похвастать тем, что видел принцессу или хотя бы след ее туфельки. Следов не было. Как в сложных генетических реакциях отдельные клетки вдруг исчезают, поглощенные другими, так и некоторые принцессы обладают способностью пропадать бесследно.
Конечно же королевская дочь мертва. Может, стала жертвой какой-нибудь злокозненной придворной интриги, а тело ее давно растворено в кислоте без остатка. Или покинула королевство с заезжим сердцеедом, каким-нибудь обнищавшим аристократом. Такое, говорят, не редкость при королевских дворах. А может, ее безымянные косточки тлеют в какой-нибудь общей могиле. Возможно, рядом с костями своих спасателей. И Гензелю не хотелось оказаться поблизости.
— Значит, наши жизни в обмен на жизнь принцессы Бланко? — сухо уточнила Гретель. Как автомат, бесстрастно измеряющий массу препаратов в двух противоположных чашах.
— Ваши жизни в обмен на Бланко. — эхом повторил Тревиранус, впечатав эти слова в золото подлокотника ударом кулака. — И я надеюсь, что не ошибся, когда посчитал вас достаточно умной геноведьмой, сударыня Гретель. Не думайте, что сможете обмануть меня: слишком многие до вас уже пытались это сделать. Вы сможете выскользнуть из дворца, но покинуть пределы королевства вам не удастся. Я давно уже принял соответствующие меры. Автоматические термические излучатели — слышали о таких? — превратят в золу всякого, кто попытается покинуть королевство без разрешения. А еще — конные разъезды, королевская гвардия, минные поля, генетические ищейки… Если потребуется, я подниму весь воздушный флот Лаленбурга, чтобы найти вас, можете не сомневаться.
Гензель не сомневался. Взгляд человека на золотом троне, быть может, одного из последних людей в мире, не давал возможности усомниться. Слишком уж многое было в этом взгляде. Куда больше, чем может разобрать самый внимательный прибор из арсенала геноведьмы.
— Не считайте меня тираном, судари, — тихо сказал Тревиранус Первый. — Я не тиран. Я — любящий отец, потерявший свое самое драгоценное сокровище. И вы даже не представляете, как мало расстояние от любви до жестокости…
— Мы понимаем, что вы чувствуете, ваше величество.
— Не можете понимать! — рубанул он по подлокотнику. — Вы не можете знать, что это значит. Точно у меня украли половинку сердца, вырезали кривым ножом из груди, и оставшаяся много лет кровоточит, и стонет, стонет… — Король, машинально или нет, положил руку на золоченую рукоять меча, но сейчас этот жест не казался Гензелю угрожающим. Скорее, он отдавал отчаянием. — Ничто в этой жизни не утешало меня так, как принцесса Бланко. Милый, чудный, добрый ребенок! Я не знал иных людей, столь же светлых и чистых. Она не заслуживает бродить до скончания дней в этом страшном и безумном мире. Я поклялся, что разыщу ее, чего бы это ни стоило. Мне пришлось расплатиться сперва золотом, потом своим здоровьем, но этого оказалось недостаточно. Видимо, теперь мне придется платить чужими жизнями… И, к сожалению, я готов и на эту цену. Простите меня. Если бы это помогло в поисках дочери, я рассек бы вену и отдал вам кровь из своего тела, самую чистую в мире кровь, но этим не помочь. Даже этим…
Король устало потер висок, точно у него болела голова. Идеальный человек на золотом троне, он больше не выглядел небожителем или священным сосудом. Он выглядел пожилым мужчиной, которого годы и несчастья согнули, как бури из года в год сгибают мощное, когда-то стремящееся прямо в небеса дерево.
Не просто государь. Не просто страдающий отец.
Настоящий, подлинный человек. В нем было нечто большее, чем драгоценная человеческая кровь. В нем был человеческий дух.
«Какая сила, — подумал Гензель потрясенно, стараясь не выдать охвативших его чувств. — Кажется, впервые в жизни я действительно вижу подлинного, настоящего до последней клеточки человека. Если так, это чудо. Самое настоящее чудо. Не такое прекрасное, в пастельных тонах, как на церковных иконах. Не такое сладкое, как причастие. Но именно в горечи оно проявляется и становится видимым…»
Гретель не выглядела растроганной. Она осталась собранной, спокойной, деловитой и в то же время предельно расслабленной. Проще говоря, она выглядела такой же, как и всегда. Даже голос не потеплел ни на градус.
— Мы понимаем ваши чувства, ваше величество. И готовы взяться за поиск принцессы, имея наградой лишь свои жизни. Приступим сегодня же. Но прежде я хотела бы кое-что спросить.
Король медленно кивнул. Взгляд его не прояснился, остался тревожным и настороженным, но Гензелю показалось, что он немного смягчился.
— Ваше право, сударыня ведьма. Спрашивайте. Только ответами я и способен снабдить вас для поисков дочери.
— Во-первых, я хочу знать все, что удалось узнать всем вашим подданным за время поисков. Не может быть, чтобы никто из них не наткнулся на след принцессы.
— Следы были. Тысячи следов. Но ни один не оказался надежным. Мне говорили, что принцесса Бланко съедена мулами-людоедами в южных землях, что бежала в другое королевство, что сменила внешность… Мне пришлось выслушать множество слухов, да толку?
— Могу ли я предположить, что среди этих слухов были и такие, которые ваше величество по какой-то причине сочло наиболее заслуживающими доверия?
Тяжелый королевский подбородок дрогнул. Совсем незаметно. Но для внимательно наблюдающего за ним Гензеля это крошечное движение было еще более явственным, чем дрожание подъемных ворот неприступной крепости.
— Все слухи были нелепы и смутны. Кто-то рассказывал, что принцесса попала в рабство к южному шейху, но сбежала и теперь предводительствует в далеких пустынях бандой из четырех десятков разбойников. Кто-то уверял меня в том, что Бланко по воле злой геноведьмы обернулась белоснежным лебедем. Всякое доводилось слышать… Чаще всего это были истории о похищениях. Они все сходились в том, что принцесса была похищена из своих покоев, но разнились по части того, кто это сделал. То горгульи, то кровожадные великаны, то мантикоры, то цверги…
Услышав последнее слово, Гретель отчего-то насторожилась.
— Цверги, ваше величество?
Тревиранус Первый устало махнул рукой.
— Не знаю, как у вас в Шлараффенланде, а в Лаленбурге цвергами пугают детей. Подземные чудовища с когтями и…
— Я знаю, кто такие цверги, — жестко сказала Гретель. — Это плотоядные хищники. Но они не крадут людей.
— Полагаете, я, как отец, испытал облегчение, услышав, что принцесса Бланко попала в лапы генетических чудовищ? — горько усмехнулся король. — Весть об этом принес один из моих егерей. Отсутствовал несколько месяцев, а вернулся едва ползущим. Выглядел так, будто его рвали псы, живого места нет. Бормотал только: «Она у цвергов! Проклятые цверги поймали принцессу Бланко!» Больше он не сказал ничего. Умер от истощения и великого множества рваных ран. Его история могла бы походить на правду, по крайней мере, покойный ничего не выиграл бы от этой лжи, как те, что твердили мне про великанов и горгулий. Но и верить в это… Цверги никогда никого не похищали. Разорвать на части — это им по плечу. А похищать, да еще и принцессу, из дворцовых покоев… Полная чушь. Тем более что в окрестностях Лаленбурга цвергов истребили еще много лет назад. Если они где и остались, то далеко в горах. На всякий случай я велел изловить несколько этих тварей, но, конечно, без толку: допрашивать цверга — все равно что допрашивать крысу. Они и говорить-то не умеют, эти твари…
Кажется, его ответ полностью удовлетворил Гретель.
— Хорошо, — сказала она. — И слабый след лучше всякого его отсутствия. И последний вопрос, ваше величество.
— Спрашивайте. Только, умоляю, быстрее. Я знаю, что это глупо, но, когда речь идет о поисках принцессы, каждая упущенная секунда кажется мне стальной занозой, всаженной в затылок.
— Этот вопрос тоже не праздный, он имеет значение для поисков. Отчего могла сбежать принцесса?
Челюсть Тревирануса Первого напряглась. Нехорошо напряглась. На улице, уловив такое движение, Гензель начал бы незамедлительные приготовления к драке. Но здесь, наедине с живым человеком, он ощущал себя блохой, взирающей на гору.
— Бланко не сбегала! — тяжело выдохнул король, сцепив до скрежета пальцы. — Принцессу похитили!
— Мне приходилось слышать обе версии, — осторожно сказал Гензель, чтобы отвлечь гнев монарха от сестры. — На улицах судачат всякое…
Тревиранус одним своим взглядом едва не вогнал Гензеля по колено в мраморный пол.
— Улицы! — с презрением обронил он. — Улицы!.. Улицы наполнены чернью, а та рада нести всякий вздор, и чем нелепее, тем лучше! Уж они вдоволь пополоскали свои гнилые языки, когда пропала Бланко!.. Можете не сомневаться, на улицах вы услышите самые чудовищные слухи. По сравнению с которыми даже цверги-похитители покажутся вполне обыденным делом!
— Нам нужна информация. — Своей сухостью голос Гретель мог погасить любой гнев. — И не суть, откуда она взята, из самого придирчивого анализа хромосом или из содержимого ночного горшка.
— Бланко похитили!
— Скорее всего, — согласилась геноведьма. — Но мне надо предусмотреть все варианты, прежде чем пускаться на поиски. Искать принцессу в таком большом королевстве, как Лаленбург, не имея никаких подсказок, то же самое, что ловить клетку пинцетом без микроскопа.
Едва ли король оценил сравнение. Но, по крайней мере, разжались на подлокотниках трона пальцы.
— Что вы хотите знать? — устало спросил он.
— Что могло заставить ее сбежать?
— Не знаю. Не знаю. Тому не могло быть никаких причин. Я любил ее, принцесса ни в чем не знала нужды. Она одевалась в шелка и парчу, у нее были все развлечения, о которых только можно мечтать. Изысканная пища, личная конюшня, пажи…
— Я не это имела в виду, ваше величество. Возможно, ей что-то угрожало или же она так считала?
— Исключено, — отрезал Тревиранус. — К ней были приставлены мои личные телохранители и гвардейцы. Ей нечего было беспокоиться о своей жизни. На нее никогда не устраивалось покушений или посягательств. Она была моим единственным ребенком, а это что-то значит даже у королей.
— Возможно, романтические отношения? — осторожно спросил Гензель и тут же пожалел, что не прикусил себе язык.
— Она была ребенком! — громыхнул Тревиранус. — Никаких романтических отношений у нее не было и быть не могло!
Кажется, пришла очередь Гретель спасать своего непутевого брата.
— Если не опасение за свою жизнь и не репродуктивная тяга… — пробормотала она. — У нее были враги при дворе? Недруги? Кто-то, кого она тяготилась или боялась?
Монарший взгляд, прежде попеременно испытывавший то Гретель, то ее брата, вдруг поплыл в сторону, стал бесцельно блуждать по тронному залу, как корабль, потерявший ориентиры в открытом море.
— Возможно… Возможно, моя супруга, но… Что за дурацкий вопрос!
Стряхнуть Гретель со следа было не проще, чем генетическую инфекцию, уловившую запах сложных аминокислот своей добычи.
— Королева Лит? — спросила жестко геноведьма.
Глаза Тревирануса Первого на миг потухли, сделавшись пустыми, как у мертвого мехоса из подворотни.
— Она не имеет никакого отношения к пропаже девочки.
— Но вы не случайно упомянули ее.
— Не случайно. — Король качнул головой и вдруг грустно улыбнулся. Как-то беспомощно и совершенно по-человечески. — Что, на улицах об этом не рассказывают?.. Все равно. Ладно, чего теперь скрывать… У бедной Бланко действительно были не лучшие отношения с ее матерью. Точнее, с ее мачехой. Лит ей не родная мать, но об этом-то вы уж наверняка знаете. Я… я потерял свою первую супругу через год после рождения дочери. Какая-то редкая генетическая хворь, от которой не застрахованы и короли. Долгое время я вдовствовал, но королевству нужен не только король, но и королева. Как человеку нужны две руки или два глаза. В интересах короны я был вынужден жениться через несколько лет вновь.
— На королеве Лит.
— Тогда еще герцогине, — слабо кивнул Тревиранус. — Она была хороша, очень хороша. Моложе меня, но не по годам мудра и проницательна. Прекрасная женщина, лучшей партии я и желать не мог. Она полюбила Бланко, как родную дочь, а мне стала надежной опорой на многие лета. Если бы я знал… Ох, если бы я знал, я бы выгнал всех монахов королевства взашей! Все уничтожила вера.
— Какая вера? — не понял Гензель.
— Вера в Человечество Извечное и Всеблагое, какая же еще!
— Вы… Вы упоминали, что королева-мачеха религиозна, но…
— Она не всегда такой была. С течением времени моя супруга становилась все более религиозной. Стала постоянной прихожанкой Церкви, читала священные книги о чистоте человеческого гена. Привечала монахов и церковнослужителей. В моем дворце их нынче бродит больше, чем блох по уличному коту… Скоро превратят весь мой дворец в пропахшую приторными маслами церковь… Я слишком поздно насторожился. Быть может, потому что виной всему был я сам.
— Ваше ве…
— Королевская кровь безгрешна. — Тревиранус искривил губы в неестественной улыбке. — Моя была чище воды в горном ручье. Кровь от крови Человечества. Ни единой примеси за все поколения. Впору разливать по бутылкам и продавать на рынке… Это все и сгубило. В наше время не так-то просто найти партнера для…
— Скрещивания, — сухо сказала Гретель.
— Да. Для продолжения династии. Я был последним неиспорченным на нашей чахлой лаленбургской ветви. Все прочие яблочки сгнили или покрылись плесенью. Мне не суждено было найти достойную партию, обладающую столь же чистым генокодом. Мать Бланко имела ничтожно малую примесь бракованной крови. В пределах нескольких хромосом.
— Значит, принцесса Бланко Комо-ля-Ньев…
«Принцесса унаследовала генетический порок!» — ужаснулся Гензель. Даже эту мысль он постарался сделать крохотной и незаметной, словно король мог почувствовать ее излучение и рассвирепеть от этого кощунства.
Король кивнул.
— Бланко не унаследовала моей генетической чистоты. Я бы любил ее, даже если бы она была квартероном вроде вас. Она моя дочь. Но Лит…
— Ее мачеха?
— Ее тоже нельзя было назвать совершенно чистой, но она была близка к тому. Ближе, чем моя первая супруга. И еще она боготворила меня. Смотрела таким взглядом, каким монахи смотрят на свои иконы. Неудивительно. В ее глазах я всегда был живым богом. Сосудом всего Человечества. Когда Бланко стала взрослеть, Лит, видимо, подкупила геномастеров и тайком сделала генокарту своей падчерицы.
На мгновение Гензелю показалось, что глаза сестры перестали быть похожими на непроницаемую озерную гладь, и в их глубине что-то сверкнуло. Возможно, что-то похожее на насмешку. Оно пропало гораздо быстрее, чем он успел бы сообразить.
— Значит, королева узнала, что кровь династии непоправимо испорчена, а в жилах ее падчерицы течет то, что всегда будет нести следы вырождения?
— Едва ли вы поймете. Лит слишком религиозна. Для нее генетический дефект Бланко был настоящим оскорблением королевского рода. Она не могла и помыслить о том, что трон после меня будет наследовать кто-то, в чьих венах не течет стопроцентная человеческая кровь. Для нее сама мысль об этом была невыносима.
— Так вы думаете, что это она… — потрясенно пробормотал Гензель.
Король резко выпрямился на своем троне, его точно ужалило электрическим импульсом.
— Нет, фруктоземия вас подери! Ничего подобного я не думаю! Королева Лит никогда не причинила бы зла своей падчерице. Они не ладили, это верно, но я не допускаю и мысли, что действия королевы могли бы… то есть стали бы причиной… Нет!
Гензелю стало его жаль. Тревиранус пытался спрятать смущение и слабость за гневом. Удивительно, но даже эта слабость каким-то образом его возвышала. Гензель против воли вспомнил собственного отца. Тот никогда не выказывал своей слабости. Даже когда отвел детей в Железный лес на верную смерть. Желчный, почти всегда угрюмый, нескладный, ворчливый — про таких говорят «квартеронская косточка». Возможно, он просто не умел быть слабым. Где-то в поколениях отмерла, никем не замеченная, хромосома, которая отвечала за это умение…
— Королева Лит не имеет отношения к пропаже Бланко, — отчеканил Тревиранус, тяжело дыша. — И мне плевать на слухи. Возможно… Да, возможно, плохие отношения с мачехой заставили принцессу покинуть дворец. Я допускаю это. Бланко была мала, одиннадцать лет. Слишком мала, чтобы понять, отчего королева, заменившая ей мать, относится к ней с презрением. Это больно для ребенка. А я… Я слишком часто был занят. Старый осел. До последнего не замечал, что творится с дочерью. Пока не стало слишком поздно. Найдите ее! Найдите Бланко!
— Мы сделаем все, что в наших силах, — поспешил сказать Гензель, чтобы Гретель не вставила очередную бестактность. — Мы перероем все королевство, если потребуется. Если принцесса жива, мы приведем ее домой.
— Спасибо, сударь Гензель. — Король невесело усмехнулся и в этот миг показался еще более уставшим. Если прежде в его облике угадывались царственные и благородные черты, теперь они казались отступившими в тень, смазанными. Как на картине придворного художника, мастерски написанной много лет назад, постепенно, под воздействием безжалостного времени, смазываются детали. — Ступайте. Впрочем… Стойте. Мне стоит кое-что вам передать.
Тревиранус Первый простер руку, вынуждая Гензеля поспешно шагнуть к трону и почтительно протянуть свою ладонью вверх.
— Возьмите. Если вы встретите принцессу Бланко, передайте это ей.
Гензель ожидал увидеть на своей ладони что угодно. Золотой медальон. Склянку с генозельем. Какую-то памятную безделушку с королевским вензелем. Но там лежал небольшой округлый предмет бледно-зеленого цвета. Совсем легкий и совсем непримечательный.
— Это… Это яблоко, ваше величество?
— Да. Вы знаете, отчего на нашем гербе изображено надкушенное яблоко?
Гензель наморщил лоб. Он слабо знал династическую историю Лаленбурга. Когда путешествуешь в обществе геноведьмы, на историю обращаешь внимание в последнюю очередь.
— Э-э-э… Лаленбург славится яблоками, — пробормотал он, не зная, что делать с зеленым шаром на собственной ладони.
По меркам Лаленбурга яблоко было не очень-то привлекательным. Совсем небольшое, пожалуй, даже мелкое, зеленое, какое-то потертое… Такие яблоки почти всегда оказываются ужасно кислыми, стоит лишь откусить. Даже просто глядя на него, Гензель ощущал, как во рту скапливается слюна. Совсем не похоже на яблоко королевского сорта. Скорее, на дрянное яблоко, завалявшееся у торговца в углу ящика.
— Символизм. Впрочем, едва ли вы, квартероны, понимаете его суть. — Тревиранус невесело усмехнулся, убрав с высокого лба седую прядь. — Когда-то один из первых людей, тех самых, что считаются святыми, откусил кусок от запретного плода с дерева знаний. Ему было запрещено это делать. Более того, он не мог не понимать, что это абсолютно безрассудно с точки зрения логики. Бесконечную мудрость нельзя усвоить, просто откусив кусок яблока. Более того, содеянное навсегда отвратило бы его от высшей милости. Понимал ли это человек? Конечно же понимал. Но все равно откусил яблоко. Почему?
— Не знаю, — признался Гензель, все еще держа зеленое яблоко на ладони. Сперва казавшееся невесомым, оно делалось все тяжелее с каждой секундой.
— Потому что он был человеком. А человек — это единственное существо на свете, которое способно вести себя нелогично. Не так, как подсказывает разум, а так, как ему заблагорассудилось. В этом и заключается свобода человеческой воли, которой ни один геномастер не нащупает в хромосомах. Возможность поступать вопреки логике. Бессмысленно. Наперекор всему. Вы даже не представляете, какой это великий и сложный дар.
Гензель бросил короткий взгляд на Гретель: «Молчи!» Гретель скривилась, но смолчала, и Гензель ей был за это благодарен. Если Гретель промолчит достаточно долго, возможно, у них и в самом деле есть шанс выйти живыми из королевского дворца.
— Мы должны передать яблоко принцессе? — уточнил Гензель. — Это особенный дар? Она поймет?..
— Принцесса Бланко терпеть не могла символизма, — улыбнулся Тревиранус. — Она готова была заснуть всякий раз, когда я пытался рассказать ей о сути нашего герба. Нет, дело в другом. Пусть она съест яблоко. Или хотя бы откусит от него кусок.
— Геномагия? — спросила Гретель требовательно.
Сделав короткий шаг, она взяла из рук Гензеля яблоко и внимательно его осмотрела. Хладнокровно и пристально, точно была большим анализирующим прибором, изучающим образец. Но Гензель был уверен, что ничего примечательного сестра в этом крошечном яблоке не найдет. Для некоторых вещей требуется нечто большее, чем зоркие глаза.
— Геномагия, — кивнул король. — Вы сможете сделать пробу?
— Только поверхностную. У меня с собой лишь полевой набор. Для полноценного разбора на хромосомы требуется лаборатория.
— Тогда вам придется поверить королю на слово. — Улыбка Тревирануса была такой же кислой, как само яблоко. — Я не настолько сошел с ума от горя, чтобы пичкать свою единственную дочь неизвестными и потенциально опасными генозельями. Но яблоко это и в самом деле особенное. Когда-то геномастера изготовили для меня несколько сотен таких. Магия, заключенная в нем, ориентирована на генетический материал принцессы Бланко. И как только она откусит хотя бы малейший кусочек…
— Лишится чувств? — предположила Гретель, пряча яблоко в перекинутую через плечо сумку. Не почтительнее, чем если бы это было обычным яблоком, купленным у Русалочьих ворот. — Что ж, так нам будет легче ее транспортировать.
Король покачал головой.
— Она ощутит ностальгию. Краткий минутный приступ ностальгии по прежним временам. Просто возбуждение определенных участков мозга, только и всего.
— Зачем это, ваше величество? — не понял Гензель.
Гретель, вероятно, поняла. По крайней мере, она промолчала.
— Я опасаюсь того, что бегство из дома и прожитые вдали от него годы могли ожесточить ее. Если она бежала от страха, этот страх может быть все еще властен над ней. Ей будет тяжело вернуться, если дом видится ей кошмаром из детства. Ностальгия — сладкий, но безвредный яд, судари. Попробовав яблоко, она вспомнит своего старика-отца и, быть может, осознает, что разбила ему сердце своим бегством. Я лишь хочу, чтобы она почувствовала и поняла.
— Мы найдем принцессу, — Гензель почтительно поклонился, — и передадим ей яблоко. Даю слово, ваше величество.
Тревиранус удовлетворенно кивнул. Выглядел он еще более усталым, чем в начале аудиенции. Сейчас он едва ли смог бы встать с трона без посторонней помощи.
— Надеюсь, так и будет. Ступайте. Переверните мое королевство вверх дном, но найдите принцессу. И верните домой. Все. Вы свободны, судари квартероны.
Король прикрыл глаза. Видимо, это было знаком конца аудиенции. Но все равно прошло несколько секунд, прежде чем Гензель решился сойти с места.
После атмосферы Малого зала для аудиенций даже душный и тяжелый воздух дворцовых покоев показался Гензелю сытным и сладким. Отряд херувимов, от невинных розовощеких лиц которых Гензеля передергивало, ждал их на прежнем месте, вероятно, чтобы конвоировать к выходу из дворца. Впрочем, сейчас их присутствие уже не заботило его так, как часом раньше.
Гретель молчала, глядя себе под ноги. Гензель не сомневался, что она будет молчать всю дорогу. Геноведьмы никогда не мучаются отсутствием общения и способны молчать бесконечно долго, находясь в своем внутреннем мире, который от присутствия человека отгорожен непроницаемыми стенами. В этом мире не было надоедливых людишек с их смешными и мелочными страстями, не было суеты и нелогичности. Именно поэтому Гретель проводила в этом мире большую часть своей жизни, выныривая лишь тогда, когда ей требовалось сообщить нечто по-настоящему важное. Иногда Гензелю казалось, что в какой-то момент Гретель просто забудет вынырнуть. Так и останется где-то там, в невидимом, пропитанном геномагией измерении, не имеющем связи с физическим миром. Как его собственная акула. Когда-нибудь она просто исчезнет. Останется лишь оболочка с широко открытыми прозрачными глазами, в которых не больше мысли, чем в чисто вымытых окнах пустого дома.
— Правильно говорят: если вздумал связываться с геноведьмой — выворачивай карманы, — вздохнул Гензель. — Я надеялся, нам удастся что-то заработать в Лаленбурге. А теперь выходит, что ничего, кроме трат, нас здесь не ждет.
— Траты? — эхом отозвалась Гретель. Судя по тому, что глаза у нее даже не моргнули, вопрос был не только риторическим, но и бессмысленным. Всего лишь имитация человеческого поведения. Мимикрия под живого человека.
— Нам придется сделать припасы. Возможно, купить коня. Это солидные траты.
— Конь?..
— Боюсь разочаровать тебя, сестрица, но цверги — дикие хищники, они не живут в городах. Более того, все их ближайшие логова разорены. Это значит, что нам придется отправиться весьма далеко. Причем накануне зимы, что особенно замечательно. Я-то думал, зиму мы проведем в тепле, под крышей, поедая моченые, сушеные и печеные яблоки… А придется тащиться туда, куда Человечество и носу не совало. Тританомалия по седьмой хромосоме! Тут уже не до денег. Вернуться бы из таких поисков живыми…
— Мы не станем возвращаться, — сказала Гретель. Это было так неожиданно, что Гензель сбился с шага. — И лошадь нам ни к чему. Прямо сейчас мы отправимся на юг, тем же путем, что пришли в город. И если повезет, через три дня уже будем за пределами королевства. И, полагаю, никогда сюда больше не вернемся. Если хочешь, купи себе яблоко на память. Или съешь то, что лежит в сумке.
Гензель уставился на нее, ничего не понимая.
— Но контракт! Ты же заключила контракт с его величеством!
— Минуту назад он был расторгнут.
— Что? Ты так просто можешь отказаться от договора? Просто нарушить слово? Чего тогда оно стоит, слово геноведьмы?
— Слово геноведьмы — всего лишь формулировка, братец. Само по себе оно не может ничего стоить. Я поступаю так, как считаю более рациональным и безопасным. В данном случае это значит как можно быстрее оказаться за пределами королевства.
— Логично, — пробормотал он с отвращением. — Его величество был прав. Все геноведьмы бездушны и холодны как лед. Только логика, только рациональность. А как же святой дар Человечества — возможность поступать так, как кажется правильным, а не подчиняясь логике?
От взгляда Гретель он осекся — взгляд был насмешливым, впрочем, от этого не более теплым, чем обычно.
— Ты отстаиваешь свое право надкусывать любые встреченные плоды? Я его не оспариваю. Но хочу напомнить, что четырнадцать лет назад, когда пытался им воспользоваться, ты чуть не превратился в мертвого рогатого мула.
Гензель оскалился, обнажив полный рот зубов. Насмешки человека, который не имеет ни малейшего представления о чувстве юмора, почему-то всегда оказывались особенно ядовиты.
— Да к черту символизм и надкусанные яблоки! Не в них дело. Принцесса.
— Она мертва, — сказала Гретель, не останавливаясь.
— Мы этого не знаем!
— Мы это знаем с вероятностью в девяносто девять процентов. Логика неумолима, братец, она не делает исключений.
— Даже для геноведьм? — не удержавшись, съязвил он.
— Даже для них. Как и для одержимых гормонами и бессмысленными психологическими установками квартеронов.
И вновь ее шпага оказалась на миллиметр длиннее его собственной. Разила она, как и прежде, без промаха.
— Дело не в принцессе! — запротестовал Гензель, злясь на Гретель, а еще больше — на себя. — Я дал слово его величеству!
Наконец она остановилась. Резко, как кукла, у которой кончился завод. Королевские херувимы, чудовищные силачи с лицами невинных детей, едва не врезались друг в друга.
— Твое слово ничего не значит, — проронила Гретель. — Более того, ты даже не понимаешь, что оно является для тебя источником опасности.
— Еще как понимаю! В том и смысл данного слова, Гретель! Выполнить его во что бы то ни стало, невзирая на опасности, которым себя подвергаешь.
— Бессмыслица. Подобную конструкцию могла породить только примитивная психика, руководствующаяся нелогичными и столь же примитивными принципами. Кроме того, братец, ты ведь солгал, когда сказал, что дело не в принцессе.
— Нет, — сказал он, тщетно пытаясь отвести от нее взгляд.
— Ты слишком любишь сказки, братец. Еще одно твое уязвимое место. Поиск принцессы представляется тебе чем-то увлекательным и романтичным. Настолько, что ты мгновенно забыл про бесперспективность и опасность подобных попыток. Не обижайся. Это характерно для человеческой психики вне зависимости от количества дефектного генокода. Игнорирование очевидных и логичных вещей в ущерб собственным умозаключениям, обычно весьма нелепым и субъективным. Вот и сейчас. Прекрасно понимая, что поиски принцессы опасны и, скорее всего, приведут к нашей смерти, ты все равно решил за них взяться. Это нелогично.
Спорить с Гретель было бесполезно. Всякий раз, когда он позволял себе ввязаться в спор с геноведьмой, кончалось все одинаково. Разгромом наголову. Невозможно спорить с геноведьмой, если ты всего лишь человек. Если каждая твоя клеточка, каждый твой помысел для нее — не сложнее, чем запчасти от разобранных часов.
— Логикой пользуются животные и машины, — парировал Гензель упрямо. — Король был прав, высший дар человека — в возможности от нее отказаться. Идти своим путем. Не всегда логичным, не всегда кажущимся здравым и разумным, но человеческим…
— Что ж, в таком случае ты живешь в мире победившего Человечества. — Гретель отбросила белые пряди со лба. — Того самого, которое, забыв про разум и логику, изувечило свой же генофонд, превратившись в злую пародию на самого себя.
Гензель чуть не прикусил язык. Все верно, сам виноват. Впрочем, он не собирался так быстро сдаваться. И уже хотел возразить, когда из очередной галереи наперерез их конвою внезапно выдвинулась приземистая плотная фигура. Сперва Гензелю показалось, что она облачена в балахон, но почти сразу же он убедился в том, что это монашеская ряса. Ветхая ткань совершенно не вязалась с роскошным убранством дворца, со всеми резными панелями и витражами, но ее обладатель держался так уверенно и спокойно, что совершенно не выглядел здесь чужеродным объектом. Гензель плохо разбирался в санах духовенства Церкви Всеблагого Человечества, но отчего-то был уверен, что перед ними не аколит и не чтец. Судя по всему, священник, не меньше.
Часть его греховной плоти была заменена на механические части и фрагменты. Челюсть была механизирована и лишь обтянута кожей, она мелко подрагивала на шарнирах, отчего казалось, что зубы священника периодически стучат. Один глаз был мутным и желтоватым, как старый, плохо сохранившийся жемчуг. В его глубине маленьким черным зрачком сидел объектив крохотной камеры. В остальном же священник сохранил немало человеческих черт. Правда, глухая ряса не оставляла возможности разглядеть его тело. Наверняка и оно было частично механизированным. По крайней мере, Гензелю казалось, что под рясой что-то едва заметно скрипит, точно там работают изношенные медные шестерни.
Херувимы замерли, встретив эту странную преграду, хотя каждый из них был куда больше и, без сомнения, куда сильнее. Священник обвел взглядом Гензеля и Гретель и сотворил пальцами двойную спираль, священный знак человеческой ДНК. Гензель ответил ему тем же, Гретель удостоила лишь безразличным взглядом. Но священник, кажется, всего этого попросту не заметил.
— Дальше я проведу их сам, — сказал он сухим и гулким голосом. — Ее величество королева желает пригласить этих сударей к себе на аудиенцию. Немедленно.
Гензель и Гретель переглянулись.
— Похоже, у стен тут и в самом деле есть уши, — пробормотал Гензель себе под нос. — Да только выходит, что уши эти — не короля, а королевы…
Гретель шикнула на него. Она была права: нечего язык распускать. Дело-то, похоже, закручивается. Как бы не закрутилось кольцами вокруг них, подобно удаву, и не раздавило…
Херувимы не спорили — видимо, стараниями королевы-мачехи, авторитет Церкви даже в королевском дворце был незыблем. Не удивительно, что монахи разгуливали здесь, как у себя в храме. Они коротко поклонились и отправились восвояси, видимо сочтя свою миссию выполненной. Без их общества Гензель ощутил себя свободнее, хотя воздух во дворце все еще казался ему отчаянно спертым.
— Следуйте за мной, дети мои, — сказал священник суховато, но с достоинством. — Я отведу вас в покои королевы Лит.
В этот раз путь оказался недолог, и на протяжении него и Гензель, и Гретель хранили молчание. Молчал и священник, лишь под его рясой что-то едва слышно скрипело.
У покоев королевы церемониймейстера не оказалось, зато стояло еще двое монахов. Оба были механизированны — у одного тщательно отделанное латунное ухо и металлический штифт в шее, у другого вместо рта на лице помещалась сращенная с кожей решетка репродуктора. Монахи с готовностью распахнули двери, сами же остались охранять покои королевы. С ними остался и священник.
— Ступайте, — мягко сказал он им в спины. — Королева сама примет вас.
Приемный покой королевы настолько не походил на Малый зал для аудиенций, что Гензель едва не заподозрил их проводника в обмане.
Скорее, это походило на небольшую церковную келью, оборудованную в недрах дворца. Вместо трона в центре зала возвышался резной символ Церкви Человечества Вечного и Всеблагого — двойная спираль, отделанная бронзой и серебром. Несмотря на немалое изящество, чувствовалось, что здесь это не предмет роскоши — металл во многих местах посветлел от прикосновений человеческих рук.
Располагались здесь и иные предметы, которые Гензель обыкновенно видел лишь в церкви. На стенах висели портреты святых, отличного качества и регулярно подновляемые умелой кистью. Лики многих из них были Гензелю знакомы — святой Мендель, святой Морган, блаженный великомученик Бэтсон… Были и неизвестные. Судя по тому, что Гретель усмехнулась иконам, как добрым старым знакомым, случайных лиц среди них не было.
Здесь царил приятный полумрак, пахло благовониями, а воздух казался прохладным и мягким, как накинутый на плечи легкий шелковый платок. Ну точно как в церкви, разве что безлюдно и тихо. Неподалеку от священных знаков Гензель увидел пузатую раку из серебра и меди, изящную и скромную одновременно. Он прищурился, пытаясь разглядеть, что там написано, — и ахнул:
— Сестрица! Глянь только! Это же мощи святого Линнея! Видела ли ты такое? Его палец, коленная чашечка и…
— Тихо, Гензель, — сказала Гретель резко.
Она казалась неестественно напряженной. Возможно ли, что на геноведьм так действует церковная атмосфера и близость святых символов? В этом Гензель сомневался. Он хотел произнести что-то успокаивающее, но тут почувствовал то, что, несомненно, немногим раньше почувствовала Гретель. В комнате они были не одни.
— Веруете ли вы в Человечество Извечное и Всеблагое? — спросил их низкий женский голос.
— Веруем, — сказал за двоих Гензель. На этой территории он чувствовал себя свободнее сестры. — Воистину веруем.
— Веруете в генетическую линию человека разумного, что длится тысячелетиями, испокон веков, и будет длиться вечно, освещая путь заблудшим и отчаявшимся?
— Веруем.
— Признаете ли вы генетическую линию человечества венцом творения, неподвластным распаду, тлену и извращению?
— Признаем, — покорно ответил Гензель.
Он надеялся, что невидимая собеседница не станет задавать более сложные вопросы — например, про классический кариотип Человечества или распределение генов по хромосомам. Несмотря на то что в церкви ему приходилось бывать нередко, некоторые каверзные вопросы священников ставили его в тупик.
Но спрашивающая, очевидно, вовсе не ставила своей целью запутать их, вопросы были понятными, так что Гензель даже не колебался.
— Чтите вашу генетическую чистоту и отрицаете тлетворные генетические грехи?
— Чтим. Отрицаем.
— Не нарушаете ли святость своей ДНК генетическим грехом? Избегаете ли генетического вмешательства?
— Не нарушаем.
— Во имя Человечества, Извечного и Всеблагого, — торжественно произнес голос. — Да пребудет на вас благословение истинного человека, да восстановится чистота ваших хромосом, да вернутся ваши потомки в лоно Человечества, да будут бесконечны дни его на земле. По слову человека разумного и по естеству его!
Фигура соткалась из полумрака, миг — и уже перестала быть его частью, точно кто-то выкроил ножницами силуэт из листа черной бумаги. Фигура эта была невысокой, но двигалась так величественно и степенно, что Гензеля едва вторично не разбил паралич. За один день увидеть двух членов королевской крови!..
Королева Лит оказалась не так стара, как ожидал Гензель, и не так измождена, как ее венценосный супруг. Лет около сорока, пожалуй, а если бы лицо не было столь бледным, а его черты — столь острыми, можно было бы дать и тридцать пять. В роскошных густых волосах, столь черных, что все еще оставались частью царящего тут полумрака, не было и намека на седину. Королева двигалась очень плавно и практически бесшумно. Облачена она была странно — в закрытое до самого горла шерстяное платье с длинными рукавами. Никаких украшений, никакой бижутерии, никакой косметики. Даже волосы были зачесаны без всякого изящества, на простой пробор. Скромность на грани аскезы, подумалось Гензелю. Тем удивительнее было то, что даже в подобном облачении, годящемся скорее церковному прелату, королева Лит выглядела исполненной достоинства и величественной.
Королева не по-монашески протянула руку для поцелуя, и Гензель поспешно встал на колено. Кожа на ладони королевы Лит оказалась очень тонкой и нежной, а сама рука — неожиданно твердой. Судя по тому, как королева взирала на своих гостей, уверенно держа голову и не отводя взгляда, не менее твердым был и ее характер.
— Добро пожаловать в Лаленбург, — произнесла Лит, пряча руку обратно в рукав платья. — Как странно. Когда-то я искренне надеялась, что все геноведьмы, годные лишь порочить священную генетическую линию, искажая ее суть, убрались из королевства, а теперь по собственной воле приглашаю одну из них.
Если она собиралась разозлить Гретель или вывести ее из себя, нечего было и пытаться.
— Все меняется, ваше величество, — загадочно ответила геноведьма. — Геномагия учит нас, что все в нашем мире пребывает в постоянном изменении, будь то отдельные клетки или состоящие из них организмы. Нет и не может существовать ничего вечного. Все мы меняемся, подчас этого не замечая.
В ответ на эту короткую тираду королева Лит наградила Гретель пристальным холодным взглядом.
— В этом отличие между нами, госпожа ведьма. Я верю в то, что Человечество всегда пребудет на этой грешной земле.
— Исключено, — легко отозвалась Гретель, разглядывая высокородную собеседницу без всякого интереса. — Ни один геном не вечен. Даже если бы генетическую линию человечества не загубили бомбами, эпидемиями и мутациями, она рано или поздно выродилась бы сама. Что-то похожее, кажется, утверждал и святой Дарвин. Жаль, что Церковь в наши дни мало прислушивается к словам своих первосвященников…
Королева подняла руку. Так резко, точно парировала короткой дагой чужой выпад. Гензелю даже померещился звон стали.
— Довольно. Я пригласила вас на аудиенцию, но это не значит, что вам позволительно извергать ересь в освященном месте. Геномагия — это дьявольское порождение, источник всех бедствий человечества и источник его гибели. Геномаги посеяли семя вырождения в нашем генофонде, и они же обрекли нас на вечные муки!
Гензель мысленно поморщился, надеясь, что лицо его продолжает выражать приличествующее ситуации выражение благоговейного почтения.
Вечные муки!.. Легко, должно быть, рассуждать о вечных муках и проклятом семени, когда в твоей собственной крови сотые проценты порченого генетического материала. Когда ты живешь в роскошном дворце, пусть и обставляя его подобно келье, а твои прихоти выполняет армия молчаливых монахов. Хорошо размышлять о гибели человечества, когда дышишь очищенным воздухом и пьешь воду с нормальным радиационным фоном. Поглядела бы она, как живут на улицах Лаленбурга бесправные мулы — изуродованные куски некогда человеческой плоти, считающие за счастье питаться объедками!..
— Прошу прощения за свою сестру, — почтительно, но твердо сказал Гензель. — Она геномастер и не имеет должного почтения к Человечеству. Однако она…
— Она — геноведьма, — отчеканила королева Лит, не считая необходимым даже глядеть на Гретель. — Это значит, ее покарает Человечество, лишив ее своего семени. Ее дети будут пресмыкаться на свалке, уродливые, как жабы!
Гензель возблагодарил судьбу и Человечество за железную выдержку Гретель. Будь геноведьма более человечной в своих чувствах — не исключено, что именно королева Лит сейчас превратилась бы в жабу. Сложно предсказать, что может сотворить разгневанная геноведьма. Впрочем, едва ли кто-то на свете мог похвастаться, что видел по-настоящему разгневанную геноведьму.
— Парадокс судьбы. — Королева улыбнулась со сдержанным достоинством, позволяя заметить ее прекрасные зубы, белые, как фарфор. — Мой супруг — обладатель чистейшего генетического семени, один из немногих имеющий право звать себя человеком — далек от Церкви. Досадное обстоятельство. Однако у него есть достойная черта — он не любит попусту тратить время. В этом отношении мы схожи. Поэтому я перейду сразу к делу. Я знаю, зачем вас вызвал король.
По счастью, ответа королева не ждала. Если бы она спросила, о чем они говорили с королем, Гензеля ждали бы серьезные муки выбора. С одной стороны, король заключил с ними контракт, а условия контракта строго обязывают обе стороны хранить тайну. С другой, королева — не последнее лицо в городе, а местами, судя по тому, какие порядки она завела во дворце, может и потягаться с королем… Королева Лит избавила их от этого выбора.
— Это не тайна для меня. Вас наняли, чтобы найти Бланко. Нашу дорогую и любимую принцессу Бланко.
Когда королева говорила «дорогую и любимую», у Гензеля тревожно екнуло в печени. Не так говорят о человеке, по ком искренне скучают. Скорее, так произносят название опасной кислоты или формулу смертельного яда. Строгое и прекрасное лицо королевы Лит вдруг показалось Гензелю неестественно сухим, как лик на одной из висящих здесь икон.
— Я не делюсь деталями своих контрактов, — бесстрастно сказала Гретель.
Королева Лит досадливо махнула рукой. Все ее движения отличала причудливая грациозность, которая мгновенно бросалась в глаза. Грациозность эта была странного, едва ли не гипнотизирующего свойства. Если дамы высшего света считали образцом женственности движения мягкие и плавные, королева Лит двигалась не по-монаршески резко, а жесты обозначала короткими быстрыми движениями. А еще ее красота отчего-то не возбуждала. Даже глядя на стройную шею, не скрытую глухим воротником платья, Гензель не ощущал ничего похожего на влечение, и дело здесь было не в робости. Тем менее естественным казалось ее нарочито строгое облачение.
— Для этого мне не нужны шпионы. Знали бы, сколько подобных… специалистов нанял мой супруг за последние годы. Некоторые не вернулись, другие вернулись, но по частям или смертельно больными. Что ни говори, королевство велико и кишит опасностями. И пока еще никто не нашел нашей принцессы.
Королева-мачеха остановилась возле священной двойной спирали и возложила на нее руки. Действительно она собиралась прочитать молитву или же это механический, отработанный за многие годы жест?..
— Вполне вероятно, что принцесса Бланко давно мертва. Но вероятность этого всегда будет менее ста процентов, пока не найдено ее тело. Да, хоть я и озарена светом Человечества, но не гнушаюсь статистических подсчетов. А они говорят, что теоретически вы способны отыскать принцессу. Более того, ваши шансы, сударыня Гретель, я бы оценила выше, чем у предыдущих соискателей королевской милости. Вы удивлены? Напрасно. Я интересуюсь событиями в соседних королевствах, более того, не пропускаю мимо ушей и те, в которых фигурирует геномагия. Не приходилось ли вам бывать в прошлом году в Офире? Говорят, там до недавнего времени жила весьма могущественная геноведьма, имевшая обыкновение заточать в башню людей и подвергать их бесчеловечным генетическим опытам. Что ж, это в обычае вашего проклятого племени… Говорят также, последней ее жертвой была девушка, которая подверглась генетическим манипуляциям, из-за которых рост ее волосяного покрова оказался ускорен во много раз. Чудовищный эксперимент. Ведь подобный рост требует огромного количества кератинов, гораздо большего, чем может накопить человеческий организм. Я слышала, под конец она выглядела ужасно. Полная дистрофия мышц, отсутствующие ногти, дряблая, как у старухи, кожа… Едва ли двадцатиметровая коса служила ей достойным утешением. Впрочем, геноведьма так и не успела довести опыт до конца. Кто-то сломал ее охранные геночары, затем продырявил голову из мушкета и выкинул тело с крыши башни. Ужасная история. Сообщали, это дело рук неких Ханселя и Гротель, странствующих квартеронов.
— Очень опасно жить в высокой башне, — пожал плечами Гензель, зная, что Гретель не удостоит королеву ответом. — Сила тяжести не делает исключений даже для геноведьм.
— …Три года назад в Лемурии тоже был загадочный случай. Некий благородный господин по прозвищу Алая Борода вознамерился жениться. Говорят, в своем замке он держал лабораторию и практиковал геномагию. Не знаю, какими успехами он мог похвастаться на этой противной Человечеству почве, но в семейной жизни его ждало одно разочарование за другим. Семь раз он женился на весьма милых девушках, и шесть раз они девались неведомо куда. Ну а седьмую девушку обнаружили мертвой прямо в его замке. Застреленной. Ужасный был скандал… Слышала также, в тот же период у него гостили некто Ганзуль и Гратхель. Квартероны.
— Его проблемой была не геномагия, ваше величество, а человеческие алчность и любопытство. Каждый раз, связывая себя браком с очередной девушкой, он просил ее ни в коем случае не отпирать генетической лаборатории. Но ни одна его жена не оказалась достаточно благоразумной. Кто-то проникал в лабораторию, чтобы поживиться генозельем, не имея даже предположения о его эффекте. Кто-то думал наложить руку на его богатство… Седьмая жена этого благородного господина и вовсе желала лишить его жизни, после чего завладеть лабораторией. К счастью, она вовремя скончалась, — сказал Гензель, и добавил: — По неизвестным причинам. Что же до господина Алой Бороды, он, насколько я знаю, разочаровался в браке и предпочел остаться холостяком.
— Я способна сделать простейшие логические выводы. И сопоставить факты. Кажется, в сфере геномагии вы способны на настоящие чудеса, сударыня Гретель. Чудеса омерзительные Человечеству, порочные и грязные, но и весьма впечатляющие.
— Благодарю, — как ни в чем не бывало произнесла Гретель.
— Вот почему я считаю, что у вас есть шанс отыскать пропавшую принцессу. Это важно не только для короля. Это важно и для меня. Моя бедная девочка в этой жизни вытерпела много страданий. Настало время им закончиться.
— Мы найдем ее, клянусь бородой святого Менделя! — Гензель приложил ладонь к сердцу, надеясь, что его слова звучат достаточно искренне. — Где бы она ни находилась, если принцесса Бланко все еще жива, мы вернем ее вам.
Взгляд королевы Лит, брошенный на него из-под густых ресниц, оказался на удивление мягок, почти ласков.
— Спасибо, сударь квартерон. Я тоже очень надеюсь, что вы найдете ее. Потому что имею желание заключить с вашей сестрой еще один контракт.
— В этом нет нужды, ваше величество, — запротестовал Гензель. — Ваш супруг уже…
— У меня есть некоторые особенные пожелания. Когда вы найдете принцессу, вы убьете ее.
Тон ее не изменился, голос был по-прежнему мягким, мелодичным, спокойным. И еще она улыбалась. Гензелю показалось, что в желудке у него медленно растворяется порция плавиковой кислоты.
— П-простите… — произнесли губы Гензеля без малейшего его, Гензеля, участия.
— Вы убьете принцессу Бланко Комо-ля-Ньев, — медленно и терпеливо повторила королева. — Мою падчерицу.
Мысли Гензеля загудели, как пчелы в тесном улье.
— Но что, если она и так мертва? — выдавил он. — В конце концов, ее не видели шесть лет. А уж если она и в самом деле попала к цвергам…
— Мне мало простого «если», — сказала королева-мачеха. — Я хочу быть уверенной в этом на сто процентов. Полной гарантии. Понимаете?
— Я не уверен, что моя сестра сможет принять подобный контракт. Она геномастер. Возможно, вам нужны профессионалы или…
Гензелю привиделось страшное. Что королева щелкает пальцами — и в покои вваливаются молчаливые священники, под рясами которых что-то вечно жужжит и скрежещет. Священники хватают их с Гретель стальными руками, от прикосновения которых лопаются кости, и тащат — в темноту, в холод, в боль…
Но ничего этого не случилось.
Королева мягко повернулась в сторону Гретель. Как и прежние движения, это было практически бесшумным, нарушаемым лишь едва слышимым звяканьем — судя по всему, на шее королевы коснулись друг друга невидимые украшения.
— Мне не нужны профессиональные убийцы. Я не хочу, чтоб вы били принцессу в грудь кинжалом или вышибали ей мозги из мушкета. Все-таки она королевской крови, пусть эта кровь и оказалась разбавлена всякой дрянью… Вы просто передадите ей это.
Гензель был уверен, что руки королевы были пусты, когда она вошла. Он сам целовал ей ладонь. Но теперь она что-то держала в кулаке. Что-то достаточно большое, округлое, алое…
Когда она разжала пальцы, Гензель уже догадывался, что увидит на фоне безупречно гладкой королевской кожи.
Яблоко. Крупное, спелое, из тех, что зовут наливными. Оно и казалось налитым солнечным светом, в нем смешался ярко-алый свет зарождающегося дня и насыщенный желтый теплого полудня. Гензель не прикоснулся к нему даже пальцем, но отчего-то сразу понял, что яблоко должно быть сладким, как мед.
Такое яблоко было редкостью даже для Лаленбурга. По крайней мере, ничего подобного ему прежде на прилавках замечать не приходилось. Оно выглядело произведением искусства, штучно созданным в лаборатории, а не плодом, рожденным в чреве грязной зараженной земли. Гензель даже не осмелился протянуть руку, чтоб взять яблоко. Это пришлось сделать Гретель.
— Отрава? — равнодушно спросила она, взвесив плод в руке.
Королева царственно склонила голову.
— Лучшая из возможных. Уникальный яд, не имеющий ни аналогов, ни противоядий. Он генетически ориентирован на принцессу Бланко, один лишь крохотный кусочек выжжет нейроны у нее в мозгу, превратив его в кашу…
Строгое и утонченное лицо королевы Лиг исказилось от ненависти. Такой, которой Гензелю не приходилось видеть на человеческих лицах. Как отпечаток кислотного ожога. На миг эта ненависть сделала ее по-настоящему страшной. Гензель едва не отшатнулся.
— Это…
— Это обязательное условие, — процедила королева, внимательно глядя на Гензеля. — Принцесса должна умереть именно от этого яда. Ничему другому я не доверяю.
«Свинец уже вышел из моды? — хмуро подумал Гензель, не зная, что ответить. — Или ее величество, подобно супругу, видит в яблоке какой-то особенный символизм?.. Дьявол, мне этот символизм уже встал поперек горла…»
— Не желаете рисковать? — спросила Гретель.
Королева одарила ее ласковой улыбкой.
— Вот именно. В ней течет отравленная кровь. Это значит, что строение ее тела может отличаться от человеческого. Я слышала про мутантов с невероятной способностью к регенерации или с мозгом в животе. Сталь и порох не годятся. Только по-настоящему надежный яд. Кстати, это не последнее мое условие. Их два, но оба должны быть выполнены неукоснительно.
— Какое второе?
— Ее тело. После того как принцесса Бланко умрет, вы принесете мне ее мертвое тело. Или укажете место, где его оставили, чтоб мои слуги сделали это сами. Подчеркиваю, это обязательное условие.
— Я слышала, некоторые убийцы удовлетворяются головой или ушами…
— Все тело принцессы, — отчеканила королева Лит. — Без повреждений. Мертвое. Любое отступление от этого пункта влечет разрыв контракта. С самыми неприятными для вас последствиями.
— Для чего вам тело? — без всякого интереса спросила Гретель. Так, точно речь шла о генетическом зелье от бородавок.
— Едва ли это имеет значение для пары грязных квартеронов, вся задача которых — найти принцессу и передать ей яблоко. Впрочем… Учитывая деликатность контракта, будем считать, что вы временно — мои доверенные квартероны. Я собираюсь сделать из принцессы Бланко чучело. Не смотрите на меня так, сударь Гензель, я не чудовище. Скажем так, принцесса дорога мне… как память. Я хочу видеть ее каждый день перед собой. Считайте это королевской слабостью.
— Сколько вы готовы заплатить за контракт? — спросила Гретель.
Гензель тщетно вглядывался в ее лицо, пытаясь увидеть на нем хотя бы тень человеческого чувства. Тщетно: оно выглядело не выразительнее, чем обычно. Отрешенное лицо геноведьмы, бледная маска, обрамленная белыми волосами. И глаза — непонятно куда смотрящие, неподвижные, мягко сияющие — то ли драгоценные камни с острыми, как у алмаза, гранями, то ли просто кусочки прозрачной слюды, вставленные в глазницы.
Сестрица…
Королева удовлетворенно кивнула.
— Я наслышана об алчности геноведьм. Королевская казна давно пуста, как черепная коробка анэнцефала. Но у меня есть собственные средства, в которых я не очень стеснена. Скажем… Двадцать тысяч дукатов?
Зубы Гензеля едва не лязгнули друг о друга.
Двадцать тысяч монет лаленбургской чеканки? Цифры в голове завертелись, наскакивая одна на другую и разлетаясь. Столько Гретель может заработать контрактами геномастера за десять лет. Десять лет упорного, тяжелого, а часто и смертельно опасного труда. Десять лет путешествий из города в город, из королевства в королевство. Ночевки в трактирах, а то и придорожных канавах, несвежая дрянная еда, пронизывающий холод…
Да за двадцать тысяч лаленбургских дукатов они купят себе целое село вместе со всеми населяющими его жителями! И лабораторию для Гретель, настоящую, полную самого современного оборудования. И винный погреб, набитый драгоценными бутылками. Он, никогда не пивший вина, наконец узнает, что чувствуют высокородные господа, когда хлещут это пойло… И еще фруктовый сад, полный прекрасных, не знающих генетической порчи плодов… Только, пожалуй, не яблок. Их и так в последнее время становится многовато вокруг.
Двадцать тысяч золотых — за одну принцессу. За маленькую услугу.
Просто надо дать принцессе не маленькое и зеленое яблоко, а большое и сочное. Не самое трудное дело.
— Все без обмана. — Видимо, королева растолковала их молчание по-своему. — Вы получите все до последней монеты, когда назовете мне место, где лежит мертвая принцесса. Как вам такой контракт?
Гензелю вдруг невыносимо захотелось сплюнуть. Грязной квартеронской слюной на ухоженный и чистый пол импровизированной кельи, чей воздух пропитан ароматическими маслами и духом самого Человечества, Извечного и Всеблагого. Иконы, мощи, показное благочестие, скромность… Двадцать тысяч монет — за мертвую семнадцатилетнюю девчонку.
Здесь нет веры. Той веры, что ему знакома, веры в возрожденное Человечество. Ловушка. Обман. Ложь. Гензелю показалось, что вся королева пропитана смертоносным ядом, подобно отравленному яблоку. Не может быть, чтобы в обычном человеческом теле вмещалось столько яда. А ведь это не обычное тело, а королевских кровей, почти святое в своей генетической чистоте…
— Условия контракта мне подходят, — не колеблясь, произнесла Гретель. Яблока в ее руках уже не было, значит, успела спрятать. — Но у меня также есть два условия.
Королева взглянула на нее презрительно, как на муху, осмелившуюся сесть на тарелку из королевского сервиза.
— Геноведьма выдвигает условия королевской особе? Не забылись ли вы?
— Вы всегда можете заключить контракт с кем-нибудь другим.
Королева усмехнулась и провела тонкими пальцами сверху вниз по священной двойной спирали. Гензелю показалось, что он слышит глухой отзвук металла.
— Какие условия?
— Во-первых, безопасный проход из королевства, — спокойным, почти лишенным человеческих обертонов голосом объявила Гретель. — Ваш супруг пообещал нам сохранить жизнь. Мы хотели бы оставить за собой эту награду даже в том случае, если нам придется сменить работодателя. Согласитесь, едва ли король будет удовлетворен, если узнает о смерти принцессы Бланко.
Королева нетерпеливо кивнула:
— Это я гарантирую. Королевская стража пристально следит за границей, но на караваны Церкви, двигающиеся под моей опекой, досмотр не распространяется. Вы покинете королевство в любом направлении, как только выполните свой контракт.
— Приемлемо, — легко согласилась Гретель. Неподвижная как статуя, за все время разговора она даже не сдвинулась с места. Только глаза ее причудливо мерцали в полумраке импровизированной кельи. — Тогда мое последнее условие, ваше величество.
— Вся во внимании.
— Мне хотелось бы знать, почему вы решили убить принцессу Бланко.
Королева Лит отняла руку от символа своей веры и стала молча разглядывать собственные пальцы. Пальцы были ухоженными, тонкими, выглядели даже хрупкими, но Гензелю вдруг показалось, что в них заключена чудовищная сила. Которая до поры не спешит себя обозначить, лишь забавляется с двумя не в меру наглыми квартеронами. Еще ему показалось, что, если королеве вздумается сомкнуть хватку этих изящных тонких пальцев на его широкой жилистой шее, он не успеет даже пикнуть. Потому что его шейные позвонки окажутся раздавлены всмятку.
Королева молча сделала несколько легких шагов по залу, разглядывая лики святых. Святые молча наблюдали за ней из тесных рам. Лица у некоторых из них были одухотворенными, светлыми, изображенными талантливейшим художником. Если долго стоять рядом и всматриваться — кажется, что глаза святых распространяют вокруг себя свечение. Иконы, которые висят в церквях, отличались куда худшим качеством — их рисовали иконописцы, а не придворные художники. Святой Мендель на них часто выглядел капризным толстощеким коротышкой, а святого Гриффита Ливерпульского изображали опустившимся выпивающим докером. Здесь все было иначе. Чувствовалось, что иконы писались с душой…
— Не переоцениваете ли вы свою важность, сударыня геноведьма? Я слышала, что геноведьмы иной раз весьма непредсказуемы, а их условия по меньшей степени странны. Иногда им мало золота. Это что-то из ваших прихотей?
Гретель кивнула.
— Полагаю, можно сказать и так. Считайте это любопытством.
— Что ж… — Королевские пальцы скользнули обратно в рукав платья, точно паук из белой стали спрятался в земляной норе. — Мне не столь важно, какие омерзительные мысли прячутся в голове у геноведьмы, и мне не суть важны мотивы. Если мой венценосный супруг узнает о нашем разговоре, мне уже не сносить головы. Мотивы едва ли важны. Поэтому я скажу вам. Вы хотите знать причину? Причина в генах. Причина всегда в генах.
— Это все из-за крови принцессы? — хрипло спросил Гензель. — Из-за того, что она оказалась недостойна своего отца, испортив династический генофонд?
Королева Лит уставилась на него с выражением искреннего королевского удивления, даже брови взлетели изогнутыми птичьими крыльями.
— Что? О нет. Какая глупость. Проблема не в том, что кровь принцессы Бланко загрязнена. Проблема как раз в том, сударь квартерон, что она чересчур чиста!
— Простите, ваше величество…
— Эта дрянь, эта принцесса… — Королева Лит стиснула зубы, на высоких точеных скулах крошечными острыми выступами набухли желваки. — Она далеко не чистокровка, конечно. Грехи ее мамаши всплыли в ее фенотипе. Но даже при этом ее кровь чище моей!
— Чище? — не понял Гензель. — Но разве…
— Всего на насколько десятых процента, но принцесса Бланко превосходит по чистоте мою собственную кровь, — с горечью произнесла королева. — Вы можете сказать, что это мелочь, пустяк. Но в делах короны нет пустяков. Эта змея, дитя проклятой покойницы и моего супруга, хоть на песчинку, но превосходит меня чистотой. Вы не представляете, как это уязвляет.
— Не могу сделать выводов, — произнесла Гретель, не тронутая проявлением монарших чувств. — Генокарты королевской династии засекречены, у меня нет к ним доступа.
— О, они засекречены отнюдь не случайно. Генетическая информация о королевской семье — государственная тайна. Попытка проникновения в которую карается смертной казнью, как издавна заведено в этом королевстве. Принято считать, что это королевская деликатность… — Королева не скрывала сарказма. Внезапно она подмигнула Гензелю. — Но на самом деле вы просто не догадываетесь, сколько больших и маленьких тайн разной степени отвратительности спрятано в камерах дворца. Поэтому ключи от них никогда не доверяют посторонним. Но раз уж я заключила с вами контракт, придется приподнять покров тайны… Что ж, у меня есть много ключей. Можете взглянуть.
Королева приблизилась к одному из зеркал. Гензель и раньше заметил его — большое зеркало в дорогой, богато украшенной раме контрастировало с прочей обстановкой, больше соответствующей церковной келье, а не королевским покоям. И он почти не удивился, когда, отзываясь на прикосновение королевского пальца, зеркало засветилось приглушенным синеватым светом.
— Компьютерный терминал, — кратко пояснила королева, чертя пальцем по зеркальной поверхности сложные фигуры. — Содержит базу генетических образцов царствующей династии.
Повинуясь движениям ее изящного пальца, зеркало выдало на поверхность множество букашек-символов. Гензель даже не присматривался — знал, что не поймет. А вот Гретель следила за движениями королевы с несомненным интересом. Подобное оборудование ей, конечно, и не снилось. Что ж, некоторые рождаются королевами, а некоторые — геноведьмами…
Королева-мачеха уже закончила загадочные манипуляции с поверхностью зеркала и на шаг отступила от него.
— Зеркало! — сказала она звучно. — Контекстный поиск. Члены действующей королевской династии. Сортировка по генетической чистоте крови. Отображение всех субъектов, информация о смерти которых не подтверждена. Вывод на экран. Запуск.
На поверхности зеркала, как в заполненном кристально-чистой Водой блюде, плавали крошечные изображения. Человеческие лица. Их было десятка два или три, все незнакомые. Наверняка королевские братья, племянники, бастарды, прочие родственники по крови… Все лица выстроились по порядку друг за другом, как пикинеры в шеренге.
Первого Гензель узнал сразу — это был сам король, Тревиранус Первый. Тут он выглядел не в пример более молодым и подтянутым. Лицо свежее и спокойное. Второй шла… Он присмотрелся. Девушка. Наверно, это и была принцесса Бланко. Тут ей было лет десять-одиннадцать, совсем еще девчонка. Впрочем, породистые аристократические черты явно просматриваются. Нос совершенно отцовский. А так… Пожалуй, ничего примечательного. Весьма простое лицо с тривиальными чертами, совершенно не похожими на королевские. Глаза с хитринкой, волосы странного оттенка, рыжеватые, но не назвать действительно рыжими, скорее напоминают легкую ржавчину.
Можно, наверно, назвать миловидной, но не красавицей. Ее мачеха несомненно эффектнее. С другой стороны, у принцессы было то, чего мачеха оказалась лишена, — свежая, как трава на весеннем лугу, молодость.
А еще принцесса Бланко Комо-ля-Ньев не выглядела ни измученной, ни напуганной. Она выглядела так, как и полагается выглядеть десятилетней принцессе, смешливой и готовой вот-вот ухмыльнуться, непоправимо испортив придворный портрет. Не слушая, что говорит королева Лит, Гензель зачем-то изучал детское лицо и с каждой секундой все меньше верил, что принцесса могла сбежать из дворца.
Дети с такими лицами не сбегают из отцовских дворцов. Они катаются по дворцовому саду в собственной игрушечной карете, запряженной карликовыми, подаренными геномастерами лошадками. Они вышивают на бархате золотой иголкой и едят на обед мясо никогда не существовавших на свете животных, выращенное специально для них в серебряной пробирке. Без сомнения, несмотря на разногласия с мачехой, принцесса Комо-ля-Ньев жила самой простой и обычной жизнью, если такой можно считать жизнь во дворце. Жила до тех пор, пока какое-то чудовище не ворвалось в ее жизнь, умыкнув из-под охраны бдительной стражи, и не утащило в неизвестном направлении.
— Насмешка судьбы, в нынешней династии я занимаю лишь третье место. — Королева-мачеха красноречиво скривилась, разглядывая бесконечные вереницы породистых лиц. — И речь идет не о забеге скаковых лошадей, которые так любит мой супруг. Это отставание вечно и глубиной в пропасть. Проклятой девчонке досталось то, чего не купить ни за какие деньги, даже будучи королевой. Жалкие доли процента чистой крови. Ладно, довольно с вас.
Она щелкнула ногтем по поверхности зеркала, и то мгновенно потухло.
— Можете считать это женской завистью. Или ревностью. Признаться, мне все равно. Но принцесса Бланко должна умереть. Найдите ее. Отдайте яблоко. Принесите тело. После этого ваша судьба мне безразлична.
Несмотря на то что зеркало потухло, Гретель продолжала смотреть на его пустую поверхность. Ее собственные глаза были не сильно выразительнее.
— Мне кажется, есть и другая причина, — произнесла она негромко. — Мы, геноведьмы, плохо знаем человеческую душу и иногда с трудом в ней ориентируемся, но это определенно не зависть.
Королева Лит вздернула голову. Осанка у нее была действительно королевской, такой не даст ни одно генетическое изменение.
— Что вы имеете в виду, сударыня ведьма?
— Кровь, — рассеянно отозвалась Гретель. — Вы правы. Дело всегда в крови. Если принцесса Бланко каким-то образом найдется и вернется домой, может сложиться не самая удачная ситуация. Будучи отданной замуж за какую-нибудь особу с чистой, неразбавленной кровью, она принесет ребенка, почти не отличающегося по степени генетической скверны от его величества Тревирануса Первого. Ваш же с ним ребенок неизбежно окажется запятнан куда больше из-за вашей собственной мутации. Насколько я помню, в Лаленбурге, как и во многих королевствах, касательно наследования престола действует право крови. Корону наследует тот, кто ближе к чистой генетической линии. То есть это будут дети Бланко, а не ваши собственные. Падчерица обошла вас, а ее дети обойдут ваших на пути к трону. Насколько я понимаю человеческую природу, это может казаться вам крайне… неприятным.
Королева задумчиво сняла пальцем несколько крохотных пылинок с рамы какого-то святого. Несколько секунд она разглядывала эти пылинки, точно удивительные микроорганизмы в окуляр микроскопа.
— Умная ведьма, — сказала она то ли насмешливо, то ли одобрительно. — Глупые ведьмы, как правило, живут недолго. Да, я забочусь о будущем своего ребенка. Если у нас с Тревиранусом появится наследник, я не хочу, чтобы его лишило шансов на трон отродье Бланко, от кого бы она ни понесла. Ну давайте же. Скажите, до чего это омерзительно и страшно.
— Напротив. Это совершенно естественно с точки зрения геномагии, — безучастно ответила Гретель. — Забота о потомстве — один из самых древних и распространенных инстинктов живых существ, включая и человека. Инстинкты — истинное генетическое проклятие человечества, о будущем которого вы так печетесь. Именно они устремляют ваши силы не в том направлении, которое объективно более выгодно, а в том, которое отвечает вашим собственным представлениям, слепым и искаженным. Это глупо и нелогично. Но это не страшно и не омерзительно.
— Вы умная геноведьма, — усмехнулась королева. — Как знать, может, очень скоро вы станете еще и богатой геноведьмой. Контракт заключен.
— Мы с братом покинем город живыми, если откажемся от него?
Королева-мачеха улыбнулась. Она не выглядела угрожающе.
Просто хрупкая, хоть и властная женщина аристократической красоты. Что-то она напоминала Гензелю. Скорее всего, цветок. Один из цветков Железного леса, обманчивого, коварного и, безусловно, смертоносного. Все, что выросло под его болезненной тенью, несло на себе отпечаток вырождения и обмана. Все, чему Железный лес Дал жизнь, не выглядело тем, чем являлось на самом деле. Безобидный цветок мог таить в своем соке опаснейшие токсины, а в лепестках — бритвенно-острые зубы. Такой была и королева Лит. Внешне изящная и прекрасная, она скрывала в себе что-то, с чем Гензелю очень не хотелось сталкиваться. Что-то опасное, как яд королевской кобры.
— После всего, что вы услышали? Не разочаровывайте меня. Если вы откажетесь, через час слуги выловят ваши тела из замкового рва. Так что вы скажете? Контракт заключен?
— Да, ваше величество. Контракт заключен.
— Тогда желаю вам удачного пути. И жду с добрыми новостями.
Когда они, поклонившись, отошли, королевские пальцы, словно в насмешку, сплелись в символ ДНК и осенили их:
— Да пребудет с вами Человечество, Извечное и Всеблагое. Да будет сохранена ваша генетическая чистота и да избегнете вы соблазнов плоти на вашем пути.
— Что ж, по крайней мере, у нас всегда есть выход.
— Какой выход, братец?
— Сменить профессию! — зло бросил Гензель, теребя хлебную корку. — Стать торговцами яблоками. Две штуки у нас уже есть, наберем еще немного, откроем свою лавочку… «Лучшие яблоки от Гензеля и Гретель, первосортная генетическая отрава! Откуси и проверь, насколько тебе сегодня везет!»
Гретель устало взглянула на него, оторвав взгляд от почти нетронутой тарелки. Ее содержимое было похоже на сам Лаленбург с высоты птичьего полета — руины из соевых кубиков, чахлая зелень сельдерея и, конечно, нарезанные яблоки. Кажется, в этом городе нигде нельзя укрыться от яблок, даже в снятой на ночь комнате постоялого двора.
Свой ужин Гретель ковыряла уже добрый час, но еда больше перемещалась по тарелке, складываясь в причудливые схемы, чем исчезала с нее. Возможно, причиной тому был сам Гензель. Но тут он ничего не мог с собой поделать.
— Или вот… Можно выжать яблочный сок сразу из двух яблок! Находим принцессу… Ну это, предположим, ерунда. Ее всего лишь похитили неизвестные шесть лет назад и сделали с ней неизвестно что. Находим и предлагаем ей соку. Принцесса выпивает, испытывает сладкую ностальгию и мгновенно умирает. Оба условия выполнены. Принцесса и найдена, и мертва одновременно. Король с королевой встречают нас во дворце цветами!
— Братец… — устало сказала Гретель, чье лицо выглядело особенно бледным в чахлом свете плошки, наполненной дрянным трескучим жиром. — Перестань, пожалуйста. Меньше всего мне сейчас хочется думать про яблоки.
— Ну, может, все не так уж и плохо, а? В конце концов, их величества могли заключить геночары в брюкву. Представляешь, как тяжело было бы принцессе жрать сырую брюкву? С ее-то нежными королевскими зубами?..
— Гензель!
Гензель вздохнул. Думать ей не хочется… Сама втравила их в эту паскуднейшую историю. Пусть не по собственной воле, но что это меняет? Поиск пропавшей принцессы — само по себе дело безнадежное, муторное. Наверняка принцессы давно уже нет на свете. А тут еще эти яблоки…
Гензель помимо воли взглянул на яблоки, что лежали на столе. Они были неподвижны, но ему казалось, что яблоки, улучив момент, когда он отворачивается, тихонько перебираются с места на место.
Одно было мелким, зеленым, совсем неаппетитным, кислым на вид. Другое, крупное и тяжелое, манило взгляд багряными боками. Жизнь и смерть, заключенные в два небольших сосуда. Такая невзрачная упаковка — и столь разные последствия.
Может, геномагия и величайшая наука, известная человеку, но Гензелю она всегда казалась зловещей, пугающей. Может, именно из-за свойственной ей иллюзорности. Все, чего касаются геночары, не такое, каким кажется. Человеческая плоть способна хранить в себе тысячи тайн и загадок. Под превосходной кожей могут скрываться видоизмененные органы и видоизмененные самым причудливым образом цепочки ДНК. Вот и с яблоками та же история, нельзя доверять тому, что видишь. Сладкое яблоко может нести мучительную смерть, а кислое — жизнь.
После ужина, который и ужином-то не назвать, Гретель занялась своим привычным занятием. Открыла полевой набор и принялась колдовать над ним. Он весь вмещался в небольшой металлический чемоданчик и весил на удивление мало для такой могущественной штуки. Могущество это, излучаемое неказистым контейнером, Гензель ощущал кожей, но в чем именно оно заключалось, сказать было невозможно. Внутри не было ничего такого, что могло бы вызвать уважение или страх, — никаких жертвенных ножей, игл, склянок с кровью, выпотрошенных младенцев или зловонных эликсиров. Просто несколько неприглядных приборов, тихонько гудящих и подслеповато моргающих россыпями глаз-диодов. Стеклянные колбы, генетический анализатор, датчики…
Гензель рассеянно наблюдал за тем, как на его глазах творится геномагия. Пугающая, непонятная, сложная и зачастую кажущаяся бессмысленной. Но он знал, какие силы стоят за ней, и оттого никогда не мешал Гретель, когда та принималась за ворожбу.
Впрочем, даже вздумай он помешать, возможно, Гретель этого вовсе и не заметила бы. И так отстраненная, молчаливая, она делалась полностью отрешенной от мира, как только бралась за инструменты. Ее тонкие пальцы бесшумно перемещались от одного прибора к другому, возносили в воздух крохотные склянки и запаянные пузырьки, писали какие-то витиеватые каракули на бумажном листе. Наблюдать за работающей геноведьмой — не самое интересное развлечение, но Гензель всегда наблюдал.
Все не то, чем кажется, особенно когда речь идет о геномагии. Возможно, эти скупые движения, звон пробирок и ровное гудение аппаратуры отдавались оглушительным грохотом в измерениях, не ощущаемых человеком. Где-то распадались монументальные спирали ДНК, дрожали устои мира и происходили вещи удивительные и невозможные. Гензель этого не знал. Поэтому он просто наблюдал за тем, как Гретель работает.
А она между тем делала странные вещи. Взяла несколько маленьких ватных комочков, по очереди коснулась ими собственных губ, точно поцеловала, — и запечатала в какие-то склянки. Потом в склянках оказался прозрачный раствор, а сами склянки заняли места в гнездах миниатюрной центрифуги, похожей на крошечную ярмарочную карусель. Центрифуга деловито жужжала, склянки мелькали размытыми пятнами, Гретель на что-то хмурилась…
Как она была сейчас похожа на ту бледнокожую, как снег, девчонку, что вечерами пряталась за толстую книгу, даже название которой было непонятно Гензелю, и беззвучно шевелила губами, не обращая внимания на весь окружающий мир. Пусть даже мир этот состоял из их крохотного домика в Шлараффенланде…
«Давно уже не девочка, — подумал Гензель, не отрывая взгляда от загадочных манипуляций. — И давно уже не та маленькая Гретель, которая по-детски радовалась крохотным, созданным ею комочкам протоплазмы. Теперь это могущественная геноведьма, пределы сил которой неизвестны даже мне».
От нечего делать он принялся разглядывать обстановку комнаты, но и здесь не обнаружил ничего достойного внимания. Комната была такой, какими обыкновенно бывают все верхние комнаты постоялых дворов: грязная, тесная, обшитая потемневшим от времени деревом, с грубо сколоченной мебелью. Как и во всех верхних комнатах постоялых дворов, здесь пахло подгоревшим жиром, дымом, каким-то жженым тряпьем — удивительно одинаковый для трактиров всего света запах! — и прочей дрянью. Вдобавок ко всему время шло к полуночи, и постоялый двор жил своей обыденной жизнью. Грохотала внизу посуда, кричали пьяные мастеровые с расположенной неподалеку полимерной фабрики, визгливо ссорились служанки, скрипела мебель…
Гензель терпеть не мог комнат на постоялых дворах. Но так уж сложилось, что если служишь подмастерьем и телохранителем странствующей геноведьмы, то грязные облезшие потолки этих комнат будешь видеть чаще, чем небо над головой…
Наконец Гретель закончила работу и тщательно упаковала обратно в контейнер все свои инструменты. Вслух она ничего не сказала, стала задумчиво водить ногтем по столешнице. Ничего и не скажет, это Гензель знал наверняка. А если начнешь задавать вопросы, лишь нахмурится.
— Слушай… — произнес он нерешительно. — Тебе не кажется, что пора бы нам что-то придумать?
— Что? — машинально спросила она. Наверняка даже не поняв смысла вопроса. Безотчетная рефлекторная реакция организма.
— У нас на руках два яблока и одна пропавшая принцесса. Уравнение вроде бы нехитрое, но заковыристое. Например, нам надо решить, какое из яблок мы ей дадим.
— Какое из яблок?..
— Да, Гретель. Одно из них убьет ее, другое — вернет в отчий дом, к любящему отцу. И все зависит от того, какое из яблочек мы выберем. У нас на руках два контракта, которые противоречат друг другу. Выполнить их оба мы не можем. Значит, надо делать выбор. Жизнь или смерть. Все просто. Два варианта.
— Да, — ответила она, явно его не слыша. — Два.
— Если подумать, есть и третий. Мы можем рассказать все королю-отцу. Только этот вариант отчего-то кажется мне еще хуже первых двух. Во-первых, он может попросту нам не поверить и приказать снять с нас шкуру — просто для защиты репутации своей любимой супруги. Я слышал, у королей это дело обычное. Ну а если и поверит… Кажется, у нее немало сторонников при дворе, да и позиции в королевстве сильны. Под носом у короля она умудряется делать что заблагорассудится. Что, если это выльется из дворцовой интриги в настоящую войну? Мне не улыбается оказаться посреди гражданской войны, сестрица.
— Геномагия — тоже война, — рассеянно ответила она, едва ли уловив смысл сказанного. — Война хромосом. Каждая хромосома — это солдат в невидимой войне, которая ежесекундно бушует в каждом из нас. Некоторые хромосомы могут выжить и передать информацию, другие пропадают без следа, как тела павших на поле боя…
Но сейчас у Гензеля не было настроения выслушивать подобные пассажи. Неподходящие для философствования обстоятельства.
— Ну а третий вариант можно назвать дважды плохим, — сказал он. — Король с королевой выясняют свои отношения за закрытыми дворцовыми дверьми и сохраняют мир. Ну а потом королева посылает за нами наемных убийц — за раскрытие ее маленькой тайны. Одним словом, во дворце нам ждать нечего.
— На всякий случай я проведу анализ каждого из яблок.
— Вздумала резать их?
Гретель досадливо дернула головой. Непонятливость старшего брата иногда явственно раздражала ее.
— Не резать. Мне хватит и микроскопической крошки от каждого из них. Хочу посмотреть, чего насовали в них королевские геноинженеры.
— Не доверяешь словам их величеств?
— Хочу убедиться своими глазами. Мой полевой набор не может провести детального анализа, к сожалению. Я смогу лишь немного копнуть, сделать самые простейшие проверки. Как знать, вдруг удастся узнать что-то интересное?
— Удастся или нет, а нам надо сделать выбор. Если завтра на рассвете мы не приступим к поискам принцессы…
— Ты хочешь сделать выбор уже сейчас?
Яблоки лежали на прежнем месте, никуда не делись. Гензель взглянул на них с отвращением. Два подарка для принцессы…
— Нам надо решить, — твердо сказал он. — Это тяжело, но нам придется это сделать. Выбрать сторону. Выбрать яблоко, которое мы ей отдадим.
— А что ты сам думаешь, братец?
Ну вот, он хотел заставить Гретель дать ответ, а теперь самому придется выкарабкиваться. Сделать выбор.
«Иногда мы делаем выбор мгновенно, — подумал он, глядя на проклятые плоды, спокойно расположившиеся рядом друг с другом. — То есть нам кажется, что мгновенно. На самом деле это происходит не сразу. Выбор долго растет в нас, как яблочко на ветке. Созревает, наливается убеждением, покрывается листиками внутреннего обоснования…»
— Жизнь, — сказал он убежденно. — Дадим ей яблоко отца. Пусть девчонка вернется домой.
— Ты жалеешь ее, хоть никогда и не видел?
Гензель вспомнил крохотное личико девчонки в королевском зеркале. Смешливое, хоть и не блещущее красотой лицо. Внимательные серые глаза. Симпатичная, в общем, девчушка. Не унаследовала родительских достоинств, но что-то в ней явно было. Может, обычная детская естественность?.. На том изображении принцесса Бланко была юна, одиннадцати лет. Что в таком возрасте знают про геномагию? Про королевские интриги и престолонаследование? Про глупые человеческие инстинкты, которые вечно ведут его к пропасти?.. Ничего, надо думать, не знают. Вот оттого-то глаза у той Бланко были такими смешливыми и ясными, без затаенного беспокойства, как глаза большей части взрослых. Она еще многого не знала. Если она еще жива — если! — эти глаза, должно быть, взирают на мир с совсем иным выражением…
Но Гретель определенно ждала от него более осмысленного объяснения.
— Она не виновата, — через силу сказал он, понимая, как жалко и неубедительно это звучит. Особенно когда на тебя прозрачными глазами бесстрастно взирает геноведьма, воплощение ледяной объективности, почти потерявшее человеческую форму. — Не вина Бланко, что ее кровь оказалась на сотую долю чище, чем у ее мачехи.
— Вина — исключительно субъективное понятие, — мгновенно отреагировала Гретель. — Не имеющее смысла в отрыве от умозрительных социальных конструкций. Хромосомы, которые пропадают, не в силах передать заключенную в них информацию, тоже ни в чем не виноваты — они такими были созданы. Отмирающие клетки никому не причиняли зла. И бессмысленно искать виновных среди ретровирусов и бактерий. Мы должны сделать объективный выбор, братец. Тот, который наилучшим образом скажется на нашем с тобой будущем. Так давай будем учитывать лишь необходимые для этого факторы.
Гензель ощутил, как что-то нехорошее закопошилось в животе. Как червячок в яблоке, беспокойный и скользкий.
— Даже если мы ее найдем… Я не смогу дать ребенку яд, сестрица.
— Она давно не ребенок. Ей семнадцать. Мы с тобой были куда моложе, когда оказались в Железном лесу. И когда убили геноведьму, собиравшуюся нас сожрать.
— Не суть важно. Нельзя отравить доверившегося тебе человека!
— Почему? — спросила Гретель. В ее голосе Гензелю послышалось вполне искреннее любопытство. От которого копошение в его собственном животе сделалось еще более неприятным.
— Я не смогу этого сделать, — произнес он тихо, разглядывая грязный, заляпанный соусом стол. — Не смогу дать ей отравленное яблоко. Можешь сказать, что это слабость моей человеческой природы. Слепота моих инстинктов. Плевать.
— Тебе не обязательно давать ей яблоко, — так же тихо сказала Гретель. — Я могу сделать это сама. Не все ли равно кто?
Он взглянул на нее так, точно впервые увидел.
Бесстрастное изваяние, замершее за приборами. Равнодушный взгляд мерцающих глаз. Сложные, непонятные, даже жуткие глаза. Они притягивают взгляд своим загадочным мерцанием, отсутствием цвета, но, как только присмотришься, инстинктивно хочется отвернуться. Потому что в этих глазах — пустота. Вечно спокойная, вечно чего-то ждущая пустота. А всякому человеку свойственно бояться истинной пустоты.
— Значит, ты…
Гретель легко коснулась бледным пальцем румяного яблока.
— Яд.
— Почему?
— Мой выбор легко объясним. Он объективен, логичен и при этом базируется на наших истинных биологических потребностях, а не фантазиях, психических комплексах и допущениях. Если мы сохраним принцессе жизнь, нас уничтожат слуги мачехи. Ты прекрасно об этом знаешь. В ее руках куда больше власти, чем в старых руках Тревирануса. И она ею воспользуется, если мы обманем ее ожидания.
— Король тоже не поскупится на чаевые палачу.
— С поддержкой королевы Лит мы без труда покинем королевство. И больше никогда сюда не вернемся. И не забывай про деньги.
— Золото? — спросил он, стараясь вложить в это единственное слово всю скопившуюся презрительность, едкую, как пчелиный яд. — Ты, великая геноведьма, кичащаяся своей несхожестью с примитивным человеческим родом, позволила купить себя за золото?
Разумеется, она не смутилась. Она забыла эту способность, отбросила, как отбросила в свое время множество других, бесполезных, нелепых, жалких, безосновательных и нелогичных. Проблема была в том, что все они когда-то составляли единое целое живое существо. То, что возникло на его месте, носило имя Гретель, но было совсем другим. Отрешенным, холодным и равнодушным. Иногда — загадочным. И еще реже, как в такой момент, пугающим.
— Золото — металл, — отозвалась Гретель, аккуратно собирая свою аппаратуру и бережно пряча в контейнер. — Ничем не лучше иных элементов. Я вижу не только его химические свойства, но и те возможности, которые оно может нам дать. Это объективные обстоятельства, братец. Возможность жить, не перебиваясь случайными контрактами. Возможность есть нормальную пищу. Дышать полноценным воздухом. Это возможности, которые дает золото. И я была бы неадекватной, если бы их не ценила…
— Ты не всегда была такой, — медленно сказал Гензель, глядя на нее с ужасом и удивлением. — Я же помню. Ты была человеком. А кем ты стала?..
В глазах Гретель что-то переменилось. Точно в этих прозрачных сферах, взирающих на человечество с равнодушием холодных газовых гигантов, на миг зажегся огонек. Но что это был за огонек? Сочувствие? Досада? Растерянность?
Иногда Гензелю казалось, что он совершенно не знает своей сестры.
— Я стала ученым, — тихо, но уверенно сказала Гретель. — А ты никогда не поймешь, братец, что это значит.
— Это значит — убивать без эмоций?
— Нет! — Она чуть рукой по столу не хлопнула — знать, проснулось и в ней что-то человеческое. Но все-таки не хлопнула. — Это значит — делать взвешенный вывод. Быть трезвым и объективным наблюдателем. Если я, препарируя хромосомы, начну думать, что они чувствуют при этом и какая хромосома достойна жить, на выходе у меня получится генетический кошмар. Который убьет того человека, которому я пыталась помочь. Мы не вправе делать выбор, руководствуясь лишь примитивным сочувствием. Мне жаль эту девушку, хоть я никогда ее не знала. Мне не хочется лишать ее жизни. Но я знаю, что ее смерть принесет нам пользу. Это — данность. Я всего лишь делаю обоснованный вывод.
— Как беспристрастный ученый, — с горечью сказал Гензель. — Как геномастер.
— Да, братец. Как геноведьма.
Хотелось что-то сказать, но слов не нашлось. Закончились. Гензель покосился на ждущие своего часа яблоки, которые вдруг показались ему снаряженными и готовыми ко взрыву гранатами.
— Ладно. — Он стиснул зубы. — Так мы ни до чего не договоримся, а время между тем идет. С утра надо приступать к поискам. Шансы и так призрачны, а если мы станем тянуть… Я предлагаю тебе уговор, сестрица.
В этот раз удивление в ее глазах было самым настоящим.
— Уговор?..
— Помнишь, в детстве мы иной раз заключали уговоры? Священный и нерушимый пакт между братом и сестрой.
— Когда-то мы заключили уговор, что будем держаться друг друга, когда отец отведет нас в лес.
— Да. Это был хороший уговор. Теперь мы заключим еще один.
— В чем его суть?
— Нас двое. И тут два яблока. Каждый из нас может взять то, что его устраивает, и дать принцессе. Но мы не станем так делать. Ни один из нас не предложит ей яблока, пока мы сообща не решим, что именно ей давать. Ни один из нас не решит за обоих. Если мы дадим ей яблоко, это будет нашим взаимным решением.
Он говорил медленно и отчетливо, загибая пальцы. Точно объяснял младшей сестре правила непривычной игры. Возможно, так оно отчасти и было. Возможно, многое из того, что прежде казалось Гретель естественным и очевидным, теперь в ее глазах выглядело путаными правилами какой-то игры. Одной из тех загадочных и бессмысленных игр, в которые с такой охотой играют люди.
И Гензель мысленно вздохнул с облегчением, когда Гретель протянула ему узкую бледную ладонь.
— Уговор, братец. Если она получит яблоко, то только от нас обоих.
— Идет. А теперь давай отправляться ко сну. С самого утра приступим к делу.
— Ты знаешь, с чего начинать?
— Есть одна мысль. Не уверен, что мне она нравится, но это единственное, что приходит в голову. Но такие вещи лучше обсуждать на свежую голову.
— Верно, — согласилась Гретель, укладываясь, не снимая верхней одежды, в скрипучую койку. — Завтра и начнем.
«Действительно, — подумал Гензель и стал расстилать на своей кровати ветхие несвежие простыни, от которых разило карболкой. — Только мы с тобой, сестрица, кажется, начали еще много лет назад…»
Пробуждение было странным.
Гензель открыл глаза. Легко — как будто и не спал вовсе. Он не мог понять, отчего проснулся, внутренний хронометр подсказывал ему, что на дворе стоит глубокая ночь. Скрипит внизу угомонившийся наконец постоялый двор, ворчат уставшими псами в своих комнатушках постояльцы, шипит остывающий камин…
Спал он обычно крепко, просыпаться среди ночи было не в его привычке. Клопы, что ли, заели? Но нет, тело вроде бы не жалуется.
Комнатушка была залита светом, неярким, немного мерцающим, как отблеск пылающего факела на полированной латунной пластине. Гензель удивленно заморгал, пытаясь сообразить, что происходит. Ночь-то безлунная, это он точно помнил. И плошку с жиром он перед сном погасил. Так откуда же свет?..
А потом от неожиданности едва не слетел с жесткой кровати. В комнате они с Гретель были не одни.
На единственном грубо сколоченном стуле посреди комнаты сидел человек.
Человек?
Гензель захотел сглотнуть ставшую вдруг очень густой слюну, но только бессильно задергался кадык.
Это не мог быть человек. Должно быть, это была статуя, но такая, каких Гензелю видеть никогда не доводилось. Она, кажется, была отлита из чистого звездного света, из небесного золота. Но не из того холодного блестящего металла, из которого чеканят монеты, а из какого-то совершенно особенного живого золота, чей свет мягко переливался, образуя на поверхности плывущие узоры невероятных контуров.
А еще статуя была совершенной. Гензелю приходилось видеть старинные гравюры и искусные картины, на которых было изображено человеческое тело таким, каким оно было до эпохи генетических потрясений, с почти идеальными пропорциями и чертами. По сравнению с таинственной статуей те изображения показались бы мазней ребенка, ничего не понимающего в прекрасном.
Идеальное сложение, такое, которого не добиться ни лучшему на свете скульптору, ни самому могущественному геномагу. Тело было обнажено, оттого можно было рассмотреть каждую складку на нем, каждую мельчайшую деталь, и рассеянное свечение, исходящее от статуи, позволяло сделать это даже в темноте. Ни единого грамма жировой ткани. Мощные мышцы, однако идеально гармонирующие друг с другом, мышцы не атлета, но молодого божества. Идеальным было и лицо. Раз взглянув на него, Гензель почувствовал, что не может оторвать взгляда — примагнитило. Не бывает столь прекрасных лиц. Не существует. Если бы Гензелю пришлось его описывать, он не смог бы отыскать ни единого слова — слова здесь были бессильны.
А потом статуя шевельнулась. И вдруг оказалось, что это не статуя, а обнаженный человек сидит на стуле в их комнате. И кожа у него не золотая, а самая обычная, человеческая, хоть и излучает слабое свечение. Но даже в таком облике человек оставался идеален.
Все, что только существует в человеке, в этом теле было доведено до своей наивысшей точки, до предела, до невозможности. Произведение искусства, которому кто-то из прихоти придал человекообразную форму. А еще ему показалось, что даже воздух вокруг фигуры тихонько гудит, как под напряжением.
Морок. Сон.
Гензель машинально приложил руку ко лбу, тот был мокрым от пота. И пот этот стал ледяным, когда пришелец взглянул на него. Глаза были мерцающими, лучистыми, немного насмешливыми.
— Пожалуйста, примите извинения за поздний визит. Насколько я помню, у вас считается неприличным навещать кого-то после заката. К сожалению, иной возможности у меня не было. Днем здесь толпится удивительно много людей…
Выдавить из легких хотя бы слово оказалось так же трудно, как из пустого меха воду. Гензель что-то нечленораздельно пробормотал. Возле кровати стоял мушкет. Возможно, ему удастся протянуть руку — и всадить в это наваждение все три пули… Но эту идею он отбросил, даже толком ее не рассмотрев. Несмотря на то что обнаженный незнакомец восседал на стуле неподвижно и даже как будто весьма расслабленно, Гензель отчего-то понял, что двигается тот со скоростью, с которой не способны соревноваться человеческие рефлексы и мышечные волокна. Скорее ему удалось бы всадить пулю в короткую летнюю молнию.
— Не надо, братец.
— Что?
Гретель уже сидела в своей постели. Сна ни в одном глазу, такое ощущение, будто и не ложилась спать. Она всегда просыпалась мгновенно, точно ее разум просто включался нажатием кнопки, а не искал пути к телу из мира сновидений.
— Тебе не нужен мушкет, братец.
— Это…
— Все в порядке. Он не причинит вреда.
Ну конечно же ведьма. В то время как он кровать чуть не обмочил…
Только тогда Гензель вдруг понял, что опасности в воздухе нет и им ничто не угрожает, он позволил себе расслабиться, забыть про оружие. И теперь ощутил, как было напряжено его тело: сухожилия аж звенели от натуги.
— Мне пришлось выбрать не самый обычный способ для нанесения визита. — Голос у гостя был тягучим, низким, удивительно приятного тембра. — Надеюсь, не испугал вас.
Только тут до Гензеля дошло взглянуть на дверь. Ну конечно, заперта изнутри на засов. Он сам же вечером и запирал. Окон в комнате не было — откуда им взяться на захудалом постоялом дворе? И все же человек сидел посреди комнаты, улыбаясь им обоим удивительно мягкой, хоть и печальной, улыбкой. Одна лишь эта улыбка рождала в груди Гензеля столько чувств, будто там располагалась целая арфа с множеством струн, и все они вдруг начали едва заметно вибрировать. Это было противоестественно. Это было странно. Это было пугающе. И ему пришлось смириться с тем, что все это происходит на самом деле.
— Вы не напугали нас, — сказала Гретель спокойно.
Сняв на ночь лишь дублет, ко сну она отправилась прямо в рубахе и не боялась предстать перед ночным гостем нагишом. Лишь затянула шнуровку на груди — дань не приличиям, а лишь царящей в каморке ночной прохладе.
— Это хорошо. Многие, увидев меня, впадают в ужас. Или лишаются чувств.
— Многие?..
Золотой человек одобрительно кивнул ей.
— Считайте, что поймали меня на слове, Гретель. На самом деле очень немногие видели меня. Я здесь не частый гость. Вы ведь уже догадались, кто я, не правда ли?
— Вы — альв, — сказала Гретель как нечто само собой разумеющееся.
— Альвов не существует, — выдавил из себя Гензель. — Это доказано. Альвы — выдумка.
Золотой человек развел руками. Грация движений гипнотизировала, завораживала. Молекулы его тела словно плыли в воздухе по невидимым силовым лучам.
— Неужели? А кем доказано?
— Ц-церковью…
— Ах, Церковью… Тогда, конечно, я выдумка, — легко согласился незнакомец. — Возможно, я иллюзия или галлюцинация. Не хотите ли попробовать скрутить пальцами фигуру спирали и именем Человечества, Извечного и Всеблагого, приказать мне убираться обратно в ад?..
Захотелось отвесить самому себе оплеуху, чтобы проснуться. Но это выглядело бы глупо. Гензель ограничился тем, что натянул на ноги снятые перед сном шоссы. И мир вдруг как-то сразу стал более привычным. По крайней мере, пропало желание воспринимать все происходящее как чудной и дикий сон.
Все это было жутким, невозможным, необъяснимым, но, увы, совершенно реальным.
— Церковь никогда нас не жаловала, — заметил несуществующий альв, непринужденно забрасывая ногу на ногу. — А ведь мы могли стать ее архангелами и святыми. Вы, наверно, сможете оценить парадокс.
Гретель отчего-то негромко фыркнула. Видимо, смогла. Гензелю же оставалось лишь глупо пялиться на незваного гостя, по-хозяйски усевшегося посреди комнаты.
— Святость человеческого генокода, подумать только. — Альв покачал златокудрой головой. — В сущности, что это, если не нитка, натянутая посреди бездонной пропасти? Достаточно сделать полшага по любую ее сторону — и готово: священники проклинают тебя с амвона, а при встрече норовят осенить знамением Двойной Спирали. А ведь если разобраться, я куда ближе к тому, что они считают идеалом, чем они сами. Разве не вселенская ирония?
Альв разглагольствовал с самым непринужденным видом, так, словно сидел в трактире с кружкой мутного гидропонного пива в руке. Он выглядел обаятельным и добродушным, и сам воздух вокруг него, казалось, теплел, вбирая излучение золоченого тела.
— Парадокс красавицы и чудовища, — произнесла Гретель, украдкой зевая. — Есть предел, за которым красота начинает казаться неестественной и, в конце концов, пугающей.
— Верно, — легко согласился альв. — Вот почему в ваших историях так часто встречаются красавица и чудовище как извечные антитезы и лирические персонажи. Ах, классическая диалектика, сейчас про нее забывают даже отцы Церкви!.. А ведь это, если разобраться, всего лишь две стороны одной монеты. Любое чудовище может быть красавицей, как верно и обратное — нет такой красавицы, которая бы не была отчасти и чудовищем.
«Он умен, — подумал Гензель, отчаянно пытаясь оторвать взгляд от золоченой фигуры. — И определенно опасен. Но Гретель, похоже, совершенно не переживает. Надеюсь, у нее есть на то основания…»
Копошилась на дне сознания еще одна неприятная мысль — окажись сейчас в комнатушке его величество Тревиранус Первый, король Лаленбурга, на фоне распространяющего живое сияние гостя он выглядел бы уродливым стариком.
Альв не был человеком, он был чем-то совершенно противоположным человеку, но в знакомой оболочке. Словно кто-то взял сверхновую, сжал ее и вылил в человекоподобную форму. И в этой форме, подумалось Гензелю, тот выглядел воплощенной иронией над самим Человечеством.
— Я не сильна в церковной риторике, — заметила Гретель. — Мой брат более сведущ в этой части.
Альв добродушно рассмеялся.
— Однажды, когда меня увидел архиепископ Вальтербургский, его разбил инсульт. Кажется, мозг оставался единственной его органической частью, которую он не успел заменить. С тех пор я стараюсь не вести бесед на столь серьезные темы. И явился я сюда не за этим.
Альв еще улыбался, но Гензель вдруг ощутил, что настроение гостя переменилось. Стало серьезнее. Это отозвалось во всем, что его окружало. Будто изменилось напряжение тока, пронизывающего воздух в комнате.
— А для чего вы явились? — спросил он через силу.
— Думаю, вы уже все поняли. Квартероны всегда сообразительны и практичны, вот за что я люблю гибридные виды. Это мне в вас всегда нравится. Скажем так, я присутствую здесь как частное лицо. И желаю заключить с вами контракт. Вас ведь это не смущает?
— Нет, — сказала Гретель спокойно, точно каждый день заключала контракты с существами из жидкого золота. — В чем его суть?
— Мне кажется, вы и так знаете.
— Принцесса, — тихо сказала Гретель.
— Принцесса, — согласился альв.
Гензель почувствовал неприятное головокружение, как если бы постоялый двор обернулся кораблем, переваливающимся меж огромных волн.
— Мы временно прекратили работу в Лаленбурге! — твердо сказал он, хоть твердость эта под взглядом альва норовила сделаться жидкой и стечь, как расплавленная медь. — Ведь правда, сестрица?
Гретель промолчала, словно и не услышала вопроса.
— Думаю, вы заинтересованы в моем контракте. — Улыбка альва осветила даже самые темные закутки комнаты. — Тем более что вы, так или иначе, уже отчасти с ним связаны. Скажем так, он касается одной уже известной вам особы.
— Принцесса Бланко, — утвердительно произнес Гензель. Сам не заметил, как эти слова сорвались с его губ. Должно быть, какое-то воздействие излучения альва…
— Вы совершенно правы, сударь квартерон. Приятно говорить с тем, кто понимает тебя с полуслова.
— Почему мы? — требовательно спросила Гретель.
— Какая разница? — легкомысленно отозвался альв.
— Почему сейчас?
— А почему бы и нет?
— Откуда вы узнали про то, что нас наняли?
— Не все ли равно?
Он точно подыгрывал ей на золотой скрипке, одновременно насмехаясь и ободряя. Наверно, требуется иметь вольфрамовые нервы, чтобы вести беседу с подобным существом. Поэтому Гензель даже не стал пытаться влезть в их разговор. Только зачарованно слушал.
— Чего вы хотите от нас?
— Наконец вы нашли верный вопрос, Гретель. — От улыбки альва могла выгореть сетчатка в глазах. — Мне не требуется ничего… особенного. Найдите принцессу.
— Она жива?
— Какая разница?
— Где она?
— Где-то. Или нигде.
— Вы можете ее найти?
— Иногда я даже сам не знаю, что могу.
— Зачем вам принцесса?
— Второй верный вопрос. — Альв удовлетворенно кивнул, перестав откровенно забавляться. — Скажем так, я хочу, чтобы вы ей кое-что передали. От меня. Своего рода гостинец. Подарок.
Гензель прищурился, стараясь отсечь ресницами хотя бы часть спектра этого проклятого золотого излучения. Во всех историях, что ему приходилось слышать, подарок альва никогда не был просто подарком. И тем, кто опрометчиво его принимал, зачастую приходилось сыграть в кости с судьбой. Иногда подарок оборачивался смертоносным проклятием, иногда — благословенным даром. Или же представлял собой какую-нибудь шутку, смысл которой не всегда был понятен человеку. Если верить историям, альвы были теми еще шутниками. Только с чувством юмора, отличным от человеческого на многие десятки хромосом…
— Что это за подарок? — спросила Гретель.
В ее голосе не было настороженности, лишь обычная отстраненность. Но Гензель знал, что вопрос не был праздным. В подобных делах геноведьма никогда не отличалась легкомыслием. Напротив, Гензель был уверен, что мысль о подарке альва заставила сестру внутренне напрячься еще сильнее, чем его самого.
— О, ничего особенного. — Альв помахал рукой перед лицом. Удивительно, у него, как и у людей, на руках было по пять пальцев. — Просто… один препарат. Необходимо, чтобы принцесса Бланко приняла его. Ввела в организм, как принято у вас выражаться. По доброй воле или нет, мне безразлично — этот момент не имеет значения для нашего контракта.
Эти слова — «нашего контракта» — резанули Гензеля, как горгульи когти. Альв говорил так, будто контракт этот и в самом деле был уже заключен. Возможно, так оно и было. Возможно, контракт был заключен еще до того, как Гензель понял, что происходит. Трудно, это понять, когда имеешь дело с альвом.
— Какое действие у этого… препарата? — напрямую спросила Гретель. — Что произойдет с принцессой после того, как она его введет?
Альв грациозно развел руками.
— Все что угодно.
— Мы должны выполнять контракт, не зная даже его условий?
— Это основное условие контракта — не знать условий. Контракт, условия которого известны, скучен, как единожды прочитанная книга. Так гораздо интереснее, разве не так?
Гензель пожалел, что не дотянулся до мушкета, когда была возможность. Ему казалось, что альв насмехается над ними. Да так оно, в сущности, и было. Нарочно явился из своего небесного царства, чтоб всласть поиздеваться над парочкой квартеронов, упиваясь собственным превосходством.
— Вам нужно, чтоб мы с Гензелем нашли принцессу и ввели ей неизвестное вещество?
— Да, — легко согласился альв. — В этом и заключается контракт. Все остальные подробности не представляют интереса.
— Мне надо знать хотя бы что-то, чтобы взяться за контракт, — твердо сказала Гретель. — Работая вслепую, многого не добиться.
— Именно вслепую работать интереснее всего, — легкомысленно заметил альв, откровенно ухмыляясь. — Не так отвлекают источники света.
— Ответьте хотя бы на один вопрос. Иначе я не приму контракта. Это мое право.
Альв задумался. Потер пальцем идеально очерченный подбородок. Не было никакой возможности понять, о чем он думает и какие чувства испытывает. Все человеческое, что осталось в нем, роднило его с Гензелем и Гретель не больше, чем пыль на подошвах. Он давно уже не был человеком, хотя старательно копировал человеческие жесты, мимику и интонации. Это существо было чем-то большим, чем человек. Чем-то совершенно иным. И столь же далеким, как звезды в ночном небе далеки от поверхности земли, хоть их свет и падает на нее.
— Ну что ж, — наконец сказал альв, — пусть будет один вопрос. Думаю, это вполне справедливое требование.
У Гензеля вопросов было множество. Почему альв явился именно к ним? Жива ли принцесса, а если да, то где находится? Ее похитили или она сбежала сама? Что за препарат надо ей ввести? Что случится после того, как они это сделают? Какое отношение к этому имеют альвы? Что случится, если они с Гретель не смогут выполнить контракта?
Но он предусмотрительно промолчал. Подобный разговор лучше доверить Гретель. Ее трезвый мозг найдет нужный вопрос.
— Отчего именно принцесса Бланко?
Гензель чуть не застонал. Почему из всех возможных вопросов Гретель выбрала наименее полезный?..
Но альв удовлетворенно кивнул геноведьме, как бы одобряя молчаливо ее выбор.
— Принцесса Бланко представляет для нас своеобразный интерес.
— Вас — альвов?
— Нас — альвов, — вибрирующим эхом отозвался собеседник. — Она особенная.
— Чего в ней особенного?
— Извините, Гретель, но ваш пытливый ум порождает слишком много вопросов.
— Больше, чем у вас есть ответов?
— Нет. — Альв мгновенно стал серьезным. — Больше, чем вам необходимо знать.
— Дело ведь в ее генетическом материале? Чем он ценен?
Альв вздохнул.
— Слишком много вопросов. Это не по условиям контракта.
— Хорошо. — Плечи Гретель опустились на полдюйма. Кажется, она наконец смирилась с тем, что альва ей не переиграть. Не на его ноле. — Где этот препарат, который надо ввести принцессе?
— Здесь. — Альв протянул ей пустую, издающую завораживающее свечение ладонь.
— В какой он форме?
— В любой, которая вас удовлетворит. Что вы предпочитаете? Жидкость? Газ? Может, мазь?
Гретель задумалась. И, увидев на ее лице скользнувшую лунным призраком улыбку, Гензель в миг сообразил, что ответит геноведьма. И успел об этом пожалеть.
— Яблоко, — сказала Гретель. — Вы можете сделать его в форме яблока?
— Конечно, — легко сказал альв. — Это совершенный пустяк.
Его ладонь, обращенная к геноведьме, оставалась пуста. Идеальные пальцы, каких не бывает у человека, все ровные, крепкие, по-мужски изящные. И Гензель ничуть не удивился, когда над этой ладонью в воздухе вдруг возникло слабое свечение.
Оно делалось все более концентрированным и ярким. Короткая вспышка — Гензель автоматически прикрыл глаза, — и оно растаяло. На ладони альва осталось лежать яблоко.
Необычное яблоко. Оно было равномерно-золотистым, но от этого отчего-то не выглядело менее съедобным. Словно кто-то окунул самое обычное яблоко в раствор из расплавленных звезд. Таких яблок не было в Лаленбурге и, если на то пошло, вообще нигде не было. Такое яблоко не могло вызреть на обычном дереве, разве что в безмолвной космической ночи.
Яблоко легко упало в ладонь Гретель.
— Вы не спросили про цену, — усмехнулся альв, поднимаясь со стула. — Но это как раз самый простой вопрос.
— Какова цена?
— Цена соответствует контракту. — В этот раз даже Гензель не смог понять, чего в улыбке альва было больше — насмешки или сочувствия. — Вы останетесь довольны.
— И все же я привыкла работать с известными величинами.
— Очень по-человечески. Что ж, вы вправе знать, что получаете. Цена этого контракта — ваше желание, Гретель. Любое ваше желание.
Гензелю вдруг показалось, что в комнате удивительно душно, точно отсутствие окон сказалось только сейчас. Прозрачные глаза Гретель висели в полумраке двумя сферами, горящими жидким неярким огнем. Они даже не моргнули.
— Любое мое желание? — переспросила она ровным голосом.
Альв кивнул с серьезным видом.
— Ограничения есть, но они весьма несущественны. Ну как? Я же говорил, что мое предложение покажется вам интересным.
Гретель молча перекатывала золотое яблоко из одной руки в другую. Как будто оно было раскалено и жгло кожу.
— Наверно, это самый необычный контракт за всю мою практику, — произнесла она. — И, откровенно говоря, я не понимаю его смысла. Вы легко нашли нас с братом. Вы знаете о всех наших прочих контрактах. Вы многое знаете о самой принцессе Бланко. То, как вы управляетесь с пространством и материей, говорит о том, что вы сами могли бы куда быстрее найти пропавшую девушку, где бы она ни скрывалась. Так зачем вам нужна геноведьма?
Альв молча разглядывал Гретель, и в этот раз его лицо было пусто — всякое подобие выражения ушло с него, даже насмешливость.
— В мире должна оставаться загадка, — сказал он. — Разве не так? Вы ищете разгадки геномагии, задавая вопросы, которые нам, альвам, кажутся смехотворными и детскими. А если вопрос зададим мы, вы, скорее всего, его даже не поймете. Некоторые вопросы существуют не для того, чтобы получать на них ответы. Они просто есть. Этот вопрос пусть лучше останется с вами. Прощайте.
Гензель думал, что альв просто исчезнет, как это бывает в сказках. Раз — и нету. Но тот стал медленно таять, словно растворяясь в воздухе. Свечение, которое окутывало его прежде, стало размытым, потеряло форму, начало тускнеть. Альв как будто превратился в облако медленно оседающей золотистой пыльцы. Гензель на всякий случай поморгал, но заработал лишь резь под веками. Альва больше не было в комнате.
Гретель задумчиво разглядывала золотое яблоко, которое осталось после исчезновения таинственного гостя, более того, выглядело совершенно вещественным.
— Превосходный день, — констатировал Гензель, чувствуя себя безмерно уставшим, выпотрошенным и обессилевшим. — А теперь я все-таки попытаюсь уснуть. Сестрица, если этой ночью у нас будут еще гости, будь добра, попроси их складывать яблоки сразу в котомку…
Город они покинули лишь к полудню следующего дня.
Гензель предпочел бы выйти с рассветом, но он понимал, что путь их, скорее всего, ждет неблизкий, а значит, надо своевременно подготовиться ко всем возможным неприятностям. Людей, покидающих город накануне зимы, несомненно, ждет в пути множество неприятностей. Но хотя бы некоторые из них можно предусмотреть.
Первым делом он купил лошадь.
В этом году цены на лошадей в Лаленбурге значительно упали, так что это приобретение не так сильно ударило по кошелю, как он опасался. Лошадь была старой, видавшей виды клячей, но достаточно бодрой, хоть и подволакивающей ногу. Гензель, не располагая богатой фантазией по части лошадиных кличек, нарек ее Хромой. Впрочем, Гретель почти сразу же окрестила ее Хромонёмой, что, на взгляд Гензеля, было безвкусно и отдавало чем-то геномагическим. Впрочем, спорить он не стал — слишком мало оставалось времени.
Гензель весьма посредственно разбирался в лошадях, но перед покупкой сделал все то, что обыкновенно делают торгующие лошадьми рыночные барышники, — осмотрел все пять пар ног (хромой оказалась только одна), придирчиво заглянул в пасть и даже ощупал лошадиные рога. Не скакун из королевских конюшен, конечно, но хватит, чтобы тащить припасы, а большего и не требуется.
Припасов оказалось с избытком. Сушеное и вяленое мясо, запаянные контейнеры с белковыми смесями и микроэлементами, даже старые армейские консервы. Помимо того, пришлось запасти обеззараживающие таблетки для воды, сухое горючее, несколько ампул с эфедрином и кофеином, лекарства…
Траты оказались весомыми. Гензель рассчитывал, что в Лаленбурге они сумеют за зиму подправить свое финансовое положение, но вместо этого вышло наоборот — его кошель пустел с пугающей скоростью. Под конец там осталось несколько жалобно звякающих медяков.
Были и другие заботы. Старый походный шатер пришлось подклеить и местами заштопать, обувь — подбить новыми гвоздями, а порох хорошенько высушить. Зато совесть чиста, и можно не волноваться из-за мелочей. Все эти заботы Гензель взял на себя — Гретель в подобных вещах ничего не понимала, да и куда ей…
— Яблоки, — сердито бормотал он, увязывая все припасы в тюки и водружая их на узкую костистую спину Хромонемы. — Куда ни плюнь, кругом яблоки… Еще немного, и я их возненавижу.
Гретель рассеянно наблюдала за сборами. Свой контейнер с инструментами она упаковала первым делом. Вот для того геноведьмам и нужны старшие братья, подумал Гензель, затягивая на лошади старую потрепанную сбрую. Если бы Гретель потребовалось пуститься в долгий путь, она бы и не подумала озаботиться всем необходимым. Одеждой, провиантом и всем прочим, без чего дальний переход — самоубийство. Так бы и пошла вперед, прихватив лишь контейнер со своими образцами. У всех геноведьм — ветер в голове. Совершенно не приспособлены к обычным жизненным трудностям. И скорее всего, даже не подозревают об их наличии.
— Ты взял много всего, братец. — Кажется, Гретель все-таки соизволила заглянуть в реальный мир, и обнаруженное там весьма ее удивило. — Нас ожидает долгий путь?
— Как знать… — хмыкнул он, не прекращая погрузки. — Не исключено, что до зимы не вернемся. А зима в здешних краях — не самая приятная штука. Особенно в горах.
— В горах? — не поняла Гретель.
— Да. По правде сказать, я бы предпочел дождаться весны, но едва ли у нас в запасе есть столько времени. Кроме того, я вздохну свободно, когда мы наконец окажемся за городскими стенами. Ей-богу, от этого вездесущего запаха яблок у меня болит голова.
— Почему мы идем в горы?
— А отчего бы и нет? — не без злорадства ответил Гензель. — Сестрица, у нас с тобой наберется столько вопросов, что, получи мы за каждый из них по медяку, — уже могли бы обзавестись собственным королевством. Кто был тот тип, что вломился в нашу комнату ночью? В чем его интерес? Откуда он вообще узнал про принцессу? Какие у него планы на нее? Что случится, если Бланко отведает третье яблоко? Кто похитил ее из дворца? Но тебя почему-то интересует самый никчемный из них — почему горы?..
— Перестань, — сказала она, хмуря гладкий, не знающий морщин лоб. — Не искушай меня превратить своего брата в лягушку.
— Валяй, — хмыкнул Гензель. — Я слышал, зачарованных лягушек очень любят молодые девицы. Так и норовят поцеловать, чтобы снять проклятие.
— Как и прежде, ты слишком доверяешь старым сказкам. Единственный заколдованный геночарами принц, которого я знала, награждал поцеловавших его лишь кишечными болезнями. Что, впрочем, не уменьшало количества желающих…
— У меня тоже накопилось много вопросов, сестрица. Только ты не спешишь дать на них ответ.
— Про альвов?
— Про альвов. — Гензель взгромоздил очередной походный тюк на круп беспокойно перебирающей ногами лошади и принялся затягивать ремни. — А еще про принцессу, про цвергов, про короля… Но в первую очередь про альвов.
— Я отвечу на любые твои вопросы, — серьезно сказала она. — Но только когда мы окажемся за стенами города, идет?
— Боишься посторонних ушей? — не без иронии поинтересовался он.
Но Гретель осталась серьезной.
— Ты даже не представляешь, братец, в каких только местах не растут в наше время уши… Так отчего горы?
Гензель закончил с ремнями и принялся умело упаковывать мушкет. Хороший хозяин никогда не позволит мушкету болтаться на плече промозглой осенью. Гензель заботливо спрятал его в чехол, стянул завязки, еще раз убедился, что пороховница надежно защищена от влаги и набита битком, а мешочек с пулями имеет должный вес. К сожалению, сейчас этот вес успокаивал его меньше, чем обычно.
— Цверги водятся в горах, — скупо ответил он. — Поэтому мы идем в горы.
Его ответ не удовлетворил Гретель. Упаковывая мушкет, он даже спиной чувствовал ее взгляд, устремленный в точку между его лопатками. Внимательный, спокойный, не выражающий никакого интереса взгляд геноведьмы.
— Цверги? Ты собираешься охотиться на цвергов, братец?
— Я бы начал охотиться на горгулий, но, к сожалению, чертовски не люблю высоты, — буркнул он. — Должно быть, тоже акулье наследство…
Но сбить с толку геноведьму не так-то просто.
— Почему цверги?
— Потому что это единственная ниточка, которая ведет к принцессе.
— А как насчет кровожадных великанов?
— Ты слишком много времени проводишь с людьми, — проворчал Гензель, затягивая подпругу на Хроме. — Мне даже показалось, что я слышу сарказм.
— Цверги не могли похитить принцессу из ее покоев, — ровным тоном произнесла Гретель. — Цверги — примитивные плотоядные хищники, действующие сообразно своим собственным, и весьма условным, инстинктам. Довелись им встретить где-нибудь принцессу, они просто разорвали бы ее на части и утащили в свои норы. Проникнуть во дворец и похитить принцессу… Извини, братец, нет. Это им не по силам.
— Я слышал истории о весьма сообразительных цвергах, — не сдавался Гензель.
— А я слышала историю про излучающую тепло птицу, которая воровала у короля золотые яблоки, — с явственной насмешкой сказала Гретель. — Причем, если мне не изменяет память, именно от тебя.
И здесь яблоки… Гензель подавил желание сплюнуть на грязную лаленбургскую мостовую. Он раньше и не замечал, как часто яблоки фигурируют в сказочных историях.
— Они могли быть неголодны, — неуверенно предположил он. — К примеру, принцесса прогуливалась по саду, нюхала цветы, а они подобрались к дворцу, перескочили через ограду и…
— Похитили ее? Едва ли, братец. Цверги — простейшие биологические механизмы. Крайне простые, но, к сожалению, совершенно неконтролируемые. Они не умеют планировать действий, не умеют продумывать наперед, не умеют сознавать причинно-следственную связь. Единственное, что они умеют, — это убивать и пожирать свою добычу.
— Я слышал, особо они жалуют человечину, — криво усмехнулся Гензель. — Или врут?
Иметь дело с цвергами ему еще не приходилось. Те не особо жаловали оживленные тракты и окрестности больших городов. Беспощадно изничтожаемые егерями и охотниками, остатки их поголовья с годами все дальше уходили в глушь, находя пристанище в безлюдных горах. Когда-то Гензель даже полагал, что цвергов вовсе не существует, а рассказы об их нашествиях — не более чем выдумки строгих родителей, рассказываемые исключительно с целью напугать непослушных детей. До тех пор, пока они с Гретель несколько лет назад собственными глазами не увидели стоящую на отшибе хижину в деревне, где перед тем похозяйничали цверги. С тех пор он настораживался всякий раз, когда слышал это слово.
— Не врут, братец, — неохотно сказала Гретель, помогая ему навьючить на хромоногую лошадь еще один тюк. — Цверги при возможности охотно закусывают человечьим мясом. Более того, по какой-то причине мы оказались на привилегированном положении в их пищевой цепочке. Человечину они предпочитают всякому другому мясу.
— Вероятно, в наших телах есть какие-то элементы, которые им жизненно необходимы? — предположил Гензель, мрачнея еще больше.
Геноведьма покачала головой.
— Нет. Их ненависть к человеку имеет под собой нечто более серьезное, чем обыкновенный голод. Зачастую они нападают даже тогда, когда сыты. Природа этой ненависти по-настоящему не изучена даже геномагами.
— Обычная месть. — Гензель осклабился. — Ничто не кажется слуге таким сладким, как кровь бывшего хозяина. Я слышал, когда-то они были нашими слугами.
— По крайней мере, здесь твои сказки не лгут… Да, есть подтверждения тому, что цверги много веков назад были созданы людьми. Геномастерами прошлых поколений. Еще тех времен, когда человечество не знало генетического вырождения и вовсю экспериментировало с геномагией, пытаясь создать расу покорных и выносливых слуг.
— Не очень-то хорошие получились слуги. — Гензель не удержался от усмешки.
— С точки зрения геномагии результат был вполне удовлетворителен. Цверги стали прекрасными исполнителями для тяжелых работ. Они не отличались высоким интеллектом, но при этом обладали выдающимися физическими показателями. Сила, выносливость, метаболизм, реакция… А еще — прекрасное зрение, слух, обоняние… Благодаря своим огромным лапам они прокапывали миллионы километров туннелей под землей, дробили камень, выполняли роли носильщиков, охранников, сторожевых псов и ищеек. Они успешно служили человечеству сотни лет.
— Опасно выводить слугу, который, будучи не в духе, может оторвать тебе голову…
— Геномаги прошлого это понимали. В цвергов была заложена защита. Неуничтожимая и более надежная, чем любая микросхема и любой поводок. Защита, вшитая непосредственно в их генокод. Они на генетическом уровне не могли проявить агрессии к человеку. Так уж были устроены.
— И ты еще спрашиваешь, отчего я не доверяю геномагии!
Лицо Гретель потемнело.
— Защита оказалась недостаточно надежной. Может, череда неконтролируемых мутаций воздействовала на цвергов, нарушив изначально заданную последовательность хромосом и порвав невидимую цепь. А может, это с нами самими что-то произошло… Как бы то ни было, около двухсот лет назад контроль над цвергами оказался утрачен. Они бежали из городов и с тех пор исполнились к человеку самой искренней злобы.
— Если верить тому, что я слышал, это не просто злоба, это нечто большее. — Гензель принялся навьючивать на Хромонему фляги с водой. — Они до сих пор нападают на окраинные поселения, где мало людей и нет вооруженной стражи. Врываются в деревни и села, крушат заборы, вламываются в дома и пожирают всех, кого встретят. Тех, кого не могут сожрать, рвут, как лоскутное одеяло, и разбрасывают кругом. Это не животная ненависть, сестрица. Были бы они животными — боялись бы и сунуться к человеческому жилью. Они же… Мне кажется, это что-то вроде ненависти рабов к бывшему господину. Освободившись из-под человеческого ярма, они считают нас своими злейшими врагами.
— Цверги слишком глупы для этого. Они не умеют рассуждать. Это всего лишь сбой старой генетической программы. И именно поэтому они не могли оставить принцессу Бланко в живых, как ты сам не смог бы отказаться от дыхания. Это их естество.
— Значит, в королевстве объявился новый биологический вид мутировавших цвергов. — Гензель с делано-безразличным видом пожал плечами. — В любом случае это наша единственная ниточка, сестрица.
Он шагнул было к фыркающей лошади, чтобы еще подтянуть ремни, но вдруг наткнулся прямо на взгляд Гретель. Устремленный в упор, этот взгляд умел вышибать дыхание из груди и мысли из головы. Взгляд геноведьмы. Даже Гензель, испытывавший его воздействие на себе в течение многих лет, так и не смог полностью к нему привыкнуть. Тело само напрягалось, как от слабого удара электротоком. Должно быть, что-то биологическое, что не вытравить из него никакими зельями…
— Мы ведь не поэтому отправляемся за цвергами, братец? Не потому что ты действительно веришь в то, будто они похитили принцессу?
Гензель вздохнул.
— Возможно. Цверги ничуть не хуже, чем горгульи или кровожадные великаны. Однако у них есть немаловажное преимущество.
Пришел черед Гретель нахмуриться.
— Какое же?
— Их днем с огнем не найдешь под Лаленбургом. Да, я навел некоторые справки. Лет семьдесят назад они обитали в окрестностях города. Старые каменоломни, шахты, подземные коммуникации… Но еще при отце нынешнего Тревирануса Первого за цвергов серьезно взялись. Выжигали огнеметами их логова, травили, загоняли псами… Настолько успешно, что поголовье удалось сократить едва ли не под ноль. Те, что уцелели, предпочли не связываться с людьми и убрались подальше от Лаленбурга. Может, человечье мясо для них и сладко, да только жизнь дороже, а какие-то инстинкты самосохранения в них все же уцелели… Теперь если где-то в королевстве и можно найти цверга, то это в горах.
— Цверги любят горы, — подтвердила Гретель. — Они прирожденные землекопы.
— Значит, там мы их и найдем, — Гензель отступил на шаг от навьюченной лошади и с удовлетворением оглядел результат своих трудов. — В трехстах милях отсюда на север как раз есть подходящие горы. Совершенно не обжиты и не разработаны, ни единого человеческого жилья на многие лиги вокруг… Говорят, во время последней войны там обосновались мятежные бароны, но едва ли мы найдем какие-то следы их существования — их смешали с камнем еще много лет назад. Прекрасное место для поисков принцессы.
— Дело не в цвергах, — констатировала Гретель, не сводя с него пристального взгляда. — Ты просто хочешь убраться подальше от Лаленбурга.
Гензель щелкнул пальцами.
— Верно, сестрица. Подальше от их величеств, их контрактов и их милостей. Всю зиму мы переждем в горах, разыскивая цвергов. И будем надеяться, что за это время в королевстве что-то переменится. А пока чем больше лиг будет отделять нас от дворца, тем лучше…
Гретель недоверчиво тряхнула коротко стриженой головой:
— Это и есть твой план, братец? Сбежать зимой в горы и искать там цвергов?
Гензель обнажил в ухмылке полный набор своих акульих зубов.
— Именно так. Но если у тебя есть другой, я с удовольствием его выслушаю.
Гретель промолчала. Ее задумчивый взгляд был устремлен куда-то мимо брата, но на что именно она смотрела, Гензель сказать не мог. Взгляд геноведьмы — странная штука. Никогда не понять, куда он устремлен.
Гензель не стал и пытаться. В последний раз проверил тюки и, шлепнув лошадь по тощему боку, взял в руки узду.
— Ну, пошла, Хромонема, пошла, зараза безногая!..
Шлось поначалу необычайно легко. Как только они покинули шумный и пропахший гнилыми яблоками Лаленбург, воздух враз сделался чище и слаще, а утоптанная земля тракта не утомляла так немилосердно ног, как грубая брусчатка каменных мостовых. Осенний ветер был прохладен, но еще не успел наполниться ноябрьской яростью, трепал путников за одежду, но милостиво, больше заигрывая, чем пробуя на зуб.
Гензель разглядывал небо, похожее на густую мясную похлебку, в которой плывут пятна жира. Гретель молча шла вслед за Хромонемой, глядя исключительно под ноги.
— Кто такие альвы?
— Что? — Полупрозрачные глаза озадаченно моргнули. Верный признак того, что их обладательница вернулась в реальный мир — из того, в котором блуждал ее рассудок большую часть времени.
— Ты обещала, что расскажешь мне, когда мы выйдем из города. Башни Лаленбурга уже едва видны на горизонте. А идти нам еще долго. Вот я и подумал, что пришло время…
На самом деле избыток времени никогда не был для Гретель чем-то неприятным. Кажется, даже его течение она ощущала как-то по-иному, не так, как обычные люди. Гретель способна была целыми днями молчать, занимаясь созерцанием своих собственных мыслей, и тогда Гензель чувствовал себя в одиночестве, даже если достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться сестры. Она просто уносилась куда-то, точно девчонка, чей домик был подхвачен могучим ураганом. И тогда Гензелю оставалось лишь гадать — где она сейчас? О чем думает?..
По счастью, сейчас она оказалась рядом.
— Ты ведь и без меня знаешь, кто такие альвы. В сказках, что ты любишь, они встречаются не реже, чем геноведьмы и заколдованные принцессы.
— Я всегда считал, что это выдумка.
— Я и сама так думала до вчерашнего вечера. — Гретель пнула лежащий посреди дороги камешек и некоторое время наблюдала за тем, как он прыгает по ухабам. — Считала слухи об альвах мальчишечьими рассказами и небылицами. Кто не любит приврать, когда речь заходит о геномагии…
— Мне приходилось слышать самые разные сказки, — задумчиво заметил Гензель, поправляя дорожную сумку. — И альвы в каждой из них не похожи на прочих. Где-то они сродни добрым волшебникам, приходят на помощь брошенным в беде, исполняют желания и творят геночудеса. Где-то, напротив, насмешливые проказники, норовящие сотворить какую-нибудь пакость и обмануть доверчивого человека. Единственное, что сходится, — это то, что они необычайно могущественны. Мы для них сродни муравьям. Живут, говорят, в своем особом царстве альвов, что над облаками. А на землю без особой нужды стараются не наведываться. Ну а ты что знаешь?
— Это существа, — бесцветным голосом произнесла Гретель, — неизвестного генезиса. Неизвестных свойств. Несомненно, у них есть общие черты с человеком, как несомненно и то, что они давно стали отдельным биологическим видом. А может, изначально и были им…
Гензель скривился. Не обязательно быть геноведьмой, чтобы изрекать такие банальности. Старухи с рынка и то могут рассказать про солнцеликих альвов не меньше, а то еще и с цветистыми подробностями.
Хромонема насмешливо зевнула во всю свою лошадиную пасть — ее не интересовали альвы. Ее интересовала сухая трава под ногами. Она предчувствовала скорую зиму и долгий тяжелый путь. И сейчас Гензель мог ей лишь посочувствовать.
— Выходит, что геномагия про альвов ничего не знает?
Гретель вскинула голову. Гляди-ка, и геноведьму можно лишить душевного равновесия, если бить по больному…
— Братец, я могу зачитать тебе несколько научных трудов известных геномагов, и каждый из них смотрит на альвов и их царство по-своему, но надо ли тебе это? Одни считают, что альвы — это величайшие геноспециалисты прошлого, которые экспериментировали над своим геномом и дошли до того, что обрели над ним полную и безоговорочную власть. Это было в те века, когда человеческий генофонд еще не был смертельно ранен эпидемиями, биологическим оружием, вредоносными модификациями и дурной наследственностью…
— Похоже на выигрыш в лотерею, — прикинул Гензель.
— Скорее, на побег из горящей лаборатории.
Сравнения Гретель иногда выглядели странными. По крайней мере, Гензель редко понимал их без разъяснений.
— Какая лаборатория? Почему побег?..
— Всего лишь метафора. Представь себе пожар в большой лаборатории, со множеством реактивов и сотнями ученых. Как только раздается сигнал тревоги, все ученые делятся на две группы — тех, кто соображает быстро, и тех, кто соображает медленнее. Те, кто соображает быстро, хватают самые ценные реактивы и выскакивают из лаборатории. Их менее удачливые коллеги пытаются тушить пожар, но слишком поздно. В итоге они, обгоревшие и изуродованные, сидят на выжженных руинах.
— Быстро соображающие — это альвы, так?
Гретель тряхнула головой, что могло обозначать утвердительный кивок. Или попытку избавиться от севшей на лицо мухи.
— Да. Они успели отсоединиться от человечества до того, как оно прошло точку невозврата, запустив череду генетических катастроф. Предпочли быть отдельным биологическим видом, а не жить среди продуктов перерождения. Их трудно за это винить. Впрочем, есть и другие теории. Например, и такие, которые винят самих альвов в случившемся. Мол, это из-за их бесконечной жажды манипулирования с материей геночары вырвались из-под контроля. Мне сложно судить. Истинно лишь то, что альвы — очень своеобразные существа. Доподлинно о них известны только две вещи. Их могущество не имеет себе равных. Впрочем, об этом ты и сам должен был догадаться. На наше счастье, они не считают нужным его использовать и даже на глаза людям попадаются так редко, что почти повсеместно считаются сказочными существами.
— А вторая вещь? — спросил Гензель, хоть и сам уже догадывался.
— В силу биологической и культурной разницы люди и альвы едва ли смогут хорошо понимать друг друга. Между нами пропасть, которую даже непонятно в каких величинах измерять.
— Они — ожившие боги, а мы — насекомые у них под ногами. — Гензель сплюнул на обочину. — Да, в таких условиях непросто строить диалог.
— Боги или нет, но их желания нам не так-то просто понять. Мы попросту не знаем, что их интересует.
— Принцессы, — убежденно сказал Гензель, — определенно, их интересуют человеческие принцессы. Мы-то это точно знаем.
— Мы знаем только то, что сказал нам альв. А он, если ты заметил, был очень аккуратен в своих формулировках. Мы понятия не имеем, зачем ему — или им — нужна принцесса Бланко.
— Съесть, — подумав, сказал Гензель. — Всем известно, что мясо принцесс — очень нежное и вкусное. Об этом осведомлены все сказочные драконы…
— В том-то и дело, что альвы пришли к нам не из сказки! — оборвала его Гретель. — И они, насколько я знаю их сущность, не балуются глупыми желаниями. Если бы они хотели есть мясо принцесс, они бы синтезировали его тоннами. Это в их власти.
— Пожалуй, — согласился Гензель. — Тем более что мясо нашей принцессы после шести лет бродяжничества и лишений едва ли осталось так же нежно.
— Альвы собираются ввести ей неизвестное вещество. Возможно, это эксперимент какого-то рода. Но в таком случае я понимаю еще меньше. Серьезный эксперимент не терпит своевольства, плавающих параметров и допущений. Он проводится под строгим контролем, с фанатичным учетом даже малейших мелочей. Вручить двум квартеронам испытываемое вещество и отправить их в неизвестном направлении, на свой страх и риск искать целевой организм, чтобы его ввести, — это не то, что я привыкла называть экспериментом. Это… бессмыслица.
— Между нами пропасть, — напомнил Гензель. — То, что тебе кажется бессмыслицей, для них может иметь вполне практическое значение, разве не так? Просто ты не способна его осознать. По сравнению с альвами даже самая мудрая геноведьма кажется не умнее, чем свинопас, который пытается состязаться с ученым.
Он почти сразу пожалел о сказанном. Возможно, все это время ему подсознательно хотелось ее уколоть. По-детски отомстить за ее извечную насмешливость и снисходительность. Как будто геноведьмы умеют быть иными. За то, что втравила их обоих в эту безумную авантюру, не имеющую никаких шансов на успех.
Если так, это был лучший момент для укола. Невидимая броня Гретель была уязвима как никогда.
Но Гретель вдруг улыбнулась ему — обезоруживающе, по-детски. И Гензель ощутил, что злиться уже глупо и бессмысленно. Не было в ее взгляде никакой насмешливости и никакой снисходительности. Просто взгляд у нее был… Каким-то очень усталым и задумчивым. Не таким, какой бывает у младших сестер, ждущих от тебя опоры и защиты. Пожалуй, в нем было что-то от взгляда самого альва. Что? Отсвет знания, которым никогда и ни с кем не сможешь поделиться просто потому, что его никто не поймет?..
— Я не понимаю, — призналась она. — Не понимаю, зачем им гены принцессы Бланко. Они совершенно ничем не примечательны с научной точки зрения. С тем же успехом они могли бы вколоть свой экспериментальный препарат любой пастушке или горничной. Никакой разницы.
— Бланко Комо-ля-Ньев — особа королевских кровей! — возмутился Гензель, едва не оступившись. — Вторая по чистоте в правящей королевской династии!
— Ее кровь не так уж и чиста.
— Сотые доли процента брака. Конечно, бедняжка не может претендовать на истинную генетическую линию, как ее отец, но все-таки, согласись…
— Не сотые доли, — неожиданно произнесла Гретель, меланхолично изучая степь. — Вовсе не сотые доли, братец.
Он насторожился. Что-то в ее тоне ему не понравилось. По существу, он ничем не отличался от обычного ее тона, но Гензелю померещилось в нем что-то зловещее. Точно мелькнула в безоблачном небе крохотная серая тучка, тянущая за собой грозу…
— Постой-ка… Знаком мне этот голос, сестрица. Что-то ты недоговариваешь, ведь так?
Гретель пожала плечами. Лгать она не умела, поэтому никогда не лгала. К чему ложь, если достаточно просто не открывать правды?
— Ты переоцениваешь чистоту ее крови, — со вздохом сказала Гретель. — Как и многие королевские подданные. Иногда мне кажется, братец, что ни в одной науке нет столько иллюзорного и не соответствующего внешнему виду, сколько в геномагии. Здесь форма никогда не соответствует содержимому. За золотой шкурой почти всегда скрывается гниль, а самые румяные яблоки чаще всего ужасно кислы на вкус…
Гензель выразительно поморщился:
— Хочешь заговорить мне зубы? Нет уж. Наслушался. Ты не отвертишься от ответа, сестрица. Почему это принцесса недостаточно чиста для альвов, скажи на милость? Ты ведь не можешь знать ее генома!
— Нет. — Гретель отвернулась в сторону, разглядывая серые метелочки пшеницы на поле. — Но я знаю геном ее отца. Этого достаточно.
Пожалуй, если бы с неба спустилась дюжина альвов в сияющей золотой колеснице, запряженной единорогами, это и то не произвело бы большего впечатления. Гензель остановился — нога отказалась делать следующий шаг. Вслед за ним остановилась и безразличная к их разговору Хромонема.
— Ты сделала генетический анализ короля?!
— Да, — сказала она спокойно, таким тоном, каким обыкновенно говорят о вещах заурядных и ничуть не интересных. — Еще вчера, если хочешь знать.
Гензель только хватал ртом воздух, потрясенный.
Здравствуй, дорогой братец Гензель. Я сегодня вылечила двух человек от генетических пороков. А еще купила пирог с почками и новую расческу. Ах да, еще я сделала генетический анализ короля. Да, из-за него мы с тобой могли отправиться на виселицу, но так уж вышло.
Гензель поперхнулся, пытаясь сделать вдох. В этот раз это была не злость, это было потрясение.
— Глупая девчонка! — воскликнул он, хватаясь за голову, Хромонема удивленно скосила на него влажный грустный глаз. — Ты что?! Кого?.. Короля?! Геноведьма! Хворостина по тебе плачет!
— Не кричи, пожалуйста, — попросила Гретель, все еще разглядывающая поле с безучастным видом. — Знаешь, даже у пшеницы бывают уши. В прошлом году, когда мы были в Офире, я видела целое поле пшеницы с генетическим браком. На каждом колоске выросло по маленькому человеческому уху…
Сами собой клацнули акульи зубы — звук, от которого человек непривычный испугался бы до колик.
— Да к черту твои уши! Ты понимаешь, что натворила?! Да ты нас обоих под петлю подвела!
— Всего лишь сбор информации. Наука не может работать вслепую.
— А без головы наука работать может?! Стоит только кому-то заподозрить простолюдина в попытке взять генетическую пробу у его величества — не успеешь сказать «гемохроматоз», как очутишься на плахе! Никому не позволено лезть в королевский генокод!
Эта тирада не произвела на Гретель ровно никакого впечатления.
— Доступ к информации запрещают лишь в одном случае, братец. Когда эта информация может кому-то навредить. Тому, кто ею пользуется, или тому, кого она непосредственно касается. Ты ведь догадываешься, отчего во всех существующих королевствах под страхом смерти запрещено анализировать ДНК царствующей династии?
Гензель запнулся — как лошадь, наступившая в кротовью нору. Вопрос был нелепым, но, как и все вопросы Гретель, должен был заключать в себе какой-то подвох. Иначе не бывало.
— Это святотатство, — твердо сказал он. — Преступление против Человечества. Королевская кровь чиста, и лезть в нее грязными руками не нам, квартеронам!..
— Если бы королевская кровь была столь чиста, как об этом говорит Церковь, отчего бы королям бояться генетического анализа? Напротив, он был бы наилучшим доказательством этой самой гипотетической чистоты. Разве не так?
Отвечать на этот каверзный вопрос не хотелось. Вместо этого Гензель спросил сам:
— Тогда в чем смысл запрета, а, всемудрая геноведьма?
— Защитный механизм. Все монархи отчего-то боятся анализа своего генетического материала. И знаешь отчего? Оттого что слухи о его недостаточной чистоте очень часто… не слухи. Принцесса Бланко тому пример.
Гензелю захотелось зарычать, как раненому человеку-льву из Лаленбурга.
— Как? Как ты получила его генетический материал? Когда?
— Не кипятись, братец. Я сделала это в твоем присутствии.
Гретель усмехнулась и вдруг коснулась кончиком бледного мизинца своих губ. Случайный жест?.. У геноведьм не бывает ничего случайного. И тут Гензель все вспомнил. И неожиданно чувственный верноподданнический поцелуй, который она запечатлела на монаршей длани… И ватные шарики, с которыми она возилась тем же вечером на постоялом дворе…
— Губы! — воскликнул он, забыв про пшеницу с ушами. — Ты сделала это своими собственными губами! Ведьма! Воистину ведьма!
Еще одна улыбка, смазанная и непонятная, как скрытое в густом тумане солнце.
— Разумеется. Немного органического клея на губах. Генетический материал можно получить из эпителия кожи, который легко отшелушивается. Так что за один день я раздобыла геноматериал и короля, и королевы-мачехи.
— Но почему не сказала мне? Ага, понимаю. Опять уши?
— Они самые. В городе их особенно много. Кроме того, не хотела тебя расстраивать.
— Это чем ты могла меня расстроить? — насторожился он.
Она взглянула на Гензеля так, что тот почувствовал себя младшим братом. От которого старшая сестра изо всех сил скрывает правду о том, что подарок в его чулок положил праздничной ночью вовсе не святой Корренс…
— Твоя глупая вера в Человечество… — призналась наконец Гретель. — Чистая кровь, великие короли, надежда на возрождение… Ученому сложно находить с верой общий язык — они не могут сойтись даже насчет того, где верх, а где низ. К тому же вера зачастую и глуха, и слепа. Ты так верил, что Тревиранус Первый — святой, живое воплощение Человечества на свете…
— А он…
Гретель смахнула со лба бьющуюся на ветру прядь волос.
— Нет, — сказала она ровно и безжалостно. — Пятнадцать процентов бракованного генокода. Твой настоящий человек, надежда на возрождение Человечества, мало чем отличается от тебя самого, братец. Если быть точным, всего на несколько процентов.
Некоторое время Гензель молчал, слушая ветер, гудящий в пшенице.
Несколько процентов — вот пропасть между властителем королевства и бредущим в поле бедным квартероном. Впрочем, не эта мысль была причиной охватившей его душевной боли. Другая, прятавшаяся в тени. Король — не человек. Всего лишь изувеченное подобие истинного человека, как и они все. Осмыслить это было трудно, принять — и вовсе не возможно, и мысль, не принятая разумом, брыкалась, как выкинутая на берег рыбешка. Она была холодной и скользкой, точно ее и в самом деле покрывала отвратительная рыбья чешуя.
Если на троне восседает не непорочный символ Человечества — что же тогда творится на свете? А что, если и другие короли — такие же? Если все это обман, тщательно наведенная иллюзия? Выходит, что… Что и нет никакого Человечества, даже следов его? Даже символов? Тогда что толку молиться? Если на всем свете не уцелело чистого человеческого генетического материала, значит, Человечество закончилось и больше не возродится. Даже ему, профану в геномагии, это было очевидно.
Однажды запятнанное уже никогда не станет чистым. То, чего коснулась генетическая порча, обречено лишь на медленное вымирание, причудливую, во много поколений, мутацию, которая с каждой своей итерацией безжалостно уводит от человека истинного и изначального, подмешивая в генокод все больше и больше дряни. Чистое, совмещенное с грязным, — станет грязным. Грязное, совмещенное с грязным, — станет еще грязнее. Простые генетические принципы. Но неужели такое может быть, чтобы во всем мире не осталось чистой человеческой культуры?..
Гензелю захотелось зажмуриться. Показалось на миг, что весь мир — это огромный ведьминский котел с копошащимися в нем микроорганизмами. Самыми причудливыми, странными и жуткими организмами, какие только может сотворить воображение. Если в этом котле когда-то и была чистая культура, ее давно уже разорвали щупальца, клешни и жгуты… Осталась только пожирающая сама себя биомасса, бессильная выплеснуться через край, бесконечно жадная, видоизменяющаяся, слепая…
Гретель вдруг положила руку ему на плечо. Рука была невесомой, он бы, наверно, и не заметил ее, если бы не взглянул.
— Я же говорила тебе… — сказала Гретель мягко. — Сотни раз говорила.
Это было правдой. Она говорила.
— Я всего лишь тупой квартерон. Куда мне понять геноведьму…
— Ты — упрямый осел. — Она потрепала его за ухо, как коня, но жест этот почему-то не был обидным. — Это свойственно человеку — верить. Даже когда все вокруг говорит о том, что для веры нет оснований. Нормальная человеческая реакция. Нелогичная, бессмысленная и глупая, как и все прочие. Полегчало?
Он мотнул головой.
— Стало быть, мы все больны? Все без исключения? Все люди, сколько их ни живет на свете? Раз уж даже на троне — квартероны…
— Я не знаю, братец. Не так уж много я видела королей и не так уж часто брала у них генетическую пробу.
— А сама ты как считаешь? — настойчиво спросил он. — Есть ли еще настоящие люди? Сохранен ли хоть где-то чистый генокод?
В этот раз ей не удалось смолчать, уйдя от ответа. Обычный прием не сработал.
— Возможно, — коротко сказала Гретель. — Но скорее всего, нет. Генетический дефект, вероятнее всего, имеют все на планете. Кто-то больше, кто-то меньше. Где-то он зашкаливает, а где-то так мал, что почти невидим. Но поражены все.
— Но ведь это ужасно, сестрица! Это означает, что человечество, каким бы оно ни было, обречено! Порча рождает порчу, не ты ли мне это без конца повторяла?
— Должно быть, я.
— Вот отчего ты презираешь церковь! — бросил Гензель со злостью. — Ты с самого начала понимала, что человечество обречено, верно? Что человечество — это набор раковых клеток, которые бьются друг с другом за последние кусочки плоти на костях! И с каждым поколением раковых клеток становится все больше, а плоти — все меньше… И раз нет чистой культуры, исходного человеческого генома, нет и выхода. Вопрос лишь в том, сколько это продлится. Сколько потребуется раковым клеткам, чтобы поглотить все без остатка и превратиться в нечто такое, что не похоже даже на страшную пародию на человека?!
Гретель молчала так долго, что Гензель решил, что не дождется ответа. Однако ответ все-таки последовал.
— Я не верю в Человечество, — сказала Гретель тихо. — Но я верю в жизнь. Жизнь — это варево, которое постоянно бурлит. Оно может быть разного химического состава и разной температуры, о свойствах этого варева можно только догадываться. Но пока оно бурлит, пока в его недрах идут процессы, еще не все потеряно. Жизнь будет сама пытаться найти выход. Только ни один геномаг не сможет угадать какой.
— Скрещивание генетически дефектных организмов приводит к дальнейшему вырождению вида, — не отставал от нее Гензель. — Грязное, соединенное с грязным, породит еще большую грязь. Это же ваша генетическая аксиома? Тогда где выход? К какому выходу нас может тащить жизнь, сама безнадежно больная и неизлечимо пораженная?
— Мне это неизвестно. Жизнь нельзя предсказать. Возможно, наши прапраправнуки каким-то образом стабилизируют генофонд. Он будет уже не человеческим, но он даст шанс следующим поколениям.
— И это будет раса разумных скорпионов? — скривился он. — Или что-то еще похуже?
— Отстань со своими вопросами, братец, — устало попросила Гретель.
Гензелю уже и самому стало тошно. Он махнул рукой.
— Забыли. Напомни, что там у нас выходит с принцессой? Раз у ее отца целых пятнадцать процентов бракованного фенотипа, а родная мать ее изначально не претендовала на полную чистоту, чем же они наградили свою дочь?
— Это мне неизвестно — генетического материала принцессы Бланко нигде не раздобыть, как ты понимаешь. У нас нет даже ее ногтя. Одно могу сказать точно: она совершенно явно не претендует на надежду Человечества. С такими родителями процент ее бракованной крови может составлять практически любое число. Предположим, от семи до семидесяти.
— Ну, семидесяти-то у нее не было, — пробормотал Гензель. — При семидесяти мало кто похож на человека. А она при дворе жила, ее люди видели…
— Не семьдесят, — легко согласилась Гретель. — Как повезет. Генетическая преемственность — очень сложная и интересная отрасль геномагии. По большому счету ни один геномаг не может внятно объяснить, по какому принципу и как происходит передача материала хромосомного набора. Предсказания в этой области и вовсе не возможны. На основании данных ее родителей нельзя заочно установить, что она унаследовала от них. Но она совершенно точно не чиста. Не чище меня или тебя. А скорее всего, учитывая родительский генофонд, так и погрязнее… Так что едва ли альвы заинтересовались Бланко из-за ее генетической чистоты. С тем же успехом им подошла бы любая девица из Лаленбурга.
Гензель некоторое время молчал, поправляя шаперон.
— Может, какое-то причудливое сочетание генов? — наконец спросил он. — Ты же сама говорила, что сочетание различных мутаций может давать иногда самые непредсказуемые последствия.
— Возможно. Когда речь идет об альвах, ни в чем нельзя быть уверенным. Быть может, какая-то рядовая для нас мелочь кажется альвам чем-то необычным и интригующим. Например, у ее величества на ногах вместо ступней — поросячьи копытца…
— Фу, сестрица!
— …Или под влиянием окситоцина, который формируется от постоянной лжи, у нее разрастается хрящевая ткань носа?.. Я читала описание такого случая. Нас это не интересует. Мы можем сделать тысячи предположений и быть от истины еще дальше, чем Лаленбург — от царства альвов. Нет смысла терять время. У принцессы есть что-то, что нужно альвам, вот и все, что нам известно.
— Но мы не знаем, что с ней случится, если она отведает золотое яблоко.
— Не знаем. Детали эксперимента альвов нам неизвестны. Может, упадет замертво, как того и хотела мачеха. Может, станет прекрасной, как в сказке. Может, у нее вырастут ложноножки и дополнительные глаза…
— Проще говоря, в этом яблоке — неизвестность.
— Пожалуй.
— Хорошие же подарки мы ей несем, — пробормотал Гензель. — Жизнь, смерть и неизвестность.
Гретель печально усмехнулась:
— Да, слишком много гостинцев за один раз.
— Но ты все еще считаешь, что она заслуживает смерти? Или предложение альвов нравится тебе больше?
Втайне он подозревал последнее. Он слишком хорошо помнил слова золотого альва. И понимал, какая бездна кроется за ними. Бездна познаний и возможностей, за которую любая геноведьма продаст душу. Если, конечно, у геноведьм есть что-то, что можно назвать душой…
«Она может пожелать стать человеком, — подумал Гензель с беспокойством. — А вдруг альвы и на это способны? Вычистят ее одиннадцать процентов порченой крови — и готово. Вдруг им это не сложнее, чем мне — кружку пива выпить? Геноведьма Гретель — новое воплощение Человечества!..»
Гретель долго молчала. Наверняка опять выпала из скучной реальности, унеслась разумом к таинственным и загадочным генетическим чудесам. Однако, взглянув на нее, Гензель удивился. Гретель все еще была тут, ее взгляд не был пуст. Скорее, он выражал напряженную работу мысли. Пути которой были Гензелю ведомы не больше, чем внутренние чертоги альвийских дворцов.
— Не знаю, — наконец сказала она. Эти слова дались ей тяжело. Нечасто бывает такое, чтобы геноведьма чего-то не знала. — Дар альвов может быть опаснее чумы или драгоценнее алмаза. Каким он станет для нас? И сможем ли мы им воспользоваться? Это все слишком сложно, братец.
Гензель украдкой вздохнул от облегчения.
— Значит, уговор?..
Она улыбнулась ему — почти так же, как улыбалась маленькая девочка Гретель много лет назад.
— Уговор в силе, братец. Ни один из нас. Пока сообща не решим.
Молча кивнув, Гензель сорвал пшеничный колосок и стал ковыряться им в зубах. Колосок был чахлым, серым, колючим, но без ушей.
К горам они вышли гораздо раньше, чем ожидал Гензель, — уже на четвертый день.
Едва лишь увидев издалека их силуэт, похожий на ощетинившуюся шипами крепостную стену, Гензель понял, отчего королевские охотники не стали здесь задерживаться. Пожалуй, это были самые неприятные горы из всех, виденных им когда-либо.
Тропинок было мало, а те, что были, — то петляли, как сумасшедшие, то пропадали вовсе. Подъемы оказались тяжелыми и изматывающими, а спуски норовили сломать ноги или вывести к отвесным обрывам. Были здесь и осыпи, превращавшие каждый шаг в мучение, и скользкие лишайники, подкарауливающие невнимательного путника.
Не лучше обстояло и с погодой. Поздняя осень здесь, в горах, ощущалась куда иначе, чем на равнине. Любого гостя она принимала враждебно, в штыки. Холодный ветер поднимался уже с рассветом — и бушевал в горах весь день напролет, стегая их ледяными кнутами с такой силой, что казалось странным, как еще плоть держится на костях. Чувствуя здесь полную власть над всем окружающим, ветер ревел разъяренным хищником, бушевал, клокотал, шипел и скрежетал. От его постоянных порывов глаза слезились так, точно под веки сыпанули мелких стеклянных осколков, а кожа лица обветрилась настолько, что стала не чувствительнее дубовой коры.
Ни один человек не стал бы жить в этих негостеприимных краях. Не удивительно, что они не нашли даже следов человеческого пребывания. Здесь не возводили городов, не возделывали полей, не строили фабрик и лабораторий. Здесь был край камня, который по своей природе суть противоположность человека. Королевство неорганики, навсегда ставшее неподвижным, холодным и мертвым.
В походном шатре было холодно и неуютно, а горы норовили упереть в его пол десятки своих острых гранитных когтей. Обувь приходилось латать едва ли не ежедневно, камень не знал к ней жалости. Дрова для костра встречались в столь незначительных количествах, что Гензелю и Гретель зачастую приходилось есть свои порции без огня. Холодное мясо трещало на зубах так, будто пытаешься перемолоть челюстями каменный булыжник. Вода во флягах за ночь превращалась в лед. От постоянной ходьбы ноги быстро опухли и немилосердно кровоточили.
Это были обычные подарки гор людям, сунувшимся без приглашения в чужое королевство. Встречались среди них и такие, что легко могли бы стоить и жизни, будь Гензель менее внимателен и осмотрителен.
Несколько раз они чуть не переломали ноги об острые валуны. Два или три раза едва не сорвались с обрыва. Не сумей Гензель вовремя среагировать — лежать бы им окровавленными тряпицами где-то в самом, самом низу, куда и альву не спуститься. Один раз их едва не застиг обвал — повезло, что почувствовали пугающую вибрацию обычно мертвого камня и успели укрыться.
На пятый день после того, как они дошли до предгорий, Гензель поймал себя на мысли о том, что с тоской вспоминает вонючие улочки Лаленбурга. На двенадцатый день он проклял всех принцесс, которые только живут на свете, и пожелал каждой все возможные генетические кары, сколько их существует. На семнадцатый образ королевского палача уже не вызывал у него былой неприязни, а пожалуй, даже казался приятным. На двадцать второй день он уже ничего не вспоминал и не желал. Он хотел только, чтобы можно было так свернуться, дабы хоть крупица тепла осталась в разбитом теле. И чтобы ветер утих хоть на минуту, перестал рвать беззащитное тело.
За все время они не встретили ни единого следа цвергов. Даже эти кровожадные карлики не были достаточно безумны, чтоб жить здесь, между холодным камнем и ревущим ветром. Без сомнения, цверги нашли способ зарыться вниз. Они любят земную твердь, любят быть окруженными твердыми породами, любят узкие земляные ходы и вечную ночь. Должно быть, что-то из древних инстинктов. Но вот приглашать людей в свои подземные чертоги они отчего-то не решились.
Гензель часами осматривал горные ущелья, пытаясь определить, нет ли здесь тайных ходов. Ощупывал острые, как зубы дракона, камни, тщась найти тот, что открывает ход в подземелье. Даже исходил вброд десятки горных рек, от ледяной воды которой ноги мучительно трещали и ныли. Тщетно. Никаких следов жилья цвергов.
Гретель помогала ему как могла, но и ее усилия пока не принесли никаких плодов. Она собирала в горах образцы мха, воды и лишайников, надеясь обнаружить в них остаточные следы генетического материала цвергов. Все это походило на попытку вычерпать наперстком океан, чтоб найти упавшую в него жемчужинку. Только в их случае океан был еще более холодным и опасным, а жемчужинка — крошечной, как песчинка.
«Может, их и нет здесь вовсе? — спрашивал сам у себя Гензель в редкие минуты затишья, когда мысли осмеливались вернуться в голову. — Может, цверги просто ушли с гор? Да если бы у них в голове было хотя бы по крошечной извилине, они бы убрались отсюда еще давным-давно!..»
Но он знал, что цверги не ушли. Им было некуда уходить. На равнинах, испещренных человеческими поселениями, их ждали лишь ружья охотников или сомнительная альтернатива в виде городской плахи. Цвергов безжалостно уничтожали везде, где их встречали, может, оттого с годами эти встречи стали происходить все реже и реже. При всем своем уродстве они все-таки не были лишены животного инстинкта самосохранения, а тот гнал их все дальше и дальше от людей.
Комфортнее всего цвергам было под землей. Там, никем не видимые, они сооружали целые системы подземных лабиринтов, соединенные сотнями ходов и хитрых лазов. Под землю предпочитали не соваться ни шумные крестьяне, ни злые солдаты, ни королевские ловчие. А еще подземелья благоволили существам с сильным развитым телом и острыми когтями. Неудивительно, что цвергов так манила перспектива жить там, где никогда не видно солнца…
Горы для них — идеальный выбор. Сюда никогда не вторгнется бур землекопа, не просверлят скважину для химических отходов. Недостатки климата цверги попросту не замечали, обладая от природы нечувствительной и плотной шкурой. Даже почти полное отсутствие здесь пищи не было критическим — они могли обходиться лишайниками и насекомыми.
В свободные минуты Гретель рассказывала ему о цвергах — об устройстве их тела, о привычках и генетических предрасположенностях. Гензель внимательно слушал, против воли проникаясь к подземным уродцам некоторым уважением. Он привык полагать их существами весьма примитивно устроенными, бездумными плотоядными машинами, но выходило, что все не так просто. Тот, кто их создавал, хорошо понимал свое ремесло.
Цверги нуждались в питательных веществах, как и любые живые существа. Но их метаболизм, созданный, несомненно, гением, умел обходиться самым минимумом полезных соединений, необычайно экономно расходуя ресурсы. Мышцы у цвергов были тонкими, но при этом невероятно прочными, точно стальные канаты, — это позволяло экономить кислород и калории. Температура тела была ниже человеческой в два раза. Обильный меховой покров позволял не испарять лишней жидкости, а особые железы печени синтезировали коллаген, что позволяло цвергам не испытывать нужды в витамине С и в то же время не болеть цингой. Они были способны всю жизнь питаться насекомыми, земляными червями, грызунами и даже плесенью.
В своем роде цверги были идеальным творением. Не столь красивым, как человек, не столь умным, не столь разносторонним, но все же — идеальным. Это было гениальное в своей лаконичности подобие человека, выполненное человеческими же руками. Цверги не отличались большим умом, их нервной системы хватало лишь на распознавание нескольких десятков слов и выполнение нехитрых операций, требующих больше силы и сноровки, чем высокого интеллекта. Не способны они были и к языку, между собой общаясь на примитивном ухающем наречии, в котором смысл определялся не словами, а интонациями. Однако из цвергов получались отличные слуги, нетребовательные и неприхотливые. Работая в качестве грузчиков, землекопов, посыльных и каменщиков, цверги оказались необычайно полезны. Впрочем, этих времен Гензель не помнил, как не помнил, наверно, и его прадед.
Если моряки правы и с тонущего корабля первыми бегут крысы, то человечеству, судя по всему, осталось недолго, прежде чем оно погрузится в пучину генетического водоворота, из которого уже не всплывет. Потому что цверги стали бежать. Они бежали из городов, из шахт, из тюрем и канализаций. Отовсюду, где прежде приносили пользу человеку. Они бежали по одному и целыми сотнями. Под покровом ночи и ярким днем. Поговаривали, у них вскрылся генетический дефект, который заставлял их бежать от цивилизации. Что-то вроде вируса бешенства, который делает заболевшее существо отчужденным и ищущим уединения. И еще — смертельно опасным.
Парой лет раньше, когда они с Гретель путешествовали по Сильдавии, Гензелю приходилось видеть, к чему обыкновенно приводят встречи цверга и человека. В тамошних краях цвергов еще оставалось довольно много. Днем укрываясь в катакомбах и подземных убежищах, ночью они выбирались на поверхность. Караулили дороги, врывались в дома на отшибе, ждали одиноких путников.
Единственное, что оставалось от человека после нападения цвергов, — несколько окровавленных лохмотьев одежды. Иногда — брошенные в спешке фаланги пальцев, откушенные с такой легкостью, точно их отмахнули тяжелым мясницким ножом. Или обрывок уха, застрявший меж половиц. Иногда цверги проявляли несвойственный им юмор, что доказывало их отдаленное родство с человеком. Однажды они растерзали скорняка с подмастерьем, которые спешили к городу на повозке, запряженной парой лошадей, но не поспели до темноты. Сильдавийских стражников трудно было удивить подобным, но в тот раз они не скрывали озадаченности.
Лошади были бесхитростно убиты на месте — перерезаны шеи, животы вспороты, — а вот люди, чьи тела обнаружились неподалеку, оказались обезглавлены, причем голов поблизости не обнаружилось. Это было странно. Обычно цверги не брезговали человеческими останками. Загадка разъяснилась несколькими часами позже, когда поодаль кто-то из стражников обнаружил целую груду лошадиной требухи. Только тогда догадались хорошенько рассмотреть мертвых лошадей и в их освежеванных тушах обнаружили пропавшие человеческие головы. Это никак не обосновывалось инстинктами цвергов, не было это и ритуалом — жители подземелий не знали религии. Оставалось предположить, что это было проявлением рудиментарного чувства юмора.
Люди брали свое, когда удавалось изловить живого цверга, обычно раненого или отбившегося от своей стаи. Тогда в городе начиналось оживление сродни тому, что случалось в дни церковных праздников или ярмарочных представлений. В городах победнее ограничивались старой плахой, которую палач, тужась, выкатывал из чулана и водружал на рыночной площади. В городах побогаче иногда сколачивали целый помост, украшенный всем богатством, что можно было найти в местной каталажке: жаровнями, тисками, медными чанами с кипящим маслом, дыбами…
Живучесть цвергов позволяла продлить представление на несколько часов, а в иных случаях и дней. Они умирали медленно, неохотно, заложенная в их генетическую суть жажда жизни заставляла подземных уродцев до последнего переносить мучения, даже тогда, когда от тела мало что оставалось.
Гензель предполагал, что встреча со стаей цвергов не станет для них с Гретель приятным сюрпризом. Поэтому он ни на миг не терял бдительности. Заряженный мушкет со взведенными курками постоянно был перекинут через плечо. Откуда бы ни выскочил цверг, он получит залп картечи в грудь еще прежде, чем успеет открыть пасть. Конечно, цверги превосходно умели маскироваться, но и Гензель не считал себя новичком в этой науке. На узких горных тропах он укладывал хитроумные метки, которые постоянно проверял. Но за все время ни одна нога не сдвинула их. Целыми оставались и тончайшие нити, которые он завязывал между валунами.
Каждую ночь в течение нескольких часов Гензель незаметно обходил разбитый походный шатер, в котором спала Гретель, но ни разу ему не пришлось взять мушкет в руки. Если в этих горах и водились цверги, они не спешили обратить свое внимание на двух странных путников.
Охота на призраков — вот что это было. И с каждым последующим днем Гензелю все больше казалось, что они с Гретель сами становятся призраками. Сил у обоих оставалось все меньше, движения становились медленными и экономными, глаза запали. Ни дать ни взять — сущие призраки.
— Может, они давно убрались отсюда! — с раздражением пробормотал он на двадцать шестой день поисков, пробираясь в походный шатер и срывая с себя прохудившиеся ботинки. В палатке царил постоянный холод — уголь они с Гретель экономили как могли, — но разбитые и ноющие ступни причиняли еще больше мучений. За неполный месяц, в течение которого он бродил по горам, даже его крепкие ноги начали постепенно сдавать. Слишком большие нагрузки. Слишком большие затраты калорий. Слишком неопределенная цель.
— Надо продолжать, — без всяких эмоций сказала Гретель, поднимая лицо от реагентов.
Даже в крошечном шатре она нашла угол, где можно было установить свою крохотную лабораторию. Гензель поначалу жаловался — от всех этих склянок и горелок разило отнюдь не нектаром, а вентиляция в шатре почти отсутствовала. Но со временем смирился. У них были заботы поважнее неприятных запахов. В шатер он, как правило, забирался уже глубокой ночью и спал без задних ног.
— Они могли покинуть горы, — произнесла Гретель. Ее голос, обычно и так тихий, к исходу первого месяца поисков сделался едва слышен. — Охота на них длилась несколько лет. Возможно, если в этих горах и было их логово, цверги ощутили опасность и поспешили сменить его.
— И увели принцессу.
Гензель по привычке говорил так, словно принцесса Бланко еще жива, — это была их маленькая с Гретель игра, которую они все тянули и тянули, не решаясь оборвать. Разумеется, никто и никуда принцессу не уводил. В этих горах она не смогла бы пережить и одной зимы, не говоря уже о шести годах. Не те условия для юных принцесс.
Гензель тоже не сомневался, что принцесса давно мертва. В лучшем случае они найдут под снегом горсть изъеденных хрупких девичьих костей — все, что оставила миру ее высочество принцесса Бланко Комо-ля-Ньев, несчастное дитя своих высокородных родителей.
— Цверги редко уходят далеко от насиженных мест, — пробормотала Гретель. — Предпочитают обитать в привычном ареале.
— Беда только в том, что для этого ареала не предназначена моя собственная задница, — пожаловался Гензель. — Она постепенно превращается в ледяную глыбу. К тому же запасов провианта хватит не больше чем на две недели.
Гретель промолчала. Она не получила никакой новой информации и, вероятно, сделала вывод, что глупо тратить драгоценное тепло на ответ. Ей было вполне уютно в тишине, нарушаемой лишь хрипящим снаружи ветром. Но Гензель успел соскучиться по человеческой речи.
— Ты сделала анализ яблок?
— Что?..
— Яблоки, — терпеливо повторил он. — Помнишь, ты собиралась посмотреть, что у них в середке? Вышло разобрать их на геновинтики?..
— Да, яблоки… Я закончила еще неделю назад. Извини, забыла сказать. Все равно ничего интересного.
— Но что-то нашла?
Гретель сделала неопределенный жест, предельно короткий и скупой.
— Что-то.
О Человечество! Проще разговорить снежный ком, чем эту девчонку!..
— Яблоки, Гретель. Что ты нашла в них?
— Ничего примечательного, — вяло ответила она. — Именно то, чего и ожидала. В яблоке короля есть следы слабого наркотического вещества. Судя по всем признакам, не опасно. Выводится из тела за несколько часов. Стимулирует отдельные железы, производит некоторые виды глюкокортикоидов.
— Ностальгия и тоска по дому?
— Не могу детально проверить без лабораторного оборудования. Но похоже на то.
— А что с яблоком мачехи?
— С ним сложнее. Многосоставное композитное вещество.
— Яд?
— Без сомнения. Угнетает центры дыхания, парализует легкие и убивает, причем делает это всего за несколько секунд. Очень профессиональная работа.
— Ну а яблоко альвов?
Гретель устало помассировала глаза.
— Ноль.
— Это что значит?
— То, что я не могу даже понять его структуру. Вещество, находящееся в нем, настолько сложно, что я чувствую себя девочкой с игрушечной лопаткой, которая пытается прокопать туннель в гранитной глыбе. Я подвергла его всем мыслимым анализам, но ничего не могу сказать о том, что это такое. Работа альвов.
Ого. Если уж Гретель расписывается в собственном бессилии, орешек и в самом деле не каждому по зубам.
— То есть в этом золотом яблочке может быть спрятана любая гадость?
— Да. Любая. От яда до благословения.
Опять помолчали.
— Удобный выход для нас, а? — пробормотал Гензель. — Яблочко с тайной внутри. Можно дать его принцессе и потом не тревожить собственную совесть. Мол, провидение само выбрало… Такой вариант мог бы устроить нас обоих, а?
Гретель взглянула на яблоки. Они лежали в углу, ничуть не переменившиеся за последнее время. Эти плоды не гнили и не портились. Они были предназначены одному-единственному человеку. И ждали своего часа, как взведенные бомбы.
— Ищешь компромисс между совестью и выгодой?
Гензель вздрогнул от этого вопроса. Как хлыстом по спине перетянули. Между лопатками словно бы даже осталась липкая и саднящая полоса.
— Я… Что ты несешь такое, сестрица? Я же говорил не всерьез.
Тонкая улыбка скользнула по лицу Гретель, как облако по бледной луне.
— Еще недавно ты хотел подарить ей жизнь.
— И сейчас хочу, — твердо сказал он. — Это мой выбор. Нет, я не хочу давать ей золотое яблоко.
Кажется, Гретель удивилась.
— Ты ведь сам сказал, что оно могло бы стать удобным выходом. Для нас обоих и для принцессы. Раз мы не можем решить, что ей подарить, жизнь или смерть, мы можем оставить это дело случайности. Тому, что геномагия называет неконтролируемым случайным фактором. Как ты его называешь? Провидение? Чудо?
— Я не настолько доверяю чудесам, чтобы позволять им делать за себя выбор.
— Странно, — сказала Гретель тусклым голосом. — Я думала, тебе понравится этот вариант. Геномагия терпеть не может неконтролируемых случайностей, они лишают эксперимент стабильности, логической подосновы. Но тебе, верному слуге Человечества, этот метод подошел бы. Отличный способ заглушить ноющую совесть. Переложить груз вины на чудо. Разве не так?
В другое время Гензель разозлился бы. Но сейчас он слишком устал. После очередного дня бесплодных поисков, долгого и выматывающего, глаза закрывались сами собой, а тело захватывала противная мелкая дрожь. Тело требовало отдыха, хотя бы самую малость. Чтобы аккумулировать хоть немного сил за ночь и с рассветом отправиться на поиски.
Гензель устало улыбнулся Гретель, чувствуя обжигающую боль в потрескавшихся от холода губах.
— Иногда мне кажется, что ты притворяешься, сестрица. Что о человеческой душе тебе известно куда больше, чем ты считаешь нужным показать. Если мы найдем принцессу… Нет, я не дам ей яблока альвов. Ни за что не дам.
— Почему?
— Не хочу отдавать ее в их золотые лапы. Слишком хорошо помню, как смотрел на нас тогда этот тип.
— Как?
— Он смотрел на нас как на умных мышей, которых кто-то обучил паре затейливых трюков. Жонглировать горошинами, например. С таким, знаешь, снисходительным интересом. Но мышей гладят по спинке только тогда, когда они послушны и выполняют то, чего от них добиваются. Это специальные, дрессированные мыши. Если же мыши начинают точить мебель и таскать продукты, с ними никто не церемонится. Ставят мышеловку, которая ломает им позвоночники, или опрыскивают ядом, за которым следует мучительная смерть. Если бы это было необходимо, тот альв уничтожил бы нас, даже не переменившись в лице. Стер в порошок одним незаметным движением пальца. И даже ничего не ощутил бы. Не переменился бы в лице. Они вправду другие, сестрица. Давно уже не люди и, верно, даже не помнят, каково это — быть людьми. Между нами не просто пропасть. Бездонный разлом. Которого не преодолеть ни с их стороны, ни с нашей.
— Хорошо, что у тебя остались силы философствовать.
— Для альвов мы даже не слуги! И не ученики! Подопытные мыши! — рявкнул Гензель. И откуда только взялись силы в едва живом теле… — Они сидят на своем золотом облаке, чистые, благоухающие и приветливые. Наблюдают, как мы ползаем в грязи, и посмеиваются над примитивным биологическим видом. А когда находят интересный образец, подкидывают ему таблетку или…
— Яблоко.
— …Или яблоко. Чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Ты думаешь, им есть какое-то дело до принцессы? До нас с тобой? До королей или мулов? Я не хочу стать той иглой, сестрица, через которую принцессе введут какую-то экспериментальную дрянь. Не хочу давать ей золотое яблоко. Была бы моя воля — вышел бы да закинул его в самую глубокую пропасть…
Гретель подняла палец:
— Уговор.
Гензель мгновенно обмяк в своем углу, точно все кости из тела выдернули.
— Да. Уговор. Я помню. Сперва мы найдем принцессу. А там решим.
— Но как?
Гензель что-то неразборчиво проворчал и полез в свой спальный мешок.
На тридцать девятый день в горы пришла зима. Она и до этого таилась где-то поблизости, окрашивая горизонт свинцовыми потеками, звеня по ночам морозом, но в этот раз она пришла уверенно и решительно, точно вернулась домой. И сразу заявила, что останется здесь надолго.
Три дня не переставал идти снег. Сперва это выглядело красиво — тысячи тысяч бледных мотыльков сыпались с неба, словно они летели к солнцу до тех пор, пока не коснулись его, и теперь их невесомые мертвые тельца, медленно кружась, падали вниз.
Идти стало еще тяжелее. Снег, укрывший горы, скрыл редкие тропинки, замаскировал осыпи и булыжники под ногами. Они целыми днями брели по белому месиву, едва вытаскивая из него ноги, и беспомощно щурились, пытаясь разглядеть хоть что-то в окружающем их снежном водовороте. Теперь не разглядеть было даже ориентиров, и Гензель постоянно ощущал досаду, грызущую его изнутри, как голодная мышь точит корку окаменевшего сыра, — ему постоянно казалось, что они двигаются по кругу.
Он оставлял метки из тяжелых камней, сложенных пирамидой, но снег за несколько часов превращал все его сооружения в неразличимые белесые глыбы, которыми скалы были покрыты во множестве. Бедная Хромонема, кося на жестокого хозяина грустным лошадиным глазом, брела, пошатываясь, и то и дело спотыкалась — теперь она не могла найти даже скудной травы.
Со снегом пришел и холод. Настоящий, горный, не чета тому робкому морозцу, что облизывал шершавым языком их щеки и пальцы. Этот взялся всерьез. Каждый раз, выбираясь из шатра, Гензель ощущал себя отлитым из олова игрушечным солдатиком. Холод наваливался мгновенно, находя самые крошечные щели и пробираясь к теплому телу. От его прикосновения члены теряли чувствительность и становились металлическими, тяжелыми, грузными. Кости смерзались в кучу, внутренности превращались в ком мороженого мяса. Кожа на руках трескалась, не помогали даже толстые кожаные перчатки, купленные им в Лаленбурге, подошвы ботинок вмерзали прямо в ступни. Борода на щеках превращалась в острую ледяную корку, а глаза, казалось, замерзали в глазницах настолько, что начинали скрипеть.
Гензель и Гретель брели вперед, сквозь снег, глядя лишь себе под ноги и стараясь идти след в след. Ни о каких поисках уже не могло быть и речи — они могли бы пройти в двух шагах от тролля и не заметить его. Куда уж искать в снежном киселе цвергов и их потайные лазы…
Их запасы таяли с каждым днем, но заплечные мешки все равно были тяжелы так, что от их веса ломило спину. Сложнее всего было нести маленький узелок, в котором перекатывались три округлых предмета. Яблоки. Их проклятый груз. Гензеля давно подмывало швырнуть их на подходящий валун и раздавить подошвой. Чтобы в кашу. В мелкие кусочки.
Чертова принцесса, чертовы альвы, чертовы короли и их самовольные принцессы…
Но он вновь и вновь прятал узелок с яблоками, проклиная их так, словно они были его персональными веригами, прикованными к его телу на вечные времена.
— Нам надо вернуться, — пробормотал он, когда они с Гретель в очередной раз спрятались за каменной тушей валуна, прижавшись друг к другу и пряча лицо от ледяных лезвий ветра, свистящих вокруг. — Нет здесь принцессы. Мы ошиблись.
— Больше негде, — упрямо сказала Гретель. Ей приходилось не слаще, чем ему, а, скорее, несравнимо хуже. От постоянного холода ее лицо побелело настолько, что даже снег на его фоне отдавал желтизной.
Воздух замерзал прямо в легких, стоило сделать неглубокий вдох — и в груди, кажется, уже хрустела наледь, покрывшая изнутри тонкие сосуды… Оттого говорить приходилось мало, короткими, ломаными фразами.
— Мы умрем здесь, сестрица. Нам бы обратную дорогу найти. Не глупи. Нет тут ничего. Идем обратно.
Гретель мотнула головой. Жест вышел слабым, как у умирающей птички. Но решительности в ней хватило бы и на стаю волков. Такие не останавливаются на полпути. Не сдаются.
«Ты же ученый! — чуть не взмолился Гензель. — Ты же всегда призывала меня действовать логично и рационально. Так чего же рационального в том, что мы насмерть замерзнем в этих проклятых горах? Чего логичного будет в наших промороженных до стеклянного состояния трупах, навеки замерших здесь, в снежном аду?..»
Возможно, Гретель просто не в силах повернуть обратно. Она почувствовала загадку, «Парадокс пропавшей принцессы», и теперь рвется вперед, невзирая ни на что. Тут есть от чего сойти с ума, раз уж даже альвы изволили снизойти с небес. Есть от чего потерять голову. Гретель загипнотизирована этой тайной и никогда от нее не откажется. Будет идти, пока молча не рухнет лицом в снег. Но он, Гензель, уже не сможет поднять ее, потому что сам в этот момент будет мучительно превращаться в ледяную глыбу…
Надо заканчивать эту безумную авантюру, которая с самого начала не имела шансов на успех. Пусть уж потрудится королевский палач. Пусть. Но не здесь, не так…
— Все, — сказал он жестко и остановился, заставив остановиться Гретель. — Хватит с нас принцесс. Идем домой.
— Я должна… — Он не расслышал продолжения, ветер захлестнул Гретель и распотрошив ее слова, как большой свирепый зверь — овцу. — Нам надо…
— Нет. Больше ни шагу. Хватит.
— Яблоко…
— Никаких больше яблок. — Злость захрустела на зубах, как осколки льда. — Сейчас я покажу тебе яблоки…
Окаменевшие от холода пальцы с трудом справились с завязками сумки. Но справились. Суставы трещали, кожа не чувствовала прикосновения. Гензелю удалось выкатить на немеющую ладонь три круглых шара. Бледно-зеленый, маленький. Большой, сочно-красный. Средний, золотой, идеально круглый.
— Нет, Гензель! — крикнула Гретель.
Глупо пытаться помешать сильному квартерону, особенно если ты — девушка, вдвое его легче. Но Гретель попыталась. Схватила его за руку. Он стряхнул ее, легко, как дерево стряхивает старую листву.
Хватит. Он не позволит Гретель обменять свою жизнь на какую-то загадку о потерянной принцессе. Глупые сказки. Сопливый романтизм. Он сделает все сам. Выбор-то не так и сложен…
— Больше никакого выбора! — крикнул он яростно прямо в оскаленную пасть неба над головой. Забирайте ваши чертовы подарки, вы все! Ну! Приятного аппетита!
Маленькое бледно-зеленое яблоко вылетело из его руки и юркнуло в снег. Мышцы сковал холод, оттого пролетело оно не очень далеко. Но Гензель все равно почувствовал необычайное облегчение — словно скинул с шеи чугунный шар, который таскал на себе последний месяц. Один из трех чугунных шаров.
— Больше никакой геномагии!
Второе яблоко, большое, ярко-красное, мелькнуло, как выпущенный из пушки снаряд.
О Человечество, если бы он раньше знал, до чего приятно метать яблоки, — он занимался бы этим целыми днями!..
— Больше никаких загадок!
Золотое яблоко последним прыгнуло в снег. Оно было таким полированным и блестящим, что Гензель продолжал его видеть даже сквозь белесую пелену. Крохотная золотистая искорка, застывшая в сугробе. Еще десять минут — и она погаснет, укрытая снегом. Пусть лежит здесь, скверный подарок неведомых существ, лежит и ждет своего часа. Или своей принцессы. Кто-то да найдет…
— Гензель!
— Это все, сестрица, — сказал он, положив дрожащую руку ей на плечо. — Мы возвращаемся. Так говорит старший брат.
Гретель была не из тех, кто станет просить или умолять. Но он ожидал, что геноведьма хоть как-то проявит чувства. Но ничего подобного она делать не стала. Просто стояла и молча глядела в снег.
— Гензель…
Что еще за хитрость? Какая-то геномагическая уловка? Неужели она думает…
— Посмотри туда.
Он не выдержал, посмотрел, куда она указывает. И разглядел все ту же золотистую искру в снегу. Чего же в ней странного?.. Еще минута, и последнее яблоко занесет снегом, да так, что никто не найдет его вовек, хоть вся королевская армия будет возиться с лопатами…
Искра шевелилась. Гензелю захотелось протереть для верности глаза, но он знал, что ороговевший от мороза палец скорее поцарапает их, чем вернет ясность зрению. Искра в снегу шевелилась. Она медленно двигалась, отдаляясь от него — будто катилась по невидимому желобу. Только катилась она вверх.
Тут уже Гензель не выдержал, одним прыжком оказался возле нее, даже за рукоять кинжала машинально схватился, едва не зашипев от боли: рука норовила примерзнуть к стали даже сквозь рукавицу. Но про это он мгновенно забыл. Яблоко двигалось. Золоченый подарок альвов перекатывался с одного бока на другой, уверенно куда-то двигаясь. Его подгонял не ветер, в этом Гензель готов был поклясться. Какая-то сила тащила яблоко сквозь метель. Целеустремленно, с постоянным ускорением.
Яблоко взобралось на заснеженный валун, оставляя за собой четко различимый след, поколебалось несколько секунд, и продолжило свой странный маршрут. И движения его были не случайны.
Гензель и Гретель переглянулись.
— Что это? — выдавил Гензель, прогоняя желание схватиться за мушкет и выстрелить зарядом дроби, заставив яблоко лопнуть, раскинув сочные внутренности по снегу.
Гретель улыбалась. Кажется, впервые за последний месяц. Улыбка ее была усталой, но торжествующей.
— Ты еще не понял, братец? Это наша путеводная нить. Она указывает нам путь. Нам надо идти вслед за яблоком.
— К-куда?
— Не знаю. Это яблоко альвов. Оно может привести нас куда угодно.
— К смерти? — предположил он. — Или к принцессе?
— Не знаю. Но, если у тебя нет других предположений, я бы предложила следовать за ним. И еще, будь добр, собери яблоки. Они нам пригодятся.
Это был сорок третий или сорок четвертый день пути. И это было безумие. Безумие, растянутое на сорок три или сорок четыре равных части.
Они шли за яблоком. Золотая сфера беззаботно катилась, оставляя в снегу ровную, как от плуга, борозду. Она двигалась с постоянной скоростью, лишь немного замедляясь на подъемах, ловко лавировала между камнями и вела себя так, словно превосходно разбиралась в окрестностях. Ни разу не сбилась с пути, не сделала лишнего поворота, не угодила в пропасть. Ни дать ни взять выдрессированная ищейка из королевской охотничьей своры.
Яблоку не требовался отдых, оно было готово катиться вперед сутками напролет. Но обмороженным человеческим ногам, готовым развалиться на части, отдых был необходим. В такие моменты Гензель подхватывал золотое яблоко и бросал его обратно в мешок. Оно мгновенно переставало двигаться, даже не трепыхалось. Удивительно сообразительные яблоки у этих альвов…
— Жаль, мы попросили именно яблоко, — пробормотал как-то раз Гензель, пытаясь перетереть зубами кусок твердого, как дерево, сушеного мяса. — Надо было просить у них тыкву. Большую такую тыкву. Влезли бы внутрь и катились бы, как в карете…
Гретель приходилось хуже. Ее слабые человеческие зубы едва справлялись со сложной задачей. Да и выглядела она хуже, с каждым днем все больше напоминая тающую сосульку под стрехой крыши. Если бы не проклятое яблоко, Гензель давно уже закинул сестру себе на плечо и двинулся бы обратно в Лаленбург. Но теперь, когда яблоко недвусмысленно указывало путь, Гретель устремилась вперед с новыми силами. И Гензель смирился с тем, что удержать ее не получится.
Хромонему пришлось бросить — старая лошадь настолько ослабла, что уже не способна была двигаться, лишь мелко дрожала, приникнув к камню и глядя вперед ослепшими побелевшими глазами. Она уже была мертва, только тело ее, упрямое тело млекопитающего, отказывалось признавать себя мертвым, бессмысленно качало кровь и напрягало мышцы.
Гензель не хотел бросать ее на растерзание свирепому морозу и колючей, как наждачный диск, метели. Позволив Гретель уйти подальше, он наклонился к бедному животному, достал кинжал и аккуратно чиркнул по жилистой шее. Кровь на морозе делалась густой и почти черной, лилась неохотно. Но даже небольшой раны хватает для того, чтоб любое существо с горячей кровью в жилах погрузилось в тяжелый бесконечный сон. Гензель потрепал Хромонему по рогам, закинул мешок за спину и стал нагонять Гретель. К животному он успел привязаться, но его потеря не стала критической — припасов к тому моменту оставалось так мало, что они легко вмещались в один заплечный мешок. Наверно, они слепо тащились бы вперед до тех пор, пока мешок не опустел.
Но на сорок третий или сорок четвертый день пути яблоко внезапно остановилось.
Оно не подало никакого сигнала, не предупредило об окончании пути, словом, не сделало ничего такого — просто замерло, как механизм, у которого сел заряд в батарее. Это было неожиданно. Тем более что вокруг не было видно ничего похожего на цель их путешествия. Ни башни, в каких имеют обыкновение прятать принцесс злые великаны, ни иного человеческого жилья. Здесь не было вообще ничего.
Они стояли посреди огромного заснеженного плато, чье однообразие нарушалось лишь несколькими покрытыми ледяной коркой валунами. Гудящая от холода пустота. Яблоко бесстрастно лежало на снегу, блестя позолотой. Гензелю хотелось рассмеяться, но смех наверняка получился бы хриплым и лающим.
Что это? Шутка альвов? Они намеренно заманили доверчивых людишек туда, откуда им уже точно никогда не выбраться?
Несколько минут Гензель с Гретель молча разглядывали белую пустыню с каменными шипами. Они устали настолько, что не было сил выразить разочарование и злость.
— Как думаешь… — наконец смог разомкнуть губы Гензель. — Гарантийный срок у него еще не вышел?.. Нам дадут еще одно такое же, если мы вернем альвам это?
Гретель взглянула на него так, что губы мгновенно прихватило ледяной корочкой, — взгляд смертельно уставшего человека, способного двигаться лишь благодаря остаточному напряжению во внутренних аккумуляторах. Теперь, когда яблоко остановилось, напряжение это стало таять на глазах.
Гретель зашаталась, словно смертельная усталость только сейчас сдавила ее своими когтями. Сколько шагов она еще сможет сделать?.. И сколько шансов у них вернуться к человеческому жилью?
Они так долго плутали по незнакомым горам в метели, что Гензель давно сбился с пути. Здесь не было ни ориентиров, ни направлений. Даже его верное акулье чутье здесь было бесполезно. Окруженные сотнями расселин, кряжей, пропастей, крутых утесов и осыпей, они будут кружить между ними до тех пор, пока в изнеможении не упадут на снег. И рядом с ними не будет милосердного человека с ножом, готового пустить кровь…
Гензель попытался улыбнуться, чтобы ободрить Гретель, но обмороженная кожа лица давно не подчинялась мимическим мышцам. Улыбка вышла оскалом ледяного демона.
— А теперь ты согласна идти обратно, сестрица?
— Пар.
— Что?
— Пар.
Она протянула дрожащую руку, указывая на что-то. На один из больших обледеневших валунов. Сперва Гензель решил, что холод и стресс повредили ее чувства восприятия. Говорят, замерзая, человек до самого конца видит галлюцинации, согревающие его…
— Все в порядке, Гретель, ты…
Она оттолкнула его — и откуда только силы взялись — и упрямо зашагала к валуну, с трудом вытягивая из снега ноги. Гензелю оставалось только следовать за ней. Почти догнав ее, он вдруг замер, выкатив глаза: над валуном и в самом деле поднималась тонкая струйка белесого пара. Захотелось отвесить самому себе оплеуху. Только промерзшая голова от нее наверняка разобьется на куски…
Это и в самом деле был пар. Гензель обошел валун кругом и обнаружил то, чего никак не могло здесь быть, — несколько широких горизонтальных щелей в его боковой поверхности. Из этих щелей и струился пар. Теплый, влажный… Гензель достал кинжал и осторожно постучал по поверхности. Ответом ему был металлический звон. Не камень. Лучше.
Сталь.
— Это похоже на вентиляционный отвод, — сказал он Гретель, смахивая со щелей снежную крупу. — Специальная шахта, чтоб выводить тепло на поверхность.
— Выводить откуда?
— Разве я знаю?.. Там внизу что-то есть. Прямо в скале. И судя по всему, не маленькое. Дай-ка я попробую…
Он просунул лезвие кинжала в щель и осторожно — сталь на морозе становится хрупкой как стекло — потянул. С первого раза не получилось, но он ощутил небольшую податливость стальной решетки, которой был забран теплоотвод. Если осторожно потянуть, расшатывая…
Решетка вывалилась с треском сломанных креплений. Кто бы ни ставил ее, он не рассчитывал на силовое вторжение. И был по-своему прав. Если бы не яблоко, Гензель не обнаружил этого тайника, даже если бы провел на этом плато всю жизнь. Из темноты провала дохнуло приятным запахом горячего металла, ржавчины и талого снега. Что бы там ни скрывалось, оно вырабатывало тепло. Все остальное его сейчас не интересовало.
— Спущусь вниз, — решил Гензель. — На ремне. Если крикну — спускайся следом.
— Не опасно ли это, братец?
Он лишь хмыкнул.
— Опасно, конечно. Почем нам знать, кто и зачем соорудил эту штуку в скале? Но если останемся снаружи, точно долго не протянем. Пусть опасно, зато тепло… А там уже будем думать, куда попали.
Гензель скользнул в узкий лаз, успев порадоваться тому, что скудное питание помогло ему не отрастить объемного живота. Промороженный ремень опасно скрипел, выдерживая его вес, пока Гензель шарил в темноте ногами, пытаясь нащупать выступ для опоры. Но чем ниже он спускался, тем теплее становилось, и тело сладко замирало, сбрасывая с себя ледяное оцепенение, властвовавшее над ним в течение последних недель.
Он спустился метра на полтора, прежде чем почувствовал под подошвами пустоту. Дальше надо было прыгать. В темноту. В неизвестность. В тепло. Да и был ли выбор? Не сидеть же здесь до скончания веков!.. Гензель задержал на всякий случай дыхание — и выпустил ремень.
Мгновение падения, скрип обдираемой с металла ржавчины, пол упруго бьет по ногам — и он уже внизу.
Здесь было не так темно, как он ожидал. И не так тесно.
Он стоял в длинном коридоре, обшитом металлическими панелями и достаточно широком, чтобы по нему могла проехать графская карета. За панелями виднелось оборудование, работающее почти бесшумно, если не считать легкого электрического треска. Какие-то датчики, тумблеры, шкалы, катушки медного провода… Темнота, пусть и не полностью, отступала благодаря лампам, чей свет, размытый, неприятного для глаза фиолетового оттенка, падал на пол и стены.
Технологический тоннель, вот что это такое. Построенный, несомненно, человеком. Грубые лапы цвергов не способны на такую работу, да и не сообразить их полуживотным мозгам ничего подобного. Альвы? Ну, те едва ли стали бы закапываться в землю и жить среди стали и ржавчины — на облаках оно, наверное, комфортнее. Значит, людское. И до сих пор работающее. Подземный завод? Убежище? Станция наблюдения?
Гензель негромко свистнул.
— Спускайся, сестрица!
Гретель едва не свалилась ему на голову — повезло, что успел подхватить. Окоченевшая, конечно, бледная, как сама смерть, но живая.
— Что это, Гензель?
— Трактир, — буркнул он, поглаживая зачем-то плотные резиновые жилы силовых кабелей на стене. — Только посетителей давно здесь не видели… Тсс.
Гретель нахмурилась, но прикусила язык. Когда впереди неизвестность и опасность — первым идет братец Гензель, так было заведено давно. А опасность он здесь нутром акульим чуял. В воздухе не ощущалось свежей крови, но предполагалось что-то другое, тоже тревожное и одновременно манящее.
— Автоматика, — сказала Гретель отчетливо. — Какой-то подземный автоматический комплекс. Может, часть заброшенного завода…
Что может производить завод, спрятанный так далеко в горах? Да и слишком тихо здесь для завода. Ни тебе шума, ни лязга… На заводах всегда что-то грохочет. А тут — сонное царство…
— Возможно, все ушли отсюда много лет назад.
— Не ушли, сестрица.
— Отчего ты так думаешь?
— Смотри на изоляцию проводов. Очень мало пыли для заброшенного много лет тоннеля. Лампы до сих пор не перегорели. Нет, мы здесь не одни. У этого места есть хозяева. И только Человечество знает, что они испытают, увидев нас.
— Хозяева не всегда рады незваным гостям.
— Помнишь маленькую девочку из сказки? — усмехнулся Гензель, вытаскивая мушкет, заботливо обмотанный мешковиной и перевязанный сыромятными ремешками. — Она заблудилась в лесу и наткнулась на дом трех страшных мулов, огромных и косматых. Но хозяев не было дома, и она вошла. На столе стояла еда, и она похлебала из мисок. Потом от скуки покачалась на стульях. И, утомившись, легла в одну из кроватей спать. Она не знала, что хозяева домика, огромные мулы, скоро вернутся. Один мул взялся за ужин и вдруг закричал: «Кто ел из моей миски и почти все съел?!» Другой сел на стул и воскликнул: «А кто сидел на моем стуле и поломал его?!» А третий с размаху упал в кровать и завопил…
— «…Кто спал в моей кровати и вымазал ее красной кашей?» — пробормотала Гретель. — С детства не могу терпеть этой сказки. Ты специально рассказывал ее, чтобы меня напугать.
— Пугать младших сестер — древняя законная обязанность всех братьев, — отозвался Гензель, взводя курки по одному. — Но с тобой это не работало. Своими генофокусами ты сама пугала брата до потери пульса…
Порох не отсырел, недаром Гензель столько времени заботился об оружии, предохраняя его от влаги и снега, смазывая топленым салом и чистя от ржавчины. Не термическая винтовка королевских гвардейцев, конечно, но для узких тоннелей и стесненных объемов — как раз впору.
Идти по просторному коридору с плотным полимерным покрытием было не в пример проще, чем тащиться по снежной равнине, пытаясь сохранять дотлевающие крохи тепла. Но Гензель все равно не спешил. Почему яблоко альвов привело их сюда? Какое отношение этот подземный комплекс имеет к похищенной принцессе? И к цвергам, раз уж на то пошло?
Один коридор перетекал в другой, потом раздваивался, обращался целой галереей или утыкался в тупик — все здесь было запутано, словно тропинки в сумрачном лесу. Вокруг была аппаратура, назначения которой Гензель не знал. Приборные щитки, рокочущие шестереночные передачи, гудящие кабели и сложные пульты с великим множеством кнопок — всего этого здесь было с избытком. Были здесь запечатанные отсеки и многотонные двери с цифровыми замками, капсулы лифтов и забранные в стеклянные коробочки тревожные кнопки цвета артериальной крови. Такого не бывает на заводах и фабриках. Больше всего это напоминало…
— Убежище, — тихо сказала Гретель, предусмотрительно держащаяся позади него. — Вот на что это похоже. На какое-то большое подземное убежище. Довоенное.
Об истории королевства Тревирануса Первого Гензель имел самое смутное представление.
— А когда здесь была последняя война?
— Лет сто пятьдесят назад. Бароны состязались между собой в чистоте крови и количестве ракет в арсенале. Победил дед нынешнего Тревирануса Первого.
— Насколько я теперь понимаю, конкурентов он взял не чистотой крови…
Гретель хмыкнула.
— Быстро учишься, братец. Он засыпал конкурентов на престол ракетами и бомбами. Не гнушаясь и генооружием, к слову. Еще сто лет после войны по селам и городам рассказывали про людей с песьими головами и птиц — с женскими…
Акула в душе Гензеля вдруг насторожилась. Она повела тупой мордой, ощущая сквозь толщу воды какое-то подозрительное колебание… Так бывает, когда акула чует жертву, чьи суетливые движения беспокоят ткань моря. Только сейчас это не было похоже на жертву — слишком осторожная, слишком спокойная… Жертвы ведут себя иначе.
— Кажется, хозяева уже знают, что мы здесь, — прошептал Гензель, делая вид, что увлеченно изучает стрекочущие приборные панели.
— Конечно, знают. В месте, подобном этому, не может не быть системы внутренней безопасности. Я думаю, они знают о нас с тех пор, как мы вошли. Сколько их?
Гензель задумался. Акулье чутье говорило ему многое, но универсальным сканером оно не являлось.
— Не знаю. Много. Пять, может, больше. Ведут нас, но подбираются все ближе и ближе. Как тогда, в Лаленбурге. Только здешние ребята более ловкие. И более опасные, пожалуй.
Они шли по широкому техническому коридору, похожему на церковный неф, только роль колонн здесь выполняли огромные вертикальные трубы, тянущиеся, кажется, от самого ядра планеты. Труб этих было много, они обступали идущего со всех сторон, оттого Гензель ощущал себя словно в лесу. Только в этом лесу деревья были из металла, окрашены в грозную бело-алую полоску и имели странные надписи «Контроль давления», «Дренаж 200» или «Гидролиния». В таком лесу ничего не стоит подобраться почти вплотную к беспечной жертве.
— Надо поговорить с ними, — сказала Гретель, придержав Гензеля за рукав. — В конце концов, мы без предупреждения нанесли им визит. А они могут быть не самыми радушными хозяевами.
— Лучше бы им проявить гостеприимство, — пробормотал Гензель.
Они могут принять нас за врагов. Но мы не враги. Нам нужно лишь узнать, не видели ли в окрестностях принцессу. Или стаю цвергов.
Идея была неважной, но Гензель, скрипнув зубами, решил принять ее в качестве основной. Иногда не лишне размять в драке кулаки, но если имеешь дело с незнакомцами, а за спиной — беззащитная сестра… Может, действительно лучше сперва поговорить. В конце концов, разговор его ни к чему не обязывает. Любая беседа становится только интереснее, когда вытаскиваешь мушкет и засовываешь его ствол собеседнику в рот.
— Эй, вы! — крикнул он, убрав мушкет под мышку и приложив ладони ко рту. Трубы вокруг него неприятно и низко зазвенели, точно треснувшие бокалы. — Встречайте гостей! Мы пришли с миром. Я и… моя сестра. Мы не хотим вам вреда. Мы ищем принцессу Бланко Комо-ля-Ньев, может, вы знаете такую?
«Ага, как же, знают, — подумал он, демонстративно прижимая мушкет локтем к боку. — Небось они уже шесть лет носят обувь из ее кожи. А мы тут цвергов каких-то ищем…»
— Мы не причиним проблем! — крикнула Гретель тонко. — Напротив, мы можем вам помочь. Помощь за помощь!
Гензель ощущал движение. Он чувствовал затухающие вибрации вокруг себя, и чутье хладнокровного хищника, для которого любой след в окружающем море был следом или жертвы, или опасности, подсказал ему, что любезные хозяева подобрались еще ближе. Хозяева редко так делают, когда собираются пожать гостю руку и предложить ему обогреться с дороги. И уж конечно, хозяева редко рассредотачиваются таким образом, чтобы держать гостя отрезанным со всех сторон. Возможно, в горах другие представления о гостеприимстве?..
Кожа между лопатками зудела от сдерживаемого напряжения. Гензель ощущал верткие язычки опасности, прикасающиеся к нему и мгновенно втягивающиеся. Он чуял разлитую в воздухе злость, особенное чувство, от которого хмелеешь мгновенно, как от бутылки молодого вина. Злости было много, настолько, что она обжигала похлеще мороза. От нее даже воздух казался густым и наэлектризованным. И эта злость скопилась здесь не случайно. Она была обращена против них. Она кружила вокруг, словно притянутая их собственным излучением.
— Сейчас бросятся, — спокойно сказал он Гретель. — Держись от меня подальше, а лучше вообще спрячься.
— Я геноведьма, — сказала она с неуместным достоинством.
Она не чувствовала опасности. У нее был дар к геномагии, но инстинкта хищника не было. А у Гензеля не было времени спорить. Он легко оттолкнул Гретель к стене, туда, где она не станет мешаться под ногами.
И почти тотчас ощутил: пора.
Он успел встать поудобнее, равномерно распределив массу тела. Мушкет сжат в обеих руках, но опущен вниз, создавая впечатление, что он не готов к бою, а расслабленно изучает пол. Очень обманчивое впечатление.
«Готова?» — спросил он акулу, затаившуюся у самой поверхности. Та ничего не ответила. Лишь блеснули ртутью ледяные, не умеющие выражать чувств глаза. Глупый вопрос. Она-то всегда готова…
Существо возникло перед ним внезапно, так быстро, словно не выскочило из-за трубы, а было вклеено невидимым монтажером в кинопленку. Вот перед Гензелем никого нет, и вот уже стоит оно — сутулое, обросшее грязно-серой шерстью, со свисающими до пола руками, увенчанными когтями, тяжелыми и кривыми, как лезвия плуга. Лицо — странная пародия на человеческое, с искаженными и пугающими чертами. Челюсть необычно широка и тяжела, а нос, напротив, вдавлен в лицо, почти плоский. Больше сходства с обезьяной, чем с человеком. И сходству этому не мешает даже нелепая, почти человеческая борода, торчащая пучком жесткого серого волоса.
Цверг. Вечно голодная тварь.
Кровожадный подземный карлик.
Он бросился на Гензеля молча, без рыка и возгласа. Десятилетия охоты в подземельях, где эхо может превратить в громкий отзвук даже шелест песка под ногами, научили его убивать тихо. От Гензеля его отделяло лишь три или четыре шага. И цверг не намеревался терять времени.
Он метнулся вперед — одним мягким движением, по-крысиному, и тоже совершенно беззвучно, растекся по воздуху серой молнией. Это у него тоже вышло очень ловко. Никаких высоких прыжков, никаких лишних движений. Мгновенно, пока противник не успел отреагировать, ударить всем весом его в живот, перевернуть и немедля полоснуть когтями по незащищенной плоти, вскрывая ее крест-накрест, выпуская наружу сладкий и горячий человеческий сок…
Гензель увидел глаза цверга и на краткий миг, измерить который не способен даже самый точный королевский хронометр, вгляделся в них. Глаза были золотистыми, почти огненными, и в них не было ничего человеческого. Животная ярость, упоение боем и предвкушение крови. Это существо желало разорвать Гензеля на дюжину кусков, чтобы потом, урча от наслаждения, пожирать их, перемалывая кости огромными желтоватыми зубами. Не человек — лишь жалкая, уродливая и голодная его копия.
Мозг цверга, неразвитый и слишком просто устроенный, не был способен на долговременное тактическое планирование. Но у него было то, что отличает всякого хищника: интуитивное и безошибочное чутье зверя. Он ожидал, что Гензель в попытке уклониться отступит в сторону или попятится. Он был готов к этому. Ни одному человеку не уклониться от когтей цверга, когда тот совершил свой бросок. Цверг знал, что последует за этим. Хруст слабых человечьих костей, затухающий вскрик и…
Гензель не стал отступать в сторону. Ухмыльнувшись в искаженное от адреналинового опьянения лицо цверга, он неожиданно сделал шаг вперед, прямо навстречу ему.
Кто-нибудь когда-нибудь видел убегающую от боя акулу?..
Стволы мушкета вскинулись вверх, резко, как сработавшая ловушка. И встретили цверга точно на середине его прыжка, оборвав так и не дошедшую до конца траекторию. Тяжелая сталь ударила его прямо в лицо, разрывая кожу, выбивая зубы и ломая прочные кости. Удар получился хорошим, четким и лаконичным. И очень мощным. Цверг серым комом свалился на пол, по-звериному взвыв. Морда его, когда-то имевшая отдаленное сходство с человеческим лицом, теперь утратила всякое с ним подобие — залитое кровью крошево с неровными провалами глаз. Нижняя челюсть оказалась переломанной пополам и повисла, подобно сломанному пролету моста, обнажив обломки зубов и вяло ворочающийся в пасти язык.
Цверг был ошарашен. Даже не болью, его нервная система не считала боль чем-то шокирующим или страшным. Он был потрясен неожиданностью. В отлаженном за много лет ритуале охоты что-то пошло не так. Случилось то, чего не могло случиться, что-то невозможное и оттого пугающее.
Цверг был силен. Даже после такого сокрушающего удара его тело было готово к бою. Оно зашевелилось, загребая несуразно большими когтистыми лапами, пытаясь подняться. Несомненно, человеку просто повезло. Он просто чуть более ловкий, чем его слабые сородичи, полные сладкого человеческого сока. Это не поможет ему.
Цверг заворчал, пытаясь оторвать от пола залитую кровью голову, но не успел. Потому что сверху на загривок вдруг обрушился тугой ком плотной боли, и во всем теле вдруг захрустело, да так оглушительно, что все звуки в мире вдруг сами собой погасли, да и сам мир, мгновенно набравшись багровых оттенков, стал, подрагивая, отползать куда-то в сторону…
Гензель поднял мушкет, прикладом которого размозжил цвергу основание черепа, и удовлетворенно кивнул сам себе. Опасность, жгучим электрическим полем окружившая их с Гретель, не пропала. Напротив, теперь он еще сильнее ощущал чужую ненависть. Как заведено у цвергов, первым часто нападает самый молодой в стае. Еще одна неказистая хитрость, выработанная их куцым разумом. Первый нападающий рискует сильнее прочих. Опытные самцы могут позволить себе бить добычу наверняка, пользуясь тем, что она отвлечена или изранена.
— Следующий, — коротко выдохнул Гензель, крутя в руках мушкет, подобно церемонимейстерскому жезлу. — Ну, хозяева! Невежливо заставлять гостей ждать!
Опасность отозвалась мгновенно, точно этого и ждала. Ужалила сразу несколькими языками, с разных сторон. Одного цверга Гензель заметил сразу — тот выскочил по правую руку, прижавшийся к полу, с оскаленными зубами. Этот действовал хитрее и осторожнее. Видно, видел смерть своего собрата и не торопился бросаться на опасную сопротивляющуюся добычу. Значит, компаньоны где-то рядом.
Второй подкрадывался сзади, все время оставаясь за трубами, Гензель слышал шорох, с которым жесткая шерсть цверга касалась окислившегося старого железа. Третий… Инстинкт впрыснул в кровь дозу обжигающего адреналинового яда — третий был сверху!
Он держался под потолком, впившись сильными руками в плети свисающих силовых кабелей, и ждал удобного момента. Не успел голос Гензеля затихнуть, отраженный металлическим эхом искусственной пещеры, как цверг сорвался со своего места и устремился вниз. Пусть ростом он был ниже человека, массы его тела должно было хватить, чтоб смять любое существо, превратить его в кучу мяса со сломанными, торчащими наружу костями. Проверенный прием, уже не раз помогавший цвергу первым добираться до добычи.
Ему не хватило полсекунды.
Хрупкий человек был уже совсем близко, настолько, что цверг чувствовал запах чужого пота и грязи. Один рассчитанный удар — и человек с треском сломается, подобно молодому дереву, на которое уронили многотонный валун. Но той полсекунды, которой не хватило цвергу, хватило человеку, чтобы вскинуть вверх свою нелепую металлическую палку. Это ничем не могло ему помочь, даже держи он в руках острое копье, и цверг сгруппировался перед падением, чтобы наверняка закончить бой одним ударом.
А потом все огни ада с раскалывающим голову грохотом вдруг прыснули ему в лицо — словно кто-то изо всех сил дунул в полный шипящего угля камин.
Цверг завизжал от боли — ее вдруг оказалось так много, что даже его неразвитая нервная система испытала подобие короткого замыкания, поймав одновременно сотни пульсирующих сигналов. Сигналы были от тела, которое сообщало о множественных ранах. Вырванные куски мяса, пылающие ожоги, вывороченные и расколотые кости, лопнувшие внутренние органы.
В этом предупреждающем сигнале, озарившем последние секунды жизни цверга, не было необходимости. Он был уже мертв, но тело еще не успело понять этого, вшитые в геном инстинкты тщились заставить его дышать и жить. Будь инстинкты на уровне человеческих — они безропотно позволили бы куску выпотрошенного мяса, бывшему когда-то цвергом, испустить дух. Но цверг пытался жить еще несколько секунд — все то время, которое потребовалось его телу, чтобы перекатиться на бок и замереть. В двух шагах от человека с дымящейся железной палкой.
На мертвого цверга Гензель взглянул лишь краем глаза. Двойной выстрел картечью на близкой дистанции был страшен. Подхватив цверга в воздухе, пороховой выдох мушкета почти разорвал его на части, усеяв клочьями внутренностей и бледно-серыми лохмотьями кожи металлические трубы, стены и пол. В воздухе отвратительно пахло горелой шерстью, ее тлеющие ворсинки кружились вокруг подобно снежинкам в метель. Цверга едва не разорвало надвое — сдвоенный сноп картечи прошел сквозь серое жилистое тело без всяких затруднений. Покрытое дымящимися дырами, оно шлепнулось на пол безвольной медузой и откатилось в сторону.
Сильнейший удар в бок заставил Гензеля потерять равновесие и отскочить в сторону. Повезло. Третий цверг, разъяренный гибелью своих собратьев, не догадался использовать когти, способные вспороть человека от промежности до горла одним коротким взмахом. Но его кулаки своей тяжестью могли бы посоперничать с молотом кузнеца. И кулаки эти мелькали перед лицом Гензеля с впечатляющей скоростью. Несколько раз цверг задевал его, но удары выходили смазанными, не способными выбить сознание или обрушить на пол.
— Гензель!
Гретель не требовалось сообщать ему детали. Напряженное чутье Гензеля ощущало пространство вокруг себя как водную поверхность, в которой ежесекундно перемещалось множество тел. Некоторые тела были большими и холодными, их вибрацию он игнорировал, фиксируя лишь местоположение в пространстве. Другие были теплыми и резко движущимися. За ними Гензель следил, за всеми одновременно. Их было полдесятка, не меньше. И сейчас сразу два решили подобраться к нему сзади, пока он пятился от ударов их сородича.
Не глядя, он вслепую рубанул за спину мушкетом, точно стальной тростью. Приглушенный хруст кости подсказал ему, что удар достиг цели, а рев боли, последовавший мгновением позже, — что цверг оказался в достаточной мере впечатлен. Противник с переломанной лапой, безвольно повисшей вдоль тела, шарахнулся в сторону, но его приятели не собирались отказываться от подставившей спину добычи.
Гензель услышал треск ткани и с опозданием, лишь отскочив в сторону и выхватив из ножен кинжал, почувствовал жжение в правом боку. Не удержался, скосил глаза. Полушубок разорван, дублет на боку змеился рваным разрезом, из которого сочилась кардаминовая капель. Боли не было — акульи инстинкты отсекли ее, выдавив за грань восприятия. Не до нее.
Цверг мгновенно полоснул еще раз. Его кривые зазубренные когти, похожие на пролежавшие много лет в земле гвозди, зашипели по меху полушубка, вырывая из него клочья и вспарывая по шву. Очень быстро. Очень ловко. Не блокируй Гензель удара ложем мушкета — сейчас его рука уже валялась бы отдельно от тела, радуя наседающих со всех сторон карликов багровыми фонтанами крови.
Движения Гензеля не были ни грациозны, ни изящны. Он двигался экономно, в резком прерывистом темпе, в котором не было ничего от плавной завораживающей красоты признанных фехтовальщиков и завзятых бретеров. Попытайся кто-то в таком же стиле изобразить поединок на сцене театра его величества — такого наглеца, без сомнения, освистали бы. Но такова уж природа боя, что красота ее — особого свойства. Неопытный глаз бессилен ее разглядеть.
Бой — не танец, не балетное искусство, не цирковое выступление элегантных гимнастов. Бой — это хрип воздуха в легких, скрежет стали по кости, звенящие выпады и острый запах пота. Бой — это резкие движения, в которых нет ни капли грации или изящества. Бой — это звон натянутых до предела сухожилий, горячий пар свежей крови, выпущенной на свободу, и хруст стиснутых до крошева зубов.
Цверг, полоснувший его по боку, обрадовался успеху и сунулся слишком близко. Животный инстинкт говорил ему, что добыча, которой пустили кровь, уже почти мертва. Чужая кровь — это слабость. Кровь — предвестник чужой смерти. Глашатай скорой победы. У цверга не осталось времени, чтобы понять собственную ошибку. Кинжал Гензеля, прячущийся в тени предплечья, как гадюка под древесной корягой, шипящей молнией прыгнул вперед и рассек живот цверга наискосок снизу вверх. Серый мех на глазах стал набухать багровой жижей, потемнел. Следующим ударом Гензель вогнал длинное узкое лезвие цвергу под подбородок, прямо сквозь его нелепую бороду. Ничуть не изящный удар. Хрустнуло, голова цверга дернулась вверх-вниз — и тело мгновенно обмякло.
Удары сыпались со всех сторон. Обезумев от запаха свежей крови, цверги лезли на него всей стаей, от резкой вони их выделений сжимался желудок. В какую сторону ни глянь — везде ощерившиеся пасти и полные животной ярости глаза. Сколько их здесь?.. Полдесятка?.. И сколько он сможет продержаться в этом водовороте когтей и зубов?..
Об этом Гензель не думал. Он вообще ни о чем не думал, позволив телу подчинить себе разум без остатка. Акула ловко и хладнокровно убивает не потому, что долго это планирует или рассуждает. А просто потому, что она такой создана.
Кто-то из цвергов попытался ухватить его за плечо. Гензель рефлекторно клацнул зубами, ощутив во рту тошнотворно-солоноватую чужую плоть и клочки шерсти. Пальцы цверга посыпались на металлический пол. А секундой позже на полу оказался и их неудачливый хозяин вперемешку с собственными внутренностями — кинжал Гензеля перечеркнул его брюхо жирной алой чертой.
Это было жуткое и кровавое акулье пиршество. Холодная ярость схватки опьяняла, но Гензель не ощущал кипящего адреналинового притока. Он действовал с леденящим спокойствием, пугающей нечеловеческой целеустремленностью. Словно и не сражался, а просто методично выполнял свою биологическую задачу. Ощутив это, даже цверги утратили напор. Казавшаяся слабой добыча обернулась стальным капканом с чудовищными, не уступающими их собственным, зубами.
Да и осталось их куда меньше. Из всей стаи уцелело трое, как механически отметил Гензель, и эти трое уже не выглядели уверенными в своих силах. У одного сломана рука, у другого дырка от кинжала в боку, третий явственно хромает. Но это уже не имело значения. Гензель знал, что уйдет отсюда только тогда, когда закончит дело и все цверги превратятся в остывающие на полу туши. Никто в здравом уме не станет оставлять за спиной цвергов. Он уже приподнял мушкет, собираясь разнести голову одного из уцелевших карликов оставшейся в стволе пулей, но тут случилось то, чего обычно не случается в бою.
— Стойте! Немедленно стойте!
Голос был женским, взволнованным, тонким, совсем не похожим на спокойный и рассудительный голос Гретель. Потому что это кричала не Гретель. Гензель уставился на худую фигурку, замершую в дверном проеме. Эта заминка могла бы стать причиной его мгновенной смерти, если бы цверги ею воспользовались. Но они, точно домашние псы, услышавшие голос хозяина, тоже остановились, взволнованно приподняв свои страшные бородатые морды, перепачканные липкой слюной.
— Что же вы наделали! О… Хватит!
Девчонка. Бледная, почти как Гретель, но, может, так лишь кажется в электрическом свете подземелья… Совсем молодая — лет пятнадцати, не больше того. Фигурка угловатая, как у подростка, не успевшая налиться мягкой женственностью, но стройная. Лицо показалось смутно знакомым. Вроде бы черты непримечательные, заострившиеся, но что-то знакомое было в этих серых глазах…
Гензель вдруг вспомнил эти глаза. Он видел их в зеркале королевы-мачехи, только там они были смешливыми, ребячьими, а сейчас горели совершенно взрослой ненавистью.
— П-принцесса Бланко… — выдавил он, забыв про боль и забыв, что все еще целится из мушкета в голову цверга. Да и тот замер уродливой серой статуей.
— Ее королевское высочество принцесса Бланко Комо-ля-Ньев! — отчеканила девушка с неожиданной решительностью, в глазах сверкнули колючие черные молнии.
Одета она была не по-королевски. Пожалуй, даже скромное шерстяное платье королевы-мачехи, напоминающее монашескую рясу, смотрелось по сравнению с нарядом принцессы Бланко бальным облачением. На ней был помятый и выцветший комбинезон, из тех что носят обыкновенно техники и инженеры, перетянутый в талии грубым ремнем, вдобавок потрепанный и явно великоватый по размеру. Судя по пятнам масла и потертостям, комбинезон этот использовался регулярно и часто — и явно не для прогулок по саду. Впрочем, какой уж под землей сад…
Принцесса Бланко быстро побежала к ним, не обращая внимания на лужи крови и распростертые тела. На ее лице застыла боль — та искренняя юношеская боль, которую невозможно смягчить никакими мимическими мышцами или сгладить макияжем. Она смотрела на распластанных мертвых цвергов с таким выражением, словно они были ее любимыми домашними питомцами, а то и членами семьи.
Возле одного из тел она присела, приложив ладонь к покрытой грубой серой шерстью шее. И отняла ее, не обнаружив следа сердцебиения. Она даже не думала о том, как бы не испачкаться в крови. Когда принцесса Бланко поднялась, лицо ее было серым от ненависти, как обожженная сталь, а предплечья — багряными от крови.
— Прочь! — крикнул Гензель, обнаружив, что она перекрывает ему прицел. Три уцелевших цверга, обмершие было от ее крика, зашевелили носами, их ужасные когти пришли в движение, будто перебирая струны. — В сторону, талассемия вас раздери!..
Не успеть, он понял это сразу. В стволе последний заряд. Хватит на одного цверга, если удачно угодить. Но двух других не остановить, слишком уж они близко к принцессе. Мгновение — и щуплая фигурка в перемазанном комбинезоне превратится в окровавленную ветошь, разбросанную по полу.
Цверги шагнули ей навстречу. Значит, осталась половина мгновения…
Но половина мгновения закончилась, а принцесса все еще была жива и невредима. Трое цвергов, глухо ворча, прижались своими страшными телами к ее ногам, мгновенно сделавшись кроткими и тихими, как щенки. Они даже не пытались ее поцарапать, когти, которыми можно было разорвать человеческое тело вдоль, тихо скрежетали об пол. Принцесса, всхлипывая, гладила их по жутким мордам, по ушам, по шеям.
— Ох Человечество! — выдохнул потрясенный Гензель, чувствуя себя оглушенным, сбитым с толку, растерянным. — Я думал, они растерзают вас в клочья!
Она подняла на него глаза. И Гензель вдруг ощутил желание попятиться. Которого не испытывал, даже когда его со всех сторон осаждали разъяренные цверги.
— Стреляйте! — Принцесса поднялась на ноги, вперив в Гензеля белый от ненависти взгляд. — Вот я, перед вами. Стреляйте! Вы же за мной явились? Давайте! Застрелите меня, как этих несчастных!..
Принцесса шагнула к Гензелю, прямо на ствол мушкета. Бесстрашно, точно оружие в его руках было не опаснее прогулочной трости. Лицо затвердело, в глазах пылает холодный огонь ярости и презрения, по-подростковому небольшая грудь выпячена — ни дать ни взять и впрямь ожидает выстрела.
Гензель попятился от нее и опустил мушкет.
Безумная принцесса. Ручные цверги. Ради Человечества, что здесь происходит?..
— Позвольте… Ваше… кхм… Высо…
Момент составить о себе благоприятное впечатление был упущен. Витиеватые фразы дворцового этикета путались на языке, к тому же Гензель еще не вполне представлял, что должен ими выразить. Раскаяние — за то, что убил нескольких кровожадных чудовищ? Радость от встречи с представителем королевского рода? Может, надо каким-то образом засвидетельствовать почтение?..
— Стреляйте! Ну! — крикнула она зло и звонко. — Вы же за этим пришли? Поздравляю вас! Вы оказались лучше всех отцовских охотников! Нашли! Наверно, вы профессионал, верно? Чертов проклятый профессионал, так?
«Сумасшедшая девчонка! — подумал Гензель, не зная, куда деть оружие и пытаясь озлобиться в ответ. Окровавленный кинжал словно нарочно отказывался лезть в ножны. — Наверно, одиночество, страх и голод лишили ее разума…»
Однако разум в глазах принцессы Бланко присутствовал, и Гензель явственно видел это. Впрочем, презрение и злость были не менее явственны. Он ощутил себя так, словно это он находится на прицеле мушкета. Цверги, переминаясь с лапы на лапу, молча стояли за спиной ее высочества — ну точно придворная свита.
Кажется, пора было внести хоть толику ясности в эту безумную картину.
— Стойте! — сказал Гензель решительно, даже мушкет выставил прикладом вперед, в жесте нарочитой покорности. — Слышите, вы? Никого я не собираюсь убивать. Я имею в виду, если никто не покусится на мою шею…
— Да? — Презрение окатило его — будто в лицо плеснули грязной воды из ведра, в котором служанка с постоялого двора мыла тряпки. — Вы хотите сказать, что не собираетесь меня убить?
— Вы раскусили меня, — буркнул Гензель, не зная, как на все это реагировать. — Сейчас как раз охочусь на юных девиц. Очень ходовой товар в Лаленбурге. Особенно ценятся светленькие. А вашу косу я собираюсь прибить к лучшему щиту для охотничьих трофеев. Буду хвастаться перед друзьями, какой редкостный экземпляр мне попался в горах… Вы не обидитесь, если я скажу им, что вы были двух метров ростом, а когти у вас как у вулвера?
Косы у принцессы Бланко не было — густые волосы цвета легкой ржавчины она стригла коротко, по-мужски, явно не глядя в зеркало.
Но эффект от слов Гензеля все же был налицо — принцесса в некотором недоумении остановилась. Замешательство, овладевшее ею, притушило ненависть. Может, лишь на миг, но и это показалось Гензелю добрым знаком.
— Кто вы? — вдруг требовательно спросила принцесса. — Ваше лицо мне незнакомо. Королевский егерь? Вольный охотник? Или просто наемный убийца?
— Меня зовут Гензель. А вот это — моя сестра Гретель. И клянусь сорока шестью хромосомами, ваше высочество, никаких планов касательно вашего убийства я не строил. Я не убийца.
— Не убийца?.. — Она взглянула на неподвижные тела цвергов, и голос ее вновь наполнился ледяным презрением. — Вы только что хладнокровно и безжалостно убили четырех моих друзей. Это ли не признак убийцы?
— Ваши друзья — кровожадные цверги, которые собирались разорвать меня на части. Верите или нет, но это была самооборона. Мне лишь посчастливилось быть немного быстрее.
— Они никогда не обидят человека!
Гензель молча показал прореху на дублете. Кровь уже запеклась на ребрах, а вот боль пришла только сейчас.
— Это же цверги, а не домашние питомцы, — пояснил он, морщась. — Если они видят человека, то не раздумывают. А мы с сестрой, судя по всему, вторглись в то место, которое они считают своим логовом. Стая не рассуждает. Это биологические автоматы, чудовища, генетически выведенные убийцы…
Он едва не прикусил язык, когда она, протянув руку, легко похлопала одного из цвергов по голове. Гензель готов был поклясться, что в этот момент цверг ухмыльнулся.
— Биологические автоматы? — насмешливо и зло спросила принцесса. — Вы уверены в этом?..
— Я мало в чем уверен с тех пор, как оказался в Лаленбурге, — пробормотал Гензель, чувствуя себя ужасно глупо и неуютно. — Я даже не уверен в том, что знаю, где нахожусь.
— Явились, чтобы меня убить, и даже не удосужились провести разведку?
Гензель медленно вздохнул, пытаясь найти правильный ответ. Это оказалось непросто.
— Он не убийца. — Молчавшая до этого момента Гретель остановилась возле него. — Если бы он по какой-то причине хотел убить вас, он сделал бы это прямо сейчас.
Логика геноведьмы, кажется, произвела некоторое впечатление на принцессу. По крайней мере, неприкрытая враждебность в ее взгляде немного смягчилась. Не пропала, но сделалась не столь острой.
— Кто вы?
— Гретель. Геноведьма.
От Гензеля не укрылось то, как вздрогнула принцесса при этом слове. Люди нередко вздрагивали, стоило Гретель взглянуть им в глаза. Иные, не таясь, даже осеняли себя знамением священной двойной спирали и шептали молитву от сглаза. Но реакция Бланко показалась ему другой. Это был испуг какого-то иного рода. Так пугается не взрослая девушка, так пугается ребенок, вдруг увидевший под кроватью горящие глаза того, кто долго мерещился ему в ночных кошмарах.
— Все в порядке. Мы не причиним вам зла, ваше высочество. Мы с братом оказались здесь случайно и не по своей воле. Искали укрытие от холода. И мы приносим свои извинения. За вторжение и за то, что произошло. И мы действительно не знаем, где находимся.
Удивительно, но голос Гретель произвел на принцессу благоприятное впечатление. Может, как раз потому что звучал монотонно и безжизненно. Это успокаивало.
— Это крепость, — неуверенно сказала принцесса. На пришельцев она все еще глядела настороженно, точно и сама была много лет прятавшимся в укромном месте диким зверьком, ослепленным внезапным светом. — Подземный защитный комплекс. Названия у него нет, а номер едва ли вам что-то скажет.
Гензель присвистнул.
— Не самое подходящее место для крепости. Крепости строят в городах, а не в безжизненных скалах. От кого здесь обороняться, от снега?..
Принцесса недовольно дернула плечом. Жест не девушки, но подростка, которого заставляют говорить на неинтересную ему тему. По всей видимости, в этой крепости не имеется штатного церемониймейстера, который привил бы ее величеству необходимые манеры.
— Этой крепости много лет, а построили ее еще до войны. Только потом забросили. А я нашла.
«Превосходное место для особы королевского рода, — язвительно подумал Гензель. — Но чего-то ему все-таки недостает для лоска. Быть может, бархатных портьер и золоченых колонн?..»
— Чему вы улыбаетесь? — подозрительно спросила Бланко.
— Извините, ваше высочество, больше не буду. Моя улыбка скверно действует на девушек. И на любую живность, у которой есть глаза.
— У вас ужасные зубы.
— А у вас ужасное воспитание, — парировал он. — Я думал, особы королевской крови куда вежливее встречают гостей.
— Я… Я не видела людей много лет. Иногда мне кажется, что целую вечность.
— С вашего исчезновения прошло шесть лет, — осторожно сказал он. — Весьма большой срок. Немудрено позабыть об обычаях гостеприимства.
Принцесса Бланко нахмурилась. Чертами лица она не походила ни на отца, ни на мать — катастрофически не хватает породистости, царственности. Ни дать ни взять обычная городская девчонка — из тех, что служат с малых лет на фабриках, смазывая агрегаты и копаясь в механических потрохах огромных машин. Перепуганная, разозленная, смущенная и колеблющаяся одновременно. Как и любая девчонка на ее месте и в ее обстоятельствах.
Она была зла — и Гензель вполне понимал ее чувства. А еще она была испугана этим внезапным вторжением и кровопролитием, которое за ним последовало. А еще она испытывала любопытство — в конце концов, Гензель с Гретель были первыми людьми, которых она увидела за шесть лет. Почти треть своей недолгой жизни.
Шесть лет в подземной норе в обществе стаи цвергов? Удивительно, как она вообще сохранила рассудок!
Гензель совершенно не разбирался в геномагии, как и во многих других вещах. Но в женщинах он уже немного разбирался. И давно подозревал, что перед любопытством бессильна любая представительница слабого пола, вне зависимости от того, один процент в ее геноме порченой крови или сорок, во дворце она живет или в лачуге. Просто есть вещи, изменить которые бессильна сама природа.
— Ладно, — милостиво кивнула принцесса Бланко, неумело пытаясь сохранить на лице выражение царственной надменности. — Наверно, я позволю вам провести здесь какое-то время.
Гензель с трудом удержался от ухмылки.
— Спасибо, ваше высочество, — искренне сказал он. — Мы с сестрой очень вам признательны. И если вы не против, для начала мы бы хотели отдохнуть. Нет ли здесь комнат с кроватями?..
— …Она и в самом деле очень велика. Мне не хватило шести лет, чтобы побывать во всех ее уголках. Строили в старые времена, при моем прадеде, наверно, тогда любили… массивную архитектуру. Даже если это автоматизированное убежище, оснащенное целой кучей оружия. Наверно, здесь может укрыться несколько тысяч человек.
— Значит, от тесноты вы не страдали?
— Нас было восемь. — Принцесса беспомощно улыбнулась. — Я и семь цвергов. Не самая большая компания.
— Эта крепость… — Гензель в задумчивости поскреб ногтем обод опустошенной консервной банки. — Откуда она взялась? Кто-то же ее построил?
— Скорее всего, кто-то из мятежных баронов. Тех, что воевали против моего прадеда, Карстена Четвертого.
— Но крепость не пригодилась.
— Выходит, что так. Война отгремела, мятежные бароны пали, а крепость осталась никому не нужна. Поэтому ее попросту законсервировали и бросили. На мою удачу. Ешьте смелее, сударь Гензель, не бойтесь за мои запасы. Я же говорю, крепость была снабжена всем необходимым для поддержания огромного гарнизона. У меня в подвалах сотни тонн припасов. Преимущественно, конечно, солдатские рационы. Уж извините, что не могу вас угостить фаршированной куропаткой или зайцем в вине… Постепенно я и сама привыкла к этому рациону. Все сбалансированно, сытно и вкусно. А от изысков дворцовых поваров меня частенько мучила изжога…
Гензель с готовностью распечатал очередной рацион. Еда была выше всяких похвал.
Запечатанные армейские галеты, произведенные еще до того, как прадед Гензеля и Гретель встретился со своей будущей женой, тубы с энергетическими напитками, мясные консервы, даже овощи и фрукты. Это тебе не сушеное мясо, окаменевшее от мороза… Еды здесь было вдосталь, хватит на двадцать лет осады.
— Значит, кто-то планировал отсидеться под землей, переждав каскады фугасных и генетических бомб? — уточнил Гензель, разрывая ячменную лепешку, такую мягкую, будто только часом раньше ее вынули из печи.
— Не отсидеться, — возразила принцесса, наблюдая за тем, как гости жадно поглощают еду, и бездумно кроша галету в собственную тарелку. — Это не старый подвал, в котором можно переждать бомбардировку. Это самая настоящая крепость. Чего-чего, а оружия здесь хватает. Оно, правда, спящее, но… Наверняка его можно пробудить. У меня не было необходимости проверять.
Старательно пережевывая сочный консервированный эскалоп, Гензель подумал о том, что все это оружейное старье, набитое в крепость, против королевской армии с ее термическими орудиями и бронированными мехосами выдержит не больше получаса.
И о том, что крепость, в сущности, не более чем огромный анахронизм, реликт, продукт иной эпохи, когда люди уповали на толстые стены и крепостные рвы. Но вслух говорить ничего этого не стал. Отчасти из-за того, что не хотел нарушать иллюзий юной принцессы о надежности ее убежища. Отчасти — из-за того, что у него был занят рот.
Гретель ела медленно, крошечными порциями, словно и не она голодала в горах днем раньше. Она предпочитала слушать, тем более что принцесса, отошедшая от испуга, уже не замыкалась в себе после каждого вопроса. Напротив, она явно оттаяла и теперь, восседая с ними за одним столом, определенно ощущала себя куда менее скованно. Все-таки правду говорят, ничто так не сближает людей, как совместная трапеза…
— Здесь есть не только оружие. Еще склады, фабрики, аппаратура связи… Ах да, вы, сударыня, геноведьма, верно? Думаю, вам понравится здешняя лаборатория. Она не очень велика и, наверно, уже прилично устарела, но может вам пригодиться. Кстати, там даже есть функционирующий гроб. Представляете себе?
Гензель аккуратно поднял со стола пальцем крошку от лепешки, механически закинул в рот и лишь затем спохватился:
— Что есть? Гроб?..
— Ну да. Признаться, однажды я чуть было им не воспользовалась. Знаете… — Принцесса вдруг смутилась, отвела взгляд. — Когда начинаешь думать о том, что всю жизнь придется провести под землей, в обществе семи цвергов, а тебе нет и двенадцати, о том, что больше никогда не увидеть солнца… Ох, извините. Когда-то давно, еще во дворце, я читала сказку про одну принцессу, которая заснула мертвым сном и спала много веков, до тех пор пока прекрасный принц не пробудил ее поцелуем. Вот я и подумала…
— Это было в Офире, — перебила обычно молчаливая Гретель, разглядывающая хлебную корку с таким видом, точно это был таинственный препарат, еще не прошедший лабораторных испытаний и не заслуживший доверия. — Была и принцесса, и принц. Но поцелуя не было. В эту историю слухами было привнесено много искажений. Но я могу рассказать ее — в таком виде, в каком она заслуживает доверия.
— Гретель! — Гензель искренне надеялся, что его щеки не изменят предательски цвета. — Как ты можешь рассказывать это ее высочеству?
— А что? — с искренним удивлением спросила Гретель. — Ее высочество — взрослая половозрелая женщина, пора ей знать, из какого материала сооружают часто детские сказки… Вы не против?
— Я?.. Нет-нет, конечно нет. Рассказывайте, прошу вас.
— Так вот, спящая принцесса и верно была. Старое проклятие одной злобной геноколдуньи, которую мы с Гензелем… Впрочем, это лишнее. Он сам расскажет, если пожелает. Колдунья наслала на принцессу генетическую болезнь, которая погружает мозг в сон и со временем убивает его. Полное разложение нервной ткани, но со стороны человек кажется спящим. Овощ на троне. Однако же принцессе повезло. Ее собственные генетические дефекты — к слову, весьма причудливые и множественные — выработали своего рода противоядие. Она действительно спала, и мозг ее остался цел, однако никакое средство не могло пробудить ее. Полная потеря моторики, ощущений, реакций на раздражители. Опечаленные король с королевой возвели для нее в глухом лесу персональную опочивальню, где она и спала десятки лет…
Принцесса внимательно слушала. Впрочем, когда слушала, она ничуть не походила на ее высочество, а выглядела так, как и полагается выглядеть всякой юной девушке, когда она слышит что-то интересное и романтическое. Даже глаза загорелись. Только теперь это был отнюдь не гнев.
— Но принц пришел? — жадно спросила она.
— Пришел, — кивнула Гретель, равнодушно катая по тарелке кусок сублимированного мяса. — Но целовать никого не стал. Он сразу скинул панталоны и…
— Ох! — Принцесса широко распахнула глаза. — Вы имеете в виду, он…
— Ну да. Думаете, случайно принцы окрестных королевств передавали друг другу координаты этой сокрытой в глухом лесу опочивальни?.. И время от времени по очереди наведывались к ней?
Принцесса Бланко прижала руку ко рту. Будь она одета в кружева, шелка и бархат, жест мог бы выглядеть даже царственным. Но промасленный комбинезон основательно портил впечатление.
— Сорок семь хромосом! — воскликнула она, окончательно разрушая образ. Подобные выражения едва ли были знакомы ей от королевских учителей, чаще их употребляют в трактирах и постоялых дворах. — Какие мерзавцы!
— Мерзавцы или нет, а один из них действительно ее спас. Пусть и сам того не ожидал. Дело в том, что он был болен одним редким ретровирусом… — Гензель выразительно закашлялся, и Гретель поправилась: — В общем, одной болезнью.
— Угу, — пробормотала принцесса, насупившись. — Знаем мы такие болезни… В порту особенно часто ими болеют, знать, споры переносятся исключительно морским воздухом…
Гензель сделал вид, что изучает этикетку мясных консервов. А Гретель вдруг совершенно явственно улыбнулась.
— То-то и оно, ваше высочество. Только случился интересный генетический казус. Болезнь, которой болел наведавшийся к принцессе принц, случайно стала тем ключиком, который отпер ее парализованное тело.
Принцесса вскинула красивую, изящно очерченную бровь, став на какой-то миг похожей на отца:
— Разве так бывает? Одна болезнь победила другую?
— Нейтрализовала, — уклончиво ответила Гретель. Превратив в крошки одну галету, она машинально принялась за следующую. — По сути, она оказалась симметричным ударом по организму принцессы. И именно этот удар ее спас. Болезни истребили друг друга.
— Но… это же чудо!
Принцесса определенно обрадовалась этому обстоятельству. Пусть сказка оказалась не так хороша, как ей представлялось, пусть на позолоте обнаружились пятна… Самое главное в сказке — волшебство. Чудо. Свершение невозможного. В чем бы оно ни заключалось.
Но Гретель покачала головой:
— Мир геномагии сложен, ужасающе сложен. Даже мы, геномастера, хоть и славимся тем, что путешествуем в этом мире, легким мановением пальца меняя ткани и материи, на самом деле мы — одинокие путники, топчущие крошечные тропинки в огромном темном лесу… Геномагия — мир науки, но иногда в нем происходят и не объяснимые наукой вещи. Впрочем, что такое чудо, если не торжество науки над слепыми наблюдателями?..
Однако сбить с толку принцессу оказалось не так-то и просто.
— Но объяснений у вас нет. Значит, все-таки чудо? — настойчиво спросила она.
В этот миг она чем-то напомнила Гензелю его самого. Это детское и отчаянное желание непременно найти чудо — не разделял ли его он сам?.. Когда растешь с сестрой, для которой весь мир — предсказуемый цикл упорядоченных реакций, в котором нет и не может быть ничего такого, что невозможно описать формулой, тоже пытаешься найти чудо в любом проявлении окружающей жизни.
Чудо — это неучтенная переменная, делающая бессмысленным строгое и веками незыблемое уравнение. То, что не должно произойти, но что происходит и самим этим фактом обрушивает тоскливую, рассчитанную до сотого знака после запятой данность. И чем печальнее данность вокруг, чем очевиднее цифры, говорящие о ней, тем больше хочется чуда. Какого-нибудь. Пусть даже мелочного, пустякового чуда. Не обязательно в деталях его рассматривать, да настоящее чудо никогда и не позволит себя рассмотреть и обмерить, пусть только мелькнет, мазнув по сетчатке глаза, его призрачный хвост…
Но геноведьмы не верят в чудеса.
— Это не чудо, — пояснила Гретель терпеливо, как ребенку. — Это событие, вероятность которого исчезающе мала. Разные понятия.
— Ключик подошел к замку, к которому не мог подойти, — настаивала принцесса. — Разве не так?
— Любая болезнь — это сложнейший механизм. Это не ключик, а скорее миллион ключиков, увязанных друг с другом неразрушимой цепочкой. И так случилось, что миллион ключиков встретился с миллионом замочков. И каждый из них подошел друг другу. Вероятность этого определяется сорока нулями после запятой. Но это случилось, и я сама была тому свидетелем.
— Свидетелем чуда, — вставил Гензель поспешно. Не так уж часто удавалось заставить младшую сестру признать очевидное. — Свидетелем того, что Человечество — вещь высшая и непостижимая, а геномагия — лишь тщетные попытки людей разобраться в его устройстве.
— Мой брат — религиозный фанатик, не обращайте внимания, — вздохнула Гретель. — Помешан на Человечестве. Он видит чудо там, где я — лишь невыявленную закономерность. Но сейчас не время спорить об этом. Просто случилось то, чего никто не ожидал и чего, как считается, не могло случиться. Не успел принц… закончить свои юношеские развлечения, как спящая мертвым сном принцесса, которая спала еще на памяти его бабки, вдруг закашлялась и открыла глаза.
— Сказка не так и плоха, — подумав, сказала принцесса Бланко. — Не так важно, что некоторые ее детали скрыты или непонятны, важно то, чем все закончилось. А раз они жили долго и счастливо, не вижу…
— Не жили, — сказала Гретель, не замечая вновь закашлявшегося Гензеля. — У принца оказалось слабое сердце. Скончался на месте от инфаркта миокарда. Вот вам обоим и мораль. То, что вам кажется чудом, сказкой, для другого может оказаться самым настоящим кошмаром…
— А гроб? — резко спросил Гензель, чтобы прервать сестру. При чем здесь гроб, ваше высочество?
— Простите?
— Вы сказали, что в крепости есть «функционирующий гроб».
— Ах гроб… — Принцесса смущенно улыбнулась, и выглядело это достаточно мило. — Да, есть один. Это стазис-камера. При дворе моего отца их называли «хрустальными гробами» — очень похожи, если вдуматься… Прозрачный саркофаг размером со шкаф — согласитесь, есть сходство.
— Дорогой аппарат, — заметила Гретель, окончательно теряя интерес к еде. — И сложный. В генерируемом поле прекращает всякую клеточную активность, причем на всех уровнях. Любой организм, помещенный в нее, мертвый или живой, будет в течение неисчислимого времени находиться в своем первозданном состоянии. Капсула вечности.
— Но я им не воспользовалась, — сказала принцесса. — Сперва был соблазн… Но я ему не поддалась. Решила, что жизнь, даже такая, в обществе цвергов, все равно интереснее бесконечного сна без сновидений. К тому же меня могли ведь и вовсе никогда не найти! А крепость через несколько тысяч лет просто разрушилась бы от естественных причин, похоронив меня прямо в гробу под своими обломками. Нет уж, лучше жить с цвергами…
Гензель с удовольствием отметил, что принцесса принимает все более живое участие в беседе, «размораживается». Шесть лет без человеческого общества — серьезное испытание для подростковой психики, особенно в подобном месте. Поначалу принцесса смотрела на них так же, как сам Гензель смотрел на цвергов. Она видела не людей, а вторгшихся в ее дом чудовищ под человеческой личиной. А уж кровавый спектакль, развернувшийся на ее глазах, и подавно перепугал до полусмерти.
Однако первая же совместная трапеза многое переменила.
Принцесса Бланко отвела их в столовую крепости, удручающе пустое помещение, полное металлической мебели, пыли и обрывков упаковки. Пожалуй, здесь могли бы одновременно есть две сотни человек. Гензель и Гретель ели и рассказывали. Правда, в обоих случаях основную роль играл сам Гензель, но и присутствие молчаливой Гретель благотворно действовало на принцессу. Спустя некоторое время та перестала вздрагивать, стоило кому-то из них резко пошевелиться, да и настороженности в глазах стало поменьше.
«Она как маленький затравленный зверек, — с грустью подумал Гензель, ковыряясь в консервной банке и украдкой поглядывая на принцессу. — Она нашла способ побороть свой страх, и ей кажется, что все закончено, весь мир позабыл про нее. Она не знает про три проклятых яблока, про три наших дьявольских контракта. И про наш с Гретель уговор. Мир не забыл про нее. Миру все еще нужна эта малышка, а вот зачем…»
— Так, значит, вы и в самом деле попали сюда случайно? — Воспользовавшись установившимся молчанием, принцесса со сноровкой опытного фехтовальщика перехватила инициативу. — Просто забрели в крепость?
Гензель понадеялся, что хруст мяса на зубах позволит лжи пролиться более непринужденно, замаскировав фальшивые интонации. Услышь принцесса правду — пожалуй, призовет своих ручных чудовищ… Может, рассказать ей треть правды? Трети правды вполне может хватить одной маленькой и одинокой принцессе. Главное, сокрыть от нее другие две трети. Но Гензель понимал, что и это не в его силах.
Уговор. Он продолжал действовать. И хотя они с Гретель за все время, что провели в крепости, не перебросились о нем и словом, проклятый уговор все еще висел над ними, отравляя вкус пищи.
Судилище — вот что это такое. А они с Гретель — два судьи, готовых вершить суд над девчонкой. Даже не подозревающей, кого пустила в свое убежище.
— Да, ваше высочество, — пробормотал Гензель, испытывая к самому себе презрение. — Мы с сестрой шли через горы, направляясь в Лаленбург, но нас застигла метель. Сбились с пути, неделю плутали, чудом остались живы. Если бы не счастливое стечение обстоятельств…
По счастью, принцесса в детстве, должно быть, не уделяла должного внимания не только символизму, но и урокам географии. Иначе наверняка бы поинтересовалась, какими ветрами их занесло в горы, что стоят далеко на северо-востоке от Лаленбурга, вдалеке от всех мыслимых трактов и путей.
— Я оказалась здесь так же, — кивнула она. — Брела через горы наугад, не зная направления. Ужасно замерзла. Честно говоря, не думала, что выживу. В какой-то момент попросту упала в снег… Истощение, должно быть. А очнулась оттого, что меня кто-то тащит вперед. Сперва я решила, что это человек, но потом…
Гензель замер, не донеся куска до открытого рта. «Брела через горы?..» Не очень-то похоже на историю принцессы, которую похитили прямо из покоев кровожадные цверги. Видимо, у него был достаточно глупый вид, потому что принцесса Бланко, прервав рассказ, уставилась на него:
— С вами все в порядке, сударь Гензель?
— Это все его акульи гены. — Рядом мягко сверкнули глаза сестры. — Акулам после обеда полезно вздремнуть с открытой пастью: мелкие рыбы вычищают мусор у них из зубов. Так это был цверг?
— Да. Он отнес меня внутрь. Он и другие. Сперва я, конечно, ужасно испугалась. Я ведь слышала о цвергах. От отца, охотников… Думала, сейчас они меня сожрут. Но они оказались не такими. Они согрели меня своими телами, потом принесли мне еды, дотащили до крепости. Они ужасно умные, просто не совсем похожи на людей. И добрые.
«Добрые. — Гензель вспомнил человеческие головы в выпотрошенных лошадиных животах. — Необычайно добрые. Но, видимо, только по отношению к маленьким принцессам…»
— Это нелогично, — своим обычным бесстрастным голосом произнесла Гретель. — Я знаю, как устроены цверги. Человеческий ребенок для них — не больше чем кусок теплого мяса. Они бы никогда не приняли его в свою стаю.
— Они при мне уже много лет. Оберегают меня и заботятся. — Принцесса Бланко беззаботно пожала плечами. — И я никогда особенно не задумывалась отчего.
«Потому что ты особенная, — подумал Гензель, сгребая в тарелку объедки и пустую упаковку. — И даже не представляешь насколько. И лучше бы тебе не представлять».
— Благодарю за еду, ваше высочество, — вежливо сказал он. — Вы и в самом деле спасли нас с сестрой.
— Будем считать, что оказали друг другу взаимную услугу. — Бланко тряхнула головой. — Я спасла вас от холода и голода, а вы меня — от одиночества. Честно говоря, оно порядком меня утомило. Иногда мне кажется, что от одиночества человек со временем начинает коченеть, как от самого страшного мороза, а потом закрывает глаза и навеки засыпает… К слову, о сне… Кажется, у вас уже слипаются глаза? Простите, очень невежливо с моей стороны было мучить вас долгим разговором — после всего того, что вам довелось пережить!
Гензель хотел было возразить, но обнаружил, что принцесса оказалась совершенно права. От обильной и сытной еды его стало клонить в сон, веки словно смазали густым медом. Да и Гретель уже заметно клевала носом.
— Я покажу вам свободные отсеки, — с готовностью сказала принцесса, поднимаясь из-за стола. — Можете располагаться там без всякого смущения. У нас еще будет время поговорить. Все равно вы едва ли покинете крепость, пока не сойдут морозы.
«Это к лучшему, — подумал Гензель. — Будет возможность подумать. А подумать нам придется хорошенько…»
Но этим днем думать он уже не мог. Едва дотащился до своего отсека и, коснувшись щекой приятной прохлады дезинфицированной простыни, мгновенно уснул.
Принцесса обнаружилась там, где, по мнению Гензеля, никак не возможно было бы найти настоящую принцессу: в реакторном зале одного из нижних уровней. Сняв одну из технических панелей, она почти наполовину погрузилась в ее механическое чрево и теперь, опутанная десятками кабелей, казалась жертвой целого клубка хищных змей. Но, судя по тому, как уверенно она коналась во внутренностях панели, принцесса знала, что делала.
Некоторое время Гензель молча наблюдал за этой картиной. Редко увидишь, как особа королевской крови в грязном комбинезоне выполняет работу техника, увлеченно ругаясь себе под нос и время от времени раздраженно шипя. Ничего удивительного в этой картине не было. Чем еще заниматься шесть лет, будучи отрезанной от всего мира и запертой в стальной подземной громаде? Учиться танцевать кадриль? Совершенствоваться в застольном этикете? Вышивать бисером?..
Покой принцессы Бланко молчаливыми стражами охраняли три цверга. Они замерли на равном удалении от нее — этакие грязные всклокоченные горгульи на церковной крыше. Но Гензель не сомневался в том, что к своим обязанностям цверги относятся со всей серьезностью. Они почуяли чужое присутствие, стоило ему только войти в реакторный зал. Почуяли — и обнажили зубы, грозно заворчав. Так рычат большие и свирепые волкодавы, когда хотят показать незваному гостю, что ему здесь не рады. Наверняка, вздумай он сделать резкое движение, цверги бросились бы на него все сразу. И, конечно, растерзали бы. С мрачным удовлетворением Гензель увидел, что один из цвергов волочит по полу перебитую лапу — след их недавнего знакомства.
Дрессированные цверги или нет, а рука рефлекторно схватилась за ложе мушкета. Или за то место в пустоте, где располагалось бы ложе мушкета, если бы он не оставил оружие в спальном отсеке. Хотел продемонстрировать миролюбие и воспитанность? Ну вот и демонстрируй, дурак, глядя на три пары звериной злобой светящихся глаз…
— Ваше высочество!.. — нерешительно позвал он.
— Это вы, Гензель? Не бойтесь! — крикнула принцесса, все еще полускрытая проводами, оттого немного приглушенно. — Они не станут на вас нападать!
— Можете их успокоить, я тоже, — буркнул Гензель. — Однако они как-то нехорошо глядят на меня, ваше высочество.
— Боитесь стать их завтраком?
— Меня не раз пытались съесть самые разные существа, но я, как видите, здесь. Мне просто не нравится, как они на меня глядят.
— Как?
— Точно размышляют, с каким вином лучше всего меня подать.
— Они немного подозрительны по своей натуре. Видимо, их смущает ваш… ваши… ваши зубы.
Гензелю отчего-то показалось, что принцесса покраснела. Но утверждать этого наверняка он не мог — вся ее кожа была покрыта ровным слоем пыли.
— Еще раз приношу извинения за то, что по незнанию вступил с ними в драку. Без сомнения, мне стоило быть более осторожным, прежде чем лезть в подземную крепость без приглашения.
При упоминании о драке принцесса прикусила губу. Ничего удивительного — девичья память бережно хранит воспоминания, даже самые страшные, а с той поры не прошло и двух дней. Но злости в ее взгляде не было, и это порадовало Гензеля.
— Все мы совершаем ошибки, — сказала принцесса после долгой паузы, в течение которой ее руки машинально продолжали возиться с проводами. — Никому не дано прожить жизнь без ошибок, в наших силах лишь научиться их признавать… Я благодарна вам, сударь. И простите мне мои обвинения, они были поспешны и излишне горячи. Прожив в одиночестве столько лет в огромном механическом орехе, напичканном оружием, немудрено стать истинным параноиком. Особенно учитывая, как я здесь оказалась…
Об этом Гензель хотел спросить в первую очередь, но сдержал вертящийся на языке вопрос. Не стоит будить ее подозрительность подобным интересом. Достаточно того, что она терпит их в своих новых королевских владениях.
Вместо этого он спросил:
— Значит, цвергов осталось всего трое?
— К несчастью. Перед вами — Бидл, Снедл и старый Ниренберг.
— Ого! — удивился Гензель. — У них есть имена?
— Ну конечно же. Я сама их придумала. Во дворце мне приходилось придумывать имена только фарфоровым куклам… Вчера погибли Ней, Левонтин, Херши и бедняжка Смитис.
Гензель подумал о том, что, окажись он немногим медленнее или решительнее, «бедняжка Смитис» сейчас наверняка обгладывал бы его берцовую кость…
— Вы и верно близки.
— Я прожила с ними целую жизнь, сударь! — воскликнула принцесса. — Я знала все их слабости и причуды. Левонтин, например, был ужасным ворчуном. Возраст, должно быть… Постоянно был не в духе, как старый капризный дедушка. А Херши, напротив, был сущий весельчак, все норовил играть, как маленький щенок. Ну и потеха была!.. Смитис вечно чихал — кажется, у него была аллергия на весь окружающий мир. А Ней мог спать целыми днями напролет… Видели бы вы, как они всей стаей уходили на охоту, чтоб принести мне потом растерзанную мышь!
Принцесса оживленно болтала, вспоминая какие-то милые детали, но Гензель почти ее не слушал.
«Удивительно, — думал он, разглядывая мелькающие королевские руки. — Для нее эти уродливые цверги все стали близкими знакомыми, каждый — со своей уникальностью. А для меня они были лишь кусками злого мяса, которому не терпелось до меня добраться. Два человека — и два совершенно разных видения мира. Права Гретель, этот мир полон самых причудливых иллюзий…»
Точно прочитав его мысли, принцесса неожиданно спросила:
— Где ваша сестра?
Гензель неопределенно махнул рукой.
— Гретель?.. Судя по всему, отправилась в исследовательскую экспедицию по крепости. Когда я проснулся, в ее отсеке было уже пусто.
— Вы не боитесь оставлять ее одну?
— О, это вполне безопасно. Достаточно разбросать по округе побольше еды, чтобы она не умерла от голода. Некоторые геноведьмы совершенно забывают о простых человеческих потребностях, когда находят что-то интересное.
Принцесса рассмеялась.
— Ох! Тогда ей наверняка очень повезло с вами, сударь.
— Я — ее нянька, — проворчал Гензель, понимая, что смех этот ничуть не обидный. Пожалуй, даже приятный — как мягкая кисточка цирюльника, освеженная розовой водой, которая смахивает с твоего лица пыль и приятно щекочется. Может, стоит консервировать смех принцессы про запас — и выпускать немного, когда на душе делается муторно и пусто?.. — Если бы не я, Гретель утонула бы под первым же дождем, забыв про то, что надо закрыть рот.
— Она немного чудная, да?
Гензель неопределенно пожал плечами:
— Как и все геноведьмы. Не то чтобы я со многими был знаком… Честно говоря, первая геноведьма, встреченная мною в жизни, пыталась меня сожрать.
— Ох! — отозвалась принцесса. — Судя по всему, это было глупой затеей!
— Я даже остался в выигрыше. От ведьминских генозелий я прилично поправился. Вымахал, как теленок. В моем родном городе на скудном протеиновом пайке столько мышечных волокон не нарастить…
— Я заметила, что вы весьма крупны для квартерона. И… ловки.
Показалось ему или глаза принцессы действительно в краткий промежуток времени скользнули по нему сверху донизу, пытливо изучив?.. Показалось, без сомнения, — вон как Бланко напряженно глядит на свои провода…
— Заслуга ведьмы. Ну и богатого опыта, пожалуй. Вы даже не представляете, ваше высочество, во сколько неприятностей можно влипнуть при нашей-то профессии.
— И источник большей части из них небось ваша сестра? — лукаво усмехнулась принцесса.
— Она — источник их всех. Геноведьмы обладают редким даром создавать неприятности из воздуха. И Гретель многим даст фору.
— У нее необычные глаза.
— Она альбинос. Мы, квартероны, вместилище всяких генетических пороков и порчи. Кстати, ей ничего не стоит выправить свой фенотип. Я имею в виду, вернуть себе обычные глаза и волосы. Для нее подобные манипуляции — детская забава. Изменить устройство собственного тела ей не сложнее, чем вам — заменить предохранитель. Но она не захотела. Странно, да?
— Возможно, она ценит чистоту собственного генокода? — предположила принцесса, щелкая каким-то переключателем. Аппаратура отозвалась приглушенным гудением. — Знаете ведь, как это обычно бывает. Ты меняешь свой фенотип, например, удаляешь ненужные кости или выращиваешь недостающую почку, не подозревая, какие роковые изменения произошли в генотипе. И живешь счастливым до старости… А твои потомки из-за этого хвастаются четырьмя ногами или фасеточными глазами…
— Нет, дело не в этом. Просто ей все равно, как она выглядит.
— Извините, что забыла надеть свою горностаевую мантию для парадных приемов, — хихикнула Бланко.
— Это другое. Ей действительно безразличен внешний облик. Она видит то, что недоступно нам. А видеть то, что видим мы, несовершенные и примитивные организмы, ей неинтересно.
Принцесса наконец выбралась из панели. Как и всякий человек, проведший несколько часов среди кабелей и пыльного хлама, она была растрепанна, грязна и местами оцарапана. Невозможно было поверить в то, что эта худая девчонка в комбинезоне — ее высочество. Лицо и в самом деле ничуть не породистое, нет в нем благородных черт Тревирануса Первого или его покойной жены. Обычное лицо. Такое лицо может быть у девчонки-соседки, но никак не у принцессы. Должно быть, дело тут было не только в чертах. Ладно бы просто черты… На этом перепачканном пылью лице совершенно невозможно было представить полное достоинства королевское выражение. Не прилипало оно к нему, как прилипали клочья паутины.
Принцесса нахмурилась. Гензель сделал вид, что с интересом изучает старые потрескавшиеся разъемы. Нечего пялиться попусту на особу королевской крови. В этот миг он даже позавидовал глазам сестры. Как и глаза всякого ученого, они умели смотреть в суть, бесстрастно, как объективы микроскопа. Во имя Человечества, сейчас ему как никогда нужна холодная взвешенная беспристрастность.
Плоть глупа, ее ничего не стоит обмануть. Сейчас, глядя на эту принцессу в комбинезоне, он видит наивную, усталую и одинокую девушку. Так говорит его плоть, которая руководствуется разлитыми в воздухе феромонами и безотчетными сигналами, — это нормально для всякого мужчины, будь он и квартерон. Но он не имеет права делать выбор на основании того, что думает плоть.
— Я имела в виду не сами глаза, — пояснила принцесса, отряхиваясь, в воздухе повисли облака серой пыли. — А то, как она смотрит. Честно говоря, поначалу это меня даже напугало.
— Больше, чем мои зубы?
— Ох! И вовсе ваши зубы не так ужасны. Но ее взгляд… Поначалу мне было очень неуютно, признаться.
«И мне тоже, — мысленно сказал Гензель. — К этому взгляду я не могу привыкнуть уже лет десять, хотя давно пора бы. Под этим взглядом я тоже ощущаю себя бессловесным препаратом. Комплексом биологических признаков…»
— Она бесстрастна, как и всякий ученый, ваше высочество. Но уверяю вас, в глубине души она — такой же живой человек, как и мы. Просто она…
— Немного выше прочих, да? — Принцесса с натугой захлопнула крышку панели, но помощи Гензеля не попросила. — Вот это меня всегда и пугало в придворных геномагах. Они вроде бы и люди, но иной раз взглянешь, и такое чувство, что люди они только снаружи. Что это какая-то ужасная и сложнейшая мутация, из-за которой все человеческое внутри отмирает, перерождается во что-то новое… Ох, извините меня, пожалуйста. Я ничуть не хотела обидеть вашу сестру!
— Пустое, — махнул рукой Гензель. — К тому же обидеть ее не проще, чем смутить неприличной историей тяжелый осадный танк…
— Это к лучшему, — улыбнулась принцесса. — Спасибо, что развлекли меня разговором, сударь Гензель. А теперь, если вы не против, мы отправимся дальше. Третий контур реактора сегодня что-то капризничает, нам с ребятами надо осмотреть еще несколько терминалов… Обычная королевская рутина. Снедл! Бидл! Ниренберг! За мной, ребятки!
Цверги встряхнулись и послушно пошли вслед за принцессой. Ни дать ни взять процессия королевских пажей. Гензель разглядывал их до тех пор, пока вся свита не углубилась в один из технических туннелей.
С ума сойти можно с этим зверьем! Отчего оно вдруг так возлюбило девчонку? Это не в натуре цвергов. Цверги не делают различий между королями и мулами, для них все люди на одно лицо. Они не испытывают ни признательности, ни симпатии, один лишь извечный голод. Так отчего же цверги позволили помыкать собой девчонке, вторгшейся в их логово? Интересная загадка. Пожалуй, лучше приберечь ее для геноведьмы.
Но геноведьма не была расположена к разгадыванию загадок. Она лежала на постели, не посчитав нужным снять ни дублет, ни ботфорты, и молча ела из консервной банки стандартный армейский рацион. Еще две или три банки валялись на полу отсека — иногда задумавшиеся геноведьмы начисто забывают о существовании мусорников. Особенно если торчат двое суток безвылазно в лаборатории. Под глазами у Гретель свежей синевой налились круги — верное свидетельство того, что сном она себя в последнее время не утруждала. В общем, все как обычно.
— Цверги?.. — пробормотала она с полным ртом.
У Гензеля было такое ощущение, что его выслушали одним ухом. Сейчас он не был братом, всего лишь назойливым внешним раздражителем, который чего-то требует. И если он будет достаточно назойлив, чтоб причинить серьезное беспокойство, разум Гретель вынырнет из того мира, в котором проводит большую часть времени, и уделит ему полминуты.
— Они ходят за ней, как дрессированные пудели. Честное слово! Никогда бы не подумал, что эти чертовы зверюги способны проявлять такую нежность. Что думаешь?
В ответ он получил пожатие плечами, такое же равнодушное, как и взгляд.
— Никто не знает, о чем думают цверги. Те, кто их вывел, давно мертвы.
— Вопрос — отчего они так благосклонно относятся к пришлой девчонке? — нетерпеливо спросил Гензель. — Они же искусственно выведенные генетические аппараты, верно? Может, своего рода материнский инстинкт?
— У цвергов нет материнского инстинкта, — неразборчиво пробормотала Гретель, равномерно жуя. — У них не бывает потомства, ведь цверги стерильны. У них почти нет инстинктов. Зачаточные, примитивные… Инстинкт самосохранения, например. Но не материнства.
Кажется, она собиралась заснуть, даже не снимая обуви. Гензель мысленно вздохнул. Стаскивать со спящей Гретель тяжелые ботфорты было чертовски неудобно, но иногда ему приходилось этим заниматься. Однако сейчас ему нужна была бодрствующая геноведьма, а не сладко сопящая.
— Погоди, не засыпай. Мне надо еще две минуты твоего времени. Последние дни ты или спишь, или пропадаешь в лаборатории.
— Здесь хорошая лаборатория. — Гретель уронила пустую консервную банку на пол и удовлетворенно растянулась на кровати. — Немного устаревшая, но…
— Ты помнишь, почему мы здесь?
Гретель сыто икнула. Гензелю подумалось, что сейчас ей, наверно, как никогда трудно стыковаться с реальным миром. Она нашла то, что для любой геноведьмы представляет несоизмеримо большую важность, чем пища, вода или даже воздух. Она нашла знания. Несомненно, старая крепость хранила в себе несметное количество данных, относящихся к старым эпохам. И Гретель не успокоится, пока не выметет их все подчистую.
— Яблоки. Помнишь? И уговор.
— Кажется, ты проводишь с ней больше времени.
— Ну и что? — вскинулся Гензель. — Сделать выбор нам придется вместе. Я не стану решать один.
— Я и не настаиваю. Но, может, за это время ты узнал что-то, что станет обоснованием нашего выбора?
— Нет. — Гензель поднял консервную банку и отправил в мусорник. — Я не узнал ровным счетом ничего. В уравнении под названием «Бланко», как и прежде, больше пробелов, чем цифр. Мы не знаем содержания ее генокарты. Мы не знаем, отчего она бежала из дворца. Мы не знаем…
— Бежала? — Гретель с ловкостью прирожденной геноведьмы выхватила единственное важное слово из его сумбурной тирады. Значит, все-таки…
Гензель вздохнул. Эту тему он собирался оставить на потом, для более удачного случая.
— Помнишь, что она сама рассказывала? Цвергов она встретила лишь в горах. Они не похищали ее из дворца. И никто, но всей видимости, не похищал.
— Значит, сбежала сама?
— Еще один пробел в этой странной истории. Отчего обычно сбегают из дворцов одиннадцатилетние принцессы?
— Не знаю, — сонно пробормотала Гретель. — Никогда не была одиннадцатилетней принцессой. Почему бы тебе самому не спросить ее? Кажется, вы в последнее время много времени проводите вместе?..
Гензель принял бы это за намек, если бы ему доподлинно не было известно, что геноведьмы не понимают сути намеков.
— Не хочу спугнуть ее, — неохотно сказал он, теребя подбородок. — Не самый простой, знаешь ли, вопрос. Пока мы для нее всего лишь заблудившиеся путники. Случайные собеседники, подкинутые судьбой. Если она узнает, что в ее истории мы принимаем самое деятельное участие, да еще и в интересах трех посторонних нанимателей…
— Боишься лишиться расположения принцессы, братец?
— Предпочитаю отложить эту тему для благоприятной обстановки. Тем более что сейчас он уже не имеет принципиальной важности. Принцесса сбежала по своей воле — это данность. Но все остальное… Сплошные белые пятна.
— Из нас двоих именно у тебя есть возможность все это выяснить, братец.
— В первую очередь нам надо выяснить то, что в принцессе Бланко нашли цверги и альвы. Два совершенно разных биологических вида, сходных в одном: ни те, ни другие не испытывают симпатии к человеческому роду… или его потомкам. А тут вдруг такое внимание по отношению к девчонке!
— Представь себя исследователем, побудь в моей шкуре. Изучай ее, узнавай новое. Исследуй, как неизвестный препарат. Главное, не особо пристально. Есть препараты, которые… — Гретель как-то странно хмыкнула. — Вызывают привыкание.
— Я и исследую, — буркнул Гензель. — Каждый день узнаю про нее что-то новое.
— Но только не то, что может нам пригодиться для выполнения контракта.
— Бланко юна, но на удивление здраво мыслит. Она превосходно разбирается в начинке крепости. Вчера она показывала мне главную операционную комнату, откуда управляются все системы, включая оружейные, — на редкость интересное устройство… Она мила, хоть иногда немного язвительна, уравновешенна, терпелива… А еще… Иногда мне кажется, что она чем-то напугана. Как в тот день, когда впервые увидела меня с мушкетом в руках. Только она боится не меня. Чего-то другого, чего я не вижу или не понимаю. Это… непросто объяснить. В одну секунду она — смешливая и открытая девушка, а в следующую вдруг похожа на обмершего от страха ребенка.
— Ребенка?
— Так мне показалось. Говорю же, сложно объяснить…
— Ее юность прошла в заброшенном убежище, в обществе цвергов. Нет ничего удивительного в том, что это сказалось на ее эмоциональном и психическом развитии.
— Нет, тут что-то другое. Но я пока не понял что. Мне приходится действовать очень осторожно. И, похоже, она уже отчасти доверяет мне. Я думаю, мы узнаем ее секрет. Может, не очень скоро, но узнаем.
— Гензель…
— Что?
— Ты ведь проводишь с принцессой много времени?
Под бесстрастным взглядом сестры Гензель почувствовал, как предательски краснеют щеки.
— Ну… конечно. Как еще мне что-то узнать о ней?
— Хорошо. — Обрамленные белыми ресницами глаза Гретель уже медленно закрывались. — Просто постарайся, чтобы твой генетический материал не оказался в генофонде королевского рода. Может получиться конфуз.
— Не тебе судить о конфузах. Ты даже не знаешь, что это такое! — в сердцах бросил Гензель, разворачиваясь к двери.
— Тебе совершенно незачем смущаться, — сонно пробормотала Гретель уже с закрытыми глазами. — Это совершенно естественно и отвечает законам геномагии. Твои хромосомы и ее хромосомы…
— Я ухожу. Доброй ночи.
— Доброй ночи, братец.
Он уже был на пороге отсека, когда Гретель окликнула его.
— Так и уйдешь?
— Что?.. — он повернулся.
— Ты ведь пришел не для того, чтобы поболтать о принцессе.
Разумеется, Гретель не спала. Лежала на кровати с широко открытыми глазами и даже не выглядела сонной.
Проклятые геноведьмы и их фокусы!
— Я… — Гензель прочистил горло. — Да, у меня было еще одно дело.
— О котором ты забыл упомянуть.
Гензель набрал побольше воздуха в грудь, хоть и не собирался произносить длинную речь.
— Ты можешь сделать в лаборатории генетический анализ?
— Чей?
— Принцессы Бланко.
— А ты уверен, что она даст согласие? Насколько я помню, члены королевской семьи весьма щепетильны по этому поводу…
— Ее согласие не потребуется, — неохотно сказал Гензель, запуская руку в карман. — У меня есть это.
— Что это? Платок?
— Принцесса Бланко вытерла им лицо, когда закончила работать. Думаю, в ее кожных выделениях есть все, что тебе необходимо для анализа.
Гретель изобразила удивление. Так ловко, что в другое время Гензель мог бы даже принять его за искреннее.
— Ты взял у особы королевской крови пробу генетического материала? Ты знаешь, что за это полагается?
— Виселица, кажется, — усмехнулся Гензель. — Но будет лучше, если ты сделаешь анализ побыстрее.
— Быстро же ты изменился! А где же мой братец Гензель, который считал святотатством подобные приемы?
Гензель насупился.
— Будто тебе не интересно! — пробормотал он, комкая платок. — Признайся, тебя ведь и саму точит любопытство. Ты тоже хочешь узнать, что не так с этой девчонкой.
— Допустим, хочу, — согласилась Гретель, скрывая ладонью короткий зевок. — Но я же геноведьма. Беспринципное и равнодушное существо, которому плевать на людей, забыл?
— Забудешь… Я хочу знать, чем принцесса Бланко отличается от прочих.
— В ее истории темных пятен больше, чем в объективе микроскопа, в который кто-то чихнул, братец. Цверги, яблоки, фенотип… К слову, даже вопрос о том, почему она сбежала, не такой уж и праздный, неудивительно, что он тебя захватил. Я тоже размышляла об этом, когда было время.
— Забавно. Оказывается, и Гретель задавала себе этот вопрос. С другой стороны, в этом не было ничего удивительного. Геноведьмы любят интересные и сложные задачки. Правда, не всегда замечают, что частями этих задачек иногда оказываются живые и дышащие существа.
— Рад, что ты небезучастна к судьбе принцессы, — сухо сказал Гензель, все еще стоя у порога.
— Обстоятельства ее бегства из дворца интересуют меня исключительно в рамках моего контракта. Мне нет дела до ее душевных терзаний, как и до королевских чувств. Это не та среда, которую я изучаю. Но чем больше я думаю на этот счет, тем сильнее мне кажется, что сбежавшая принцесса — это один из корней того уравнения, над которым мы бьемся.
Гензелю не хотелось развивать эту тему. Но и выйти теперь он не мог. Упустил момент. А зря. Никогда нельзя расслабляться, когда имеешь дело с геноведьмой.
— По-моему, здесь все лежит на поверхности, сестрица.
— Скорее, болтается у поверхности, как дохлая рыба.
Он не обратил внимания на эту колкость.
— Королева-мачеха. Мы знаем, как она относилась к принцессе. Понятно, что Бланко долго не выдержала во дворце.
Гретель прищурилась, отчего два прозрачных озера неведомой глубины сузились до двух крошечных полуокружностей, похожих на полыньи во льду.
— Да? Уверен?
— Отчего бы и нет? Все ясно как белый день. Мачеха всегда хотела сжить ее со свету, завидуя чистоте ее крови. Ну и престол, конечно… Принцесса поняла, что долго ей во дворце не протянуть, и…
— И у тебя не возникло ощущения, что в этой истории что-то не так?
— Не клеится? — усомнился Гензель.
— Напротив. Слишком легко клеится. В геномагии есть один парадокс… У него много названий, но суть одна. Если в твоем исследовании все идет слишком легко, опыты радуют стабильностью, цифры постоянно сходятся друг с другом, а прогнозы неизбежно оправдываются… перепроверь все заново. Наука — путь ошибок, заблуждений, ложных выводов, иллюзий и избирательной слепоты. В науке за правду приходится бороться, вырывая ее из цепких когтей неизвестности. Оттого приз, который сам катится в руки, всегда подозрителен. Как будто…
— Как будто кто-то чихнул в микроскоп, — не совсем уместно вставил Гензель. — Я понял. И ты изучаешь совсем не те объекты, что надо.
— Ты простодушен, но быстро схватываешь, — сказала Гретель одобрительно. — Именно так. История о сбежавшей от жестокой мачехи принцессе плоха лишь в одном. Знаешь в чем?
— Она слишком хороша?
Гретель щелкнула пальцами.
— В яблочко, братец.
— Жизнь — это не геномагия, — возразил Гензель. — Не применяй к ней свои мерки.
Гретель лишь вздохнула в подушку.
— Одно и то же, — сказала она. — Только жизнь еще глупее и непредсказуемее…
Тут он наконец сообразил.
— Ты ведь тоже обратила на это внимание, да? На ее слова!
— Мм…
— Когда мы впервые встретили принцессу! Она приняла нас за профессиональных убийц, посланных по ее душу. А еще она сказала что-то про людей отца…
— «Вы оказались лучше всех отцовских охотников», — произнесла Гретель, всегда обладавшая отменной памятью. — Да, братец, я тоже обратила на это внимание. И задала себе тот же самый вопрос. Если она страшилась своей мачехи, то отчего в коварных убийцах видит прежде всего слуг своего отца?.. Не странно ли это?
— Тут все странно, — устало сказал Гензель. — И само это место странно, и существа, что его населяют, и их прошлое. Но, кажется, кому-то пора протереть объектив микроскопа. Держи.
Он протянул ей платок принцессы, но Гретель лишь махнула рукой и перевернулась на другой бок.
— Оставь себе.
— Но анализ…
— Скоро будет готов.
Он молча уставился на нее. Без всякого, разумеется, толку — спина Гретель по выразительности мало чем отличалась от ее лица.
— Ох, братец… — протянула она через несколько секунд, наполненных гнетущим молчанием. — Неужели я бы ждала так долго, если бы мне нужна была генопроба? Я одолжила ее чулок еще в первый же день… Генетического материала вполне хватит на лабораторный анализ. Так что скоро мы будем иметь полную генетическую карту ее высочества. А теперь, умоляю, дай мне немного поспать!
— …Здесь диспетчерская нижнего уровня, а здесь — пост главного канонира. Впрочем, присутствие человека не обязательно — крепость умеет защищать себя и в автоматическом режиме.
— Вы отлично ориентируетесь тут, ваше высочество.
Принцесса зарделась так, будто это какой-то вельможа похвалил ее умение вышивать золотой нитью. Однако в комплименте не было и доли лжи, принцесса Бланко в коридорах крепости чувствовала себя уверенно и спокойно — ни дать ни взять, устраивала экскурсию по своему саду.
Основные и дублирующие электростанции, арсеналы, медицинские блоки, антибактериальные и радиационные шлюзы, лифты, казармы, склады, командные центры и контрольные посты… Это было похоже на город, заглубленный в мерзлую землю и камень, настоящий подземный город, чье население составляло лишь три человека. Хотя можно было бы считать его и равным шести — молчаливые охранники-цверги ни на миг не выпускали принцессу из поля зрения.
Что поразило Гензеля, они даже пытались прислуживать ей. Неумело, на звериный манер, но все же. Удерживали ее от падения, если принцесса спотыкалась в темном тоннеле, отгоняли крыс, гортанным рыком предупреждали о поврежденной изоляции на силовых кабелях. Они вели себя как дрессированные животные на ярмарке, но при этом не было ни малейшего признака на то, что их поведение вынужденно. Они выглядели более чем довольными своей задачей. Неудивительно, что принцесса, привыкшая к роскоши дворца, выжила здесь — с такими-то няньками!
«Принцесса Бланко и семь цвергов, — невесело подумал Гензель. — Во дворце все небось придут в ужас, как услышат. Скандал будет страшнейший. Принцесса — и семь кровожадных хищников…»
Принцесса еще не вернулась, напомнил он сам себе. Принцесса еще не отведала яблока. Потому что ее судьи, которых она считает своими гостями и без пяти минут приятелями, еще не сделали своего выбора. Три проклятых яблока ждут своего часа, надежно спрятанные в его походной сумке. На которую он в последнее время старался даже не смотреть.
А сделал ли выбор он сам? От этой мысли гадостным образом ныли зубы и отдавалось холодком в желудке. «Конечно, сделал, — шептало что-то бесплотное, но очень убедительное. — Ты сделал выбор еще до того, как увидел впервые принцессу Бланко. Ты выбрал для нее жизнь». «Мальчишка, — шипело другое, презрительное. — Права твоя сестра, ты так навсегда и останешься слюнявым дураком. А что, если принцесса — живая мина? Ее генетическая линия может оказаться чем-то ужасным. Например, принцесса станет родоначальницей новой гибельной генетической болезни, потому что в ее генах спит невидимое проклятие… Есть ли у тебя право распоряжаться судьбой того, чьей сути ты не знаешь? Может, твоими, Гензеля, руками на свободу будет выпущена генетическая пандемия, которую немногие выжившие назовут „Бланко“ в ее честь? Смерти миллионов людей будут достаточной платой за одну несчастную девчонку?..»
Можно избавиться от этого ужасного выбора — просто дать ей золотой плод альвов. Что это — выбор или бегство от него? Вправе ли он обрекать дышащего человека на участь лабораторного животного? Или это яблоко — золотой билет, приглашение в лучшую, неизведанную жизнь?
Захотелось треснуть себя ладонью по затылку — может, тогда заткнутся невидимые советчики. Но выглядело бы это, вероятно, довольно глупо. Гензель стиснул зубы и попытался улыбнуться, слушая объяснения принцессы. Рассказывала она увлеченно, но не то, что он хотел слышать. Что-то про основные силовые линии, фильтрацию воздуха, радиолокационные станции… Схватить бы ее за плечи, тряхнуть и крикнуть прямо в лицо: «Кто ты? Кто ты такая, сбежавшая принцесса? Что за загадка в тебе?»
Плоть всегда говорит на языке обмана. Она изменчива, она лжива, она может скрывать в себе что угодно. Он не должен обращать на нее внимание. Ему надо стать холодным отстраненным наблюдателем, таким, каким должен быть настоящий судья.
— Прямо настоящее подземное королевство, — выдавил он из себя, делая вид, что восхищен. — Это поразительно.
— Так и есть, — ответила ему принцесса Бланко с невеселым смехом. — Правда, у меня осталось всего трое подданных, но это не беда. Главное — это самое спокойное, мирное и счастливое королевство на свете.
— Иногда здесь… мм… немного скучновато, нет?
— Возможно, — легко согласилась принцесса. — Но у него много других достоинств. Здесь никогда нет войн. Нет болезней. Нет жадных ростовщиков, льстивых придворных и опьяненных кровью военачальников. Здесь нет оброков, дани и церковной десятины. Нет суда — как нет и преступников, которых надо судить. А еще здесь нет измен, обмана, зависти, страха и лести. Неужели королевство, лишенное всего этого, может быть плохим?
— Возможно, оно и неплохо, — признал Гензель. — Да только, как мне кажется, кое-чего ему недостает. Например, других людей.
— У меня нет нужды в людях. Они — источник всего вышеперечисленного. Это королевство будет счастливо столько лет, сколько будет продолжаться мое одиночество.
«Еще одна задачка, — кисло подумал он. — Вдруг окажется, что принцесса вообще не собирается выбираться из своей раковины. А ведь это вполне ожидаемо. То, что загнало ее под землю и обрекло на вечное одиночество, должно иметь очень мощные корни».
— Без людей нет и жизни, ваше высочество.
— О нет, сударь, есть. Я вполне жива.
— Единственный живой человек в королевстве из стали и камня?
— Другого у меня нет.
— У вас есть другое, — сказал он осторожно, но твердо. — На его гербе нарисовано надкушенное яблоко. Едва ли оно спокойнее и счастливее, но людей в нем несравненно больше.
Принцесса ничего не сказала, но даже в полумраке технического тоннеля, по которому они шли, Гензель разглядел, как возле ее глаз мгновенно образовались маленькие острые морщинки. Такие возникают, если внезапно напрягаются под кожей мышцы. Кажется, и цверги почувствовали что-то своим звериным чутьем.
— Извините, ваше высочество, — поспешно произнес Гензель, догоняя принцессу и держась возле нее. — Возможно, я сказал резкость. Это естественно. В конце концов, я всего лишь неотесанный квартерон.
Принцесса мягко улыбнулась. Улыбка ей шла, вне зависимости от того, насколько перепачкано было лицо. В этот раз кожа была на удивление чиста. Видимо, ее высочество успела принять душ после напряженного рабочего дня. Да и вместо потрепанного рабочего комбинезона на ней была длинная алая туника — чудесное преображение из чумазого техника если не в принцессу, то в добропорядочную горожанку среднего достатка.
— Ох, сударь Гензель… Поверьте, если бы хоть малая часть придворных была наделена вашим обаянием и тактом, я бы задержалась во дворце подольше.
— Но я, кажется, смутил вас, ляпнув какую-то глупость.
— Вы просто напомнили мне прошлое. И другой мир, которому я когда-то принадлежала. Не обращайте внимания.
— Этот мир не исчез, ваше высочество, и не растворился. Мы с Гретель еще недавно были в нем и можем засвидетельствовать. Простите меня покорно, иногда я несу полную ерунду… Мне просто показалось, что… — Он хотел искусственно смутиться, но обнаружил, что в этом нет нужды — он и так уже смутился, причем самым естественным образом. — Вы… Я имею в виду, вы молоды, вы красивы, вы умны… Но вместе с тем вы заперты здесь, в этой заброшенной всеми пустой крепости, с этими чудовищами… Ведь это ужасно, разве нет? Почему особа королевской крови должна коротать век под землей, как монахиня или какой-то грызун?
Принцесса качнула головой, не понять с каким чувством, то ли с раздражением, то ли с укором.
— Как знать, может, моему высочеству подходит мое нынешнее положение? Может, в холодном подземном мире уместнее находиться, чем среди инкрустированной самоцветами мебели и мраморных чертогов? Что вы вообще знаете про мое высочество, сударь Гензель, чтобы судить о нем?
— Я…
— Я не была похищена, не была принуждена силой, — твердо сказала принцесса, не оборачиваясь. — Я сама выбрала жизнь здесь. И этого довольно.
— Жизнь отшельника? — тихо спросил он. — Я думал, это выбор стариков и сумасшедших.
— Так вот к чему вы клоните, сударь… — сквозь зубы процедила принцесса Бланко. Гензель был уверен, что подземная крепость с помощью тысяч датчиков контролирует внутреннюю температуру, но внезапно ощутил, как его кожи касается легкий морозец. — Могли бы спросить прямо, без намеков. А я еще считала вас простодушным!..
— Ваше…
— Это ведь так интересно, верно? Когда принцесса сбегает из дворца, это всегда порождает почву для множества самых интересных слухов. Может, ее соблазнил заезжий принц? Или она повредилась в уме вследствие каких-нибудь гадких генетических обрядов?.. Может, она просто сошла с ума, а? Или, например, ее отравили любящие родители, а тело сбросили в реку? Ну что же вы?
— Простите меня, я…
Принцесса раздраженно одернула рукав туники. Глаза, казалось, светились в темноте, но, если глаза Гретель были двумя холодными льдинками, на лице принцессы Бланко горели пылающие уголья. Гензель рефлекторно попятился. Королевский гнев оказался очень опасным излучением. От него нельзя было укрыться даже за свинцовым щитом — любой металл расплавится под таким давлением.
— Отчего вам всем не терпится запустить свои грязные руки в чужие секреты? — выпалила принцесса, продолжая испепелять его взглядом. — Неужели это все, что занимало большой свет на протяжении шести лет? Отчего я убежала из дворца? Почему бросила корону?
Гензель, поняв, что ему не дадут вставить и слова, попытался сделать какой-то жест, который выражал бы одновременно раскаяние, дружелюбие и сочувствие. Но его неловкие руки, способные крушить кости и сворачивать шеи, оказались не предназначены для столь сложных движений.
Принцесса сжала губы в гримасе презрения. Гензель даже успел восхититься — до того королевским было это презрение. Словно его годами выдерживали в дворцовых погребах, добиваясь едкости, способной разъесть нержавеющую сталь.
Принцесса отвернулась.
— Экскурсия закончена, — холодно сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь. — Снедл! Бидл! Ниренберг! Возвращаемся. Вы не забыли, что нам осталось проверить вторую воздушную магистраль? Ох, мне придется надеть что-то получше этих тряпок…
Подземная крепость издавала множество самых разнообразных звуков. Она была огромным полуживым организмом, а всякому организму свойственно производить шум. Явственнее всего эти звуки ощущались ночью. Сонное гудение вентиляторов, отрывистый треск остывающего пластика, жужжание распределительных щитов, ритмичный гул каких-то неведомых частей в недрах крепости…
За несколько дней, проведенных здесь, Гензель научился узнавать все эти звуки и даже находить в них свою красоту. Если закрыть глаза, когда идешь длинным тоннелем, которых в избытке на каждом уровне, может показаться, что вокруг тебя — загадочный и странный механический лес…
Сталь честнее плоти. Неудивительно, что священники Человечества латают свои тела с помощью механических деталей, вместо того чтобы использовать генозелья и операции. Может, это и не очень удобно, зато честно — по отношению к себе и своей генетической линии.
Но этой ночью механический лес звучал не так, как прежде. В нем будто чего-то не хватало… Или?.. Гензель замер, прислушиваясь. Скорее, наоборот, среди привычных звуков обнаружился один, разобрать природу которого ему не удалось. Что-то вроде стеклянного звяканья. Необычный звук. Гензель насторожился. Звук вроде бы доносился из столовой. Поколебавшись несколько секунд, он осторожно заглянул туда.
Это было ее высочество собственной персоной. Оно сидело за одним из столов почти в самом углу, где света ламп было меньше всего, и разглядывало стоящую напротив винную бутылку. Время от времени бутылка чокалась с бокалом, рождая тот странный и мелодичный звук, который привлек его внимание.
Наверно, не стоило заходить внутрь. Лучше бы оставить королеву этого подземного царства в одиночестве — едва ли ее гнев успел выветриться. Скорее всего, напротив, под воздействием вина превратился в весьма опасное и токсичное вещество.
Осторожно прикрыть дверь и вернуться в спальный отсек — это был бы взвешенный и логический вывод разума. Без сомнения, самый правильный в этой ситуации.
— Добрый вечер, ваше высочество, — сказал Гензель осторожно. — Не думал найти вас здесь.
Она была одна, и это порадовало его. Хоть раз проклятые цверги убрались с глаз долой.
Увидев Гензеля, принцесса Бланко усмехнулась с той особенной грустью, с которой усмехаются пьяные женщины. Она не была серьезно пьяна, это он определил сразу, но, несомненно, успела опрокинуть в себя не один бокал. Как это странно — пьющая в одиночестве принцесса… И, разумеется, на ней вновь был рабочий комбинезон, ни тканью, ни покроем не походивший на придворный туалет. Судя по усеявшим его винным кляксам, принцесса Бланко Комо-ля-Ньев давно игнорировала тонкости придворного этикета.
— Добро пожаловать, сударь. — Она саркастически отсалютовала ему наполовину пустым бокалом. — Полагаю, вас, как акулу, привлекло сюда любопытство? Крови здесь, конечно, нет, но… Не переживайте, никто из нас не в ответе за свои гены.
Прозвучало жестко, обидно. И совершенно несправедливо.
— В этом виновато не любопытство, ваше высочество, а мой излишне чуткий слух. Не хотел мешать вашему приятному времяпрепровождению. Извините.
Но закрыть дверь он не успел.
— Гензель!
— Что?
Принцесса неловко отставила бокал, так, что едва не разбила его о поверхность стола. Судя по всему, хмельной запал уже успел отпустить ее.
— Извините за… сказанное. И не обращайте внимания. Все особы королевского рода вздорны, и я не исключение. Стараюсь следовать семейным традициям. Но в одиночестве это быстро надоедает. Не хотите присоединиться ко мне?
Прозвучало вполне миролюбиво. Гензель помедлил и отпустил ручку двери.
— Боюсь помешать хорошей компании. Украшением ее я точно не стану.
— Ох, оставьте язвительность! Она идет вам не больше, чем акулий хвост… В конце концов, просто невежливо оставлять даму наедине с бутылкой вина. Кстати, можно пригласить и вашу сестру.
— Она не пьет вина.
— И почти не говорит. Полезное сочетание качеств для девушки в наше время… Я, как видите, не обладаю ни одним из них. Впрочем, если не хотите, я пойму.
Ему стоило уйти. Плотно прикрыть за собой дверь и удалиться, оставив принцессу надираться в гулкой пустоте столового зала. Надо думать, не самое страшное испытание для человека, который провел наедине с самим собой шесть лет. И для того, кто променял спокойную жизнь во дворце на прозябание в вечной мерзлоте, в обществе холодного камня и бессловесных чудовищ.
Ему стоило оставить ее в одиночестве. Но Гензель почему-то этого не сделал. Наоборот, выпустил ручку двери, за которую уже взялся.
— Не могу противиться желанию ее высочества. — Он изобразил легкий поклон, который принцесса встретила смехом.
— Мое высочество желает напиться, как последний сапожник в королевстве. И уже недалеко от этого…
— Садитесь, куда хотите. Здесь много места.
Возле Бланко нашлись свободные стулья. Гензель, поколебавшись, сел на ближайший, так, чтобы от принцессы его отделяло не больше метра. Он хорошо умел выбирать дистанцию в драке, но не имел представления, какая дистанция будет подходящей для данного случая. Пьяные принцессы относились к той категории существ, с которыми ему еще не приходилось иметь дела.
— Давайте бокал.
— Здесь больше нет бокалов.
— Тогда что-нибудь.
Гензель обнаружил на столе металлический солдатский стакан и протянул принцессе.
Не самый подходящий сосуд для тонкого напитка, ну так и он — не какой-нибудь герцог с сотой долей бракованной крови… Принцесса умело и быстро наполнила стакан из бутылки.
— Когда-нибудь пили вино?
— Не приходилось. Подмастерью геноведьмы оно не по карману.
— А мне часто доводилось пить вино во дворце. Забавно. Гувернантки учили меня, что красное вино полагается закусывать устрицами. И только тут я выяснила, что солдатская тушенка годится не хуже…
Принцесса закинула ногу на ногу. Удивительно, но даже в своем потертом рабочем комбинезоне она выглядела беззащитной и женственной. Некстати вспомнились королевские геногетеры — бездушные куклы, созданные для того, чтобы вызывать похоть каждой своей клеткой. Принцесса Бланко не шла с ними ни в какое сравнение. Она развалилась на стуле, как уставший докер в трактире, волосы ее были взъерошены, на подбородке виднелась свежая царапина. Тем не менее она выглядела женщиной больше, чем многие существа, носители XX-хромосомы, виденные Гензелем в прошлом. Он попытался не задерживаться на этой мысли, интуитивно ощутив в ней опасность. Даже постарался смотреть в другую сторону. Это заметила принцесса.
— Вы боитесь меня, Гензель?
Гензель понадеялся, что его смех прозвучал достаточно естественно и непринужденно.
— Отчего бы мне вас бояться?
— Вдруг я чудовище?
— Точно могу сказать, что у вас завтра будет чудовищно болеть голова, если вы вознамерились допить эту бутылку в одиночестве. Но на чудовище вы не похожи.
— Только не говорите, что не слышали слухов в Лаленбурге, — усмехнулась принцесса, бессмысленно крутя полупустой бокал и постукивая по нему ногтем. Ноготь был неровно обрезан, а скорее всего, обгрызен. — На лаленбургских улицах любят историю про принцессу-чудовище.
— Я не собираю городских слухов.
— А зря. Улицы всегда все знают. В том числе и про принцессу Бланко, урожденную Комо-ля-Ньев. Вам бы рассказали, что я родилась на свет с крыльями летучей мыши и лапами ящерицы. И только усилия лучших придворных геномагов позволили мне хотя бы внешне походить на человека.
— Извините, но это неправда.
— Бросьте. Все знают, что принцессы не сбегают просто так. За каждой сбежавшей принцессой всегда кроется какая-нибудь тайна. Так уж повелось. Обычно — гадкая, но с множеством любопытных подробностей. Говорят, я пью человеческую кровь прямо из печени жертв. Особенный генетический дефект. Много лет королевскому двору удавалось сдерживать слухи, а молоденьких обескровленных пажей и придворных тайно хоронили в дворцовом парке за кустами роз… Но под конец король устал содержать вурдалачку и нанял охотника, чтобы забить мне осиновый кол в сердце. Но тот сжалился и…
Гензель покачал головой.
— Не верю.
— Ну и напрасно, — отозвалась принцесса, делая большой глоток. От вина ее губы казались почти черными, цвета запекшейся крови. — Я могу рассказать вам десятки подобных историй… Некоторые из них весьма хороши. Нет, я серьезно.
— …Хотел бы я знать, откуда они стали вам известны? Откуда принцессе знать уличные слухи?
— Я же говорила, здесь есть мощная радиостанция. Иногда я слушала разговоры в открытом эфире. Первые несколько лет. Пока мне это не надоело.
— Радиостанция? Значит, вы могли…
— Связаться со своим отцом в любой момент? Да, могла. В любой момент.
Она замолчала, и Гензель не нашелся что спросить. Точнее, понял, что спрашивать сейчас ничего не стоит.
— Ваше королевское здоровье.
— И ваше.
Они чокнулись. Вино показалось ему чересчур кислым, терпким и отдающим плесенью. Если такую дрянь пьют при королевском дворе… Впрочем, если уж родился квартероном, ничего не попишешь. Можно вырастить с помощью генозелий вторую селезенку или глаза орла, но вкус — он или есть с рождения или нет.
— Вино прибавляет смелости.
— Возможно, ваше высочество.
— Сколько вам потребуется выпить, чтобы ее стало достаточно и вы наконец смогли спросить?
— Простите?
Ее серые глаза, совершенно лишенные благородной королевской голубизны, смотрели на него насмешливо и в то же время грустно.
— Вы собирались спросить меня, почему я сбежала из дворца. Разве не так?
— Кхм. Я…
— Спросите наконец, и покончим с этим.
— Почему вы сбежали из дворца? — чувствуя себя предельно глупо, спросил он.
— Потому что я чудовище.
— Это я уже слышал. Нелепые слухи.
— В том-то и проблема. Это не слухи.
Насмешка в серых глазах пропала. Взгляд ее, немного размягчившийся от вина, был вполне серьезен.
— Вы не чудовище, — сказал он убежденно. — Вы — особа королевской крови. Будущее Человечества.
Принцесса рассмеялась. Смех показался Гензелю болезненным, хоть и вполне искренним.
— Только не говорите, что верите во все те глупости, что вещает с амвона архиепископ. Про священное вместилище, про неискаженный генокод… Поверьте тому, кто одиннадцать лет прожил во дворце, среди нынешних королевских династий можно найти не больше чистых людей, чем изумрудов среди куриного помета. Короли и королевы так же страдают от генетических грехов, как и все прочие. Как бароны, графы, виконты и маркизы. Уверяю, некоторые наши венценосные родственники выглядят так, что их можно принять за уличных мулов. Спасаются операциями, генетическими трансформациями, гримом и прочими средствами… Помню дядюшку Паабо, маркграфа. Его метаболизм был так перекручен мутацией, что ему приходилось время от времени есть известку. А еще у него было щупальце вместо одной ноги. И что вы думаете?.. Никто ни о чем не подозревал. Репутация ветерана войны и старого чудака спасала его много лет подряд.
— Возможно, в вас есть толика испорченной крови, — сдался Гензель. — Но поверьте, это отнюдь не трагедия. И этого определенно мало, чтобы считать себя чудовищем.
— Вы знаете, что особам царской семьи при рождении изготавливают генокарты? — вдруг внезапно, безо всякого перехода, спросила принцесса.
Ему вспомнилась поверхность зеркала в апартаментах королевы-мачехи. Бесчисленное множество крошечных изображений. Тысячи незнакомых лиц. И ее, принцессы Бланко, лицо.
— Ну… Вполне допускаю.
— Разумеется, принято считать, что кровь королей девственно чиста. — На лице Бланко появилась кривая усмешка. — Но это только для широкой публики. Придворным генолекарям надо знать подноготную своих сановных пациентов. Подлинную, без прикрас и церковного елея. Надо ведь знать, чем лечить монарха, если у того внезапно начнут расти ногти на лице или перестраиваться пищеварительная система… Разумеется, эти карты совершенно засекречены, но они существуют. Я их видела. В наше время генокарта — истинное лицо человека…
— Тогда у вас должна быть очаровательная генокарта.
Комплимент оказался настолько же неуклюжим, насколько и наивным. Гензель едва не покраснел. Удивительно, в обществе принцессы он вдруг начинал себя вести как сопливый мальчишка. А ведь он старше ее на… на…
— У меня нет генокарты. — Принцесса сделала короткий судорожный глоток. — У чудовища не может быть лица.
То, с каким выражением она это произнесла, обеспокоило Гензеля. Шесть лет под землей наедине с цвергами… Может, Гретель права? Могло ли это пройти бесследно?
— Все в порядке, ваше высочество, я…
— Вы не поняли, Гензель. У меня нет генокарты.
— Не составили?
— Составили, как и полагается при рождении принцессы. Отец лично сжег ее в своем кабинете незадолго до того, как жениться на моей мачехе. Мало кто знает, что дети очень наблюдательны. Та генокарта, что хранится сейчас в королевском архиве, фальшивая. Судя по ней, моя кровь даже немногим чище, чем у королевы Лит… Но эту карту составили уже после моего рождения. Фальшивка. А тот геномастер, что составлял оригинал, скоропостижно скончался. Нелепое происшествие на охоте.
Гензелю перехотелось пить. Вино вдруг стало казаться просто протухшей жижей.
— Генокарты королевской династии и так секретны. К чему изготавливать фальшивку? Для кого?
— Может, чтобы никто не увидел истинного лица наследницы престола?
— Ну, вы преувеличиваете, ваше…
— Гензель, вы ведь уже все поняли. — Она вдруг взяла его за руку. Пальцы у нее оказались удивительно сильными, хоть и немного подрагивали. — Мою карту предпочли убрать навеки. От грабителей прячут золото, а что прячут от самих себя? То, что пугает. Мою карту уничтожили, потому что она пугала моего отца. Она содержала в себе нечто настолько страшное, что он предпочел самолично сжечь ее.
— Перестаньте, прошу вас.
— Но это было всего лишь отражение. Бумага. То, что его пугало, — здесь. — Бланко заставила Гензеля прикоснуться к своей груди. Под тканью комбинезона его пальцы ощутили дрожащие ребра и пугающе быстрый стук сердца. — Вот оно, перед вами. Заперто во мне. У чудовища нет лап, как у ящерицы или крыльев летучей мыши. Оно куда страшнее. Чудовище — это я.
Гензелю вдруг вспомнилась грязная комната постоялого двора и существо, состоящее из жидкого золота. Классическая диалектика. Принцесса и чудовище. Любое чудовище может быть красавицей, как верно и обратное — нет такой красавицы, которая бы не была отчасти и чудовищем. Он попытался стереть это воспоминание, как стирают тряпкой печную копоть со стекла.
— Не хочу рассуждать на эту тему.
— Страшно, да? — Принцесса выпустила его руку и стерла рукавом со щеки багровую винную каплю. — А теперь представьте, каково мне. Каково ощущать себя с детства саркофагом для дремлющего чудовища. Бояться того, что происходит внутри твоего собственного тела. В ужасе рыдать, стоит только появиться новой родинке, и гадать — начало ли это трансформации, которая превратит хорошенькую юную принцессу в омерзительную нечеловеческую тварь?..
— Я…
— Вам ведь приходилось убивать чудовищ, да? Но то чудовище, которое внутри меня, невозможно убить. Оно — моя кровь и плоть. Его не вытащить из меня клещами, потому что мы с ним — единое целое. Мы с ним связаны генетической цепью. Но рано или поздно оно вырвется на свободу. Обязательно вырвется…
— Бланко! — Он впервые назвал ее по имени, сам того не заметив. — Перестаньте. Я смотрю на вас — и не вижу никаких следов генетических мутаций. По крайней мере, поверхностных. Вы похожи на семнадцатилетнюю девушку, и только. Если вас это успокоит, я попрошу Гретель, чтобы она заново изготовила вашу генетическую карту. Ну как? Все тайное станет явным. Вы сможете увидеть свое лицо.
Ее тонким пальцам не хватило лишь толики силы, чтоб раздавить бокал. Но вздрогнула она так, словно в ее ладони впились самые настоящие стеклянные осколки. Гензелю даже померещились алые пятна на бледной коже. Хвала Человечеству, то был лишь отсвет вина.
— Нет!
— Почему нет? Вас пугает неизвестность — так не пора ли сдернуть ее покровы?
— К некоторым покровам привыкаешь, как к покровам кожи.
— В наше время кожу не обязательно срывать, чтобы заглянуть под нее. Есть специальные инструменты…
Принцесса отстранилась, ножки ее стула заскрежетали по полу.
— Нет уж. Заглядывать в меня — то же самое, что заглядывать в чумной склеп. Если бы я действительно была нормальным человеком, а не чудовищем, замаскированным под него, мне не пришлось бы пройти в детстве через все эти кошмары. От меня не прятали бы мою суть! Наверно, меня стоило бы удавить в младенчестве. Тихо, как это обычно делают. Утопить в дворцовом пруду, например. Чтобы не позорила королевской семьи. Но мой отец оказался слишком слаб для этого. Позволил мне вырасти. Хоть и понимал, что растит раковую опухоль на собственном теле…
— Вы — человек, — убежденно сказал он. — Вам просто нужно зеркало, чтобы это увидеть.
— А вы — мальчишка. — Принцесса отставила бокал и скривилась, словно лишь сейчас почувствовала всю кислоту выпитого вина. — Просто мальчишка. Извините, Гензель. Просто… Вы отчего-то кажетесь мне моложе своих лет. В вас постоянно проглядывает что-то такое… мальчишеское. Ох, не спорьте, когда с вами говорит мое высочество! Тем более пьяное высочество… Вы — взрослый мужчина и, без сомнения, опытный солдат. О да, у меня была возможность убедиться. И у бедных цвергов… А еще у вас страшные зубы. Но в то же время всякий раз, когда я гляжу на вас, мне кажется, что я вижу мальчишку. Отчаянного, но в то же время легкомысленного, бравирующего, любопытного, робкого, хитрого, наглого… Короче, все то, что обычно бывает у мальчишек. Только мальчишка этот спрятался в чужом теле, отрастил бороду и научился управляться с клинком. Однако он тоже до сих пор отчего-то боится зеркал…
Он хотел было перебить ее пылкий монолог, но сразу понял, что не удастся. Попробуй перебить пьяную принцессу!.. Не стал и пытаться.
— Мальчишка! — Произнесенное еще раз, это слово отчего-то стало отдавать полынной горечью. — Пусть даже с мушкетом и сильный, как мул. Вы по-мальчишечьи самоуверенны и столь же по-мальчишески наивны. Странная какая, глупая смесь… У меня такое ощущение, что в некоторых отношениях вы еще ребенок.
— Слышали бы это в борделе Лаленбурга, — пробормотал он уязвленно. — Не иначе, я заработал бы существенную скидку…
Он надеялся хоть немного смутить ее, но принцесса лишь фыркнула:
— Я не это имела в виду, и вы прекрасно понимаете, сударь.
— Я вырос много лет назад. И раньше, чем следовало бы.
— Не выросли. — Принцесса Бланко покачала головой. — Вам лишь так кажется. Вы так и остались в своем детстве. Заблудились в нем, как в густом темном лесу. И бродите там до сих пор, тщетно выискивая просеку. Может, не вы, но какая-то часть вас… Какая-то ваша часть осталась там навсегда. Очень одинокая, грустная и испуганная часть.
Лес. Заблудившиеся дети.
Мальчик и девочка — уставшие, перепуганные, сбившиеся с пути. Они упрямо идут вперед, не видя даже солнечного света, и вокруг них топорщит ядовитые колючки смертельно опасный лес. Они едва идут, они устали кричать и звать на помощь, но они все-таки продолжают идти. Просто потому, что больше им ничего не остается.
Может, они так никогда и не вышли оттуда?
Выпитое вино вдруг вызвало приступ болезненной и едкой изжоги.
«Мы все еще в лесу. — Мысль эта осиным жалом распорола кожу, впрыснула яд в кровеносные сосуды, загудела в голове. — Вот в чем штука… Не только Гретель. Мальчик тоже не выбрался из леса. Эти дети остались там навсегда, всеми брошенные и позабытые. Они идут из последних сил, не сознавая своим детским естеством того, что позволительно понимать лишь взрослому: мир — это не сказка. Не для каждого припасен хороший конец. Не каждый добивается счастья и оказывается в стране с молочными реками и кисельными берегами лишь потому, что он храбр, решителен и чист душой. Не каждый женится на принцессе. Некоторые просто погибают. Только детям этого не понять. Они не верят в собственную смерть. Любой заблудившийся ребенок знает, что рано или поздно отыщет дорогу. Просто некоторые не успевают дорасти до того возраста, в котором понимаешь — иногда дорога просто заканчивается, чтобы никогда не продолжиться. Просто с некоторыми так бывает. Мальчик с девочкой никогда не вышли из леса. Они забылись тревожным голодным сном и видят самих себя — выросших, уверенных в себе, живущих настоящей взрослой жизнью. Оттого они оба чувствуют себя в этой взрослой жизни так неуютно и неловко, точно натянули чужую, со взрослого плеча, одежду, оттого не могут найти своего места и бродят из королевства в королевство. Они просто не могут стать частью жизни. Им это все снится в далеком и мрачном лесу».
— Интересное наблюдение, — произнес Гензель тем безразличным тоном, который всегда так естественно удавался Гретель, но к которому у него самого было мало способностей.
Он ожидал очередной колкости или выпада, но принцесса Бланко отчего-то не воспользовалась удачным моментом. Она выглядела осунувшейся, безмерно уставшей и грустной. Видимо, дарованная хмелем язвительность уже начала рассасываться.
— Извините, сударь, — сказала она, потупив глаза. — Я слишком много болтаю и часто забываюсь. В конце концов, у меня есть свой собственный лес, в котором я брожу с самого детства. Только он несоизмеримо страшнее вашего. Заблудившаяся девчонка всегда может убеждать себя в том, что чудовище не увидит ее. Дети отлично умеют убеждать самих себя. Но только не те, кто точно знает — чудовище всегда увидит тебя. Потому что чудовище не спит, и оно не выберет другой тропы. Оно всегда рядом с тобой. Оно в тебе. Это и есть мой лес, сударь.
«И ты в нем одна, — мысленно закончил он, наблюдая за тем, как принцесса неуклюже наполняет бокал. Судя по тому, как прыгает горлышко бутылки, вторая едва ли понадобится. — Нам с Гретель было проще, мы были вдвоем. И весь страх разделили на двоих. А ты тащила свой одна, маленькая, глупая и очень смелая принцесса…»
— Неужели родители не делали ничего, чтобы помочь вам? — спросил он вслух. Десятью минутами раньше этот вопрос прозвучал бы резко и нетактично. Но сейчас он вызвал у принцессы лишь неопределенный жест, который мог выражать как раздражение, так и насмешку.
— Мои родители… Ох! Вы не знаете моих родителей, сударь. Ничего удивительного. Вы же квартерон, а они — их величества…
— Не имел удовольствия их знать, — осторожно сказал он. Как бы не проболтаться о визите во дворец…
— Мать свою я почти не помню… Она умерла при родах. Просто призрак из прошлого. Интересно, она доверила бы мне генокарту? Рассказала бы о проклятии?..
— А отец?
Принцесса дернула плечами. Кажется, движение было рефлекторным, безотчетным.
— Мой отец был королем. Что еще добавить?
— Он любил вас. Отцы всегда любят своих дочерей, даже короли. Секретный закон геномагии. Серьезно, мне об этом рассказывала Гретель.
Принцесса слабо улыбнулась:
— Ваш отец любил вас, конечно?
Гензель вспомнил злой скрип отцовской механической ноги.
Скруээ-э-пп-п-п. Скруээ-э-пп-п-п.
«Ждите меня здесь, — сказал отец, — я скоро вернусь». И ушел, оставив их в чаще Железного леса.
Скруээ-э-пп-п-п.
— Конечно, любил.
— Тогда вам с сестрой повезло, — вздохнула принцесса. — Мой, наверно, тоже любил меня. А я его боялась. Глупо звучит… Но действительно боялась. У детей особенное восприятие, вы же знаете. Подчас оно способно вывернуть все наизнанку, как я сейчас понимаю. Отец всегда казался мне строгим. Нет, не так… Ох… Мне казалось, что он всегда смотрел на меня с каким-то… презрением, наверно. Он никогда не говорил мне добрых слов, только те, что утверждены высочайшим протоколом. Мне кажется, он делал вид, что меня и вовсе не существует. Может, я скажу глупость, но я боялась его. Дети — глупейшие существа. Я думала, он терпеть меня не может. Сперва — что это из-за матери, которая скончалась при родах. Лишь потом, когда открылась история с генокартой, я поняла… Все было гораздо хуже. И гораздо сложнее. Он любил меня, но вместе с тем он боялся и презирал чудовище, которое сам породил. Я не могу упрекнуть его за это. Он поддался малодушию и не уничтожил меня, когда я была младенцем. И с того дня я стала его наказанием. Его личной персональной пыткой. Он каждый день видел меня — генетическое отродье, убившее его жену и прикованное к нему золотой неразрывной цепью.
Принцесса Бланко вырвала из своей короткой прически несколько волосков цвета легкой ржавчины и стала с отвращением их разглядывать.
Гензель мягко выхватил их из ее пальцев. Дунул — и позволил улететь в темноту.
— Ваш отец любил вас, уверяю, ваше высочество. Просто он боялся показать свою любовь. Страх — одна из самых естественных человеческих эмоций.
— Даже когда она касается неестественного существа? — горько улыбнулась в ответ принцесса. — Я так боялась его, что даже не решалась заговорить. И каждый раз, когда он смотрел на меня, мне хотелось провалиться сквозь землю — прямо сквозь роскошные мраморные дворцовые плиты. Странно вспоминать, но в то время меня часто утешала мачеха.
— Королева-мачеха? — уставился на нее Гензель. Спохватился и попытался принять безразличный вид. — Кхм… Я имею в виду, между детьми и новыми родителями редко устанавливаются теплые… кхм…
— Она была странной. Носила какие-то страшные платья, не пользовалась генозельями и геноприпарками, что редкость при дворе… Читала непонятные книги и говорила непонятными словами. Вечно номинала Человечество, Извечное и Всеблагое. Любила рассуждать о том, что генетическую нить Человечества невозможно разорвать и что когда-нибудь, разоренное и изуродованное генетическими грехами, оно вновь очистится и обретет былое величие. Я знаю, сударь, вы верующий…
— Сестра называет меня сумасшедшим фанатиком.
Принцесса звонко рассмеялась.
— Ну, вы с моей мачехой Лит нашли бы общий язык!
Гензелю вспомнилась холодная келья и молчаливая женщина в строгом платье. Слепые лики святых, таращащиеся из стен…
— А вы — находили?
Принцесса замешкалась с ответом, по лицу проскользнула тень.
— Да, пожалуй. Если подумать, она была единственным человеком при дворе, который проявлял ко мне симпатию. Отец смотрел на меня как на ядовитое насекомое, прилипшее к сапогу. Придворные, чувствуя его настрой, тоже не спешили засыпать меня комплиментами. Я была призраком в королевском дворце, на меня предпочитали не обращать внимания. Это не очень сложно, ведь я обычно не решалась и рта раскрыть. А мачеха… Мне кажется, она любила меня. Или, по крайней мере, сочувствовала. А может, все это тоже шутки глупого детского воображения…
— Она не была жестка с вами? Не презирала?
— Ох нет. Хоть я и не была ее родным ребенком, у нас с ней не было генетического материала, королева Лит была добра со мной. Ну, насколько может быть добр человек, поглощенный верой без остатка… Все верующие обычно строги, священники вообще никогда не улыбаются. Они же считают, что все это, — принцесса обвела рукой столовую, — испытание, ниспосланное Человечеству для проверки и очистки. Но мачеха всегда находила для меня доброе слово. Мне приятно вспоминать о ней. Правда, и она не решалась на людях проявлять свое расположение. Наверно, боялась супруга. Едва ли он оценил бы подобную симпатию… Когда он был рядом, мачеха тоже не обращала на меня внимания, даже иногда шипела на меня для виду. Тогда это казалось мне хитрой игрой… Знаешь, дети, особенно одинокие, часто придумывают игры сами себе. Но у меня были самые необычные игры. «Постарайся забыть, что внутри тебя живет чудовище» и «Делай вид, будто боишься мачеху и любишь отца». Разве не забавно?
Гензелю захотелось помотать головой, чтоб вытряхнуть из нее винные пары.
Кажется, жизнь и в самом деле — забавная и сложно устроенная штука.
Вероятно, Тревиранус Первый и в самом деле когда-то презирал свою дочь-полукровку. Позор для правящей династии, пятно на безукоризненной генетической линии… Ему было отчего негодовать. И было отчего злиться. Но стоило только ей пропасть… Вот она, необъяснимая человеческая геномагия, которая происходит без склянок и таблеток.
Король вдруг понял, что Бланко, какой бы ни была ее генетическая природа, часть его самого. Может, небезупречная или даже ужасная, но неотъемлемая. С того момента это стало его бесконечной мукой. Он тосковал по дочери, которую сам же и оттолкнул своей злостью, и боль от этого должна была быть еще мучительнее. Теперь понятно, отчего он истощил казну, рассылая по всему королевству следопытов и охотников. Отчего на его лице безупречные черты оказались навек подавлены выражением усталости и тоски. Король Тревиранус Первый страдал, собственной рукой отрубив родственную плоть.
А королева!.. Злой парадокс судьбы. Королева-мачеха, возможно, когда-то и в самом деле любила маленькую девочку, напуганную и одинокую, от которой отказался весь мир. Даже ее суровая вера не позволила ей оттолкнуть несчастное дитя. Она была единственной ее заступницей в мире, состоящем из ненависти и презрения.
Но все мгновенно переменилось, как меняется цвет химической жидкости в колбе, стоило лишь принцессе подрасти. Из беззащитной девочки она превратилась в угрозу королевскому благополучию. Какова ирония! Королева-мачеха поверила фальшивой генетической карточке принцессы. Не зная, какие мрачные тайны скрывает фенотип падчерицы, она вознамерилась сжить ту со света, даже не предполагая, что Бланко не представляет для нее никакой угрозы.
Гензель криво усмехнулся, надеясь, что принцесса не увидит его гримасы.
«Как же непредсказуема и причудлива человеческая природа, — подумал он, все еще поражаясь этому невероятному калейдоскопу чувств. — Непредсказуема, причудлива и ужасна. Тот, кто тебя ненавидит, готов пожертвовать всем, чтобы тебя вернуть. А тот, кто испытывал к тебе жалость, становится твоим палачом. Наверно, Гретель не смогла бы этого понять. Она — геноведьма. Ученый. Это означает холодный блеск предметных стекол и стерильные инструменты. Гретель умеет разложить человека на крошечные частицы плоти и изучить под микроскопом. Но ей никогда не понять, как эти частицы, будучи сложенными воедино, взаимодействуют друг с другом и к каким поразительным эффектам это приводит…»
— Значит, отец? — спросил Гензель, очнувшись от накатившей задумчивости.
Ничто не переменилось. Они с принцессой Бланко сидели в огромном неосвещенном зале. Между ними на столе стояла пустая бутылка с багровыми потеками на прозрачном стекле. Сперва Гензелю показалось, что принцесса задумчиво смотрит на бутылку. Но потом он понял, что взгляд ее устремлен на него самого. Странный взгляд. Он обратил внимание, что из этого взгляда пропал пьяный блеск. А может, его и не было. Принцесса Бланко разглядывала его внимательно и задумчиво. Как разглядывают странную диковинку непонятного назначения, привезенную из дальних краев.
— Отец?.. — переспросила она, приподняв брови.
— Вы убежали из дворца из-за отца?
Принцесса нерешительно улыбнулась. И куда делась хмельная раскованность?..
— Да. Это главная дворцовая тайна, так что поклянитесь ее не рассказывать. Я убежала из-за него. В какой-то момент мне показалось, что… В общем, я была юна и глупа. Мне…
— Вам показалось, что он готов совершить что-то плохое?
— Угу. Мне показалось, что он хочет убить меня. Таким вот я была глупым ребенком, представляете? Сбежала без оглядки, ночью. Несколько месяцев скиталась по королевству. Тогда я еще не знала, что он будет разыскивать меня. Только здесь, когда у меня появилась радиостанция, я на десятках частот услышала его призывы — во что бы то ни стало разыскать принцессу Бланко Комо-ля-Ньев. Я слушала их не очень долго. Потом перестала включать радио. Ох. Мне казалось, он все еще ищет способ очистить от гнилого яблока свое генеалогическое древо. Видите, Гензель, вы не единственный ребенок, запертый здесь. Я тоже слишком долго была ребенком — мнительным, испуганным и замкнутым. А дети слишком легко поддаются своим страхам. Мои владели мной шесть лет. Но появились вы, сударь, и, кажется, расколдовали меня. Теперь я вижу, насколько глупым ребенком была. И мне стыдно. Ох, церебротендинальный ксантоматоз!.. Чертовски стыдно. Глупейшее чувство.
— Вы выросли. — Гензель ободряюще улыбнулся принцессе. — Вот и все. Возможно, достаточно выросли, чтобы заглянуть в темный шкаф?.. Как знать, может, чудовище, что жило там так долго, вовсе не столь ужасно?
— Вы правы, сударь. Быть может, оно слишком долго скучало там, взаперти. Маленькое, очень глупое и одинокое чудовище…
Она вдруг придвинулась к нему, склонившись над столом. Странное дело, он легко парировал молниеносные выпады цвергов, но оказался совершенно не готов к этому простому и короткому движению. А еще к тому, что ее лицо окажется в нескольких сантиметрах от его собственного.
От принцессы Бланко пахло приятно и странно. Не туалетной водой и не духами. Потом, вином, сгоревшей изоляцией, пылью и ржавчиной. Но удивительным образом все эти запахи, наслаиваясь друг на друга, показались ему притягательными. Два серых глаза уставились на него, каждый был похож на прикрытую багровыми закатными облаками луну. Только лун этих на небосводе было две — и обе уставились прямо на него. Захотелось сглотнуть, но в горле оказалось сухо.
— Я выросла, — сказала принцесса едва слышно, закусив губу. — Это верно. Выросла в одночасье. И теперь мне надо нечто большее, чем маленькой девочке.
Он почувствовал, как у него вновь краснеют щеки. Проклятье. Надо попросить Гретель, чтобы она своими геночарами уменьшила кровоток в скулах, может, тогда это будет не так заметно…
Мальчишка. И верно — мальчишка.
— Ваше…
— Тише. Иначе проснутся цверги. И ради Человечества, надеюсь, нам не придется снова пить вино? Я уже устала изображать из себя хихикающую пьяную принцессу. Я выпивала по три бутылки за ужином. Знаешь, в этой крепости у меня было очень много долгих и холодных вечеров… А склады вина здесь просто огромны. У меня была возможность потренироваться.
Она коснулась рукой его шеи. Он отчего-то ожидал, что рука у нее будет грубой и мозолистой. Но пальцы оказались мягкими и удивительно теплыми. Только неумелыми. Обычная человеческая кожа, нежная и податливая.
Он попытался еще что-то сказать, прежде чем понял, что в этом нет нужды. И странным образом испытал облегчение. Больше ничего не требовалось говорить. Больше не нужны были слова. Слова лживы, обманчивы, как человеческая природа. Как геномагия. Как плоть. Слова делают все сложнее. В словах иногда очень трудно разобраться.
Гензель притянул принцессу к себе, ощутив под жесткой тканью комбинезона гибкое и подрагивающее тело. В носу защекотало, когда в него попали чужие волосы. Запах смазочного масла проник глубоко в его носоглотку, и от этого чудодейственного запаха все волоски на его теле вдруг встали дыбом.
Губы у принцессы оказались твердыми, требовательными и прохладными. И, кажется, сладкими. Интересно, так устроено у всех принцесс?.. Раньше он никогда не целовал принцесс…
— Гензель!
— Мм?..
— Уфф-ф… Твои зубы…
— Да?
— Они прекрасны… Ты зря их стесняешься. У тебя прекрасные зубы. Они совсем не страшные…
— А у тебя нет ящеричных лап.
Откуда ты знаешь? Я ведь еще не закончила снимать комбинезон…
— Ох!
— Гретель! Гретель!
— Что?
— Гретель! Нейрофиброматоз тебя раздери! Да вставай же!
Гретель всегда просыпалась мгновенно. Ее не требовалось трясти. Вот и сейчас ее полупрозрачные глаза мгновенно открылись, уставившись на него. Сонливости в них не было, они горели ясно и ровно, как индикаторы на какой-нибудь приборной панели. Разве что у индикаторов не бывает такого цвета… Должно быть, эти глаза заметили что-то примечательное, потому что Гретель сразу нахмурилась.
— Что тебе надо, братец?
— Случилось что-то страшное.
— Самое страшное случается, когда геноведьме не дают как следует выспаться.
Но она приподнялась в кровати, верно, по его лицу поняв, что Гензелю не до шуток. Да он и сам догадывался, как выглядит.
— Что такое?
— Принцесса, — выдохнул он, и это одно-единственное слово потребовало всего воздуха, что был накоплен у него в легких, пришлось сделать еще один глубокий вдох. — Принцесса… Она…
Гретель окинула его хмурым и внимательным взглядом с ног до головы.
— Судя по тому, что ты ввалился ко мне в одних шоссах и даже без сорочки, принцесса Бланко пребывает в наилучшем состоянии. По крайней мере, я на это надеюсь.
— С принцессой все плохо, сестрица, — сказал он, чувствуя непомерную тяжесть в груди.
— Плохо? Она обмякла? Беспричинно смеется? Дрожит? Я думаю, это нормально, братец. Насколько мне известно, это свойственно многим особям после процесса смешения генетического материала. Но не думаю, что тебе интересен его механизм…
— Не было никакого смешения! — выдохнул он, кусая губы.
Я имею в виду, наш материал не… Ты понимаешь.
— Не было? — во взгляде Гретель появилось что-то, что в человеческом воплощении могло бы считаться сочувствием. — Тогда понимаю твое смущение, братец. Не переживай, думаю, я смогу синтезировать генозелье для… вашего случая, хоть это и не в моих правилах.
— Она… она в гробу.
Гретель вскочила с койки так быстро, что треснули пружины матраца. Спала она, конечно, одетой, снимая лишь ботфорты — дань многолетней кочевой жизни и равнодушия к комфорту. Для того чтобы полностью одеться, ей хватило десяти секунд. И даже эти десять секунд она использовала с максимальной пользой, расспрашивая Гензеля.
— Гроб? Она в стазисном поле?
— Да. В лазарете.
— Фибродисплазия! — выругалась Гретель. — Как она оказалась в гробу? Зачем?
— Я отнес ее туда.
— Синдром Клайнфельтера на вас обоих… С каких пор тебя перестала устраивать кровать, братец?
— Гретель… Ей действительно плохо. Очень плохо. Она не дышала.
Короткий всплеск эмоциональности у Гретель прошел, он редко длился больше полминуты — она уже зашнуровывала ботфорты. Гретель стала спокойна, собранна и решительна. Гензелю на миг подумалось, что она схожа с большим стоячим прудом. Кинь камешек — и по поверхности пойдут круги. Но очень быстро эти круги пропадут, и тогда поверхность вновь станет зеркально-гладкой, ничем не потревоженной.
— Как это случилось? — спросила она ровным сухим тоном, точно таким же, каким врач задает важные вопросы перед операцией. Никаких эмоций, никаких модуляций.
— Мы… были у нее в отсеке.
— Это я уже поняла. Дальше.
— Мы были в одной кровати.
— Это очевидно. И она потеряла сознание?
— Да.
— Но до образования зиготы дело, как я понимаю, не дошло?
— Будь добра выражаться человеческим языком!
— Ваш генетический материал…
— Не смешивался, — буркнул Гензель. — Я же сказал. Мы не успели. Только скинули одежду, и… Это все из-за меня.
— Что ты сделал?
— Я дал ей яблоко.
Ему показалось, что в ледяной броне Гретель возникла брешь, сквозь которую, как из пробоины, вновь может полыхнуть живое человеческое пламя. Глаза Гретель раскрылись шире, чем обычно.
— Ты — что?
— Дал ей яблоко, — повторил Гензель тихо. — Да, это было глупо. Я нарушил наш уговор. Знаю. Готов тысячу раз раскаяться и объявить себя круглым дураком. Но давай оставим разбирательства на потом. Надо спасти Бланко.
Гретель осталась невозмутимой, лишь коротко усмехнулась.
— Ты удивил меня, братец. Не ожидала. Ладно, не суть важно. Что было дальше?
— Ну… Она откусила от яблока… Один маленький кусочек! Потом у нее остановился взгляд, глаза закатились… Дыхание стало рваным, пульс задергался. Я попытался привести ее в чувство, но бесполезно. Пульс слабел с каждой секундой. Тогда я схватил ее и потащил в лазарет.
— Почему туда?
— А куда еще? — огрызнулся Гензель, стараясь не глядеть на сестру. — Я же не знал, что с ней! Я не врач.
— Я тоже. Но яблочки-то наши — с генетической начинкой… Пошли посмотрим на твою принцессу. Хотя, признаться, я не понимаю, что тебя беспокоит. Ты сам дал ей…
— Гретель!
— Я уже готова. Пошли.
При тусклом ночном освещении коридоры подземной крепости выглядели тревожно и зловеще. Вентиляционные каналы негромко шипели, и от одного этого звука делалось до крайности неуютно — точно шипение это производили огромные стальные змеи, затаившиеся в полумраке. Брошенная принцессой крепость казалась опасным подземным логовом, полным неизвестных гадов. По счастью, далеко идти им не пришлось. Шли в молчании. Гретель больше ничего не спрашивала, а Гензель, стиснув зубы, глядел себе под ноги.
В лаборатории оказалось светло, но свет здесь был неестественным, рассеянным, отливающим больничной синевой. В таком свете человеческая кожа выглядит синюшной, как у мертвеца.
Принцесса Бланко лежала в гробу посреди лаборатории.
Гроб. В который раз увидев этот аппарат, Гензель подумал о том, до чего удачно приклеилось к нему это прозвище. И верно гроб. Большой прозрачный ящик со стеклянной крышкой, этакий саркофаг из горного хрусталя. И в этом хрустале — крошечная обнаженная человеческая фигурка с безжизненно распростертыми руками. И волосами цвета легкого налета ржавчины.
Принцесса Бланко лежала с закрытыми глазами. Рот ее был открыт, губы неестественно побелели, окостенев в последнем выдохе и обнажив ряды ровных белоснежных зубов. Гензель попытался оторвать от них взгляд, но не смог. Эти губы помнили вкус его кожи. Эти губы он целовал час назад. А сейчас они казались твердым пластиком, холодным и гладким.
Гензель заметил, что его бьет мелкая дрожь. Обнаженное тело принцессы, заточенное в хрустале, выглядело почти детским. Невозможно было вспомнить, как он прикасался к нему, как гладил его мягкую кожу. То, что лежало в гробу, уже не выглядело человеком. Скорее, каким-то жутким экспонатом в специальной камере, выставленным на всеобщее обозрение.
«Человеческое тело, храм духа, — с горечью подумал Гензель, бессильный оторвать от принцессы взгляд, ставший вдруг тяжелым и непослушным, точно не глазами надо ворочать, а многотонными чугунными шарами. — Сколько проповедей я слышал о том, что само человеческое тело, лишенное генетических пороков, есть чудо и величайшее из чудес света, прекраснейшее его явление. И вот это тело лежит передо мной в своей первозданной красоте. Оно почти идеально, по крайней мере внешне. Оно, без сомнения, человеческое. Сложнейший биологический механизм, совершенней которого невозможно и придумать. А я смотрю на это тело и чувствую такое опустошение, словно из меня выпустили всю кровь, и в пустых жилах гуляет холодный ветер. Вот оно, чудо, лежит передо мной. Но без той самой малости, без самой Бланко, оно уже не кажется чудом. Оно кажется лишь плотью, равнодушной сырой плотью. Из чуда пропала одна крошечная деталь — и само чудо тоже пропало».
— Откуда здесь взялись цверги?
— Сами пришли. Через минуту после того, как я… Наверно, что-то почувствовали. Но ведут себя смирно.
Цверги стояли поодаль от гроба, но если раньше они казались королевской свитой, то теперь — погребальной процессией, выстроившейся в ожидании торжественного момента. Взгляд желтых глаз — недвижим, а сами глаза кажутся потухшими, как выключенные фары. Удивительная метаморфоза, искать объяснения которой Гензель не хотел. Не цверги сейчас были проблемой.
— Что с принцессой? — требовательно спросил он Гретель.
— Я думала, ты хорошо разбираешься в машинерии.
— В обычной. А это — медицинское оборудование.
Аппаратная панель стазисной камеры пестрела огоньками, как болото — светлячками. Перемаргивались круглые и плоские огоньки, стрекотали без всякого ритма динамики. Гензель не понимал языка этой чудной машины, а машина была равнодушна и к нему, и к Бланко, и ко всему окружающему миру. Машина не разбиралась в чудесах. Она разбиралась только в плоти.
Гретель на несколько секунд замерла, считывая показания. Лицо ее было таким же невыразительным и равнодушным, как терминал стазисной камеры, и Гензель напрасно пытался прочесть по нему хоть что-нибудь.
— Ну! — нетерпеливо воскликнул он. — Что с ней?
Гретель отбросила со лба прядь и провела рукой по хрусталю. Конечно, никакой это не хрусталь, а полимер, но возникало ощущение, что добыли его в этих же горах, под толщей льда и камня.
— Она мертва.
Кто-то ударил молотом ему по груди. Сердце испуганно квакнуло, как раздавленная лягушка, и обмерло, медленно выпуская из себя раскаленную, готовую вот-вот закипеть кровь. Гензель попытался что-то сказать, сам не зная что, но обнаружил, что губы его беспомощно дрожат. Нелепо, стыдно, жалко, но он ничего не мог с собой поделать.
Мальчишка. Заблудившийся в лесу мальчишка.
А потом что-то злое проснулось внутри него и яростно клацнуло зубами:
— Она не может быть мертва!
Гретель мягким жестом указала ему на приборную панель.
— Здесь все показатели. Давления в сосудах нет. Сердце не бьется. Остаточное мозговое излучение. Когда ты опускал ее в гроб, она была уже мертва. И мозг ее тоже мертв до последней клетки. Она умерла, братец. Настолько, насколько это возможно для человеческого существа.
Он уставился на Гретель — чтобы предательский взгляд не перебрался вновь на хрустальную глыбу. Ему вдруг стало казаться, что, если он еще раз взглянет в лицо Бланко, ее глаза внезапно распахнутся. И он встретит взгляд стеклянных мертвых глаз.
— Но она в стазисе! Ты можешь спасти ее, Гретель! Ты же геноведьма!
— Гроб не спас ее, лишь остановил процесс некроза тканей. Она уже мертва, понимаешь? Можно спасти умирающего, но спасти того, чей мозг уже необратимо мертв… Не существует таких генозелий. Ни у меня, ни у кого бы то ни было еще.
— Мертва… — пробормотал Гензель, и ему показалось, что его собственные губы сделаны из того же холодного гладкого пластика, как у Бланко. — Ох, Человечество, что же я натворил…
Гретель неловко погладила его по макушке. Редкое проявление чувств. Едва ли Гретель совершила его, повинуясь внутренним позывам, скорее увидела где-то и механически воспроизвела. Геноведьмы не знают, что такое сочувствие.
— Гензель… Я не собираюсь тебя утешать, но… На что ты рассчитывал? На чудо? Чудес не бывает. Плоть всегда подчиняется законам плоти. Ты сделал это. А теперь прими это как данность. И не умоляй Человечество о том, чтобы оно совершило невозможное.
Гензель непонимающе уставился на нее. Наверно, его восприятие серьезно повреждено. Раньше он не понимал, что чувствует Гретель, а теперь не понять и того, что говорит…
— Чудо?.. Я?.. Что ты имеешь в виду, черт возьми?
— Ты сам дал ей яблоко, — терпеливо сказала Гретель, не отнимая руки. — Пусть без моего согласия, нарушив наш уговор, но менять что-то поздно. Это был твой выбор. Яблоко подействовало. Принцесса мертва. Какого еще результата ты ждал?
Гензель расхохотался. Получилось как-то само собой. Он просто открыл рот, и смех вдруг хлынул из него злым рокочущим потоком — нервный лающий смех, которого испугался бы, наверно, даже цверг.
— Братец!..
Ему пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы унять этот безумный клокочущий смех.
— Я… Я… Ты думаешь… Ох…
— Говори! — потребовала она. Глаза мгновенно потемнели.
— Я дал ей яблоко! Чертово яблоко!.. Сам. Верно. Но не отравленное яблоко!
Редко можно увидеть геноведьму в растерянности. Кажется, Гензель увидел такое впервые. Гретель беспомощно заморгала. Ее глаза, холодные и прозрачные, на миг стали почти человеческими. Как у маленькой девочки, растерянно глядящей на старшего брата.
— Ты не давал ей отравленного яблока? — медленно, с расстановкой спросила Гретель. — Не давал ей яблока королевы-мачехи?
— Да нет же, черт тебя возьми! Кто я такой, по-твоему? Оказаться в постели с женщиной и угостить ее отравой? Таков твой братец?
— Прости, я, кажется…
— У меня и в мыслях не было отравить ее!
Гретель схватила его за плечи с силой, которой никак нельзя было предположить в тощем теле геноведьмы.
— Тогда что ты ей дал? Что ты ей дал, Гензель?
— Яблоко короля конечно же! Маленькое, зеленое. То самое, что мы получили от него! То, что должно было привести Бланко домой. Ностальгия, тоска по дому… Тревиранус знал, в каких чувствах она покинула дворец. Он раскаивался в том, что презирал ее в детстве, и хотел вернуть все назад. Поэтому он дал нам это яблоко. Чтобы вызвать прилив ностальгии…
— А вызвал смерть, — безжизненным голосом произнесла Гретель, выпуская брата.
Гензель опустил руку в карман и, нащупав там твердую сферу, вытащил ее наружу. Это было то самое яблоко. Не крупное, скорее мелкое. Зеленое, кислое даже на вид. Но оно немного изменилось с тех пор, как он принял его из королевской руки. На боку яблока крошечным зазубренным полумесяцем блестел след укуса, отпечаток чьих-то зубов. Откушенный кусочек был совсем невелик. Под тонкой зеленой шкуркой была влажная белая мякоть. Отстраненной частью сознания, которая наблюдала со стороны за тремя застывшими телами, одно из которых было заключено в глыбе хрусталя, Гензель подумал о том, что яблоко странным образом стало миниатюрной копией лаленбургского герба.
Как там говорил король?.. Символ извечного качества человеческой души — нелогичного, безрассудного и бессмысленного качества. Способности поступать так, как заблагорассудится, а не так, как советует разум.
Ему вдруг захотелось самому откусить кусок яблока. Впиться акульими зубами в отравленную мякоть. Раздавить. Интересно, он успеет почувствовать вкус?.. Но он знал, что это бесполезно. Яблоко было создано только для Бланко и только на нее могло подействовать.
— Это невозможно, — решительно сказала Гретель, катая яблоко по ладони. — В нем нет яда. Я проверяла.
— Перепутать мы не могли. Яблоки слишком разные. И никто бы не спутал. Отравленное яблоко мачехи так и лежит в сумке.
— Верно.
— Значит, она умерла, откусив от яблока, в котором нет яда? Бывает ли такое. Гретель?
— Не бывает, — глухо ответила она. — Никак не бывает. Я проверю еще раз. Прямо в здешней лаборатории. В прошлый раз у меня был лишь походный набор, годный для поверхностного анализа. Я проведу полную проверку. Разберу его до хромосомного уровня. Возможно, у принцессы была редкая форма аллергии, и она…
Гензель устало усмехнулся. Взглянув на него, Гретель осеклась.
— Я проверю все яблоки. Все три.
— Проверь и принцессу. Ты говорила, что делаешь ее генетическую карту.
Гретель кивнула.
— Она будет готова через несколько часов. Начну работать немедленно. Если хочешь, можешь понаблюдать.
Гензель бросил взгляд на мертвую принцессу. Гудящий гроб незыблемо возвышался посреди лаборатории. Залитая синеватым светом лабораторных ламп, Бланко казалась умершей еще несколько дней назад. Остывшее человеческое тело. Покинутый храм. Одинокая девчонка, всю жизнь боявшаяся саму себя. Мертвая принцесса на своем ложе.
— Подожду в своем спальном отсеке, — сказал Гензель.
Выходя, он чувствовал спиной взгляды трех цвергов. И что-то еще, но что именно — не хотелось и разбираться.
Гретель пришла через несколько часов. Сколько их прошло, Гензель не знал. Может, три, а может, и восемь. Чувство времени отказало ему с момента смерти принцессы. Секунды никак не хотели складываться в минуты, рассыпались ворохом песчинок, а минуты отказывались сливаться в часы. Может, ткань времени не так уж незыблема, как принято считать? Может, и она подвержена причудливым и необъяснимым мутациям?..
В столовой Гензель захватил несколько бутылок вина и даже выпил две из них, но опьянение не пришло, вместо него со дна души поднялась какая-то муть, точно из фильтров лабораторной установки, много лет подряд перемешивавшей гнилостный ил и тину. В голове гудело, но сейчас Гензель был рад этому гулу — тот заглушал мысли. Если бы не этот гул, мысли наверняка разнесли бы его голову в клочья, как стая остервеневших голодных хищных птиц. Или это сделал бы он сам, приставив раструб мушкета к подбородку.
Бланко.
Она доверилась ему. Принцесса, много лет боявшаяся даже собственной тени, запуганная отцом и неизвестностью, открылась ему, самозванцу и лжецу. Доверчиво приняла отравленный плод из его рук. Кажется, он до конца своих дней обречен ненавидеть яблоки. И уж точно никогда больше не объявится в Лаленбурге — там во всем городе пахнет проклятыми яблоками…
— Братец! — Дверь его отсека отворилась. Это была Гретель. Да и кто же еще. Ведь не цверг?..
— Заходи, — сказал Гензель, потом понял, что произнес это лишь одними онемевшими губами, и повторил уже громче: — Заходи, Гретель!
Она зашла внутрь. Увидев лицо сестры, Гензель испугался. Оно показалось ему маской из потемневшего серебра. Обычно равнодушное, выражающее не больше, чем пустой, даже не загрунтованный, холст в раме, сейчас оно показалось ему напряженным до такой степени, что, кажется, коснись пальцем — и треснет.
— Выпей-ка это.
Он налил ей полный бокал вина, и Гретель медленно его выпила. Оказывается, вино действует и на геноведьм — на бледных, как январский снег, скулах появился намек на румянец. Взгляд потерял нехорошую бритвенную остроту, и Гензель уже не боялся, что, если он попадет под этот взгляд, его мгновенно разрежет на две половинки.
— Сядь, — попросил он и сел на койку. — Что стряслось? Ты закончила анализ?
— Только что. Ты не поверишь мне, братец.
В этот миг она выглядела почти человеком. Потому что только люди могут быть так смущены и подавлены. Не геноведьмы.
— Я уже, кажется, никому не верю, — усмехнулся Гензель грустно. — Ни Человечеству, ни королю, ни себе…
Под ее взглядом усмешка растаяла сама собой.
— Я проверила яблоки. И… и принцессу. Я проверила все несколько раз. Этого не может быть. По всем законам геномагии.
— Осторожно, сестрица. Кажется, ты уже начала верить в невозможное. Скоро, чего доброго, начнешь ходить в церковь и молиться Человечеству! Первая в истории верующая геноведьма — ничего себе парадокс, а?
Кажется, вино все же подействовало на него. Сквозь бесконечную усталость, стылыми иглами пропоровшую изнутри тело, Гензель ощущал беспричинную язвительность. Яблоки, принцессы, гены…
— Ты дал ей яд.
— Повтори! — потребовал он.
— Ты дал ей отравленное яблоко, — медленно сказала Гретель, не отводя от него взгляда. — В нем был сильнейший токсин. Он мгновенно погасил ее дыхательные центры и остановил сердце. Она умерла в течение пяти секунд. Ты просто не заметил этого.
— Яд!..
— Да, Гензель. Яблоко было отравлено.
— Но…
— Тсс. — Она прикоснулась бледным пальцем к губам, и Гензель послушно прикрыл рот. — Ты не виноват, братец. Ты ничего не перепутал. Ты действительно хотел спасти ее. И убил ее не ты.
— Королевское яблоко!
— Да, — кивнула Гретель. Это не совсем походило на кивок, просто голова дернулась на тощей шее. — В нем было еще кое-что кроме ностальгии и тоски по дому. В нем была смертельная отрава. Очень сложная химическая структура — понятно, почему я не выявила ее полевым набором.
— Двойное дно!
— Вроде того. Очень хитрый и грамотно устроенный генетический тайник.
— Это невозможно, — сказал он, забыв, что повторяет ее же слова. — Это яблоко дал нам король Тревиранус. Чтобы вернуть свою дочь. Никто не подменил его. Никто не отравил его, пока мы были в пути. Ручаюсь, это то же самое яблоко.
— Верно. То же самое отравленное яблоко. Теперь ты понимаешь? Принцессу Бланко убил не ты. Ее убил собственный отец.
— Он любил ее! — крикнул Гензель. Крик получился громким, но прозвучал неестественно, как карканье механической, собранной из шестеренок и пружин вороны.
— Откуда ты об этом знаешь?
— Он… Он сам сказал это. Ты же помнишь, Гретель! Он хотел вернуть Бланко! Он шесть лет искал ее, черт возьми!
— Да. — Потускневшая серебряная маска выражала теперь холодную язвительность, каким-то образом обходясь без помощи мимических мышц. — Он действительно долго искал свою дочь. Но отчего ты решил, что из-за любви? И отчего ты поверил его словам? Отравители, как правило, очень коварные люди. Не всегда можно верить им на слово.
Она боялась его. Бланко. Считала, что отец ее ненавидит и стыдится — из-за мнимого генетического уродства. Она была уверена, что отец послал по ее следу убийц: чтобы стереть досадное пятно с герба королевской династии. Пусть даже это было крошечное, затерявшееся в снегах пятнышко… А он, Гензель, убедил ее в том, что отец тоскует по своей пропавшей дочери. Ее убедил — или себя убедил?
— Человечество Извечное, Всеблагое и Драное во Все Дыры, — выдохнул он. — Тревиранус дотянулся до нее. Через нас! Он не простил ее за генетическое уродство. Он просто хотел закончить дело. Не мог позволить, чтоб мир узнал о мрачной тайне его дочери, а значит, и о его собственном несовершенстве. Испугался за честь своего рода. И предпочел мертвую дочь живой. Это отвратительно.
— Это человечно, — грустно улыбнулась Гретель, и эта улыбка была отражением его собственной. — По-настоящему человечно. Так обычно и бывает. И ты бы знал это, если бы не рассчитывал на чудеса.
— Выходит, что весь мир желал ее смерти. Бедная, бедная Бланко… Королевская чета — пара безумных убийц! Представь себе только, мы-то думали, что вправе выбрать сторону, подарить принцессе жизнь или смерть. А на самом деле мы ничего не выбирали! У этой монеты два орла и ни одной решки! Наш выбор с самого начала не играл никакой роли…
— Еще интереснее, братец. Убийца был лишь один.
— Но мачеха…
— Королева Лит не желала ей смерти. Это невероятно, но это так.
— Ее отравленное яблоко!
— В том-то и дело. Оно не отравленное, Гензель.
— Кажется, кто-то из нас не в своем уме, сестрица. Но не могли же мы рехнуться одновременно?..
— Маловероятно, — согласилась Гретель. — Даже учитывая нашу общую генетическую линию.
— Королева-мачеха дала нам ядовитое яблоко, чтобы мы отравили принцессу. И ты сама проверила его на яд. Оно действительно было отравлено. Одно ядовитое яблоко плюс одно ядовитое яблоко — это два ядовитых яблока, разве не так?
— Разве что в школе. У нас… В общем, все получилось сложнее. Я изучила яд мачехи внимательнее на лабораторном оборудовании. И тоже обнаружила очень интересный и сложный биологический агент. Не знаю, как Лит удалось создать подобное, но это действительно выглядит сложно. Яд, которым она пропитала свое яблоко, на самом деле не вполне яд.
— А что тогда? Цветочный нектар?
— Парализующий агент, — пояснила Гретель. — Позволяет ввести организм в подобие глубокой искусственной комы. Полное прекращение внешних признаков жизнедеятельности. Отсутствие сердцебиения и даже мозговых волн. Человек лежит, как труп, но в глубине его мозга тлеет жизнь. Которую можно пробудить, если ввести противоядие.
Гензель схватился за голову. Хорошо бы эту глупую голову отвинтить, как перегоревшую лампочку, да выкинуть на свалку… Только в руках появилась ужасная слабость, даже спички, кажется, не переломить.
— Фальшивый яд!
— Даже я, геноведьма, оценила эту иронию. Сколько раз я говорила об иллюзорности и лживости всего, что связано с человечеством, но не думала, что она может принять и такие формы. Шутка судьбы. Мы несли принцессе жизнь под видом смерти и смерть под видом жизни. Мы действительно могли дать ей выбор. Беда только в том, что тот, кто выбор предлагал, сам же его и делал.
— И если бы я дал ей мачехино яблоко…
— Да, — без всякой жалости сказала Гретель. — Принцесса сейчас была бы жива, хоть и парализована. Но ты, руководствуясь наилучшими мотивами, дал ей другое яблоко. И тем самым убил ее. В этом парадоксе есть определенное логическое изящество, но едва ли ты способен сейчас его оценить.
На это Гензель не был способен.
— Дьявольская шутка… — пробормотал он непослушными губами. — Ужасная, страшная, дьявольская шутка. И мы — ее исполнители.
— Не переживай, братец. Ты ведь действительно руководствовался лучшими намерениями. Но ты всего лишь человек. А люди часто совершают не то, что нужно, или что-то путают. Это в их природе.
— А третье яблоко? — спросил он без всякого интереса, лишь бы дать Гретель новую тему для разговора.
О, третье яблоко… Я не смогла взломать его хромосомный набор даже на лабораторном оборудовании. Оно настолько сложно устроено, что мне потребуются годы только для того, чтоб понять его внутреннюю структуру. Это вообще не яблоко, на самом деле. Это нечто… Ты не поймешь, ты же не геномаг. Словом, это сложнейший организм, который я пока не могу даже назвать биологическим. Миллионы странных, ни на что не похожих структур, мириады клеточных аномалий и химических хвостов. Словно… Словно кто-то взял целую галактику и превратил ее в рисовое зернышко. Совершенно безумная технология, не имеющая ничего общего с нашей. Если альвы способны на такое… Мне даже не хочется знать, на что они способны еще.
— Они могли бы исполнить твое желание, — устало сказал Гензель. — Помнишь? Мы могли бы предложить принцессе золотое яблоко. Кота в мешке. Слепой выбор.
Гретель потрепала его по волосам. Жест вышел неуклюжим, но искренним.
— Братец… Может, я и геноведьма, но пока я все-таки еще человек.
— Что ты имеешь в виду?
— Если бы удосужился спросить меня, я бы тоже предложила дать принцессе яблоко короля. А значит, мы с тобой оба — невольные убийцы. Ничем не отличаемся.
Гензелю захотелось прижать Гретель к груди. Но он знал, что она не любит подобных проявлений ласки.
— Сестрица… — пробормотал он. — Я ведь дал принцессе это яблоко, не спросив тебя, только оттого что боялся.
— Боялся меня? — уточнила Гретель.
— Боялся не тебя, а того, что ты сумеешь мне доказать ошибочность моего выбора. Ведь ты всегда объективна и хладнокровна, и почти всегда ты оказываешься права. Я боялся, что ты и в этот раз окажешься права, предложив принцессе яд. Поэтому я поспешил нарушить наш уговор. Чтобы не дать тебе шанса.
Гретель потерла пальцами виски.
— Вот она, ирония, — пробормотала она. — Ты уже начинаешь понимать. Впрочем, есть еще одна деталь. Тоже часть этой безумной картины. Не хотела говорить сразу, чтобы ты совсем не рехнулся. Это насчет принцессы.
— Ну?
— Я сделала ее генетический анализ. Создала генокарту Бланко. И ты не поверишь, что я там увидела. Клянусь твоим любимым Человечеством, никогда не поверишь.
Гензель не ощутил любопытства. Он сам казался себе выжженным изнутри, как остов сгоревшего корабля, который болтает без всякой цели слепыми волнами и в недрах которого не осталось ничего, кроме жирного человеческого пепла.
— Это имеет значение? — спросил он. — Это оживит принцессу?
— Нет. Ее уже ничто не оживит. Но мне показалось, тебе будет интересно узнать, кем она была при жизни.
Гензелю вспомнилось лицо — смеющееся, перемазанное в масле, лицо принцессы Бланко Комо-ля-Ньев. И другое — застывшее, неестественное, с навеки приоткрытым ртом, замершее в синем свете…
Мальчишка.
— Нет, — сказал он с решительностью, которой сам от себя не ожидал. — Я не хочу этого знать.
Наверно, она этого не ожидала.
— Гензель?
— Не хочу знать! — резко повторил он. — Слышишь?
— Ты ведь сам хотел узнать, чего особенного в принцессе. Теперь я это знаю.
— Мне плевать, что ты вычитала по ее генетической карте. Не хочу слышать.
— Это… это крайне нелогично с твоей стороны.
— Возможно. Бланко не знала, что сокрыто в ее генокоде. И я не знал. Эта чертова генетическая неизвестность была тем, что мы разделили с Бланко. Это наша общая с ней неизвестность, понимаешь? Особенная. Не понимаешь, сестрица… Для этого надо быть человеком, а не геноведьмой. Абсурдность, нелогичность, глупость — это все и есть человек. Не только клетки и хромосомы… Если я узнаю, какой секрет скрывали ее гены, это получится сродни предательству. Она умерла, не зная об этом, а я вдруг узнаю — и получится, что мы в неравном положении. И этого я не хочу.
— Не понимаю тебя, — призналась она. — Не понимаю тебя, братец.
— Потому что ты не ребенок, Гретель. Ребенок бы понял.
— Объясни.
Он с отвращением сделал еще глоток вина. Кислая и едкая жижа. И как ее пьют во дворце…
— Представь себе двух детей, которые играют ночью возле огромного шкафа. Они знают, что в больших старых шкафах всегда живут чудовища…
— В нашем шкафу в Шлараффенланде не было.
— Было. Ты просто выросла и забыла. Во всех шкафах есть. Представь себе, что двое детей, набравшись смелости, решили заглянуть в шкаф. Сделали вид, что не боятся чудовища. Хотя на самом деле им обоим ужасно страшно. Но поодиночке открыть шкаф им не хватает силы духа. А вот вместе… Ободряя друг друга, они берутся за тяжелые дверцы… Момент единения их душ. Страх объединяет их, он принадлежит им обоим. Они держат друг друга за руки, поэтому страх не может завладеть ими и помешать. Но в этот миг именно страх заставляет их думать на одной волне, страх превращает их в единое целое. И они…
— …Открывают дверцы шкафа?
— Приоткрывают. На пару пальцев. Конечно же они ничего там не видят, в кромешной темноте. Но их воображение дорисовывает жуткие подробности. И несколько секунд, все еще держа друг друга за руки, они упиваются собственным бесстрашием. Победой над своим общим страхом. Потом, конечно, нервы не выдерживают, и дети захлопывают дверцы. Есть там чудище или нет, а лучше держаться от него подальше…
— Я бы сказала, что все это напоминает воскресную проповедь какого-нибудь ржавого монаха, но нет, это не проповедь. В проповедях обычно есть хоть какой-то смысл.
— Дети засыпают и спят всю ночь, видя детские сны. Потом один из детей просыпается, пока другой еще спит. От темноты не осталось и следа, все залито солнечным светом. При свете шкаф уже не кажется таким страшным. Просто большая деревянная коробка. Можно открыть его в одиночку. Но если ты откроешь его при солнечном свете, ты увидишь не чудовище, а старый стеганый плащ на вешалке, побитый молью дедушкин шаперон и кучу пыли… Что еще может быть в шкафу? Глупо бояться таких вещей.
— Но ведь чудовища в шкафу нет.
— Конечно же нет! Откуда, черт возьми, в шкафу может быть чудовище?.. Но если об этом узнает один ребенок, пока другой спит, это будет предательством. Вспоминая их совместно пережитый страх, на миг объединивший их, ребенок, открывший шкаф, поймет, что страх этот был глупым и никчемным. Для этого страха не было оснований. А они были лишь парой пугливых малышей, воображавших себя смельчаками. Значит, то, что объединяло их, потеряло ценность, понимаешь? Перестало существовать. Чувство надо разделять с кем-то, чтобы оно жило. Пусть даже это всего лишь страх.:
— Кажется, я поняла, о чем ты толкуешь, братец. — Гретель в задумчивости дернула себя за прядь. Видимо, не рассчитала сил, потому что поморщилась от боли. — Это вроде деления прокариотических клеток. Если ты понимаешь, что я хочу сказать.
— Не понимаю. Но это уже не суть. Главное — что ты поняла меня.
— Ты просто не хочешь заглядывать в шкаф без нее, верно?
— Вроде того.
Гретель допила вино из бутылки, запрокинув ее.
— Абсурдность, нелогичность, глупость. В этом весь ты — и все твое Человечество. Но без этого, пожалуй, было бы ужасно скучно быть геноведьмой. Все было бы слишком предсказуемо, все подчинялось бы генетическим закономерностям и биологическим законам. Наука стала бы рутиной, в которой каждый вывод следовал бы с железной непреложностью. Но с такими, как ты…
Она не закончила, лишь покачала головой. Гензель поднялся с койки. После вина голова немного кружилась, но на это можно было не обращать внимания. Ледяной горный воздух быстро приведет его в чувство.
— Давай собираться в путь, сестрица, — позвал он, водружая на плечо привычную тяжесть мушкета. — Нам нечего здесь больше делать. Пусть эта крепость станет погребальным склепом принцессы, а стазис-камера — ее гробом. Она вечно будет лежать здесь символ преданной надежды, над которым не властно разложение.
— Пусть будет так, — согласилась Гретель. — Мне тоже неуютно оставаться здесь после ее смерти. Соберем провизию — и двинемся в путь. Больше нас здесь ничто не держит. А оставшиеся яблоки сам выкинешь с утеса…
Гензель собирался поставить на пол пустую бутылку, но резкий звук, донесшийся из коридора, заставил его вздрогнуть.
В крепости словно проснулись спавшие тысячи лет демоны. Их хриплые завывающие вопли, от которых вибрировала на месте стиснутая дребезжащими ребрами душа, заполнили коридоры. Бутылка, жалобно звякнув, отлетела в сторону.
— Что это? — закричала Гретель, стараясь перекричать чудовищный вой.
— Сирены! — крикнул он в ответ. — Сирены включились!
Гензель и Гретель переглянулись. Что она увидела на его лице, он не знал, но надеялся, что не растерянность. На ее лице он, как обычно, не увидел ничего.
— Что бы это значило, сестрица?
Она пожала плечами.
— Даже не представляю, братец. Но кажется мне, что мы немного запоздали с выходом…
Что могло случиться с крепостью, простоявшей несколько сотен лет?..
Авария? Нестабильная работа реактора? Землетрясение? Прорыв грунтовых вод? А может, крепость, этот грубый огромный механизм, на свой манер привязался к принцессе Бланко и теперь, с ее смертью, собирается уничтожить сам себя?..
— Пошли, — сказал он коротко, подхватывая мушкет.
— Куда, братец?
— В центр управления крепостью. Если мы где-то и сможем узнать, что происходит, то только там.
Центр управления, обычно полнящийся мертвой тишиной и похожий на брошенный храм, сейчас показался ему потревоженным пчелиным ульем, по которому кто-то треснул изо всех сил большим камнем. Аппаратура издавала тревожные сигналы — трели, гудки, стрекот, — и все это сливалось в одну дьявольскую какофонию, от которой мгновенно заложило уши.
«Тревога!» — вспыхнули алые надписи сразу на нескольких дисплеях.
Гензель подумал, что это, должно быть, была первая тревога на памяти этого стального монстра, всю жизнь проведшего в мерзлой земле. Он ведь так и не успел поучаствовать в войне, для которой строился. Возможно, теперь этот монстр и сам напуган…
— Обзорный экран — панорама! — приказал он, надеясь, что центральный управляющий процессор расслышит его голос. — Сводные данные. Сводки радарного наблюдения. Данные по визуальному мониторингу.
Общаться с компьютерами не так уж трудно, компьютеры в большинстве своем покладисты и послушны, надо лишь выучить их несложный, подчиненный простым правилам язык. Который куда проще зловещего и жутковатого языка геномагии. Компьютеры ничего не понимают в амплификаторах, гаплоидах и рибонуклеазах. Они просто выполняют то, что ты от них хочешь.
Компьютер крепости был продуктом старой эпохи. Собранный еще при жизни прадеда нынешнего короля, он не отличался большой сообразительностью и не был способен предугадывать мысли оператора, но при этом представлял собой достаточно простой, исполнительный и надежный механизм. Гензель часто наблюдал, как принцесса Бланко управляет им, оттого имел представление об основных командах и возможностях старой машины. Это позволило ему сэкономить время, которого, как он чувствовал, у них осталось не так и много.
— Групповая воздушная цель, — доложил компьютер мертвым металлическим голосом. — Три с половиной лиги от периметра контролируемого пространства. Тридцать восемь подтвержденных воздушных целей. Построение можно расценить как боевое. Курс просчитан. Отклонение маловероятно.
Гензель уже и сам видел их. На древнем, выгнутом пузатой линзой экране уже вспыхивали одна за другой, как бубонные язвы на теле больного, зловещие красные точки. Одна, две, пять… Всего пара секунд — и от этих точек уже рябило в глазах. Нехорошие, тревожные точки, и дело здесь не в цвете.
— Бактериофаги, — пробормотала Гретель, тоже изучавшая экран, но Гензель не знал, ругательство это или какая-то странная ассоциация. — Это не совпадение, братец. Не бывает таких совпадений.
— Кажется, к нам идет целый воздушный флот. И я хотел бы ошибиться насчет того, чей он…
На ошибку у него оставалось меньше полуминуты. Потом компьютер включил дальнофокусные камеры — и на других экранах возникли хищные силуэты летающих кораблей.
Гензель впервые видел столько летающих кораблей одновременно. В них не было птичьего изящества и легкости, напротив, они выглядели тяжеловесными, массивными и несуразно огромными. Словно крепостные башни, которые оторвались от своих фундаментов и каким-то образом удерживались в воздухе, зловещие башни с амбразурами, контрфорсами и великим множеством бойниц. Экран не передавал гула скрытых двигателей, видны были лишь грязные дымные хвосты.
Это был не торговый флот. Гензель даже без приближения видел орудийные платформы, которыми ощетинились пришельцы, и открытые батареи — десятки устремленных вперед стволов и излучающих контуров. Гензелю никогда прежде не приходилось видеть подобной армады. Она внушала не просто трепет, она казалась исполинским топором, занесенным невидимой рукой. И мощи в нем было достаточно, чтобы мгновенно превратить целый город в беспорядочные каскады камня и пламени.
— Смотри на знамена, — прошептала Гретель, тоже пристально вглядывавшаяся в экраны. — На знамена, братец!
Но он и так уже видел. Полощущиеся в потоках воздуха багряные стяги, свисающие с броневых плит. Изображение, нанесенное на них, невозможно было не узнать или с чем-то спутать. Стилизованное изображение надкусанного яблока. Чертовски похожего на то надкусанное яблоко, что он вытащил из окоченевшей руки принцессы. Разве что то было маленьким и зеленым, а это — румяное, сочное…
— Королевский визит, — процедил Гензель, разглядывая формацию стремительно приближающегося флота. — Кажется, его величество решил оказать нам честь. Как думаешь, зачем?
— Едва ли для того, чтобы одарить нас своей милостью, братец. Мы отравили наследную принцессу, королевскую дочь.
— Его яблоком!
— Уверен ли ты, что королевский суд посчитает так же?
— Нет, — признался он, не отрываясь от экрана. — Думаю, все окажется иначе. Двое квартеронов отправились на поиски пропавшей принцессы, но, вместо того чтобы вернуть ее во дворец, к любящему отцу, коварно отравили ее, рассчитывая на поживу. И, скорее всего, мы даже не будем возражать против этого. Только не после того, как с нами закончат заплечных дел мастера его величества.
— Пожалуй, нам пора идти, братец. — Гретель дернула брата за рукав. — Думаю, мы вполне насладились гостеприимством этого дома. Не хотелось бы злоупотреблять им. К тому же, судя по тому как быстро приближается флот, у нас совсем немного времени.
— У нас его нет вовсе, — коротко ответил он, безотчетно сжимая ложе бесполезного мушкета. — Это же королевский флот. Наверняка у них на борту есть тепловизоры, которые разглядят даже мышь с расстояния в десятки лиг. А еще — стаи ищеек, запрограммированных на наш генетический запах. Далеко ли мы уйдем по заснеженным скалам?..
— Значит, не уйти?
— Не уйти, сестрица. Что ж, может, это и к лучшему. Если суждено умереть, я, черт возьми, предпочитаю сделать это в тепле. К тому же у нас есть возможность устроить его величеству славный прием.
— О чем ты говоришь?
— Это крепость, — напомнил он, касаясь панели управления. — Устаревшая, ветхая, но все-таки крепость. Принцесса хорошо заботилась о ней все эти годы. Я думаю, эта старая развалина сохранила приличную часть своего потенциала. И если Человечество озарит нас своим благословением, быть может, еще не все арсеналы окончательно заржавели… Здесь должно быть полуавтоматическое управление, сейчас я найду, как его…
— Воздушная формация пересекла защитный периметр, — бесстрастно сообщил компьютер механическим голосом. — Данные для стрельбы автоматически загружены в баллистические вычислители. Активирована подача электричества к снарядным конвейерам. Система готова к обороне по стандартной тактической схеме номер один. Прошу отдать приказ об открытии огня. Прошу отдать приказ об открытии огня. Прошу отда…
Его величество Тревиранус Первый избавил Гензеля от выбора. Корабли флота, уже зависшие над крепостью, открыли огонь.
Гензель видел, как орудийные стволы кораблей осветились вспышками, совсем крошечными, не больше булавочной головки. А спустя малую долю секунды ярость королевского флота обрушилась на крепость.
Пол под ногами вздрогнул, ровный свет люминесцентных ламп на несколько секунд беспомощно заморгал, с потолка, вперемешку с оранжевыми искрами, посыпалась каменная пыль, мигом запорошившая глаза и осевшая на экранах центра управления. Первое же попадание было удивительно удачным — канониры его величества, судя по всему, стреляли отнюдь не вслепую. Координаты замаскированной крепости откуда-то были им хорошо известны. Но сейчас Гензель предпочел об этом не задумываться.
Экраны заполнились гроздьями тревожно горящих предупреждений. Гензелю не хватало ни времени, ни опыта, чтобы расшифровать и половину из них, но даже без этого он знал, что противостояние не будет равным, и первый же удар королевского флота это подтвердил. Построенная несколько веков назад крепость едва ли могла тягаться с кораблями королевского флота, державшего в страхе все окрестные королевства.
Частичное обрушение двух центральных бастионов. Завалены коммуникационные тоннели верхних подуровней. Уничтожена аппаратура наведения нескольких батарей. Уничтожены отдельные вентиляционные шахты и наблюдательные приборы.
— Огонь! — закричал Гензель, надеясь, что компьютер крепости будет достаточно умен, чтоб принять столь короткую команду. — Огонь! По кораблям!
Крепость повиновалась. Как и всякая старая исполнительная машина, она выполнила приказ почти мгновенно, без колебаний. Гензель ощутил еще одну короткую дрожь пола, но это уже не было отзвуком попадания. Он знал, что сейчас вокруг крепости, ссыпая с себя водопады снега, выныривают орудийные платформы, изучая небо отростками стволов. Открываются зевы ракетных шахт, похожие на гигантские норы загадочных существ, и спящие в земле ракеты сонно ворчат, заполняясь едким ядовитым топливом. Где-то нагреваются контуры дальнобойных излучателей, похожие на неуклюжие антенны.
Крепость была напичкана оружием. Все эти сотни лет, погруженная в подобие летаргического сна, она лишь ждала приказа. Ждала с хладнокровием и выдержкой большой, хоть и не очень разумной машины. В глубине своей механической души она знала, что сигнал этот рано или поздно последует. И он последовал. Подобно медведю, разбуженному охотниками в берлоге, крепость зарычала — и встретила королевский флот яростным огненным шквалом.
Корабль, шедший головным, почти мгновенно окутался серыми пелеринами дыма и, изъязвленный огненными точками ракетных попаданий, стал клониться вниз. Гензель видел огненные цветы, вырывающиеся из-под его бронированной шкуры в тех местах, где были вспороты топливопроводы. На ветру полыхали объятые пламенем знамена королевской династии. Некоторое время корабль пытался удержаться в воздухе — он тоже был машиной, а машинам свойственно упрямство. Тысячетонная махина балансировала в воздухе, разваливаясь на глазах. Но даже у металла есть предел прочности. Корабль неуклюже дернулся и, потеряв равновесие, с ревом понесся навстречу скалам. Как птица, мгновенно умершая прямо в полете. Он врезался в выступающие над крепостью утесы, и его кипящая химическая кровь хлынула на белый снег пляшущими огненными языками.
Корабль был мертв, но десятки его сородичей не думали отказываться от добычи. Они поливали крепость сверкающими россыпями искр, и каждая искра, падая вниз, вырывала из поверхности фонтаны снега и дробленого камня. Многотонные валуны, прикрывавшие крепость, разлетались раскаленным щебнем, подобно камешкам, попавшим под кузнечный молот. Где-то в недрах крепости рвались сухожилия силовых кабелей, со скрежетом лопались бронированные кости.
Зенитные автоматы крепости свирепо лаяли, исчерчивая небо рваным пунктиром, шипели, взлетая, противокорабельные ракеты. Это был бой земли с небом — бой, в котором одна из сторон изначально была обречена на неминуемое поражение.
Мощь королевского флота была ужасной. Этот флот мог превратить целый город в мертвое черное пепелище. Но крепость не собиралась сдаваться. Как и все примитивные организмы, лишенные инстинкта самосохранения, она лишена была возможности задумываться о цене собственного существования. Она просто выполняла приказ, на который была запрограммирована много веков назад, не имея возможности сделать выбор.
Еще один королевский корабль задымил и внезапно раскололся в серо-алой огненной вспышке, на мгновение став железным цветком, распустившимся в бледном небе. Другой, рассеченный пополам силовым лучом, переломился, точно соломинка, и из его недр беззвучно посыпались крошечные человеческие фигурки.
«Бей! — мысленно умолял Гензель крепость. — Жги их! Уничтожь их всех!»
Но он знал, что силы не равны. Крепость была стара. Она слишком долго спала в ледяной земле, а забота покойной принцессы не могла ей заменить настоящего ремонта. Подобно коварной генетической хвори, которая распространяется по хромосомам, ржавчина давно выела ее нутро, а обвалы и землетрясения повредили сложнейшие когда-то механизмы. Одна маленькая принцесса как могла пыталась сохранить жизнь огромного стального чудовища, но сил ее было явно недостаточно. Крепость была мощным и смертоносным организмом, но слишком старым и слишком одряхлевшим. Этот организм мог сопротивляться осиному рою атакующего королевского флота, но лишь за счет своей первобытной, много лет ждавшей своего часа ярости. И силы его были не бесконечны.
Еще один королевский корабль ударил носом в землю, так что даже сквозь многометровый слой камня и бронированных перекрытий Гензель ощутил скрежет. Снег шипел, встречаясь с раскаленной выстрелами стальной обшивкой. Этот корабль тоже был мертв, но десятки других все еще барражировали над крепостью, заливая ее гибельным огнем. Потом корабли распахнули бомболюки, отчего в их серых металлических телах образовались зловещие провалы, и вниз, к земле, гибельной капелью устремились бесчисленные множества черных точек.
Короткое мгновение, в течение которого в мозгу звенит надежда, что эти точки рассосутся в воздухе, так и не достигнув поверхности…
Бомбовый удар оказался такой силы, что Гензелю показалось, будто его дух вытряхнуло из тела, и еще какое-то время он смотрел на себя со стороны. С потолка посыпались осколки ламп, зачадили, лопаясь по всему залу, приборные коробки.
Компьютер взревел, не успевая выводить сообщения о повреждениях. Механические голоса накладывались друг на друга адским хором:
— Полностью уничтожена третья орудийная платформа!
— Дублирующий реактор аварийно остановлен!
— Утрачена связь с радиолокационным комплексом!
— Вторая… кх-кх-кх… подтверждается полное унич… кх-кх-кх…
— Боеприпасы основного калибра исчерпаны на восемьдесят процентов!
— Уровни один, два и три повреждены, подача электропитания нарушена.
— Взрыв в нижнем арсенале. Для борьбы с пожаром отсеки изолированы.
— Низкий уровень напряжения! Повторяю — низкий уровень напряжения!
— Прошу принять меры к эвакуации высшего командного состава.
— Разрывы топливопроводов западного сектора! Масштаб повреждений устанавливается!
Крепость медленно умирала. Она цеплялась за жизнь до самого конца, но понимание неизбежности прекращения существования пробралось даже в ее механический мозг. Теперь она агонизировала, ощущая боль тысяч разорванных электронных линий, дергалась, как преступник на дыбе. Гензелю было ее жаль. В конце концов, крепость честно выполняла работу, для которой была создана. И не в ее силах было противостоять объединенной мощи всего королевского флота.
Центр управления наполнялся вонью горящей изоляции и расплавленного пластика. Тяжелый, неприятный запах. Что ж, все мертвецы скверно пахнут, даже те из них, кто не имеет ни единой молекулы генетического материала…
— Вот теперь уже все, — сказал Гензель, удивляясь собственному хладнокровию. — Пока у его величества не появилось соблазна ударить по руинам ядерной ракетой…
Гретель пожала плечами. Разразившуюся над крепостью битву она разглядывала без всякого внешнего интереса, как неказистое ярмарочное представление. Огненные бутоны, усеявшие зимние горы, не впечатляли ее, как впечатляли, должно быть, невидимые и таинственные реакции, проистекающие под предметным стеклом микроскопа.
— Куда нам идти, братец? — спросила она.
Этого он не знал. Глупо бежать от смерти, когда она со всех сторон протянула к тебе свои щупальца. Проще уж сразу… «Остаться в центре, — решил он. — Пусть задохнемся от дыма или нас раздавит упавшими перекрытиями. Зато — сразу».
Но он знал, что не в силах принять такое решение. В отличие от крепости, он был живым человеком, полным теплой крови, но он тоже предпочитал сражаться до конца. Это их роднило.
— В лазарет! — решил он. — Туда они доберутся позже всего.
Автоматические двери центра управления уже не подчинялись управляющим импульсам компьютера — крепость умирала, и ее постепенно разбивал смертоносный паралич. Гензелю пришлось упереться ногой в стену и вырвать из креплений стальной лист. Мышцы затрещали от напряжения, но сталь сдалась раньше.
Они вывалились в коридор, полный дыма и плюющихся искрами перебитых кабелей. Идти здесь было тяжело, Гензель схватил Гретель за руку и потянул за собой, другой рукой прикрывая лицо от жара. Крепости осталось существовать совсем недолго. Скоро она превратится во вмерзшую в землю металлическую скорлупу, полную выжженной трухи. Гензелю не хотелось становиться ее посмертным украшением.
В лазарете оказалось на удивление спокойно. Спрятанный в недрах крепости на многометровой глубине, он почти не получил повреждений, разве что лампы, прежде заливавшие его ярким электрическим светом, теперь беспомощно перемигивались.
Если бы не ритмические удары с поверхности, от которых жалобно всхлипывали приборные панели и стойки с лабораторным оборудованием, можно было бы подумать, что ничего страшного не происходит.
Он совсем забыл про принцессу.
Бланко лежала в своем хрустальном саркофаге, мертвенно-бледная, точь-в-точь такая же, какой он ее оставлял. Мертвая принцесса и ее мертвый стальной дворец. Оба уничтожены предательством. Не стоит ли выключить стазисный гроб?.. Он будет сохранять ее мертвое тело веками, используя все резервные мощности. Принцесса Бланко Комо-ля-Ньев никогда не превратится в прах. Вечный памятник погибшей невинности. Мечтала ли она об этом?.. Не лучше ли обесточить ее гроб, чтобы позволить телу превратиться в то, во что обычно превращаются все человеческие тела? При жизни она боялась себя, своей глубоко спрятанной нечеловечности. Но, превратившись в прах, она обернется тленом. А тлен королей и нищих, людей и чудовищ практически идентичен по химическому составу.
А еще здесь были цверги. Они не покинули своего поста даже после того, как начался обстрел. Не забились в темные углы, как полагается неразумным тварям, испытавшим на себе свирепость человеческого рода.
Гензель рефлекторно упер грубый приклад мушкета в плечо, увидев их хищные силуэты вокруг посмертного ложа принцессы. В этот раз счет обещал быть равным — все три ствола были заряжены. Но цверги даже не повернулись в их сторону, лишь сверкнули желтыми, яростно горящими глазами. Как это возможно?
Но прежде чем Гензель успел задать вопрос Гретель, лаборатория вдруг вздрогнула, да так, что он едва не полетел кубарем прямо на хрустальный гроб. Какой-то великан, кажется, схватил остов крепости и в приступе животной ярости встряхнул ее изо всех сил… Цверги взвыли, запрокинув свои полуволчьи бородатые морды. Даже своим примитивным чутьем они ощущали, что кто-то хочет причинить Бланко вред. Знали бы они, кто именно…
Свет мигнул, погрузив на миг лазарет в кромешную тьму, но вновь зажегся. Лазарет вдруг наполнился рокочущей вибрацией, с потолка посыпались осколки камня, пластиковые и металлические панели с кусками проводки. Гензелю показалось, будто где-то наверху заработали одновременно, в унисон, миллионы дрелей, чьи сверла впились в бронированную шкуру крепости.
— Что это? — насторожилась Гретель, задрав голову.
— Гости, — буркнул Гензель, не отнимая мушкета от плеча. — Десантная партия, полагаю.
Он проверил мушкет — порох, пыжи, — хоть в этом и не было никакого смысла. Просто успокаивающие, давно въевшиеся в подкорку движения. Он прекрасно понимал, что у него нет ни единого шанса против абордажной команды его величества. Это не мулы из лаленбургских переулков. Это генетически выращенные убийцы. А значит, шансов продержаться против них у него не больше, чем у старой крепости.
А потом потолок начал падать, разваливаясь на части. Сразу во многих местах из него вырвались размытые головки работающих буров, с визгом и хрустом прокладывающие себе путь в перекрытиях. Пробив бронированную оболочку, они проникали вглубь, практически не встречая сопротивления. Огромные самонаводящиеся пули, превращающие внутренности крепости в труху, они походили на стальные коконы, к нижней части которых крепились буры. Пробив потолок, эти коконы падали один за другим, замирая посреди разгромленного лазарета. Их было много. Очень много.
Мушкет в руках показался легким, как обломок ветки. И столь же бесполезным. Гензель стиснул зубы. Старая крепость, перед тем как погибнуть, успела дать противнику бой. Ему же не достанется и этого. Король явился не просто с охотничьей свитой, как он надеялся. Король привел свою гвардию. Против которой у одиночки нет и тени шанса, как у букашки против фрезерного станка.
Стальные коконы одновременно треснули, опуская лепестки-аппарели. Наружу хлынули королевские воины, и от одного только их вида Гензель ощутил, как воздух в легких становится разреженным, не пригодным для дыхания.
Это были генетические уродцы, дворцовые слуги, которых он видел в покоях короля. Огромные тела бугрились мышцами, неестественно большими для обычного человека, словно кто-то вшил им под кожу огромные, наполненные жидкостью бурдюки. Гротескные тела атлетов венчали детские головы с пухом вместо волос и лицами юных амуров. Розовые губы и безмятежные голубые глаза. Только теперь эти глаза полнились самой настоящей ненавистью, от жара которой, казалось, лишь чудом не вскипала роговица. Ярость клокотала в них так, что через жемчужно-белые детские зубы капала желтоватая слюна, а вены на перекачанных телах надулись сизыми канатами. Наверняка перед боем в кровь химер внутренние железы впрыснули лошадиную дозу гормонов, наделив их яростью дикого вулвера.
Они могли бы проламывать головы одними лишь кулаками и разрывать людей на части, но его величество снабдил свою генетическую гвардию подходящим оружием. В мускулистых руках были сжаты термические ружья, от одного вида которых в желудке у Гензеля лопнул едкий пузырь. Он слишком хорошо знал, на что способно это неказистое с виду оружие. Те, у которых не было ружей, сжимали боевые цепы, зазубренные серпы, способные выпотрошить человека в ближнем бою одним ударом, и шипастые бердыши. Королевская гвардия в полном великолепии и бесконечном своем уродстве.
Они выпадали из стальных утроб десантных капсул в водопаде амортизирующей жидкости и несколько секунд щурились и отплевывались — нелепая и жуткая пародия на роды. За ними, как за преторианцами, виднелись и другие королевские слуги. Все они были генномодифицированны, но каждый — на свой лад, и представляли собой сборище самых причудливых мутаций, явно направленных, а не случайных, но направленных рукой безумного геноскульптора.
Здесь были раздувшиеся от дополнительных костей тела, скрежетавшие на каждом шагу, с треугольными черепами и выступающими из них рыбьими глазами. Были лишенные кожи приплясывающие твари, у которых мышцы казались сплавившимися от чудовищного жара со скелетом. Были и вовсе тошнотворные образцы, представлявшие собой груду разнородных конечностей, будто сшитых вместе слепым ткачом. Генетические выродки и искусственные, созданные исключительно для войны организмы. Отходы генетических лабораторий и мутанты. Гензеля даже замутило, столь много оказалось в одном помещении порченой крови. Казалось, воздух подземного лазарета мгновенно впитал в себя миазмы разложения, как если бы кто-то вскрыл одновременно сотни свежих могил.
Сколько лет ушло у его величества, чтобы собрать этот страшный зверинец? И почему вся эта свора еще не бросилась на них с Гретель?..
Гензель стоял посреди зала, прикрывая своим телом сестру. Смешная, наивная попытка. Едва начнется стрельба, от них обоих останутся разве что кровавые кляксы на приборных стойках. Не бой и даже не избиение, скорее — кормежка.
Гензель стиснул зубы, с удовлетворением ощутив, как повела тупым носом невидимая акула в непроглядной толще воды. Акулы — живучие твари. Иногда акула успевает отхватить руку неосторожному гарпунщику, уже тогда, когда ее потрошат, вздернув над палубой. Сегодня кто-то лишится руки. А если повезет, то и головы…
Оглянувшись, чтобы оценить поле боя, Гензель обнаружил, что цверги пропали. Гроб с мертвой принцессой больше никем не охранялся. Чего же здесь удивительного? Прыснули врассыпную, как только упали десантные капсулы. Учуяли, чем здесь пахнет. И правильно, в общем, сделали. Бланко не понравилось бы, если бы последних ее подданных растерзали прямо возле ее смертного ложа. Пусть уходят в горы… Туда, где нет королей и никогда не растут яблоки, где правит лишь ветер, а снег никогда не знал отпечатка человеческой ноги…
— Здравствуйте, сударыня геноведьма. И вы тоже, сударь Гензель.
Померещилось ли это? Могло ли хоть одно из этих существ владеть человеческой речью, да еще так гладко? Но голос был знакомым. А спустя мгновение Гензель заметил и знакомое лицо.
Его величество Тревиранус Первый мало изменился за все это время. Все то же лицо породистого льва, иссеченное глубокими морщинами и обрамленное благородным серебром волос. Особенная, королевская стать. Тяжелый, как мраморные дворцовые плиты, взгляд и, кажется, столь же холодный.
Его величество, как и прежде, выглядел уставшим, но теперь, как показалось Гензелю, это была усталость другого рода. Так выглядит человек, посвятивший много времени тяжелой утомительной работе и увидевший наконец ее плоды.
В этот раз на нем был доспех — настоящее произведение искусства, над которым, надо думать, придворные ювелиры и гравировщики трудились не меньше, чем оружейных дел мастера. Пластины панциря были отлиты из чистого золота и мягко блестели. Отражая свет, переливалась сложнейшая узорчатая вязь, а самоцветные камни казались в ней естественными вкраплениями. Король выглядел величественно и грозно. Меч, висящий на его перевязи, явно не был парадным украшением, несмотря на богато отделанную рукоять.
Мимолетная мысль, скользнувшая так не вовремя и не к месту, вызвала у Гензеля мысленную усмешку — в окружении своей генетически измененной свиты его величество выглядел неуместным фрагментом сродни роскошному золотому медальону, висящему на разлагающемся трупе.
А может, именно сейчас король был на своем месте?.. Среди существ, с которыми у него было несомненное родство?
— Прекрасный пример фортификации. — Тревиранус благосклонно оглядел лабораторию. — Немного устаревшей, но действующей. Что ни говори, а в прошлые времена умели строить…
— Как вы нашли нас?
Робость, охватывавшая прежде Гензеля при виде королевской особы, в этот раз не сковала ни членов, ни языка. Вместо нее была злость. Холодная и едкая, как змеиный яд столетней выдержки, гнетущая и просящаяся на волю. Однако мысли при этом плыли удивительно легко и спокойно. Наверно, так и бывает перед смертью. Должно быть, в теле расслабляются какие-то внутренние железы, сковывавшие разум на протяжении всей жизни…
— Практически без труда. — Его величество брезгливо поморщился, когда его носа коснулся запах горелой изоляции.
Гензель был уверен, что король не владел способностями, сходными с невероятными талантами альвов. Не мог он за тысячи километров разглядеть их убежище и явиться в точно намеченный срок. Не мог! Он не божество, не святой и даже не подлинный человек. Всего лишь увечное существо на троне.
— Яблоко… — пробормотал он. — Опять яблоко!
— Вы вполне прозорливы для квартерона. — Король позволил себе одобрительную улыбку, не продержавшуюся на его лице больше полутора секунд. — Яблоко. В сердцевину был вмонтирован небольшой, но очень мощный ретранслятор. Как только началась химическая реакция, он активировался и направил сигнал. Ничего сложного.
Гензель испытал невероятное желание шевельнуть стволом мушкета в сторону Тревирануса. Интересно, прежде чем его растерзают мутанты из свиты, он успеет услышать щелчок курков?.. Может, успеет и увидеть, как лопается голова его величества, непоправимо пачкая бархатный плащ, заливая кровью благородную седину, как месиво костей и мозгов сползает по искусной гравировке панциря?..
Не успеет, понял он. Король не дурак, а свита его — свора настоящих цепных псов. Не оставят и шанса. Только в сказках маленький мальчик может победить стаю свирепых великанов. В сказке стены дворцов рушатся сами собой, а принцессы оживают. В сказках любовь побеждает зло.
Беда лишь в том, что миром правят не сказки, а строгие, как звенья каторжной цепи, данности, химические формулы и генетические законы. Тот, кто не способен с ними управляться, неизбежно проигрывает. Нельзя уповать на невозможное — это то же самое, что ходить в темноте вокруг бездонной ямы, надеясь, что рано или поздно сам собой вспыхнет свет. Не вспыхнет. Звезда не упадет с неба. Урод не обратится красавцем. Добрая волшебница не спасет от неминуемой смерти.
Все просто, Гензель. Если бы ты хоть немного слушал свою сестру, вместо того чтобы предаваться фантазиям и верить в несбыточное, может, и не отсчитывал бы сейчас последние секунды своей жалкой и бесполезной жизни!..
Король медленно, с достоинством подошел к хрустальному гробу с выражением мрачной торжественности, таким, будто он участвовал в каком-то сложном дворцовом ритуале. Впрочем, именно так оно отчасти и было.
— Я ведь уже говорил о символизме такого простого плода, как яблоко? — спросил он, но Гензель не понял, к кому обращается его величество. Быть может, ни к кому из присутствующих. А может, к мертвому телу своей дочери. — Помимо прочего, яблоко — это еще и символ неизведанного. Задумываемся ли мы над этим, когда кусаем его? Едва ли. Человек слишком глуп, чтобы замечать суть в простых вещах. Яблоко может быть сладким, может быть и кислым. Может быть прелым или же подгнившим. В яблоке может быть червяк или еще какая-нибудь дрянь… Но задумывается ли об этом человек, когда берет его в руку? Нет, судари, не задумывается. Он просто кусает его, отдавая себя тем самым во власть слепого и неизведанного выбора. Это тоже символично. Так у нас, людей, заведено. Мы всегда будем пробовать плод, не зная, что он нам принесет. Всегда будем запускать руку в запертую шкатулку, не размышляя, а не лучше ли было держать ее закрытой и впредь? Человечество не в силах отказаться от познания, и не столь важно, что это за познание, благотворное или гибельное. Мы все равно сорвем с ветки очередной спелый плод…
Остановившись над хрустальным гробом, король некоторое время молча смотрел на свою мертвую дочь. Спокойно и даже задумчиво, как если бы рассматривал новое полотно придворного живописца, тщась разгадать его тайный смысл, обнаружить сокрытые от поверхностного взгляда детали или дефекты.
Сейчас он не выглядел удовлетворенным чудовищем. Гензелю даже показалось, что его величество постарел лет на пять с тех пор, как они виделись в тронном зале Лаленбурга.
Королевские губы дрогнули:
— Все верно. Полная биологическая смерть. Прости меня, Бланко, но мы оба знали, что это было необходимо. Этот мир не принес бы тебе счастья. Этот мир рано или поздно погубил бы тебя. Оставайся здесь навеки, юна и недвижима. Я велю изготовить золотые цепи, на которых подвесят твое последнее пристанище. Наследной принцессе нужна посмертная опочивальня, подходящая ее статусу…
— Зачем? — требовательно спросил Гензель.
В этот раз он не боялся взглянуть в глаза королю. Напротив, отчаянно вглядывался в них, сам не зная, что хочет в них отыскать. Глаза Тревирануса были темны и глубоки, точно два колодца, если заглянуть в них безлунной ночью. Не серые, как у мертвой Бланко, но сходство несомненное… Сейчас оно показалось ему жутким.
— Что — зачем?
— Зачем вы убили ее?
— С формальной точки зрения Бланко убили вы с сестрой. Впрочем, сейчас неподходящий момент для того, чтобы заниматься казуистикой.
— Это из-за крови? — Гензель подался вперед и услышал негромкий гул — королевские гвардейцы направили ему в грудь свои термические ружья. Но сейчас ему не было до этого дела. — Все из-за крови? Проклятая гнилая кровь вашего рода… Вы способны убить родную дочь только из-за того, что ее генетический дефект уязвлял вашу гордость?.. Сколько процентов бракованного генетического материала стоили ей жизни? Пять? Десять? Двенадцать?..
Тревиранус Первый не был ни смущен, ни испуган. В окружении своих безропотных слуг, закованный в доспех с гербом королевского рода на груди, он был недосягаем для ярости Гензеля. Квартерон, даже с мушкетом в руках, был для него не опаснее фруктовой мошки, вознамерившейся тягаться с человеком.
— Пять?.. — переспросил он удивленно. — Десять? О, понимаю. Нет, сударь Гензель, речь здесь идет не о пяти процентах. К моему сожалению. И не о дюжине.
Гензель смутился, хоть и постарался этого не выдать. У принцессы Бланко было больше двенадцати процентов порченой крови? Она была квартероном? Или?.. Или чем-то еще похуже? Неужели мулом? Но это невозможно. Он помнил принцессу. Ее тело, ее одинокую и сломленную пыткой душу. Таких мулов не бывает. Будь в ней действительно так много порченой крови — эта кровь выдала бы себя, хоть и в мелочах. Лишние суставы на пальцах, к примеру, или нестандартный волосяной покров, или…
— Сколько процентов у нее было? — спросил Гензель чужим голосом.
Король улыбнулся. Королевская улыбка была изящной и аккуратно очерченной, прямая противоположность его собственной жутковатой ухмылке, полной акульих зубов.
— Вы не знали? Впрочем, неудивительно. Вы ведь, сударь, не геномаг…
— Сколько?!
— А вот ваша сестра наверняка все поняла. — Его величество даже не вздрогнул, услышав щелчки взводимых курков. — Она весьма любопытна. Я понял это еще тогда, когда она взяла у меня генопробу. Весьма ловко, должен признать. Уверен, она не могла побороть любопытства и не взять пробу у моей дочери. Что скажете, сударыня?
Гретель молча разглядывала выстроившуюся напротив королевскую рать. С таким видом, будто все эти существа были лишь театральной декорацией, не представляющей для искушенного зрителя существенного интереса. И Гензелю вдруг показалось, что сестра избегает его взгляда. Как это непохоже на геноведьм — избегать человеческого взгляда…
— Сколько процентов у нее было, сестрица? — тихо спросил он.
Прозрачные глаза коротко взглянули на него. Попытались скользнуть в сторону, но он не дал — захватил их собственным взглядом и притянул к себе.
— Сколько процентов? — Голос дал слабину, зазвенел надтреснутым колоколом.
Предчувствие чего-то важного и вместе с тем ужасного острым ноготком провело по позвоночнику.
Он зря отказался заглянуть в шкаф при свете дня.
Иногда старые шкафы действительно хранят в себе что-то интересное. Нечто большее, чем стеганый плащ и дедушкин шаперон.
Но каждый из нас делает выбор, открывать его или же оставить запертым.
— Гретель!
Геноведьма страдальчески скривилась, словно вопрос Гензеля вызвал у нее физическую боль.
Сестрица…
— Ты не хотел знать.
— Теперь хочу. Сколько?
— Ноль.
Он не понял.
— Что?
— Я говорю — ноль. Ноль процентов, братец.
Ему потребовалось много времени, чтобы осмыслить ее ответ, — тот загромыхал по внутренностям как срикошетившее ядро, круша все на пути.
Ноль процентов. Вздор. Нелепица.
Сердце сделало несколько неверных затухающих ударов.
— Сколько сотых процента?
Гретель покачала головой.
— Ноль десятых, ноль сотых. И ноль тысячных. Принцесса Бланко была человеком.
— Невозможно, — только и смог выдавить он. — Здесь ошибка. Ноля не бывает! Даже у королей, даже у императоров! Ты сама говорила!..
— Ведьма права. — Тревиранус Первый склонил голову и несколько секунд хранил глубокое молчание. — Не бывает. Исключено на теоретическом уровне с вероятностью восемнадцати нулей после запятой. В нашей династии часть порченой крови в лучшие времена не опускалась ниже пяти процентов. А она, уверяю, одна из самых чистых на свете. Насколько мне известно, на протяжении последних семи поколений чистый генетический материал человека не регистрировался. Ни в одном королевстве мира.
— Но как… — Гензель не знал, на кого из них смотреть. — Как тогда…
Король развел руками, звякнули парадные латы:
— Геномагия. Мы привыкли доверять ей, как точной науке, в отличие от черни, которая готова видеть в ней чудо. Мы привыкли верить цифрам. Но оказалось… Оказалось, цифры умеют предавать ничуть не хуже, чем люди. И чудеса иногда все-таки происходят, и даже там, где им совершенно нет места. У меня самого — пятнадцать процентов порченой крови, о чем вам и так должно быть известно. О, я не смущаюсь. Я король, а не статуя на троне. Я управляю миллионами людей, и мой долг — забота о королевстве. Доли порченой крови не имеют для меня такого значения, как для моей помешанной на Человечестве и его чистоте супруги… Знаете, сколько было у моей покойной жены, которая зачала Бланко? Двенадцать с половиной. Почти тринадцать процентов брака в тканях. Ей не хватало двенадцати с половиной процентов для того, чтобы считаться истинным человеком.
Одно яблоко плюс одно яблоко…
Гензель только сейчас ощутил, насколько пересохли губы. Цифры сталкивались друг с другом, отказываясь складываться, порождая лишь оглушительный звон сродни двум встречающимся клинкам.
— Это же… У вас — пятнадцать, у нее — двенадцать… Значит, ваш ребенок…
Король сложил на груди руки, наслаждаясь его смущением.
— А еще говорят, что квартероны сообразительны… Впрочем, здесь есть отчего схватиться за голову. Я сам был потрясен, когда узнал. Придворные геномаги утверждали, что принцесса Бланко унаследует от четырех до двадцати процентов порченой крови. Никак не меньше. Нельзя взять пятнадцать… яблок, сложить их с двенадцатью и получить ноль. Теперь вы понимаете, сударь Гензель? В каком мире мы живем, если нельзя верить даже геномагии? Даже цифрам?..
Гензелю захотелось прижать руку ко лбу, чтобы остудить голову. Лихорадочно мечущиеся мысли заставили выступить на лбу пот. Но мушкета он не опустил — знал, что все это не затянется надолго. Перед тем как все закончится, он все-таки хотел узнать…
— Порченая кровь соединилась с порченой — и породила чистую?
Король аккуратно пригладил ладонью седые волосы.
— Да. Вот такая штука. Нелепо, верно? Но никакой ошибки. Принцесса Бланко была чиста, как свежевыпавший снег. Вероятность — нулевая. Трижды нулевая. Миллион раз нулевая. Это было невозможно. Но это случилось. Два яда, смешавшись, нейтрализовали друг дружку — и породили чистую воду. Два набора генетических мутаций уничтожили друг друга.
Миллион замочков — и миллион ключей.
О Человечество!
Гензель ощущал, как грудь изнутри распирает нервным смехом, но он не дал ему воли.
Принцесса была чиста! Она, боявшаяся чудовища в себе, была самым чистым человеком на свете! Скорее всего, единственным чистым человеком на свете, презирающим себя.
Это было невозможно, но…
Другая мысль хлопнула фейерверком, рассыпавшимся разноцветными искрами.
— Цверги… — прошептал Гензель одними губами. — Вот почему они не разорвали ее! Цверги!
— Мне следовало догадаться насчет цвергов… — Гретель по-прежнему не смотрела ему в глаза. — Я должна была понять. Цверги были выведены как слуги человеческой расы. Универсальный защитный механизм. Они должны были уметь безошибочно распознавать человека.
— Генокод.
— Да. Цверги выполняли волю человека лишь до тех пор, пока чувствовали в нем человека. Пока у него был универсальный ключ — собственный, неискаженный генокод. Как только наш вид начал бесконечную череду мутаций, цверги бежали. Отныне они не считали человека своим хозяином, безошибочно ощущая в нем внутреннюю скверну. Они даже взяли на себя уничтожение дефектных, как подсказывал им инстинкт, образцов. А потом…
— Потом они встретили принцессу Бланко. — Гензель все еще ощущал рвущийся наружу смех, острый, как осколки стекла, распирающие легкие. — И спустя много сотен лет вспомнили свое изначальное предназначение. Нашли человека, которому могут служить. И альвы! Альвы!
— Верно, братец. Теперь мы знаем, в чем заключался их интерес. Не в самой принцессе. Она — лишь объект, сосуд, в котором произошла непредсказуемая и загадочная реакция. Альвы хотели изучить то, чего изучить нельзя. Чудо. Хотели понять, как произошло невозможное.
— Цверги? Альвы? — настороженно спросил Тревиранус, хмурясь. — О чем это вы, судари, говорите?
— Уже не суть важно. Принцесса мертва. Вы погубили единственного настоящего человека, жившего на свете.
— Я уже говорил, что нерелигиозен.
— Значит, зависть? Вы убили собственную дочь из зависти?
— Квартероны любят все упрощать, — поморщился Тревиранус, отступая от гроба с мертвым телом. — Дело было куда серьезней, чем какая-нибудь зависть. Я просто не мог позволить, чтобы моя дочь была носителем неискаженного генокода. Не имел права. Рано или поздно истинное положение вещей просочилось бы наружу. Хоть трижды запрети делать генокарту королевской династии, кто-то рано или поздно это сделает. Конечно, чернь никогда бы не узнала. Но узнали бы прочие… Среди вассалов королевского дома остается много верующих в Человечество. Стали бы они терпеть на троне старика с пятнадцатью процентами порченой крови? Если рядом есть его дочь, олицетворение всего того, чему они возносили молитвы всю жизнь?.. Более того, история ее появления была бы провозглашена чудом. Бланко стала бы символом возрождения. И этот символ немедля окропили бы в крови. Самой черной и презренной, конечно. В королевстве вспыхнул бы бунт. Мне пришлось бы вновь усмирять мятежных баронов, как это приходилось делать моему прадеду. И прежде чем потухли бы погребальные костры, в землю ушли бы тысячи литров крови. Самой разной. Но ведь этой крови вам не жалко, сударь Гензель? Эту кровь вы охотно пролили бы, верно?..
— Дело не в этом, — твердо сказал Гензель. — Вы боялись не войны и не смуты. Вы боялись себя. Всякий раз, когда вы видели лицо Бланко, вы вспоминали о том, что жизнь ей дал ваш искаженный генокод. Прекрасный лебедь родился у уродливой серой утки. Словно в насмешку. Бланко была тем зеркалом, в котором вы были обречены видеть собственное несовершенство.
На лице Тревирануса Первого дернулись мышцы. Наверно, тяжело удерживать полный контроль над своим телом, даже если приучен к этому с рождения. Человеческая плоть — слишком капризный материал. На него никогда нельзя положиться.
Чудовище, понял Гензель.
Вот то самое чудовище, которого боялась Бланко. Все это время оно было не в ней. Но очень близко. Ужасное и отвратительное подобие человека, сокрытое под фальшивой личиной.
Иногда, когда набираешься смелости распахнуть старый шкаф, не думаешь о том, что чудовища во взрослом мире не всегда живут в шкафах. Иногда они выходят из них. Черт возьми, во взрослом мире очень многие чудовища живут там, где им вздумается…
«Сейчас выстрелю, — подумал Гензель, не отрывая взгляда от укрытого благородной сединой царственного чела. — Выстрелю — и будь что будет. Разговор в любом случае уже закончен. Он не станет нас долго терпеть. Просто излил душу… Душу? Он излил гной из своей души, гной, что скапливался там годами. Видимо, иногда это необходимо даже особам королевской крови. А теперь он закончил. Значит, надо стрелять…»
Он погладил пальцем спусковой крючок. Сколько у него шансов разнести вдребезги королевскую голову? Один из ста? Миллионная доля шанса? Чушь, глупости. Нет у него никаких шансов. Но ведь и у принцессы Бланко не было шансов родиться человеком!
Палец слился со спусковым крючком в единое целое, их молекулярные структуры сплелись. Гензель почти чувствовал кислый привкус пороха на губах.
Дайте мне еще секунду, ваше величество!..
Тревиранус Первый вдруг замер. На высоком королевском лбу обозначилась тяжелая беспокойная морщина.
— Как интересно, — пробормотал он. — Никогда бы не подумал, что…
Должно быть, у него был необычайно острый, усиленный геномагией слух. Потому что Гензель услышал звук лишь несколькими секундами позже. Звук этот доносился сверху, со стороны пробитого во множестве мест потолка. Странный звук, не похожий ни на визг буров, ни на грохот бомб, — частый металлический перестук. Как будто там, этажом выше лазарета, сейчас бежали десятки человек в металлических сапогах…
Взрыв не был сильным, однако в помещении лазарета, заполненном обломками перекрытий и грудами искореженной аппаратуры, прозвучал оглушительно. Гензель схватил Гретель и потянул вниз, чтобы прикрыть собственным телом. Но в этом не было нужды. На противоположной стороне лазарета рухнул еще кусок потолка. Когда Гензель, отплевываясь от кислой каменной пыли, попытался подняться, протирая глаза, в пролом уже сыпались люди, великое множество людей в коричневых, серых и черных одеяниях.
Они скатывались на пол и тут же поднимались во весь рост, сжимая в руках оружие. Все — удивительно слаженно, аккуратно и синхронно. Словно каждый из них был фрагментом единого работающего механизма, безошибочно знающим свою роль. В сущности, так оно и было.
— Церковь… — выдохнул Гензель.
Монахи Церкви Человечества, Единого и Всеблагого, разительно переменились. Они не выглядели проповедниками и пастырями, они выглядели изготовившимися к бою воинами.
Рясы из грубой мешковины не скрывали их механических усовершенствований. Видны были лязгающие по полу гидравлические ноги, усиленные поршнями руки с хромированными пальцами, у многих блестели сложные черепные вживления, хорошо заметные благодаря монашеским тонзурам. Причудливое сочетание плоти и стали в самых разных пропорциях.
Монахи не тратили времени понапрасну. Едва касаясь пола, они рассредоточивались по разгромленному лазарету и занимали позиции. Им не требовались команды, не требовались условные знаки. Судя по всему, они знали, что делали, и настроены были крайне решительно. Не прошло и десяти секунд, как лазарет превратился в подобие шахматной доски. Только вместо шеренг белых и черных фигур по краям этой доски стояли две готовые к бою армии — генетические твари его величества и монахи Церкви Человечества. Гензель почувствовал себя крайне скверно, сообразив, что они с Гретель находятся в самом центре, рядом с хрустальным гробом. Крайне неудобная позиция на тот случай, если кому-то вздумается открыть огонь.
Его величество был удивлен, но не напуган.
— Поразительно, — невозмутимо произнес он, приподняв бровь. — Эта крепость стояла пустой несколько веков. Не странно ли, что именно сегодня здесь оказалось так много людей?..
— Возле тебя нет людей! — резко ответил ему уверенный и сильный женский голос, обладательницу которого Гензель еще не успел рассмотреть за серой стеной монашеских ряс. — Возле тебя лишь генетические вырождения и чудовища. Плоть от твоей проклятой плоти.
— Тем приятнее видеть вас здесь, моя драгоценная супруга.
Королева-мачеха почти не выделялась на фоне монашеских одеяний в своем скромном сером платье. Как и прежде, никаких украшений, никаких драгоценностей. Только лицо ее в этот раз показалось Гензелю куда более жестким. Словно было высечено из белого, с прожилками, камня. Страшное лицо.
— Убийца!.. — произнесла она голосом, больше походившим за шипение заживо сдираемой кожи. — Что ты натворил!
Король досадливо поморщился. Он поспешил отойти от гроба с принцессой и встать так, чтобы оказаться под защитой своего воинства. Не лишняя мера предосторожности, решил Гензель, учитывая, как глядит на него супруга…
— Очень смелое замечание, моя дорогая. Если бы я не знал, что вы сами наняли двух этих квартеронов, для того чтобы отравить принцессу, я бы даже подумал, что вы ей симпатизируете.
Королева-мачеха смотрела на мертвую принцессу с выражением искреннего страдания на лице. Которое тут же сменилось отточенной ледяной ненавистью, стоило ей перевести взгляд обратно на супруга.
— Ну конечно, твои шпионы… Ты же никогда не мог обойтись без них.
— Не могу же я оставаться слепым к тому, что происходит в моем дворце? — усмехнулся Тревиранус. — Разумеется, твое маленькое поручение не осталось для меня секретом. Я даже усмотрел в нем некоторую иронию… Два отравленных яблока! Положительно, у бедняжки Бланко не было шансов.
— Дрянь, — процедила королева-мачеха. — Генетический выродок. Удивительно, как в тебе нашелся хоть один процент человеческой крови…
— Твой визит стал для меня сюрпризом, дорогая супруга. — Судя по тому, как прищурился Тревиранус, его терпение едва ли было бесконечным. — И зачем ты прихватила с собой этот сброд в рясах? Я терпел его во дворце, но здесь, мне кажется, они не к месту. Здесь не церковь.
— Здесь храм, — мертвым голосом произнесла королева-мачеха. — Храм последнего на свете человека. Вот он, лежит перед тобой. Я бы сказала, что это твоя собственная плоть и кровь, но это не так. Ты — чудовище, Тревиранус. А твоя дочь была святой. Бывает в мире и такое…
— Ты…
— Я знала, что ты собираешься убить собственное дитя. И я с первого дня знала, что принцесса Бланко — святая, ниспосланная нам Человечеством, дабы быть символом вновь воссиявшего огня надежды.
— Святая! — расхохотался король, но смех вышел неестественным, возможно, из-за явственно слышимой в нем злости. — Да в своем ли ты уме? Я всегда был уверен, что рано или поздно вера сожрет твой мозг изнутри!
— Святая, — твердо произнесла королева-мачеха, и сверкание в ее взгляде в этот миг отчего-то напомнило Гензелю глаза цвергов. — Она — то, чего не может быть. Она — человек, рожденный из генетического тлена. Ее рождение было чудом. Человечество простерло над ней длань. Показало, что оно всегда с нами, что наша генетическая линия может восстать даже из пепла и грязи. А ты убил ее. Долгие годы я прощала тебе твою ненависть к чистому человеческому дитяти, но сейчас прощать не стану.
— Но яблоко?..
Точеный королевский подбородок дернулся, иссиня-черные волосы гибкими змеями хлестнули по спине.
— Мое яблоко не убило бы ее. Оно несло ей жизнь. Съев его, Бланко впала бы в глубокий летаргический сон, неотличимый от смерти. Чтобы я смогла увести ее туда, где у генетических вырожденцев вроде тебя нет власти.
— Понимаю, — Тревиранус прищурился. — Хотела превратить Бланко в очередную свою икону.
— Она стала бы надеждой и светом всех нас, изувеченных человеческих потомков.
«Причудливы дела твои, Человечество, — подумал Гензель. — Жизнь так сплелась со смертью, что уже и не разобрать, где что… А может, они и вовсе не могут существовать по отдельности?..»
— Зачем все это? — спросил король, разглядывая супругу с брезгливым интересом. — Зачем эти хитрости, этот обман, Лит?
— У тебя слишком много шпионов, Тревиранус. Узнай они, что я ищу принцессу для того, чтобы спасти, тебе мигом донесли бы. И что после этого было бы со мной? Стал бы ты терпеть рядом с собой человека, который покрывает твою дочь? — Губы королевы презрительно скривились. — Не отвечай. Поэтому мне пришлось прибегнуть к хитрости. Притвориться такой же циничной тварью, как и ты. Узнав о том, что я передала принцессе отравленное яблоко, ты не стал мне мешать, ведь так? Ты порадовался неожиданному союзнику.
— Я думал, ты хочешь сжить принцессу со свету, — признался король. Кажется, на его лице даже мелькнуло какое-то подобие уважения.
Гензель не собирался в него пристально всматриваться, чтобы сказать наверняка.
— Я не настолько глупа, чтобы поверить фальшивой генокарте Бланко, которую ты мне подсунул! Очень быстро я провела свое собственное исследование. И узнала правду.
Король небрежно смахнул пыль с бронированного золоченого плеча:
— После чего твоя нелепая увлеченность религией достигла нового уровня. И ты возомнила себя защитницей новой святой. Ах, Лит, я же говорил тебе, что увлекаться Человечеством и всеми этими безумными затеями — путь к пропасти. И вот теперь твой разум уже в ней. Чистота крови, чудеса, святые… С другой стороны, я восхищен твоей выдержкой. Столько лет играть роль!..
Ты тоже хорошо играл свою, — презрительно бросила королева-мачеха. — Очень долго притворялся человеком. Но теперь это не обязательно. Ты убил принцессу. Растоптал надежду нашего мира. Святую Церкви Человечества Вечного и Всеблагого. Но ты ошибаешься, если думаешь, что подобное сойдет тебе с рук. Я, архиепископ Церкви, предаю тебя церковному суду. Ты понесешь наказание. И за тем, чтобы оно было достаточно суровым, я прослежу лично.
Лицо короля исказилось. На нем проступила злость, как проступают из мягких недр моря смертельно опасные рифы.
— Ты забываешься, юродивая девчонка! — рявкнул он, разворачиваясь к супруге всем своим царственным, закованным в золото телом, багряный плащ хлестнул по ногам. — Я король, а ты — всего лишь кликуша, что стоит возле трона! Ты всерьез решила, что твои бритоголовые старцы будут судить меня?
Его генетически измененные слуги заворчали. Едва ли они были достаточно умны, чтобы понять суть разговора, скорее просто реагировали на злость в голосе своего повелителя или на выброс определенных гормонов. Монахи королевы-мачехи тоже заметно напряглись. Среди них не было чудовищ вроде тех, что состояли в королевской свите, не было и термических ружей, но тяжелые картечницы в руках воинов Церкви и зловещие шестоперы не походили на религиозную атрибутику.
Гензель осторожно подтянул Гретель поближе к себе. Он уже приметил уцелевшую стойку с аппаратурой, за которой можно было при необходимости спрятаться. В том, что эта необходимость возникнет в самом скором времени, он уже не сомневался.
Варево в котле приближалось к точке кипения. Реакция вот-вот могла стать неконтролируемой. И когда эта реакция полыхнет, он не хотел оказаться в ее центре.
Эти двое стоили друг друга. Помешанный на мнимом благородстве тиран — и ослепленная собственной верой фанатичка. Никто из них по-настоящему не знал Бланко, и никто не хотел знать, чего она хочет. Никто не видел в ней человека. Для одного она была лишь вечным напоминанием о собственном ничтожестве, для другой — стерильной реликвией. А ведь она была человеком — больше человеком, чем кто бы то ни было из них. Наверно, эту иронию оценит даже Гретель…
— Я — король! — раздельно и четко сказал Тревиранус, пальцы в золоченых латных перчатках сжимались и разжимались. — А ты — всего лишь потаскуха, которую я удостоил милости возвысить! Значит, вздумала тягаться со мной? Обвинить в смерти девчонки и отстранить от власти? Что ж, я забью эти слова обратно в твою пасть, дорогая супруга. Ни один святоша не имеет права мне угрожать! Огонь!
Бой вспыхнул внезапно и яростно, как вспыхивает сухая соломенная скирда, на которую скакнул шальной огненный язычок. В первое мгновение кажется, что это лишь безобидная струйка дыма. В следующее — пламя уже ревет и гудит, как огромная оранжевая змея, свивающаяся кольцами, и рассыпает вокруг себя тысячи ослепительных искр.
Монахи и свита короля бросились друг на друга.
Когда-то Гензелю представлялось, что битвы схожи с шахматными партиями. Под управлением двух военачальников фигуры совершают изящные маневры по доске, отсекая друг друга, выполняя эффектные и непредсказуемые выпады, переходят из обороны в контратаку, блокируют, переходят на другой фланг, вновь атакуют… Он полагал, что всякая битва имеет в своей основе тактическое искусство, которое само по себе является сложнейшей из наук.
Но битва, которая мгновенно вспыхнула в разгромленном лазарете, не имела ничего общего с подобным искусством. Это было столкновение молота и наковальни или двух крушащих кости кулаков, чьи хозяева затеяли в трактире свирепый и бессмысленный бой. Здесь не было ни искусства, ни расчета, лишь вышибающая дух ярость, лишь две слепые силы, врезавшиеся одна в другую. И всякая песчинка, оказавшаяся между этими силами, обречена была исчезнуть.
Воздух наполнился лязгом стали, рычанием, хлесткими щелчками ружей и треском распарываемой кожи. Не успел прогреметь первый выстрел, как Гензель рухнул за приборную стойку, потянув за собой и Гретель. Упал неудачно — под колено угодил обломок перекрытия, — но проворно перекатился и замер, сжимая в руках никчемный мушкет. Иллюзиями он себя не тешил. В схватке двух огромных и злых животных всякой мелочи лучше не лезть им под ноги. Растопчут.
Возможно, в пылу сражения стороны настолько увлекутся резней, что им с Гретель удастся выскользнуть из лазарета? Маловероятно, прикинул он, выглянув в щель. Слишком уж много между ними и выходом человеческих — или нечеловеческих — фигур. Слишком много пламени и оружейных вспышек. Могут снести голову, даже не заметив.
— Не высовывайся! — крикнул он Гретель.
Услышать крик сквозь грохот боя было непросто, но Гретель кивнула ему в ответ. Как и прежде, в подобной ситуации она покорно предоставляла ему право принимать решения.
Чтобы следить за ходом боя, Гензель немного передвинулся, скользя вдоль стойки с аппаратурой. Раскуроченные корпуса, чьи электронные потроха свисали наружу, уже никогда больше не станут служить человеку, и Гензель испытал приступ мимолетного сочувствия.
Придвинувшись к подходящей щели, Гензель наконец смог разглядеть, что творится вокруг них. Он не видел всего боя через узкие отверстия, видел лишь его отрывочные фрагменты, происходящие по разные стороны, но из этих фрагментов, как из разрозненных кадров кинопленки, складывалась общая картина, пугающая и захватывающая одновременно, как полотнище, нарисованное не красками, но огнем и кровью.
Один из генетически измененных гвардейцев короля замахивается на монаха булавой, его младенческое лицо похоже на оскал беса, столько в нем неконтролируемой ярости. Монах оказывается неожиданно ловок — подставляет под удар свой палаш и одним ударом снизу вверх отсекает нападающему руку. Та шлепается на пол, как обломленная ветвь, из раны торчат переплетения совершенно нечеловеческой костной структуры. Но гигант, кажется, даже не замечает потери. Отшвырнув булаву, он оставшейся рукой хватает монаха за голову — и стискивает ее в кулаке. Сквозь рев битвы слышен треск медленно сдвигающихся костей. Наконец голова монаха лопается, тело обмякает.
Вкраплений металла в нем слишком много, чтобы дать телу умереть мгновенно, — механические конечности продолжают бессмысленно дергаться, как у куклы с неоконченным заводом. Гигант ревет от радости и, стряхивая с ладони скользкие комья чужого мозга, устремляется в атаку. Он не замечает, что обезглавленное тело монаха протягивает к нему руку и смыкает стальные пальцы на его лодыжке. Взвыв от удивления, гигант летит на пол и, прежде чем он успевает встать, кто-то всаживает ему алебарду в живот. Изумленно выпучив наивные детские глаза, он верещит, пытаясь сдержать бьющие во все стороны тугие багровые струи.
Другой монах, расстреляв боезапас своей картечницы, устремляется в гущу битвы, котел кипящей плоти, с тесаком наперевес. Он успевает сделать два или три выпада, прежде чем в него ударяет невидимый луч термического ружья. Какое-то мгновение ничего не происходит, лишь тело монаха напрягается, застыв, словно его мышцы охватил паралич. Потом края его рясы подергиваются серым налетом копоти, и во все стороны разносится запах паленой шерсти вперемешку с едкой вонью горелой смазки. Еще мгновение — и с тихим хлопком его фигура разлетается облаком серого пепла, на пол с глухим звоном падают механические фрагменты и тлеющие куски пластика — силовые передачи, поршни, сложные шестеренчатые суставы…
Один из мутантов воет, распластавшись на обломках лабораторной центрифуги. Тугая струя огнеметного пламени хлестнула его в упор, превратив лицо в почерневшую, съежившуюся от жара головешку, на которой можно различить лишь бледные кляксы глаз и обожженный треснувший рот. Мутант воет совсем по-детски, тонким пронзительным голосом, и воет так долго, что это кажется бесконечным. Он даже не может подняться, у него не осталось ни одной целой конечности. Несколько раз шальные пули, бессильные прекратить его страдания, отражаются от броневых плит на торсе. Наконец одиночный осколок рикошетом впивается ему в горло, вырывая гортань, и мутант, в последний раз всхлипнув, затихает.
Другой мутант — настоящая скала, чья голова на добрый метр возвышается над сражающимися. Его тело не такое, как у людей: кости давно прорвали кожу, сформировав вокруг тела прочный сегментированный экзоскелет, делающий его похожим на поднявшегося вертикально рака. Голова — птичья, с кривым и острым клювом. Пластины его брони столь прочны, что их не берут пули: монахи напрасно разряжают в его головогрудь свои картечницы.
С торжествующим рыком мутант хватает их одного за другим, вздергивает с невероятной легкостью и разрывает на части прямо в воздухе. Убедившись в тщетности усилий, один из монахов вытаскивает из котомки стальной серый цилиндр и вырывает из него кольцо. «Человечество! — кричит он, и удивительным образом его голос перекрывает даже грохот перестрелки. — Единое и Все…» Он устремляется навстречу мутанту, тот молниеносно вздергивает монаха, всадив костяные крюки под ребра, и подтягивает к истекающему ихором клюву. Но прежде чем он успевает разорвать беднягу пополам, грохает взрыв, и оба оказываются скрыты тяжелой завесой дыма, по всей лаборатории алым туманом разлетается мелкая кровавая капель.
Сразу двое мутантов, обнаружив щель в цепи монахов, успевают достичь королевы-мачехи. Не обращая внимания на стрельбу, она невозмутимо наблюдает за ходом боя, глаза холодны и равнодушны. Мутанты завывают от радости, ощущая ее близость. Они чувствуют, что их не успеют остановить. Генетические чудовища бросаются к Лит, размахивая зазубренными клинками.
Первого она убивает мгновенно, так же равнодушно, как убивают назойливо гудящую над ухом муху. Простирает руку — и ее ногти, прежде казавшиеся выкрашенными серебристым лаком, выстреливают в торс мутанта, оставляя на кончиках пальцев крохотные пороховые колечки и выворачивая требуху нападающего на пол дымящейся грудой.
Второй обрушивает чудовищный удар зубчатого палаша на ее тонкую фигуру в сером платье. И взвизгивает от удивления, когда его клинок с металлическим звоном отскакивает. Рассеченное платье соскальзывает с королевы, как змеиная кожа.
Под ним оказывается не человеческая плоть, а изящные металлические контуры. Все ее тело кажется сложнейшей механической деталью, собранной из множества изогнутых пластин. Среди редких островков плоти виднеются забранные узорной серебряной паутиной вентиляционные отверстия, гидравлические поршни и изящные пружины.
Тело королевы оказывается телом механической куклы, грациозным и пугающим одновременно. Она не смущена его наготой. Презрительно усмехнувшись, она убивает второго мутанта, коротким ударом металлической руки проломив ему ребра. Когда рука выныривает из окровавленной туши, в тонких металлических пальцах зажат кусок позвоночника. Мутант, не успев вскрикнуть, шлепается у ее ног.
— Чертов мехос! — крикнул король пьяным от ярости голосом. — Поганая шестеренка! Недаром я уже столько лет не приглашал тебя в постель! Ты, должно быть, звякаешь, как телега старьевщика!
Гензелю пришлось приникнуть к другой щели, чтобы увидеть его. Король был невредим, лишь багряный плащ, которого коснулось пламя, висел тлеющей тряпкой у него за спиной, да золоченый доспех оказался усеян многочисленными кровавыми кляксами. У его ног лежало несколько неподвижных фигур в серых рясах.
Где пройдет взгляд, хватит места и для ствола.
Гензель подхватил мушкет и, пока сердце отсчитывало драгоценные крохи времени, высунул ствол через щель своего укрытия. Нечего и думать нанести смертельную рану такому противнику, но на близком расстоянии тяжелая мушкетная пуля может оказаться очень неприятным гостинцем даже для королевской брони.
«Это тебе от Бланко, — подумал он, совмещая примитивный прицел с царственным блеском лат. — Не подавитесь, ваше величество!..»
Гензель спустил курок. Колесцовый механизм сухо щелкнул — и мушкет рявкнул узким, и серым пороховым выхлопом, мгновенно превратив воздух вокруг Гензеля в едкое, кислящее на языке облако.
Король вскрикнул и отшатнулся, мгновенно подхваченный сильными руками свиты. Пуля не смогла пробить его доспеха, но сделала то, на что стрелок и не рассчитывал. Она сорвала боковые крепления королевской брони, безжалостно оборвав сложные фиксаторы и крепления. Латы Тревирануса перекосились, лицевая пластина доспеха съехала в сторону, обнажая королевское тело. Сквозь лохмотья вышитой парчи можно было разглядеть живот и грудь его величества.
Гензель выругался сквозь зубы.
Его величество был человеком на восемьдесят пять процентов своего фенотипа. Но оставшихся пятнадцати было достаточно для того, чтобы понять всю степень его ненависти к Бланко.
Из его грудной клетки торчали во все стороны насекомоподобные отростки — то ли короткие щупальца, то ли осязательные придатки. Они медленно извивались, сплетаясь друг с другом и мелко подрагивая: целый клубок отвратительных змей телесного цвета. Между ними были видны открывающиеся и вновь смыкающиеся перепонки — белесые глазки на багровой королевской коже. Низ живота укрывала мягкая серая чешуя.
Восьмидесятипятипроцентный человек, вершитель судеб, закричал, оскалив удивительно ровные и красивые, вполне человеческие зубы. Слуги второпях помогали ему надеть обратно золоченые доспехи.
Всего лишь пятнадцать процентов бракованной плоти, но как зримо и явно они выдавали королевскую природу!.. Отчего его величество не убрал эти отвратительные признаки со своего тела? Не доверял геномагам? Боялся испортить и без того скверный генотип? Гензель пожалел, что в мушкете была лишь одна пуля. Быть может, выстрели он еще раз, удалось бы…
— Братец!
Гензель откатился в сторону, отпрянув от щели. Над ним нависал состоящий из лоснящихся мышц великан с головой младенца. Наверно, бракованный экземпляр в королевской гвардии — непропорционально большие суставы его ног были выворочены. Великан улыбнулся счастливой детской улыбкой. В лапах у него было термическое ружье, глядевшее прямо в лицо Гензелю. У ружья не было дула, лишь тонкий и ничуть не зловещий хвостик излучающего контура, но Гензель знал, что это оружие не оставляет раненых. Лишь рассыпающийся в воздухе сухой пепел.
Где-то глубоко под водой акула, лениво наблюдавшая за суетой на поверхности, обнажила в ледяной ухмылке зубы.
Она наконец почувствовала дразнящий и знакомый запах.
Заставив тело выгнуться дугой, Гензель ударил стопой по разбухшему колену великана. И с удовлетворением ощутил, как лопаются внутри прочные кости. Противник, без сомнения, успел бы выстрелить. Пальцу не требуется много времени, чтоб выжать спусковую скобу. Но мозг генетического уродца оказался недостаточно развит, чтобы одновременно целиться и воспринимать хлестнувшую по нервным центрам боль. Боль не помешала бы нанести ответный удар, но ружье в его лапах оказалось слишком сложным инструментом.
Чудовищный младенец издал удивленный возглас, наблюдая за тем, как его нога с хрустом подламывается. Он рухнул с тяжестью многовекового дерева и, не успей Гензель откатиться, был бы размазан по полу. Кинжал сам скользнул в руку, устроившись в ладони уютно и удобно. Мышцы предплечья мгновенно напряглись, готовые полоснуть по мускулистой шее, одним движением вскрыв ее подобно прогнившей трубе, но этого не потребовалось. В падении великан рефлекторно сжал пальцы — и термическое ружье в его руках выстрелило. Его проблемой стало то, что в момент падения ружье было направлено не на Гензеля, а вертикально вниз. И выстрелило оно в пол прямо под незадачливым убийцей.
Лицо Гензеля ощутило резкую волну тепла — словно он на мгновение прижался щекой к свежему кострищу. Когда он вскочил на ноги, все еще сжимая кинжал, королевский слуга уже умирал. Сильнейший заряд термической энергии расплавил пол под ним вместе с пластиковыми и стеклянными обломками и вплавил в образовавшееся мгновенно застывшее месиво кости, мышцы и соединительные ткани чудовища. Тело его теперь было частью пола, оно наполовину растеклось, как если бы фигура была сделана из воска и ее надолго забыли под жарким солнцем, — и теперь объединилось с горизонтальной поверхностью. Человек, заживо вплавленный в пол. Самым удивительным было то, что он все еще оставался в живых. Голова, ставшая единым целым с грудой расплавленного пластика, тщетно пыталась распахнуть перекошенный рот. Румяная кожа младенца превратилась в подобие передержанного в духовке заварного крема, желтела и трескалась прямо на глазах…
Гензель не стал задерживать на нем внимания. Наверняка его выстрел в короля заметил не один уродец. И лучше бы убраться отсюда подобру-поздорову, пока остается хоть тень шанса.
Человечество, Великое и Всеблагое, вытащи из этого переплета двух маленьких смиренных квартеронов!..
— Бежим, Гретель! — крикнул он, подхватывая мушкет. — Бежим, сестрица!
Даже наблюдать сквозь щель за развернувшимся сражением было страшно, и хладнокровная акула в глубине сознания Гензеля ворчала, сбитая с толку грохотом и одурманенная потоками крови. Грязной крови со всеми мыслимыми признаками генетического вырождения и перемешанной с машинным маслом. Но, лишь оказавшись в самом его центре, Гензель осознал, что разразилось в разрушенной лаборатории. Это нельзя было назвать боем — это была схватка двух лютых волчьих стай, безумная, страшная и кровавая. Здесь больше не было противников, не было противостоящих сторон. Вся лаборатория была наполнена мечущимися в дыму и пламени фигурами, душераздирающими криками умирающих, скрежетом железа и треском разрываемой плоти. Здесь, звеня, жизнь сталкивалась со смертью, и отходы этого столкновения валились кровавыми снопами на пол.
Перед Гензелем, точно из-под земли, вырос монах с картечницей в руках. Лицо у него было человеческим, но взгляд человеческим уже не был — глаза налились безумием, и хоть Гензель находился по другую их сторону, он почувствовал, что глаза эти больше ничего не видят, кроме целей, которые надо уничтожить во имя Человечества. Даже не задумываясь, монах вскинул картечницу.
Мушкет Гензеля прыснул картечью ему в грудь. Ряса на груди разлетелась клочьями в ворохе синеватых искр. Монах поперхнулся и, выронив оружие, прижал руки к поврежденному чреву, где, заикаясь, перестукивали латунные передачи, шкивы и валы. Судя по всему, заряд картечи что-то существенно там испортил, заклинив сложные механизмы. Утробно взвыв, полупарализованный монах попытался схватить Гензеля за шею, но его тело оказалось слишком медлительным. Гензель легко скользнул на полшага в сторону, а спустя половину секунды его кинжал верткой сверкающей змейкой нырнул в бок монаха — туда, где, как показалось Гензелю, человеческой плоти оставалось еще достаточно много. Лезвие, на удивление, вошло почти без сопротивления. Когда оно вынырнуло, испачканное вперемешку кровью и маслянистой черной жидкостью, монах уже был мертв.
Гензель обернулся, ища глазами Гретель. Ее крошечная фигурка в этом огнедышащем чаду стала почти незаметна. Это было ошибкой. Нельзя отвлекаться. Акула никогда не отвлекается, когда чувствует кровь. Но в нем было слишком мало от акулы. И слишком много от человека.
Сильнейший удар отшвырнул его в сторону. Сперва удар показался легким, почти безболезненным, лишь вышиб дыхание из груди. Боль настигла его мгновением позже и скрутила так, что затрещали все кости, а внутренности, кажется, полопались, точно наполненные водой пузыри. Гензель уткнулся лицом в металлическую панель, по скуле текло что-то горячее. И, кажется, на месте не хватало нескольких зубов. Черт с ними, с зубами…
Тело стало весить несколько тонн и работало подобно старому барахлящему, безнадежно заржавевшему станку. Прежде всегда послушное и беспрекословное, оно стало чужим и бесчувственным. Не тело, а мешок требухи, нафаршированной костными осколками. Гензель оторвал его от пола и попытался развернуться. Уже зная, что не успеет.
Бессмысленное упрямство — в человеческой природе…
Удар обрушился на него секундой спустя, еще прежде, чем он сумел восстановить равновесие. Силы, вложенной в него, было достаточно, чтобы расколоть пополам древесный ствол. Гензелю показалось, что его тело и в самом деле раскололось — каждая его кость, вплоть до самых маленьких. Мир задребезжал и вдруг оказался разбит на множество осколков. Мышцы обратились мокрой горячей ватой, бесчувственной и тяжелой. В горле заклокотала солено-горькая, как морская вода, кровь. В этот раз он отчетливо слышал, как лопнули его ребра.
Несколько секунд мира не существовало, была лишь вибрирующая темнота, в которой он, не зная направления, пытался куда-то ползти. Темнота — и очень много боли. Казалось, что его тело прикрутили раскаленными болтами, пропущенными сквозь конечности, к дыбе и теперь пытаются разорвать.
Потом мир возник вновь, но это был уже другой мир, искаженный, болезненно плывущий, норовящий перевернуться с ног на голову. В этом мире Гензель лежал на полу, уткнувшись лицом в текстолитовые осколки оборудования. По лицу ползла кровь. Тело отказывалось подчиняться, оно лежало раздавленным слизняком, изувеченное и почти мертвое.
Рядом что-то взревело, громче, чем крепостные сирены, — и мир вдруг рывком отдалился. Какая-то сила ухватила его за шею и потащила вверх, к потолку, заставляя беспомощно сучить ногами. Жалобно захрустели позвонки, застучала в висках кровь.
Гензель попытался вслепую полоснуть кинжалом и лишь тогда заметил, что кинжала в руке нет.
Поздно.
Его швырнули вниз. Сердце всхлипнуло, когда тело врезалось в пол и прокатилось по нему несколько метров подобно марионетке с перерезанными нитками. Всхлипнуло, но отчего-то не остановилось. Гензель захрипел, пытаясь вдохнуть, но воздуха в легкие попадало не больше, чем крови. Кровь была повсюду — она собиралась извилистыми лужицами на полу, стекала по стойкам, щекотала в носу. Его, Гензеля, кровь.
Акулы тоже не бессмертны.
Акулы умирают молча. Гензель знал об этом, хотя никогда в жизни не видел моря.
Он запрокинул голову, захлебываясь кровью. И из судорожно качающегося мира к нему шагнуло что-то огромное, тяжело дышащее.
Чудовище, состоящее из изувеченной, перемешанной и оскверненной плоти.
Мутант был настолько велик, что даже в бою нависал над своими собратьями подобно осадной башне. Его скелет был причудливо искривлен и несимметричен, так что королевский слуга казался скособоченным уродцем. Кости выпирали из него в тех местах, где им не полагается быть. Таз искривлен, одна нога короче другой. Даже голова сидела под углом, а по позвоночнику словно долго били кузнечными молотами, пытаясь изогнуть его во все стороны сразу. Кости челюсти срослись неправильно, отчего генетическое чудовище даже не могло закрыть рта — из распахнутой пасти свисал дергающийся плетью розовый язык.
Это существо было бы нелепым и беспомощным, не обладай оно столь чудовищной силой. Скорее всего, изувеченная костная структура была платой за сверхпрочные мышечные волокна. Кто-то накачал его, возможно, еще в материнской утробе, генетическими зельями, которые во много раз усилили его мышечные ткани, сделав столь могучими, что их напряжения не выдерживали даже собственные кости. Наверно, Гретель нашла бы более уместное определение…
Гензель попытался вновь оторваться от пола, но руки были слабы, как дрожащие лапки жука. Глаза заливало кровью. Сердце тяжело бухало в груди. Еще одного удара он не выдержит. Даже если он будет, этот удар. Если он сейчас просто не свалится лицом в лужу собственной крови и не испустит дух, как теленок на бойне.
Но что-то, что оказалось прочнее костей, тащило его вверх, заставляя шатающееся тело подниматься.
Гретель. Если это чудовище убьет его, что будет с Гретель?..
Мутант исторг из своей незакрывающейся пасти трубный рык и вновь шагнул к распростертому на полу Гензелю. К счастью, он был слишком высок, чтобы резво передвигаться, и лишь оттого не задавил своего полумертвого противника. Несколько шальных пуль ударили чудовище в плечо и грудь, с хрустом проникая под кожу, но оно даже не заметило рваных дыр на теле.
Гензель попытался подняться на колени, но не смог и этого. У человеческого тела есть запас прочности, даже у такого выносливого и ловкого, как его собственное. Сейчас этот запас был исчерпан до самого дна. Он едва мог шевелиться. При каждом движении мозг вспыхивал болью, словно его обложили толченым стеклом, которого он касался при малейшей вибрации. Возможно, его тело умирает. Возможно, ему осталось всего несколько минут. За которые — если будет на то милость Человечества — он не узнает, что произошло с Гретель…
— Прочь от моего брата!
Ему стоило значительного усилия даже перевести взгляд. И совсем не осталось сил, когда он все-таки это сделал, — так потрясло его то, что он увидел.
Крошечная Гретель стояла в считаных метрах от ковыляющего мутанта, заслоняя от него лежащего Гензеля.
Дурацкий поступок, сестрица.
Геноведьмы ни черта не понимают в драке. Сейчас он просто размажет ее, безоружную, превратит в кровавую кляксу. Гензель хотел закричать, но крик обернулся едва слышимым стоном.
Мутант сделал еще шаг, заставив Гретель отступить. Она ничего не могла противопоставить этому чудовищу. У нее не было оружия, лишь походная сумка, в которой, как знал Гензель, не оставалось даже генозелий. Лишь небольшой запас инструментов, с которыми она никогда не расставалась. Никаких ядов, никаких коварных токсинов. Змея истратила свой яд. Мушкет Гензеля, переломанный пополам, лежал поодаль. Кинжала он даже не видел.
— Проваливай отсюда, грязная гомоцистинурия! — процедила Гретель, на ощупь запуская руку в сумку. — Пока я не заставила твои гнилые гены превратиться в навоз!
Мутанта не смутили оскорбления. Ухмыльнувшись, насколько ему позволяла искореженная челюсть, больше напоминавшая бульдозерный отвал, он потянулся лапой к Гретель.
Она метнула в него большую стеклянную колбу. Гензель хорошо знал эту колбу, старую и надтреснутую с одной стороны: Гретель не использовала ее, но хранила как память о детских опытах. Чудовищу не пришлось даже прикрываться — колба рассыпалась невесомыми стеклянными осколками, разбившись о его бронированный лоб. Следующим Гретель метнула электронный термометр. Дорогая вещица, ее она купила у одного ремесленника за две золотых монеты. Термометр был массивным, но пластик оказался бессилен против этой груды плоти.
— Гнойная иминоглицинурия! Псевдополидистрофия! Тирозинемия!
Гретель вновь и вновь запускала руку в сумку, вытаскивая что-то из своего походного оборудования, и кидала в подступающего великана. Пробирки. Штатив для реторт. Карманный химический справочник. Таблетки горючего для лабораторной горелки. Карманный генетический анализатор. Комплект фильтров. Защитные очки. В сумке у геноведьмы может поместиться уйма вещей, но едва ли там найдется что-то, чем можно причинить боль трехметровому чудовищу.
Оно уже было слишком близко. Гензель видел, как тонкая рука Гретель заметалась в сумке, точно маленький зверек, угодивший в силки. Чудовище протянуло к ней кривую костистую лапу, намереваясь раздавить ее. Гензель попытался закрыть глаза — и не смог. Он все равно услышит тонкий треск ее костей.
Тягучая злость разлилась по телу. Злость умеет исцелять, но сейчас даже она была бессильна. Гензель, привалившись к искореженному остову какой-то машины, мог лишь наблюдать за тем, как чудовище приближается к Гретель. Дышать было тяжело — видно, пробиты легкие. При каждом вздохе в груди что-то клокочет, а воздух, с трудом проходящий через горло, кажется сухим и совершенно не насыщает.
Гретель выхватила из сумки последнее, что там оставалось. Сперва Гензель не разобрал, что это такое. Просто сфера размером с кулак, золотистого цвета. Кажется, даже немного светится, но этого он уже наверняка сказать не мог — перед глазами стремительно темнело, и вокруг уже плясали тени с резкими углами.
Как глупо получилось, сестрица… Мы с тобой все сделали не так.
Горькая обида сжала горло. Не страх, не боль. Гензель ощущал, как смерть медленно наваливается на него. Она, точно робкая девушка, осторожно прижималась к нему холодным и костистым телом, пытливо касалась пальцем сердца, пробуя, бьется ли еще… Гензель знал, что умирает. Это уже не казалось ему страшным — лишь обидным, незаслуженным. Веки потяжелели, стали смыкаться. Перед мысленным взором заплескалось море, состоящее из желтых и зеленых огней. Но Гензель, заскрипев зубами, заставил себя распахнуть глаза.
Он увидел, как Гретель отчаянно кинула что-то в чудовище. Что?.. Он не знал. И лишь увидев на огромной груди пятно светлой яблочной кашицы, внезапно сообразил. С цепенеющего мозга на миг сдули покров пыли.
Яблоко. Золотое яблоко альвов.
Гензелю хотелось рассмеяться, но он знал, что не сможет: в легких булькала кровь.
Горькая ирония — подарок для мертвой принцессы превратился в лужицу золотистой грязи.
А потом Гензель вообще перестал дышать. Но не из-за того что легкие больше не могли сокращаться. А из-за того, что разбитый, искореженный и задымленный зал бывшей лаборатории вдруг озарило сияние. Чистое, как отблеск солнца от океанской глади, оно не походило ни на отсвет дымного и злого огнеметного пламени, ни на вспышку гранаты. И тепло, которое распространялось от него, не было порождено термическим ружьем.
Альв демонстративно помахал светящейся ладонью перед лицом, чтобы разогнать дым, хотя Гензель был уверен, что это существо способно без всяких затруднений дышать и чистым ипритом. Альв возник прямо посреди лаборатории, над гробом принцессы, удивительным образом уцелевшим. Он был так же идеален, как и прежде, на постоялом дворе. И Гензель, несмотря на то что медленно умирал, ощутил, как на него нисходит распространяемое гостем умиротворение. Должно быть, какое-то особенное энергетическое излучение…
Бой прекратился. Мгновенно, точно кто-то повернул выключатель, обесточив бушевавшую мгновение назад ярость. Застыли все — и генетические королевские выродки, и монахи, и их величества. Явление альва оказалось тем ингибитором, который мгновенно прекращает химическую реакцию. Все глаза в зале уставились на распространяющего золотой свет пришельца, сражавшиеся позабыли про зажатое в руках оружие, про стонущих врагов и про все на свете. Даже безмозглые королевские гвардейцы вдруг замерли, не в силах пошевелиться. Монахи взирали на альва со смесью восхищения и отвращения. В их представлении он, судя по всему, был воплощением кощунства и одновременно идеалом, гимном человеческому телу.
Альв долго молчал, глядя по сторонам. Это тоже показалось Гензелю наигранным — он не сомневался, что альву не требовалось озираться, чтобы понять, где он оказался и что тут происходит. Взгляд альва не был устремлен ни на кого в отдельности. Кажется, у него даже отсутствовали зрачки. Но каким-то образом этот взгляд оказался обращен на всех сразу.
— Все верно, — напевно и звучно произнес альв, разглядывая руины лаборатории и замершие в них фигуры. — Это было неизбежно. Видимо, есть в человеческом генокоде какая-то хромосома, которая отвечает за бессмысленное истребление. Удивительно прочная хромосома. Она не подвержена никаким мутациям из поколения в поколение. Она всегда будет с вами, даже когда вы извратите свои тела настолько, что не сможете смотреть в зеркало. Хоть что-то постоянное есть в нашем зыбком и изменчивом мире.
Он говорил тихо, но, так как это был голос альва, его услышали все без исключения. Мутанты с лицами младенцев съежились, как провинившиеся дети. Монахи, так и не выпустив из рук оружия, застыли каменными статуями. Король и королева глядели на альва с благоговейным ужасом. Им никогда не приходилось видеть чего-то столь совершенного. Чего-то настолько человечного и одновременно неизмеримо далекого от всего человеческого.
— Ты мог явиться сюда в любой момент, — процедила Гретель, тяжело дыша. — Но вместо этого всего лишь наблюдал?
— В любой момент, — согласился альв благосклонно, одарив ее одной из своих улыбок. Похожие друг на друга, эти золотые улыбки все же разнились, как разнятся осколки миллиона солнечных отблесков. — Но чуду нужно не только место, но и время. Помните, чем часто заканчиваются сказки?
— Явлением принца на боевом коне?
— Что-то в этом роде, сударыня геноведьма. Что-то в этом роде. Я явился сюда не как арбитр. Мне ни к чему судить вас, ведь все вы оказались здесь и сейчас только потому, что действовали в соответствии с вашей природой. Я пришел за тем, что нужно мне. Ваш контракт выполнен и закрыт.
— Наш контракт?.. — с трудом спросила Гретель, все еще тяжело дыша. Мокрые волосы прилипли к бледному лбу. — Но он не выполнен. Принц явился слишком поздно. Принцесса мертва.
Альв мягко, покровительственно улыбнулся. И от одной этой улыбки у Гензеля защемило сердце.
— Какая разница? — небрежно спросил альв.
Он легко распахнул крышку стазисной камеры и мягко провел руками по коротким волосам мертвой принцессы цвета легкой ржавчины или тусклой меди.
— Она не откусила от золотого яблока…
— Что такое яблоко? — спросил альв негромко, ни к кому не обращаясь. — Всего лишь сосуд. Символ. Но вы, кажется, слишком много внимания уделяете символизму.
— Принцесса Бланко мертва.
Альв вновь усмехнулся.
— Смерть — это тоже болезнь, — сказал он. — Глупая детская болезнь.
Легким прикосновением светящихся пальцев он выключил стазисную камеру. Тревожно, умирающими птицами, закричали датчики. Альв не обращал на это внимания. Он методично отключил все кабели и освободил принцессу из опутывавшего ее кокона. А потом он нагнулся над ней — и поцеловал в губы. Гензель как завороженный смотрел на это. Просто легкий поцелуй. Светящиеся губы альва коснулись посиневших губ принцессы Бланко, на миг сомкнулись с ними — и оторвались.
Принцесса Бланко закашлялась. По залу разнесся благоговейный шепот. Осеняя себя знаками священной двойной спирали, монахи исступленно забормотали молитвы.
Его величество Тревиранус Первый побагровел лицом.
— Что это? — закричал он. — Как вы… Что происходит?!
— Я явился сюда за тем, что принадлежит мне по контракту, — спокойно пояснил альв, осторожно и нежно помогая принцессе приподнять голову. — Мой контракт — это она.
«Она не вещь! — захотелось крикнуть Гензелю. — Ты, дрянной светлячок! Принцесса — не чертова колба с ДНК! И она не контракт!»
Он не мог этого сказать — медленно проваливался в темноту. Темнота была мягкой, податливой, почти нежной. Она ждала Гензеля, как приветливая хозяйка. Но взгляд альва, упершийся в Гензеля, вдруг рассеял эту темноту, как мощный луч фонаря. И Гензель ощутил, как его тело, уже налившееся было смертельным оцепенением, мгновенно делается легче. Черная кровь отхлынула от головы, ушла из легких. Ужасно закружилась голова…
— Принцесса — не вещь, — сказал альв, все еще смотря на Гензеля, а может, Гензелю это лишь казалось, как казалось каждому в зале. — Она — живое существо. Удивительное по своей природе. Она не должна была появиться. Она — чистый цветок, выросший на залитом радиоактивными отходами поле. Она — фактор невозможного, который появился в одном старом, запутанном и, если честно, никому не нужном уравнении. Это уравнение веками трансформировалось и видоизменялось, все дальше удаляясь от своих корней. Но этот фактор… Что же вас пугает? Она такой же символ, как и яблоко.
— Что ты с ней сделаешь? — спросил Гензель.
Удивительно, но голос повиновался ему. Тело, слабое еще, как у новорожденного щенка, не было способно подняться, но Гензель и без того понял, что смерть отступила. Он не знал, каким образом это произошло. Альв даже не прикасался к нему.
— Я отведу ее туда, где она не будет ни чьим-то проклятием, ни чьей-то иконой. Туда, где она сможет позволить себе просто быть человеком.
— Будете изучать ее, как лабораторный препарат? Тыкать иголками?
Предназначенная ему улыбка альва оказалась невеселой. Как отблеск осеннего солнца, проникший сквозь густую пелену облаков, отфильтрованный ими и бледный.
— Не так грубо. Да, мы будем изучать ее. Фактор невозможного требует долгого изучения. Но, скорее всего, он принципиально непознаваем. Принцесса Бланко просто будет находиться там, где никого не интересует чистота крови. Где она не будет бояться — ни других, ни самой себя.
Принцесса наконец очнулась. Она поднялась в своем хрустальном гробу, изумленно оглядываясь. Гензель заметил ее испуг, когда она увидела короля. И ее слабую улыбку, когда она увидела мачеху. А еще — особенное выражение ее глаз, когда она увидела его самого. Она ничего не сказала. Отчего-то Гензелю казалось, что принцесса тоже мгновенно все поняла и ей нет нужды задавать вопросы. Отныне у нее больше не будет никаких вопросов. Они будут только у тех, кто останется здесь.
В тишине, которая воцарилась в лазарете, тишине напряженной и неестественной, сухой голос геноведьмы прозвучал удивительно звучно.
— Вы хотели заполучить принцессу. Вы могли сделать это с самого начала. Без нашей помощи. Вы ведь знали все наперед. Зачем? Зачем вы заключили контракт со мной?
Существо, состоящее из жидкого золота, подмигнуло ей:
— Ты и так знаешь ответ, геноведьма.
— Вы… — Гретель нахмурилась, словно переваривая мысль, только что пришедшую ей в голову. — Вы изучали не только принцессу. Вы изучали… что-то другое. Нас.
Кивок богоподобного существа был вознаграждением за ее прозорливость.
— Верно, геноведьма. Принцесса — фактор невозможного в уравнении, а вы — то самое уравнение. Великое уравнение человечества, которое плетется веками и едва ли когда-нибудь будет решено. Все вы — части этого уравнения. Принцесса раскрыла душу каждого из вас, вынудила вас действовать, и каждого по-своему. Ваши мотивы, ваши стремления, ваши страхи — все это, отфильтрованное фактором невозможного, тоже представляет для нас интерес. Человечество в его теперешнем состоянии — очень запутанное уравнение. Возможно, разбирая его по частям, находя закономерности и отдельные зависимости, мы сможем определить его корни. Но если это и случится, то очень не скоро. Может, через сорок лет, а может, через века.
— Или же этого не произойдет никогда, — бросила Гретель. — У некоторых уравнений невозможно найти корень. Они — всего лишь спутанный клубок цифр, не имеющих ни смысла, ни решения.
Задумчивость легкой тенью легла на светящееся лицо альва и каким-то образом на миг сделала его более похожим на обычного человека. Кажется, даже свечение в этот момент стало мягче. И Гензелю почудилось, что сквозь это зыбкое свечение на прекрасном лице альва он увидел что-то, напоминающее сочувствие.
«Может, это нас и роднит? — подумал Гензель, не отрывая от полубожества взгляда. — Любой организм в силах испытывать боль. Возможно, и мыслить может даже крупный нервный узел. Может, именно умение сочувствовать — наша тонкая связь с альвами? Мы уже не люди — ни мы, ни они. Но не может быть, что между нами не осталось таких вот тончайших связей… А если связи эти есть, быть может, все не так и плохо?»
— Это возможно, — сказал наконец альв. — Но что такое возможность, если вселенная время от времени рождает фактор невозможности, обесценивающий любые выкладки?
Он положил руку на плечо принцессе. И ее тоже охватило легкое свечение. Обнаженная фигура Бланко оторвалась от хрустального гроба и повисла в воздухе рядом с альвом. Ее лицо показалось Гензелю одухотворенным лицом человека, который внезапно понял множество важнейших вещей. Человека, которому больше нет нужды оставаться здесь. Гензель ощутил, как грусть проникает в его тело множеством серебристых змеек, холодных и горячих одновременно. Он знал, что дальше должно произойти.
«Удачного пути, принцесса Комо-ля-Ньев!» И, хоть он произнес это мысленно, принцесса Бланко взглянула вдруг прямо ему в глаза — и улыбнулась. Эта улыбка предназначалась только ему, Гензелю. И он принял ее, как принимают самый драгоценный дар. Улыбка была теплой, словно яблоко, которое помнит прикосновение чужой ладони. К тому же Гензель знал, что эта улыбка означает.
— Вы не сможете забрать у Человечества его чудо, — ледяным голосом сказала королева-мачеха. — Вы, насмешка над человеком, извращенное его подобие! Думаете, что можете спорхнуть со своего облака и унести добычу, нашу святую, чтобы тешиться ею как игрушкой? Принцесса принадлежит нам. Это наше чудо. И оно останется у нас.
— Не думал, что соглашусь со своей дорогой супругой, но… кхм… — Тревиранус Первый, успевший вновь облачиться в золотой доспех, со своей стороны поля боя грозно взирал на альва. — Я запрещаю вам уводить принцессу!
— Вам не о чем беспокоиться, ваше величество, — сказал альв. И хоть он сказал это мягко, «ваше величество» прозвучало как-то двусмысленно, под кожей Тревирануса выступили неровные желваки. — Принцесса Бланко больше никогда не вернется на землю. У нее будет новый дом, а в старом ее быстро забудут.
— Вы не поняли, — медленно сказал король. — Мне все равно, где она будет. Мне важно лишь то, будет ли она вообще. Я не хочу, чтоб принцесса Бланко жила, здесь или где-то еще. Ее существование в любом качестве недопустимо. Поэтому отпустите ее, пока я не приказал своим слугам уничтожить вас обоих.
Он не шутил. Уцелевшие мутанты, не сговариваясь, перезарядили термические ружья и направили их в грудь парящего альва. Даже громила, едва не раздавивший Гензеля, все еще с яблочной мякотью на груди, зловеще затрещал костяшками уродливых видоизмененных пальцев.
Изготовились к бою и монахи. Их суровые, лишенные выражения лица превратились в непроницаемые маски, похожие на рыцарские забрала. Они не колебались и не знали сомнений. Они видели лишь светящегося альва, который пытается украсть их святыню, — и были полны решимости покарать его за святотатство.
Альв вздохнул. Вышло у него это почти по-человечески.
— Вот почему так сложно развязывается это уравнение, — сказал он, и Гензелю почудилась в его голосе искренняя грусть. — И вот почему оно, скорее всего, никогда не будет разгадано. Извините, ваши величества, но я знаю мнение самой принцессы. Она не хочет оставаться здесь. Я прав, принцесса?
Бланко кивнула. Удивительно, но сейчас, лишенная даже своего замасленного комбинезона, воскрешенная несколькими минутами раньше из мертвых, худая, бледная, изможденная, она выглядела царственно, как никогда прежде. Может, дело было в свечении, которое разлилось по ее телу?..
— Да, — коротко сказала принцесса Бланко. — Нам стоит уйти отсюда.
— Выбор сделан. — Альв изобразил подобие поклона. Слишком натуральное, чтобы быть искренним. — Прощайте, ваши величества!..
— Огонь! — Крик королевы-мачехи метнулся вдоль развороченных стен лаборатории, зазвенел рикошетом. — Во имя Человечества — огонь! Ради святой Бланко!
— Разорвать обоих! — рявкнул король. — Вперед!
Выстрелы обрушились на альва лавиной вроде той, что сходит с гор и дробит все, что окажется на ее пути. Это была не стрельба, это была бьющая в упор энергия, алчная, жестокая, целеустремленная. Энергия не была подчинена никаким законам и правилам, она не умела размышлять или делать выбор. Она была рождена для того, чтобы обращать все сущее в окровавленные клочья и пепел. И она не знала преград.
Щелчки термических ружей, дробный грохот картечниц, шумные выдохи огнеметов — симфония боя разыгралась мгновенно и яростно, так что даже свечение альва в буйстве огня и вспышек стало едва заметным. Противостоять подобному не могло даже божество. Запас прочности есть у всего на этом свете, должен существовать он и у альва.
Лабораторию вновь затянуло удушливым черным дымом, пронзило колючими разрядами ружей. Остатки аппаратуры мгновенно превратились в выжженные коробки с обугленными кабелями. Хрустальный гроб разлетелся тысячью осколков, зазвеневших вперемешку с гильзами по полу.
Гензель знал, что увидит, когда рассеется дым. Изувеченные остатки альва, быть может все еще светящиеся. И иссеченную на куски принцессу Бланко, так и не успевшую вырваться из одного большого, очень сложного и очень страшного уравнения. Есть элементы, которые просто нельзя извлекать без катастрофических последствий.
Стрельба стихла — неуверенно, сама собой, точно инструменты слаженно играющего оркестра вдруг стали осекаться и один за другим выходить из общей мелодии.
Спустя секунду Гензель понял отчего.
Альв был на прежнем месте, охваченный своим обычным мягким сиянием. На его теле не было ни единой царапины. Невредимой осталась и Бланко. Огненный шквал, обрушившийся на них, не причинил им никакого вреда. Кажется, даже сияние стало ярче.
— Чего вы стоите? — крикнул король свите, в его надтреснутом голосе явственно слышался страх. — Режьте их! Рубите! Может, он и силен, но не бессмертен! Рубите его на миллион частей! Рвите их!
Завывая, клацая челюстями, геногвардия бросилась в атаку, размахивая клинками. С другой стороны на альва устремились монахи. То, что не смогла сделать энергия, сделает заточенная сталь.
Альв глядел на подбирающихся к нему противников без страха или удивления. Скорее с насмешкой. Казалось, он не собирается ничего делать и чужая ярость просто скользит по нему, ничуть не задевая. Но когда от ближайшего занесенного палаша их с Бланко отделяло не более метра, альв вдруг поднял руку.
— Хватит, — просто сказал он.
Кажется, на кончиках его пальцев возникло по крохотному огоньку. Это могло и показаться. Но все, что случилось мгновением позже, уже точно не было иллюзией. Воинство королевы-мачехи и свита короля перестали существовать.
В лаборатории сгустилось что-то, что не было ни дымом, ни излучением, ни электрическим полем, но чье присутствие Гензель ощутил мгновенно и остро. Что-то совершенно нечеловеческое, что-то, способное остановить время и уничтожить всякую материю. И это что-то произошло так быстро, что спустя секунду Гензель уже не был уверен, что видел это.
Мутанты королевской свиты взвыли одновременно. Невидимая сила, заполнившая лабораторию, мгновенно проникла в их изуродованные геномагией тела и пробудила в них ядовитые ростки жуткой и отвратительной, по-своему искаженной эволюции.
Неестественно огромные бурдюки мышц подернулись рябью, затрещали видоизменяющиеся на глазах прочные кости. Это было похоже на стремительную метаморфозу микроорганизмов, которая происходит с огромным ускорением. Мышцы лопались, из них тянулись новые конечности и щупальца, но и те тут же обвисали, превращаясь во все новые и новые формы. Из животов вдруг прорастали головы, а сами головы становились опухолями и мгновенно разлагались. Тысячекратно ускоренный процесс чудовищной мутации мгновенно превратил боевые порядки в груды скулящей от боли и постоянно трансформирующейся плоти. Кости выкручивались, обретая совсем уж чудовищные формы, внутренние органы переходили один в другой, беспрестанно меняясь местами. Грозная сила превращалась в силу слепую и подчиненную неведомым законам.
Мутации становились все страшнее и губительнее. Тела разделялись на части, и каждая часть, некогда бывшая членом или органом, обретала самостоятельную жизнь, такую же скоротечную, как и жизнь его предшественника. По полу ползали змеи, бывшие когда-то чьими-то конечностями, беспомощно квакали амебообразные сгустки, некогда находившиеся на плечах. Крошечными сегментными насекомыми скакали неприкаянные пальцы, то отращивая себе крылья, то пытаясь закопаться в пол.
Мутант, едва не убивший Гензеля, превратился в колонию грибовидных образований со сложной системой капилляров, а его несимметричные кости, отделившись с хрустом от тела, образовали что-то вроде броненосца, который, впрочем, быстро лопнул изнутри, как перезревший плод, и дал жизнь россыпи панцирных личинок.
Страшное эволюционное чудовище, высвобожденное альвом, заставляло жизнь мельчать — всякое следующее поколение делалось слабее и мельче предыдущего. Под конец свита короля превратилась в подобие выстланных на полу лаборатории водорослей, по которым, семеня лапками и извиваясь, чтобы обползти разбросанное оружие и доспехи, ползали крошечные организмы, уже не способные причинить кому-то вред.
Чудовищная сила, бушевавшая в лаборатории, не пощадила и монахов. Эти погибли быстрее — их плоть просто растворялась, словно всасываясь сама в себя. Кожа делалась прозрачной, мягкой — и вдруг стекала с костей, обнажая тусклый блеск металла. Вываливались со своих мест уже ничем не сдерживаемые, урчащие и жужжащие механизмы, прежде служившие монахам сердцами, легкими, суставами и прочими внутренними органами. Они шлепались в лужи жидкой плоти и беспомощно оставались лежать, уже не в силах делать ту работу, ради которой были созданы. Плоть человеческая была слаба, но без нее даже самые сложные механизмы оказывались бесполезным хламом.
Гензель не знал, сколько времени потребовалось альву, чтобы очистить лабораторию. Сперва ему казалось, что чудовищные превращения длятся часами, но, вновь увидев улыбку альва, он подумал, что прошло, должно быть, не больше пяти секунд.
Армий теперь не было. Лаборатория казалась почти безлюдной — всего несколько фигур остались в ней. Король, потрясенный увиденным, сжимал латной ладонью рукоять меча, но, кажется, не мог его даже вытащить. Королева-мачеха, хранившая обычное ледяное спокойствие, казалась безучастной. Альв по своему обыкновению улыбался, но улыбка эта впервые показалась Гензелю поддельной. Принцесса Бланко прикрыла ладонью глаза.
Еще Гензель с удивлением заметил трех цвергов, которые, пользуясь затишьем, вернулись в лабораторию и теперь неподвижно застыли поодаль, настороженные, глухо ворчащие. Они вновь почувствовали присутствие своей хозяйки — и явились засвидетельствовать свое почтение. Ну их-то в обитель альвов не заберут, подумалось Гензелю, надо же — резвящиеся среди облаков цверги!..
— Прощайте, ваши величества, — произнес альв, обнимая принцессу за худые плечи. — И не держите на нас зла. Все мы — лишь части великого уравнения, разнесенные по разные стороны от знака равенства. Быть может, когда-то мы действительно найдем решение. Будет ли оно губительным или даст надежду нам всем, покажет время.
— Мы сами его найдем! — резко и зло бросила королева-мачеха. — Только люди имеют право найти решение. А вы — не люди! Мы не дадим в ваши золоченые лапы судьбу всего мира, судьбу Человечества!
Она выхватила изящный серебряный пистолет. Удивительно быстро, точно все это время внутри ее механического тела сжималась мощная пружина.
Принцесса вскрикнула. Альв щелкнул пальцами. И королева-мачеха перестала существовать.
Она просто рассеялась в окружающем пространстве — как будто атомы, скреплявшие ее тело, его органические и стальные части, просто пропали. То, что мгновением назад было ее величеством, превратилось в быстро тающую серую крупу.
Король, почти вытащивший свой меч, заставил руку остановиться. Единственный вооруженный среди присутствующих, он, должно быть, чувствовал себя так, словно на него смотрели тысячи снаряженных к стрельбе стволов. И, пожалуй, не был далек от истины.
— Кстати… — Альв вдруг обернулся и взглянул на молчавшую Гретель. — У меня, кажется, остался долг перед вами. За ваш контракт. Я считаю, что вы выполнили его, и не имею к вам претензий.
Гретель убрала с грязного лба прядь волос.
— Вам не нужны были мы, — сказала она. — Контракт был фиктивен с самого начала.
— Быть может, и так. Какая разница? Ваше участие было ценно, хотя вы едва ли поймете, чем именно. Я считаю контракт выполненным. Насколько помню, вам было обещано выполнение любого вашего желания. Вы готовы назвать его?
Гретель задумалась. Сейчас и она выглядела больше человеком, чем обычно. По крайней мере, взгляд прозрачных глаз вдруг показался Гензелю неуверенным, почти детским.
Однажды маленькие мальчик и девочка заблудились в лесу…
Гретель взглянула на Гензеля и вдруг неожиданно подмигнула ему.
— Спасибо, — сказала она. — Но я не уверена, что готова назвать свое желание. Все… немного сложно, верно? Желание — очень опасная вещь, особенно когда его выполняют такие силы. Над ним стоит хорошенько подумать. Возможно, позже…
Альв одобрительно кивнул:
— Мудрая геноведьма. Возможно, позже ты и в самом деле превратишься в нечто особенное. А еще возможно, что мы с вами когда-нибудь встретимся. В этом мире многое возможно, и иногда даже недостаточно быть альвом, чтобы определить насколько. А сейчас — прощайте.
— Прощайте, — тихо сказала принцесса Бланко. — Прощай, Гретель. Прощай, Гензель.
— Прощайте, ваше высочество, — сказал Гензель.
Ему казалось, что он все еще видит Бланко, хотя ее уже не было в лаборатории. Возможно, просто отпечаток ее светящегося контура на сетчатке глаза. Точно, дело было в глазах. Что-то происходило с ними.
— Ты плачешь, братец? — усмехнулась Гретель, наклоняясь над ним.
— Иди к черту, — буркнул он. — Помоги-ка мне лучше подняться. Ох черт! Кажется, этот чертов альв схалтурил. Я еще пару недель буду хромать.
— Учитывая, из чего он тебя собрал… Держись. — Она ухватила худыми руками его за плечо, помогла удержать равновесие. — Мы будем идти медленно. Очень медленно, верно?
— Угу. Спешить нам теперь некуда, все контракты выполнены или отменены нанимателем. Хорошо поработали.
С трудом нагнувшись, Гензель подхватил из тлеющей кучи хлама маленький неровный осколок хрустального гроба. Похож на стеклышко от разбитой бутылки, через которое дети разглядывают солнце.
— На память, — пробормотал он, чувствуя насмешливый взгляд сестры. — И не только одному мне. Кажется, тебе тоже предстоит кое-что надолго запомнить, а?
— Возможно, — согласилась она, убирая осколок в сумку. — Или невозможно. Здесь смешалось столько возможного и невозможного разом, что мне определенно стоит над этим подумать.
Они двинулись к выходу из лаборатории. Но не успели дойти до дверей — позади раздался скрежет металла. Характерный скрежет, безошибочно узнанный Гензелем. Такой может издавать только вытащенный из ножен клинок. Противный звук.
— Стойте, квартероны! — рявкнул Тревиранус Первый. Он немного шатался, но рука с зажатым в ней мечом не дрожала. — Вы полагаете, что я позволю вам уйти? После всего того, что вы навлекли на мое королевство? После предательства? Измены? Если так, вы глупее моей мертвой супруги!
Он шел к ним, спотыкаясь, но если тело и двигалось неуверенно, то от этой неуверенности на лице не было и тени. Его величество знал, чего он хочет. И, словно вокруг не было ничего более важного, Гензель, остановившись, глядел на него.
Обычное человеческое лицо. Царственные черты его смягчились и оплыли, как мраморный профиль памятника, источенный ветрами и эрозией. Благородная седина была перепачкана кровью и сажей. Только глаза были примечательны, но в них Гензель не хотел смотреть, хотя и догадывался, что может там увидеть. Иногда не стоит чересчур внимательно заглядывать в колодец. Иногда стоит оставлять в игре фактор неизвестности.
— Бросьте, ваше величество, — посоветовал он. — Разве не много вы за сегодняшний день потеряли?
— Сейчас ты потеряешь свой мерзкий язык вместе с головой, уродливый мальчишка! И твоя сестра-ведьма тоже! Молитесь своему Человечеству, чтобы не остаться в живых после того, как я доберусь до вас, грязные квартероны! Я прикажу тянуть клещами ваши гнилые языки! Вас будут сутками варить в масле! Вас будут медленно рвать гидравлической дыбой!
Тревиранус был сломлен, разбит, но все еще жив. Может, внутри него что-то и сломалось, но тело его было все еще крепко. И оно шагало к ним, не обращая внимания на обрывки тлеющего багряного плаща за спиной. Закованный в свою богато отделанную золотую броню, с клинком в руке, он выглядел потрепанным в бою рыцарем, который не намерен останавливаться, пока бьется его сердце. В конце концов, он был королем, а всем известно, короли никогда не отступают. Пусть даже королевской крови в них не более восьмидесяти пяти процентов…
Гензель не сделал попытки двинуться с места. Поддерживаемый Гретель, он наблюдал за тем, как король преодолевает разделявшие их метры.
«Упрямец, — подумал Гензель почти равнодушно. — Очень человеческое упрямство. Мы, люди, иногда с излишним упрямством держимся за то, что нам не нужно. Интересно, в наших генах есть то, что отвечает за упрямство?.. Ох. Принцесса Бланко, если ты сейчас видишь нас с золотого облака, пожалуйста, отвернись на несколько секунд».
Король был уже близко. Под его коваными сапогами скрежетала каменная крошка. Меч в руке, доселе недвижимый, стал подрагивать. Не иначе предвкушал, как вопьется в беззащитное тело и охладится в чужой, пусть и грязной, крови.
— Ваше величество… — Говорить все еще было немного тяжело. — Неужели пример Гретель ничему вас не научил? Может, иной раз нам всем стоит останавливаться на пути к осуществлению наших желаний?
— Что? — спросил король. Едва ли он был удивлен сказанным, скорее тем, что его жертвы не пытаются даже сдвинуться с места.
— Наши необдуманные желания слишком часто становятся причиной самых ужасных последствий. Быть может, иногда нам стоит сдерживать их? Просто чтобы обернуться. И посмотреть, что делается за спиной, пока наши желания уводят нас все дальше и дальше.
— Ты потратил слишком много своего времени!.. — выдохнул король, опираясь на меч. Легкие его клокотали, силы были истощены, но останавливаться он не намеревался. — У тебя не осталось его на последнее слово…
— Осталось, — сказал Гензель. — Осталось на три слова, если быть точным.
Тревиранус Первый уставился на него, забыв сделать очередной шаг. Небольшая передышка для уставшего старого тела. Он знал, что добьется своего.
— Ну тогда говори их, — пробормотал он. — Говори свои слова, мальчишка!.. Говори их! Потому что сейчас я выдеру твое поганое нутро, и больше слов у тебя не останется!
— Бидл! Снедл! Ниренберг!
Король замер. Почувствовал. Есть, должно быть, особое чутье у королей. Начал оборачиваться, но не успел.
Цверги набросились на него все разом. Молча, как настоящие хищники. Три угольно-серых тени беззвучно оторвались от пола и потянулись к закованной в золото фигуре, ощерив неровные зубы. Один из цвергов ударил короля в спину — тот закрутился, тщетно пытаясь достать полосой гудящей стали нападавших. Обрывки багряного плаща взметнулись за его спиной.
Четыре фигуры слились, обернувшись одной — размытой, дребезжащей на полу, рычащей. Фигура дергалась и кричала на несколько голосов, от нее отлетали золоченые части брони и обрывки алого тряпья. Потом алого сделалось больше, а крик превратился в визг, резко сменившись влажным хрустом. Зазвенели по полу золотые пластины вперемешку с клочками волос и бесформенными кусками мокрой плоти. Один из кусков показался Гензелю смутно знакомым. Словно бы…
— Отвернись, сестрица! — бросил он Гретель и потянул ее к выходу. — Разве не видишь, его величество занят важными государственными делами!.. Сейчас ему не до нас, грязных квартеронов…
Пол был усеян смазанными кляксами крови — точно стол в трактире вином. Вглядываться в них Гензель не хотел. Человеческая кровь всегда выглядит одинаково. Да и не определишь на вид, сколько в ней и в каких пропорциях смешано…
Оказавшись за пределами лаборатории, Гензель потянул рычаг — и бронированные пластины запечатали ее, мгновенно обрезав доносившиеся из помещения звуки — жадный треск и хлюпанье.
Опираться на правую ногу все еще было тяжело — и Гретель поддерживала его, пока они шли по коридору. В ее тощем теле оказалось на удивление много сил. Но все то время, что они шли, Гретель молчала.
Было это молчание задумчивым или безразличным? Гензель не знал.
— Сестрица… — позвал он лишь для того, чтобы услышать ее голос. — Ты как?
— В порядке, братец, — отозвалась она. — Но я не уверена, что ты выдержишь долгую дорогу.
— Ни к чему. Снаружи должны были остаться королевские корабли. Думаю, его величество не будет против, если мы одолжим один из них.
— Думаю, нет. Честно говоря, братец, мне уже немного надоели горы.
Гензель улыбнулся. Скорее всего, улыбка получилась жутковатой, но сейчас ее никто не видел.
— Постой-ка…
— В чем дело? — встревожилась Гретель. — Болит?
— Нет… У тебя в сумке что-то болтается. Дай-ка я выну.
Когда он вытащил руку из сумки, на ладони лежало яблоко.
Сочное, большое, с румяными боками. Наверняка очень сладкое.
Скорее всего. Яблоки — странная штука. Нипочем не отгадаешь, какое оно на вкус, пока не откусишь.
Гензель задумчиво разглядывал его некоторое время.
— Улетим, только не в Лаленбург. Знаешь, мне до чертиков надоели яблоки. Наверно, у меня развилась какая-то аллергия. Мутит от одного запаха. Кажется, я больше никогда в жизни не стану есть яблок.
Гретель взяла яблоко и провела по его лоснящемуся боку тонкими бледными пальцами.
— Мы улетим туда, где никто в жизни ни разу не видел яблока. Куда-нибудь очень далеко, — сказала она.
— Серьезно? — не удержавшись, спросил он.
— Ну что ты, братец. Я шучу. Это же невозможно.
Она уронила яблоко и наступила на него каблуком ботфорта. С сочным хрустом оно превратилось в размазанные по полу ошметки, истекающие прозрачным яблочным нектаром.
— …А невозможное — всегда невозможно, — закончил Гензель и положил руку на рубильник внешнего шлюза. — Моя сестра никогда не ошибается.
Шлюз с ворчливым рокотом распахнулся — и в лицо им ударил ледяной ветер, мгновенно сдувший запахи яблок, дыма и грязи. Перед ними простиралось заснеженное горное плато, в котором, дробясь, купались тысячи ослепительных осколков солнца.
После полумрака крепости на него невозможно было смотреть — глаза сами собой норовили закрыться. Но Гензель заставил себя держать глаза открытыми, хоть они и слезились. Свечение снега, пусть и безмерно болезненное, сейчас казалось ему прекрасным.
А потом свечение разлилось вокруг них, прыгая под ногами мириадами солнечных искр. Бесконечное, до самого горизонта и заснеженных пиков свечение.
Америциевый ключ, или Злоключения Бруттино
Все дверные колокольчики на памяти Гензеля звонили не вовремя. Вне зависимости от того, из чего они были сделаны — из меди, латуни, простого железа или жести, — и вне зависимости от того, где висели, все они обладали удивительной способностью исторгать досаждающий звон в самый неудобный для этого момент.
Гензель глухо заворчал, вытащив голову из кухонного шкафа, в который заглянул лишь полуминутой раньше. И, конечно, дверной колокольчик не упустил своего: противно задребезжал. Пришлось оставить на месте вчерашнюю жареную индейку, выломанная нога которой уже торчала у него в зубах наподобие курительной трубки.
Гретель, по своему обыкновению, находилась в лаборатории, а значит, посетителей не ждала. Об этом сообщала собственноручно водруженная Гензелем табличка за дверью. Может, просто ветер?..
Колокольчик издевательски прозвенел вновь. И вновь. И в третий раз. А потом уже затрезвонил без перерыва, точно снаружи разразилась самая настоящая буря.
Гензель не любил гостей. Эту черту его характера не сломил за долгие годы даже людный Вальтербург. Тем более что гости эти в ста случаях из ста появлялись на пороге с одной-единственной целью — увидеть госпожу геноведьму. Гензелю всегда мерещился исходящий от них призрачный и гадкий запашок геномагии. Иные гости, появлявшиеся на пороге, и на людей-то походили разве что со спины — в Гунналанде, как и в его столице, Вальтербурге, издавна обитало множество мулов.
Оттого Гензель не спешил отпирать входную дверь. Но колокольчик не унимался. Он обладал столь противным дребезжащим голосом, что вывел Гензеля из состояния душевного равновесия за неполную минуту. Быть может, если не отворять двери, посетитель догадается, что явился не вовремя, и уберется прочь? Но посетитель был настойчив. Пожалуй, неприлично настойчив даже по здешним представлениям о приличиях. Гензель, выругавшись, подошел к двери, так и не выпустив из зубов индюшиной ноги.
— Проваливайте! — нечетко рявкнул он, легко распахивая массивную, окованную сталью створку. — Приема нет!
Он ожидал увидеть на пороге какого-нибудь мула — уродливого, как и все мулы, и недалекого. Кого-нибудь с лосиными рогами на макушке, паучьими лапами и пучком извивающихся щупалец на затылке. Кого-нибудь, кто свято уверен, что достаточно позвонить в волшебный дверной колокольчик, как навстречу выйдет геноведьма и взмахом руки выполнит его заветное желание. Именно об этом чаще всего и возвещал противный звон.
Гензель даже приготовился вышвырнуть настойчивого дурака с крыльца и заранее сжал кулаки. Которые сами собой разжались, стоило лишь распахнуть дверь. Потому что никакого мула на крыльце не обнаружилось, а обнаружился вполне человекообразный господин — седой, тощий, ломкий, перепачканный городской пылью и улыбающийся. У него не было ни оленьих рогов, ни пучка щупалец на затылке, или же пришлось бы считать его гением маскировки, способным спрятать подобные детали под дешевым костюмом и неброской шапочкой. Старческие глаза смотрели достаточно ясно, а вот улыбка показалась Гензелю наигранной, слишком нервной и даже немного заискивающей.
— Прошу покорно извинить, — торопливо заговорил он, едва увидев Гензеля. — Имею дело неотложной важности к госпоже геноведьме…
— Не принимает, — кратко отозвался Гензель, собираясь решительно захлопнуть дверь перед носом непрошеного визитера.
Его ждала индюшка и бутылка охлажденного в погребе вина.
— Простите за настойчивость, но это действительно крайне срочно и не терпит отлагательств!
— Госпожа Гретель сейчас не принимает. Зайдите позже. А лучше завтра.
И тут сухой старик сделал то, чего прежде не решался сделать ни один из посетителей этого дома, даже самый наглый. Он вдруг решительно сделал шаг и, прежде чем Гензель успел опомниться, уже стоял в дверном проеме.
— Приношу извинения, — негромко, но твердо произнес он. — Если бы дело терпело, я бы ждал столько, сколько потребуется. Но в данном случае участие госпожи Гретель требуется мне прямо сейчас.
Индюшиная нога во рту Гензеля хрустнула, мгновенно превратившись в крошево из мяса и костяных осколков. От одного только этого звука обычный человек должен был побелеть от страха. Некоторые и белели — слухи о нелюдимом и грозном нраве привратника госпожи геноведьмы, громилы с полной пастью акульих зубов, распространялись по городу не первый год. И безосновательными не были.
Старик вздрогнул, но отойти и не подумал. Удивительно настырный. Или же невероятно глупый. Не говоря ни слова, он сделал еще один шаг и очутился в прихожей, беспокойно озираясь. Наверно, стоило схватить его за тощую, как метла, шею и вышвырнуть наружу. Гензель терпеть не мог бесцеремонных посетителей. Он даже протянул было руку, но пальцев на сухом кадыке так и не сомкнул.
Если человек столь дерзко вламывается в обитель геноведьмы, у него должны быть веские на то основания. Чертовски веские. Общеизвестно, что геноведьмы обожают превращать докучающих им наглецов в мокриц и гигантских амеб. Даже те гости, которых пригласили внутрь, иной раз по несколько минут топтались на пороге, осеняя себя священным знамением Двойной Спирали, прежде чем решались зайти. И за последние семь лет на памяти Гензеля ни один не осмелился сунуться внутрь без приглашения.
— А вы наглый старик, — пробормотал Гензель, сплевывая через порог осколки индюшиной ноги. — Только вам это не поможет. Госпожа Гретель в лаборатории. Это значит, что вы не увидите ее, пока она не выйдет. Как ни крути, а придется вам обождать.
Костлявые плечи посетителя дрогнули.
— Не могли бы вы сообщить ей о моем приходе? Я не хотел бы отвлекать ее от важных исследований, но в силу обстоятельств покорно вынужден просить…
— Совершенно исключено, — решительно отрезал Гензель. Никто и ничто не войдет в лабораторию Гретель.
— Но…
— Очень опасно, знаете ли, отвлекать геноведьм от работы. Помните эпидемию неочумы в Вальтербурге три года назад? Это наша кухарка случайно открыла дверь в лабораторию, чтобы спросить, что подавать на ужин. Так что нет. Вам придется подождать. И раз уж вы оказались достаточно наглы, можете использовать для этого гостиную.
Последнего можно было и не говорить — старик уже находился в гостиной. С такой непринужденностью, будто был неотъемлемой ее частью. Причем не самой представительной. Гензель хмуро наблюдал за тем, как странный посетитель меряет ковер нервными короткими шагами, обильно украшая его пятнами пыли со своего мятого костюма.
— Успокойтесь и сядьте, — раздраженно предложил он старику. — В глазах от вас рябит!
— Мало времени! — воскликнул тот. — Пока ключ у него, мы все в смертельной опасности! Возможно, каждая минута…
Его нервные движения раздражали даже больше, чем дребезжание дверного колокольчика. Гензель мрачно наблюдал за тем, как старик шагает туда-сюда по комнате. Словно жертва геноэксперимента, которой выжгли все нервные центры, кроме тех, что отвечают за безотчетную мышечную активность.
Гензель заскрипел зубами. Даже если он вернется на кухню, этот старик своими восклицаниями и хрустом старых костей совершенно перебьет ему аппетит. Гензель вспомнил о прохладной винной бутыли и вздохнул. Тяжело быть компаньоном геноведьмы.
— Значит, вот что, — сказал он, решительно хватая старика за костлявое плечо. — Изложите мне вкратце суть дела. В геномагии я понимаю не больше, чем в скорняжьем ремесле, но, если дело ваше срочное, возможно, я осмелюсь побеспокоить госпожу геноведьму и она займется вашим вопросом.
Прозрачные глаза старика засветились надеждой.
— Ключ! — воскликнул он, пытаясь обхватить Гензеля за предплечье. — Все дело в ключе!
— Что с ним?
— Пропал. Украден. И не только он. Я еще не проверял опись, однако кое-чего не хватает. Но главное — ключ!
— Какой ключ? — осведомился Гензель, ничего не понимая.
— Америциевый ключ!
От старика несло кислым запахом старости и дешевого нива. Остатки седых волос были всклокочены, губы мелко дрожали. Не требовалось иметь семь пядей во лбу, чтобы определить, что настойчивый посетитель пребывает в высшей стадии беспокойства.
Гензель не любил таких посетителей. И без них ему доставало хлопот в последние годы. Несмотря на то что оседлая жизнь в Вальтербурге была не в пример лучше их прежней, кочевой, суетной и зачастую опасной, если ты живешь под одной крышей с геноведьмой, беспокойство ты будешь ощущать чаще, чем всякое другое чувство.
«Удивительно, — подумал Гензель, взъерошивая поредевшие волосы на макушке. — Уж сколько всякой генетической магии я повидал за тридцать пять лет, что живу на свете, мог бы и привыкнуть, а все равно каждый раз, как к Гретель заявится очередной проситель, точно екает что-то под печенкой… Видно, не в человеческих это силах — привыкнуть к геномагии».
— Что еще за ключ? От чулана, что ли? — грубовато спросил он вслух. — Давайте по порядку. Прежде всего — как вас зовут?
Старик нетерпеливо дернул седой головой.
— Арло меня зовут. Ну или папаша Арло, так меня все соседи кличут. Спросите кого угодно на южной окраине, все знают папашу Арло.
— Теперь уже и не только на южной… — вздохнул Гензель. — Каким ремеслом занимаетесь?
Старик выпятил тощую костлявую грудь, в которой угадывалось несколько лишних ребер.
— Я — шарманщик. Точнее, был шарманщиком прежде. А теперь на пенсии.
— Ага, — сказал Гензель сам себе.
Дело обретало хоть и зыбкую, но ясность. Шарманщиками в Гунналанде называли уличных генофокусников. Наверно, из-за того что они бродили по улицам с биосинтезатором на груди, рукоять привода которого время от времени крутили. Только вместо музыки их аппарат исторгал из себя причудливые комки примитивной протоплазмы на радость детворе. Полуразумные пузыри всех мыслимых форм и цветов забавно ползали по мостовой, сливались друг с другом, отращивали ложноножки и свистели — нехитрое уличное развлечение.
Гензель не раз наблюдал за шарманщиками в Вальтербурге и находил их ремесло достаточно забавным для неприхотливой публики. Но Гретель всякий раз морщилась при упоминании о них, и о причинах ее неприязни не требовалось спрашивать. Гензель полагал, что дело в профессиональной ревности. Людям, посвятившим себя геномагии без остатка, неприятно, должно быть, наблюдать за тем, как их достижения используются в качестве ярмарочных фокусов.
— Ключ!.. — вновь беспокойно забормотал старик. — Во что бы то ни стало надо его вернуть. Уму непостижимо, как я допустил это!
Гензель вскипел. Акула, плавающая в невидимом море, стеганула хвостом.
— Еще одно упоминание о ключе — и я вышвырну вас наружу! Я же просил, изложите дело по порядку. У вас пропал какой-то ключ, я верно понял? Но отчего вы решили, что вам поможет геноведьма? Я же не зову геноведьму всякий раз, когда не могу найти свои сапоги!
— Не просто пропал, — жарко зашептал папаша Арло, задирая голову. — Он украл его! Мой ключ! И сбежал с ним!
— Так ступайте к капитану городской стражи! — посоветовал Гензель, не считая нужным скрывать раздражение. — Искать украденное — его работа, а не геноведьмы.
— Здесь все дело в том, кто украл!..
— И кто?
— Мой сын. Мой приемный сын. Это все проклятое дерево, теперь я убежден…
Гензель чертыхнулся. Надо было сразу вышвырнуть этого сумасброда с крыльца.
— Какое еще дерево? Вы издеваетесь, папаша?
— Ничуть не издеваюсь! Все началось с дерева! Оно всему причиной!
Гензель набрал в грудь побольше воздуха и медленно его выдохнул. Дерево. Сын. Ключ. Опасность. Ничего вразумительного из четырех этих пунктов не складывалось. Пока он раздумывал, не поздно ли взять шарманщика за шиворот и выставить за порог, папаша Арло, точно прочитав его мысли, торопливо зашептал:
— Вот как дело было… Началось все семь лет назад, как раз в тот год, когда вы с госпожой Гретель в Вальтербурге поселиться изволили. Расчищали мы тогда опушку, что к городской стене подступала. Очень уж много оттуда генетической заразы на город шло — то саранча размером с корову, то прочая нечисть, от которой житья никакого… Опушку ту давно генохворью попортило, деревья все гнилые и кривые, как в Железном лесу. Дрянь одна, словом, все стволы в язвах гнойных, а кое-где и зубы из коры торчат… И тут я вижу, значит, идет наш Джуз и тащит полено. Простите, Джузом мы нашего столярного кибера звали. Железа в нем пуда три, умишко куцый, как собачий хвост, но по части дерева опыт у него необычайный. Идет, значит, и тащит полено. Я сразу приметил, что древесина для нашего леса нехарактерная, очень уж гладкая, плотная, никакой гнили. У меня целая генетическая картотека есть гунналандской флоры, но такое дерево я впервые увидал. Мы, шарманщики, до новых генетических образцов всегда любопытны. Профессиональное… Упросил я Джуза отдать мне странное полено — для анализов. Ну как упросил… Честно сказать, не сразу он мне его отдал. Даже до драки дошло. Но я семь лет назад был покрепче, чем сейчас… Получил все же свое полено, хоть и с парой тумаков в придачу. Только анализы мало что дали: нет у меня техники подходящей. Да и таланта, прямо скажем, не бог весть. То ли дело сестра ваша, госпожа Гретель…
Гензель ощутил растущее беспокойство. Это было вполне в духе Гретель — взяться за изучение странной древесины. А теперь — пожалуйста, какой-то сумасшедший старик норовит взять штурмом их дом, лепеча что-то о пропавшем ключе. Беспокойство было легким, но неприятным, как только что зародившаяся зубная боль, тянущая исподволь.
— Сперва сын у вас ключ украл, теперь вдруг дерево! Зачем вы мне про какой-то старый чурбан рассказываете, папаша Арло? Я вас попросил с самого начала рассказать, а вы…
Старик выпучил на него свои прозрачные глаза.
— Так ведь то полено — и есть мой сын!
Гензель несколько секунд молчал.
— Так, — сказал он задумчиво. Кажется, я понял. Ну разумеется. Полено — ваш сын. Оно украло ключ. Теперь все очевидно. Слушайте, папаша, а не бывает у вас такого, чтобы голову по утрам ломило, особенно в висках; или там голос какой-то, будто с неба?..
Старый шарманщик даже рассердился.
— Симптомы нейросифилиса я и без вас помню! — вспылил он, не прекращая своих беспокойных движений по гостиной. — Только с головой у меня все в порядке! Папаша Арло еще из ума не выжил! Дело, видите ли, тут вот в чем… Госпожа Гретель приняла у меня полено и провела над ним ряд анализов. Выяснилась удивительная вещь. Это дерево не случайно показалось мне странным. Цепь долгих и сложных генетических мутаций изменила его настолько, что от первичного фенотипа не осталось и следа. Имеются, к примеру, прозенхимные клетки, но структура проводящих тканей совершенно не свойственна любой древесной породе! Да и дереву вообще не свойственна. При этом наличествуют искаженные волокна либриформа, а эндодерма организована образом, скорее характерным для фауны, чем для флоры…
Гензель глухо заворчал. Он терпеть не мог геномагических словечек. От всех них несло какой-то затаенной скверной. Скверной, к которой он так и не смог привыкнуть за тридцать пять лет жизни под одной крышей с геноведьмой.
— По-человечески, папаша! — рявкнул он.
Поток тарабарщины мгновенно иссяк.
— Это было живое дерево.
— Оно что, заговорило с вами?
Старик досадливо дернул плечом:
— Не в том смысле живое. А в том, что его внутреннее строение было уникально. Очень сложное для флоры и абсолютно не схожее с любым существующим организмом. Это было как… В каком-то роде это был зародыш новой жизни. Точнее, то, что могло им стать.
— По мне, в печку такое полено стоило швырнуть. Сварили бы на нем себе кашу.
— Вы немолоды, — печально усмехнулся шарманщик. — А я — так и вовсе глубокий старик. Всю жизнь вертел ручку синтезатора, по улицам шлялся, золота не нажил, а все богатство — каморка, миска похлебки на ужин да нарисованный камин. Долго ли мне еще осталось?.. Ни детей у меня, ни подмастерьев никогда не было. В молодости не завел, а теперь уже и поздно. Вот мне и подумалось… Если это дерево может дать начало новой жизни, нельзя ли сделать из него подобие человечка? Обычного мальчишку, знаете ли. И эта мысль меня чрезвычайно приободрила. Было бы кому носить уголь, убирать паутину, ходить в лавку. Да и я смог бы передать по наследству свое ремесло…
Гензель едва не сложил рефлекторно ладони в охранительный символ Двойной Спирали. Хотя они упорно стремились сжаться в кулаки.
— Хорея Гентингтона! Уж не собираетесь ли вы сказать, что…
Старик обреченно кивнул:
— Ваша сестра, госпожа Гретель, была столь добра, что удовлетворила мою просьбу. Из странного полена она вырастила в лаборатории человека. Мальчика. Очень странный мальчишка получился. Вроде и человек, а вроде и дерево. Разные типы тканей срослись воедино, понимаете ли. Сразу и не разберешь, где что…
Гензелю вдруг захотелось раздавить эту седую голову с ясными глазами. Воистину говорят — чем страшнее беда, тем более невзрачный у нее глашатай.
Наверно, лицо у него в этот миг было достаточно красноречивым. По крайней мере, папаша Арло мешком осел под его взглядом и даже попятился.
— Безумцы! — рявкнул Гензель, глядя на старикашку сверху вниз. — Жить надоело? Голова не дорога? Вздумали творить мутантов, да еще где, в городе? На костре погреться захотелось?!
История про деревянного мальчика была не выдумкой сумасшедшего шарманщика — это он понял сразу же и безоговорочно. Слишком уж хорошо знал характер своей сестры. Настоящая геноведьма никогда не упустит случая принять вызов, и чем он сложнее, тем лучше. Неуемная жажда познания всего, что касалось геномагии, вкупе с полным равнодушием ко всему, что касалось человеческой жизни, — в этом была вся Гретель. Иногда, накладываясь друг на друга, эти черты ее характера порождали нечто крайне необычное. И столь же опасное. Но вырастить из куска дерева подобие человека! Это было слишком даже для нее.
Пусть даже короли Гунналанда более терпимы к порождению генетической скверны, чем охранные сервы Мачехи из Шлараффенланда или лаленбургские монахи, даже у их терпения имелся предел. Предел, к которому очень близко подошла одна нетерпеливая и самонадеянная геноведьма из Вальтербурга. Разумеется, геноведьмы редко задумываются о таких мелочах. Из-за чего их периодически сжигают на площади или протыкают вилами.
Человек из дерева! Даже мысль об этом была отвратительна и противоестественна. Разумное существо, не имеющее и толики человеческого геноматериала!.. Даже в кишащем мулами Гунналанде такая мысль сама по себе была кощунством.
Ох, Гретель…
— Это омерзительно, — произнес Гензель, взирая на папашу Арло с искренним презрением. — Омерзительно и противно человеческой природе. Уже не говоря о том, что смертельно опасно. Вы даже не представляете, какие деревья попадаются в лесу! Если вас угораздило сотворить подобие мальчика из какой-нибудь ядовитой или хищной древесины…
— Нет-нет-нет, — забормотал старик, выставив ладони в протестующем жесте. — Он с рождения был славным мальчуганом. Он не хищный и не опасный, уж поверьте мне. Не прошло и месяца, как он уже разговаривал. А как исполнился год, вовсю помогал мне, лабораторию знал как свои пять пальцев… Я уже представлял, как к своему ремеслу его пристрою. Интеллект в нем, знаете ли, удивительным был изначально. Схватывал все на лету… Правда, он не был похож на других мальчишек. Это я сразу заметил. Вроде и движения у него человеческие, и голос даже, хоть и скрипит, как ветка на ветру, и взгляд, но вот образ мыслей, характер… Все-таки природы не скроешь. Он ведь лишь внешне человекоподобен, а внутри — внутри все другое. Иная биохимия, иной метаболизм, иное устройство… Ни единой человеческой хромосомы!
— Стоило показывать его в цирке, — сухо заметил Гензель. — Заработали бы больше, чем крутя шарманку.
Старик потупился.
— Он ведь был мне как сын… Правду сказать, рос он своевольным, упрямым, как дуб. Рано начал дерзить, спорить. А что мне было делать? Я человек старый. Не розгами же его сечь? Да и толку? Думал, со временем он подрастет, станет рассудительнее. Но куда там! Чем дальше, тем хуже. Уже в три года Брутто сделался отъявленным хулиганом, первым на улице.
— Почему Брутто? — спросил Гензель, не придумав, что еще спросить.
Старый шарманщик беспомощно улыбнулся сухими губами.
— Это от его полного имени, Бруттино. Видите ли, когда Джуз передал мне полено, из которого Брутто суждено было появиться на свет, оно выпало у него из манипуляторов и треснуло меня по лбу. Ну я тогда и ляпнул: «Славное полено, крепкое, и брутальности не занимать, чуть мозги из головы не вышибло!» Так и стал он Бруттино. Обычное человеческое имя деревянному мальчику носить сложно…
— Дурацкое имя, — бросил Гензель. — Впрочем, не думаю, что дело в имени. Вы попытались вырастить в обществе существо, которое даже на половину ногтя не является человеком. А проще говоря, порождение никому не известных геномагических процессов! Это существо непредсказуемо и может таить в себе любую опасность! Сжечь бы его в печи сразу, а вы его усыновили!
— Это верно, — признал удрученно папаша Арло. — Но кто же тогда думал, семь лет назад… А теперь вот беда. Не уследил я за своим Брутто. Не заметил, когда из сорванца он превратился в преступника. Сам виноват, конечно, старый дурак. Сперва, как я уже сказал, он попросту хулиганил. Дерзил мне, воровал монеты от моей скудной выручки, колотил людей на улице. Я думал, это все возрастное. Все мы были несдержанны в юности. Но вместо этого видел, что человеческого в нем делается все меньше и меньше.
— Поблагодарите судьбу, что не убило ваше полено никого, — посоветовал Гензель хмуро. — А что ключ от дома стащило — ерунда. Сами говорите, что золота не нажили. Послушайте доброго совета, папаша: пустили бы вы это полено на зубочистки, пока не поздно. Я в геномагической науке ничего не понимаю, но что нельзя всякую дрянь тащить в дом и воспитывать — это уж поверьте!
Папаша Арло не выглядел утешенным. Напротив, в его взгляде Гензелю почудилась смертельная тоска.
— Лучше бы убил! — воскликнул он. — Лучше бы меня убил, чем ключ!..
— Да у вас у самого, кажется, термиты в голове завелись! — воскликнул Гензель, теряя остатки терпения, и без того подточенного явлением старого шарманщика. — Что за ключ, про который вы мне толкуете?
— Америциевый, — всхлипнул старик. — От камина.
— Какому дураку взбредет в голову запирать камин на ключ? — удивился Гензель. — Что из него красть? Золу?
— Вы не понимаете! В камине этом — вся моя жизнь! И не только моя, если на то пошло… Камин — самое драгоценное, что у меня есть. И теперь ключ от него неведомо где!
Гензель ощутил внезапное, но оттого не менее приятное облегчение. Картина, полная непонятных и странных штрихов, мгновенно прояснилась. История с разумным поленом, кажущаяся бредом душевнобольного, и в самом деле оказалась бредом душевнобольного. Когда старик, волнуясь, толковал про деревянного человека, Гензель был сбит с толку его напором, но теперь, когда он стал толковать про ключ от камина, ситуация сделалась очевидной.
Нет ничего удивительного в том, что почтенный шарманщик выжил из ума на старости лет. Редко кто, занимаясь геномагией, сохраняет полноценный разум — чары исподволь, год за годом, забирают все человеческое. Старик, в сущности, не виноват в своем недуге. А вот он, Гензель, дал маху, пустив его в дом. Надо было сразу за шкирку и… Не поздно ли сейчас? И одобрит ли Гретель подобные меры?
— Вот что, — сказал наконец Гензель нарочито миролюбивым тоном. — Я сейчас схожу к госпоже геноведьме и спрошу совета по вашему делу, а вы извольте ждать тут.
Папаша Арло с готовностью закивал.
— Быстрее, умоляю вас! Дело жизни и смерти! Мало ли чего он натворит с этим ключом!
— Ждите здесь, — устало попросил Гензель.
Лаборатория располагалась в подвале, и, чтобы попасть в нее, пришлось миновать грязную, обильно покрытую пылью и паутиной лестницу. Служанка наотрез отказывалась даже приближаться к обители геномагии, считая, что обратится в клопа, стоит лишь коснуться двери. Ну а сама госпожа геноведьма пыли попросту не замечала. Как и многих других вещей в окружающем мире.
Гензель предупредительно постучал в дверь и, не получив ответа, зашел.
— Сестрица!
Гензель терпеть не мог лаборатории и без существенной причины старался ее не посещать. Он не верил в то, что может превратиться в клопа, он даже знал предназначение некоторых приборов, но все равно, стоило ему оказаться здесь, в царстве булькающих сосудов и чмокающих автоклавов, пыхтящих горелок и шипящих колб, на душе становилось до крайности неуютно.
Словно оказался во рту огромного чудовища и сам не знаешь, когда его угораздит захлопнуть пасть. Кроме того, он знал, что невзрачные на вид жидкости, заточенные в сосуды разной формы и цвета, могут быть смертельными ядами или злокачественными нейроагентами, способными за минуту превратить человека в дергающийся ком бездумной протоплазмы. Тут уж позавидуешь клопу…
Здесь не имелось чучела крокодила, которое, согласно сказкам, должно висеть в жилище каждой геноведьмы, не было курительниц, источающих ядовитый запах, и летучих мышей. Напротив, здесь все было обставлено с хирургической чистотой, но именно от нее делалось как-то неуютно, точно эта стерильность пропитывала сам воздух лаборатории.
Именно в таких местах, подумалось Гензелю, и творятся самые отвратительные генетические чары. Не в подземельях, пропахших серой, а в таких вот лабораториях, где изгнан сам человеческий дух, где все бесстрастно, холодно и стерильно.
Гретель сидела на своем обычном месте, почти скрывшись за лабораторным столом. Как и следовало ожидать, его прихода она попросту не заметила. Судя по всему, с точки зрения геномага, человек не очень-то отличается от пыли под ногами. Гретель была в своем обычном халате, давно утратившем изначальный цвет и кажущемся серым на фоне ее снежно-белых волос, неровно обстриженных и собранных в небрежный пучок. Она смотрела в окуляр неизвестного Гензелю устройства, время от времени делая быстрые пометки на листе бумаги. Около дюжины пустых чашек из-под чая, хаотически размещенные на горизонтальных поверхностях, указывали на то, что госпожа геноведьма находится где-то в середине своей обычной трехдневной вахты.
Гретель была в лаборатории, но, если бы ему вздумалось сказать, что ее здесь нет, это тоже было бы правдой. Здесь находилась лишь ее оболочка, безразличная, отстраненная, холодная. Некоторый объем биологических органов и тканей, в которых протекали процессы метаболизма, не более того. Сама Гретель находилась где-то еще, отключившись от всех каналов информации и вообще от того мира, где находился Гензель. В каких мирах сейчас путешествовало ее пытливое сознание, он не хотел даже представлять.
Но все-таки он должен был попытаться.
— Сестрица!
Она даже не взглянула на него. Только рука немного дернулась, чертя уродливую, как паучья паутина, химическую формулу.
— Ужасное происшествие в Офире! — Привыкшие к мертвой тишине, беспокойно зазвенели реторты в лаборатории. — Срочно требуется помощь геноведьмы! Генномодифицированный турнепс на днях проглотил целую семью. Старика, его жену, их внучку, пса, кошку и, кажется, мышь. Говорят, это какая-то хищная мутация, которая поглощает чужую генетическую информацию, присваивая ее…
— Вздор.
Гензель улыбнулся. Кажется, госпожа геноведьма все-таки периодически возвращалась в мир живых.
— Между прочим, насчет турнепса — реальная история. Об этом недавно писали руританские газеты.
— Не читай газет, братец. Те, кто их пишет, ничего не смыслят в геномагии.
Гретель вернулась к наблюдению, тут же мгновенно забыв про присутствие Гензеля. Это получалось у нее легко и совершенно автоматически, как у аппарата, который переключается между двумя режимами работы. Режимы Гретель звались «Настоящая жизнь» и «То, что ей мешает, включая старшего брата». Первый считался основным.
— Честно говоря, я пришел не из-за турнепса. У него оказалась какая-то аллергия на мышиную генетическую культуру, и он разложился прямо на грядке. Тебе известен некий папаша Арло, что живет в южной части Вальтербурга? Старый шарманщик?
— Угу.
Ответ Гретель был равнодушен и пуст, как стерильная среда в какой-нибудь колбе, ожидающая засева бактериологической культуры. И не выражал совершенно ничего, несмотря на свой внешний позитивный окрас. Госпожа геноведьма снова отправилась в иной мир, несравненно более интересный, богатый и захватывающий, чем никчемная обитель людей.
— Он действительно с головой не в ладах?
— Угу.
— Хорошо. Тогда я вышвырну его из дома, он меня уже порядком утомил. Рвется к тебе, как безумный, и все твердит про ключ. Кажется, у него в голове вместо мозга давно плещется похлебка. Несет полный вздор. У него, видишь ли, похитили ключ. Знаешь от чего? От камина!
Он подождал реакции Гретель, но никакой реакции, конечно, не последовало. Можно было и не ждать.
— А знаешь, кто украл ключ? Мальчик-полено! Живой, наполовину деревянный мальчик. Как тебе? О таком даже в газетах не пишут.
— Угу.
— Говорят, уличные шарманщики часто сходят с ума. Какое-то там излучение от их мобильных установок… Такое бывает?
— Да.
— Даже грустно как-то смотреть на него. Выглядит до крайности жалко. Ключ, дерево, камин, приемный сын… Я сразу понял, что это бред воспаленного сознания, но выглядит этот Арло чрезвычайно убедительно, надо сказать. Это ведь чушь, правда? Про человека, сотворенного из полена? Такого ведь не бывает?
— Да, братец.
— Хорошо. — Гензель ощутил, как улетучивается беспокойство. — Все-таки придется вытолкать старика на улицу. Главное, чтобы он со своими навязчивыми бреднями к страже не сунулся. Живо упекут в богадельню и разберут на клеточный материал.
— Угу.
Гензель поспешил к двери, стараясь держаться подальше от булькающих автоклавов, похожих на сонных стальных чудовищ. У него ушло много лет, чтобы привыкнуть к их присутствию.
— Жалко дурака, — пробормотал он, смахивая повисшую в дверном проеме паутину. — Занимался бы своим ремеслом, детей смешил… А тут на старости лет ключ ему америциевый подавай…
Он уже вышел на лестницу, когда кто-то в лаборатории отрывисто сказал:
— Стой!
Гензель замер. Едва ли автоклав в силах произнести подобный звук. Впрочем, мысль о том, что произнести его могла Гретель, казалась еще менее вероятной.
— Сестрица?..
Оказывается, Гретель успела бесшумно подняться. Ее прозрачные, ничего не выражающие глаза, сами похожие на окуляры какого-то сложного бездушного прибора, теперь самым внимательным образом были устремлены на него. Наверно, от такого взгляда и превращаются в клопа. По крайней мере, Гензель сразу ощутил себя маленьким и беспомощным.
— Повтори, — потребовала она холодно.
— Жалко, говорю, старика…
— Ключ! Какой ключ?
— Да глупость какая-та. Ключ от камина. С каких пор камины на ключ запирают? Мало того, еще и америциевый…
— Цитруллинемия святого Брюхера! — выругалась Гретель. Слишком эмоционально для лабораторного прибора. Почти по-человечески. — Старик Арло? Он еще там?
— Ну да, околачивается у нас в гостиной, уже весь ковер перепачкал. А что? Хочешь тоже послушать сказку про мальчика-полено?
— Это не сказка, — сквозь зубы сказала Гретель. — Пошли к нему. Немедленно.
— Только не говори, что этот каминный ключ и в самом деле существует!
— Несомненно. Он украден?
— Если верить старику…
— Я предупреждала его, — чужим и зловещим голосом произнесла Гретель, отбрасывая со лба нечесаную прядь белых волос. — Я говорила, что эта культура, нуждается в лабораторном изучении! Что недопустимо выращивать ее дома, да еще и на правах приемного сына. Старый упрямец Арло! И ключ!..
— Да что за ключ такой? — спросил Гензель, потеряв терпение. — Вы оба друг друга стоите! Человек-полено, ключ от камина!.. С ума посходили!
— Не сейчас, братец.
И он понял — не сейчас. Судя по тому, как обеспокоилась Гретель, выволочка может и подождать.
По лестнице она поднималась неслышно, лишь шелестел за спиной лабораторный халат. Ну точно привидение, устремившееся за добычей. В этот миг Гензель не позавидовал старому шарманщику. А еще, уловив так и не растворившееся беспокойство в собственном нутре, не позавидовал и самому себе. Какое-то предчувствие подтачивало его оттуда, монотонно, как древоточец подтачивает ствол дерева. Он никогда прежде не видел сестры в таком беспокойстве. А это уже о чем-то говорило. О чем-то крайне скверном, насколько он мог судить.
Папаша Арло встрепенулся, увидев Гретель. Вскочил на длинные сухие ноги, попытался что-то сказать, но челюсть лишь беспомощно задергалась.
— Доигрались? — жестко и зло спросила его Гретель. Посеревшие глаза опасно сверкали ртутью. — Я предлагала сжечь вашего приемного сына в лабораторной печи! Вы не послушали меня. Вы пошли наперекор всем заповедям геномагии! Вы убедили меня оставить под вашим контролем неизвестный организм, не имеющий ничего общего с генетической культурой человека! Я говорила вам, что он непредсказуем! Что вырасти из него может что угодно, в том числе и хищное растение!
Папаша Арло всхлипнул, на глазах его выступили мелкие старческие слезы.
— Помилуйте, госпожа геноведьма! Виноват! Не мог предположить… Мне нужен был сын!
— Настолько нужен, что вы предпочли воспитывать генетическую химеру? — безжалостно спросила Гретель. — Кажется, теперь передумали?
— Не передумал, госпожа геноведьма. Мой Брутто — славный мальчуган. Конечно, он непослушный, немного несдержанный… Но я уверен, что сердце у него не злое.
— У него нет сердца! Он — разумное растение! Причем никто из нас не может поручиться за то, насколько разумное!
Панаша Арло стиснул зубы. Глаза его, хоть и смоченные слезами, глядели решительно.
— Он — все, что есть у бедного старика. Пусть и растение. Пусть без сердца. Но я от него не отрекаюсь. Он мне как сын. Я лишь прошу помочь!
— Конечно. Теперь, после всех моих советов и увещеваний, вам нужна помощь.
— Не мне, — тихо сказал старик. — Всем нам.
Гретель взглянула на него так, что старого шарманщика чуть не отбросило в сторону.
— Ключ, — ледяным тоном, от которого даже у Гензеля по спине пробежали колючие мурашки, произнесла она. — Где америциевый ключ?
Старик скорчился, словно ожидая удара.
— У него. У Брутто.
Гензель подумал, что Гретель вышибет из старика дух одним взглядом. Что серый блеск ее глаз, сделавшись источником невидимого излучения, выжжет из папаши Арло душу, оставив на полу, вперемешку с пылью, тлеющий скелет. Но она лишь провела по лбу узкой бледной ладонью и молча опустилась в кресло. Мгновенное превращение из человека в геноведьму. Геноведьмам не нужны эмоции. Только информация.
— Когда это случилось? — спросила она уже другим тоном, деловым и нечеловечески спокойным.
— Вчера поутру. Я обнаружил, что Брутто нет в его комнате и он не ночевал дома. Такое с ним иногда случается. В Вальтербурге слишком много местечек, способных соблазнить юношу. Ярмарка мулов, театр или какое-нибудь злачное местечко… Он и раньше иногда пропадал, я к этому привык. Иной раз, конечно, ругал его, но знаете, в глубине души… Я думаю, он не хотел меня сердить, хоть и шалил, но все же щадил мои отцовские чувства.
— До ваших чувств ему дела не больше, чем росянке до чувств барахтающейся мухи, — отрубила Гретель. — Что с ключом?
— Я всегда держал его в собственном сейфе, госпожа геноведьма. Но вчера утром обнаружил, что сейф стоит открытым, а ключа нет. Больше его взять было некому. Я забеспокоился, но решил, что это лишь шалость. Брутто, как и все мальчишки, любит умыкнуть что-то, но не от злости, а шутя. Я думаю, ему просто хотелось ощутить себя владельцем ключа, пусть и на короткий срок. Я ждал его сутки. Не мог ночью уснуть. Потом обошел все места, где он обыкновенно пропадал, но не обнаружил его. Тогда я пошел к вам.
— Ваш Брутто знает, от чего этот ключ?
— Почти с рождения, — вздохнул шарманщик. — Ему часто приходилось бывать за камином. Он помогал мне расставлять образцы, убирал пыль, занимался каталогизацией… О да, он знал, что это такое. Я же сам и рассказал ему, причем в красках. Не для того, чтобы запугать его, а чтобы он преисполнился уважения и ответственности. Возможно… Возможно, я перестарался.
— Возможно, вы доверили самое страшное оружие в Вальтербурге и во всем Гунналанде безумному растению, — раздельно произнесла Гретель. Худая, бледная и неподвижная, она сидела в кресле подобно манекену, приняв позу, которая обычному человеческому телу явно показалась бы неудобной и неестественной. — Возможно, всем нам осталось жить считаные часы. Возможно, я уже не в силах вам помочь. Достаточно «возможно» для одного раза?
Папаша Арло сложил на груди руки. Выглядел он жалким и опустошенным. Как пустой автоклав, из которого выкипело содержимое. И Гензелю вдруг показалось, что старый шарманщик ужасно несчастен. Даже не из-за того, что приходится держать ответ перед разъяренной геноведьмой, а ведь одного этого хватило бы, чтобы испачкать штаны. Из-за чего-то другого.
— Пропал не только ключ, — треснутым голосом сказал папаша Арло. — Пропало еще кое-что. Из того, что я накануне подготовил, но так и не успел перенести за камин. Пока не знаю, что именно, надо проверить опись… Но я уверен, что это прихватил Бруттино.
— Превосходно, — едко бросила Гретель, не сводя с дрожащего старика своего ртутного взгляда. — Значит, кроме америциевого ключа в руках у вашего бастарда еще кое-что. Что-то, что он вполне мог продать на черном рынке, например. Или, любопытства ради, испробовать на себе. Никто ведь толком не знает, что делается в голове у деревянных мальчишек, верно?
Старый шарманщик посерел под цвет ее лабораторного халата. Гензелю даже показалось, что он вот-вот лишится чувств прямо в гостиной, шлепнувшись на пол и окончательно испачкав пылью ковер. Но какая-то сила позволила папаше Арло остаться на ногах. Он умоляюще выставил перед собой тощие костлявые руки:
— Ради человеческого генокода, святого и нерушимого, госпожа геноведьма! Я признаю свою вину. Я тысячу раз не прав в том, что не доверился вашим предупреждениям! Я ведь не геномаг, я всего лишь уличный шарманщик, умеющий показывать грошовые фокусы.
Кажется, взгляд Гретель немного смягчился.
— Одно только то, что похитили у вас, может стать кошмаром всего Гунналанда. Но, как ни парадоксально, сейчас оно — наименьшее из наших бед. Главное — америциевый ключ. Если он окажется не в тех руках, этот кошмар мы будем вспоминать как божественное благословение!
— Я…
— Ступайте домой, папаша Арло. Хоть вы пошли против моей воли, я не откажу вам в помощи. Хотя и не уверена, что моя помощь окажется действенной. Слишком много времени упущено. Чего еще вы хотите?
Старик мялся в прихожей, силясь что-то сказать. Под взглядом Гретель он серел и комкался, напоминая вылепленный в человеческую форму мох.
— Мой мальчик… Бруттино. Найдите его, умоляю. Но не причиняйте вреда. Он дорог мне. Есть у него сердце или нет, но мы навеки связаны с ним. Если я узнаю, что с ним что-нибудь случится…
— Идите домой, — звучно сказала Гретель, даже не повернув головы в его сторону. — Составьте опись пропавшего. И караульте свой проклятый камин. У вашего деревянного бастарда есть ключ. Но кроме ключа нужно и то, что он отпирает. Закройте все двери и шлюзы, не выходите из дома, не открывайте на стук. А теперь уходите. Сейчас же.
Папаша Арло без слов выскочил за дверь. После него остались лишь россыпи пыли на ковре прихожей. Россыпи, которые Гензель некоторое время задумчиво созерцал. Гретель тоже молчала. В этом не было ничего странного — ей редко требовались слова.
Гензель вспомнил про холодную индюшку, но не сделал и шага в сторону кухни. Аппетит отчего-то пропал начисто. Словно все неприятные мысли и предчувствия оказались в желудке и теперь неспешно там переваривались.
— Я собираю наш багаж, сестрица? — спросил он громко, чтобы привлечь ее блуждающее в неведомых мирах внимание. — Если поспешим, успеем добраться через три дня в Офир — при попутном ветре. Или даже в Сильдавию.
— Что? — Ее глаза заморгали.
— Время паковать вещи. Я не знаю, что ты натворила в этот раз, но отчего-то испытываю нестерпимое желание полюбоваться шпилями Вальтербурга с предельного расстояния.
— Интересное желание, — без всякого выражения обронила она.
— Нам столько раз приходилось бежать из города в город, из одного королевства в другое, что это стало рефлексом, — пояснил Гензель. — И в этот раз, мнё чудится, уже время натягивать походные сапоги. Ну или ты можешь убедить меня в том, что я не прав.
— Ты прав, братец. Этот город в любой момент может стать крайне неудачным местом.
— Тогда чего мы ждем? Бросим дом, к которому привыкли, скарб, который заработали годами работы, привычки, которыми успели обрасти, — и бежим сломя голову к городским воротам!
Злости в его голосе было достаточно, чтобы растопить вечно окружавший Гретель лед. И на миг из-под равнодушной личины геноведьмы выглянуло совсем другое лицо — растерянной девочки, быстро моргающей большими прозрачными глазами.
— Не успеем, — сказала эта девочка, беспомощно качая головой. — Пройдет не меньше трех дней, прежде чем мы покинем королевство Гунналанд. А если ветер будет в нашу сторону…
— Хорошо. Мы остаемся. Тогда будь любезна объяснить мне, свидетелем чего я стал.
Она взглянула ему прямо в глаза. И хоть взгляд Гретель был ему знаком, тело рефлекторно дернулось. Не каждому по силам выдержать взгляд геноведьмы.
— Свидетелем глупости, братец. А еще — недальновидности, самонадеянности, тщеславия и беспринципности.
— Ого. Богатый багаж для старого шарманщика.
— При чем тут панаша Арло? Я говорю про себя. А он виновен лишь в том, что слишком человек. Это простительный грех.
Она стиснула зубы так, что Гензелю послышался скрип. Под тонкой бледной кожей возникли острые желваки.
— Вы действительно сделали это? Геноведьма и выживший из ума шарманщик? Создали получеловека-полурастение? И позволили ему жить не в лабораторной клетке, а среди людей?
— Да, — просто сказала Гретель.
Испытывают ли геноведьмы раскаяние? Гензель не знал этого. Но надеялся, что испытывают.
— Ферменты рестриктазы! — Гензель, сам того не заметив, сломал подлокотник старого кресла. — Это безответственно даже для тебя, сестрица!
— Сегодня я не совершила бы такой ошибки. Но семь лет назад…
— Зачем ты сотворила подобное существо?
Гретель пожала плечами, а губы ее на миг сложились в грустную полуусмешку.
— Потому что могла. Мне показалось это увлекательным опытом. Взять причудливое, не имеющее генетических аналогов растение и попытаться вылепить из него человека. Так, должно быть, юные боги играют с глиняными фигурками. Это сложно объяснить. Это… как вызов собственным силам. Попытка сотворить нечто столь причудливое, что оно стало бы вызовом всей человеческой природе. Он ведь даже не мул, братец. У мулов, по крайней мере, есть человеческий генетический материал, хоть и горсточка… А он — человекоподобное растение. Мыслящее дерево, заточенное в человеческую форму. Совершенно уникальный организм, единственный на свете. Продукт двух несочетаемых биологических культур.
— В королевской кунсткамере, несомненно, нашлось бы место для такого экспоната!
— Я предупреждала старика о том, что рефлексы и инстинкты подобного организма непредсказуемы, что образ его мыслей может быть нам непонятен. Но он не слушал. Он так хотел сына. А я не слушала голоса разума.
Ну конечно. Геноведьмы часто не слышат — ни людей, ни голоса разума. Гензель прошелся по испачканному ковру, без всякого смысла глядя себе под ноги. На ковре не было ничего, кроме пыльных пятен — напоминаний о папаше Арло.
— Что за ключ вы поминали все время, сестрица?
— Особый ключ папаши Арло. Корпус из экранирующего металла, а внутри америциевый сплав, период полураспада — восемь тысяч лет. Его изотопы, распадаясь, испускают особую последовательность альфа-частиц, служащую кодом для замка.
— Для какого замка? От камина?
— Да. Его камин — никакой не камин. Камин лишь нарисован на холсте. За ним располагается вход в подземное хранилище, своеобразный саркофаг. Очень хорошо защищенное и спрятанное хранилище. По счастью, достаточно хорошо забытое. Скажем так, даже слухи о его существовании знали всего несколько человек в этом городе.
— И что спрятано у старого дурака в камине? — спросил Гензель мрачно. — Коллекция вересковых трубок? Запасные подштанники?
Ему очень не хотелось задавать этот вопрос. Он помнил испуг старика и кипящую ртуть в глазах сестры. Когда геномаги выказывают такие эмоции, обычному человеку остается лишь одно — во весь опор мчаться к городским воротам и дальше, до тех пор, пока шпили Вальтербурга не скроются на горизонте. Но, кажется, для этого уже поздно.
— Ты уверен, что хочешь знать, братец? — вяло спросила Гретель.
— Нет, — честно сказал он. — Но, кажется, придется. Так что нынче хранят за каминами шарманщики, сестрица? Кажется, речь идет не о пригоршне угольков, так ведь?
— За камином в каморке папаши Арло — самая большая по эту сторону океана коллекция модифицированных вирусных инфекций и возбудителей генетических заболеваний.
Гензелю показалось, что он ослышался. Ему хотелось ослышаться. Но геноведьмы редко ошибаются. И никогда не оговариваются.
— Что-что?..
— Военные разработки и гражданские, — спокойно добавила Гретель. — Самые разные. Бубонная чума, геногерпес, черный энцефалит, неопроказа, собачья лихорадка, нейрооспа, лихорадка денге и еще тысячи разных штаммов. Некоторым сотни лет, они выведены в довоенные времена. Но есть и свежие разработки. Чьи-то неудачные опыты и злые шутки, малоизученные культуры и паразитические виды. Словом, все, что оказалось слишком опасным, чтобы существовать вне стерильной пробирки. И все, что нашел папаша Арло.
— Храни нас хиазма! — пробормотал Гензель. — Целый зоопарк безумных хищников, заточенных в пробирки!
Впервые в жизни Гензель ощутил, что бледнеет. Что кровь отливает от лица, а щеки делаются холодны, как лабораторный рефрижератор.
— Скорее, я сравнила бы эту коллекцию с арсеналом. Хищники могут и не тронуть человека, а все эти инфекции — агрессивные инструменты, причем не слепые, а нацеленные исключительно на человеческий генный материал. Если кому-то вздумается выпустить на свободу хотя бы малую их часть… Разбить хотя бы одну пробирку, пролив ее содержимое…
— Можешь не продолжать, — буркнул Гензель. Он никогда не считал, что обладает богатым воображением, но в этот момент представил картину, от которой его бросило в ледяной малярийный пот.
— Генетическая инфекция распространится почти мгновенно. Через воздух, воду, кровь и черт знает что еще. Мгновенно окутает город, намертво вцепившись во всякого, в ком есть хотя бы щепотка человеческого генокода. И городские стены ее не остановят. Даже одна разбитая пробирка может втрое уменьшить население королевства. А в саркофаге за фальшивым камином их тысячи. Тысячи склянок, Гензель. Представь, что будет, если они по какой-то причине разобьются все вместе.
Гензель представил.
— Город погибнет?
Возможно, не только город, но и весь Гунналанд, — отстраненно сказала Гретель. — И страшной, тяжелой смертью. Все, что было до этого, может показаться детскими шалостями, все эти генные бомбы, веками неконтролируемая модификация генокода, поколения генетических болезней и противоестественных опытов… В Вальтербурге распахнутся врата в ад, братец. Настоящий ад с чадящими котлами, полными генетической отравы. Вырвавшиеся на свободу генетические болезни мгновенно распространятся по округе и начнут пир. Одновременно. С равным удовольствием они будут пожирать и генофонд, и фенотип. Жизни еще не родившихся детей и наши собственные.
— Стая опьяненных кровью шакалов, — пробормотал Гензель. Кажется, ноги его мгновенно ослабли, сделавшись немощными, как у старого шарманщика. — И все на свободе.
— Пусть будут шакалы. Они растерзают все, до чего смогут добраться. Наш генофонд, и так искалеченный бесчисленными эпидемиями и войнами, превратится в кровавую кашу. Уцелевшие генетические цепочки разлетятся в труху. Все сложные последовательности будут вывернуты наизнанку. И Гунналанд исчезнет. Превратится в лужу кипящей протоплазмы, в которой плавают головастики, чьи родители еще отчасти были людьми. Сотни объединенных генетических болезней, Гензель. Одновременно.
— Можно утешаться, что мы едва ли это увидим, — пробормотал он.
— Не увидим. Они накинутся на нас, как бактерии — на питательный бульон. Чтобы пожирать и перестраивать последовательность наших хромосом и клеток — каждая на свой вкус.
— Это как… Как если бы десять пьяных кузнецов пытались выковать один гвоздь?
Слабая улыбка Гретель показала, что она оценила сравнение.
— Как если бы эволюция сошла с ума и сожрала собственное потомство в попытке вылепить из него что-то новое. Миллионы процессов одновременно. Миллионы безумных, непредсказуемых, хаотичных мутаций в каждой клетке.
— Значит, процесс непредсказуем? — осторожно осведомился Гензель.
— Слишком хорошо предсказуем его финал. Когда геномаг смешивает без всякого разбора множество различных веществ в одной пробирке, рано или поздно у него получится совершенно бесполезный раствор, который годен лишь на то, чтобы выплеснуть его в утилизатор. Через несколько минут после начала эпидемии мы все превратимся в такой раствор. В разлитую биомассу, полную искалеченных, мутировавших и уничтоженных клеток. Если нам повезет, останемся существовать, но в виде головастиков, барахтающихся в этой жиже.
Еще минуту назад Гензелю хотелось выскочить на улицу, догнать шарманщика и оторвать его пустую седую голову от тощего костлявого тела. Но сказанное сестрой мгновенно опустошило его, оставив пульсировать в жилах вместо горячей крови бесцветный и холодный физраствор.
— Не слишком ли богатый арсенал для старого бедного шарманщика? — только и смог выдавить он. — Ведь он, считай, сидел на грудах золота!
Гретель безучастно пожала плечами.
— Не все собрано его руками, были и предшественники, предыдущие хранители саркофага. Они постарались на славу. Но и он преумножил коллекцию. Кое-что отбирал у больных смертельно опасными болезнями, что-то вырезал из начинки неразорвавшихся генобомб. А еще — результаты неудачных селекций и прочий лабораторный мусор…
— Он не думал, что безопаснее собирать марки? — зло бросил Гензель.
— Он думал, что делает это во благо, — произнесла Гретель, не переменяя неудобной позы, точно вросла в кресло. — Изолирует от общества то, что способно его уничтожить. Но, думаю, со временем это превратилось в его тайную страсть. Что-то вроде страсти коллекционера. Он с упоением рассказывал о новых образцах, сам возился со склянками, составлял описи… В жизни старого шарманщика, если разобраться, не так уж много развлечений.
— Почему он не додумался уничтожить всю свою дьявольскую коллекцию?
— Не мог, — просто ответила Гретель. — Слишком сложные культуры, с которыми никто не хотел рисковать. Комбинированные генетические вирусы и прочие вещи. Никогда нет гарантии, что уничтожишь весь штамм, что какой-то его крошечный фрагмент не уцелеет и не выберется на свободу, незаметно прицепившись к чьей-то хромосоме. Даже я не взялась бы гарантированно уничтожить все его запасы. Папаша Арло стал заложником собственной коллекции. Ни уничтожить, ни продать, ни использовать… Я думаю, он прочил своего Бруттино в продолжатели рода.
— Мог бы пожертвовать все это королю Гунналанда…
Под насмешливым взглядом Гретель Гензель осекся.
— И что бы тот с ней сделал?
— Какая…
— Он не хотел передавать генетическое оружие любому, кто может его использовать во вред своему биологическому виду. Герцоги, бароны и графы поколениями изводили друг друга искусственными генетическими проклятиями и ядами. Где гарантия, что его величество, заполучив подобную возможность, не вздумает поиграть теми же игрушками?..
Гензелю пришлось признать, что Гретель права. Геноведьмы всегда правы — это одна из тех черт, что мешают им общаться с нормальными людьми.
— Подведем итог, сестрица. За камином у старого шарманщика находится ад. А ключ от ада — у сбежавшего человека-растения.
Гретель выразила согласие простым кивком.
— Не только ключ. Он прихватил с собой несколько пробирок из коллекции. Так что по Вальтербургу в прямом смысле слова разгуливает живая бомба, нашпигованная генетической шрапнелью.
Некоторое время они оба молча разглядывали испятнанный ковер.
— Я не хочу быть головастиком, сестрица.
— И я, братец. Наверно, ужасно неудобно включать микроскоп, когда ты головастик.
— Значит, нам надо поймать это полено, пока оно не уничтожило город. Знать бы еще, что у него на уме!
— Здесь я ничем не могу тебе помочь. — Гретель стиснула губы. — Я наблюдала за развитием этого существа лишь первые несколько месяцев, когда его органы только формировались. Я не знаю, как оно мыслит, не знаю, как оно чувствует, не знаю, какие инстинкты достались ему по наследству. Проще говоря, я не знаю о нем ровным счетом ничего.
Гензель хотел было съязвить на этот счет, но не стал. Совершенно бессмысленно было испытывать терпение Гретель и корить ее за сделанную много лет назад ошибку. Тем более что она едва ли была способна испытывать муки совести.
— Хорошо… — пробормотал он. — Хорошо… Может, все не так скверно, как нам кажется на первый взгляд? Если верить папаше Арло, этот Бруттино — малый наглый и хитрый, но, кажется, не очень-то жесток? Вспыльчив, импульсивен — у подростков это встречается. Видимо, как у тех, что созданы из плоти и крови, так и у деревянных. Допустим, он просто выкрал ключ с пробирками, чтобы покрасоваться перед приятелями. А спустя день вернет их приемному отцу…
— Или же продаст на черном рынке и то и другое, — безжалостно сказала Гретель. — Подростки падки на золото и редко любят влачить существование подмастерья бедного шарманщика. То, что нам кажется вратами ада, Бруттино может видеться горой золота. И так оно, в сущности, и есть. Прошли уже сутки. Возможно, наш деревянный человек сидит сейчас в какой-нибудь таверне и торгуется за америциевый ключ. И всем нам остались считаные минуты.
Гензель молча принялся одеваться.
Натянул на ноги потертые кожаные ботфорты, поверх камзола набросил уличный плащ, тяжелый, едко пахнущий, серый от бесчисленных кислотных дождей. Но самое главное хранилось в закрытом сундуке. Который уже очень долго не отпирался, судя по жалобному скрипу медных петель. Однако на его содержимом бездеятельность не сказалась. Заботливо пропитанный маслом и переложенный ветошью металл радостно сверкнул полированной поверхностью, почувствовав властную руку хозяина. В сундуке находилось то, чему Гензель безоговорочно привык доверять даже в мире, полном генетических чар и невидимых опасностей. Кое-что настолько реальное и зримое, что ничего реальнее и зримее попросту не существовало.
Если что-то не подвержено тлетворной генетической деформации, так это металл.
— Слишком поздно для прогулки, — заметила Гретель, наблюдая за тем, как он проверяет курки мушкета и загоняет в стволы свежие сухие пыжи. — Уже темнеет.
— Тем лучше. Некоторые вещи проще находить в темноте. Правда, до сих пор я слышал это от охотников, а не от дровосеков…
Он даже не заметил, как Гретель покинула кресло и оказалась на его пути — маленькая худая фигурка с белыми волосами, в лабораторном халате.
— Братец, — произнесла она с непонятным выражением лица.
— Чего?
— Тебе не стоит искать Бруттино ночью в городе. И одному.
— Вот еще! — Он усмехнулся, обнажив полный набор акульих зубов. С годами они потеряли былой блеск, но все еще способны были впечатлить.
— Вальтербург опасен.
— Не больше, чем обычно. — Ему оставалось лишь пожать плечами. — Что изменилось?
Он слишком поздно вспомнил, что геноведьмам незнаком такт, как и представления о вежливости, принятые среди людей.
— Ты изменился, — безжалостно произнесла она.
Она была права. Но он сделал вид, что удивлен.
— Неужели я выгляжу беспомощным стариком?
— Тебе тридцать пять лет. Это значительный срок для твоего организма.
— Неужели я уже слишком слаб даже для небольшой прогулки?
Она никак не отреагировала на шутку.
— Твои физические показатели уже не те, что в молодости. Мышечный тонус, скорость реакции нервной системы, выносливость… Тебе надо беречь свое тело.
В чьих-нибудь устах это звучало бы заботливо и даже трогательно. Но Гретель плохо владела человеческими интонациями, чаще всего обходясь без них. От нее это прозвучало сухим предупреждением. И Гензель задумался, как задумывался уже сотни раз за последние годы: что испытывает сейчас его сестра? Колеблются ли внутри нее какие-то жилки или ее предупреждение — не более чем забота о ценном приборе, который стоит поберечь на будущее?
— Буду беречь, — сказал Гензель серьезно, но на пороге все же подмигнул ей. — Я — старая хитрая акула, сестрица, а старых акул не так-то просто сожрать.
Когда он вернулся, рассвет уже превращался в день. Грязно-серые потеки на небе быстро таяли. Остатки ночи, будто растворенные в концентрированной солнечной кислоте, стекали за крыши домов. Гензель чувствовал себя как уставший уличный кот, возвращающийся после долгой гулянки. Ломило от непривычной нагрузки спину, гудели утомленные уличной брусчаткой колени, а ночная сырость до сих пор оставалась в легких, сотрясая их время от времени кашлем.
«А ведь когда-то это было не сложнее легкой прогулки, — подумал он, поднимаясь на крыльцо. — Досадно. Слишком много прожитых лет за плечами. Гретель права. Мое тело, надежный и не знающий сбоев механизм, тоже постепенно ветшает. И заплатки на него не поставить».
В прихожей он надеялся почувствовать доносящиеся с кухни ароматы кофе и мяса, но различил только запах сухой домашней пыли. Кажется, печку сегодня вовсе не растапливали. Спустя несколько секунд он понял отчего.
Судя по всему, кухарка попросту не решилась войти в дом, обнаружив в гостиной неподвижно сидящую в кресле фигуру, уставившуюся невидящим взглядом в пустоту. Обслуга всегда ужасно пугалась, обнаружив госпожу геноведьму где-нибудь за пределами ее лаборатории. Настолько, что предпочитала вовсе не попадаться ей на глаза.
Взгляд Гретель мгновенно сделался осмысленным, стоило Гензелю войти в комнату. Сейчас он был не блестящим, как накануне, а матовым, равнодушным. Ложилась ли она спать этой ночью? Гензель в этом сомневался.
— Ты поздно. Я беспокоилась за тебя, братец.
— Даже больше, чем за нестерильную пробирку?
Геноведьмы не обладают умением изображать укоризну, используя лишь взгляд и мимические мышцы, но Гретель каким-то образом удалась достаточно точная ее эмуляция. Гензель рухнул в кресло без подлокотника, едва не раздавив его, и стал сдирать с себя отсыревшую уличную одежду.
— Дьявольская ночь, — пожаловался он. — Я уже стал забывать, насколько выматывает ночная охота. Как только мы поймаем деревянного человека, я нарежу из него пуговиц! Нет, лучше вырежу трость…
— У него очень прочная эктодермическая оболочка.
— …А стружку использую для кошачьего туалета!
Гретель молча наблюдала за тем, как он швыряет на пол плащ.
— Ты не нашел его.
— Удивительно точное, логичное и уместное наблюдение, — проворчал Гензель, вытирая с лица колючую ночную морось. — Которого я определенно не могу опровергнуть. Как видишь, я с пустыми руками.
Гретель молчала. Если ей и хотелось что-то спросить, внешне это никак не проявлялось. Гензель вздохнул. Он знал, что ему в любом случае придется все рассказать, с вопросами или без.
— Во времена моей молодости ночные прогулки доставляли большее удовольствие, — пробормотал он, растирая ноющие колени. Впрочем, жаловались не только они. Жаловалось все тело. Когда-то сильное и выносливое, теперь оно ощущалось тряпкой, которую вывесили на ночь за окно и лишь теперь вернули в дом — измочаленную, вымокшую, грязную.
«Акула и в самом деле постарела, — подумал он с каким-то брезгливым удивлением. — Только отказывается признаться в этом даже себе. Упрямая такая акула, глупая… Прочие рыбы по привычке сторонятся ее, потому что в ее пасти еще полно зубов, но мало кто знает, что она уже не представляет былой опасности. Страх перед ней основан лишь на привычке. Но рано или поздно найдется кто-то, кто попытается испытать хладнокровного океанского хищника на прочность. И победит. А потом…»
У акул, вспомнилось Гензелю, нет воздушного пузыря. Умирая, они не всплывают к поверхности кверху брюхом, как обычные рыбы, а тихо погружаются в непроглядные океанские глубины, к самому дну. Он машинально задумался о том, сколько до дна осталось ему самому.
— Гензель.
— Прости, задумался. — Он скрыл свое замешательство смущенным смешком. — Нет, я не видел Бруттино этой ночью.
— Но что-то нашел? — неопределенно спросила Гретель.
— С каждым днем нахожу, что Вальтербург делается все опаснее и грязнее. А может, это его обитатели делаются все страшнее и уродливее с каждым поколением. Семь лет назад мулов было куда меньше, а сейчас ими кишат улицы. Многоголовые, с экзоскелетом или перьями, паукообразные, похожие на слизней… Удивительно, какая только дрянь не липнет к человеческому генокоду. Рыбьи тела с выпирающими щупальцами, тысячеглазые чудовища, больше похожие на сороконожек, чем на людей. Что творится со здешним генофондом?..
— Он умирает, — равнодушно сказала Гретель. — Неуклонно вырождается. И нам лучше поторопиться, если мы хотим, чтобы было чему вырождаться.
— Да, — сказал Гензель, массируя виски. — Я помню. Головастики.
— Угу.
— Этой ночью я обошел добрую половину города. И не лучшую его половину. Знаешь, в молодости это отчего-то казалось забавным и не столь утомительным. Одним словом, я посетил множество мест, где квартерону лучше не появляться. Но куда вполне может заглянуть шляющийся безо всякой цели бездомный деревянный мальчишка. Первым делом навестил бордели. Начал с самых чистых, где шлюхи вполне похожи на женщин, особенно при неярком освещении, до самых паскудных и дешевых. Знаешь, где в моде по несколько вагин на одно тело или обслуга вовсе представляет собой амеб неопределенного пола… Мне казалось, молодежь любит такие места. Но не наш Бруттино. Интересно, какая у него система воспроизведения? Может, он равнодушен к женщинам?
— Не знаю, — только и сказала Гретель. — У меня остались лишь старые образцы, по которым непросто определить свойства его теперешнего повзрослевшего организма.
— Надеюсь, он размножается не опылением… — пробормотал Гензель. — Тогда в этом городе прибавится проблем… Ладно. В общем, в борделях его нет. Я платил за расспросы щедрее, чем многие постоянные клиенты, но толком ничего не разнюхал.
— Помни, что его влекут не человеческие инстинкты, — напомнила Гретель. — Мы не знаем его устремлений и образа мыслей. И желания его могут не совпадать с обычными человеческими. Все желания, не только по части размножения.
— Выпить, набить брюхо и впрыснуть свой генетический материал в первый попавшийся генофонд — вот и все желания обитателей этого города, вне зависимости от того, из какого они материала… — уверенно сказал Гензель. — Поверь, это извечная часть нашей природы, которая не подвержена никаким мутациям.
— Ты ворчишь, как старый цверг.
— Имею на то право. Это ведь я целую ночь шатался по местам, куда королевские гвардейцы и днем стараются не заходить.
— В таком случае, надеюсь, твое любопытство распространялось не только на бордели.
Гензель уставился на сестру с выражением преувеличенного удивления.
— Великая плазмогамия, Гретель, ты здорова? Мне показалось, я услышал сарказм!
— Исключено, — нарочито сухо отозвалась сестра. — За сарказм в моем случае отвечает рецессивный ген. Продолжай, пожалуйста, я постараюсь не мешать.
— Я был во многих местах. В грязных тавернах, где вместо мяса подают искусственно выращенные опухоли. В подпольных генетических лекарнях, где пациентов терзают примитивными инструментами, отрезая им клешни и клювы в попытке хоть немного приблизить их фенотип к человеческому. В притонах, где собирается чернь, которую изгоняют даже собратья-мулы. Проще говоря, я облазил все сточные канавы Вальтербурга. Все те места, куда стягиваются отверженные существа, не имеющие ни денег, ни крыши над головой. Деревянный человек должен был появиться в одном из них.
— Но не появился.
Гензель развел руками.
— Или у него и в самом деле специфические вкусы по части достопримечательностей Вальтербурга, или он слишком незаметен. В любом случае на мое желание щедро заплатить за информацию о разумном дереве толковых предложений не последовало. Впрочем, за ночь я получил три предложения расстаться с кошелем. Недопонимание рыночных отношений в этом городе, кажется, имеет глубокие корни…
Гретель приподняла бровь:
— Надеюсь, ты избежал невыгодного вложения капитала?
— Вполне, — заметил Гензель, опуская мушкет в сундук, на прежнее место. — Как и в старые времена, платить свинцом зачастую надежнее, чем золотом. Древнее рыночное правило. Хоть что-то не меняется с годами…
— Значит, никаких следов?
— Нет самого деревянного вора. А следы его есть. И я бы уже давно рассказал, если бы ты меня не перебивала.
— Извини.
— Прежде всего я хорошенько расспросил об этом Бруттино на улицах. Улицы Вальтербурга многое знают. Иногда даже кажется, что они сложены не из камня, а из молекул ДНК, так много информации в них застревает. Надо лишь уметь ее выуживать.
— Переходи к сути, братец!
Гензель мысленно ухмыльнулся. Оказывается, и у геноведьм есть предел терпения.
— А суть в том, что наш сорванец достаточно известен на городском дне. И, уверяю тебя, папа Арло был бы потрясен, узнав, какая репутация водится за его деревянным отпрыском. Может, дома, в мастерской, он умел выглядеть мальчишкой. Развязным, балованным, дерзким, но все-таки мальчишкой. Улицы знают его другим.
— Каким же?
— Уж точно не юным подмастерьем шарманщика. Наш Брутто сумел показать себя. Он шакал. Мелкий уличный хищник, промышляющий обычно по ночам и в одиночку. Грабежи, кражи, налеты на ремесленные лавки, похищение генетических материалов. В принципе ничего удивительного, улицы кишат такими. Но у него уже в столь юном возрасте имеется определенная репутация. Догадываешься какая?
— Не хочу гадать. Я оперирую фактами, а не допущениями.
— Говорят, он бездушен даже по здешним меркам. Настоящий малолетний садист. Запросто мог оторвать ухо вместе с серьгой или палец с понравившимся кольцом. Судя по всему, чужая боль его забавляет. Но не пьянит. Он всегда действует крайне уверенно, расчетливо и дерзко.
— Я не удивлена этому, братец. Помни, кто был его родителем. Обращаем ли мы внимание на боль дерева, от которого отломали ветку? Бруттино едва ли испытывает сожаление, причиняя боль представителям иного биологического вида. Мы для него чужие. А он всегда будет чужим для нас. Флоре и фауне никогда не договориться друг с другом, даже когда они мимикрируют друг под друга, копируя отдельные признаки. Бруттино был рожден деревом. Это его природа.
— Лучше бы ты создала его из какого-нибудь цветка, — укоризненно заметил Гензель. — Было бы меньше беспокойства.
Но Гретель не собиралась тратить времени на сантименты.
— Что еще ты узнал? — спросила она прямо.
— Что он — тот сорт дерева, с которым лучше не связываться. Помимо прочего, он успел заслужить славу крайне опасного противника. Говорят, в драке он делается страшен. А в Вальтербурге такую славу не так-то просто заслужить… Природная нечувствительность к боли, очень прочный эпидермис и садистские наклонности. Идеальный набор, чтобы получить репутацию бездушного ублюдка, с которым лучше не связываться. Думаю, года через два-три его имя уже будет общеизвестно. Слишком уж серьезны задатки. Поговаривают, однажды в «Безногой рыбе», портовой таверне, один старый разбойник сделал Бруттино замечание. Мол, мальчишкам, даже деревянным, лучше сидеть в школе, а не ошиваться на улицах. Все остальное произошло в секунду. Бруттино набросился на него, впился деревянными руками в тело и в буквальном смысле вывернул бедолагу наизнанку.
— Впечатляет, — согласилась Гретель с равнодушным лицом.
Гензель нахмурился.
— Даже чересчур. Он обладает прекрасной реакцией и невероятной силой. Я бы даже сказал, нечеловеческой, но это и так очевидно.
— Он — растение. У него нет мышечных волокон, его метаболизм имеет мало общего с нашим. Древесина куда прочнее человеческой плоти.
— А еще — бездушнее. У всех, кто о нем слышал, сложилось впечатление, что мальчишка вырастет в первостатейного головореза. Ему чужда жалость, он не ведает неуверенности. И никто не знает, что может из него вырасти.
— Ничего из него не вырастет, — уверенно сказала Гретель. — Пока тебя не было, я проверила некоторые старые образцы тех времен, когда мы возились с папашей Арло. Еще в пять лет культура «Бруттино», назовем ее так, достигает своих предельных жизненных показателей. Он больше не будет развиваться. Это был страховочный механизм, который я заложила в нем изначально. Не так уж безрассудны геноведьмы, как ты считаешь, братец.
— Считай, ты сняла тяжелый камень с моих трещащих старых плеч. Значит, он не превратится в исполинский дуб пятиметровой высоты, способный выкорчевывать дома?
— Нет. В семь лет он должен был достичь пика своего физического развития.
— Ну а дальше?
— Не знаю. Скорее всего, таким он и останется. Я не программировала длительность жизненного цикла, лишь купировала его развитие на определенном этапе. Вполне возможно, он проживет еще столетия.
— Вечный мальчишка?
— Не мальчишка. Не дай обмануть себя его внешности и возрасту. Вечно голодное и злое растение, оказавшееся вплетенным в чужой для него мир теплокровных млекопитающих. Судя по тому, что ты рассказываешь, Бруттино уже начал это осознавать. Свою инородность и чуждость всему окружающему. Едва ли его можно считать мальчишкой, братец. Теперь это самостоятельный хищник, лишенный многих человеческих качеств. Новый и агрессивный биологический вид, желания которого нам, как и прежде, неизвестны.
— Ну, желание золота явно у него наличествует, — пробормотал Гензель. — Иначе он не занимался бы грабежами. Хотя едва ли золото требуется растению для обмена веществ.
— Ты проверил подпольные рынки генетических зелий? Не исключено, что он попытается продать там что-то из отцовского капитала.
— Проверил почти все в городе. Но там Бруттино не видели. Остается предположить, что либо он слишком осторожен, чтобы светиться в таких местах, да еще и с ценным товаром, либо…
— Либо у него свои планы на эти пробирки, и заключаются они не в продаже, — закончила за него Гретель, явственно помрачнев лицом. — Кстати, пока ты гулял по городу, папаша Арло проверил свою опись и сказал, что именно пропало.
— Дай угадаю. Возбудитель коклюша?
Гретель не улыбнулась.
— Нет. Пять крайне опасных вирусных культур. Все обладают способностью к генетической ассимиляции, все могут стать причиной потенциальной эпидемии. Очень плохие вещи. Хотя они покажутся детской шалостью, если кто-то получит доступ к фальшивому камину и всем его сокровищам.
Молчание, воцарившееся в гостиной после этих слов, показалось Гензелю тяжелым и удушливым. Словно какая-то невидимая химическая реакция заменила все атомы кислорода иным химическим элементом, совершенно не годящимся для насыщения легких. В этом молчании они сидели несколько минут, не встречаясь глазами. Наконец Гензель прочистил горло.
— Кхм… Слушай, сестрица…
— Слушаю.
— Мне кажется, мы очень стеснены во времени. А проще говоря, времени у нас и нет.
Геноведьма качнула головой.
— Я тоже так считаю. Пока пробирки и ключ остаются в руках Бруттино, катастрофа может произойти в любую минуту. Очень сложно прогнозировать действия существа, логики и чувств которого мы не понимаем.
— Значит, мы вынуждены действовать сообразно моменту, решительно и жестко.
Прозрачные глаза геноведьмы, сереющие в моменты наибольшей сосредоточенности, уставились на него с несвойственным им любопытством.
— Кажется, ты что-то задумал, братец. Не уверена, будто знаю, что именно, но…
«Ей это не понравится», — подумал Гензель, делая вид, что подбирает слова.
— Глупо надеяться, что я смогу в одиночку найти деревянного разбойника. Город слишком велик, даже если шарить по самому его дну. Я думал, что смогу перехватить Бруттино сам. Пусть я не молод, зато имею немалый опыт и хорошо знаю здешние места, он же всего лишь мальчишка. Но он хитрее, чем я думал. Теперь я оцениваю свои шансы куда скромнее. Более того, допускаю, что могу целую неделю бродить по Вальтербургу и так и не нападу на свежий след. Позволительно ли в такой ситуации рисковать и терять драгоценное время?
Гретель нахмурилась.
— Ты заходишь осторожно и издалека. Значит, собираешься предложить что-то, с чем я, скорее всего, не буду согласна. Проще говоря, прощупываешь почву.
Гензель швырнул снятый ботфорт на пол вслед за плащом. На ковре все еще оставались пятна пыли — напоминание о беспокойном визите папаши Арло.
— Я и забыл про твою проницательность. Да, я как раз собирался предложить сделать кое-что. Немного дерзкое, немного рискованное, но в свете наших обстоятельств вполне разумное. Впрочем, ты все равно удивишься.
— Что же?
— Торговцы называют это перепоручением обязательств третьему лицу.
— Ах так…
По ее виду невозможно было понять, догадалась ли она о сути его предложения. Вполне возможно, что уже начала догадываться. Гензель с хрустом пощелкал суставами пальцев, ощущая себя неловко.
— Я могу перекусить человека пополам, но из меня неважная ищейка. Здесь нужны другие качества, которых у меня никогда не будет, — скорость, нюх и особенное чувство города, я же вынужден бродить с завязанными глазами. Я не профессионал в деле поиска. Значит, нам нужны профессионалы. Логично?
Гретель закусила губу, взгляд ее на несколько мгновений расфокусировался.
— Я не всегда ориентируюсь в том, что ты привык называть логикой, братец. Профессионалы в поиске деревянных мальчиков?
— Людей. И у меня есть кое-кто на примете. Специалисты, которые смогут решить нашу проблему в короткий срок.
— Отчего-то мне кажется, что это неприятные люди.
— Ох, сестрица, ты даже не представляешь, сколько неприятных людей я успел узнать в этом городе. Увы, неприятная ситуация требует вмешательства неприятных людей.
— И кто это? Какие-нибудь наемные убийцы?
— Тебе приходилось слышать что-то о «Театре плачущих кукол» господина Варравы? — ответил он вопросом на вопрос.
И совершенно не удивился, когда Гретель ответила:
— Не уверена. Я редко посещаю театры, если ты заметил.
— От театра у этого заведения ничего и нет, если… если не считать сцены. По своей сути это крысиная яма, Гретель. Там опустившиеся городские мулы рвут друг другу глотки. А благодарный зритель награждает их аплодисментами. Говорят, кстати, популярное развлечение у высокой публики, среди завзятых театралов встречаются октороны и даже седецимионы. Инкогнито, разумеется.
— Чего общего это имеет с театром?
— Долго объяснять. И не уверен, что у меня есть желание. Да и к разговору это не относится. В общем, схема проста как мир. Одни люди убивают друг друга, а другие платят за это деньги.
Гретель кивнула — то ли машинально, то ли давала ему знак, что все поняла и вопросов не последует.
— Должно быть, непросто найти желающих выступить на сцене.
— В театре Варравы бойцов называют куклами. И не случайно. Ты когда-нибудь слышала, чтобы мнения куклы кто-то спрашивал? Куклами становятся не по своей воле. Люди Варравы денно и нощно рыщут по улицам, выискивая тех, чьи таланты могут раскрыться на сцене. Проще говоря, хладнокровных головорезов всех мастей. После чего обманом или подкупом затягивают их в труппу. Часто, когда клиент отличается упрямством, не чураются и силой.
— Мне уже не нравится этот театр, — решила Гретель, тряхнув волосами.
— Между прочим, очень известное и респектабельное заведение. И так случилось, что я лично знаком с его директором, уважаемым господином, которого зовут Карраб Варрава.
Гретель поморщилась. Как если бы во рту у нее оказался несвежий кусок пищи.
— Не имела удовольствия познакомиться с ним.
— Все удовольствие с лихвой досталось мне, — криво усмехнулся Гензель. — Он заведует «Театром плачущих кукол». Его бессменный директор, режиссер и антрепренер.
— Я начинаю догадываться, к чему ты ведешь, братец. Но лучше скажи сам.
Гензель вдохнул.
— Агенты Варравы имеют множество ушей и скользких щупалец. Они отлично умеют выслеживать дичь и как никто ориентируются в городе. Профессиональные охотники за живым товаром. Их интересуют все достаточно сильные и уродливые мулы города.
— Диминуция хроматина! — выругалась Гретель. В ее устах даже самые черные ругательства звучали блекло и невыразительно, как-то профессионально. — Ты хочешь, чтобы люди Варравы нашли для нас Бруттино?
— Не для нас. Для себя. Нам нужны специалисты — они лучшие специалисты в городе.
— Они работорговцы.
Гензель досадливо щелкнул пальцами.
— Можно подумать, наш Бруттино — милый домашний мальчик! Он грабитель и убийца. И едва ли совесть будет глодать меня до конца моих дней, если я натравлю на него ловчих Варравы. А я уверен, что Варрава проявит интерес к подающему надежды мальчишке. Ему нравятся такие. Молодые, дерзкие, хищные, лишенные жалости, из таких получаются наилучшие куклы для его театра. Более того, он сможет сделать там неплохую карьеру. Я слышал, некоторые куклы, годами работающие в театре, становятся любимцами публики и пользуются немалой славой…
— Уверена, Бруттино будет очень благодарен тебе и Варраве за подобную карьеру, — пробормотала Гретель.
— Мне плевать на обоих. Меня интересует не деревянный паскудник, а то, что у него в карманах, — ключ и пробирки. И я получу их, даже если для этого придется обращаться к старому пауку вроде Варравы. Я просто свяжусь с ним и сообщу о подающем надежды юном даровании, которое отлично будет смотреться на сцене его театра. А взамен попрошу все то, что при нем окажется. Ключ и пробирки. Разумная сделка — обе стороны в выгоде.
Гретель некоторое время думала, бессмысленно теребя ворот халата.
— Это плохой план, — наконец сказала она.
— Вот уж не думал, что геноведьм мучает совесть! — не выдержал Гензель. Поднявшись, он сделал несколько коротких раздраженных шагов по комнате. — Да, согласен, объявлять охоту на мальчишку, пусть и деревянного, да еще и для того, чтобы он до конца своих дней забавлял толпу, пуская кровь на сцене, — дрянное дело. Но взглянем правде в глаза — есть ли у нас альтернатива?
Прозрачно-серые, как рассвет, глаза геноведьмы быстро заставили его остановиться, обдав легким и не совсем приятным холодком.
— Меня мучает не голос совести, братец, а голос разума. Выбранный тобой способ кажется мне… ненадежным. Сейчас пробирки и ключ находятся в руках деревянного мальчишки. Но если его поймают люди Варравы и отправят в театр, это значит, что пробирки и ключ окажутся у их владельца. Ты уверен, что ему можно доверять?
Ну конечно. Ему следовало бы догадаться, что Гретель совершенно равнодушна к тому, что люди называют моралью, да и к деревянному мальчишке тоже. Она мыслила рационально и последовательно, руководствуясь лишь целесообразностью и вероятностью, но никак не человеческими чувствами.
Возможно, из-за этого разговор с Гретель часто вызывал у Гензеля необъяснимый, странный осадок вроде той мути, что остается в лабораторной посуде после опытов. Даже спустя многие годы он так и не привык в полной мере к тому, что его сестра — геноведьма, существо куда более сложное, равнодушное и циничное, чем любой человек.
Он заставил себя непринужденно рассмеяться.
— Можно ли верить Варраве? Не больше, чем голодной ядовитой змее, которая висит на твоей шее.
— Но ты готов по доброй воле отдать в его распоряжение ключ?
— Придется рискнуть. Однако не беспокойся. Господин Варрава — рабовладелец, плут, интриган и убийца, но он не геномаг. Его не интересуют пробирки и уж подавно не интересуют непонятные старые ключи. Он владелец театра, и главная его забота — поиск новых кукол. Все остальное его не касается.
Гретель упрямо дернула подбородком. Подбородок был маленьким, острым, бледным, но отчего-то очень весомым.
— Этот план кажется мне рискованным.
— Но лучшего у тебя нет?
Гретель вновь стала крутить тонкими пальцами прядь белых волос.
— Нет, — сказала она, — лучшего нет.
— Тогда принеси с кухни вино — и выпьем за новую звезду «Театра плачущих кукол». Думаю, наш Бруттино понравится публике. Публика любит необычных мулов на арене. Обычные слишком быстро приедаются. Если он настолько живуч, как мне говорили, может, выдержит даже целый сезон!
Гретель принесла с кухни винную бутыль, но лишь с одним стаканом.
— Нет времени на вино, — пояснила она спокойно. — Вернусь в лабораторию. Может, удастся установить хоть что-нибудь исходя из образцов древесины семилетней давности.
— Не уверен, что это нам пригодится, — заметил Гензель, придвигая к себе бутыль. — А вот что нам точно понадобится — так это перо и бумага. Сейчас же напишу письмо господину Варраве. Не пройдет и двадцати четырех часов, как у нас будут добрые новости. Я чувствую это.
Гензель придвинул к себе писчие принадлежности и задумался. Первые несколько слов дались ему тяжело, зато дальше перо скрипело само собой.
К началу вечернего представления «Театр плачущих кукол» был набит под завязку. Настолько, что Гензелю и Гретель пришлось потратить не меньше четверти часа, чтобы занять свои места в зрительской ложе. Гензелю дважды пришлось улыбаться недоброй акульей улыбкой, прежде чем им очистили путь. Служащий театра в багряной ливрее, вполне человекоподобный квартерон, если не считать вросшей под подбородком третьей кисти, уважительно кивнул, увидев золоченые корешки билетов.
— Прошу вас, занимайте свои места.
Вид на сцену открывался и в самом деле отличный, дощатая полукруглая арена была под ними как на ладони. Перед началом представления ее посыпали свежими опилками, глядя на которые Гензеля подмывало отпустить циничный каламбур. Для Бруттино выступать на такой сцене, должно быть, равносильно прогулке по мостовой из человечьих костей.
Тяжелый бархатный занавес скрывал все, что происходило в глубине сцены, но Гензелю казалось, что там идут какие-то приготовления. До начала представления оставалось еще несколько минут, поэтому он стал смотреть по сторонам, не зная, чем занять себя.
Он никогда прежде не бывал в театрах и имел достаточно слабое представление об их внутреннем убранстве. Но, оказавшись во владениях господина Варравы, решил, что его заведение наверняка могло бы поразить даже искушенного зрителя. Гигантский шатер, в котором оно располагалось, был столь высок, что в него, пожалуй, влез бы городской собор. Украшенный серебряными звездами купол удивительно точно изображал ночное небо — таким, каким оно было бы над Вальтербургом, если бы не густые клубы фабричного дыма, висящего над городом круглые сутки. Должно быть, все это обошлось в немалую сумму директору Варраве, даже не считая изящных подсвечников, мраморных ступеней и служащих в багряных ливреях. Во всем этом определенно чувствовался вкус.
Публика гомонила, занимая свои места. И судя по тому, сколько ее набилось в шатер, это был не худший сезон для «Театра плачущих кукол». Пожалуй, прикинул Гензель, счет шел на тысячи. Квартеронам были отведены театральные ложи, тесно жмущиеся друг к другу. В них восседали привилегированные зрители, выглядевшие в большинстве своем вполне человекообразно, если не считать мелких изъянов фенотипа, стыдливо задрапированных складками плащей и украшениями. У кого-то вместо зубов имелось подобие китового уса, у кого-то — выпирающие из черепа костяные наросты причудливой формы или затянутые матовой пленкой рыбьи глаза. Гензель не пытался спрятать своей акульей ухмылки, чем ощутимо беспокоил соседей по ложе, — здесь он ощущал себя в своей тарелке.
Партер был отведен мулам. Не успели дать и первый звонок, как он превратился в подобие чана, наполненного густым булькающим месивом, в котором едва удавалось различить отдельные детали. Незрячие глаза, похожие на пузыри от ожогов, гнилые отростки рогов, мясистые щупальца, хитиновые конечности, обрывки разнородных, источающих ихор тканей, раздутые торсы, грубая шерсть вместо волос, вывернутые под причудливыми углами суставы, воспаленные чешуйчатые покровы и органы совершенно нечеловеческой природы, выпирающие зловещими формами из страшно искаженных тел.
Это было какой-то жуткой пародией на театр уродов, виденный им когда-то в детстве, только здесь для уродов была отведена не сцена, а весь зрительный зал. В ожидании начала представления мулы вели себя самым несдержанным образом — свистели, плевались, бранились между собой, кое-где уже мелькали раздувшиеся багровые кулаки и когти. Мулы кричали, выли, топали ногами и копытами. Мулы требовали немедленно поднять занавес. Мулы утробно хохотали, поводя мутными от серотониновой похлебки или эндорфиновой вытяжки глазами. Мулы готовились насладиться представлением.
А ведь их, в отличие от кукол, никто сюда не тащил, подумалось Гензелю. Эти существа вольны распоряжаться собой как вздумается. Они проводят дни за грязной, изматывающей работой, которая в конце концов сводит их в гроб, и получают за это гроши, но эти гроши, испачканные в слизи и крови, они несут именно сюда, в театральную кассу. Не в таверну, чтобы обменять на оглушающее нейроны зелье или наркотическую секрецию, дарующую эйфорию, а в театр. Несчастные плоды генетической хвори, вся жизнь которых похожа на дурную и злую шутку, готовы платить, чтобы наблюдать за тем, как страдает кто-то другой. Поэтому тяжелый бархатный занавес никогда не остановится. Он будет подниматься и опускаться бесчисленное множество раз, как лезвие гильотины. Пока в этом городе осталась хоть одна живая душа.
— Отвратительно.
Если Гензелю удалось быстро свыкнуться с театральной публикой, Гретель явно испытывала некоторую скованность. Невозмутимая внешне, не глядящая по сторонам, не вздрагивающая от резких выкриков, она походила на мраморную статую, скорее украшение театра, чем зрителя. Но Гензель ощущал ее внутреннее беспокойство, вызванное непривычным окружением. Привыкшая к тишине лаборатории, своей неизменностью напоминавшей тишину старого склепа, Гретель оказалась погружена в совершенно незнакомую и непонятную ей среду. Не стоило брать ее в «Театр плачущих кукол», подумал Гензель. И сам же оборвал свою мысль: а был ли выбор?..
— К запаху быстро привыкаешь, — беззаботно заметил он вслух. — Не переживай на этот счет.
— Я не имела в виду запах.
— Что тогда?
— Все остальное, — произнесла она с ледяной лаконичностью, вновь повернувшись к сцене.
Ради посещения театра ей пришлось сменить привычный лабораторный халат и мужские штаны на бирюзовое платье с длинными рукавами. И судя по тому, как ее тонкие бледные пальцы постоянно порывались поправить тонкую ткань, эта одежда определенно не казалась ей удобной. Время от времени Гретель пыталась ухватить пальцем прядь волос, забывая о том, что волосы, обычно торчащие в разные стороны беспорядочными вихрами, заплетены в косы и, по гунналандской моде, уложены под прозрачный платок. Наверно, не меньшие мучения испытывал бы сам Гензель, если бы оказался на званом ужине у архиепископа.
— Потерпи, сестрица.
Когда-то, много лет назад, он говорил ей то же самое. И она терпела. Тощая девочка с белыми как снег волосами, могла вытерпеть то, чего, казалось, вытерпеть невозможно. Но в этом и заключался ее талант. Делать невозможные вещи.
Гретель с раздражением поправила декольте. Гензель понадеялся, что она не заметила, какими плотоядными взглядами сопроводили это движение их соседи по ложе.
— Кажется, я не люблю театров.
— Я тоже с удовольствием пропустил бы сегодняшнее представление.
— Мы могли отказаться, — сказала она, но без особой уверенности в голосе.
— Думаю, не могли.
Гензель достал из камзола лист дорогой глянцевой бумаги и расправил его на колене, хоть и знал содержимое письма наизусть.
«Милый Гензель, спасибо, что помнишь про старика. Рад сообщить, что все уже свершилось наилучшим образом. Труппа моего театра получила пополнение, и ты тоже непременно получишь то, что заслуживаешь. Обязательно загляни на сегодняшнее вечернее представление в театре, надеюсь, оно приятно тебя удивит. И непременно возьми с собой свою прелестную сестру. Надеюсь увидеть вас обоих после представления за кулисами. Твой искренний старый друг К. Варрава».
Буквы были выведены каллиграфически, но их ровная вязь отчего-то выглядела зловеще, как петли паутины, оставленные на бумаге ядовитым пауком. Гензель спрятал письмо обратно в карман, надеясь, что перечитал его в последний раз.
— Мой искренний старый друг Варрава — неприятный и опасный тип. Который мгновенно вскрыл бы меня ржавым ланцетом без всякой анестезии, если бы я имел неосторожность проглотить медную монету. Однако он считает себя джентльменом старых правил. Любит производить впечатление и чтит традиции. Такой, знаешь, благодушный старый негоциант. Впрочем, все это ширма, такая же непроницаемая, как театральный занавес. И стоит только погаснуть свету, исчезает она столь же быстро.
— Даже не представляю, при каких обстоятельствах вы свели знакомство.
Гензель улыбнулся.
— Это было давно. Господин директор театра Карраб Варрава был очарован моим фенотипом. Подозреваю, больше всего ему понравились зубы. Ему подумалось, что я могу иметь успех у публики на театральных подмостках. Пришлось объяснить ему, что я не вижу своего будущего в театре. Что поделать, некоторые люди просто не созданы для искусства.
— Он так легко это принял? У меня сложилось впечатление, что он настойчивый господин, раз занимается таким предприятием.
— Конечно, принял. — Гензель рассеянно разглядывал тускло горящие театральные лампы, своей неправильной формой напоминающие выпирающие бородавки. — В попытке уговорить меня он потерял нескольких своих театральных агентов и вынужден был сдаться. С тех пор мы с ним заключили своеобразный уговор. И время от времени оказываем друг другу незначительные услуги. Он прелестный старик, вот увидишь.
— Не сомневаюсь, — сухо сказала Гретель, неотрывно глядя на пустую сцену. — Уверена, мы проникнемся симпатией с первого взгляда.
— И я почти уверен в этом, сестрица. В конце концов, вы с ним в некотором роде коллеги. Он содержит театр, где для забавы мулы кромсают друг друга. Ну а ты устраиваешь не менее кровавые баталии в своих пробирках, изничтожая миллионы живых клеток. Разница лишь в том, что на его представления приходит полгорода, а ты занимаешься этим, чтобы развлечь только одну себя.
Раздался третий звонок, и огромные лампы театра стали медленно гаснуть. Это произошло вовремя — Гензелю очень не понравился задумчивый взгляд Гретель, устремленный на него в упор.
Мулы в партере восторженно завизжали и завыли, зазвенело битое стекло, кто-то истерично, с надрывом, зарыдал.
Театр оживал. Это было странное зрелище, от которого Гензелю сделалось на какой-то миг неуютно, а затем и попросту страшно. Прежде он воспринимал «Театр плачущих кукол» лишь как пространство определенного объема, со своими специфическими запахами и оформлением. Но едва стали гаснуть лампы, едва шевельнулся занавес, ему вдруг показалось, что он очутился в туго набитой утробе просыпающегося чудовища. Звуки пробуждающегося театра — скрип веревок, шелест ткани, щелчки прожекторов — стали казаться ему звуками этой утробы, отголосками движения ее соков.
Театр оживал, и Гензелю почудилось, что он ощущает, как пробуждается душа театра, что-то, что прежде спало под дощатым настилом, но что жадно раззявило пасть и заскрипело, ощутив запах свежей плоти, скопившейся в зале. Иллюзия эта была столь сильной, что Гензель чуть рефлекторно не схватил холодную ладонь Гретель.
Театр оживал.
Занавес остался недвижим, но по его бархатной поверхности прошла волна. Театр, огромный живой организм, в теле которого они оказались, жаждал распахнуть перед ними свое чрево. Излить на них застоявшиеся в нем соки.
По дощатому полу прошла дрожь, короткая и резкая, как судорога по мышечным волокнам. А может, это лишь разогревались огромные сценические моторы. Театр медленно пробуждался. Он клокотал от энергии, заполнившей его изнутри, прокачивал через себя декалитры человеческого восторга и ужаса, смешивая их в пьянящий коктейль из множества ферментов.
Грянул оркестр.
Он взвыл, как огромный зверь с перебитым позвоночником, рявкнул, завизжал литаврами — и вдруг обрушил на зрителей оглушительную какофонию звуков, диссонирующих друг с другом настолько, что музыкальные инструменты, вовлеченные в него, обращались подобием изувеченной, безжалостно перекрученной и вывернутой цепочки хромосом.
Ревел под аккомпанемент лопающихся струн рояль, хрипели умирающие скрипки, пытаясь перекричать друг друга, огромные тромбоны давились собственными звуками, как больные, выхаркивающие из себя окровавленные клочья злокачественной опухоли. Им вторили флейты, чьи голоса напоминали визгливую драку падальщиков над телом.
Лишь через некоторое время Гензель почувствовал, что в этом кошмарном хоре, доносящемся из адских глубин, есть свой ритм, пусть и чудовищно деформированный. Кажется, это было подобие торжественного туша, но столь жутко искаженное, что ухо не сразу распознавало его.
В оркестровой яме корчились в судорогах музыканты — карлики, облаченные в черные костюмы, с нелепо размалеванными лицами. Они роняли инструменты и падали сами, некоторые, кажется, бились в припадке, но оглушительная какофония продолжала звучать, заставляя театральный шатер вибрировать. Безумная смесь звуков, от которой сама душа, казалось, трепетала на своем месте под дребезжание ребер, а мулы в зале восторженно ревели.
Вспыхнули одновременно прожектора под куполом, пронзив толпу копьями разноцветных лучей. Лучи выписывали по залу бессмысленные кривые, отскакивали в стороны, мигали и собирались пучками. Цвета их, словно нарочно, были подобраны так, чтобы не гармонировать между собой. Напротив, накладываясь друг на друга, они обливали толпу ядовито-зелеными и синюшными оттенками трупной гнили.
Ржавые столбы, игравшие роль сценического ограждения, выдохнули вверх оранжевые языки коптящего пламени — точно в купол ударили десятки огнеметов одновременно. Затем они стали бить вразнобой, шипя и плюясь огнесмесью, точно многоголовый огнедышащий дракон, заболевший чахоткой.
Гензель стиснул зубы. Ему показалось, что все его органы чувств сорваны со своих мест, перекручены и брошены в гигантскую мясорубку. Что театральный шатер — подобие черепной коробки, давление в которой все нарастает, и вот-вот послышится треск кости… Он был в центре бурлящего безумия, которое перемалывало толпу, всасывая в себя ее кровь. Осатаневшие от этого светопреставления мулы тряслись, то ли танцуя, то ли дергаясь в конвульсиях. Некоторые из них, приплясывая на месте, стали показывать пальцами вверх.
Из-под купола опускались качели и трапеции, на них с обезьяньей грацией крутились акробаты, тощие, с перекошенными грудными клетками, облаченные в несуразные даже по театральным меркам трико. Прыгая в воздухе, они издавали душераздирающий визг, от которого у зрителей свербело в ушах, что-то орали и корчились в ужимках. Гензелю не хотелось думать, кто это — опьяненные лошадиной дозой эндорфина актеры или бедолаги, которым коновалы Варравы вырезали участки мозга, отвечающие за страх.
Акробаты прыгали с трапеции на трапецию, судорожно ловя друг друга в последний миг. Кто-то не успел, и по куполу, расшитому серебряными звездами, вниз скользнула изломанная тень. Ее падение зрители проводили длинным изумленным вдохом, которого не мог заглушить даже безумный оркестр, а затем — грохнувшим приступом ликования, когда тень беззвучно канула в человеческое море, свернув шеи нескольким зрителям.
Из-под купола вниз полилась кровь — акробаты вдруг выхватили ножи и стали резать друг друга, все еще раскачиваясь на своих качелях и трапециях. Шатаясь на жердочках, как пьяные птицы, они пыряли друг друга лезвиями и верещали, вторя зрительному залу. Гензель своими собственными глазами видел, как в партер сыплются обрывки одежды, обрубки пальцев и куски заточенной стали. Кто-то повис на канате вниз головой, из его распоротого горла вниз текла кровь. Еще один попытался уйти от ножа, но сорвался — его падение толпа тоже сопроводила восторженным вдохом.
Улюлюкая и смеясь, по канату стал спускаться толстый человек в ярком клоунском наряде и с огромным носом, представлявшим собой огромную разросшуюся язву. Он хохотал как безумный, но от него поспешили убраться даже уцелевшие акробаты.
— Добро пожаловать! — кричал он, заливаясь смехом, раскидывая во все стороны руки и ноги. — Добро пожаловать в театр!..
Он оказался слишком низко. Трубы под сценой вновь выдохнули вверх пламя, один из языков ударил в клоуна и мгновенно превратил его в трепещущий огонек, дергающийся на канате, пронзительно запахло паленой одеждой и паленым мясом, вниз, кружась, полетели хрупкие мотыльки из пепла. Но даже охваченный огнем, клоун продолжал неудержимо смеяться, раскачиваясь на канате. Он хохотал добрую минуту, пока огонь пожирал его изнутри, и только затем замолчал, превратившись в мерно раскачивающийся обугленный сверток.
Гензель прикрыл глаза, но это мало что изменило — даже сквозь плотно сомкнутые веки прожектора ослепляли его вспышками, а оркестр глушил душераздирающими воплями умирающих инструментов. Кричал заживо сжигаемый под куполом клоун. Метались в оркестровой яме карлики в черных костюмах. Дрожал пол.
«Зря я привел сюда Гретель, — подумал Гензель, стараясь удержать желудок на месте. — Она, конечно, не девчонка, но смотреть на такое…»
Ему пришлось открыть глаза, чтобы взглянуть на сестру. Но та держалась совершенно невозмутимо и спокойно, глядя на сцену так, будто не было всего этого хрипящего, смердящего, воющего и горящего балагана.
А потом все вдруг прекратилось. Так же внезапно, как и началось.
— Дамы и господа! — прогремел непонятно откуда мужской голос. — А также прочие уродливые твари, которые не похожи ни на тех, ни на других! «Театр плачущих кукол» господина Карраба Варравы приветствует вас этим прекрасным вечером! И какой вечер!.. Не правда ли, у этого вечера особый вкус? Особый запах? Вы ведь тоже чувствуете это? Не отвечайте. Я знаю, что да. Да, этим вечером наш театр сожрет вас с потрохами!
— Это он? — спросила Гретель, щурясь. — На сцене?..
Только тогда Гензель заметил, что сцена больше не пуста. У самого ее края сидел в инвалидной коляске человек. В противоположность тощим, как умирающие обезьяны, акробатам, он выглядел сильным и полнокровным, даже тучным. Кожа была гладкой и розовой, глаза сверкали, на грудь ниспадала пышная иссиня-черная борода самого натурального вида, столь длинная, что ее пряди завивались кольцами.
— Да, — сказал Гензель, — это господин директор Карраб Варрава собственной персоной.
Господин директор был облачен в щегольской, хоть и старомодный, двубортный пиджак и лоснящийся цилиндр. Огромные его руки, сложенные на груди, держали тяжелый кожаный хлыст с таким достоинством, будто тот был королевским скипетром. На до блеска начищенных сапогах мягко светились медные пряжки.
Господину Варраве нельзя было дать более пятидесяти лет, но Гензель подозревал, что старый разбойник как минимум вдвое старше. Уточнять он никогда не пытался. К людям вроде Карраба Варравы не стоит лезть в душу — это не приятнее, чем препарировать разлагающийся труп. Никогда не знаешь, что можешь там найти.
Голос директора театра грохотал так, что заглушил бы даже безумный оркестр коротышек, если бы тот сам собой благоразумно не смолк. Голос Карраба Варравы обладал сверхъестественной силой. Низкий, тягучий, сильный и в то же время мелодичный, он сотрясал все содержимое театрального шатра, гипнотизируя его посетителей.
Голос этот одновременно казался ласковым, насмешливым, уверенным и веселым. И именно таким был сам господин директор театра. В глазах на его розовом, как у младенца, лице сверкали озорные огоньки, а в провале рта, почти скрытом густой бородой, отзывались блеском золотые зубы. Господин Карраб Варрава был добродушной и язвительной громадиной, пышущей жизнью, здоровьем и смехом. Когда он говорил, даже массивная, явно сделанная на заказ инвалидная коляска отступала в тень. Улыбка сверкала золотыми зубами, как рана, нашпигованная дробью. Гензель знал, что улыбка Варравы искренняя. Кажется, и посетители это тоже знали.
— Театр! — возвестил вдруг Варрава, перестав улыбаться.
Атмосфера театра мгновенно переменилась. Из оркестровой ямы вылетела спотыкающаяся и фальшивая барабанная дробь. Прожектора ударили в сцену прямыми лучами, окатив человека в инвалидной коляске багряным и белым, превратив его в неподвижную, высеченную из темного камня фигуру, возвышающуюся над зрителями. Удивительно, но даже разгоряченные вступлением мулы вдруг мгновенно замолчали, точно не они несколько секунд назад тряслись в экстазе, вторя дьявольским звукам, раздирающим барабанные перепонки.
— Знаете ли вы, что такое театр?
Карраб Варрава мгновенно стал серьезен. Даже возникла на миг иллюзия, что на сцене находится совершенно другой человек. Осознавший торжество момента, бледный, пытливо вглядывающийся в темный зал, ищущий. И голос переменился, хоть и остался по-прежнему звучным.
— Зачем нам театр, дамы и господа? — вопросил он негромко, но все равно каждое слово было отчетливо слышно. — Чего мы ищем в нем? Чего ради смотрим на сцену? Неужели нам нравятся кривляния и ужимки актеров? Едва ли. Жизнь всегда была достаточно хитрой сукой, чтобы уметь смеяться над самой собой. Если не верите в это, взгляните в зеркало. Вы сами — наглядное тому подтверждение! Насмешка над всем сущим. Живое доказательство того, что любой закон можно вывернуть наизнанку, а красота и уродство — две стороны одной монеты. Вопрос лишь в том, какой стороной ты ее поймаешь!
По зрительному залу разнесся гул. Такой тихий, что его можно было спутать с ветром, пробравшимся в шатер. Карраб Варрава молча смотрел на зрителей, поводя большой головой из стороны в сторону. Он был торжественен и бледен, как гробовщик, и блестящий черный цилиндр лишь усиливал это сходство. Куда-то пропал заразительно смеющийся и кричащий басом бородач, причем так, что этого не успел заметить никто из присутствующих, даже из тех, что были наделены дополнительными глазами. Под куполом повисла напряженная драматическая тишина.
— Он выглядит здоровым, — сказала Гретель, ничуть не подавленная воцарившейся театральной паузой. — Кто он? Окторон?
— Не знаю, — ответил Гензель, на всякий случай прикрыв ладонью рот. — И никто не знает. Поговаривают, когда-то он был уродливейшим из мулов. И потратил целое состояние на то, чтобы вернуть себе человеческий облик. Бессчетное множество операций, внутренних и наружных. Удаление лишних органов и прочее…
— Природу не обмануть ни геномагией, ни ланцетом.
— Говорят, ему это и не удалось в полной мере. Он избавился от внешних проявлений своей искаженной сущности, но его кровь отравлена бесчисленным количеством продуктов разложения и отторгающихся органов. Поэтому при нем всегда мистер Дэйрман со своими кровососами.
— Кровососы? — не поняла Гретель.
Гензелю пришлось неохотно пояснить:
— Специальные пиявки. Он держит их в аквариуме за сценой. А мистер Дэйрман — его личный врачеватель. Неотлучно следует за театром. Пиявки постоянно выкачивают из Варравы отравленную кровь, фильтруют ее и позволяют ему оставаться в живых. Впрочем, это всего лишь слухи. Не так уж много в Вальтербурге найдется людей, желающих размышлять на эту тему…
Гензель замолчал — ему показалось, что в темноте театра горящий взгляд Карраба Варравы нащупал его. Иллюзия, конечно, еще одна театральная иллюзия, но между лопатками сам собой выступил ледяной пот.
— Так почему вы явились сюда этим вечером? — вопросил Карраб Варрава молчащих зрителей. — Вы, жалкое и никчемное подобие людей? К чему вам смотреть спектакль, когда вы сами — действующие лица и декорации другого спектакля, который тянется миллионами лет? Жизнь уже отбраковала вас, несчастные мои уродцы. Она вышвырнула вас на сцену, хотели ли вы того или нет, и освистала вас. Ослепила своими проклятыми софитами. Явила ваше жалкое уродство всему миру. Так отчего вас тянет туда, где фальшь возведена в абсолют, а ложью пропитано все вокруг? Может, оттого, что вы желаете отомстить той самой жизни, которая вас породила? Что вы хотите смотреть, как она корчится в конвульсиях, заливая кровью сцену?
Зрители глухо заворчали, точно голодные псы. Но человек со сцены глядел на них ясным и насмешливым взглядом. Ему не требовалось даже брать в руки кнут, чтобы отпугнуть кого-то. Он сам выглядел как скрученный кнут, способный мгновенно распрямиться с оглушающим щелчком, и лоснящиеся черные пряди густой бороды лишь подчеркивали это сходство.
— Театр — удивительное место. — На смену насмешке пришла доверительная интонация, от которой зал тихо зарокотал, полностью покоренный. — И тут происходят удивительные вещи. Фанерные декорации становятся лесом. Маски — лицами. Барабанный грохот — грозой. Театр — место, где ложь изображает правду, где иллюзии достовернее самой незыблемой истины, где, алхимически сплетаясь, возникает сплав правды и лжи, жизни и того, что никогда не получало права на жизнь. Тут истина и ложь обмениваются генетическим материалом, порождая самые невообразимые комбинации. Мутантов, чье существование так же кратковременно и мучительно, как и ваше собственное.
Карраб Варрава набрал воздуха в могучую грудь.
— Я скажу вам, почему вы здесь! — бросил он звучно, озираясь, так что каждому сидящему в зале показалось, что он смотрит на него. — Вас манит эта загадочная реакция, что раз от разу происходит на сцене. Мы все — увечные дети проклятого генетического века. Мы все — плод смешения миллионов хромосом. Почему результат этого смешения оказался столь плачевен? Мы не знаем этого. Просто в один момент какой-то ген вашего предка одержал верх над другим. Возможно, если бы он проиграл, в длинной цепочке вашего генетического наследования сложился бы иной порядок — и сейчас вы были бы человеком, а не уродливой тварью. Но бой уже закончен, и вы — его руины. Миллионы миллионов генетических цепочек сражались друг с другом в каждом поколении. Миллиарды безвестных хромосом гибли в бесконечной резне! Тысячи тонн отбракованного генетического материала ваших предков, которого вы не унаследовали, — это залежи мертвых тел, павших в бою, которого вы даже не видели. Они были мертвы еще до того, как вы родились. Но они предопределили вашу судьбу!
Зал молчал, оглушенный, обмерший, безмолвный. Казалось, Варрава может выдернуть из него любого мула и медленно оторвать ему голову, а тот даже не подумает сопротивляться.
Голос Варравы постепенно ожесточался. Сперва влекущий и уверенный, он стал звенящим от напряжения. Глаза калеки полыхали, разбрасывая по всему залу черные искры.
— Вот почему вы так жадно глядите на сцену! Две куклы не просто так пускают друг другу кровь и рвут плоть! Они символизируют противоборствующие гены, каждый из которых силится уцелеть и принять участие в создании новой жизни. Ведь на клеточном уровне кипит не менее кровожадная борьба. Извечная, лишенная милосердия и сантиментов, животная. Вот почему вы собрались этим вечером в «Театре плачущих кукол», дамы и господа! — Карраб Варрава улыбнулся торжествующей улыбкой и обвел взглядом своих гостей. — И вот почему за свои деньги вы получите сегодня наилучшее представление! Уважаемая публика! Внимание на сцену! Представление начинается!
Покорный его жесту, занавес распахнулся, обнажая сцену — точно края раны, с которой сорвали повязку.
Все началось стремительно, без сигналов, без конферансье, судей и объявлений. В театре господина Варравы, судя по всему, не считали нужным обставлять убийство какими-то специальными ритуалами.
Едва господин Карраб Варрава махнул рукой, как «Театр плачущих кукол» загрохотал медными тарелками, а прожектора стали вспыхивать всеми возможными багровыми, алыми и розовыми оттенками, превратив на миг сцену в подобие залитого кровью хирургического стола. Когда свет вспыхнул вновь, сцена преобразилась. Директор театра пропал бесследно, но это осталось почти незамеченным зрителями. Потому что на сцене появились первые куклы.
Не было ни новомодных лифтов, ни иных хитрых механизмов, кукол попросту выталкивали из-за кулис с разных сторон сцены. Судя по всему, господин директор во многих аспектах отличался старомодным вкусом.
Никто не тратил времени на приветствия или прочие формальности. Едва увидев друг друга, куклы немедленно бросались в бой, рыча от ярости. Гензель подумал о том, что все это похоже на неказистую и дешевую ярмарочную постановку, в которой актеры, управляющие тряпичными болванчиками, спешат сразу перейти к побоищу, выбросив из повествования мало кому интересные диалоги и интермедии. Обычная ярмарочная публика начинала улюлюкать и свистеть, если персонажи на сцене не принимались сразу же рвать друг друга.
В «Театре плачущих кукол» царили те же порядки. Куклы здесь были бессловесны и подчинялись неизменному сценарию без каких бы то ни было отступлений. И свою работу они выполняли искренне. По крайней мере, едва ли кто-то из мулов-зрителей пожаловался бы на недостаток актерской игры. Трещали сокрушаемые ударами кости, обильно текла кровь, зубы и когти полосовали плоть и отрывали конечности. И все это — с животной ненавистью и с удивительным даже для Вальтербурга садизмом.
Первый бой закончился через три секунды после начала, когда мул с длинной шеей, на которой помещалась вытянутая, похожая на птичий клюв пасть, вырвал у своего противника кадык. Спустя тридцать секунд он уже сам был мертв — его шею вместе с позвоночником вырвал из торса другой мул, чье тело набухло уродливыми бурдюками мускулов, больше похожих на опухоли. Этот был удачливее своего предшественника, он сумел провести еще две схватки, прежде чем его самого уложили на сцену, причем тремя отдельными кусками.
Гензель покосился на Гретель — как она воспримет представление? Но геноведьма наблюдала за сценой абсолютно бесстрастно. Лишь единожды она произнесла:
— Кровь кажется мне неестественно красной. Возможно, кукол накачивают генномодифицированным гемоглобином с повышенным содержанием железа.
Этот вопрос заботил Гензеля меньше всего.
Куклы господина Варравы были лишены какого-либо сходства — если они в чем-то и были похожи, то лишь в процентном количестве искаженного генетического материала, доставшегося им по наследству. Мало кому из них удалось сохранить фенотип, хотя бы отчасти напоминающий человеческий. Тут были сросшиеся конечности и узловатые кости, вылезавшие сквозь кожу, свернутые набок головы и фасеточные глаза, а также бесчисленное множество прочих уродств, включая те, которых Гензель прежде не видел.
Тощий, покрытый хитиновыми пластинками мул неожиданно проявил огромную силу, впившись в своего противника десятком тонких, как комариные ноги, конечностей. Треск лопающейся кожи, пронзительный крик — и неудавшийся актер «Театра плачущих кукол» на глазах побелел, кожа прилипла к искривленным костям, глаза втянулись в череп и лопнули — почти вся влага его тела оказалась мгновенно высосана.
Крошечный, едва ли по колено обычному человеку боец приплясывал в ожидании атаки своего внушительного врага, быкоподобного громилы, чье тело было покрыто язвами вперемежку с клочьями бурой шерсти. Но если кто-то из зрителей успел сделать ставку на здоровяка, это было опрометчивым решением. Коротышка одним невероятно быстрым прыжком подскочил к противнику и выплюнул в лицо великану струю черной жижи. Тот завопил, когда его лицо стало размягчаться под пальцами и оплывать, обнажая кости черепа, и вопил еще несколько секунд, прежде чем рухнул, оступившись в оркестровую яму.
— Не правда ли, прекрасное представление? — громыхал голос господина Варравы. — Клянусь семью дочерьми Евы, наши куклы сполна оплатили свой хлеб!
Директор театра располагался в собственной ложе над самой сценой, откуда открывался наилучший вид. Своих кукол он встречал ободряющими криками, а их смерть — торжествующими возгласами:
— Откройте глаза все те, у кого они есть, потому что это представление будет лучшим из всех, что вам когда-либо доводилось видеть! Хлопайте сильнее! Эти куклы заслужили вашу благодарность! Кажется, полотерам предстоит тяжелая ночь! Вы только посмотрите, уже залили всю сцену!.. Ай-яй-яй! Вы только взгляните, какой огромный у этой куклы желудок! Мы бы никогда не узнали об этом, если бы он не очутился снаружи! Вперед, мои милые! Вперед! Покажите им, что такое театр! Браво!
Куклы уже поскальзывались на сцене, усилий служащих театра хватало только на то, чтобы утаскивать разорванные тела за кулисы. И справлялись они с этим ловко, выказывая немалый опыт. Сперва Гензель глядел на представление со смешанным чувством отвращения и удивления. Безликие куклы господина Варравы, выходившие на сцену, чтобы принять смерть или причинить ее другому существу, казались ему ожившими манекенами, лишенными собственной воли, никчемными игрушками, испачканными в крови. Они увечили друг друга, разгрызали на части, ожесточенно рвали когтями и вырывали лоскуты кожи, и все это так механически и равнодушно, что на смену отвращению понемногу приходила заинтересованность.
Стройная кукла женского пола, пожалуй, даже красивая, если бы не крабьи клешни, в изобилии торчащие из ее тела, заключила своего противника в объятия и мгновенно раздавила, отшвырнув в сторону истерзанную оболочку. Невзрачный на вид мул с непропорционально раздутой головой распахнул неожиданно огромную пасть и, прежде чем соперник успел среагировать, откусил тому обе руки, но и сам погиб на месте, пропустив смертельный удар шипастым хвостом. Тяжело дышащий боец, чье тело казалось бесформенными из-за торчащих в разные стороны недоразвитых конечностей, оказался мгновенно повержен человеком-змеей с гибким позвоночником и лишенным ребер — лишь треснул сухо раздавленный кольцами торс.
В одной из кукол страх пересилил ярость — размахивая руками, мул попытался спрыгнуть со сцены, нырнув в море столь же безобразных сородичей. Видимо, он не знал, что куклы и зрители принадлежат двум разным мирам, которые не могут пересечься. Зато об этом, несомненно, знал господин Варрава. Мул не успел пересечь границу сцены. Замер, выгнувшись в неестественной позе, словно пытался распластаться по стеклу. Вокруг него сухими оранжевыми искрами затрещал воздух. Мул закричал и попытался отступить, но поздно — что-то невидимое крепко держало его. А потом его кожа стала сереть, съеживаться и обращаться плывущей по воздуху черной взвесью. Мул кричал, пока у него оставался рот и голосовые связки, и длилось это не очень долго. То, что уцелело от него, так и осталось лежать на границе сцены — ворох почерневших костей, зола и тлеющие угли.
— Контактное термическое поле. — Гензель уважительно кивнул. — Варрава и верно знает толк в своем деле.
Бои шли один за другим, без перерывов, антрактов и представления участников. Не успевал один окровавленный остов рухнуть на посыпанную стружкой сцену, как из-за кулис выталкивали следующего. Это выглядело… Гензель нахмурился, подбирая нужное сравнение. Это выглядело как злонамеренная пародия на древний бой гладиаторов. Но гладиаторов встречали аплодисментами и криками, их бой подчинялся множеству правил, отчего выглядел не банальным смертоубийством, а практически благородным ритуалом. Жизнь и смерть сходились в противоборстве, два человека на арене… У директора «Театра плачущих кукол» явно были свои взгляды на подобный процесс.
Сперва это казалось Гензелю непонятным и отталкивающим. Он не раз видел гладиаторские бои в самых разных их ипостасях, еще в те времена, когда им с Гретель приходилось перебиваться случайными заработками, бродя из одного королевства в другое. Он видел ритуальные схватки в Шлараффенланде, дуэли в Руритании, кровавые вендетты Пасифиды и лишенные всяких представлений о приличиях или кодексах поединки Сильдавии. Убийство везде оставалось убийством, вне зависимости от того, кто его совершал и чем: ядовитыми зубами, окованной железом палицей или пулей. Но везде к нему относились с почтением, уважая этот древний, хоть и жуткий, ритуал. Но не здесь, не в «Театре плачущих кукол».
Здесь убийство нарочно было выставлено примитивным, жутким, неприглядным, обнаженным, животным. Здесь в бою сходились не люди, а груды плоти, оставляя после себя лишь обагренную кровью стружку. Процесс убийства, слепой, бессмысленный, символизирующий не красоту боя, а лишь бесконечную череду гибели хромосом, вызывал отвращение. Но только на первых порах. Постепенно, сам того не замечая, Гензель втягивался в происходящее, видя в нем нечто большее, чем примитивные бои уродливых мулов.
Запах свежей крови пьянил его акулье чутье, будоража и возбуждая. Первые алые капли, упавшие в стружку на сцене, были сродни молодому вину. Обоняние Гензеля, невероятно чуткое, когда дело касалось крови, мгновенно распознало знакомый запах, и где-то под поверхностью моря осклабилась чудовищная акулья морда. Акула любила этот запах. Сладкий, манящий, хмельной запах человеческого сока. Ощутив его, она рвалась на поверхность, желая вонзить острые зубы в трепещущую добычу, источник божественного аромата. Гензелю удавалось сдерживать ее, не давая пересечь водораздел, за которым она обрела бы контроль над его телом. Хищников лучше не выпускать на свободу без веской на то причины, он знал это с полной уверенностью как человек, много лет имевший с ними дело.
Но сдерживаться становилось все труднее. Первые капли были лишь прелюдией, мгновенно переросшей в оглушительный и сводящий с ума концерт. Все новая и новая кровь хлестала на сцену, все щедрее с каждым новым боем. Она уже не рождала единого запаха, превратившись в невероятный коктейль из тысячи оттенков. Акула щерила зубы и била хвостом. Представление кукол господина Варравы оказалось для нее настоящим пиршеством.
Покрытый зеленоватой слизью бугристый мул, жуткая пародия на слизняка, неожиданно стремительным ударом сбил своего противника с ног и заполз на него, раздробив все кости и вмяв в сцену. Ощетинившаяся иглами кукла, завывая, превратила другого мула в одну огромную развороченную рану.
«Театр, — подумал Гензель, чувствуя, что не может заглушить растущего в груди тяжелого акульего чувства, похожего на пронизывающее опьянение, но не ликующее, как обычно бывает от дюжины кружек в трактире, а иное — леденяще-спокойное, торжествующее. — Старый паук, возможно, был прав. Все существование нашего биологического вида — такой же театр. С непредсказуемым сюжетом и причудливыми декорациями, но без внятного финала».
— Кажется, тебе нравится представление, братец, — сказала Гретель. Насмешки в ее голосе не чувствовалось, но это не означало, что ее нет вовсе.
— Жду дебюта нашего деревянного друга, — пояснил Гензель, с трудом заставив себя оторваться от сцены, где существо с мордой гиены заживо пожирало трепыхающиеся останки своего менее удачливого противника.
Он заставил себя улыбнуться, но его улыбка не обрадовала Гретель. Возможно, потому, что она ему не принадлежала. Секундой позже он и сам уже не мог разобраться, кто улыбнулся — он сам или настоящая акула внутри него, приблизившаяся к поверхности воды.
По счастью, Гретель не стала уделять этому внимания.
— Ты уверен, что Бруттино будет сегодня на сцене?
— Почти наверняка. Политика театра, — пояснил Гензель. — Талантливых новичков выпускают на первом же представлении — оценить их потенциал. Обычная актерская школа. Но, в отличие от обычных театров, здесь нет проходных ролей с одной фразой. У каждой куклы есть возможность проявить себя. А дальше все зависит только от нее.
— До сих пор его не было видно.
— И это говорит о том, что Бруттино и в самом деле талантлив в своем деле. Все, кто играет на сцене сейчас, — это безымянные мулы, расходный материал театра. Варрава бережет своих лучших актеров для окончания. Время фаворитов — в последнем акте. Именно тогда выходит основной состав труппы.
— И раз Бруттино не появился до сих пор…
— …Значит, он сумел хорошо себя показать, закончил Гензель, пытаясь за разговором скрыть возбуждение, охватившее его от запаха крови. — Достаточно хорошо, чтобы Варрава сразу же определил его на правах протеже в основной актерский состав. Это многое говорит о деревянной кукле. И я от всей души благодарен театру за то, что мне не придется собственноручно заниматься ее поимкой. Это сэкономило мне кучу времени.
Делано-небрежный тон не обманул Гретель. Удивительно, он не думал, что она хорошо разбирается в человеческих интонациях. Оказывается, разбирается, и недурно.
— Ты, никак, опасаешься Бруттино, братец?
— Не больше, чем деревянного табурета, — отшутился он. — Не думаю, чтобы деревянная кукла представляла для меня серьезную опасность. А вот ты, кажется, немало заинтригована.
— Мой интерес научного свойства. Все-таки Бруттино создан мной. И теперь мне интересно, как выглядит результат моих геночар спустя столько лет. Я ведь тоже не предполагала подобного развития событий и вполне допускала, что Бруттино засохнет от нехватки каких-нибудь органических элементов, превратившись в деревянного идола.
— Или его сожрет выводок термитов…
— Внимание, почтеннейшая публика! — закричал господин Карраб Варрава из своей ложи, кольца его бороды свешивались через перила, точно выводок черных змей. — Смею надеяться, вам нравятся наши актеры, сегодня они отдают себя нам без остатка! Ха-ха-ха-ха! Однако, смею надеяться, все самое интересное впереди. Прежде перед вами были лишь статисты, сейчас же вы увидите подлинных звезд «Театра плачущих кукол»! Тех, кто на протяжении многих лет являл собой нашу гордость и надежду! Не задохнитесь от восторга!
Последний из «статистов» удивленно озирался, оказавшись на пустой сцене. Он победил своего противника, превратив его в груду остывающих внутренностей, но следующий противник отчего-то не спешил на сцену. Привычный круговорот резни оказался нарушен затянувшейся паузой. Акула внутри Гензеля замерла. Она тоже предчувствовала что-то особенное.
Победитель выглядел достаточно внушительно — полтораста килограммов мускулистой плоти на прочных костях. Две тонких рудиментарных руки, свисающие из лопаток, и лишний рот, располагающийся на лбу и непрерывно облизывающийся, не делали его внешний вид менее грозным. Пожалуй, прикинул машинально Гензель, если бы подобное существо встретилось ему на темной улице Вальтербурга, он бы сразу потянулся за мушкетом, не уповая на собственные силы и даже кинжал. Опасная тварь, да и легкость, с которой она расправилась с другой куклой, впечатляла.
— Прошу вас любить и жаловать бессменного фаворита этой сцены! Выдающуюся куклу с безупречным амплуа! Нашу лучшую находку прошлого сезона! Дамы и господа, вы не можете не помнить его. Этот человек как никто знает изнанку театра. Его удивительная манера игры даже сделала его основоположником нового театрального течения. Эта кукла — артист многих жанров! Но один ему удается лучше прочих. — Господин Карраб Варрава выжидающе оглядел притихшую публику. — Превращение человека в падаль! Итак, встречайте! Несравненный господин Перо!
Гензель даже не заметил, как появилась новая кукла. Он готов был поклясться, что мгновением раньше на сцене, не считая озадаченного финалиста с двумя парами рук, никого не было. Но, моргнув, обнаружил, что кукол уже две.
Вторая неподвижно стояла неподалеку от рампы и в первый момент показалась бесплотным призраком. Должно быть, дело было в ее одеянии — свободном белоснежном балахоне и нелепом ажурном жабо на шее. Совсем неподходящий наряд для заляпанной кровью сцены, где, казалось, не осталось ни единого сухого кусочка. Дополнял его столь же белоснежный колпак с полями, почти скрывающими лицо. Впрочем, когда он поднял голову, взглянув прямо в свет прожекторов, Гензель не ощутил облегчения.
Кожа у этого человека была столь же белоснежной, как облачение, но не шла в сравнение даже с бледной от природы кожей Гретель. У куклы она была неестественного алебастрового цвета. Такого, какой не в силах принять соединительная ткань человека, даже если лишить ее всех пигментов. Понятно, отчего его называли Пером. Он в самом деле казался пером, выдернутым из птичьего хвоста, и даже выглядел невесомым. А вот его лицо Гензелю сразу не понравилось. Пустое, но с печатью какой-то неизъяснимой апатии, от которой становилось не по себе.
Если бы не его взгляд, господин Перо не выглядел бы страшным. Просто кукла в белом одеянии, случайно оказавшаяся на окровавленной сцене. Тревожное, беспокойное сочетание цветов — белое на красном. И кукла эта не выглядела готовой к бою. У Гензеля возникло ощущение, что кто-то попросту перепутал спектакли. Эта кукла могла лишь декламировать грустные стихи или петь прочувствованную балладу под мандолину. Ей нужно было оказаться среди персонажей какой-нибудь лирической и слезливой пьесы, а не на кровавом шабаше Варравы.
Но взгляд… Господин Перо взирал на зрителей так, как смотрел бы мертвец. Задумчивый и печальный мертвец, созерцающий свою будущую трапезу. И не с горячей алчностью голодного существа, а со спокойным, хоть и исполненным странной грусти, предвкушением утонченного чревоугодника.
Гензель от всей души возблагодарил судьбу за то, что находится вдалеке от сцены и что взгляд господина Перо устремлен не на него. Ему отчего-то показалось, что под этим мертвенным и стылым взглядом кровь сама собой сворачивается в венах. Крайне неприятное ощущение. Он даже сплюнул бы от внезапно накатившего отвращения, но в театральной ложе едва ли это сошло бы за приличный поступок.
— Странный тип, — произнес Гензель, придирчиво изучая необычную куклу. — Хотел бы я знать, на что он рассчитывает? Разве что его противник умрет от обезвоживания, впав в состояние смертной меланхолии и не в силах остановить слез?
— Твои суждения всегда были очень поверхностны, братец, — сдержанно сказала Гретель. — Уверена, многие считали тебя недалеким громилой с акульими челюстями, лишь мельком взглянув.
— И обычно быстро расплачивались за это, — пробормотал Гензель, немного уязвленный.
Четырехрукий мул, уцелевший в предыдущей схватке, тоже настороженно отнесся к паяцу с жабо на шее. Было видно, что подобных противников встречать на сцене ему еще не приходилось. Однако он, казалось, не разделял настроения Гензеля. Вместо того чтобы сразу броситься на выглядевшего беззащитным господина Перо, мул замер, где стоял. Видимо, успел привыкнуть к тому, что любое существо, оказавшееся здесь, таит в себе смертельную опасность. И был полностью в этом прав.
Он стал кружить по сцене, медленно сужая круги вокруг Пера. Осторожные, плавные движения, кажущиеся обманчиво медлительными, призванные скрыть момент атаки и провоцирующие противника на необдуманные действия. Хорошо идет, отметил Гензель. Видно, что опытен. Даже столкнувшись с таким непривычным противником, не растерялся, не позволил перехватить инициативу, наоборот, прощупывает, разминается…
«Я бы не стал тянуть, — подумал Гензель, поймав себя на том, что пальцы машинально стиснули перила ложи. — Этот Перо — неприятнейший тип, таким нельзя позволять навязывать себе правила боя. Надо было сразу нападать, не теряя ни единого мгновения, смять напором, оглушить — и тут же вонзить зубы в белый балахон…»
Легко рассуждать, мелькнула на задворках сознания досадливо звенящая мысль, ну а кабы сам оказался на сцене?.. Старая акула умеет выглядеть внушительно и жутко, этого у нее не отнять, но в силах ли она позабавить зрителя так, как эти куклы? И долго ли продержится под напором более молодых и вертких хищников?
Четырехрукий, все сужавший и сужавший спираль вокруг Пера, метнулся вперед.
Он не случайно дожил до финальной части представления. Он был стремителен, силен, опасен и в то же время осторожен. Отличное сочетание и для куклы, и для мула, который пытается выжить в подворотнях Вальтербурга. Бросок был стремителен, плавен — его тело точно превратилось в упругую струйку воды, выпрыснутую под огромным напором. Кажется, даже стружка не зашуршала под его ногами. Гензель, успевший поймать момент атаки, едва удержался от того, чтобы сладострастно стиснуть зубы. Он уже видел белый балахон, превратившийся в грязно-алую тряпку, отброшенную вглубь сцены… Господин Перо, грустный паяц, даже не повернулся в ту сторону, откуда ему грозила опасность. Все это время он стоял в одной позе, даже не поворачивая головы.
Все произошло мгновенно. Так быстро, что ошарашенная публика «Театра плачущих кукол» молчала еще несколько секунд, прежде чем осознала, что произошло.
Это случилось, когда четырехрукий был в шаге от белого паяца. Гензелю показалось, что господин Перо взорвался. Мгновенно и бесшумно, точно под его балахоном была спрятана взрывчатка, превратившая тело в подобие шапки одуванчика. Лоскуты белой ткани взметнулись во все стороны сразу. Но взрывы не бывают бесшумными.
Четырехрукий, так и не коснувшись Пера, отчего-то замер в самой нелепой позе. Напряженное тело, секунду назад готовое смять противника, обрушиться на него подобием стального молота, вдруг остановилось и стало медленно обмякать. Даже из зрительской ложи было видно, как расслабляются внушительные мышцы. Мул зашатался. И внезапно закричал от боли.
— Что это за… — Гензель пытался рассмотреть, что произошло на сцене, и не верил собственным глазам.
Со стороны могло показаться, будто четырехрукого мула стиснул целый клубок извивающихся серых змей. Каким-то образом они оплели его со всех сторон, так что он оказался окружен ими, будто ветвями густого кустарника. Но это были не ветви. Змеи пульсировали, некоторые быстро, другие медленно. Они раздувались и опадали, точно что-то перекачивая, и Гензель наконец разглядел, что у змей этих нет голов, каждая из них оканчивалась не пастью, а коротким заостренным когтем, пронзившим тело мула. И все эти змеи тянулись из-под балахона господина Перо, свисавшего теперь рваными клочьями. Это были не змеи, это были отростки его собственного тела, жилистые, гибкие, как шланги, и увенчанные острыми крючьями.
Мул силился высвободиться из смертоносной хватки — и не мог. Проткнутый сразу в дюжине мест, он выпучил глаза и попытался дотянуться до шеи Пера, однако не сумел совладать даже с собственными конечностями. Он уже был мертв, и, кажется, тело поняло это прежде разума.
Гензель выругался.
Перо молча смотрел в зал, не обращая внимания на дергающегося мутанта, чьи руки отчаянно и безнадежно пытались вырвать из тела острые когти. Те вошли плотно, как рыболовный крючок в податливую наживку. Перо ничего не говорил, просто смотрел в зал. Потом он внезапно пожал плечами и отвернулся. В тот же миг послышался влажный треск — и жилистые щупальца разорвали его неудачливого противника на части, расшвыряв по сцене обломки костей, влажные комки внутренностей и обрывки одежды. Потом щупальца, роняя на доски сцены еще дымящуюся кровь, так же бесшумно втянулись под балахон. Зал, еще недавно потрясенно молчавший, разразился ревом и хриплыми криками.
— Прекрасное выступление! — провозгласил господин Карраб Варрава. — Вот за это мы и любим наших кукол! Какая тонкая манера игры! Какая постановка! Да, господа и дамы, это старая актерская школа!
Не слушая аплодисментов, Перо повернулся и вышел за кулисы. Порванный балахон развевался на нем, как потрепанное знамя. Украшенный во многих местах кровавыми отпечатками, он уже не мог именоваться белоснежным. Но грустная кукла, кажется, не обращала на это никакого внимания. Коротышки из оркестра, торжествующе повизгивая, кромсали уцелевшие части тела проигравшего ножами, то ли вымещая свою злость, то ли чтобы их маломощным собратьям легче было убрать останки со сцены.
— Внимание! — возвестил Варрава, выдержав несколько минут оваций и раскланиваясь. — Представление еще не окончено! Наш театр всегда знает, чем угодить взыскательной публике, и сегодня он не намерен вас разочаровывать. Правда, нам пришлось немного изменить первоначальную программу. Как вы знаете, сегодня на этой сцене должна была выступать наша обворожительная леди, звезда театра Синяя Мальва.
Мулы из партера засвистели. Их грубая ругань была неразборчива, но Карраб Варрава с улыбкой взирал на них из своей золоченой ложи.
— Все в порядке! Мы еще успеем увидеть восхитительную и смертоносную Синюю Мальву, чтобы насладиться ее превосходной игрой. Всему свое время. На сегодня у меня запланирован для вас сюрприз. Сегодня сцена нашего театра увидит новичка, прежде не игравшего. О да, это молодое дарование, при этом способное удивить взыскательного театрала…
Возмутительно, — с чувством сказал сосед Гензеля по ложе, не без лоска одетый квартерон с выпученными слезящимися глазами. — А ведь когда-то это был уважаемый театр. Этот подлец Варрава опять набрал в труппу бесполезных сопляков, ни разу не бывших на сцене, и еще смеет предлагать их публике!..
Директора театра не смутила холодная реакция зала. Как и прежде, он широко улыбался, подкручивая пальцем кольца своей длинной черной бороды.
— Прошу любить и жаловать нашу новую звезду! Это не совсем обычный актер, но не смущайтесь его внешним видом. Уверяю вас, что под деревянной оболочкой живет превосходная кукла, обладающая редкими талантами! Итак, готовьтесь! Бруттино! Деревянный мальчик!
Бруттино вышел на сцену. Вышел не сам — за кулисами сцены Гензель разглядел несколько человек из театральной обслуги, тычущих ему в спину баграми. У некоторых имелись и ранцевые огнеметы, признак того, что Бруттино и верно оказался в театре на особом счету.
Он шел медленно, размеренно переставляя деревянные ноги, и всякий раз, когда его ступня касалась деревянной сцены, раздавался неприятный громкий стук, какой бывает, если бить увесистой колотушкой по винной бочке.
Он выглядел невысоким, но очень плотным и тяжелым: телосложение, едва ли подходящее для мальчишки. Но он и не был мальчишкой, Гензель убедился в этом по манере Бруттино держаться, по тому, как тот смотрел в зрительный зал. В нем чувствовалась зрелость, выдержка, даже хладнокровие. Это существо, не успевшее прожить и десяти лет, давно миновало пору отрочества. И замершую публику оно рассматривало без всякого страха, с ледяным презрением в желтых, похожих на оплывшие куски янтаря глазах.
Он был человекоподобен, но не более того. Ростом едва ли по плечо взрослому мужчине, Бруттино напоминал собой скорее старую колоду, простоявшую много лет во дворе чьего-то дома, разбухшую от множества дождей, подточенную насекомыми, изрубленную топором, но оставшуюся прочной и твердой, как камень. Несуразно большие руки с распухшими суставами, напоминающими древесные опухоли, оканчивались деревянными пальцами разного размера. Ноги, напротив, были карикатурно коротки, но, судя по тому, как легко удерживали своего хозяина, тоже были созданы из прочного материала. Кожа Бруттино напоминала сухую потрескавшуюся древесину, освобожденную от коры, темную и шероховатую. Кое-где она была покрыта бурыми и зелеными мшистыми пятнами.
Еще менее человечьим было его лицо. Кто-то пытался придать ему человеческие черты, но то ли не преуспел, то ли дерево с годами взяло свое — лицо Бруттино выглядело лишь невыразительным подобием человечьего. Слишком зыбкие и слабо выраженные черты. Такое могло получиться у ребенка, только недавно взявшего в руки резак и почти сразу же бросившего свою затею. Лишенный губ рот походил на древесный разлом, полный сухой щепы. Когда Бруттино приоткрывал его, делались видны зубы, разной формы и размера. Нос, напротив, был гипертрофирован и выглядел едва ли не карикатурно — длинный, в две ладони, острый шип, выпирающий между глазами и ртом. Последняя деталь казалась уродливее всего. К чему деревянному человеку такой длинный нос? Может, в нем заключены миллионы обонятельных рецепторов? Если так, его создатель чего-то не учел — едва ли Бруттино проводил целые дни, нюхая розы. Скорее, возникала неприятная ассоциация с комаром и его вытянутым хоботком.
— Ну и урод, — пробормотал Гензель непроизвольно, наблюдая за тем, как деревянная колода, скрипя суставами, ковыляет по сцене. — Уж прости, сестрица, но те куклы, которых я тебе вырезал в детстве, и то смотрелись получше.
Он сомневался, что это замечание заденет Гретель. Оно и не задело. Не так-то просто уязвить геноведьму, даже если практикуешься в этом годами.
— Древесина — не самый податливый и послушный материал. Да и я не скульптор.
— Но зачем такой большой нос?
— Не моя задумка. Всего лишь неконтролируемое разрастание тканей. Не забывай, это был эксперимент. То, что ты видишь на сцене, — его досадные последствия.
— Моя сестра — самое здравомыслящее существо на свете, — пробормотал Гензель. — Как жаль, что ее здравомыслие вызревает, подобно редкому фрукту, по семь лет…
Бруттино, подгоняемый баграми, вышел на середину сцены и замер, немного ссутулившись. Первоначальное удивление публики, вызванное его внешним видом, быстро прошло. Публике приходилось видеть и не такое.
— Чурбан! — закричали в первых рядах мулы. — Какой дурак выкатил на сцену колоду?
— Эй, дерево! А ну-ка покажи свое дупло! Туда птицы яйца еще не отложили?
— Зовите дровосеков!
— А нос, гляньте на нос! Экая же иголка!
Залу, набитому уродливыми мулами, потребовалось не больше полуминуты, чтобы перейти от удивления к ярости. В Бруттино полетели бутылки, куски половиц и перил, подсвечники, яблоки, мелкий сор.
Бруттино взирал на них мертвым янтарным взглядом, не пытаясь уклониться или защитить себя. Похоже, его лицо, высеченное много лет назад, не способно было менять выражение. Оно и оставалось деревянной маской, безразличной, холодной, равнодушной.
Глядя на Бруттино из ложи, Гензель ощутил что-то, напоминающее сочувствие. Если публика измывается над деревянным существом сейчас, что же ему приходилось сносить в детстве? Наверняка соседские мальчишки измывались над ним с присущей лишь детскому воображению злокозненной изобретательностью… Гензель скрипнул зубами, вспомнив собственное детство.
Довольно сложно расти, если судьба от рождения подарила тебе акульи зубы. Судьба, подобно генофее из сказки, редко спрашивает, что ты хочешь получить на день рождения. У нее на любой счет есть свое мнение, которого не оспорить, посвяти геномагии хоть всю свою жизнь. Был ли Бруттино виноват в том, что кто-то за него вытянул лотерейный билет? Он родился деревянной куклой, как иные рождаются отмеченными генетическими дефектами. Это был персональный дар мироздания, и едва ли все геномаги на свете помогли бы Бруттино избавиться от него.
Брошенный кем-то помидор беззвучно лопнул на груди Бруттино, заляпав его густой жижей. Кусок угля, направленный меткой рукой, угодил в зубы. Бруттино не пошатнулся, даже не сделал попытки отойти от края сцены. Он бесстрастно смотрел на ревущих от злости мулов, подобно тому как старое дерево взирает на копошащихся на его коре мелких насекомых.
Гензель нащупал в кармане плотный глянцевый лист — письмо господина Варравы — и едва удержался, чтобы не разорвать его прямо в ложе.
Это он придумал сделать из деревянного мальчишки потеху для жадной до зрелищ толпы. Он решил чужими руками выполнить всю грязную работу.
«В следующий раз, когда захочешь пожалеть его, вспомни, что этот деревянный мальчишка — вор, разбойник и убийца, — скрежетнул в сознании голос, достаточно презрительный и холодный, чтобы принадлежать акуле, если бы та умела говорить. — Деревянный ублюдок сам выбрал свою судьбу. Ты лишь отвесил пинок ему под зад, ускорив события!»
Голос, кому бы он ни принадлежал, был прав. Но Гензель поймал себя на том, что впервые испытывает желание отвернуться от сцены. Лишь бы не смотреть на деревянное существо, замершее в пятне ослепительного света, не пытающееся увернуться от летящего в него мусора.
— Вон полено со сцены!
— Несите его обратно в лес!
— Выпустите против него дятлов!
Карраб Варрава наблюдал за беснующейся толпой, усмехаясь и поглаживая кнутовище. На Бруттино он поглядывал одобрительно, даже с некоторой отеческой нежностью.
— Не смущайтесь, дамы и господа! — возвестил директор театра, когда шум немного утих. — Этот мальчишка, может, невзрачен, но уверяю вас, что он вам полюбится. У него есть талант к подобному ремеслу. И чтобы это продемонстрировать, мы проверим его на одном из наших старых актеров. Посмотрим, окажется ли деревянная кукла ему по зубам! Встречайте, встречайте нашего старого заслуженного актера! Генокрокодил!
Тот вышел на сцену сразу же, должно быть, ждал условленного знака за кулисами. Впрочем, лишь услышав скрип когтей по деревянному полу, Гензель уже напрягся. Нехороший был скрип. Так может идти только что-то очень большое и наверняка опасное.
Генокрокодил вышел к зрителям со спокойным достоинством. Чувствовалось, что он давно привык к вниманию публики, мерцающие изумрудные глаза рептилии спокойно щурились на свет прожекторов. Он ловко держался на двух ногах, используя для сохранения равновесия массивный шипастый хвост. Судя по всему, тело, образованное общим генетическим материалом человека и аллигатора, было вполне приспособлено к подобному методу передвижения. Впрочем, не так уж много в нем было от человека. Огромная пасть щерилась самыми настоящими крокодильими зубами, а тело, кажущееся медлительным и излишне массивным, как у всякого водяного хищника, было покрыто пластинками грязно-зеленой чешуи. Обманчиво-мягкие движения твари показались Гензелю зловещими. Леденящая грациозность опытного людоеда.
Но больше всего Гензеля удивило, что чудовище вышло на сцену в костюме, скроенном так ладно, будто портной всю жизнь обшивал исключительно рептилий. Бордовый пиджак с белой сорочкой удивительно хорошо сидели на крокодильей фигуре. На голове у Генокрокодила была шляпа, а в руке он невозмутимо держал курительную трубку. Определенно это был самый странный представитель крокодильего рода, виденный Гензелем. И, возможно, самый опасный. Внимательные глаза рептилии, сверкнув неярким изумрудным пламенем, уставились на Бруттино.
— Я его знаю, — неожиданно сказала Гретель, наблюдая за тем, как странное существо нарочито медленно приближается к деревянной кукле, покачивая хвостом. — Видела когда-то в зоопарке у одного гунналандского барона.
— И кем он там служил? — не к месту спросил Гензель.
— Крокодилом, братец. Он служил там крокодилом. И получал регулярную кормежку. Если бы он мог использовать весь поглощенный им человеческий геноматериал для регенерации своих собственных хромосом, он уже был бы человеком на триста процентов. Видно, господин Варрава выкупил его для своего театра…
— Истинное наслаждение — смотреть на игру двух актеров! — провозгласил со своего места Карраб Варрава, упивающийся представлением. — Даже если один из них — заслуженный мэтр сцены, а другой — юный дебютант! Попросим же их развлечь нас этим вечером! Позвольте им угодить вкусу столь взыскательной публики!
Карраб Варрава хлопнул в ладоши, и Генокрокодил стал неторопливо стягивать с себя костюм. Под тканью оказалось блестящее тело получеловека-полуаллигатора. Чешуйчатая шкура обтягивала жилистые мускулы, грудная же клетка была вполне человеческой формы, как и бедра. Генокрокодил двигался невероятно мягко, будто находился не в воздухе, а в куда более плотной жидкой среде. Несмотря на то что ложу от сцены отделяло больше двадцати метров, Гензель почувствовал, как собственные его мышцы невольно напрягаются. Существо, выпущенное Варравой на сцену, было самым настоящим хищником, в куцем сознании которого едва ли нашлось место для чего-то человеческого.
Бруттино оставался недвижим, его деревянное тело застыло. Панический паралич? Гензель едва ли мог ответить. Он хорошо разбирался в хищниках всякого рода, но никогда не имел дела с деревьями.
— Игра! — рявкнул Карраб Варрава так громко, что едва не перевалился грузным телом через ограждение ложи. — Пусть начнется игра!
И игра началась.
Генокрокодил мягко опустился на все четыре лапы и стал приближаться к Бруттино. Доски сцены негромко скрипели, расчерчиваемые его когтями. Хвост колебался из стороны в сторону. Чудовище двигалось так, будто его не видно, как если бы находилось под толщей мутной воды. Пара неярких изумрудов плотоядно блестела, уставившись на стоящее без движения деревянное тело.
Интересно, придется ли ему по вкусу деревянная стружка?..
Генокрокодил ринулся вперед — гудящая зеленая стрела. Бросок был мгновенным, страшным, такой силы, что из-под лап чудовища взметнулись расколотые доски вперемежку с древесной трухой. Таким ударом можно было бы обрушить стену дома или выворотить из земли дерево. Генокрокодил сознавал свою мощь и явно был неравнодушен к зрительскому вниманию. Ему мало было растерзать другую куклу. Он хотел смести ее мгновенно, так быстро, чтобы удивленный выдох зала настиг его только тогда, когда от чужака останутся лишь бесформенные деревянные огрызки.
Но Генокрокодил промахнулся. Возможно, впервые в жизни.
Он ударил всем телом в то место, где прежде стояла сутулая деревянная фигура, проломив сцену и едва не свалившись за рампу. Он даже не сразу понял, что допустил оплошность. Поднял уродливую чешуйчатую морду, отыскивая своего врага. В его глазах, способных выражать лишь голодный блеск, на миг появилось озадаченное чувство. Матерый хищник, не хуже акулы знавший теплый вкус крови, не привык к тому, что жертва может бесследно пропасть.
Бруттино двигался так, как не способен двигаться обычный человек, чьи клетки питаются кислородом, а мышечные волокна управляются разветвленной нервной системой. Так, как не способен двигаться ни один мул, пусть даже человеческого в нем — десятая доля процента. Шаги сливались один с другим и были бы вовсе не заметны, если бы не отчетливый стук дерева по дереву. Однако его движения не были мягкими, напротив, в противоположность крокодильим, они отличались какой-то непривычной резкостью. Если бы человек попробовал двигаться в такой манере, его кости треснули бы, а суставы вывернулись наизнанку. Один короткий всплеск движения, лихорадочно быстрого, острого, внезапного.
Гензель замер на своем месте, пытаясь уследить за происходящим. Увиденное на сцене оставляло после себя двойственное чувство. С одной стороны, он был потрясен тем, как легко и решительно двигается невзрачное и кажущееся неуклюжим деревянное существо. Это и в самом деле впечатляло. Ему самому не раз приходилось сходиться в драке с самыми разными порождениями хромосомного скрещивания, включая наиболее жуткие образчики с городского дна, жертвы богатой вереницы генетических сбоев и болезней. Но никогда прежде ему не доводилось видеть, чтобы кто-то двигался столь умело и эффективно. Не по-человечески эффективно.
Бруттино, при всей своей кажущейся массивности, в бою походил на щепку, оказавшуюся в центре урагана. Он не оставался на месте ни мгновения, он двигался, всякий раз оказываясь ровно на палец дальше, чем могли достать щелкающие зубы Генокрокодила. Превосходное чувство дистанции. Каждое движение прекрасно выверено и четко, будто не импровизация, а накрепко заученный элемент танца. Только танца страшного и жуткого, несмотря на то что на опилки еще не упало ни капли свежей крови.
Очередной удар Генокрокодила не достиг цели — Бруттино легко уклонился от разверзнутой пасти, и потребовались ему для этого лишь два коротких шага. «Почему он не бьет? — удивился Гензель, его мысли едва поспевали за стремительными движениями пляшущей на сцене деревянной куклы. — У него была уже дюжина возможностей…»
Бруттино ударил. В тот момент, когда этого никто не ждал, как не ждал и сам Генокрокодил. Человекоподобная рептилия нанесла очередной удар, в этот раз лапой, и вновь не обнаружила под когтями изломанного деревянного тела. В этот раз оно не маячило в шаге от него, оно попросту пропало, скользнув куда-то под брюхо. Генокрокодил, превосходная боевая машина, впервые за свою долгую жизнь был озадачен. Он замер, теряя драгоценные секунды, — его мозг, хорошо разбирающийся в укладе боя, не привык решать подобные задачи. А потом было поздно, потому что Бруттино вдруг выскочил из ниоткуда, как паяц из табакерки, и нанес единственный удар. Его узкий острый нос беззвучно вошел в изумрудный глаз Генокрокодила, мягко, как отточенный стилет.
Генокрокодил испустил оглушительный хриплый вой и тряхнул мордой. Он, привыкший своей мгновенной реакцией парализовать противника, едва ли сам успел сообразить, что произошло. Он просто ощущал боль и, как любое животное, рефлекторно пытался от нее избавиться.
Бруттино не сразу вытащил нос из скользкой, оплывающей кровью раны, несколько раз ловко провернув его в ней. Генокрокодил коротко ударил лапой, намереваясь вмять впившуюся в него деревянную куклу в пол, но та вновь оказалась быстрее. Может, на четвертушку мгновения, но быстрее. Вырвала свое жало из окровавленной глазницы и вновь прыгнула в сторону.
Генокрокодил крутанулся на месте, клацая зубами. Без сомнения, они справились бы с деревянной куклой легче, чем деревообрабатывающий станок с сухим чурбаком, распустив на стружку. Но Бруттино, проявляя невероятную прыть, легко перемещаясь на сучковатых ногах, сновал вокруг беснующегося крокодила.
Теперь удары следовали один за другим. В лапу. В бок. В грудь. Опять в лапу. В спину. В подбородок. Нос Бруттино безжалостно и ловко жалил огромную крокодилью тушу, каждый удар был скользящим и коротким, точно превосходный фехтовальщик упражнялся, тыкая набитый соломой мешок.
Только внутри у Генокрокодила была не солома. Всякий раз, как нос Бруттино пронзал его прочную на вид пластинчатую кожу, Генокрокодил издавал рев боли. Он метался по сцене из стороны в сторону, мотал головой, разбрасывая хлопья бледно-розовой слюны, даже перекатывался через шипастую спину. Все тщетно. Деревянная кукла словно насмехалась над ним. Она ускользала из того места, где вот-вот должны были сомкнуться его зубы, и появлялась в другом. Ставший багровым от перепачкавшей его крови нос вновь и вновь вонзался в чешуйчатое тело.
Не прошло и минуты после начала представления, когда Генокрокодил начал пошатываться и выглядел так, словно попал под плотный залп картечи. Лишившийся одного глаза, потерявший координацию, наполненный и яростью и ужасом одновременно, он беспорядочно метался по сцене, тщетно лязгая огромными зубами. Упорная деревяшка не давалась ему. Она всегда была неподалеку, но ровно на фалангу пальца дальше, чем он мог дотянуться. И всегда молниеносно оказывалась достаточно близко, чтобы нанести очередной удар.
Генокрокодил, ступивший на сцену сознающим свою силу триумфатором, сам не заметил, как превратился в затравленную жертву. Существо, несопоставимо более маленькое, одурачило его и теперь планомерно терзало, оставляя в чешуйчатой туше глубокие раны.
Генокрокодил больше не помышлял о нападении. Истекающий кровью и бесцветной слизью, спотыкающийся, уже не выглядящий хищником, он бессмысленно крутился, пытаясь угадать, с какой стороны последует новый выпад. Но ни разу не угадал. Деревянный кинжал разил его вновь и вновь, беззвучно впиваясь в плоть. Он бил в шею, в подбрюшье, в спину, в морду — и всякий раз мгновенно отлетал в сторону под аккомпанемент деревянного стука. Это было похоже на вьющуюся вокруг большого, но неуклюжего паука деревянную осу. Свою стремительность она обращала в неуязвимость.
Но Бруттино был не просто быстр, скорость не являлась его единственным оружием. Помимо этого, он был и невероятно силен. Гензель уловил момент, когда удар Генокрокодила, нанесенный вслепую, угодил в цель. Точнее, почти угодил. Вместо деревянной головы чешуйчатая лапа соприкоснулась с мгновенно выставленной деревянной же рукой. Раздался негромкий хруст, и лапу вывернуло из сустава, она осталась болтаться, больше не подчиняясь хозяину.
Гензель смотрел на сцену как зачарованный. Бруттино был не просто хорош в бою. То, о чем судачили на улицах, не отражало и четверти его истинного потенциала. Он был страшен. Его боевые качества настолько превосходили качества противника, что бой перестал быть боем с того момента, как начался. Это было театрализованное убийство. Расчетливое, осознанное, показное. Деревянная кукла, наслаждаясь своим превосходством, медленно и планомерно уничтожала своего оппонента, не оставляя ему и тени шанса. Даже не представление — унизительная казнь.
«А что, если бы на месте этого мутировавшего крокодила очутился ты? — проникнутый ядовитыми испарениями чужой голос проник в сознание. — Старая акула — неважный боец. Она способна лишь громко щелкать челюстями, отгоняя мелюзгу. Думаешь, это сработало бы с Бруттино?..»
Не сработало бы. Это Гензель понимал с безжалостной отчетливостью. На стороне Бруттино были его сила, молодость, скорость, напор. Все то, чем когда-то располагал Гензель. Много лет назад, когда еще считал себя вертким хищником глубин, а не старой рыбиной, проводящей часы у поверхности и греющейся на солнце. Если бы кто-то заставил его сейчас выйти на сцену против Бруттино, он не поставил бы на себя и медного гроша. Разве что половину — если у него в руках будет мушкет.
— Кажется, ты впечатлен, братец, — неожиданно сказала Гретель.
Оказывается, она уже некоторое время наблюдала не за сценой, по которой метался истязаемый Генокрокодил, а за ним самим. Гензель разозлился на себя. Если уж Гретель ничего не стоит прочитать по его лицу охватившие его впечатления…
— Он неплох, — сказал Гензель небрежно, но одобрительным тоном. Пожалуй, неплох. Немного небрежен, но в целом…
— Он гораздо сильнее любого существа, которое тебе доводилось видеть. Разве не так?
Гензель поморщился, пытаясь в то же время сохранить пренебрежительное выражение.
— Не стану спорить, эта деревянная кукла умеет впечатлить невзыскательного зрителя… Ладно, допустим, что он и в самом деле отличный боец. Даже для здешнего театра, который многое повидал. А теперь объясни, ради решетки Пеннета, за каким дьяволом тебе потребовалось создать что-то подобное? Хотела заработать на подпольных боях, чтобы раздобыть денег на лабораторную посуду?
Плечи Гретель опустились. Незначительно, может, на пару миллиметров. Но сейчас, когда они не были скрыты потрепанным лабораторным халатом, это было хорошо заметно.
— Я не задумывала ничего подобного. Это был эксперимент над необычным видом древесины, а не попытка вырастить непобедимого гладиатора.
— Когда я иду вечером в трактир, чтобы опрокинуть стопку анисовой настойки, я тоже не всегда предполагаю, что встречу утро в придорожной канаве. Но в твоем случае, мне кажется, эксперимент слишком уж отошел от корней. Насчет корней — надеюсь, ты оценила каламбур?..
На сцене взревел Генокрокодил — деревянная кукла, скользнув под чешуйчатой тушей, ударила своими пальцами, похожими на неровно обрубленные древесные ветки, ему в пах и практически оскопила.
— У него отличные физические показатели, — ровным тоном произнесла Гретель, когда рев смолк. — Удивительно.
Гензель поежился.
— Ты уверена, что поливала его простой водой, когда он рос?
— Я использовала рыбный суп.
— Дереву — рыбный суп? — изумился Гензель. — С каких пор деревья поливают рыбьим супом?
— Экстракт из желез глубоководных рыб. Стимулирует клеточный рост…
Генокрокодил едва двигался. Едва удерживая свою тушу на трех уцелевших лапах, он слепо бродил по сцене, даже не пытаясь схватить противника зубами. Чувствовалось, что он находится на последнем издыхании. Кровь лилась из него, как из сырой печенки, которую подвесили на веревку и размозжили шестопером. Он поскальзывался в собственной крови, время от времени падал, издавая нечленораздельный рык. Его прочная шкура местами свисала клочьями, как порванный холст с рамы, обнажая алое мясо и кость. Оставшийся глаз слепо таращился вперед, едва ли что-то различая. Генокрокодил больше не был охотником, не был королем и единовластным диктатором сцены. Теперь это было издыхающее существо, жалкое, неприятное и тоскливое, как все животные в приближении смерти. Мулы из зрительного зала, еще недавно ободрявшие его криками, теперь свистели и насмехались, стоило ему в очередной раз попытаться атаковать. Они давно уже поняли то, во что он сам отказывался верить, — вчерашний король стал просто несколькими сотнями килограммов медленно отмирающей плоти, в которой еще каким-то чудом зиждется жизнь.
Бруттино преследовал его, не давая отползти вглубь сцены. Теперь, когда не было нужды соревноваться с чемпионом в скорости, он не считал нужным спешить. Деревянная кукла вновь двигалась неспешно и неуклюже, скрипя раздутыми суставами. Его невыразительное деревянное лицо походило на огромную рану — все оно, от макушки до подбородка, было заляпано кровью рептилии, а острый нос казался черным.
Наступало время последнего удара. Кажется, это почувствовал и сам Генокрокодил. В какой-то момент он попросту перестал защищаться, а может, силы окончательно покинули его когда-то могучее, не знавшее поражений тело. Он больше не представлял интереса как объект жестокой игры или мешок для битья. Он был наполовину освежеванной тушей, готовой испустить дух. Гензель надеялся, что Бруттино нанесет своему противнику милосердный удар в основание черепа и тем закончит представление, к безумной радости мулов.
Но чем бы ни руководствовалась деревянная кукла, это было не милосердием.
Бруттино вдруг перестал жалить Генокрокодила и даже отошел от него на несколько шагов. Он нарочно двигался медленно и замер в каких-нибудь пяти шагах от своего противника, прямо перед его пастью. Это была издевка, понял Гензель, приглашение.
Видимо, рефлексы даже умирающего хищника оставались достаточно сильными. Потому что Генокрокодил принял это приглашение. Инстинкты хищника не умирают — даже когда умирает их обладатель. Спотыкаясь на негнущихся лапах, он с трудом изготовился к последнему прыжку. Бруттино глядел на издыхающее чудовище сверху вниз. Глаза его походили на капли незастывшего желтого янтаря, оттого взгляд казался липким, обволакивающим.
Генокрокодил бросился в атаку, последнюю в своей долгой жизни. Гензелю показалось, что ловкая кукла вновь крутанется, отскочив в сторону. Но в этот раз Бруттино не стал делать ничего подобного. Напротив, он вдруг устремился навстречу Генокрокодилу, вытягивая вперед руки, — точно огромный, выточенный из дерева арбалетный болт.
Хрястнули огромные зубы, в зале восторженно закричали. Генокрокодил проглотил деревянного мальчишку, как рыба глотает крошечное насекомое. Пучеглазый сосед Гензеля издал возглас удивления. И не только он. Последний акт представления оказался фантасмагорией, чем-то невиданным. Только что деревянная кукла, торжествуя, стояла на сцене, и вот…
В зрительном зале поднялась самая настоящая буря. Мулы потрясали руками и лапами, гоготали, издавали недоуменные возгласы, смеялись. Самоубийство на театральной сцене? Что-то новенькое, доселе невиданное!
— Зачем он это сделал? — спросила Гретель, выдергивая из прически белую прядь и бессмысленно теребя ее.
Гензель сразу понял зачем. Но помедлил, прежде чем ответить.
— Чтобы причинить еще больше боли.
Едва дышащий Генокрокодил не сразу сообразил, что ему удалось сделать невозможное. Шатаясь, будто пьяный, на окровавленных лапах, он глядел в зал единственным своим уцелевшим глазом. Но публика не спешила аплодировать. Наверно, это сбивало его с толку еще больше. Он привык совсем к другому финалу.
Потом его тело задрожало. Но едва ли из-за смертельной усталости. Дрожь была неожиданно сильной, больше похожей на судорогу. Генокрокодил, слишком измученный представлением и неожиданным его финалом, раскачивал из стороны в сторону головой. И вдруг испустил рык, больше похожий на скрежет. Он распахнул пасть, и из горла в зрительный зал ударил фонтан крови. Его собственной крови.
— Твоя кукла — не просто убийца, — сказал Гензель. — Она кровожаднее любого палача из тех, что я видел.
— Он бесстрастен, — возразила Гретель. — Он не человек, ты помнишь? У него не может быть человеческих чувств.
— Для существа, не способного чувствовать, он слишком сильно ненавидит все, что связано с человеком. Иначе бы не сделал того, что делает сейчас. О дьявол…
Генокрокодил рухнул на сцену и затрясся, все его члены задрожали, а чешуйчатое брюхо вдруг вспухло пузырем, растягиваясь на глазах. Оно было бледно-зеленого цвета, но на нем уже расцветали пышные алые цветы разрывов. Хруст кожи, всплеск, треск лопающихся ребер — и брюхо Генокрокодила лопнуло, точно прохудившийся мешок. Наружу из его заживо освежеванной туши выбрался Бруттино, перепачканный с ног до головы в крокодильих внутренностях, но держащийся с удивительным для семилетнего ребенка достоинством. То, что осталось от Генокрокодила, мелко дрожало, затихая, у его деревянных ног.
— Что ж, — пробормотал Гензель. — По крайней мере, кому-то достанется чертовски большая сумочка.
— Блестяще! — закричал Карраб Варрава, всплеснув руками. — Блестяще! Превосходное представление, невероятно красочное и волнующее! Признайтесь, дамы и господа, «Театр плачущих кукол» вновь вас удивил! Определенно, из этого деревянного малыша будет толк. Аплодируйте ему, не стесняйтесь! О, через год он станет самой известной куклой в Вальтербурге! За ним по пятам идут богатство и известность! Ну а наше представление на сегодня закончено. Наш театр ждет вас завтра вечером, чтобы вновь явить на сцене потрясающее воображение действо, исполненное лучшими из актеров!
Зрители стали подниматься со своих мест и неспешно потянулись к выходу из шатра. Цветов на сцену здесь не бросали. А если бы и бросали, подумалось Гензелю, в данном случае это было бы то же самое, что бросить пучок человеческих внутренностей. Едва ли разумное дерево любит получать цветы. «Разумное, необычайно сильное и беспощадное, — добавил он. — И я тысячу раз благодарен Каррабу Варраве за то, что отныне оно не будет цвести на улицах».
Не успел он подняться со своего места, как кто-то вежливо прикоснулся к его предплечью. Это был служащий театра в багровой ливрее, под челюстью которого топорщились лишние пальцы.
— Если вы будете столь любезны, милостивые господа, я отведу вас за кулисы, к господину Варраве, — сказал он с легким поклоном. — Господин Варрава настоятельно просил вас навестить его после представления.
— Конечно, — кивнул Гензель. — Господин Варрава вполне может на нас рассчитывать.
Обстановка внутренних покоев «Театра плачущих кукол» не удивила Гензеля — именно такой он ее и представлял. Просторный зал, уставленный старомодной, под вкус хозяина, мебелью и увешанный затейливыми, явно дорогими гобеленами. Внутри было душно, возможно оттого, что в зале не имелось окон, и запах стоял особенный, затхлый, отдающий домашней пылью, перебродившим вином, табаком и химикалиями. Массивные стулья здесь соседствовали с кожаными кушетками, медные люстры с резными панно, книжные шкафы с невзрачными секретерами и старинными плевательницами. Сразу и не понять, где оказался — в рабочем кабинете, библиотеке или холостяцкой гостиной.
Разносторонние вкусы хозяина подчеркивал беспорядок, царивший в зале, выглядевший донельзя естественным. Курительные принадлежности, писчие перья, пробирки и колбы с неизвестными веществами, предметы одежды, исписанные брошюры, клочки ткани, пороховницы, носовые платки, оплывшие свечи, даже шпоры — все это располагалось здесь в подлинно театральном беспорядке.
— Милый Гензель!
Директор театра расположился в удобном кресле, явно сделанном под его большое и тяжелое тело. После вечернего представления он успел снять цилиндр, брюки и пиджак, оставшись в несвежей сорочке и панталонах. Живот его, большой, как бочка, колыхался на коленях, а иссиня-черная борода удобно свилась кольцами на широкой груди.
— Все-таки решил проведать старого Варраву? Проходи, проходи, милый мой. У меня тут, видишь ли, немного не убрано. Совершенно нет времени привести дела в порядок, работа антрепренера отбирает все время. И дьявольская, скажу я тебе, работа! Поверь, если бы мои старые ноги работали, я предпочел бы играть на сцене, чем тонуть во всей этой рутине!
Варрава вздохнул с неподдельным огорчением. Но почти сразу вернул себе доброе расположение духа, увидев Гретель.
— Сорок полиплоидизаций мне в генокод! Госпожа Гретель! Вот уж не надеялся, что мой скромный театр когда-нибудь увидит подобного гостя! Крайне рад с вами встретиться и благодарен за визит. Если изволите подойти, я поцелую вашу прекрасную руку…
Но Гретель не спешила подходить к креслу. Господина Варраву и обстановку его кабинета она разглядывала с равнодушием, которое вполне можно было назвать презрительным. Как если бы изучала подозрительный микроорганизм с невыявленными свойствами. Впрочем, господин Варрава не выглядел чрезмерно разочарованным подобным пренебрежением к своей персоне.
— Ну и ладно, — заметил он со вздохом. — Ни к чему величайшей геноведьме всего Гунналанда принимать поцелуи от типа вроде меня, старой развалины. Кстати, может, травок каких посоветуете или генозелья? В последнее время просто сам не свой хожу. Организм мой в совершеннейшем упадке, верите ли. Только пиявками и спасаюсь. Если бы не мистер Дэйрман с его питомцами!..
Мистер Дэйрман коротко поклонился. Это был долговязый мужчина средних лет с жидкими и бесцветными, как чахлые водоросли, волосами. Его костюм, когда-то элегантный, а теперь потертый и подгнивший до такой степени, что отдавал прозеленью, казался отсыревшим, точно его хозяин лишь часом прежде вынырнул из какого-нибудь болота. К тому же от него ощутимо несло гнилью и тиной.
— Одну минутку, господин Варрава. Мои пиявочки уже готовы. Давайте, мои маленькие, просыпайтесь…
В углу кабинета располагался большой стеклянный чан, полный неспешно бурлящей полупрозрачной жижи. В его глубинах виднелись извивающиеся продолговатые тени, точно там барахталось множество змей. Гензель не запустил бы руки в этот чан, даже если бы наградой стали десять процентов человеческого генокода, но мистер Дэйрман сделал это так запросто, точно перед ним было ведро с парным молоком. Его тощая рука молниеносно нырнула в жижу, а когда вынырнула, в пальцах была зажата извивающаяся жирная пиявка, такая крупная, что Гензель лишь хмыкнул.
— Сейчас наши пиявочки поработают, господин Варрава, сейчас они все ненужное из вас высосут, все яды и токсины, извольте не шевелиться минуточку…
Варрава даже головой не повел, когда мистер Дэйрман цеплял пиявок ему на грудь, шею и лицо. Пиявки присасывались к коже жадно, с негромким хлюпаньем. И быстро начинали надуваться, ритмично сокращаясь.
— Еще парочку, и хватит на сегодня…
Дэйрман своими тощими проворными пальцами находил только ему одному известные точки на необъятном теле Варравы, и вскоре на нем уже висела солидная гроздь этих червей. Сам же специалист по пиявкам поспешил покинуть зал, оставив своего патрона наедине с гостями.
— Ничего не могу поделать, они — мое спасение, — вздохнул господин Варрава, поправляя пальцем судорожно дергающийся хвост пиявки на виске, чтобы тот не залезал в глаз. — Ничто лучше них не чистит старую кровь. Ну что же ты молчишь, милый Гензель? Даже не поприветствуешь меня, не улыбнешься? После всего того, что между нами было?
— Между нами обычно был мой мушкет, — сказал Гензель. — Но сейчас я, как видишь, без него. Можешь считать это комплиментом, Карраб.
— Я совсем забыл, до чего ты груб, — проворчал директор театра, наигранно хмуря брови, такие же черно-смоляные, как и великолепная борода. — Ты никогда не ценил моей дружбы.
— Она стоит не дороже фальшивого медяка.
Карраб встопорщил свою бородищу. Удивительно по-разному она могла выглядеть, в зависимости от настроения своего хозяина. То наэлектризованным кнутом, лежащим на коленях, то умильно дремлющим пушистым домашним питомцем. Прямо сейчас она скорее походила на небрежно высушенное мочало. Но всякий раз, видя директора театра, Гензель заставлял себя вспоминать, на что эта борода может оказаться неожиданно похожей. На висельную веревку. Даже навскидку он мог назвать достаточно много человек, которые слишком поздно додумались до этого сравнения.
— До сих пор сердишься, — вздохнул Варрава, бережно причесывая бороду серебряной расческой. — Ты мелочен, Гензель. Удивительно, сколь долго можно помнить одно маленькое недоразумение, что между нами было.
— До конца жизни, надеюсь, — невозмутимо ответил Гензель. Слишком уж хорошо я знаю цену тем недоразумениям, которые временами случаются с твоими приятелями.
Карраб Варрава ухмыльнулся. С ехидцей и вместе с тем искренней радостью. Как хитрый старик, которого неожиданно провел малолетний смышленый внук.
«А ведь он куда старше меня, — отстранении подумал Гензель, изучая румяное лицо собеседника. — Я в свои три с половиной десятка считаюсь дряхлым и старым, но Варраве как минимум вдвое больше! Удивительно удачное стечение генетических составляющих. Или эти проклятые пиявки и в самом деле так полезны?..»
— Как вам понравилось представление?
— Оригинально, — сдержанно сказал Гензель. Публика как будто осталась довольна.
Господин директор небрежно махнул рукой.
— Она всегда довольна, мой милый Гензель. Такова особенность всякой публики. Если бы я приказал бросить всех зрителей в чан с этими милыми пиявками, но при этом не прерывал представления, уверяю, они бы ревели от восторга до тех нор, пока на их костях оставалось хоть немного плоти. Но этот сезон и в самом деле обещает быть на редкость удачным. И, как ни странно, этим я обязан тебе.
— Оценил своего нового протеже?
Карраб Варрава широко улыбнулся и потянулся мясистой рукой, обвешанной дергающимися пиявками, к свисающему с потолка шелковому шнуру.
— Этот деревянный мальчик — чудо! Попомни, в самом скором времени он прославит мой театр. Пожалуй, стоит показать его вам вблизи.
— Это необязательно, — возразил Гензель, но поздно: директор театра уже дернул за звонок. Секундой позже в проеме двери показалось невыразительное рыбье лицо мистера Дэйрмана.
— Приведите нашего Бруттино, мистер Дэйрман! Пусть наши гости полюбуются на него.
— Это ни к чему, — заметил Гензель раздраженно. — Мы с сестрой и так имели возможность оценить его сценический потенциал.
— Демонстрировать свое богатство гостям — услада всякого скупца, — засмеялся Варрава. — Особенно это касается тех, кто способен разглядеть его истинную цену. Уверяю тебя, подобных найдется немного.
Дэйрман вернулся удивительно быстро. И в этот раз он был не один. Сразу полдюжины слуг в ливреях тащили за собой что-то, что поначалу показалось Гензелю вытащенной со дна реки корягой, чьи изломанные ветви густо переплетены толстейшей цепью. Это был опутанный с ног до головы Бруттино.
Он не пытался сопротивляться. Впрочем, едва ли в этом был смысл — цепей на него не пожалели. Ссутулившись, со скованными за спиной руками, он выглядел еще ниже, чем на сцене. И не таким грозным. Уж точно не кровожадным чудовищем, которое освежевало гигантского крокодила с такой легкостью, будто это была молодая куропатка. Скорее, едва шевелящимся человекоподобным корневищем.
Вблизи было видно, что его кожа состоит из мельчайших древесных волокон, и все эти волокна плотно переплетены между собой. Когда Бруттино шевелился, его древовидная плоть издавала негромкий треск — как дерево в лесу, ощущающее слабый порыв ветра. Пасть его выглядела жутковато, как древесный разлом, полный тупых и кривых обломков. Гензель мысленно поежился, представив себе, как легко эта пасть сомнет оказавшуюся в ней чужую руку. Не хуже, чем его собственная, пожалуй. Только эта еще и раздробит все кости в теле жертвы подобно паровому молоту.
Но неприятнее всего были глаза. Вблизи сходство с не до конца застывшими каплями янтаря оказалось еще больше. Против воли возникало ощущение, что можно прилипнуть к этим глазам подобно крошечной мошке. И никогда больше не освободиться. Глаза эти глядели на все окружающее с полнейшим безразличием, сложно было даже сказать, на что направлен их взгляд: зрачок был совсем маленьким, напоминавшим застрявший в смоле камешек.
— Я же приказал вымыть его после представления! — воскликнул Карраб Варрава, щурясь. — Почему подбородок заляпан кровью? Плети захотели, негодяи?
Мистер Дэйрман хихикнул. Старший из слуг, хмурый тип с хлюпающей кожей, поросшей каким-то пористым грибком, поспешил оправдаться:
— Пытались отмыть, господин директор! И отмыли бы, кабы он одному из наших полголовы не откусил! Раз — и готово! Проворный, как змея…
Присмотревшись, Гензель заметил, что тупые расщепленные зубы Бруттино перепачканы красным, и кажется даже, будто к ним прилипли клочки мелкого ворса…
Удивительно, но господин Варрава не рассердился. Напротив, благодушно рассмеялся.
— Истинное сокровище! И благодарить за него я должен тебя, милый мой Гензель. Если бы не ты, я бы даже не подозревал, что подобное дарование ходит по моему городу. Можно сказать, у меня под носом! Ах ты, мой деревянный красавец!..
Гензелю показалось, что Варрава хочет погладить Бруттино по голове, но директор театра оказался на редкость благоразумен, ограничившись лишь отеческой улыбкой.
— Конечно, он еще диковат, но мы его объездим, не сомневайся. У меня есть полный штат специалистов для укрощения любых тварей, будь они из плоти или из дерева. И вам спасибо, госпожа Гретель! Если бы не ваш ведьминский дар, едва ли подобное существо смогло бы увидеть свет. Благодарю вас обоих за столь ценный дар!
Кажется, Варрава говорил всерьез, почти не фиглярствуя. Гензель украдкой взглянул на Бруттино и ощутил в желудке колючую и ледяную раковую опухоль — деревянное существо неотрывно смотрело на них с Гретель. Очень внимательно и, как ему показалось, очень недобро. На миг он ощутил себя крохотной мошкой, угодившей в озеро раскаленного тягучего янтаря, медленно обволакивающего и тянущего на дно.
Гензель мысленно поежился. Ему приходилось видеть ненависть во многих взглядах, устремленных на него, он знал ненависть сотен различных оттенков. Знал ненависть кипящую, как смола, едкую, как раствор соляной кислоты, или едва чадящую, как забытый костер. Старую, беспомощную или безумную. Живые существа, населявшие Гунналанд, умели ненавидеть множеством разных способов, так или иначе ему известных. Но Бруттино… Нет, понял он, в этих янтарных глазах не было ненависти, по крайней мере в чистом ее виде. Взгляд деревянного человека казался задумчивым, вялым. Но Гензель вдруг ощутил, что с тревогой изучает звенья сковывавшей Бруттино цепи, проверяя их надежность. Потому что какое-то чувство вдруг шепнуло ему сырым малярийным шепотом в шею: если бы не эта цепь, если бы не охрана, Бруттино сейчас протянул бы свои уродливые сучковатые лапы и смял Гензеля на месте.
«Теперь он знает нас в лицо, знает и имена, — подумал он, надеясь, что никто не заметит выступивших на лбу капелек пота. — Замечательно. Остается только надеяться, что его карьера в „Театре плачущих кукол“ будет очень долгой. Или, напротив, короткой…»
— Лучше вам избавиться от него, господин директор.
Варрава впервые услышал голос Гретель, и это больше удивило его, чем обрадовало.
Он даже приложил ладонь к уху.
— Простите, госпожа геноведьма, я не ослышался? Избавиться? От моего лучшего приобретения за последние десять лет? Не проще ли сжечь сразу театр?
— Возможно, и проще, — легко согласилась Гретель. — Если есть гарантия, что дерево, из которого он состоит, горит. Но я бы все-таки предложила хорошую циркулярную пилу.
— Простите, но мне претит столь варварское обращение с собственным имуществом!
— Жадность — мать жестокости.
— …А глупость — мать всех бед, — отозвался с неприятной усмешкой Варрава. — Я тоже знаю древние поговорки, госпожа геноведьма. Но вы же не всерьез предлагаете пустить под нож гору золотых монет?
— И тем спасти себе жизнь. Даже я не знаю, чего ждать от этого существа, хотя именно я подарила ему жизнь. Я уже вижу, что процесс зашел гораздо дальше, чем мне виделось изначально. И процесс этот шел неконтролируемо. Перед вами не деревянный мальчик, как может показаться, а плотоядное растение, для которого мы все здесь — не более чем упитанные мухи. Вы, господин директор, судя по всему, опытный человек.
Господин Варрава вскинул голову:
— Я содержу этот театр уже тридцать лет!
— Наверно, отлично разбираетесь в актерах, — ничуть не смутившись, заметила Гретель. — В кровожадных садистах, безумных рубаках и опьяненных гормонами мулах. Так вот, Бруттино — это нечто совершенно иное. Вам может показаться, что вы понимаете его и сможете выдрессировать. Что предстоит только сломать его, и рано или поздно он сделается послушен. Вы рассматриваете его всего лишь как очередную куклу из крови и плоти. Кровь всегда понятна, а плоть — послушна. Но он не такой.
Господин Варрава басовито расхохотался. Так, что зазвенел чан с дергающимися в нем пиявками. Мистер Дэйрман угодливо вторил ему тонким голосом.
— Ох, госпожа геноведьма, чертовски благодарен вам за совет, уверен, вы дали его от чистого сердца, только давайте оставим кости псам, а кукол — кукловодам. Может, в геномагии вы понимаете побольше многих в этом гнилом городишке, да только в театре командую я. Кроме того, если не ошибаюсь, нас связывает уговор. С вас — мальчишка, с меня — то, что при нем было, так? Что ж, контракт выполнен, а дальнейшее уже не ваша забота. Коль угодно, купите у лесника телегу дров и наклепайте дубоголовых ублюдков на свой вкус. Но этот — мой.
Гретель смерила его ледяным взглядом. Едва ли она вообще представляла себе образ мыслей господина Варравы. Впрочем, Гензель сам не был уверен в том, насколько соответствует действительности впечатление о старике. Тот часто выглядел наивным хитрецом и напыщенным болтуном, но почти всякий раз это оказывалось ловкой имитацией, очередной ширмой, за которой пряталась его паучья сущность. Убедиться в этом могли десятки много о себе воображающих хищников Вальтербурга, которым старик перекусил хребет. В переносном, разумеется, смысле.
— Дерево не умеет ненавидеть, — сказала Гретель, глядя прямо в лицо Варраве. — Это человеческая черта, не имеющая под собой разумного обоснования, если дело касается флоры. Но дерево умеет устранять препятствия и бороться за свое существование. Часть вшитого в наш генокод инстинкта самосохранения, извлечь который не под силу и геномагу. Вам кажется, что Бруттино в вашей власти. Наверно, так оно и есть. Но вы недооцениваете упрямство и целеустремленность растений.
— Сейчас вы наверняка скажете что-то насчет того, как быстро и неумолимо растет молодой бамбук. — Ядовитая усмешка Варравы, пусть и задрапированная густой бородой, неприятно царапнула. Но Гретель ее не заметила.
— Просто подумайте о том моменте, когда ваше дерево решит, что препятствие к его росту и существованию — вы лично.
Варрава рассмеялся. Немного сухо и неестественно, как показалось Гензелю. Показалось и больше. Показалось, что за личиной Варравы, болтливого старика, как за приподнятой крышкой норы, мелькнула морда земляного паука — три пары матовых немигающих глаз, внимательно изучающих собеседника. Однако иллюзия эта вскоре рассеялась. Варрава быстро вернул себе обычное благодушие и щелкнул пальцами.
— Довольно об этом. Я способен сам распорядиться своей собственностью. Вас же я пригласил по другому поводу, разве не так? Мистер Дэйрман, подайте-ка нам вина! Лучшего вина, которое сыщется в моем погребе! И вытащите этот чурбан обратно в чулан, его мерзкий взгляд действует мне на нервы…
Гензель заметил, что Бруттино больше не сопротивлялся. Пока слуги тащили его к выходу, деревянный мальчишка не отрываясь смотрел на них с Гретель. Столь сосредоточенно, что Гензелю захотелось чиркнуть огнивом и самому поднести трепещущий язычок пламени к гобелену. Быть может, если проклятый, исполненный боли театр господина Варравы превратится в горсть зловонной золы, ощущение от этого нечеловеческого взгляда забудется. Гензель заставил себя выкинуть эту неуютную мысль из головы. Наверно, иногда выгоднее быть безэмоциональным чурбаном, чем обладать живым человеческим воображением.
Мистер Дэйрман уже протягивал пузатую бутыль, полную густой багровой жижи. На миг Гензелю показалось, что это отцеженные остатки того, чем заляпали во время сегодняшнего представления сцену. Карраб Варрава с удивительной ловкостью наполнил три пыльных бокала, извлеченных из-под старой газеты.
— Тост! — возвестил он громко. — За славное партнерство и за его сочные плоды!
Гензель даже не притронулся к протянутому бокалу. И с удовлетворением заметил, что так же поступила и Гретель.
— Спасибо, господин Варрава, мы не станем пить.
— Брезгуете? — удивился директор театра. Пиявки, впившиеся в его подбородок, грудь и шею, еще дергались, напоминая хищные щупальца, торчащие из господина Перо, но уже медленнее. Судя по всему, они достаточно насытились отравленной кровью своего хозяина.
— Разумная предосторожность, — пояснил Гензель. — Мы можем изображать старых добрых приятелей, но мы оба знаем, что доверия между нами никогда не водилось. Оставим эти трогательные жесты. Нас связывает дело, и я рад, что ты смог извлечь из него свою половину выгоды. Значит, осталось поговорить об остатке.
— Ох, милый Гензель, — господин Варрава казался искренне огорченным. — Ты разбиваешь мне сердце своей черной подозрительностью. Между прочим, раз уж речь зашла о договоре, мне пришлось издержаться куда больше, чем ожидалось. Во-первых, выследить этого парня оказалось куда как непросто. Ты был прав, по борделям и трактирам он не ходил. Удивительно добродетельный мальчуган! Вместо этого он имел обыкновения посещать совсем иные места. Знаешь, какие?
— Не знаю.
— Он ходил по подпольным геноведьмам.
Это оказалось неожиданностью. Достаточной для того, чтобы сами собой щелкнули зубы.
— Лжешь.
— С чего бы мне лгать? — удивился Варрава. — Мне-то с этого выгоды нет. Да, твой парень шлялся по геноведьмам. У разных был. У тех, что на окраине рынка чирьи кошачьей мочой сводят, и у тех, что приличных клиентов имеют. Просто удивительно, госпожа Гретель, как до вас не добрался.
— Не очень, — сухо сказала Гретель. — Он знает, что я его создала. И, видимо, знает, что я не советовала его приемному отцу оставлять разумное дерево в живых. Ко мне он не явится, даже если я останусь последней геноведьмой в городе.
Варрава попытался галантно улыбнуться, но получилась у него несимметричная и жутковатая ухмылка, сквозь которую проглядывали старческие бледно-алые десны.
— Мне следовало догадаться, что вы к этому приложили руку. Все самые удивительные вещи в Вальтербурге случаются с вашей подачи, госпожа Гретель. Позвольте спросить, а не сделаете ли вы приятелю вашего брата еще парочку таких забавных уродцев? Разумеется, на основании достойной и более чем щедрой оплаты?..
Взгляд Гретель умел сжигать, но умел и замораживать. Судя по тому, как дернулась в инвалидном кресле туша Варравы, он испытал и то и другое одновременно. А может, что-то и похуже. Даже взгляд его, черный и засасывающий, на миг потух, словно прожектора под куполом театра.
— Что он искал у геноведьм? — резко спросила Гретель.
Варрава захихикал. После взгляда геноведьмы он удивительно быстро пришел в себя и успел восстановить душевное равновесие. Гензель лишь мысленно покачал головой. Удивительный человек, хоть и подлец. Реликт, наследие старой эпохи.
— Никогда не поверите, чего искал наш деревянный проказник! Думаете, генозелье, чтобы почки с пальцев свести? Или смазку против термитов? Как бы не так! Он на большее замахнулся. Никогда не догадаетесь!
— И даже не будем гадать, — жестко сказал Гензель, на которого смех Варравы действовал раздражающе, как треск хитиновых крыльев огромного насекомого. Или паучьих лапок.
Варрава хрустнул суставами пальцев, получая явное удовольствие от еще не произнесенных слов.
— Он хотел стать живым мальчиком.
Гензель почувствовал себя так, словно ему самому по затылку ударили суковатой дубинкой. Мальчиком!.. Это деревянное чудовище, разорвавшее на сцене огромного крокодилообразного мула, вознамерилось стать всамделишным живым мальчиком?.. Нелепица. Вздор. Абсурд.
Гретель не торопилась смеяться, но и оглушенной она тоже не выглядела. Кажется, эту новость она восприняла достаточно легко. Может, ожидала чего-то подобного?
— Мальчиком! — Варрава все не мог успокоиться, лупил своими огромными тяжелыми ладонями по подлокотникам кресла, отчего то скрипело. — Представляете? Деревяшка хочет стать человеком, ну и номер!
Гензелю захотелось немедленно покинуть кабинет и его хозяина. Разговор затягивался — неприятный, ненужный, бесполезный разговор. Но он знал, что нельзя спешить. Если Варрава почует его интерес к ключу, все может усложниться. Едва ли старик настолько глуп, чтобы открыто претендовать на имущество шарманщика Арло, но вот нюх на выгоду у него феноменальный, лучше, чем у акулы — на кровь. Почует мгновенно.
— Это невозможно, — сказал Гензель вслух. — Дереву никогда не стать человеком. И дураку понятно. Верно, Гретель?
Гретель промолчала. Едва ли она не услышала вопроса, скорее не сочла нужным говорить очевидную банальность. Даже геномагия не творит чудес. А превращение дерева в человека — это самое настоящее чудо.
— Однако мальчонка проявил похвальную настойчивость, — заметил Варрава, отсмеявшись и утерев выступившие слезы. — Он обошел, наверно, добрую половину геноведьм и геномастеров, не чураясь самых последних. Успехов, понятно, не стяжал. Кое-где его сразу разворачивали от порога. Другие, те, для кого золото дороже репутации, делали вид, что готовы ему помочь.
— И чем заканчивалось?
— Для последних двух геноведьм — ничем хорошим. Они выманили у него несколько золотых, якобы на ингредиенты для волшебного зелья, но обернулось все пшиком. Бруттино остался недоволен и убил их своими же руками. Оторвал головы и расчленил. Мне кажется, из него бы получился прилежный и добрый мальчик. — Варрава вновь захохотал, раскачиваясь в инвалидном кресле. — Кстати, я сам из-за него понес убытки. Когда мои ребятки его вязали на пороге очередной геноведьмы.
— Надеюсь, они тебя не разорят.
Варрава посерьезнел.
— Между прочим, он обошелся мне в трех слуг. Дрался, как осатаневшая тварь из адских бездн. Не чувствовал ни усталости, ни боли. У одного он голой рукой вырвал целиком легкие из груди. Никогда бы не подумал, что деревяшка может быть такой твердой… И такой злой. Второму вывинтил голову из плеч так запросто, словно это была перегоревшая лампочка. Третий всадил в чурбан пулю, но не смог даже пробить шкуры, а Бруттино в ответ воткнул ему мушкет в глотку. Кабы не принесли сети, попортил бы еще с десяток людей…
— Проведи эти потери как рабочие издержки, — посоветовал Гензель. — Кому, как не тебе, знать, что искусство требует жертв.
Господин Варрава кисло улыбнулся и невозмутимо отхлебнул вина из бокала. Бокалы Гензеля и Гретель так и остались стоять нетронутыми.
— Я не в убытке. В кошеле у этого полена нашли полсотни золотых монет — то, что он не успел потратить на геноведьм. И поскольку они в нашем договоре не фигурировали, я рассудил, что вправе взять их себе, как сторона наиболее потерпевшая. А парнишка-то ваш, между прочим, аскет. Иметь при себе такую прорву денег и жить хуже последнего мула. Снимал самую дешевую комнатушку, питался всякой дрянью, носил рванье… Удивительный скряга. Теперь-то ему деньги, понятно, ни к чему. Наши актеры работают не ради презренного металла, а ради любви публики! Они — люди искусства!
Гензель ощутил, как тело изнутри пронзило множество ледяных серебряных иголочек. Золотые монеты в кошеле Бруттино. Где деревянный мальчишка мог найти их? Возможно, дело было вовсе не в экономности. Он попросту не успел их потратить. А приобрел…
Быть может, именно в эту минуту, когда они любезно разговаривают с господином директором театра, чьи-то грязные пальцы откупоривают пробирку, готовую выплеснуть в окружающий мир смерть в ее самом отвратительном обличье…
— Что еще при нем было? — резко спросил он.
Господин директор театра удовлетворенно улыбнулся. Гензель не сразу понял, чему. Разумеется, старый паук сознательно испытывал его хладнокровие. Проверял на зуб. Нарочно ничего не сказал о второй половине уговора. Видимо, проверял, не заволнуется ли заказчик. И, как обычно, оказался хитрее всех тех, кто имел неосторожность заключать с ним договоры.
— Все в порядке, милый Гензель, старый Карраб чтит уговор. Все, что ты говорил, было при мальчишке. Пять пробирок и непонятный ключ. Извольте видеть.
Варрава протянул руку к неприметному сейфу и распахнул дверцу. Гензель уставился на его содержимое.
Среди потертых золотых и серебряных монет, мятых векселей и какого-то хлама лежали на тряпице пять узких стеклянных цилиндров с прозрачной жидкостью. И ключ. Удивительно, америциевый ключ не выглядел ни грозным, ни даже внушительным. Обычный ключ, может, чуть массивнее обычного и с более причудливой головкой. Его поверхность казалась бронзовой, неброской. Но из трех человек, находящихся в кабинете, лишь двое знали о том, какое богатство и какую власть заключает в себе этот неприметный ключ.
Гензель ощутил, как сами собой потеют ладони. Старый паук даже не представлял, что хранил в своей коробке. И того, что этот ключ стоит вдесятеро больше, чем его театр со всеми потрохами. Черт возьми, он стоит в миллион раз больше!
Гензель улыбнулся, испытав огромное облегчение. Ключ здесь. Все удалось. Пусть старый Варрава мнит себя хитрецом, пусть тешит свое самолюбие и занимается своими дурацкими куклами. В его большую лысую голову даже не закрадется подозрение насчет того, что именно он держал в руках. К счастью для всего Гунналанда.
— У тебя красивая улыбка, милый Гензель, — сказал господин Варрава, тоже демонстрируя свои потертые неровные зубы. — А ведь ты не из тех, кто улыбается без причины. Вот твоя часть уговора, бери. Я не хочу знать, что в этих пробирках, жизнь давно отучила меня совать нос в геномагию, это всегда оборачивается скверными последствиями. А вот ключ меня удивил. Откуда у бездомного деревянного мальчишки ключ, скажи на милость? Он ютился в съемной каморке, так что отпирал этот ключ?
Гензель не протянул руки к сейфу, хотя его отчаянно подмывало это сделать. Положить ключ с пробирками в карман, аккуратно завязав в платок, выйти из кабинета и больше никогда не оказываться поблизости от «Театра плачущих кукол». Но он решил не проявлять поспешности. У старого паука интуиция необычайно остра. Не исключено, что он уже что-то почуял. Например, странное напряжение, охватившее собеседника. В этом отношении старый Варрава и в самом деле был чувствительнее любого насекомого.
— Ключ — ерунда. — Гензель придал голосу небрежности. — Все дело в пробирках. Видишь ли, там весьма интересные, хоть и не особо ценные генозелья и…
— Прекурсоры, — вставила Гретель.
— Прекурсоры. — Гензель вслед за сестрой повторил скверно звучащее словечко с привкусом геномагии. — Имеют известную научную ценность, но нулевую рыночную. Тебя ведь это интересует?
— Я же старый торгаш, меня интересует только нажива. — Варрава оставался по-деловому спокоен, в его темных глазах мелькали насмешливые искорки. — И плевать я хотел на всякие склянки, уж простите, госпожа геноведьма. Не мое это дело, вот что. Даже интересоваться насчет них не буду. А вот ключ… Сам не знаю, отчего у меня из головы не идет этот ключ? С виду обычный кусок железа…
Варрава легко подхватил америциевый ключ своей массивной рукой и стал разглядывать, точно видел впервые в жизни. На его ладони тот выглядел еще более невзрачным, маленьким и потертым. Однако внимание Варравы к нему заставило Гензеля внутренне напрячься. Даже мелькнула мысль, холодком отдавшаяся в печенку: а нет ли у старого подлеца какого-нибудь сверхъестественного чутья?..
— Обычный ключ. — Гензель пожал плечами. — Или ты ключей никогда не видел?
— Видеть-то видел… Просто смутило меня, милый Гензель, что ты напрямую помянул ключ в нашем уговоре. Будто изначально знал, что при мальчишке будет ключ. И более того — проявлял касательно этого ключа беспокойство… Может, это и не такой уж бесполезный кусок железа, как мне кажется? А?
Пиявки на господине директоре висели почти недвижимо. Возможно, они были уже мертвы, насытившись ядом, который тек в венах господина директора театра вместо крови. Гензель с сожалением подумал о том, что яда там осталось еще слишком много. Не выпить всем пиявкам мистера Дэйрмана. Гензель ощутил легкий приступ дурноты. Запоздало вспомнил, что не ел уже более суток — с тех пор, как беспокойный шарманщик Арло взялся за дверной колокольчик. А может, всему виной кровь. Слишком много ее выплеснулось этим вечером. Возможно, ее количество было незначительным для акулы, но для человеческого желудка…
Как бы то ни было, Гензель испытал желание быстрее выбраться из кабинета Варравы, из этой затхлой подземной норы, где сам воздух, казалось, проникнут тлетворным ядом. Он незаметно покосился на Гретель — как она?.. Сестра выглядела не лучшим образом, тоже казалась опустошенной, еще более бледной, чем обычно. Это и понятно — даже лучшие геноведьмы уступают прочностью дереву, а она на ногах побольше него самого…
— Ключ, — сказал Гензель и протянул руку ладонью вверх. — Он был частью уговора. А вот про твое любопытство, Варрава, в нашем уговоре ничего не было. Передай ключ мне. Чтобы тебя не тревожила алчность, могу лишь сказать, что он и в самом деле не представляет собой ничего ценного.
Варрава посерьезнел — видно, понял, что время беззаботной болтовни прошло, терпение заказчика на исходе. Голос его потерял насмешливость, и вновь Гензелю показалось, что он видит в инвалидной коляске не добродушного, хоть и циничного бородача, а хладнокровного наука, поросшего густой шерстью.
— Дело твое, — легко согласился Варрава. — Просто смутило меня это, в голову как-то втемяшилось. Ключ-то, получается, дешевка, ничего не стоит, а на поиски его отправились самая могущественная геноведьма Гунналанда и человек с самой прекрасной улыбкой в этом королевстве?..
Карраб Варрава внимательно смотрел на него. Старый ухмыляющийся разбойник с ухоженной черной бородой. Гензелю на миг показалось, что он сам стоит на ярко освещенной прожекторами сцене, а мысли его видны явственно и отчетливо. И вот-вот голос из темноты грянет: «Начинаем представление!»
Карраб Варрава одним большим глотком опустошил свой бокал и усмехнулся, отчего по его плотным щекам к подбородку побежали алые винные змейки.
Ну, будет. Честно говоря, я не так уж и любопытен. Как я уже сказал, жизнь давно научила меня не совать носа в подозрительные склянки. Мне плевать, что отпирает этот ключ, пусть хоть заброшенный нужник. Бери его, бери склянки — и проваливай из моего театра.
Карраб Варрава сграбастал жирной рукой ключ со склянками и протянул их на ладони Гензелю.
В этот раз Гензель не позволил улыбке отобразиться на лице. Все-таки иногда ошибаются и старые пауки с непревзойденной интуицией. Лет пять назад, пожалуй, Варрава не выпустил бы так добычи из зубов, высосал бы, как настоящая пиявка. Что ж, видимо, безжалостное время сказывается не только на акулах…
Но прежде, чем Гензель коснулся невзрачного металла, кулак Варравы внезапно сжался. Гензель удивленно взглянул на директора театра и обнаружил, что его самого изучают самым внимательным образом. Не злобный хитрый паук. Очень внимательный и очень осторожный паук.
— Есть у меня еще один вопрос, прежде чем мы расстанемся. Скажи, милый Гензель, а давно ли пошла мода делать ключи из америция?
Гензель обмер. Он ощутил себя Генокрокодилом на его последнем представлении.
Сбитым с толку, дезориентированным, стоящим под ослепляющим взглядом прожекторов, не понимающим, что происходит. Опять накатил мгновенный приступ легкой дурноты.
— Прости?..
Господин Варрава тяжело вздохнул. Космы его блестящей черной бороды можно было принять за пиявок, впившихся в кожу, только истончившихся и неподвижных, давным-давно умерших голодной смертью и высохших.
— Гензель, Гензель… За кого ты меня принимаешь? За безмозглого мула? — почти ласково спросил он. — Неужели ты думал, что подобная вещица, оказавшись у меня, не подвергнется самому пристальному анализу? Я ведь директор театра, а это значит, что мне приходится разбираться не только в денежных делах, но и в людских душах. Что есть театр, если не средоточие всех существующих чувств? В некотором роде я хозяин человеческих эмоций. И я сразу почувствовал: ты что-то скрываешь. Ну а твоя ухмылка и вовсе выдала тебя с головой.
Ударить сейчас же, мысленно прикинул Гензель, все еще не отнимая протянутой руки. Всадить кулак в челюсть старому пауку, да так, чтобы свернуть голову набок. До хруста. Чтобы он рухнул со своего кресла. Схватить ключ со склянками — и к двери. Он не успеет потянуть за шнурок. Мушкета нет, но и без него не впервой. Не так-то и тяжело сбежать из театра, пусть даже такого, как «Театр плачущих кукол». Мистер Дэйрман и уродцы в ливреях не смогут их остановить.
Но он не ударил. Господин Карраб Варрава никогда не совершал ошибок и не рисковал там, где не чувствовал достаточной цены для риска. Если он так спокойно вел себя, глядя ему в глаза, у этого спокойствия должна была быть причина.
— Между прочим, трансураниды нынче в цене, а америций из них всех едва ли не редчайший. — Хозяин человеческих эмоций больше не изображал улыбки. — Кому, хотел бы я знать, придет в голову отливать из него ключ?
Гензель позволил акуле подняться к поверхности. Чтобы она взглянула его глазами в глаза Варраве. На многих это производило надлежащее впечатление. Особенно на тех, чье чутье и в самом деле отличалось тонкостью. Они ощущали, сколь малое препятствие разделяет человека по одну сторону — и безжалостного глубоководного хищника по другую.
— Пусть так, — медленно обронил Гензель. — Пусть этот ключ стоит целых десять золотых. Ты уверен, что хочешь расторгать договор из-за них?
У Варравы, несомненно, было невероятно хорошее чутье. Он понял. Но не испугался.
— Ради десятка золотых — разумеется, нет. Я заработаю в три раза больше на билетах, демонстрируя деревянного уродца на сцене. Но вот от миллиона золотых я бы, предположим, не стал отказываться.
— О каком миллионе ты говоришь?
— Знаешь, я ведь не всегда был директором театра. Когда-то и я был мальчишкой. Не деревянным, самым обычным. Тогда я еще бегал на своих двоих… В те времена я любил слушать сказки. Одну из этих сказок, милый Гензель, сейчас помнят, наверно, лишь старики вроде меня. Глупая старая сказка про америциевый ключ. И про сокровищницу, набитую самыми дорогими и редкими генетическими ядами на свете.
Варрава плотоядно усмехнулся. Добродушный, хитрый и капризный бородач пропал бесследно. Паук занял его место. И теперь этот паук наслаждался замешательством Гензеля.
— Ты не поверишь, но в глубине души я всегда оставался романтиком, любящим сказки. Разве стал бы черствый душой прагматик содержать такое заведение, как театр?.. Эта сказка мне всегда нравилась, хотя многие над ней посмеивались. Более того, я собирал все слухи, что ее окружали. Долго, кропотливо, годами. Мне попадалось множество самых занятных деталей, иной раз даже и явственные следы реальности этой истории, но вот чего мне никогда не попадалось — так это следов самого америциевого ключа. Ты помог мне ответить на многие вопросы, Гензель. Я это ценю. Теперь у меня остался только один. Где та дверь, что отпирается этим ключом?..
— Отдай его, — тихо сказал Гензель, глядя прямо в глаза Варраве. — И тогда мы уйдем отсюда так же тихо, как и пришли. Обещаю. Иначе твоим слугам придется драить этот кабинет еще усерднее, чем они ежедневно драят сцену. Это я тоже обещаю.
Его рука, уже не таясь, скользнула к спрятанным ножнам, привычно коснулась оголовья кинжала. Ему не нужен мушкет, чтобы превратить господина Варраву в набор аккуратно препарированных органов. Мешала лишь дурнота, вернувшаяся с еще большей силой. Она тревожила желудок и застила взгляд, словно оборачивая глаза Гензеля многочисленными слоями прозрачной полимерной пленки. Когда он моргал, эта пленка прилипала к векам.
Быстрее выбраться из этой норы — и все равно, с кровью Варравы на клинке или без…
— С тобой приятно было иметь дело, ты держишь слово, — кивнул Варрава, совершенно не тревожась. — За это я тебя и люблю, милый Гензель. К слову, мне не придется отрубать тебе пальцы, дробить колени и выковыривать глаза, равно как и твоей прекрасной сестре. Пару лет назад я бы, пожалуй, приказал это сделать, но сейчас… сейчас нет. Наверно, я стал слишком стар. Мне нет нужды вас пытать, я и так знаю, где дверь. Пришлось навести справки. Деревянный мальчишка раньше служил подмастерьем у старого шарманщика Арло. Дядюшка Арло, так ведь его звали? Я думаю, где-то в его домишке и находится нужная дверь.
Гензелю вдруг показалось, что воздух в кабинете Карраба Варравы стал сладким на вкус, но сладость эта казалась неестественной и неприятной, как приторный привкус несвежего мяса. Кожа на лице стала быстро неметь, точно кто-то невидимой иглой впрыснул ему прямо в затылок лошадиную дозу лидокаина. Он вдруг перестал слышать удары собственного сердца. Кажется, оно еще билось где-то в глубине его тела, но теперь было переложено десятками слоев плотной ваты и тряпья.
Отрава! — ударила откуда-то со стороны страшная мысль: Варрава отравил их!
Но ведь они даже не принимали ничего из его рук. Не пили вина.
Гензель выхватил кинжал. Когда-то это плавное и естественное движение занимало меньше времени, чем требовалось глазу, чтобы моргнуть. Теперь у него ушло на это куда больше. Мало того, рука была столь слаба, что чуть не выронила оружие, пальцы разжимались сами собой. Гензель зарычал, ощущая, как предательская слабость, не встречая сопротивления, овладевает его телом, распространяясь с током крови. Для нее не существовало барьеров, ей не требовалось долгой осады. Кто-то впустил отраву в его тело, и теперь она просто брала то, что принадлежит ей.
Гензель с трудом повернул голову на деревянной шее и обнаружил, что Гретель уже лежит на полу, уткнувшись лицом в ковер. Мертва?.. Отчаяние черным псом вонзило клыки в сердце и превратило его в лохмотья.
Он ударил Карраба Варраву кинжалом. Снизу вверх, как бьют в переулках, чтобы перечеркнуть его жирное надувшееся тело короткой извилистой молнией шипящей стали. И позволить внутренностям господина директора шлепнуться на роскошный ковер, сделавшись еще одним украшением кабинета.
Улар получился столь слаб и предсказуем, что уклониться от него не составило труда и лишенному ног инвалиду. Карраб Варрава поморщился и шлепнул Гензеля по руке. Боли не было, он даже не почувствовал прикосновения, но кинжал беззвучно выпал из пальцев.
— В нашем мире, где все сущее постоянно меняется, предсказуемость — самая опасная черта, — задумчиво произнес Карраб Варрава. — Ты всегда был подозрителен, милый Гензель. Это тебя и сгубило. Твоя подозрительность была слишком предсказуемой. А ведь я предлагал тебе вина, как старый друг… Впрочем, ты, наверно, уже и так все понял. Яд заключен в газе, которым незаметно пропитывается мой кабинет. А нейтрализующее его вещество как раз и заключено в вине, от которого ты так самонадеянно отказался. Всего один тост мог бы спасти твою жизнь. Есть в этом определенная ирония, верно?..
Гензель попытался сделать шаг к Каррабу Варраве, но в этот раз его подвели ноги. Суставы заржавели, в костях, мгновенно и произвольно смещая центр тяжести, катались ртутные шары. Он чуть не рухнул ничком, едва успев упереться коленом в пол.
Карраб Варрава в задумчивости оторвал безвольно повисшую пиявку от своей щеки, покрутил в пальцах и сдавил. Ее внутренности прыснули во все стороны, как мякоть перезревшего плода. Но крови в ней не было, лишь какая-то студенистая зеленоватая субстанция, от которой он брезгливо вытер ладонь.
— Яд не смертелен, — пояснил он неспешно. — Мне нет интереса убивать вас. Я работник искусства, а не убийца. О, вижу блеск в твоих глазах, милый Гензель. Ну ладно, ты-то все и так понимаешь. Конечно, мне нужно избавиться от вас двоих. Поворачивать ключ в замке может лишь одна рука, ну а лишние уши тут и подавно не нужны. Но вот ведь загвоздка… Не так-то просто прикончить самую известную во всем Гунналанде геноведьму! С этими тварями всегда приходится держать ухо востро. Вдруг у нее в крови хитроумный нейротоксин или еще какая-нибудь штука… Известно, геноведьмы необычайно мстительны и коварны. К тому же ее исчезновение может встревожить многих достаточно уважаемых людей в Вальтербурге. Нет, старику такие проблемы не нужны.
Гензель упал на пол, но боли не почувствовал. Снизу господин Карраб Варрава и подавно выглядел великаном.
— Я решил поступить проще. Отдам я вас с госпожой Гретель какому-нибудь заинтересованному лицу. Вы ведь квартероны, чистенькие, наверняка кому-то в Вальтербурге сгодитесь. А уж для чего — не моего ума дело. Я — честный делец, в чужие дела не лезу. За то меня и ценят, верно?
Карраб Варрава склонился над ним так, что кольца черной бороды непременно защекотали бы Гензелю шею, если бы его тело не потеряло окончательно чувствительности. Директор театра улыбался широко и искренне, в своей манере.
— Так что, полагаю, милый Гензель, наш с тобою договор выполнен и закрыт. Без возможности дальнейшего продления. Но все равно я благодарен тебе. С тобой всегда было приятно иметь дело. Как жаль, что зрители моего театра не увидят твоей улыбки…
Карраб Варрава дернул за шелковый шнур.
— Мистер Дэйрман, наш гость уже появился?
— Сын Карла? Минуту назад, господин Варрава. Пригласить его в кабинет?
— Да, пригласите, мистер Дэйрман. Я обещал ему пару гостинцев, пришло время их забрать.
Гензель из последних сил повернул голову, чтобы разглядеть дверь кабинета, хоть в этом и не было никакого смысла. Его сознание медленно гасло, подобное вертящемуся на поверхности пруда цветочному лепестку. Еще секунда, и он начнет тонуть.
Пол вдруг стал ритмично сотрясаться. Удивительно, как он почувствовал это своим полумертвым телом, да еще и сквозь ковер. Что-то большое шагало в его сторону. Настолько большое, что емкость с пиявками звенела не переставая, а на поверхности воды появились буруны. Что-то большое и, понял Гензель с затихающим ужасом, разумное. Что-то, что шло за ним. И что резко отворило дверь кабинета, так что хрустнули сорванные со своих мест бронзовые петли. И тогда что-то удовлетворенно заворчало, замерев на пороге. Гензель попытался сместить голову еще на полпальца. И увидел.
Удивительным было, как это существо сумело протиснуться в дверной проем: в нем было не меньше трех с половиной метров. И оно было столь тучно и огромно, что даже господин директор театра по сравнению с ним мог бы показаться лишь упитанным карапузом. Не человек, а наполненный колышущимся жиром бурдюк, но чьей-то странной прихоти облаченный в неимоверно грязный и потасканный комбинезон. На бурдюк этот была нахлобучена голова, сама по себе не меньше того чана, где мистер Дэйрман разводил своих пиявок. Поросшая грязно-ржавым рыжим волосом, с отвисающими жирными складками многочисленных подбородков, с маленькими глазками, спрятавшимися в сальной коже, она бессмысленно шевелила челюстью и поглядывала на распростертые тела.
— Приветствую вас, сын Карла! — Варрава расщедрился на самую доброжелательную свою улыбку. — Как долетели? Все в порядке?
Огромный толстяк склонил голову и что-то пробормотал, с его пухлых губ звуки летели вперемешку со слюной. Взгляд его был мутен, как захватанное пальцами оконное стекло, почти потерявшее прозрачность. Мутен, тягуч и тяжел.
Гензель чувствовал, что теряет сознание. Подобно крохотному шарику на наклонной плоскости, он соскальзывал, не в силах ни за что зацепиться. И взгляд его выхватывал из темнеющей на глазах картины отдельные, не связанные между собой детали. Исполинское брюхо рыжего толстяка. Гудящие лопасти пропеллера, виднеющиеся из-за его спины и сбрасывающие обороты.
«Лопасти, — сознание отстучало это словно телеграфным ключом — на телеграмме, лишенной получателя. — Пропеллер в спине. Толстяк. Сын Карла. Неужели он летает?»
— Вот ваши, — директор театра любезно указал толстяку, сыну Карла, на лежащие тела. — Честно говоря, вы немного припозднились. Мне пришлось развлекать эту парочку беседами. Неаккуратно с вашей стороны, сын Карла.
Гензель думал, что толстяк опять исторгнет из себя мешанину звуков и слюны, но тот вдруг неожиданно четко произнес немного гнусавым и низким голосом:
— Сохраняйте спокойствие. Дело обыденное.
Он подхватил безвольное тело Гретель так, точно оно весило не больше носового платка, и закинул на свое плечо, прямо на измазанный смазкой и жиром комбинезон. Потом повернулся и протянул свои лоснящиеся пальцы к Гензелю.
Гензель хоть и знал, что не почувствует этого прикосновения, понадеялся, что сознание покинет его прежде, чем он окажется уложенным, подобно заплечному мешку.
Ему повезло впервые за последние три дня. Но удовлетворения от этого он ощутить уже не успел.
Очнулся он от того, что по лицу хлестал ветер. В иной ситуации это было бы даже приятно: в Вальтербург редко забредали ветра, потому воздух в нем всегда был душным, липким, как на чадящей фабрике. Но нынешний ветер не освежал — напротив, заставлял задыхаться. Гензель открыл глаза, еще не понимая, что его окружает. И бьющий в лицо ветер задавил крик, не позволил ему вырваться из горла.
Под ним неслись городские крыши, целые россыпи расчерченных черепичных и соломенных прямоугольников с короткими и кривыми, как мандибулы, выступами печных труб. Гензель видел Вальтербург во многих видах, иногда достаточно неприятных, но с такой стороны наблюдать за городом ему еще не приходилось. Словно кто-то превратил привычный город в головоломку из ломаных незнакомых фигур. И теперь этот город летел под ним.
«Нет, — мгновенно понял Гензель, задохнувшись от неожиданности. — Это я лечу…»
Руки сами впились в то, что оказалось ближе всего, — обычный человеческий рефлекс. И нащупали что-то вроде плотного бурдюка, обтянутого грубой тканью. Это было плечо сына Карла, на котором висел сам Гензель, небрежно перекинутый подобно мешку. От сына Карла отвратительно разило, возможно, именно из-за этого нестерпимого запаха Гензель и пришел в себя.
Кажется, это было сочетание пота и машинной смазки, но сочетание столь резкое, что у Гензеля, несмотря на постоянный приток свежего воздуха, помутилось в голове. Так могла бы пахнуть головка сыра, спрятанная заботливой мышью под половицу и пролежавшая там полгода. Однако Гензель благоразумно не сделал ни малейшей попытки отпрянуть от плеча сына Карла. Прямо над его ухом зло стрекотали лопасти несущего винта, которых он не видел, но которые, без сомнения, легко превратили бы его в мелкую стружку, рассеянную над городом, стоило только оказаться в радиусе их работы.
Сперва Гензель решил, что к спине толстяка приторочен авиационный двигатель с винтом, но быстро убедился, что это не так. Ось винта уходила прямо между лопатками сына Карла, точно копье, вбитое глубоко в тело сильнейшим ударом. Это настолько удивило Гензеля, что он на несколько минут даже не смотрел на проносящиеся под ними крыши.
Ни внешнего двигателя, ни емкостей для топлива. Выходит, этот сын Карла по своей сути мехос, человек с механической начинкой? Но даже если так, откуда он берет топливо? Гензель не сомневался в том, что для подъема такой исполинской массы в воздух и полета требовалась бы уйма топлива в том или ином виде. Но у толстяка, несущего Гензеля и Гретель, не было ни баллонов, ни цистерн, ни иных емкостей. Значило ли это, что винт вращается за счет энергии, вырабатываемой самим телом? Это звучало абсурдно даже для того, кто знаком с геномагией исключительно понаслышке.
Ни одно тело, даже самого последнего мула, не может вырабатывать столько калорий, а значит…
Сына Карла тряхнуло в воздушной яме. Гензель едва не вскрикнул, ощутив, как проваливается тело под ним. Но сын Карла не падал. Он легко набрал прежнюю высоту и уверенно двигался вперед. Куда?.. Этот вопрос показался Гензелю более значительным, чем вопрос о том, где тот берет энергию для полета. И более насущным.
Летающего толстяка с винтом немного покачивало в полете. Летел он тяжело и грузно, совсем не с птичьей грацией. Иногда даже казалось, что запаса высоты не хватит, чтобы миновать очередной флюгер, кривым ржавым штыком выпирающий из крыши, но сын Карла всегда с необычайной ловкостью обходил препятствие. Возможно, он был уродлив. Возможно, от него разило, но Гензель не мог не согласиться с тем, что со своим винтом этот толстяк управляется необычайно умело, выказывая солидный опыт. Удивительно, что он сам прежде ни разу не встречал в небе Вальтербурга подобного существа. Впрочем, так ли часто он в последние годы задирал голову, чтобы посмотреть в небо?..
«Сейчас он скинет нас, — подумал Гензель, изо всех сил цепляясь за ткань на плече сына Карла. — Поднимется еще выше — и скинет. Прямо на мостовую. Отвратительное, должно быть, ощущение… В лепешку, в труху… Интересно, я успею что-то почувствовать?..»
Но сын Карла не собирался бросать свою добычу. По натужному гулу винта Гензель понял, что толстяк набирает высоту, а минутой позже ему удалось определить и место их назначения, несмотря на то что мир он видел в перевернутом виде. Они приближались к старой башне — уродливому и древнему сооружению на окраине Вальтербурга. Прежде Гензель видел его только снизу, и этот вид вполне его устраивал.
Возможно, когда-то это было красивое сооружение из бронзы и стекла, но Гензель тех времен не застал. К тому моменту, когда они с Гретель впервые увидели город, башня уже была тем, чем виделась сейчас, — жутковатым сооружением, напоминающим разлагающуюся неорганическую форму жизни. Ее кожные покровы давно превратились в закрученные лепестки ржавого металла, скелет — балки и перекрытия — в мешанину из бетона. Кое-где в оконных проемах остались стекла, которые казались блестящими посмертными выделениями на мертвой туше.
Несмотря на свое состояние, башня была обитаемой. Ее заселило городское отребье, нашедшее в ней укрытие от дождя и солнца. Неужели среди них обитал и толстяк с винтом на спине? Гензелю трудно было это представить. Тем не менее сын Карла, сделав над башней несколько коротких кругов и натужно гудя двигателем, стал снижаться на посадку.
Навстречу потянулись вереницы мертвых слепых окон, кое-где опаленных, но все они были явно малы для толстяка с двумя квартеронами на плечах. Гензель даже беззвучно фыркнул, представив, как эта оплывшая туша пытается протиснуться в распахнутую форточку.
Но сын Карла не стал делать ничего подобного. Он завис над плоской крышей башни и стал снижаться.
Неужели он обитает прямо здесь, на крыше, подобно птице? Гензелю представилось что-то вроде гнезда плотоядного грифа, усеянного тусклыми осколками костей и клочьями истлевших волос, тем, что осталось от предыдущих гостей сына Карла. Вполне вероятно, что, устроившись тут, он пожирает свою добычу, разрывая ее на части толстыми пальцами…
Лишь за несколько секунд до посадки Гензель разглядел, что на крыше башни находится еще один дом. Впрочем, называть это домом могло лишь существо вроде сына Карла, для обычного жителя города это выглядело скорее огромной бесформенной полусферой, собранной из всякого хлама и похожей скорее на выпирающую из крыши опухоль. «Вот и гнездо, — подумал Гензель, разглядывая это сооружение, уродливое даже на фоне покосившейся башни. — Видимо, именно там оно и хранит кости…»
Сел толстяк на удивление мягко, винт на его спине вращался все медленнее, пока совсем не остановился, и только тогда Гензель вздохнул, ощутив себя в безопасности. Несмотря на то что их с Гретель судьба все еще виделась отнюдь не в радужном свете, он чувствовал себя спокойнее, находясь на твердой земле и без лопастей огромной мясорубки, вращающихся над ухом.
Судя по тому, как легко сын Карла отворил дверь и вошел внутрь, он и в самом деле обитал тут. В этом у Гензеля не осталось никаких сомнений, как только он увидел интерьер. Или то, что им служило. Сумрачное, погруженное в вечный полумрак, помещение скорее походило на склад, который кто-то много лет, без всякой системы и смысла, забивал первыми попавшимися вещами. Полуразвалившиеся остатки каких-то станков и механизмов, похожие на выпотрошенные туши механических животных, соседствовали с грудами рваного белья, истлевшими игрушками, давно сгнившей мебелью и осколками стекла. Судя по всему, сюда регулярно стаскивалось то, что хозяин находил на городских свалках, но что не нашло применения в этом неряшливом и во всех смыслах отвратительном обиталище.
Единственным, что не производило впечатления вещи со свалки, был, к удивлению Гензеля, автоклав, возвышавшийся почти в центре помещения. Его хромированные бока не знали ни ржавчины, ни вмятин, что удивительным образом контрастировало со всем прочим. Автоклав выглядел архаичным и едва ли мог тягаться со своими коллегами из лаборатории Гретель — просто большая металлическая бочка с толстой герметичной крышкой, от которой отходили толстые и тонкие жилы трубопровода неясного предназначения. Все здесь было усеяно многочисленными вентилями, запорными клапанами, насосами и кранами, в целом напоминая необычайно сложный перегонный куб. Судя по его блеску и отсутствию пыли, аппарат не раз использовался, но сейчас Гензель даже не собирался размышлять, зачем. Его волновали совсем другие вопросы. Кроме того, он заметил клетки.
Клеток было много, всех возможных размеров, и занимали они существенную часть площади дома. Судя по всему, сын Карла любил гостей.
«Может, все не так скверно, как мне показалось сперва? — подумал Гензель, разглядывая ряды ржавых клеток. — Этот сын Карла не похож на кровожадное существо. Примитивное, тупое, но не кровожадное. И он не убил нас, хотя имел все возможности превратить в размазанный по мостовой паштет. Значит, здесь кроется что-то другое. Что ему вообще может понадобиться от нас? Едва ли выкуп — он не похож на человека, знающего цену деньгам, да и вообще вряд ли этот отшельник когда-то держал их в руках. Еще меньше он похож на геномага, которому требуются образцы для бесчеловечных опытов. А похож он на хмурого и не отличающегося умом одинокого толстяка, который вынужден ютиться вдали от людей в своем железном гнезде посреди пустой крыши. На отверженного обществом мула, который часами в одиночестве бороздит небо над городом. На человека, у которого никогда не было ни друзей, ни даже собеседников… Диминуция хроматина, да я никак начинаю ему сочувствовать?..»
Сын Карла со своей ношей прошествовал до самого конца ряда клеток, что-то неразборчиво бормоча себе под нос, точно взыскательный эстет, оценивающий подходящее место для своего последнего приобретения. Клетка быстро была найдена, и при виде нее Гензель испытал укол разочарования: сооружение это, достаточного размера для двух человек, выглядело вполне прочным и основательным, к тому же снабженным запором, который невозможно было отпереть изнутри.
Сын Карла легко швырнул свою ношу в клетку — без злости, но и без пиетета. Гензель успел перекатиться и смягчить своим телом падение Гретель. Кажется, ему это удалось, Гретель лишь негромко вскрикнула, скорее от испуга, чем от боли. Дверь клетки мгновенно захлопнулась, снаружи щелкнул массивный, примитивного устройства запор. Который, как с сожалением отметил Гензель, еще недостаточно был облюбован ржавчиной, чтобы подчиниться грубой физической силе.
— Очень гостеприимно… — пробормотал Гензель, поднимаясь на ноги. После затяжного полета над крышами его все еще немного мутило, руки и ноги порядком затекли. — Может, начнем с чая?..
Сын Карла даже не взглянул на него. Защелкнув замок, он мгновенно потерял интерес к своим гостям, что, на взгляд Гензеля, было весьма невежливо. Впрочем, едва ли можно быстро освоить законы гостеприимства, если обитаешь на крыше. А ржавая клетка, если подумать, не самая плохая альтернатива гостевому креслу. Пока они летели над городом, в голову Гензеля с подавляющей неуклонностью приходили совсем иные альтернативы.
— Эй, ты! — сказал он громко. — Ты — сын Карла, верно?
Толстяк что-то неразборчиво прогудел. Его маленькие глазки, несоразмерные огромной, поросшей рыжим волосом голове, были тусклы и невыразительны. По крайней мере, в них явно не было того отблеска радости, что свойственен радушному хозяину при виде гостей. Кроме того, в них не было ни ума, ни чувства. В них, кажется, вообще ничего не было — просто маленькие мутные глазки, никуда не ведущие и ничего не отображающие.
— Слушай, нам надо объясниться, — произнес Гензель наиболее дружелюбным тоном, потирая ушибленное при падении плечо. — Тот человек, что передал нас тебе, он поступил неправильно. Надеюсь, в скором времени мне даже удастся убедить его в этом. Он захватил нас против нашей воли, меня и мою сестру. Я не знаю, зачем он распорядился отдать нас тебе, но уверен, что мы можем обернуть это обстоятельство ко всеобщей выгоде…
— Умх-мх-мхум… — промычал сын Карла равнодушно. С того момента, как был закрыт замок, он потерял к своим гостям всякий интерес, точно они мгновенно сделались из одушевленных существ мебелью или предметами интерьера.
— Мы с сестрой — не последние люди в Вальтербурге, — терпеливо продолжал Гензель. — Она — известная во всем королевстве геноведьма. Ты ведь знаешь, что это такое? Это значит, у нас есть деньги, а еще множество самых ценных генетических зелий, которых ты не раздобудешь даже за золото. Мы сможем хорошо заплатить, если ты выпустишь нас. Очень хорошо. Возможно, ты сможешь купить себе пристойный дом и жить, как обычные люди, внизу.
Кажется, сын Карла его не понимал. Душа слабоумного ребенка, запертая в теле великана, едва ли улавливала смысл его слов.
— Деньги. Тебе нужны деньги? — воскликнул Гензель. — Деньги? Еда? Дом?
Сын Карла замотал рыжей головой. Слипшиеся в единое целое волосы напоминали коросту ржавчины. Но Гензель не собирался так просто от него отставать.
— Что тогда? Зелья? Тебе нужны зелья, сын Карла?
Вновь угрюмое мотание головой. Взгляд сына Карла был взглядом сердитого ребенка, но от него веяло чем-то нехорошим, тем, чего нет в детских глазах.
— Тогда чего тебе надо?
Сын Карла задумался. Кажется, впервые за все время их недолгого знакомства. Гензелю показалось, что в безразличных и сонных глазах толстяка на миг промелькнуло что-то живое, даже плотоядное.
— Варенье.
— Что?.. — не понял Гензель.
— Варенье! — рявкнул сын Карла так, что Гензель отпрыгнул от решетки. — Вкусное варенье. Сладкое.
— У нас нет варенья, — осторожно сказал Гензель, демонстрируя пустые ладони.
— Пустяки, — неожиданно сказал сын Карла. — Дело обыденное.
Несмотря на то что это была единственная осмысленная фраза, произнесенная им, Гензелю показалось, что сын Карла не понимает ее смысла. Просто повторяет, как единожды заведенная игрушка, раз за разом прокручивающая старую пластинку.
Гензель мысленно застонал. Пожалуй, даже переговоры со старым пауком Варравой были бы проще. Тот был подлецом и скрягой, но, по крайней мере, ясно сознавал происходящее и здраво оценивал свою выгоду. Не исключено, что с ним можно было бы сторговаться за свободу. Но как донести смысл сказанного до огромного безразличного ребенка?
— Гретель, попробуй ты, — тихо сказал Гензель, уступая место у прутьев.
Гретель устало усмехнулась.
— Я плохо лажу с детьми, братец.
— Тогда тебе стоит побыстрее набираться опыта.
— Стой! — крикнула Гретель в спину сыну Карлу, который уже повернулся к двери. — Послушай нас! Варенье! Ты хочешь варенья?
— Варенье… — пробормотал сын Карла, теребя пятерней отвисающую губу. — Где?
— У нас его нет. Но у нас есть деньги. Много денег. За эти деньги ты можешь купить себе целую бочку варенья!
Толстяк презрительно фыркнул и выпятил губу, став похожим на капризного ребенка. Он и был ребенком, понял Гензель. Замкнутым, нелюдимым и настороженным ребенком. Проблема была в том, что этот ребенок был способен смять человека в шар, как хлебный мякиш. И еще клетка. Клетка тоже была проблемой.
— Кажется, переговоры будут непростыми, — пробормотал Гензель, почесав в затылке. — Он глупее пробки.
— Но, кажется, он знает, чего хочет, — заметила Гретель. Воздушное путешествие не освежило ее, выглядела геноведьма донельзя напряженной и утомленной, а платье уже успело потерять первозданную чистоту, на нем зияли пятна грязи. — Осталось понять, как совместить наши интересы.
— Слушай, Ка… сын Карла. У нас нет варенья, которое тебе нужно. — Гензель продемонстрировал вывернутые карманы камзола. — Поэтому держать нас в этой клетке нет никакого смысла, понимаешь? Варенье, которое ты хочешь, от этого не появится. Но если мы…
Сын Карла молча нажал на кнопку, выпирающую из его пухлого живота. Гензель заметил ее давно, но не задумывался о том, какой механизм та приводит в действие. Теперь ответ пришел сам собой — за спиной стали неспешно раскручиваться лопасти пропеллера.
«А ведь у него нет никаких воздушных рулей для управления полетом, — рассеянно подумал Гензель, глядя, как сын Карла идет к двери с жужжащим кругом за спиной. — Значит, он использует отклонение центра тяжести. Примитивная схема, но, видимо, вполне эффективная…»
Когда сын Карла хлопнул дверью, выйдя из дома, Гензель с Гретель беспомощно переглянулись.
— Это будут сложные переговоры, — вздохнул Гензель, привалившись спиной к решетке. — Кажется, он не отличается великим умом.
— Умом? — Горькая насмешка Гретель не улучшила его самочувствия. — Едва ли здесь уместно говорить об уме, братец. Судя по всему, врожденная патология развития. Что-то генетическое, конечно. Тело росло слишком быстро, потребляя все ресурсы, из-за этого мозг голодал, почти не развиваясь. Как результат — имбецил, не способный к простейшей коммуникации…
— Сейчас меня меньше всего беспокоят проблемы его здоровья, — огрызнулся Гензель. — Он достаточно умен, чтобы запереть нас в клетку. И кажется мне, он сделал это не напрасно. То есть мозги в его башке работают, осталось понять, в какую сторону.
— Очевидно, что у него есть планы на наш счет.
— Какие?
Гретель лишь пожала плечами.
— У меня было не больше возможностей выяснить, чем у тебя.
— Для опытов? — осторожно предположил Гензель. И испустил мысленный вздох облегчения, когда Гретель уверенно покачала головой.
— Для такого существа, как сын Карла, сходить в туалет — уже серьезный опыт. Он не вивисектор, если ты это хочешь услышать. Здешнее оборудование не имеет ничего общего с геномагическим. Это что угодно, но не подпольная лаборатория.
— Что тогда?
— Напрашивается самый простой вывод, братец. Он собирается нас съесть.
Гензель поморщился.
— Слишком часто в этой жизни меня пытались съесть.
— Квартерон — лакомое блюдо в Гунналанде. Очень уж много в наших телах неискаженного генетического материала. Нет ничего удивительного в том, что сын Карла рассматривает нас как деликатес. Возможно, с его точки зрения мы представляем собой не больше чем пару разговаривающих яблок. Которые временно отложили на полку.
Мысль эта Гензелю не понравилась. Он представил, как сын Карла монотонно чавкает своим огромным ртом, из которого торчат руки и ноги… Впрочем, эту мысль быстро удалось отогнать. Редкий случай, когда простой человек может поспорить с геноведьмой.
— Не упоминай яблок, пожалуйста, ты же знаешь, я их на дух не выношу. И, кстати, сын Карла не ест людей, это я могу утверждать весьма уверенно. Возможно, он похититель, но он не людоед.
— Вот как? У тебя предчувствие провидца, братец?
— У меня чутье акулы. Я ощущаю запах крови с нескольких километров, стоит лишь капле упасть на землю. Так вот, здесь запаха крови нет. Даже застарелого. А каннибальская трапеза едва ли возможна без крови.
Гретель уважительно вскинула бровь.
— Не спорю, твое открытие утешает, братец. Но не объясняет того, отчего мы тут оказались.
— Он любит варенье.
— Я заметила.
— Не время для сарказма, Гретель. Серьезно, этот парень буквально помешан на варенье. Это не кажется тебе странным?
Гретель задумалась, вертя по старой привычке прядь волос. Все равно ее прическа давно была непоправимо разрушена, а волосы растрепало ветром.
— Возможно, это объяснимо. Ты задумывался о том, сколько энергии сын Карла вынужден тратить на полет?
— Да, думал об этом. Чертову прорву.
— Он должен ее откуда-то черпать.
— Несомненно.
— Быть может, варенье — это его топливо.
Гензель уставился на сестру, не пытаясь скрыть удивления.
— Двигатель, работающий на варенье?
— Метаболизм, работающий на варенье, — поправила она. — Насколько я понимаю, наш новый знакомый представляет собой химический двигатель в человеческом теле. Это звучит странно, но вполне объяснимо. Он вырабатывает энергию для винта, используя собственный метаболизм. Требуется лишь подходящее топливо для расщепления…
— Например, варенье.
— Например, варенье, — согласилась Гретель. — И это тоже объяснимо. В варенье содержится весьма большое количество калорий. Поглощая его и аккумулируя, сын Карла запасается энергией для полета. Не самая рациональная схема, но, кажется, вполне рабочая.
— Слушай… — Гензель почесал в затылке. — Я, наверно, не самый большой знаток геномагии в этом королевстве, но даже я понимаю, что такая туша не сможет насытиться вареньем. Разве что будет поглощать его тоннами… Ему ведь требуется целая прорва калорий! Гораздо больше, чем в любом, самом сладком варенье.
Верно, — признала Гретель. — Не представляю, где он может достать варенье достаточной калорийности, чтобы обеспечить всем необходимым свое тело. Думаю, братец, ему нелегко. Не исключено, что ему, подобно птицам, приходится тратить девяносто процентов своей жизни на поиск топлива.
Обычно птицы находятся в клетках, а люди — снаружи, — проворчал Гензель. — Мы же сидим тут, подобно каким-нибудь канарейкам. Кстати, вполне может быть, что именно для этого мы и потребовались. Сама подумай. Ему не требуется общество и едва ли требуется общение. Он не понимает ценности денег, единственное, что его интересует, — это проклятое варенье. Значит, нам остается судьба комнатных птиц. Сидеть в клетке до конца жизни и развлекать хозяина пением.
Гретель задумчиво накрутила на палец очередной локон.
— У меня есть еще одна теория, братец. Но делиться ею с тобой я пока не стану.
— Очень уж нехороша?
— И что еще хуже, куда более логична. Не буду тебя расстраивать, уж лучше смириться с судьбой канарейки.
— В нашей ситуации — это не самая плохая судьба, сестрица, — пробормотал Гензель, приваливаясь спиной к ржавым прутьям. — Более того, возможно, миллионы людей позавидуют нам в самом скором времени. Когда Вальтербург превратится в кипящую адскую яму, полную невидимых генетических хищников, которые выпотрошат все сущее и способное дышать. Или ты думаешь, что Карраб Варрава станет содержать коллекцию старого шарманщика в образцовом порядке, смахивая пыль с пробирок?..
— Мне так не показалось.
— И совершенно верно. Так что нам определенно повезло, в этот раз у нас места в самом дальнем ряду…
— Да? Как жаль, что уже поздно сдавать билеты.
Это был не голос Гретель. Гензель мгновенно вскочил. Рука, повинуясь слепому рефлексу, устремилась к кинжалу и, конечно, коснулась лишь устья пустых ножен.
— Кто это?
— Ваш сосед. Еще одна канарейка в этой ужасной обители.
Из-за полумрака, царившего в доме сына Карла, Гензелю казалось, что все прочие клетки пусты. Только теперь он осознал свою ошибку. В нескольких клетках от них с Гретель можно было разглядеть сутулую фигуру. Худощавую, но вполне человеческую, если не считать непропорционально большой, почти шарообразной головы.
— Значит, мы здесь не одни! — вырвалось у Гензеля.
— Совсем немного, и будете.
— Что вы имеете в виду?
— Еще недавно все эти клетки были полны. Многих их обитателей я успел застать.
— Здесь были другие пленники?
— Добрых два десятка. Когда он вылетает на охоту, всегда возвращается с богатой добычей. Вы попались ему уже после того, как сезон охоты закончился.
Гензель не стал спрашивать, кого собеседник подразумевает под «ним».
— Как вас зовут?
Человек пожал плечами.
— Это уже не имеет никакого значения. Через несколько часов мое имя перестанет что-либо значить.
— Меня зовут Гензель, а это…
Человек покачал своей шарообразной головой.
— Нет нужды представляться. Ваши имена потеряют смысл сразу после моего. Впрочем, может, у вас будет еще какое-то время. Вы, кажется, квартероны?.. Редкие гости в доме на крыше. Возможно, он будет беречь вас какое-то время. Оставит напоследок. Он на удивление привередлив в еде…
Крохотный плотоядный червячок зашевелился в сердце Гензеля, пытаясь прогрызть выход наружу.
— Оставит напоследок? — спросил он с нехорошим чувством. — Что вы имеете в виду?
— Все зависит от того, насколько он голоден, — просто пояснил их новый знакомый.
— Так он съел всех своих предыдущих пленников? Мне показалось…
— Ну что вы, сын Карла не ест людей. Он ест только варенье.
В голосе незнакомца Гензелю послышался усталый и грустный сарказм.
— Не понимаю.
— Ваше счастье, — кратко отозвался тот.
Гензель мысленно выругался. Кем бы ни был их сосед, он, кажется, давно сломался, смирившись со своей судьбой. Судьба эта была исполнена самой зловещей недосказанности, и Гензель вдруг подумал, что участь обычной канарейки, и верно, не так уж и плоха.
«Он ест только варенье».
«Он будет беречь вас какое-то время».
«Оставит напоследок».
Соединяясь воедино, все эти недосказанности обретали зловещий смысл, но все еще слишком смутный.
— Как вы попали сюда? — спросил Гензель, надеясь вывести незнакомца на беседу.
— Так же, как и вы, смею думать, — отозвался их сосед со вздохом. — Вы знали, что он прекрасно охотится? Выслеживает с воздуха цель, потом бросается вниз и молниеносно ее поднимает. Занимается он этим обыкновенно по ночам. У него прекрасное зрение. И он не промахивается.
— Значит, вы попались ему на улице?
— Нет. Я оказался еще глупее.
Голос незнакомца звучал устало и вместе с тем насмешливо. Гензель отметил, что голос весьма молод и принадлежит явно не старику. Тем необычнее было слышать в этом голосе подавленность, свойственную, скорее, находящемуся на последнем издыхании старцу.
— Как это случилось?
Мне приходилось читать, что в древности, еще во времена, когда генетические чары служили во благо человеку, распространенной традицией среди людей было оставлять самые вкусные части добычи для лесных хищников — чтобы те, довольствуясь ими, не совались к человеческому убежищу… Он точно так же взимает свою дань. Только ему отдают не самые сладкие куски, а самые неудобные. Вы двое, кажется, тоже имели несчастье оказаться для кого-то неудобными кусками?
— Пожалуй, так.
— У сына Карла уговор со многими людьми тут, в Вальтербурге. Ему скармливают то, что по каким-то причинам должно бесследно исчезнуть из города. Неудобные куски. Такие, которые должны раствориться, не оставив и щепотки генетического следа. Если вы оказались тут, значит, и сами знаете.
— Вас отправил сюда Карраб Варрава? — напрямик спросил Гензель.
— Не имею чести быть знакомым. Нет, я здесь из-за Помидора.
— Какого еще помидора?
— Господина Помидора. — Незнакомец выдавил из себя жалкую усмешку. — Это не имя, это прозвище.
— Чье?
— Одного приближенного к королю седецимиона. Он, кажется, барон. А Помидором его прозвали за вечно красный цвет лица. Он, конечно, может доказывать, что порченого генетического материала у него меньше половины процента, но в это мало кто верит. У него избыточное количество капилляров на лице, оттого оно всегда красно, как помидор. Ну и прозвище соответствующее… Он-то меня сюда и упек.
— Вы умудрились разозлить седецимиона? Недурно, — оценил Гензель.
— На самом деле разозлил его мой отец. Он был весьма неловок и за это пострадал. Я лишь попытался спасти его. Зря, как видите. Теперь и я оказался неудобным куском. И жду своей участи.
— Какой?
— Не стоит вам знать. Если вы и в самом деле окажетесь ценны для него, сын Карла может держать вас тут несколько дней. И, поверьте, лучше проведите их в неведении.
— Мы не собираемся ждать своей участи! — терпеливо, но жестко сказал Гензель. — Эй, послушайте, уважаемый! Я не знаю, что за дела здесь творятся, и не знаю, от кого заделал этого жирного ублюдка отец Карл, но сидеть и ждать не собираюсь.
— Все зависит от того, когда он вновь проголодается…
— Но вы сказали, что он не ест людей!
— Верно. Он питается исключительно вареньем.
Гензель зарычал.
— Далось вам это варенье! У нас нет ни для кого никакого варенья!
— Вы так думаете, — едва слышно произнес человек с шарообразной головой. — Все поначалу так думают…
— Гензель, — Гретель положила руку ему на плечо, — кажется, я догадываюсь, что он имеет в виду. И если я права, ситуация еще хуже, чем нам виделось. Мы здесь не канарейки.
— А кто? — спросил настороженно Гензель.
— Мы…
Закончить она не успела, потому что дверь дома заскрипела, распахнутая чьей-то удивительно сильной рукой. Гензелю не требовалось угадывать, кто ее открыл. Он почувствовал запах — пота и машинного масла, удивительно зловонный, как запах головки сыра, забытой мышью под половицей. Что-то тяжелое и грузное ввалилось внутрь.
Сидевший в соседней клетке незнакомец взвился на ноги, от его обреченного спокойствия не осталось и следа.
— Не меня! — завопил он истерично. — Не меня, умоляю! Их! Их берите! Они свежие, они сладкие!.. Не меня, молю святым Пестелем!
От шагов сына Карла сотрясался весь дом. Огромная, раздувшаяся от жира туша неспешно передвигалась вдоль клеток, на ее оплывшем лице царило сонное равнодушие. Маленькие глаза шарили по клеткам.
— Не берите меня! Я горький и тощий! Их берите! Их!
Сын Карла замер между клетками, раздумывая. Гензель заслонил грудью Гретель, понимая, насколько нелеп и бессмыслен этот жест. Сын Карла мог бы убить его одним щелбаном. Но он оставался в неподвижности, переводя взгляд с одной клетки на другую. Его пухлые губы едва заметно шевелились, между ними виднелся сизый язык, покрытый россыпями вкусовых сосков и похожий на щупальце глубоководного моллюска.
— Сохраняйте спокойствие, — пробасил сын Карла заученно, безо всякого выражения. — Дело обыденное.
Незнакомец с шарообразной головой взвизгнул и попытался забиться в угол своей клетки. Но это ему не помогло. Сын Карла умел двигаться с удивительной ловкостью, несмотря на свои габариты. Клетка распахнулась, и он засунул внутрь толстую руку, покрытую складками, пролежнями и пигментными пятнами. Казалось, что в его теле вовсе нет костей, а кожу распирают лишь сотни килограммов лениво колышущегося жира. Пальцы безошибочно нащупали пытающегося укрыться человека и выдернули наружу.
Только тогда Гензель смог рассмотреть их неудачливого соседа. Тот и в самом деле походил на человека, если бы не голова. Судьба, наградившая его вполне обыденным торсом и конечностями, отыгралась на голове. То, что находилось у него на плечах, скорее походило на засушенную луковицу. Шелушащаяся коричневато-желтая кожа осыпалась, под ней проглядывали другие слои. Из макушки вертикально вверх росли побеги, напоминающие луковые стрелки, посеревшие от недостатка света.
«Слишком много растений в последнее время», — подумал Гензель отстраненно.
Человек-луковица оглушительно кричал и пытался вырваться, но пальцы сына Карла не оставляли ему шанса. Лишь хрустнула, вывернувшись из сустава, тощая рука.
— Сохраняйте спокойствие, — пробасил толстяк с винтом за спиной и добавил, поколебавшись, новое слово: — Пожалуйста.
— Что он хочет с ним сделать? — не выдержал Гензель.
От собственной беспомощности ныли кости и слезились глаза. Сейчас бы мушкет!.. Может, этот сын Карла и силен, но три заряда картечи в упор превратили бы его в ошметки жира, разбросанные по всему дому.
Мушкета не было. Было только непонимание и страх. Совсем не то, что могло помочь в этой ситуации.
— Лучше не смотри, братец. Ни к чему.
— Да что за дьявол? На что не смотреть?
— На него… них…
Кажется, Гензель понял. Мелькнула на дне сознания, как мелькает рыбешка в прозрачной воде, какая-то мысль. Понял, но осознать в полной мере не успел. Может, из-за этого он замешкался и не сообразил отвернуться, когда сын Карла, тяжело ступая своими ножищами и сжимая в руке свою жертву, подошел к автоклаву.
Он сунул верещащего человека-луковицу в металлическую емкость и, прежде чем тот успел выпрыгнуть, щелкнул крышкой, герметически ее закрывая.
— Варенье, — пробормотал сын Карла, облизывая пухлые губы. — Варенье. Дело обыденное.
Он подошел к подобию перегонного куба и, почти не колеблясь, повернул несколько рычагов. Получалось у него это ловко, несмотря на то что рычаги не были рассчитаны на лапы подобного размера. Перегонный куб начал пыхтеть и изрыгать из своих многочисленных сочленений пар.
Из автоклава донеслись приглушенные звуки ударов — кто-то лихорадочно стучат изнутри. Удары делались все более поспешными и неравномерными. Автоклав зашипел, задрожал, завибрировал. В его смотровых окошках замелькаю что-то алое. Перегонный куб плевался во все стороны струйками быстро рассеивающегося пара, скрипели манометры, кряхтели клапаны и насосы. Что-то таинственное и страшное происходило в стальных недрах, что-то, от чего Гензеля подмывало отвернуться, пока не поздно.
Удары изнутри автоклава сделались слабее и реже. Некоторое время они еще звучали, потом затихли. Кажется, что-то забулькало, но Гензель не мог сказать этого наверняка. Он вдруг понял, о чем промолчала Гретель. И что ему следовал) сообразить давным-давно.
А еще мнил себя канарейкой, старый дурак.
Сын Карла нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Прежде равнодушный, с тупым, как у коровы, взглядом, он сделался беспокоен и оживлен, точно употребляющий эндорфины уличный мул в ожидании очередной дозы.
— Сохраняйте спокойствие… — бормотал он, пританцовывая. — Сохраняйте спокойствие.
Он повернул еще несколько рычагов и крутанул большой вентиль. По трубам, всхлипывая и булькая, стало ползти из автоклава что-то густое. Сын Карла по-детски улыбался и гладил трубопровод, как любимого котенка. Его маленькие глаза светились ликованием. С грохотом раздвинув груды мусора, он вытащил откуда-то большой жестяной таз и водрузил его под своим аппаратом.
А потом в подставленный таз потекла, шлепаясь, тягучая ярко-алая жижа, густая и маслянистая. Гензель знал, что это. Хоть и пытался убедить себя, что не знает. Жижа все текла и текла из крана. Сын Карла некоторое время завороженно глядел на нее, потом не удержался и, жадно урча, стал пожирать прямо из таза, мгновенно перепачкав лицо.
Гензель слышал лишь сытое шипение автоклава. Изнутри металлической оболочки которого уже не доносилось никаких звуков. Тот, кто прежде издавал беспокойные удары, уже не нарушал тишины. Он стал абсолютно спокоен. Настолько, насколько это вообще возможно.
— Мы не канарейки, — невероятно спокойным голосом произнесла Гретель. — Из канареек не делают варенья, братец.
— Эта история не могла хорошо закончиться, — пробормотал Гензель, потирая ноющий подбородок.
На зубах хрустела ржавчина, от которой он то и дело отплевывался. Изначальное предположение оказалось верным — прутья клетки были слишком прочны даже для акульих зубов. Оставалось удивляться, что зубы остались на своих местах.
— Твое ворчание не очень воодушевляет, братец.
— Это единственное развлечение, которое у меня осталось. Не раз я был уверен, что очередной твой опыт нас погубит, но никогда не предполагал, что все случится из-за какого-то полена, которому медный грош цена! Нас погубило какое-то дерево!
Гретель даже не взглянула на него.
— Если на то пошло, нас погубила твоя безоглядность и неспособность предугадывать развитие событий.
Гензель рефлекторно клацнул зубами, точно пес, возле которого пролетела муха.
— Прекрати! Я не мог знать, что старый паук Варрава нас обманет!
— Ну разумеется. Он ведь выглядел таким славным стариком. Этого никто не мог предположить.
Он бросил пытливый взгляд на Гретель, но та сохраняла совершенно непроницаемое выражение лица. Гензелю внезапно расхотелось спорить, хотя еще минуту назад он едва не кипел от сдерживаемой ярости. Несколько дней, проведенных в заточении, скверно сказались на его терпении.
— Ладно уж, — буркнул он неохотно, взъерошивая волосы. — Мы с тобой друг друга стоим. Ты соорудила это деревянное чудовище, а я проявил глупость, пытаясь его поймать. Как ни крути, все одно. Ключ у Варравы, а мы с тобой скоро превратимся в варенье.
— Я не хочу быть вареньем, — вдруг сказала Гретель. — Не люблю сладкого.
— Ты, помнится, и головастиком не хотела быть… А сейчас это уже кажется мне недурным выбором. Чертово полено!
Гретель сидела в углу клетки, набросив на плечи камзол Гензеля: ее собственное платье практически не защищало от холода, царящего в обиталище сына Карла. Холод донимал их в течение нескольких дней — никаких отопительных приборов в убежище сына Карла не имелось. Гензель, невесело усмехаясь, видел в этом своеобразную логику. Продукты лучше держать в прохладном месте.
Со временем выяснилось, что холод и перспектива превратиться в несколько литров густой алой жижи — не единственные неудобства у гостей сына Карла. Голод и жажда также давали о себе знать.
С жаждой дело обстояло немногим лучше — сквозь прорехи в рифленой крыше в клетки просачивалась вода, собиравшаяся в углублении на полу. Ее было мало, выходило лишь несколько глотков в день, но Гензель заботливо собирал куском ткани все до капли. Почти всю воду он отдавал Гретель. Геноведьма, приходя на короткое время в себя, пила жадно, не замечая того, что себе Гензель почти ничего не оставляет. А может, замечая, но молчаливо соглашаясь с этим.
Но от голода спасения не было. И уже через три дня он превратился из досадливого обстоятельства в сущую пытку. Сын Карла не кормил своих гостей. Быть может, в его пустую голову попросту не приходила мысль, что им нужна пища. С его точки зрения, они были лишь сырьем для варенья, скоропортящимся продуктом.
Под конец четвертого дня Гензель готов был заплатить золотой монетой за черствую корку хлеба, но поблизости не оказалось никого, кто пошел бы на эту сделку.
— Все-таки достаток развращает, — пробормотал Гензель, пытаясь ногтем содрать с прутьев решетки мох и определить, годится ли он в пищу. — Когда-то, когда у нас не было и крыши над головой, мы могли голодать по неделе кряду, помнишь?
Гретель кивнула. Всегда молчаливая, в последние дни она практически не открывала рта. То ли экономила таким образом силы, то ли ее рассудок, подчиненный неизменной логике, попросту сделал вывод о том, что его дальнейшее участие не обязательно в столь безнадежной ситуации. Гензель и сам охотно впал бы в спасительный транс, но знал, что это бесполезно — в подобных условиях его тело, напротив, сосредотачивалось и требовало деятельности.
Акула, если ее заточить в прочную клетку, не впадает в апатию. Она будет рыскать вдоль решетки, дожидаясь удачного момента. Момента, когда можно будет сомкнуть челюсти, вырвав кусок сладкого, еще живого мяса…
— Удивительно, — Гензель улыбнулся воспоминаниям, — как мало нам требовалось когда-то для счастья. Только чтобы с неба не лил дождь, чтобы можно было спать прямо на земле, закутавшись в плащ… Изредка нам удавалось переночевать на сеновале, и мы считали это за величайшую удачу, помнишь?
Гретель молчала в своем углу. Ее голова лежала на согнутых коленях, волосы, когда-то уложенные в вечернюю прическу, торчали беспорядочными прядями во все стороны, напоминая диковинный цветок.
— Зачастую нас и в города-то не пускали — кому нужны нищие квартероны? И мы никогда не задерживались на одном месте больше недели. Нас точно гнало куда-то невидимым ветром, который мог переменить направление в любой момент и задуть с любой стороны света. Туле, Фрисланд, Руритания, Офир, Пацифида, снова Фрисланд, Сильдавия, Лаленбург… Помнишь, Гретель? А еще нам никогда не платили золотом. Да что золото, мы и серебро впервые увидели не сразу. Иногда весь наш с тобой заработок составлял краюху хлеба из скверной, генетически дефектной ржи. А иногда мы считали за счастье убраться живыми и здоровыми. Помнишь?
— Помню, — отозвалась Гретель. — Паршивые же были времена.
Ее ответ, пусть слабый и равнодушный, все равно обрадовал Гензеля.
— Зато и скучать не доводилось. Благодаря тебе в основном. Уж и не припомню, сколько раз твои фокусы едва не стоили нам голов…
— Если мне не изменяет память, именно благодаря геномагии нам удавалось добывать пропитание.
— И не только пропитание. До сих пор удивляюсь, как я не поседел еще в двенадцать лет.
Гензель надеялся, что ему удастся растормошить сестру, нарушить ее апатичный транс, но надежда эта напоминала крохотный костерок, который, не получая пищи, не был способен согреть даже пальцев. Гретель опять превращалась в молчаливую бледную тень. Наблюдать за этим было неприятно и страшно.
Она не приходила в себя, даже когда домой возвращался сын Карла. Это случалось не так уж часто — толстяк много времени проводил на охоте, прилетая лишь под утро. Видимо, Гретель была права, полет и в самом деле требовал прорву энергии. Всякий раз, когда Гензель слышал затухающий гул винта и скрежет входной двери, он внутренне сжимался, ожидая, с чем явится хозяин дома на крыше в этот раз. Он никогда не возвращался без добычи.
Обычно сын Карла тащил на себе пару городских мулов, держа их так же легко, как держат тряпичных кукол. Удивительно, но даже в таком городе, как Вальтербург, находилось множество беспечных людей, которые не глядят наверх. А может, и глядели, расслышав тарахтящий звук мотора, но слишком поздно. Сын Карла ни разу не оставался с пустыми руками. Чаще всего он даже не запирал своих будущих жертв, а сразу шел к автоклаву. Некоторые сопротивлялись, другие, не предполагая, что именно их ждет, встречали судьбу молча и покорно. И те и другие неизбежно превращались в хлюпающую густую жижу, которую сын Карла, жадно чавкая, пожирал, зачерпывая ладонью.
Раз за разом все повторялось. Автоклав, хоть и был старым, никогда не уставал. Он работал с шипением, в котором Гензелю мерещилась сладострастность. От липкого и вязкого запаха варенья ужасно мутило, как и от вида пирующего толстяка с алыми потеками на лоснящихся щеках. Но исторгнуть из себя Гензель все равно ничего не мог — желудок давно был пуст.
Хуже всего было ожидание. Едва ли сын Карла сознательно подвергал их этой пытке. Скорее всего, он даже не сознавал, что ощущают люди, запертые в клетке и день за днем наблюдающие за тем, как работает вечно голодный автоклав. Ожидание действовало крайне гнетуще. Гензель на себе ощущал, как каждый проведенный в клетке час подтачивает волю и размягчает нервы. Если первые дни ему удавалось сохранять спокойствие, даже слушая лихорадочный стук изнутри автоклава, очень скоро он уже в панике вскакивал, стоило лишь различить приближающийся шум огромного винта.
Страх язвил его ядовитым жалом изнутри. Страх нашептывал: «Подумай, что будет, если сегодня он вернется без добычи? Ты думаешь, он ляжет спать голодным?..»
Помимо страха силы подтачивало и чувство вины, чумной крысой пирующее во внутренностях. Можно как угодно долго настаивать на том, что его обманул Варрава, и даже верить в это какое-то время, только совесть, этот проклятый атавизм, так и не отмерший за десятки поколений неконтролируемых мутаций, знает одно. Это он, Гензель, вздумал сыграть со старым пауком в рискованную игру, самонадеянно возомнив себя самым проницательным и хитрым. Решил выполнить грязную работу чужими руками. И даже не успел удивиться, когда эти же руки мгновенно сомкнулись на его собственной шее. Все справедливо, нет нужды ругать геноведьм с их безрассудными экспериментами.
Чтобы не думать об этом, Гензель старался размышлять о чем-то отвлеченном, но без малейшего успеха — даже бесплотная мысль не могла выбраться за пределы дома на крыше, лишь билась о его грязный ржавый купол раненой птицей. И мысли делались все сквернее и отвратительнее изо дня в день.
К примеру, отчего сын Карла не убивает своих жертв, прежде чем превратить в варенье? Быть может, его примитивный разум совершенно не волнуют крики жертв? Возможно. Был и другой вариант ответа, который Гензель поспешил запихнуть в самый темный уголок сознания, как в чулан. Возможно, из живых людей варенье получается вкуснее…
Прочие мысли были и того хуже. И самой плохой из них была — отчего сын Карла еще не отправил их самих в автоклав? Чего выжидает? Зачем тянет? Подсознание с готовностью подсовывало ответ на этот вопрос, столь отвратительный, что Гензель скалил зубы всякий раз, когда тот маячил перед мысленным взором. Все очень просто. Сын Карла распознал в них малую часть дефектного генокода и решил приберечь на особый случай, как изысканный деликатес. Вот кто они с Гретель. Деликатесы. Редкое для Вальтербурга блюдо. Что-то вроде окороков, свисающих с потолка в чулане. Или кругов сыра, загодя спрятанных в подпол и ждущих своего часа.
— Надо бежать.
— Что? — От удивления Гензель даже не выругался.
— Надо бежать, — спокойно повторила Гретель. Она выглядела призраком — прозрачные глаза, угольные синяки под ними, кожа казалась столь тонкой, что можно было разглядеть тени кровеносных сосудов. — Мне кажется, у нас осталось мало времени, братец.
— Отчего ты так решила?
На самом деле он давно ощущал то же самое. Но если его собственные ощущения зиждились на акульей интуиции, то выводы Гретель должны были иметь под собой более надежный фундамент.
— Мы слабеем, — пояснила Гретель со своим обычным равнодушным спокойствием, как если бы констатировала какой-нибудь очевидный и не представляющий особой важности факт. — Скоро мы не будем представлять для него питательной ценности. Человек — не тот продукт, который может долго храниться.
— Так и есть. Кроме того, ему может не повезти на охоте. А сын Карла явно не из тех существ, что склонны терпеть голод ради долгосрочного планирования.
— Значит, нам надо бежать, — подвела итог Гретель.
Гензель поднял голову. Гретель выжидающе смотрела на него, не выказывая ни страха, ни волнения. Ну конечно. Пришло время братцу Гензелю продемонстрировать свой очередной фокус. Вытащить их из смертельной ловушки в последнюю минуту.
«Беда только в том, что забыл свою волшебную шляпу, — уныло подумал Гензель. — А жаль. Сейчас было бы неплохо сожрать толстого жирного кролика…»
— Боюсь, что нет, сестрица, ровным счетом никаких планов на побег у меня нет. Ни одной карты в рукаве, ни одного фокуса наготове.
— Я думала, у тебя всегда запасен последний.
— Дело не в фокусах, а в том, чьи руки их выполняют, — устало улыбнулся Гензель. — Кажется, фокусник слишком постарел за эти годы. Стал глуп и рассеян. Извини.
— И нет ни одной мысли?
— Нет. Даже будь у меня кинжал, я ничего бы не смог противопоставить этому здоровяку. Не та весовая категория. Может, в этот раз твой талант нас выручит? Нет ли у тебя, часом, какого-нибудь чудодейственного генозелья? Такого, чтобы погрузить его в летаргический сон? Или превратить в маленькую мышь?
Гретель молча продемонстрировала пустые руки. Бледные ладони, расчерченные папиллярными линиями, выглядели лепестками какого-то причудливого ночного цветка.
— В следующий раз я непременно захвачу в театр несессер, набитый колбами с генетическими проклятиями.
— По-моему, из тебя получится совершенно отвратительное варенье, — с чувством сказал Гензель. — Едкое и пропитанное сарказмом. Сын Карла наверняка заработает изжогу.
— Ты умеешь утешить, братец.
— Кажется, сейчас это единственное, что я умею.
Гензель сел на пол клетки, обхватив себя за колени. От глухой тоски, рождавшейся где-то под желудком, хотелось громко застонать. Он и застонал бы, не сиди рядом Гретель. Ни к чему ей видеть отчаяние старшего брата. Пусть думает, что у него остался хоть один фокус в запасе. Что сильный и ловкий братец Гензель вновь вытащит свою безрассудную сестрицу из очередного переплета. Так, как он это умеет. Ведь для чего еще геноведьмам нужны старшие братья?..
На восьмой день сын Карла вернулся с охоты раньше обычного. Гензель давно научился распознавать звук приближающегося двигателя — иных звуков здесь, над Вальтербургом, не было. В этот раз звук показался ему резким, дергающимся, не таким, как прежде. И вибрация тяжелых шагов сына Карла была иной. Едва ощутив ее, Гензель рефлекторно вскочил. Сердце, прежде бившееся ровно и отчетливо, сорвалось с ритма и издало дробь, столь прерывистую, что могло бы заменить безумный тромбон в оркестровой яме «Театра плачущих кукол».
— Вернулся, — кратко сказала Гретель сама себе.
«И, кажется, вернулся не в духе», — добавил мысленно Гензель.
Догадка оказалась верной. Сын Карла так спешил забраться в дом, что едва не сорвал с петель хлипкую для такой махины дверь. Он немного пошатывался, а когда миновал порог, Гензель обратил внимание на отвратительный запах, пробравшийся внутрь быстрее своего носителя. Но теперь это был не запах пота и машинного масла. Это был запах паленого волоса.
От головы сына Карла все еще валил пар. Рыжих волос на ней почти не осталось, вместо них зияли багровые проплешины, окруженные еще курящимися венчиками черно-ржавого цвета. Толстяк выглядел так, словно засунул голову в полыхающую печь. Кожа на лице вздулась и побагровела, отчего глаза казались еще меньше, чем обычно.
Кажется, охота этой ночью выдалась для сына Карла неудачной. Он был без добычи.
— Свечи… — едва разборчиво пробормотал толстяк, пошатываясь и бессмысленно водя из стороны в сторону еще дымящейся головой. — Слишком много свечей…
Гензель не знал, про какие свечи тот бормочет, но, судя по оставленным отметинам, предположил, что речь идет о ручном огнемете. Судя по всему, очередная жертва любителя варенья оказалась достаточно смелой, чтобы дать ему отпор. И достаточно хорошо вооруженной.
— Гензель! — Он и не заметил, как Гретель оказалась возле него. — Он сейчас должен быть невероятно голоден. Ты понимаешь, что это значит?
Гензель молча кивнул. Чего же тут непонятного…
Это означает, что сын Карла возьмется за еду. А они вот-вот превратятся в остатки алой жижи, прилипшие ко дну миски.
— Слушай… — торопливо заговорила Гретель. — Возможно, у нас есть шанс. Это лишь догадка, но… Ничего другого не остается.
— Самое время для средства последнего шанса, — процедил Гензель, наблюдая за тем, как сын Карла, пошатываясь и неразборчиво бубня себе под нос, приближается к клетке.
— Надо не давать ему есть.
— Что?
Он недоуменно уставился на сестру. Не похоже, чтобы Гретель шутила.
— Не давать ему есть! Как можно дольше!
— Да как, черт возьми?
— Не знаю. Но больше ничего не остается. Надо заставить его голодать, понимаешь?
— Не думаю, что у меня под рукой есть что-то, способное отбить у этой бездонной бочки аппетит…
Сын Карла добрался до клетки. Он шатался и задевал разбросанный по дому хлам, но Гензель сомневался, что силы у него убавилось.
— Варенье, — прогудел сын Карла, облизывая запекшиеся от жара губы, в голосе его появилась пугающая страсть. — Варенье! Сладкое. Вкусное.
Он открыл дверь клетки. Гензель готовился к этому на протяжении последних часов. И бросился вперед, едва решетчатая дверь со скрежетом отворилась.
Последний трюк старого фокусника, сестрица.
Может, у него удалось бы, будь тело лет на десять моложе. Будь в нем больше сил и меньше искаженного генокода. Или окажись он попросту удачливее.
Огромная ладонь сына Карла встретила его в дверном проеме. Она лишь со стороны казалась мягкой. От ее удара у Гензеля зазвенели зубы, а мир на несколько мгновений померк перед глазами, обратившись одной бесконечной солнечно-черной спиралью. Сила удара была такова, что его отшвырнуло вглубь клетки и припечатало о прутья решетки. Опираясь на них, чтобы не упасть, ощущая текущую по подбородку горячую кровь, Гензель подумал, что в который раз недооценил противника. Сын Карла должен был привыкнуть к тому, что варенье умеет сопротивляться.
Он услышал, как вскрикнула Гретель. Пока он пытался разогнать туман перед глазами, сын Карла обхватил ее своей мясистой ладонью поперек тела и теперь вытаскивал из клетки.
Ледяная акулья ярость мгновенно нахлынула на Гензеля, утянув в непроглядные черные глубины несуществующего моря. Ярость не земноводного хищника, но хладнокровного истребителя всего живого. Руководствующегося не разумом, но заложенной в тело безошибочной программой, настолько древней, что генетический материал человека на ее фоне казался не старше бабочки-однодневки.
Гензель прыгнул вперед еще прежде, чем сообразил, что делает. Он больше не управлял своим телом, тело управляло им. И тело, как всегда, безошибочно знало, что делать. Горячая ярость слепит, застилает глаза, заставляет делать ошибки. Ледяная ярость делает мир кристально-чистым и ясным.
Кулак сына Карла оказался возле него, и Гензель мгновенно сомкнул зубы на костяшке одного из пальцев, с упоением ощущая, как лопается под рядами треугольных зубов плотная кожа. Точно обивка на старом продавленном диване.
Акула предвкушала пряный запах свежей крови, сладкий на вкус багровый водопад. Но вместо этого его зубы завязли в рыхлых пластах желтоватого жира. Сила укуса была таковой, что мгновенно перерубила бы человеческий позвоночник. Но сын Карла, казалось, вовсе не имел костей, и зубы Гензеля тщетно полосовали слои отвратительно пахнущего подкожного жира, вонючего, как разлагающаяся на солнце рыба.
Но нервные окончания у толстяка все же были. Он по-детски тонко взвизгнул и мгновенно выпустил Гретель. Прежде чем Гензель успел этому обрадоваться, огромная пятерня, обхватила его самого, стиснув так крепко, что Гензель на миг ощутил себя готовым лопнуть тюбиком. Сожми сын Карла пальцы еще немного крепче, и голова бы взорвалась от переполнявшей его крови. Гензель ощутил, как трутся друг о друга ребра.
Иногда даже самая проворная акула попадает впросак.
— Сохраняйте спокойствие, — обиженно сказал сын Карла, приближая кулак с зажатым Гензелем к своему побагровевшему лицу, от которого уже отслаивались лоскуты кожи. — Дело обыденное.
«А может, он не глуп, — обессиленно подумал Гензель, пытаясь глубоко дышать. — Может, люди для него — это такая штука, из которой получается варенье. В этом, вероятно, заключен весь смысл их существования. Вслушивается ли повар на кухне в треск лука, который он рубит?..»
Автоклав вдруг оказался совсем рядом: должно быть, от боли Гензель на несколько секунд терял сознание. Он улыбнулся Гензелю круглым зевом всепожирающей серой пасти. Даже лишенная зубов, она таила в себе не просто опасность, а прекращение всякого существования. Превращение мыслящей субстанции в несколько литров сладкой алой жижи.
Гензель знал, что не успеет ничего сделать. Сын Карла уже не раз продемонстрировал свою силу. Гензель знал, что не может ей ничего противопоставить. Он может сопротивляться изо всех сил — сын Карла этого попросту не заметит. Сунуть сопротивляющегося человека в чан и закрыть крышку — едва ли ему потребуется на это больше двух секунд. А там уже, в этом стальном гробу, можно сопротивляться сколько угодно. Биться в стены, как бился несчастный человек с луковичной головой, кричать, выть…
«Надо не давать ему есть, — сказала Гретель. — Надо заставить его голодать…»
Как это может сделать человек, который сам вот-вот превратится в чужой ужин?
— Не ешь меня! — прохрипел Гензель, все еще борясь со сдавливающей его силой. — Мой генокод заражен! Ты покроешься язвами и умрешь, если отведаешь варенья из Гензеля!
Это не произвело на сына Карла никакого впечатления. Как можно воздействовать на столь слабый разум? Существуют ли в природе струны, способные разбудить его или вызвать хоть какую-то реакцию?
Рука сына Карла стала опускаться. Гензель почувствовал, как подошвы его сапог скользят по крышке автоклава.
— Не ешь меня! — закричал он, тщетно суча ногами. — Если ты сделаешь из меня варенье, я не смогу рассказать тебе сказку! Интересную сказку! Я знаю очень много сказок. Самые лучшие сказки на свете…
— Сказки, — произнес сын Карла.
Показалось Гензелю или в голосе толстяка, глухом и немелодичном, как из бочки, появился новый оттенок, настороженный и мечтательный? По сонному лицу сына Карла скользнуло незнакомое Гензелю выражение. Он опустил Гензеля в автоклав, но отчего-то медлил, не закрывая герметичной крышки. На его сонном лице отразилось что-то вроде интереса.
— Сказки…
— Вот, например, сказка про двенадцать геномагов! — торопливо заговорил Гензель, задрав голову. — Жила-была в Офире одна женщина, и была у нее падчерица, красивая и работящая. Мачеха держала ее в черном теле, поручала самую грязную и трудную работу, но падчерица всегда беспрекословно слушалась. Мачеха заставляла ее носить тяжелые ведра с физраствором, ходить на рынок, драить дом до блеска, и падчерица всякое ее задание выполняла с улыбкой. Это злило мачеху. Она хотела сжить со свету свою неродную дочь и только искала подходящего случая. Но тяжелая работа не сломила молодую девушку, и никакая генетическая хворь ее не брала. Отчаявшись погубить падчерицу, мачеха однажды призвала ее студеной офирской зимой и сказала: «Сходи-ка, дорогая моя, в Железный лес да нарви мне свежих фиалок!» Падчерица и это задание приняла с улыбкой, хоть и прекрасно знала, что никаких фиалок в Железном лесу быть не может, тем более зимой, так как он от корней до последней веточки пропитан генетической порчей.
Сын Карла слушал зачарованно, покачивая своей огромной опаленной головой. Судя по всему, его примитивный рассудок жадно впитывал все сказанное, абсорбируя слова Гензеля с той же жадностью, с которой он прежде поглощал варенье. Наверно, ему никто и никогда не рассказывал сказок. Да и кто станет рассказывать сказку ребенку, всю жизнь прожившему на крыше?..
Больше всего Гензель боялся сбиться или забыть концовку.
— Так что пошла бедная падчерица в лес. Долго она шла, совсем выбилась из сил. Ее едва не сожрали хищные растения, чудом не пронзили ядовитые колючки, да и холод донимал ее ужасно. Никаких фиалок в Железном лесу, разумеется, не было и в помине. Силы ее быстро таяли, да и следы быстро занесло снегом. И тут, когда она уже решила съежиться и закрыть глаза, чтобы больше ничего не видеть, случилось чудо. Вдруг заметила она отблеск огня на лесной поляне. Приблизилась из последних сил — и вдруг увидела двенадцать стариков, сидящих вокруг огня. Из разговоров их она сразу поняла, кто эти двенадцать загадочных старцев. Это были геномаги, изгнанные из города за свои геномагические опыты. Раз в год собирались они в тайном месте посреди Железного леса и держали совет. Хотела было испуганная падчерица убежать, но хрустнула под ногой ветка, и геномаги заметили ее…
Сын Карла слушал так внимательно, что, казалось, даже забыл про боль в обожженном лице и прокушенных пальцах. В эту минуту он и сам выглядел как геномаг, столкнувшийся внезапно с совершенно невероятной хромосомой, столь же прекрасной, сколь и таинственной. Было совершенно ясно, что он не захлопнет крышку автоклава, пока не услышит концовки.
— Геномаги быстро вызнали у падчерицы, что привело ее в лес. А после рассмеялись. «Так, значит, твоей мачехе нужны фиалки? — спросили они, распаковывая свои синтезаторы. — Будут ей фиалки». И точно. Падчерица глазам своим не поверила, когда из снега, куда двенадцать геномагов опорожнили пробирки, вдруг стали расти с удивительной скоростью прекрасные цветы. Обрадованная падчерица набрала полную корзину фиалок, распрощалась с геномагами и вернулась домой. Мачеха сперва разозлилась, увидев ее, а потом обрадовалась — очень уж красивы были цветы. Только недолго ее радость длилась. На следующий день обнаружили ее в постели, почерневшую и иссохшую. Оказывается, ночью фиалки выбрались из ваз и выпили всю ее кровь до капли. А падчерица стала жить в ее доме и жила долго и счастливо.
Сын Карла утробно заворчал, словно очнувшись от транса. Он выглядел рассеянным больше, чем обычно, и, кажется, ему понадобилось время, чтоб осознать окружающую обстановку. Возможно, это был удачный момент, чтобы выскочить из автоклава, подумалось Гензелю. Люк располагался немногим выше его головы, не так уж сложно схватиться за край руками, поднять тело и перекатиться через борт…
От этой мысли пришлось отказаться. План был хорош, но Гензель помнил удивительное проворство толстяка. Лучше не рисковать.
«Не давать ему есть. Как можно дольше».
Сын Карла пригладил обгоревшие вихры рыжих волос и потянулся пальцем к крышке автоклава, чтобы защелкнуть ее.
— Стой! — крикнул Гензель. — У меня ведь есть и другие сказки. Ты когда-нибудь слышал сказку про принцессу по прозвищу Ослиный Эпидермис?..
Не дожидаясь ответа, Гензель принялся рассказывать. Сказка про принцессу понравилась сыну Карла не меньше, чем сказка про фиалки и геномагов. Он слушал зачарованно, посасывая палец и внимательно глядя на рассказчика. Гензель еще никогда не видел, чтобы подобные истории, неприхотливые и способные обычно заинтересовать лишь городскую детвору, производили такое впечатление. Пожалуй, он мог это объяснить.
Куцый рассудок толстяка был подобен его телу. Но если тело, потребляя в огромных количествах сахар, лишь жирело, рассудку однообразная пища уже порядочно надоела. У него не было иных развлечений, кроме постоянной охоты. Люди, которых он ловил, не разговаривали с ним и не рассказывали историй. Они просто превращались в булькающую массу, которую он с удовольствием вливал в себя.
Гензель рассказал ему историю про Ослиный Эпидермис. И еще одну, про трех свиноподобных мулов, которые решили построить себе надежные убежища от волка. Потом пришел черед жутковатой сказки «Короброк», повествующей о кровожадном существе, произведенном на свет четой пожилых геномагов. Катаясь по лесу, оно пожирало всех встреченных зверей и под конец едва не погубило своих создателей. Сказка эта была не по-детски богата на детали, но и ее сын Карла проглотил не поморщившись.
Закончив одну сказку, Гензель тут же, почти без паузы, переходил к следующей. Таким образом ему удавалось удерживать толстяка в состоянии перманентного транса. Из этого состояния сын Карла быстро выходил, едва услышав «вот и сказке конец», и рука его тут же начинала движение к крышке автоклава.
Сказки следовали друг за другом без перерыва. Гензель рассказывал про оловянного мехоса, взявшего в заложницы балерину и сгоревшего в ярком пламени. Про мальчишку, похищенного стаей генномодифицированных гусей. Он не испытывал недостатка в материале. Кое-что он помнил еще с детских времен — ребятня Шлараффенланда обожала подобные истории и знала их во множестве. Да и жизнь в обществе практикующей геноведьмы оказалась богата на материал.
Гензель говорил несколько часов подряд, почти без перерыва. Он вытаскивал из памяти все новые и новые истории. Грустные, веселые, жуткие и загадочные. В этих историях жили заколдованные принцы, сказочные животные, геномаги во всех своих ипостасях, жадные короли и находчивые квартероны. Во рту пересохло, язык едва ворочался, но Гензель знал, что не может замолчать. Потому что первым же звуком, который он услышит, стоит сказке прерваться, будет щелчок крышки над его головой.
Утешаться он мог лишь тем, что не только ему одному это дается нелегко. Сын Карла, внимавший ему подобно зачарованной музыкой змее, тоже выглядел неважно. Гензель обратил внимание, что с каждой минутой толстяк выглядит все хуже. По обожженному лицу градом катился мутный пот, огромное тело дрожало, с трудом сохраняя равновесие. Словно сказки Гензеля мало-помалу вытягивали из этого существа силы. Это было необъяснимо, но это происходило. Сын Карла слабел на глазах.
«Удивительно, — подумал Гензель в миг короткого перерыва. Никогда бы не подумал, что обычные слова могут влиять подобным образом на живую материю. Наверно, Гретель могла бы это объяснить…»
Гретель он даже не видел. Когда сидишь в огромном автоклаве, весь мир представляет собой лишь круг света над головой. Но Гензель знал, что сестра слышит каждое его слово. Она неспроста велела ему тянуть время.
Сын Карла уже пошатывался, как пьяный. Лицо его побелело, из широко распахнутого рта вывалился розовый язык. Не в силах прервать очередную сказку Гензеля, он мотал из стороны в сторону головой, утробно бормотал, и казалось, что он вот-вот лишится чувств. Если это случится…
«Грохота будет столько, что услышат во всем городе. — подумал Гензель со злорадством, которое, впрочем, быстро сменилось беспокойством. — Одна беда — эта туша может рухнуть прямиком на автоклав. И захлопнуть его вместе со мной. Что толку тогда от этой победы, если мы с Гретель все равно окажемся заперты? Я умру здесь от удушья, а она в своей клетке, от истощения. Незавидная судьба».
Это означало, что ему надо выбраться из автоклава до того, как сын Карла потеряет контроль над своим тучным телом. С учетом того, как немигающие глаза сына Карла уставились в пространство, в распоряжении у Гензеля оставалось не так уж много времени.
— …Ну и говорит хитрый крестьянин медведю — выбирай, что тебе достанется от синтезированного препарата: осадок или жидкость…
Сын Карла гулко сглотнул. Взгляд его, плавающий, расфокусированный, вдруг сосредоточился на Гензеле. Так, что тот тут же осекся.
— В-в-ввренье… — прогудел сын Карла. — С-с-ссладкое… Сс-с-схрняйте сс-с-с-спокойствие…
Он выглядел измотанным и слабым, как мышь, которую надолго заперли в лабораторной центрифуге, но он все еще был достаточно силен, чтобы оставаться серьезным противником. И достаточно проворен. Судя по всему, голод в конце концов взял верх над прочими чувствами. Сказки оказались недостаточно калорийной заменой варенью.
Гензель схватился за края автоклава, подтянулся и прыгнул, едва не вывернув рук из суставов. Звон металла за его спиной возвестил о том, что сын Карла, хоть и потерял немного в реакции, все еще обладает отменной силой. Автоклав упал набок, застонали гнущиеся трубы. Если бы удар пришелся в цель, отстраненно отметил Гензель, он сам мгновенно превратился бы в варенье. Которое, правда, пришлось бы отскребать от пола.
Гензель бросился бежать, перебираясь через россыпи хлама, скопившиеся в доме на крыше. Несколько раз он чуть не упал — ноги, надолго лишенные нормального кровоснабжения, были слабы и непослушны, к тому же от восьмидневного поста то и дело изнутри накатывала слабость. Такая, что перед глазами вдруг начинали вращаться звенящие звезды…
Гензель прыгнул в сторону, проскользнул под очередной трубой, перекатился. Где-то за спиной, тяжело дыша, грохотал ногами сын Карла. Все препятствия на своем пути он сносил, в стороны разлеталась искалеченная мебель, пустые баллоны, куски клеток. Это было похоже на бегство от обезумевшего паровоза. Или от сваезабойного механизма.
Гензель замешкался и едва успел пригнуться — над головой прогудел кулак, весивший в два раза больше, чем он сам. Сантиметром ниже — этот кулак снес бы ему голову прямо на ходу. Радоваться своему везению не было времени — Гензель отскочил в сторону и бросился бежать.
Сын Карла настигал его. Даже при том, что он едва держался на ногах, даже чрезмерно ослабев, он все еще был смертоносен. Его голод, должно быть, достиг небывалой силы, превратив все жирное колышущееся тело в придаток стонущего желудка. Гензель же был истощен и едва переставлял ноги.
— Ссп-покойствие! — ревел сын Карла, отшвыривая с пути препятствия. — Варенье!
Услышав в воздухе свист, Гензель вновь метнулся в сторону и попытался перекатиться. Это оказалось ошибкой. Он ударился бедром о торчащую из стены балку и кубарем покатился по полу, мгновенно потеряв дыхание. Удар был столь силен, что нога отнялась по самую пятку, точно ее хлестнули плетью из расплавленного металла. Гензелю захотелось взвыть от отчаяния.
Кажется, старый фокусник ошибся в последний раз.
Он попытался подняться на ноги, но едва удержался на коленях. Нечего и думать было продолжать бежать. Не протянуть и десяти секунд. Единственное, что смог Гензель, — перекатиться на спину. Так у него, по крайней мере, останется шанс еще раз вонзить зубы в податливую плоть сына Карла. Прежде чем превратиться в лужу цвета варенья.
Но сын Карла отчего-то не спешил, урча от удовольствия, стиснуть его и оторвать от пола. Не слышно было и грохота его шагов. Преследователь попросту пропал. Сын Карла явно был не из тех, кто отказывается от погони, тем более в такой момент. Ослепленный голодом, он не стал бы останавливаться, даже если бы бежать пришлось по полыхающим углям. Но что могло задержать его?
Заскрипев зубами, Гензель заставил тело оторваться от пола. Нога дьявольски болела, суставы трещали, как у столетнего старика, мышцы казались измочаленными канатами. Но он смог подняться на ноги — уже немалое достижение для старой акулы вроде него…
Бежать он больше не сможет, это совершенно ясно. Этот рывок и так выжал остатки его сил.
Но бежать больше и не придется. Это он понял сразу же, едва бросил взгляд на затихшего преследователя.
Сын Карла закончил свою погоню. Он стоял на четвереньках посреди разгромленного дома и дышал, тяжело и хрипло, как умирающая собака. Лицо его, прежде бледное, покрылось зеленоватыми пятнами, глаза налились кровью, из пухлогубого рта и носа стекала прозрачная слизь. Он был в сознании, но так слаб, что не мог сделать и шага. Потеряв способность двигаться, сын Карла потерял и всю свою грозность. Теперь он не был зловещим чудовищем, всего лишь бесформенной кучей жировой ткани, съежившейся и распространяющей вокруг себя вонь пота и паленого волоса. Глаза сделались тусклыми, как потертые металлические пуговицы, толстые пальцы бессмысленно скребли ногтями пол.
— Добегался? — Гензель тоже тяжело дышал, но он сохранил способность передвигаться на ногах и теперь воспользовался ею, сделав шаг навстречу неудавшемуся преследователю. — Видишь, к чему приводит любовь к сладкому?..
К сыну Карла он подошел опасливо, готовый в любой момент отскочить в сторону. Но эта предосторожность оказалась напрасной — у толстяка не осталось резервов. Единственное, что он мог, — хватать ртом воздух.
— Спокойствие, — неожиданно четко произнес он. — Дело обыденное.
— Обыденное, — согласился Гензель, не в силах сдержать акульей улыбки. — В этом я полностью с тобой согласен.
Сын Карла попытался схватить его, но его жирная рука лишь едва дернулась. Расплывшееся тело обмякало на глазах. Возможно, если оставить его здесь, через пару дней воздух в доме на крыше окончательно станет непригодным для дыхания. Огромная жировая масса начнет медленно разлагаться, расползаясь, темнея и превращаясь в одну огромную бурую лужу. Дом на крыше превратится в уединенный склеп.
Но Гензель не собирался оставлять сына Карла в столь беспомощном состоянии. У него были другие планы.
Гензель медленно, прихрамывая, подошел к поверженному толстяку. Достаточно близко, чтобы заглянуть в его тусклые глаза, в которых больше не оставалось ни жажды, ни предвкушения. И вообще ничего не оставалось, кроме смертельной усталости. А еще — достаточно близко, чтобы дотянуться до большой пусковой кнопки на груди.
Пропеллер за спиной у сына Карла несколько раз чихнул, дернулся и превратился в стрекочущий размытый круг.
— Сохраняйте спокойствие… — удивленно сказал сын Карла. — Дело…
Закончить он не успел. Окутавшись сизым дымом, пропеллер оторвал его толстую тушу от земли и, стремительно набирая обороты, потащил вверх, к сводам потолка. Должно быть, впервые в своей жизни сын Карла издал какой-то осознанный звук — он завизжал. Его тело задергалось, силясь переместить центр тяжести и сделать полег управляемым, но тщетно — сил не оставалось даже на это. Воя и треща пропеллером, сын Карла, ускоряясь с каждым метром, несся прямо к потолку.
— Варр-ре…
Гензель не нашел в себе сил отвести глаза. Он видел, как сын Карла неуправляемым снарядом врезался в потолок с такой силой, что, хрустнув, его конечности вывернулись в суставах, мгновенно оказавшись под скрежещущим винтом, вышибающим искры из потолка.
Двигатель рявкнул драконом, что-то громко захрустело, и вниз, вперемежку с искрами и искромсанными лохмотьями ткани, в которых еще можно было распознать грязный комбинезон, полетели рассеченные куски тяжелого жира, клочья рыжего волоса и лоскуты кожи. А потом наверху оглушительно рявкнуло пламя, мгновенно превратив елозящее по потолку бесформенное, но еще продолжающее выть существо в облако густого грязно-серого дыма. На пол посыпался град тяжелых предметов, но все они были черны и погнуты, так что Гензель не взялся бы определить, которые из них кости, а которые искореженные лопасти винта.
Хромая, Гензель подошел к клетке. Ему пришлось повозиться, прежде чем замок наконец открылся, слишком уж отчаянно тряслись пальцы. И помочь Гретель, которая едва держалась на ногах.
— Оказывается, варенье — коварная штука, — проворчал Гензель, чтобы приободрить ее. — Теперь я понял, почему нам не давали его в детстве.
— Ты отвратительно шутишь, — устало сказала она, пытаясь улыбнуться.
Гензель хорошо знал, чего стоили ей эти усилия. Он нарочито строго погрозил Гретель пальцем.
— Еще скажи, что тебе не понравились мои сказки!
— Они… ужасны. Я ненавидела их еще с тех пор, как была ребенком. Но я не знала, что в твоей голове скопилось их так много. Кроме того… Это ведь никакие не сказки, верно? Я узнала некоторые. Это истории, которые с нами случались, только ужасно исковерканные и перепутанные.
Гензель подмигнул сестре.
— Я собрал порядочно материала, пока путешествовал с одной геноведьмой.
— Когда-нибудь, когда выйдешь на пенсию, сможешь издать их. Дети будут в восторге. Сказочник дядюшка Гензель.
Гензель прищурился, оценивая.
— Братья геноведьм не выходят на пенсию. Им всегда хватает работы — вытаскивать геноведьм из очередных переплетов. Кроме того, детишки будут писаться в кровати от моих сказок… Посмотри, что они сделали с сыном Карла!
Гретель взглянула на то, что осталось от толстяка, без всякого сожаления. Разве что с некоторой толикой любопытства. И сморщила нос. Пахло от паленого жира и правда отвратительно, даже по меркам геноведьм.
— Это не сказки с ним сотворили, — произнесла она ровным тоном. — Обычная гипогликемическая кома.
— Глипо…
— Сын Карла потреблял с вареньем огромное количество сахара, — спокойно пояснила Гретель. — Его метаболизм должен был быть рассчитан на поглощение неимоверного количества углеводов. Огромного для человека. Уровень сахара в его крови при этом должен был быть зашкаливающим. Заставив сына Карла слушать свои сказки, ты обрек его на голод, братец. Сахар в его крови стал снижаться, пока не упал ниже допустимого предела. Слишком уж велики были его потребности. Следующий шаг — паралич жизненно важных центров мозга.
— Проще говоря, я заговорил беднягу до смерти?
— Вроде того.
— Что ж, выходит, мои сказки не так уж и плохи. — Гензель ободряюще улыбнулся. — Может, когда-нибудь и в самом деле запишу их… А ты пока посиди, сестрица. Нам надо набраться сил перед спуском. Я думаю, нас ожидает очень много лестниц. Возможно, больше, чем ты можешь представить.
Гретель покорно опустилась на пол.
— Я немного отдохну и… И еще поем. А потом готова буду идти хоть на край света.
— Даже не думай. Хватит с тебя прогулок. Будешь ждать меня дома.
— Куда же пойдешь ты? — В ее голосе не было беспокойства.
Но Гензель сделал вид, будто и не рассчитывал на него.
— В «Театр плачущих кукол». Кажется, у меня есть деловое предложение к господину Варраве.
Без зрителей театр господина Варравы выглядел заброшенным и старым. Потухшие прожектора под пологом шатра таращились на каждого вошедшего, будто затянутые бельмами слепые глаза.
Грохот безумного оркестра и рев публики сменился глухой и плотной, как кладбищенский саван, тишиной. «Театр плачущих кукол» был мертв и, как все существа после смерти, демонстрировал следы разложения, прежде незаметные: истлевшие местами шторы, треснувшие деревянные ступеньки, осыпающуюся позолоту лож. Театр был мертв, и Гензелю, когда он зашел в огромный шатер с мушкетом на изготовку, даже показалось, что он ощущает явственный запах некроза.
«Нет, — решил он, стараясь ступать бесшумно по доскам, скрипевшим, как кости покойника. — Этот театр и раньше был мертв. Он пропитан смрадом разложения, но никогда полностью не умрет. Каждый вечер демонические силы, наполняя зал, вызывают его к жизни. Каждый вечер, когда поднимается занавес, это чудовище снова живо. И опять пирует».
В театральном шатре не было ни души, и это насторожило Гензеля. Ни прислуги в багровых ливреях, ни коротышек-музыкантов, ни уборщиков, скоблящих вечно заляпанную сцену, ни прочей обслуги. Это выглядело странным. Заведение, подобное «Театру плачущих кукол», даже в предрассветные часы нуждалось в участии людей. Однако их не было. Лишь по-прежнему свешивался из-под купола обгоревший труп клоуна, похожий на истлевшую ветхую бабочку. Похоже, его попросту забыли, оставив висеть с прочими театральными декорациями.
Гензель улыбнулся в темноте. Тем лучше. Возможно, людям господина Варравы после сегодняшнего дня придется подыскивать себе новое место службы. Возможно даже, «Театр плачущих кукол» с прискорбием будет вынужден сообщить о том, что закрывается на неопределенное время. Например, в связи со смертью почтенного директора и учредителя господина Варравы…
Гретель не одобрила его плана действий, найдя чрезмерно простым и рискованным, но сам Гензель упивался его лаконичной простотой. Войти в театр. Найти старого паука Варраву. Выбить из него америциевый ключ вперемешку с зубами. А если понадобится, устроить в штатном расписании театра десяток-другой свободных вакансий. Гретель не стала с ним спорить. «Проведу еще несколько анализов, пока есть время, — сказала она. — Кажется, ты уже достаточно взрослый, чтобы самому сходить в театр».
Это вышло даже проще, чем он предполагал. Так просто, что он сперва даже заподозрил подвох — хитроумную ловушку, расставленную господином Варравой. Это сразу насторожило его. Старый паук уже продемонстрировал, как легко разделывается с чересчур наивными мухами, пусть даже у тех имеется полный комплект акульих зубов. Второго шанса Гензель решил ему не давать.
Но чем дальше он углублялся в холодные и темные недра еще недавно гремящего театра, тем больше ему казалось, что если это и ловушка, то весьма нетривиальная. На всем пути ему не встретилось ни единой живой души, более того, не было вовсе никаких следов присутствия человека. Ни запаха табака, ни отголосков разговоров. «Театр плачущих кукол» сделался совершенно мертв и статичен.
Мысли об этом Гензель постарался отбросить. Главное — разыскать кабинет господина директора, а там уже все разъяснится само собой и самым естественным образом.
Акулье чутье не обмануло его и в этот раз, проведя лабиринтом узких зловонных коридоров, анфилад и галерей, из которых состояло спрятанное от публики чрево театра. Тут, в вечной темноте, нарушаемой лишь тусклыми огоньками старых ламп накаливания и масляных плошек, обитали, ели и спали участники театральной труппы. Гензель прикинул, что здешние места были отведены только под обслугу, не считая кукол. Те должны были располагаться в клетках под самим театром. И оказаться там ему вовсе не улыбалось.
Запах крови он ощутил еще до того, как открыл очередную дверь. Тревожный, но вместе с тем манящий запах сладкой человеческой крови, от которого его акулья сущность рефлекторно заскрежетала зубами. Не очень чистой крови, отметил он сразу, подпорченной, но едва ли чище нее найдется в Вальтербурге. Однако поразительно свежей. Подобный букет был привычен возле сцены, но здесь, во внутренних помещениях театра?..
Гензель остановился на полушаге, мушкетный приклад плотнее вжался в плечо. Мышцы груди сами собой напряглись в ожидании отдачи. Запах крови обыкновенно не предвещает ничего хорошего. Гензель легко нажал стволом мушкета на дверь, отчего образовалась крошечная щель, и принюхался.
Так и есть, кровь. Много крови. Слишком много для порезанного пальца. Он навскидку почувствовал запах крови разных людей, смешанный в причудливый и дразнящий коктейль. Гензель присвистнул бы, если бы не стремился оставить до поры до времени свое присутствие в тайне. Судя по всему, он находился в считаных метрах от логова Карраба Варравы, на пороге его приемной. Если кто-то устроил обильное кровопускание прямо здесь, в самом сердце театра, это говорит лишь об одном. Старый паук наконец ошибся. Не успел вовремя дернуть ниточки своей обширной паутины.
Гензель расширил щель еще немного, ствол мушкета заглянул в комнату. Вслед за ним заглянул и сам Гензель. И следующий шаг сделал уже не таясь. В этой комнате некому было поднимать тревогу.
Их было не меньше дюжины. Гензель понял это только по запаху. И даже самый зоркий глаз был бы здесь бесполезен, потому что сила, расправившаяся с обитателями театра, действовала отнюдь не аккуратно. Скорее, слепо и кровожадно, как огромная мясорубка.
Он не заметил ни единого целого тела. Лишь обезглавленные, иссеченные множеством чудовищных ударов, располосованные и четвертованные останки. Казалось, силе, которая проснулась внутри театра, претило оставлять после себя неповрежденные тела, и она с садистским удовольствием превращала их в мелко нарубленный фарш. Кто-то оказался разорван так, будто свел знакомство с гидравлической дыбой. Другой распался на столь большое количество частей, что после смерти занял собой добрую половину комнаты. Еще кто-то свисал со стены, выпотрошенный, будто рыба. К остальным Гензель старался не присматриваться.
«Впечатляет, — подумал он, стараясь ступать так, чтобы не касаться луж крови, и с каждым шагом это становилось все труднее. — Кажется, господин Варрава расширяет свою деятельность в сфере искусства. От театральных постановок он, вижу, перешел к художественным выставкам…»
Гензель многое знал о жестокости, о тысячах ее оттенков, а некоторые из них даже мог бы назвать хорошо знакомыми. Но здесь побывала не просто жестокость. Или, по крайней мере, безрассудная и прямая жестокость, которая царит обычно на поле боя или в ночных переулках, но иная ее ипостась. Куда более зловещая и садистская. Даже самая жестокая схватка не заставляет поступать так с телами противников. Тот, кто здесь побывал, руководствовался не просто яростью. Он получал удовольствие, причиняя своим жертвам страдания и смертельные увечья.
Гензель узнал одного из слуг Варравы, того самого, у которого росли пальцы под подбородком. Только по этим пальцам он его и узнал, потому что осталась от него лишь голова, подвешенная на паутине из растянутых внутренностей. Мерзкая, должно быть, смерть. Впрочем, не похоже, чтобы остальным повезло больше.
Побоище было свежим, Гензель ощущал царящий в воздухе характерный солоноватый запах. Гретель говорила, что его развитое обоняние находит следы новообразующихся в свертывающейся крови белков. Как бы то ни было, он мог поспорить на половину собственных хромосом, что все произошло не больше трех-четырех часов назад. Совсем недавно.
Гензель покачал головой, идя сквозь остатки чьего-то кровавого пиршества. Переступать лужи крови он уже не пытался — что толку?.. Здесь не осталось ни одного раненого, так что нечего было и надеяться, что кто-то решит поведать ему о случившемся. С другой стороны, а есть ли в этом необходимость? Все и так очевидно.
Старый паук действительно в конце концов совершил ошибку. Перехитрив Гензеля, в котором видел самую большую опасность, слишком расслабился. И его свора это почувствовала. Свора всегда чувствует, когда вожак слаб, по этой части она может дать фору даже акульему обонянию. Видимо, не только господин Варрава знал, что представляет собой америциевый ключ и какие богатства хранит фальшивый камин в каморке старого шарманщика.
Гензель стал приближаться к двери директорского кабинета, даже не пытаясь представить, что обнаружит за нею. Он уже знал, что ничего хорошего. Едва ли у этого побоища были победители. Если так, тем лучше для него… Останется только забрать из сейфа драгоценную безделушку, прихватить пяток пробирок и навсегда покинуть театр.
Дверь в кабинет была закрыта, но в этот раз Гензель не стал медлить. Коротко выдохнув, саданул по ней сапогом. Удар отозвался болью в поврежденном бедре, заставив Гензеля коротко выдохнуть. Будь дверь заперта на засов — она бы не шелохнулась. Но ему повезло: хозяин кабинета не посчитал нужным запереться.
Дверь с треском распахнулась, оставшись на бронзовых петлях. Это Гензель отметил с мимолетным сожалением. Еще не так давно он мог вынести подобную дверь одним лишь пинком, да так, что только заклепки посыпались бы… Впрочем, эта неприятная мысль надолго не задержалась, скользнула куда-то в сторону. Гензель мгновенно, еще прежде чем что-то разглядеть, ощутил исходящий из кабинета Варравы новый запах. Не запах крови, что-то несоизмеримо более отвратительное и едкое.
— Эй, господин директор! — громко крикнул Гензель, не перешагивая порога. — Вы здесь? Принимаете посетителей? Я хотел бы получить обратно деньги за билет!
Из кабинета раздалось влажное хлюпанье, а потом чей-то голос произнес, булькая, точно говоривший не отрывал рта от плошки с густым киселем:
— Чертова рыбья морда… Надо было лично перерезать тебе горло…
Гензель шагнул в комнату.
В кабинете, кажется, все осталось по-прежнему. А если что-то и переменилось, то Гензель этого не заметил. Здесь и в лучшие времена парил ужасный беспорядок. Впрочем, понял он с опозданием, кое-какие перемены в обстановке все-таки произошли.
Посреди кабинета стояло сооружение, в котором Гензель мгновенно узнал инвалидную коляску Карраба Варравы. Только то, что в ней теперь помещалось, не было Каррабом Варравой. Оно вообще не было человеком. Больше всего оно походило на медленно оплывающий свечной огарок. Или что-то вроде бесформенного кома желтоватого теста, истекающего болотной жижей. Местами это тесто бугрилось складками, из которых в изобилии торчали пучки жестких волос. Удивительно, что волосы были черными и блестящими, необычайно ухоженными.
Гензель выругался. Это получилось у него само собой. Еще до того, как у груды теста ровно по центру едва узнаваемой головы открылся глаз, внимательный и желтый.
— Пришел, значит… — Вслед за глазом открылся рот. Он стек на самый подбородок и представлял собой подобие открытой гнойной язвы. При каждом слове влажно шлепали друг о друга остатки губ. — Знаешь, я не удивлен… Ты всегда был живучим ублюдком, Гензель… Очень наглым, очень глупым, очень живучим… Ну иди сюда. Обними старого Варраву… Ну или хотя бы пожми руку, неблагодарный мальчишка…
Директор театра не шевельнулся, впрочем, едва ли он сохранил способность шевелиться. Его мышцы медленно разжижались, образуя коричнево-зеленоватую слизь, облепившую кости. Наверно, так может выглядеть необожженная глиняная фигурка, которую позабыли в воде. Тело господина Варравы выглядело так, будто плавится изнутри. Грудная клетка медленно обнажалась, демонстрируя липкие комья внутренних органов, кожа желтела на глазах и таяла, лопаясь бесшумными пузырями. Что-то пожирало его изнутри, медленно и сосредоточенно. Как будто даже смакуя. Куски того, что было прежде господином Варравой, со шлепками падали на пол.
— Плохо выглядишь, Варрава, — сказал Гензель, останавливаясь в двух шагах от него. Ближе подходить не стал: слишком уж много натекло под креслом, да и запах вблизи делался совершенно непереносимым. — Схватил простуду?
Существо в инвалидной коляске тихо засмеялось, забулькало.
— Может, и простуда… Мне надо почистить кровь… Тело не справляется… Слишком много дряни у меня внутри… Пожалуйста, Гензель, окажи старику услугу… Дай одну маленькую пиявочку… А лучше — пяток. Они меня почистят, мои милые пиявочки… Отфильтруют ядовитую кровь…
Гензель взглянул в сторону аквариума. Вода в нем была еще мутнее, чем прежде, оттого он не сразу разглядел, что там колышется нечто, слишком крупное, чтобы быть пиявкой. Слишком похожее по очертаниям на ворох человеческих костей, местами укрытых блестящей, с прозеленью, тканью. Пиявки работали трудолюбиво и самоотверженно. Наверно, они занимались этим уже не первый час. Но даже сделавшись огромными и раздувшимися, не собирались останавливаться. Две или три присосались к черепу, лакомясь его содержимым. Не меньше десятка пировали в грудной клетке.
— Бедный мистер Дэйрман… — прохлюпал Карраб Варрава, чей единственный глаз проследил за взглядом Гензеля. — Зачем они с ним так?.. Бросили в чан еще живого… Заслуживает ли человек такой смерти?.. Ну так как насчет пиявочки, милый Гензель?..
Гензель усмехнулся.
Мушкет — не лучшее оружие в тесных помещениях. Кабинет мгновенно заволокло грязным пороховым дымом, а от грохота барабанные перепонки чуть не вышибло внутрь черепа. Аквариум с пиявками лопнул, исторгнув из себя россыпи стеклянной шрапнели, каскады мутной воды, человеческие кости и трепыхающихся пиявок.
— Понятно… — вздохнул Варрава, наблюдая за тем, как пиявки шевелятся в лужах на полу. Некоторых из них свинец и стеклянное крошево превратили в обрывки. — Что ж, я не сужу тебя, Гензель… Ох… Ты имеешь на это право. Впрочем, надеюсь, что ты ненадолго переживешь меня… Такие, как ты, не доживают до старости. Слишком… глуп. Слишком… доверчив.
— Зато ты, кажется, в этот раз перехитрил сам себя, — хладнокровно заметил Гензель. — Ключ.
— Вот я и говорю — слишком… глуп. Кхе-кхе.
Еще дымящимся стволом мушкета Гензель тронул дверцу кабинетного сейфа. Тот был не заперт.
— Иминоглицинурия! — выругался Гензель.
— Они забрали ключ… И все остальное. Деньги и те пробирки… Удивительно ловкие мерзавцы… Но знаешь, Гензель, я не в обиде. Это ведь я их нашел в свое время… Я их вырастил, я сделал из них артистов… — Чудовище в инвалидной коляске попыталось широко улыбнуться, отчего лицо оплыло еще сильнее. — Они молодцы… Они перехитрили всех…
— Кто забрал ключ? — жестко спросил Гензель.
Положение было скверным. Ключа в сейфе не было. Пуст. История начинала пахнуть еще хуже, чем растекающийся в своем кресле Варрава.
В силах ли он разговорить бывшего директора театра? Если тот не захочет отвечать, все пропало. И угрожать ему бессмысленно — даже самые страшные пытки едва ли что-то значат для того, чье тело медленно распадается на составляющие.
Впрочем, господин Варрава не собирался запираться. Напротив, кашлял от сдерживаемых слов.
— Кто… Ты еще не понял кто, милый Гензель?.. Твоя деревянная тварь забрала ключ! Твой Бруттино! Кто же еще?
Это было неожиданно. Настолько, что Гензель, не сдержавшись, хлопнул себя по лбу.
— Деревянная кукла? — воскликнул он в сердцах. — Тебя обманула деревянная кукла, Варрава?
Желтый глаз взглянул на Гензеля с откровенной насмешкой. Борода, когда-то блестящая и ухоженная, теперь казалась переплетением перепачканных в слизи щупалец.
— Твоя… кукла оказалась куда хитрее, чем… чем мне казалось. У нее большое будущее, Гензель… Быть может, не только на сцене. Никогда не видел ни в одном человеке такого сочетания дьявольской хитрости и животной злости… Поразительное существо… Он один собирал бы аншлаг каждый вечер… Но уже поздно. Театр закрывается.
— Он вырвался из клетки?
Варрава через силу кивнул. Ком плоти, бывший прежде его правым ухом, шлепнулся на пол.
— Это случилось сегодня… Удивительно способный мальчуган… Я сразу понял, у него потрясающие задатки… Но он не просто хищник… О нет, он куда сложнее.
— Не сложнее еловой шишки, — огрызнулся Гензель. — Что произошло? Он вырвался из клетки?
— Не только… выбрался, Гензель, он увел за собой моих лучших кукол… Синюю Мальву, Перо и Антропоса. Как они блистали на сцене!.. Невероятно, что они признали вожаком деревянное полено. И подчинились ему… Ворвались сюда, как разъяренные фурии… Бедного мистера Дэйрмана сунули в чан с пиявками. А меня, старика, нарочно бросили умирать… Проклятое генетическое семя… Но все-таки они бесподобны… Знаешь, я даже восхищаюсь ими. Как учитель, наставник. Они — лучшее из всего, что мне приходилось создавать… В каком-то смысле они ведь мои дети…
— А теперь твои дети — на улицах Вальтербурга! — рявкнул Гензель, борясь с желанием разрядить второй ствол прямо в гнилостный нарост на плечах господина директора, с которого на него смотрел с прежней насмешкой желтый глаз. — С пробирками, полными самого страшного яда! С ключом, который может выжечь все живые клетки отсюда и до океана!
— Да, — сказал Карраб Варрава, медленно расползаясь, и Гензелю почудилось, что на остатках обезображенного лица он видит улыбку. — Но в этом есть и положительная сторона… Которая меня даже забавляет.
— Какая же?
— Теперь это только твоя забота…
Глаз господина Варравы без всякого интереса уставился в ствол мушкета. Гензеля подмывало спустить курок, пусть даже за это придется расплатиться новым взрывом грохота. Ноющие уши — не такая уж и большая цена за возможность увидеть господина Карраба Варраву в виде мелкой слякоти, усеявшей стены и потолок кабинета. Наверно, он того и ждал.
Гензель забросил мушкет на плечо.
— Я всегда неважно разбирался в искусстве, — процедил он, делая шаг к двери. — И ничего не смыслю в театре. Поэтому не стану мешать вашему последнему спектаклю, господин Варрава. Сцена ваша. Правда, в этот раз придется играть в одиночестве и без зрителей. Но я уверен, что вы отлично справитесь.
Карраб Варрава попытался что-то произнести своим шлепающим разлагающимся языком, но слишком неразборчиво — Гензель уже был за пределами кабинета. Не глядя больше по сторонам, придерживая мушкет, он быстрым шагом направился к выходу. Прочь из огромного шатра.
«Театр плачущих кукол» провожал его мертвой тишиной. Он уже дал последнее представление в этом сезоне.
Гензель поежился. В последнее время холод донимал его беспрестанно, то облизывая ледяным языком пальцы, то болезненно щипая за нос и уши. Оказывается, он и забыл уже, каково это — жить не в хорошем доме с теплоизоляцией, а в обычной хибаре, к тому же с протекающей кровлей и тонкими, как полуистлевшая кость, стенами. Такой дом не мог сохранить в себе достаточно тепла, и, кутаясь в воротник куртки, Гензель пытался вспомнить те времена, когда им с Гретель приходилось ютиться в похожих хижинах.
«А ведь и хижина не сразу появилась, — подумал он, вжимая голову в плечи. — Сколько дорог нам пришлось исходить, сколько сапог истоптать, чтобы вообще обрести крышу над головой. Тогда мы не жаловались на то, что она течет, нам тогда и решето сошло бы за кровлю. Удивительно быстро привыкаешь к хорошему. Привычка к теплу, сытной пище, безопасности словно встраивается в твой генокод, а потом уже не вытащить ее и щипцами, точно это какая-то цепкая и хитрая мутация…»
Впрочем, убежище папаши Арло даже по меркам их прежних запросов едва ли могло именоваться домом. Только оказавшись тут, Гензель понял, отчего старый шарманщик стыдливо именовал его каморкой.
В крыше зияли целые провалы, под которыми и без того трухлявый пол разъедало кислотными осадками, стены покосились настолько, что казалось странным — с чего вообще они удерживаются в вертикальном положении. Вместо кроватей — ветхие лежанки с грудами тряпья, вместо мебели — старые деревянные колоды. Даже синтезатор ткани, похожий на шарманку с длинной ручкой, брошенный в углу и покрытый паутиной, не в силах был изменить обстановки. Пахло плесенью, дешевой белковой похлебкой и какими-то химикалиями.
Оказавшись у папаши Арло впервые, Гензель уныло отметил, что в список несомненных достоинств беглого деревянного убийцы стоит занести как минимум недюжинную выдержку. Удивительно было, как он смог провести семь лет там, где и час казался вечностью.
«Я бы тоже сбежал отсюда, — размышлял он, поглаживая мушкет со взведенными курками, неизменно устремленный стволом ко входной двери. — Даже деревянному существу невыносимо существовать в подобной разрухе».
Следы упадка нес на себе даже тот единственный предмет обстановки, который мог бы худо-бедно украсить интерьер, — нарисованный на старом холсте камин. К этому камину взгляд Гензеля время от времени машинально притягивался. Он не мог не отметить, что маскировка выполнена превосходно. На вид — грязная истлевшая тряпка, покрытая слоем осыпающейся выцветшей краски. Но он уже знал, что под этой тряпкой в определенном месте скрывается замочная скважина. Внешне похожая на след древоточца, она не могла вместить в себя ни одного ключа, выкованного кузнецом. Она ждала определенной последовательности нейтронов — и только тогда отпирала сокрытые в глубине каморки многотонные герметичные двери из бронированной стали.
Гензель лишь вздохнул, впервые увидев каморку старого шарманщика. Он еще не знал, что ему предстоит провести здесь следующие три дня.
Это оказалось подлинной пыткой. Ко всем ужасам обстановки и к постоянному холоду добавился сам папаша Арло, чье общество уже через несколько часов казалось Гензелю едва ли предпочтительнее общества возбудителя генетической малярии. Папаша Арло коротал время, жалуясь, на свою жизнь и скорбно вздыхая. Слушая его беспрестанные жалобы, дрожа от холода и ловя каждый скрип входной двери, Гензель размышлял о том, что, как только все закончится, вытрясет из старого шарманщика душу. Впрочем, это виделось ему в туманной перспективе — с каждым прошедшим днем собственное дежурство в каморке с нарисованным камином все больше казалось ему бессрочным.
«Возможно, ситуация еще не столь критическая, как нам кажется, — заметила Гретель, когда Гензель сообщил ей неутешительные новости, принесенные из осиротевшего „Театра плачущих кукол“. — Допустим, мы упустили ключ. Однако у ключа есть один несомненный недостаток. Единственный в мире замок, который он отпирает, неизменно находится на одном месте. В каморке папаши Арло. Это значит, что не все потеряно. Даже если мы никогда не отыщем Бруттино на улицах Вальтербурга, рано или поздно ему придется объявиться тут, чтобы воспользоваться ключом. Это весьма существенное обстоятельство. Вместо того чтобы тратить время и силы на бесплодные поиски, мы можем ожидать его во всеоружии».
В ответ на это Гензель лишь кисло улыбнулся, решив, что Гретель слишком уж всерьез воспринимает его мушкет. Допустим, если продырявить проклятое полено тремя пулями, от этого будет какой-то толк. Да только оно теперь не одно. Оно стало предводителем собственной шайки головорезов, при одной мысли о которой Гензелю делалось так неуютно, будто он надел чужой плащ, в придачу еще и мокрый.
Он ничего не знал про бывших кукол, которых покойный Варрава называл Синей Мальвой и Антропосом, но выступление господина Перо, смертельно опасного паяца в белоснежном балахоне, под которым скрывались зазубренные когти, он запомнил хорошо. Не хуже, чем театральный дебют самого Бруттино. Даже этой парочки бывших актеров хватит, чтоб оторвать Гензелю голову, чего уж говорить, если шайка заявится в каморку папаши Арло в полном составе?..
Выслушав его доводы, Гретель согласилась принять встречный вариант. Которого у Гензеля не оказалось. Он понятия не имел, где обретается Бруттино со своими новыми подельниками, Вальтербург надежно укрыл их от чужого внимания, как делал это с великим множеством изуродованных мулов. И на агентов Варравы рассчитывать уже не приходилось — судя по всему, они все получили расчет.
Лишившись инициативы, вынужденный коротать время в лачуге старого шарманщика за охраной нарисованного очага, Гензель быстро утратил боевой дух. Если прежде он еще мог ощущать себя охотником, пусть и на крайне сообразительную, жестокую и коварную дичь, то теперь роли явно поменялись. Теперь он был прикован к одному месту, в то время как Бруттино располагал пространством для маневра и соответственно инициативой. Это ему не нравилось.
— Надо было раньше подумать о безопасности, — проворчал Гензель, разглядывая щели в стенах: в некоторые можно было просунуть руку. — Учитывая, какой арсенал хранится у вас за камином.
Папаша Арло лишь беспомощно развел руками.
— Прежде у меня был охранный серв. Старенький, но надежный, модели «Сверчок». Только Бруттино, перед тем как сбежать, проломил бедняге голову.
— Жить под одной крышей с подобной тварью семь лет — и даже не задуматься о защите! Потрясающая глупость.
При слове «тварь» папаша Арло гневно сверкнул старческими выцветшими глазами.
— Не говорите о нем так! Мой Бруттино славный мальчик. Быть может, он кого-то и обидел, может, не очень-то чуток по природе, но у него доброе сердце…
— Ваш мальчик — хладнокровный убийца, садист и вор, — раздельно произнес Гензель, дыша на окоченевшие пальцы. — И если у него и в самом деле оказалось доброе сердце, то только потому, что перед этим он заживо выпотрошил его владельца. Я знаю, о чем говорю. Видел его в деле.
— Вы сказали, он искал геноведьму, чтобы стать настоящим мальчиком! Это ли не говорит о нем?
— Искал, — неохотно сказал Гензель. — Да что с того? Он чудовище — и снаружи, и внутри. Ему просто захотелось приглядеть себе более подходящую шкуру. Чтобы не очень выделяться среди нас. Элементарная мимикрия, о которой моя сестра может рассказать вам куда больше…
— Он мыслит и чувствует! — повысил голос старик.
Гензель с тоской вспомнил события десятидневной давности, когда судьба только свела его со старым шарманщиком. Тогда он, по крайней мере, мог выставить его за дверь. Сейчас у него такой возможности больше не было — приходилось делить с Арло его же каморку.
— Возможно. Только и мыслит, и чувствует он не по-человечески. Отсюда и все неприятности. При этом он ощущает себя чуждым. Нездешним. Выделяющимся. Ему ведь наверняка доставалось из-за этого?
Папаша Арло отвел взгляд.
— Бывало. Сами понимаете, нелегко жить, когда каждый встречный видит в тебе лишь деревянную куклу.
— Вот это его и беспокоило, — жестко произнес Гензель. — Не кровь на его руках, не боль, причиненная им, не существа, убитые им же. А то, что он выделяется из толпы. И желание стать обыкновенным мальчиком — вовсе не признак святости! Напротив! Это инстинкт хищника, который заботится о своей безопасности!
Папаша Арло вздернул маленький твердый подбородок.
— Он желает лишь спокойствия и мира. Только едва ли этого просто достичь, если окружающие мечтают отправить вас на сцену пускать кровь другим бедолагам, защищая свою жизнь!
«Интересно, — подумал Гензель, поглаживая ложе мушкета, знакомое до мельчайшей царапинки. — Если Гретель вздумает нас навестить, она заметит, что у старика нет головы, например? Геноведьмы иногда довольно невнимательны к мелким деталям, может и не заметить…»
— У вас нет даже представления о его желаниях! — рявкнул он, откладывая мушкет на лавку во избежание искушения. — И у нас тоже. Вот поэтому сейчас, когда один старый растяпа позволил ему завладеть америциевым ключом, желания Бруттино таят в себе еще большую опасность!
— Он…
— Его желания не играли никакой роли, пока он был подмастерьем бедного шарманщика, бездомным воришкой или куклой господина Варравы. Но его желания станут крайне важными, когда он сделается властителем Гунналанда и миллионов чужих жизней. Чего захочет кукла, обретшая почти божественное могущество и способная диктовать свою волю половине мира? Изысканных яств и королевских вин? Но он не питается человеческой пищей. Почестей и славы? Он лишен человеческих амбиций. Женщин и генетических инъекций? Ни то, ни другое ему не нужно. Как распорядится бескрайними возможностями существо, которое никогда не станет человеком? Как поступит?
Папаша Арло лишь поджал морщинистые старческие губы.
— Не знаю, господин Гензель. Честно говоря, Бруттино всегда был себе на уме, да и насчет заветных желаний мы особо не разговаривали. Я только надеюсь, что…
Снаружи скрипнули доски крыльца. Едва слышно, но Гензелю этого было довольно. От его толчка старый Арло отлетел, точно сам был выточенной из легкой древесины марионеткой, а мушкет мгновенно уставился своей тупой толстой мордой на дверь. Короткое мгновение, необходимое для того, чтобы электрический сигнал сделал короткую пробежку по нейронам мозга, и человек, стоящий за дверью, превратится в воющее месиво из свинцовой картечи и деревянной щепы.
Гензелю удалось растянуть этот миг на несколько секунд. Пока в дверном проеме не возникло бледное, как у призрака, лицо Гретель. Только тогда он позволил себе от души выругаться.
— Мукополисахаридоз Гурлера! А условный стук, сестрица?
Она подняла на него рассеянный взгляд. В руках у нее был компактный контейнер для биологических образцов размером с небольшой дорожный сундук.
— Извини, вылетело из головы.
— Если бы не мои крепкие нервы, у тебя сейчас из головы вылетело бы не только это!
С геноведьмами такое случается. Они способны забыть что-то, даже то, что может стоить им головы. Просто потому что это не включено в сложную цепочку их мыслительного процесса, сложного, как формула искусственного синтеза стволовых клеток.
Гретель была в обычном своем виде — старая рабочая блуза, тугой жилет, несущий на себе так много пятен химических и термических ожогов, что казался окрашенным в причудливую камуфлирующую расцветку. Штаны мужского покроя и высокие кожаные ботфорты на ремнях дополняли непритязательный наряд. Пожалуй, ботфорты она могла и забыть натянуть — Гензель мгновенно понял, что мысли Гретель чем-то поглощены. В такие моменты от нее можно было ожидать чего угодно, не только забывчивости.
А еще она выглядела едва живой. Такой, какой Гензель видел ее лишь несколько раз за всю жизнь, — осунувшейся, вялой, едва шевелящей языком. Любой другой человек в таком состоянии походил бы на жертву чумы, но Гензель знал, что для геноведьм это признак усталости. Смертельной усталости. Пятна под глазами походили даже не на синяки, а на угольные кольца. Губы побледнели, как у утопленницы, почти сравнявшись цветом с кожей лица. Волосы торчали спутанными грязными вихрами.
«Ведьма! — горько подумал Гензель, втягивая ее невесомое тело в комнату за руку и высвобождая из оцепеневших холодных пальцев рукоять контейнера. — Смотреть на тебя больно, самая могущественная ведьма в Вальтербурге. Сама себя в могилу загонишь, растяпа!»
Взглянув в лицо Гретель, которое было бледным и холодным настолько, будто появилось из-под снега по весне, он сразу все понял. Те три дня, что он провел в каморке папаши Арло, охраняя проклятый нарисованный камин, Гретель и не думала набираться сил. Он даже сомневался, вспомнила ли она хоть раз про еду. Разумеется, тут же бросилась в лабораторию, как и полагается одержимой ведьме.
— Чаю, папаша! — крикнул Гензель.
По счастью, пузатый медный чайник еще не успел остыть. Папаша Арло наполнил чаем кружку и почтительно передал Гретель. Она выпила чай за несколько секунд, безотрывно, не отнимая кружки ото рта. И только после этого ее стало можно признать за живого человека. По крайней мере, губы хоть немного порозовели, а взгляд стал осмысленным.
— Что случилось? — спросил он напрямик, все еще придерживая Гретель за спину. — Мы же договаривались, чтобы ты не вздумала сюда являться! Здесь опасно. Сюда в любой момент может пожаловать Бруттино вместе со своим отребьем. К чему мне здесь обуза вроде тебя?
Выговаривая ей с нарочитой сердитостью, Гензель в то же время понимал, что этот нежданный визит — вовсе не прихоть Гретель. Геноведьмы иногда совершают странные и необъяснимые поступки. Но никогда не совершают бессмысленных. Если Гретель явилась в каморку шарманщика, да еще и в столь задумчивом состоянии, было очевидно, что тому есть причина.
Мягкое свечение ее прозрачных глаз для человека непривычного было едва выносимо. Как контакт с совершенно непонятной, но в своей глубине опасной для человека средой. Даже папаша Арло, кашлянув, поспешил отвести взгляд.
— Я знаю, где Бруттино.
Она едва держалась на ногах, Гензель поспешил поддержать ее под руку и усадить на хлипкий стул. Самого Гензеля стул никогда не выдержал бы, но Гретель была так легка, что иногда казалось удивительным, как она не взмывает в воздух при каждом дуновении ветра.
Мушкет сам собой крутанулся в руках. В холодной стали, прежде дремавшей, проснулось что-то злое и решительное. Голодное. И Гензель с удовольствием ощутил его прикосновение. Мушкет звал в бой. Как в старые добрые времена, когда почти любую проблему можно было решить коротким движением указательного пальца. А короткий щелчок курка и хлопок пороха на полке подводили черту любому неразрешимому спору. Мушкет нимало не состарился за последние годы. Он не единожды бывал в починке, кое-где мелькали царапины и сколы, но он не торопился на полку. Гензель иногда ему завидовал.
— Где этот деревянный ублюдок?
— Спокойно, братец. — Она и его обожгла взглядом. — Ты слышал что-то про таверну «Три трилобита»?
Гензель перебрал в памяти все известные ему городские таверны, но ничего похожего не припомнил.
— Кажется, мне там бывать не приходилось. Что-то скверное и вонючее, я угадал?
— Вполне. Захудалая таверна на окраине Вальтербурга. И Бруттино, скорее всего, сейчас там.
У Гензеля мгновенно возникло множество вопросов. Но он знал, что удовлетворять их следует по степени важности.
— Его новые приятели вместе с ним?
— Компанию ему составляют девушка в синем наряде, какой-то уродливый мул, наполовину пес, и еще один молчаливый господин с жабо на шее.
— Это Перо, — быстро сказал Гензель. Руки машинально стали поглаживать мушкет. — Остальные, значит, Антропос и Синяя Мальва, сбежавшие куклы господина Варравы. Они вместе. Что ж, тем лучше.
— Я пойду за ним! — Папаша Арло в волнении стал надевать плащ. — Сынок мой, Бруттино… Сколько же ему довелось вытерпеть… Пойду немедля!
— Стойте! — Гензель схватил его за костлявое, как у вареной рыбы в похлебке, плечо и легко заставил остановиться. — Никуда вы не пойдете, папаша.
— Это мой сын!
— Сидите здесь и охраняйте свой проклятый клад!
Старик сел с поникшими плечами. На секунду Гензелю даже стало его жаль. А может, лишь на полсекунды. Сейчас у него были другие заботы.
— Гретель, откуда ты узнала, что Бруттино со своей шайкой устроил штаб именно там?
— Из надежных источников.
— Каких?
— Из самых надежных.
Жуткая мысль едва не заставила его схватиться за голову.
— Но ты ведь… Гретель!
— Последние три дня я не выходила из лаборатории. — Она подняла на него глаза с траурной каймой. — Не беспокойся, я не была в этом трактире. Мне нет нужды ходить по городу. Я геноведьма. А это еще что-то значит.
— Тогда как? Как, черт возьми?
— Он меня пригласил.
— Что?..
Возгласа не получилось, лишь изумленный выдох.
— Назначил мне встречу. Сегодняшним же вечером. И назвал адрес.
Гензель помолчал, стараясь вдыхать воздух размеренно и глубоко. Гретель молчала. Человеческие вопросы были тем, что могло выдернуть ее из геномагических грез, в которых парил ее разум, да и то не всегда. В отсутствие вопросов Гретель и подавно не считала нужным о чем-то говорить.
— Иногда мне кажется, что это у меня деревянная голова, — признался Гензель. — Как, черт возьми, он тебя пригласил?
— Послала ему сообщение, — невозмутимо произнесла Гретель, восседая на хлипком стуле. — Ты был прав, братец, улицы представляют собой огромные каналы с информацией. Но пользоваться ими могут и геноведьмы.
— У тебя есть знакомые среди мулов, на улицах? — недоверчиво спросил он. Очень уж не вязался облик Гретель со смрадными переулками Вальтербурга. — Да ты же и из дома не выходишь!
— Не среди мулов. Среди геномастеров. Нас не так уж много, и мы поддерживаем связь. Иногда. Сложно объяснить.
— Да уж, — хмыкнул Гензель, представив себе беседу двух геноведьм за чашкой чая. Наверно, это зрелище не менее захватывающее, чем медленный дрейф пары медуз.
— Бруттино хотел стать настоящим мальчиком, — едва ли Гретель уязвил его смешок. — Об этом говорил Варрава. Бруттино искал геноведьму, которая смогла бы исполнить его желание. Я лишь послала по своим каналам сообщение о том, что готова за это взяться. Дальше он сам нашел меня. Это было на удивление просто, хотя информация и шла несколько дней.
— Но ты же сама говорила, что он не станет тебе доверять и никогда не обратится за помощью! Он знает, что ты хотела его убить! Дважды, если на то пошло!
— Я представилась вымышленным именем, — спокойно произнесла Гретель, глядя на него ясным немигающим взглядом. — Кроме того, у него нет выбора. От него отказались практически все геномастера в городе. Некоторые сразу отказываются от безнадежного дела. Другие напуганы его жестокостью. Он разорвал двух геноведьм до того, как оказался в театре. Поэтому у него не так уж много предложений.
— И твое показалось ему удачным? — иронично осведомился Гензель.
— Конечно. Ведь я обещала ему генозелье, которое превратит его в живого мальчика.
Панаша Арло издал изумленный вскрик, мгновенно оказавшись на ногах.
— Вы… Вы и правда можете это сделать, госпожа Гретель? Можете исполнить его мечту? Я знал, что вы величайшая геноведьма в Гунналанде, но не предполагал…
— Успокойтесь. — Гензелю захотелось силой усадить его на прежнее место. — Это невозможно. Просто обманный трюк. Ни одна сила на свете не может превратить дерево в человека. Верно, Гретель?
Реакция Гретель на этот вопрос ему не понравилась. Слишком уж долго длилась пауза. И пауза эта была какой-то неуютной, он сам не мог предположить отчего. Гретель не умела лгать, это он знал совершенно точно. Умение лгать требует слишком глубокого вовлечения в человеческие чувства, ложь — это то, что должно быть естественным и живым, ее невозможно синтезировать. Поэтому геноведьмы обычно не умеют лгать. Могут не рассказывать всей правды, но и только.
Гретель молчала слишком долго для вопроса, который предполагал короткий ответ. О чем она сейчас думала? Этого Гензель не знал. И полагал, что никогда не узнает.
— Гипотетически это возможно, — наконец сказала Гретель.
Гензель опешил. Папаша Арло завороженно молчал, открыв глаза.
— Гипотетически? Это что означает?
— Только то, что Бруттино в теории может стать человеком. Живым мальчиком.
Гензель ощутил желание потереть виски, как при головной боли. Хотя боли пока не было, лишь глубокое недоумение.
— Перестань, сестрица. Я, конечно, в геномагии разбираюсь не больше, чем ты в молочной пенке, но то, что дерево человеком стать не может, даже я понимаю. Геномагия не творит чудес, не ты ли сама об этом без устали говорила?
— Это чудо другого рода, Гензель. — Не так уж часто она называла его по имени. — Чудо человеческого терпения и проницательности. Только превращение деревянной куклы в мальчишку, помимо этого, требует еще огромных лабораторных мощностей, множества времени и прорвы сил. Но все это исключительно в теории. Никто еще не проводил подобных опытов.
— Он — деревянный, — сказал Гензель, чувствуя себя невероятно глупо.
Гретель небрежно зачесала пальцами лезущие в глаза пряди.
— А ты — мясной. В этом и вся разница. Дерево — тоже живой, организм, с клеточной структурой, органами, генетическим материалом. На них можно воздействовать методами геномагии. И даже, я в третий раз говорю — в теории! — получить нужный результат.
Гензель терпеть не мог теории. Если перевести это зловещее слово, от которого тоже попахивало геномагией и ее ритуалами, на человеческий язык, получалось «что-то, что может случиться и даже случится с определенной вероятностью, но не наверняка». Даже пророчества в сказках звучали яснее.
— Кто-то из вальтербургских геноведьм может создать такое зелье?
Гретель уверенно покачала головой.
— Нет.
— А… ты?
В этот раз ей потребовалось больше времени.
— Возможно.
— Ты сама этого не знаешь?
— Речь идет не о лекарстве от нейронасморка, братец. Чтобы создать подобное зелье, требуются годы исследований, огромная материальная база, а еще…
— Не продолжай, я понял. В сказках это выглядит обычно проще.
Гретель презрительно фыркнула.
— Сказки пишут те, кто ничего не понимает в сути геномагии. Крупица истины в них безнадежно испорчена прочими примесями. И не всегда благородными.
— Ладно, забудем про зелье, — решил Гензель. — Хотя и жаль, что у нас его нет. Был бы недурной козырь. На худой конец, можно было бы попробовать поторговаться с Бруттино. Если ему так не терпится стать человеком, возможно, он согласился бы отдать в обмен на зелье ключ со склянками…
— Ты опять ошибаешься, братец, — вздохнула Гретель. — Ты никак не можешь запомнить, что Бруттино мыслит совсем иначе, чем мы. Не по-человечески. То, что тебе кажется разумным и логичным, для него может оказаться бессмыслицей. И наоборот.
— Ну пока что он ведет себя вполне здраво, — не согласился Гензель. — Сбежал от Варравы, собрал вокруг себя банду «кукол», прихватил ключ, скрылся… На его месте так действовал бы любой человек с головой на плечах.
— Или существо, старательно имитирующее человека.
Только когда папаша Арло открыл рот, Гензель вспомнил о его присутствии.
— Он куда человечнее, чем вы думаете! — провозгласил он, выставив тощий грязный палец. — Я его воспитал, я знаю, о чем говорю! Ему часто перепадало в детстве, это верно. Нелегко расти деревянным мальчиком, даже в городе вроде Вальтербурга. Но он перенял у нас многое. Не считайте его преступником, он всего лишь мальчишка, который искренне хочет изменить свою природу! И вы можете помочь ему, госпожа геноведьма!
Гензель почувствовал, что если этот разговор продлится еще хотя бы минуту, у него и в самом деле смертельно заболит голова.
— Хватит, — сказал он решительно, — вы оба меня утомили. Ты, сестрица, со своими теоретическими штучками, и вы, папаша, со своим деревянным сынком. Уверен, что знаю, как решить этот вопрос путем наименьшего сопротивления. Как там называется тот трактир, где они засели?..
Он потянулся за мушкетом. Большой стальной зверь все время разговора лежал на лавке, дремал, безразлично глядя в пустоту тремя своими глазами. Ему Гензель доверял безоговорочно. Больше, чем зыбким и тошнотворным геномагическим законам, и больше, чем кому бы то ни было на этом свете. Мушкет не любил теории, а единственный его закон был прост и понятен: все достанется тому, кто первым спустит курок.
— Стой.
Гензель с удивлением посмотрел на Гретель, которая встала у него на пути. Ее маленькая и хрупкая фигурка, которую, казалось, могло согнуть случайным домашним сквозняком, вдруг оказалась непреодолимой преградой. Чем-то вроде силового поля, загадочно и зловеще мерцающего, обжигающего холодом. От ее взгляда, прямого и не по-человечески прозрачного, у Гензеля тревожно заворочалось на своем месте сердце.
— Что-то не так, сестрица?
— Что-то явно не так, братец. — Ее слова казались написанными тончайшим инеем на силовом поле. — И ты знаешь что.
— Я попросту найду их в трактире и перебью. Одного за другим.
Ложная уверенность захрустела размолотой ледяной корочкой у него на языке. Тяжело лгать, глядя в глаза геноведьме. Точнее, невозможно — мысли путаются со словами, язык немеет, взгляд сам собой рвется в сторону.
— Ты не справишься с ними, — сказала Гретель, все еще стоя между ним и оружием. — И сам это знаешь. Даже один Бруттино слишком силен для тебя.
— Я похож на самоубийцу? — осведомился он угрюмо.
— Ты похож на старую упрямую рыбу, — отчеканила Гретель.
Которая будет биться лбом о стеклянную стену, пока не умрет.
Гензель изобразил сердитую гримасу. Судя по тому, как исказилось от страха лицо папаши Арло, вышло удачно.
— Твой сарказм выглядит уже почти человеческим, сестрица, осталось поработать над мимикой.
— Твои методы не внушают мне доверия. В прошлый раз все едва не кончилось плохо — для нас двоих. Теперь ты и подавно забыл об осторожности. Ты руководствуешься злостью и упрямством, а это плохие спутники в нашем случае. Ты понимаешь, что произойдет, если ты сунешься в «Три трилобита» с ружьем наперевес?..
Гретель была права. Признать это вслух Гензель не смог, но достаточно было и мысли, которая жгла изнутри подобно кровоточащей язве. Не подумал. Не предусмотрел. Угодил в ловушку. А сейчас?.. Гретель дважды права. Ему не выстоять против четверых. Это не уличные мулы, способные лишь мутузить друг друга кулаками и клешнями. Это головорезы и, возможно, лучшие из них. А он — давно уже не тот ловкий юный квартерон, который мог задать трепку хоть стае свирепых цвергов. И мушкет, верный компаньон и товарищ, тут ему не помощник. Прочная сталь и сухой порох не помогут, если спускает курок постаревшая и трясущаяся рука.
Возможно, ему удастся оцарапать картечью кого-нибудь из подручных Бруттино. Быть может, даже и убить. Если на то будет особенное везение — например, даже двоих. Но еще двое останутся. И иметь с ними дело придется Гретель, которая уже сейчас выглядит так, словно ее час назад выкопали из могилы.
Акула уныло подмигнула ему из глубин несуществующего моря. Она тоже все понимала.
Гензель коротко вздохнул и опустил тянувшуюся за оружием руку.
— Что ты предлагаешь? — спросил он кратко.
— У меня тоже есть план действий. И заключается он в последовательности и осторожности.
— Валяй, — пробормотал Гензель с делано-пренебрежительным видом. — Что ты придумала?
— Ты не пойдешь в «Три трилобита» один, братец. Мы пойдем туда вместе.
— Даже и не думай! — Забавно, Гензель и не знал, что в его теле сохранились запасы ярости, способные вспыхнуть в одно мгновение и опалить геноведьму. — Ты туда точно не пойдешь! Поняла? Пока я жив — не пойдешь! Мало мне тех четырех головорезов, так еще и за тобой приглядывать? Как ты это называешь? Последовательностью? Осторожностью?
Но Гретель оставалась непривычно кроткой.
— Ты меня не понял, братец. Мы пойдем туда не для того, чтобы устроить драку. Драки для нас закончились, мы с тобой уже не в том возрасте.
Он попытался поспеть за ее мыслью. Отчаянная попытка, но иногда у него получалось.
— Мм… Ты используешь какое-нибудь разрушительное генозелье? Кинешь в окно пробирку, а они — пш-ш-ш-шш! — и все превратятся в лягушек?
— Нет.
— Мы сами выпьем какое-то зелье и станем невидимыми?
— Это невозможно.
— Ладно. — Ему не хотелось долго гадать. — Что тогда?
— Мы придем в таверну и просто поговорим с Бруттино.
— Разговор не сильно-то затянется… А дальше?
— Дальше он отдаст нам ключ и пробирки.
— Сам?..
— Сам, — подтвердила Гретель. — По доброй воле.
— С чего бы это ему так поступать?
— Узнаешь. Расскажу по пути.
— Стой! — Настало время Гензеля встать между Гретель и дверью. — Не скажу про последовательность, но осторожностью в твоем плане и не пахнет. Бруттино не станет с тобой говорить! Он знает нас в лицо, ты помнишь? Знает и наверняка хранит в себе очень нежные чувства. Нежные, как концентрированная кислота. Он попросту прикажет своим куколкам растерзать нас, так что разговор выйдет очень коротким…
— Не прикажет, — уверенно сказала Гретель, протягивая руку к биологическому контейнеру, который принесла с собой и который все это время непринужденно стоял у двери. — Потому что у нас с тобой будет это.
Контейнер щелкнул хитрым замком и распахнулся подобно устрице, открыв свое морозное, источающее едкий дух нутро. В нем лежало… Гензель прищурился, надеясь, что его подводит зрение. Но нет.
— Тридцать три проретровируса и дивертикул Меккеля! — только и сказал он.
Больше всего неудобств причиняли усы. Длинные и клочковатые, они лезли то в глаза, то в рот, мешали дышать и причиняли множество проблем даже на освещенной улице. Несколько раз Гензель пытался их поправить, но Гретель украдкой шикала на него. И верно, со стороны это должно было выглядеть странно.
Уши немилосердно сдавливали череп, а пласты густой грязно-рыжей шерсти, выпиравшей по всему телу, сковывали движения. Что же до хвоста, то и дело норовившего запутаться между ног, Гензель старался вовсе его не замечать. Шерсть быстро собирала грязь, а скрюченное на кошачий манер тело не позволяло ни быстро передвигаться, ни толком разогнуть спину.
Наверно, существуют варианты и похуже, размышлял он, ковыляя по улице в своем тяжелом и неудобном меховом облачении: Гретель могло прийти в голову что-то куда более радикальное. Растущий отдельно от тела желудок. Змееподобные ноги с дюжиной суставов. Бесформенные ороговевшие наросты вместо кожи. У некоторых геноведьм удивительно богатая фантазия, да и исконные обитатели Вальтербурга могли навести ее на самые далеко идущие мысли. По счастью, она ограничилась лишь фальшивой шкурой и ушами.
— Форма должна быть человекоподобной, — заметила она, помогая Гензелю нацепить на себя груду свалявшейся вонючей шерсти. — Чем более атипично мы выглядим, тем сильнее неловкость движений будет выдавать неестественность нашей маскировки.
— В жизни не видел ничего более неестественного, — уныло заметил Гензель, разглядывая себя в зеркало. Оттуда на него пялилось существо, весьма жуткое даже по гунналандским меркам: оттопыренные уши, розовый, как свежая опухоль, нос, торчащие в разные стороны пучки жестких усов… — Выглядит ужасно. Кроме того, шерсть дьявольски щекочет, сестрица. Ты уверена, что в ней не осталось наследства от предыдущего хозяина? Например, блох? Я знаю, что геноведьмы не всегда обращают внимание на подобные мелочи…
— Не говори ерунды. Все эти органы были выращены искусственно час назад. На основе реально существовавшего генокода.
— Который ты нашла в немытом кухонном горшке из-под каши?
Кажется, ему впервые удалось уязвить ее. По крайней мере, Гретель, возившаяся при помощи пинцета с какими-то мутными слизистыми комьями в прозрачном растворе, на несколько секунд забыла про работу.
— Жаль, что тебе не понравилось. Это фрагмент кошачьего генокода. Самый чистый фрагмент, который только можно купить за деньги в наше время.
— Я видел котов в Руритании, — возразил он. — Шестилапые твари, которые вылазят по ночам на улицу и оплетают фонарные столбы паутиной…
— Когда-то они были другими. — Гретель опять вернулась к работе. — Но их исходный генетический код был вытеснен еще прежде человеческого. На, примерь.
Он с подозрением уставился на лежавшие у нее на ладони слизистые полупрозрачные пластины округлой формы.
— Это еще что?
— Контактные линзы. Неплохо изображают бельма. Ты будешь слепым котом, братец. И, надеюсь, немым.
Сама Гретель выглядела не менее причудливо. Белые, как мартовский снег, волосы сменил клочковатый рыжий мех, который даже шел к ее лицу. Нос сделался черным и блестящим, а во рту появились мелкие зубы. Ее хвост был примечательнее его собственного — куда пушистее и объемнее, цвета потемневшей меди. Гензель не стал уточнять, где она нашла фрагменты этого генокода, чтобы не наткнуться на очередной экскурс в историю генетических видов. К тому же подгоняло и время — на город тяжело и медленно, как театральный занавес, опускалась ночь.
Только преодолев в новой шкуре несколько кварталов, Гензель понял, отчего коты так быстро сдали свои генетические позиции. Сложно было представить, как подобный фенотип располагал к нормальной жизни. Хвост путался под ногами, а накладные зубы мешали нормальному прикусу и дыханию.
— Не проще ли было вырастить все это за пару часов? — осведомился Гензель раздраженно, в очередной раз поправляя хвост. — Я думал, для геноведьмы это не самый сложный трюк. Выпил склянку с зельем — и сразу покрылся шерстью…
Кажется, Гретель улыбнулась под рыжим мехом. Гензель не мог сказать об этом точно из-за своих искусственных бельм, а по голосу, конечно, не различишь.
— Дело не только в шерсти. Подумай о накладной морде и удлинении позвоночника. Стремительный рост костной ткани вызвал бы мучительную боль. Кроме того, подобные трансформации требуют уйму энергии. Скорее всего, ты мгновенно умер бы от истощения.
— Ну а так я умру оттого, что врежусь в стену и проломлю себе голову… Ради изоформы, Гретель, я же почти ничего не вижу!
— Терпи.
— А если нас раскусят и в трактире завяжется драка? — Этот вопрос мучил его долгое время и, пожалуй, посильнее хвоста. — Я не смогу нас вытащить, ничего не видя вокруг себя.
— Значит, тебе придется сделать все, чтобы нас не разоблачили.
Гензель прикусил язык — куда ни глянь, сестра всюду права. Да и план ее, который сперва показался ему несуразным, рискованным и попросту опасным, выглядел куда более проработанным и логичным, чем его собственный. Что ж, может, с самого начала стоило возложить поимку сбежавшей деревянной куклы на хрупкие плечи геноведьмы? Последовательность и осторожность — так она сказала?..
Город принял их естественно, без малейшей реакции отторжения. Так, словно они были исконными жителями Вальтербурга, под вечер возвращающимися домой. Не было ни настороженных взглядов, провожавших их, ни нехорошего шепотка в подворотнях. И укрытых в рукавах блестящих лезвий. Словом, не было ничего, к чему Гензель за много лет, проведенных тут, успел привыкнуть. Настолько, что теперь даже ощущал некоторое беспокойство.
В отличие от прочих городов Гунналанда, Вальтербург был населен преимущественно мулами последствия какой-то древней войны, от которой не осталось ни даты, ни названия. Тем, кто когда-то сгинул в раскаленных плазменных смерчах, завидовали потомки тех, кто уцелел. Тех, кто оказался мишенью для десятков тысяч агрессивных генетических мутаций, превративших их некогда человеко-подобные тела в то, что едва ли могло выглядеть человеческим даже в полумраке узких улочек.
Квартеронов здесь недолюбливали, а серебряный браслет на запястье, извещавший о наличии не менее трех четвертей неискаженного генетического кода, вызывал у окружающих скорее раздражение, чем зависть. Теперь же Гензель ощущал себя естественной частью Вальтербурга. Уродливой, нечеловеческой, но совершенно естественной.
Ни один из прохожих не обратил на них внимания. Здесь, среди себе подобных, они встречали только равнодушие. Тем не менее Гензель, вынужденный оставить дома оружие, держал в кармане небольшой обоюдоострый нож — не лучший компаньон для ночных прогулок и общения с убийцами, но при случае на что-то сгодится…
Таверна «Три трилобита» оказалась приземистым зданием, достаточно старым на вид, чтобы составить конкуренцию городским стенам. Только сохранилось оно не в пример хуже — когда-то крепкий и прочный камень словно поплыл, сдавшись напору кислотных дождей и испепеляющего солнца, потерял строгость форм, стал рыхлым и бесцветным. Вместо черепицы крышу укрывали вязанки гнилой, едко пахнущей соломы. Что же до оконных проемов — наличие стекла в них, кажется, даже не предполагалось. Если бы не Гретель, заметившая вывеску, Гензель имел бы все шансы пройти мимо трактира и его не заметить.
Однако он, несмотря на искусственную слепоту, сразу почувствовал специфический душок, стоило приблизиться к «Трем трилобитам». Может, дала о себе знать интуиция акулы, а может, его собственный опыт. Место было умеренно скверным, как он сам оценил. Не самая смердящая дыра в городе, но и не то место, куда он зашел бы по доброй воле. Из оконных проемов доносилась извечная трактирная музыка — тяжелый перестук костяных кружек, пьяное бормотание, визгливый, как безумная флейта, смех и треск карт. Похоже на чан, подумалось Гензелю, крышку которого совсем не хочется срывать. Потому что мутное варево выплеснется оттуда, и больше никакими силами его обратно не затолкать.
— Держись позади, сестрица, — на всякий случай предупредил он. — И постарайся не отдавить мой шикарный хвост. Я только начал привыкать к нему.
— Если вернемся домой живыми после этой ночи, я выращу для тебя целую дюжину, — ответила она тихо, сквозь зубы.
Труднее всего было преодолеть порог. Из недр «Трех трилобитов» сочились столь сильные запахи, что ноги против воли сбавляли шаг. Запахи подгоревшего соленого жира, табака, мочи, вареных овощей, гнилого сена, рыбы, пота и таумерный метагенез знает чего еще.
Впрочем, внутри оказалось не так плохо, как представлялось Гензелю поначалу. Его воображение успело нарисовать куда более скверные картины. В трактире оказалось жарко, липко и шумно — как и должно быть во всяком городском трактире, — но не чрезмерно.
Количество пьяных тел под столами было на удивление небольшим для этой части города, так что Гензель даже исполнился к «Трем трилобитам» невольным уважением.
Посетители заведения, общим числом не менее двух дюжин, чувствовали себя превосходно. Возле двери в луже собственной мочи лежал мул, чье тело густо, как бородавками, было усеяно десятками маленьких подобий собственной головы, причем некоторые головы были давно мертвы и находились на стадии разложения, а другие бессмысленно поводили глазами. Другой мул, невозмутимо восседавший за столом, выглядел так, словно его собирал какой-то не до конца настроенный прибор, наугад прицеплявший к телу конечности и внутренние органы. Тело третьего и вовсе было вывернуто наизнанку, при этом сохранив возможность двигаться.
— Хорошее местечко, чтобы провести вечер, — обронил Гензель, пока они шли к стойке, перешагивая через распластанные конечности и щупальца. — Но я не вижу ни одного разумного дерева.
Гретель незаметно ткнула его острым локтем в бок.
— За ширмами есть боковые кабинеты. Думаю, он в одном из них.
— Разумно, — согласился Гензель. — Меньше внимания да и удобнее.
Хозяин таверны, кряжистый толстяк, чье тело походило на бесформенный кусок плохо прожаренного мяса, взглянул на них без всякого интереса.
— Дофамин, налбуфин, митрагинин? Может, выдержанного раствора серотонина, по медяку за кружку?
— Человека. Его зовут Бруттино.
Хозяин таверны едва заметно вздрогнул. И поспешил отвернуться, сказав негромко:
— В самом углу слева. За той ширмой. Но лучше бы вам, господа, быть уверенными в том, что вас ждут.
— Нас ждут, — кивнул Гензель. — И ждут с огромным нетерпением.
— Тем лучше для вас.
Гензелю ужасно не хотелось откидывать в сторону указанную ширму. Из кабинета, который располагался в углу зала, истекала какая-то неестественная для «Трех трилобитов» тишина. Даже зловещая. Там никто не стучал костями по столешнице, не смеялся, не пел хмельным голосом. Впервые на памяти Гензеля тишина вызывала у него более скверное ощущение, чем любые, самые неприятные звуки.
Он отвел ширму в сторону, сделав это в меру неловко для слепого.
И тут же пожалел, что и в самом деле не слеп.
Кабинет оказался достаточно просторен для большого стола и четырех восседавших за ним молчаливых фигур. На шелест ткани обернулись все четверо, так, словно в полной тишине мгновенно сработали четыре капкана. И одних только их взглядов было достаточно, чтобы Гензель отчаянно пожалел об оставленном дома мушкете. Хоть и понимал, что мушкет здесь был бы не опаснее зубочистки.
Бруттино, Перо, Синяя Мальва и Антропос.
Сам Бруттино восседал во главе стола на правах вожака. Его тело, как и прежде, было похоже на выточенное из гнилой, пролежавшей много лет в болоте коряги. Кое-где его покрывали свежие царапины вроде тех, что оставляет на жесткой коре неглубоко вонзившееся лезвие рубанка. Судя по всему, обслуга театра не сдалась бывшим куклам без боя.
Как бы то ни было, Бруттино не выглядел раненым или уставшим. Длинный нос, заточенный как жало огромного насекомого, глядел в кружку с какой-то прозрачной жижей. Глаза, впрочем, не казались пьяными. Они тут же уставились на входящих тусклым янтарем. От этого янтаря тянуло чем-то нехорошим, гибельным. Холодным, но вместе с тем внимательным. Гензель ощутил, как его тело под толстой кошачьей шерстью покрывается мелкой капелью ледяного пота.
По правую руку от него сидел господин Перо, печальный убийца. Даже в грязном трактире он не сменил своего нелепого белоснежного балахона с пышным воротником, однако тот был на удивление чист — ни одного пятнышка, даже винного. Господин Перо даже вне сцены выглядел так, будто весь окружающий мир представляет собой не более чем дешевую пьесу в дрянных декорациях. Пьесу, в которой ему невольно приходится играть. Вошедших он встретил грустной улыбкой, но эта улыбка совершенно не затронула мутных, подведенных тушью глаз. Она была искусственной и отстраненной, совершенно ни к кому не обращенной.
Третьим, судя по всему, был тот, кого в театре прозвали Антропосом. Возможно, кличка эта была дана в насмешку, поскольку в его облике если и просматривалось что-то человеческое, оно было безмерно загрязнено и изувечено длинной цепью генетических мутаций. Его тело походило на собачью тушу, пытающуюся сидеть за столом по-человечески. Но и собачьей в полной мере она не была. Какой-то противоестественный гибрид, столь же гипертрофированный, сколь и уродливый. Тело было покрыто клочьями то ли шерсти, то ли человеческого волоса. Кости — искривлены и видоизменены. Лапы оканчивались непонятными придатками — то ли пальцами, то ли собачьими когтями.
Но это существо, ставшее жертвой слепого хромосомного наследования, не выглядело безответной жертвой. Под шкурой виднелись тугие жгуты мышц, неестественно большие и наделенные, несомненно, огромной силой. Голова Антропоса оканчивалась пастью, из которой в разные стороны торчали в беспорядке человеческие и собачьи зубы. А над пастью помещались близко посаженные глаза, от взгляда которых пробирало до костей, столько в нем было едва сдерживаемой животной ярости.
Именно Антропос среагировал первым.
Вскочил одним пружинистым толчком, отшвырнув в сторону столовые приборы, едва не перевернув стол, и тут же оказался возле Гензеля. Поросшие шерстью полулапы-полуруки схватили Гензеля за плечи и шею, да так, что жалобным хрустом отозвался позвоночник. Перед лицом Гензеля распахнулась пасть, полная кривых, тронутых гнилью зубов. И запах, ударивший из нее, был подобен запаху из разворошенной могилы.
— Куда лезешь, дефект яйцеклетки?
Если бы зубы щелкнули немногим ближе, они содрали бы Гензелю накладную кошачью морду вместе с приличным куском лица.
— Королевская особа? Без приглашения пожаловал? Мешок генетического дерьма!..
Гензель задыхался в его объятиях. Он попытался напрячь собственные мышцы, но быстро понял, что это противостояние закончится очень скоро и не в его пользу. Антропос был сильнее, настолько, что казалось, будто его конечности управляются гидравликой, а не мышечными волокнами. Гензель ощутил, что не может разомкнуть его лап, а в глазах стремительно разливается темнота.
Рука сама собой скользнула в потайной карман на шкуре, нащупав нож. Несмотря на короткое лезвие, этот нож мог принести немало пользы. Например скользнуть, шипя по-змеиному, поперек морды Антропоса, заставив его багровый язык шлепнуться на пол. Или вскрыть горло, превратив собакообразного мула в катающееся в луже собственной крови существо. Но если он ударит, все закончится сразу и тут. План Гретель закончится, не начавшись. Если только не…
Гадкая мысль скользнула по начавшему цепенеть от удушья телу.
Если только Гретель не сочтет, что гибель брата — разумная плата за достижение цели. Это крайне рационально с точки зрения геноведьмы, не требуется долго размышлять и сопоставлять цифры. На одной чаше весов — одна родственная жизнь. На другой — несколько миллионов чужих и собственная безопасность. Надо быть полным дураком, чтобы сделать неправильный выбор. А геноведьмы не ошибаются в выборе. Они всегда четко очерчивают цель и неумолимо идут к ней самым коротким путем.
Гретель молчала. И Гензель понял, что, если ее молчание продлится еще несколько секунд, не поможет и нож. Потому что он сам рухнет на грязный, затоптанный сапогами и залитый пивом трактирный пол со сломанной шеей.
— Антропос! Прекрати! Прекрати немедленно!
Гензель ощутил, как хватка человека-пса на его горле немного ослабла. И только после этого понял, что голос принадлежит не Гретель. Слишком высокий, слишком звонкий, слишком… живой. Впрочем, шум в ушах мешал ему хорошо слышать.
Антропос заворчал, повернув свою жуткую морду к источнику звука. Это принесло дополнительное облегчение — зловоние сделалось немногим слабее.
— Как тебе не стыдно нападать на наших гостей?
— Мне перед ними что, расшаркиваться? Может, и поклон отвесить?
— Они пришли к нам, пусть и без приглашения, значит, они наши гости. А ты ведешь себя непозволительно грубо. Просто отвратительно. И это после того, как я потратила столько времени, пытаясь обучить тебя хоть какому-то воспитанию! А ты опять ведешь себя как грубиян!
Антропос раздраженно рыкнул, еле сдерживая себя.
— А что, если это слуги Варравы?
— Мы должны быть приветливы и вежливы со всяким, кто сюда войдет, сколько мне повторять? А если они окажутся слугами Варравы, никто не помешает тебе оторвать им головы на заднем дворе.
— Можно сэкономить время и оторвать прямо сейчас.
— Антропос!
Человек-пес оскалился, демонстрируя россыпь зубов. В нем чувствовалась животная злость, а еще — нетерпение и, как ни странно, настороженная опаска. Так ведет себя сторожевой пес, чувствующий присутствие существа куда более сильного и властного — своего хозяина.
— Ты мне не указ, Мальва! Не забывайся!
— Антропос. Оставь его. Иначе мне придется вновь обучать тебя хорошим манерам.
Женский голос, до этого момента мелодично звеневший подобно золотым колокольцам, преисполнился иной интонации. Более спокойной и властной. Антропос, клацнув у Гензеля перед носом зубами, разжал свою хватку.
— Извините за невежливый прием, господа. — Голосок вновь зазвенел приветливо и мягко. — Антропос не вполне привык к обществу. Нам еще предстоит много работать над его манерами. Они просто ужасны!
Это Синяя Мальва, понял Гензель. Рассмотреть ее он толком пока не мог. Отчасти мешала темнота перед глазами, но еще больше — линзы слепого. Он видел лишь смазанную стройную фигурку, облаченную в легкие одежды цвета весеннего неба — такого, которого никогда не бывает в здешних краях. Что-то голубое, летящее, светлое. И запах… Гензель смутно видел лицо Синей Мальвы, но уже ощущал ее запах, столь легкий и нежный, что поневоле хотелось перевести дыхание, чтобы легкие не пытались насытиться им бесконечно, в конце концов лопнув, как мыльные пузыри.
«Кажется, она недурна собой, — подумал Гензель, массируя помятую шею. — Определенно недурна. Прелестный голос… Как жаль, что не видно лица! Волосы, кажется, тоже голубые. Она красавица. Но как ее занесло к этим головорезам? Неужели и она?.. Нет, здесь какая-то ошибка. Этот цветок не мог расти на залитой кровью сцене Варравы».
— Вы в порядке? — обеспокоенно спросила Синяя Мальва. — Этот негодяй не причинил вам боль?
Она сделала несколько невесомых шагов, и на какое-то время из мира пропали все звуки, кроме шелеста ее платья. И Гензель ощутил, как что-то в его старом, много раз залатанном, уставшем и обессиленном теле сладко замирает. Это чувство было столь новым и пугающим, что в помятом Антропосом горле, вновь перекрывая дыхание, возник большой липкий ком.
— С ним все в порядке. — Это был голос Гретель. По контрасту с голоском Синей Мальвы он звучал грубо и бездушно, как синтезированный голос Мачехи, доносившийся из репродукторов Шлараффенланда. — Не стоит беспокойства.
Когда в отгороженном ширмой кабинете раздался новый голос, Гензель мгновенно понял, кто его обладатель.
— Вы Алиция? Геноведьма?
— Да. А это — мой подручный и компаньон Бэзил.
— Мы договаривались, что вы придете одна.
— Мне пришлось изменить планы. Все в порядке, Бэзил слеп. И глух.
— Хороший же у вас подручный.
— Он служит инкубатором для стволовых клеток и различных вирусных культур.
— Интересное решение.
Голос Бруттино не был голосом человека. Он не был рожден человеческим горлом. Он был негромок и поскрипывал, как старые половицы под ногами. Или как помост виселицы под ногами осужденного, подумалось Гензелю. Неестественный, жуткий голос, от которого делается не по себе. Точно резонанс определенной частоты, который ухо распознает в виде скрипа и который впивается в тело, отделяя клетку от клетки…
Несмотря на то что голос Бруттино не оглушал, напротив, звучал весьма негромко, Гензелю захотелось закрыть руками уши. Но со стороны глухого подручного это, скорее всего, выглядело бы странно.
Бруттино разглядывал гостей, не переменив позы. Дерево не может выглядеть расслабленным или напряженным, оно всегда внешне остается твердым, неподатливым. Его манера говорить со сдерживаемым достоинством, со скрипучей насмешливостью еще раз напомнила Гензелю, что перед ним сидит не ребенок. Давно уже не деревянный мальчишка. Что-то другое. Что-то, способное талантливо имитировать человеческие интонации, на зависть самой Гретель, но не более того.
— Надеюсь, вас не смутила моя геномагическая терминология? — осведомилась Гретель ровным тоном. — Многие пугаются, услышав подобные слова.
— «Стволовые клетки»? «Вирусные культуры»? Бросьте. — Бруттино сделал короткий жест рукой, точно отметал от себя что-то. — Я был подмастерьем у шарманщика. На знание геномагии претендовать не стану, но кое-чего наслышался, сами понимаете.
Синяя Мальва восторженно поднесла руки ко рту.
— Брутти, это и в самом деле настоящая геноведьма? Как это замечательно!
Гензель, несмотря на туман в глазах, уже разглядел, что руки у нее — невероятно тонкие, а тело обтянуто пышным платьем с множеством юбок и лент. Еще более неуместный наряд для грязного трактира, чем балахон молчащего Перо. Но Гензель не обратил на это внимания. Волосы Синей Мальвы, рассыпавшиеся по плечам и перехваченные лентой на лбу, были все того же восхитительного цвета, точно когда-то она окунула их в небесный океан и они так и не просохли. Ее прекрасный голосок, тонкий и музыкальный, проникал в его грудную клетку, вдруг сделавшуюся пустой, и заставлял резонировать ребра.
Деревянный человек, восседавший во главе стола с видом царственной особы, не отреагировал на фамильярность — видимо, Синей Мальве не впервой было называть его «Брутти». Странная банда, собравшая в себя странных существ, подумалось Гензелю, и как неуместно смотрится на их фоне такой дивный цветок! Наверняка ее похитили. Да, похитили из театра и удерживают здесь. Это все объясняет. Лишь одна мысль о том, что цветок, подобный Синей Мальве, мог распуститься в свете лучей театральных прожекторов, заставляла все его естество корчиться от отвращения.
— Спокойно, Мальва… Так вы, госпожа Алиция, геноведьма?
— Да, — произнесла Гретель. Другому человеку могли понадобиться дополнительные слова, но Гретель привыкла обходиться безусловным минимумом.
— Замечательно. — Голос Бруттино опасно затрещал. — И насколько вы хороши в своем деле?
— Лучшая во всем королевстве, полагаю.
— Что ж, скромность — не та вещь, которую можно синтезировать, так ведь? — В углу хрипло хохотнул шутке предводителя Антропос, все еще взъерошенный, как после собачьей драки. — Я не слышал о геноведьме с таким именем в Вальтербурге. А я, смею надеяться, свел знакомство со многими из ваших… коллег.
— Я из Фрисланда, в Гунналанде лишь проездом. На вашем месте я бы поблагодарила судьбу за то, что молва донесла мне о… вашем случае.
Гензелю показалось, что при последних словах Бруттино болезненно поморщился. Как человек, при котором упоминают смертельную болезнь, поселившуюся в его теле. Только Бруттино со всей очевидностью не был человеком.
— Позвольте спросить… — Бруттино сделал паузу, которая едва ли была ему необходима. — Если вы и в самом деле могущественная геноведьма, отчего не преобразуете свой фенотип по общепринятому среди людей образцу? К чему хвост и шерсть?
Гретель безразлично пожала плечами. Рядом с неподвижно восседающим Бруттино она выглядела лишь рыжей пушинкой.
— Не вижу необходимости. Человеку, который способен заглянуть вглубь геномагии, открываются такие картины, после которых ваше представление об идеальном фенотипе выглядит не более приближенным к истинной красоте, чем грязный огрызок дефектной хромосомы — к идеальной молекуле ДНК.
Бруттино удовлетворенно кивнул, а Гензель украдкой вздохнул с облегчением. Эту тираду он заставил Гретель заучить еще дома, опасаясь именно такого вопроса. И она отлично справилась. Синяя Мальва, тоже оценив ее слова, восхищенно рассмеялась, и смех ее показался Гензелю звенящим летним дождем, прошедшим над полем распустившихся незабудок.
Один лишь Антропос остался недоволен.
— Самозванка она, — прорычал он из угла. — Как и те, прочие. Что с ними-то было, а, Бруттино? Они же тоже обещали помочь тебе, а чем обернулось? Не лучше ли разорвать их обоих да вышвырнуть в канаву? Ты скажи…
Гретель вперила в Антропоса немигающий взгляд.
— Слушай меня, генетическое отродье, — отчеканила она неестественно монотонно, пустые глаза горели гибельным светом умирающих звезд. — Если ты позволишь себе еще раз открыть пасть, пока я говорю с твоим хозяином, я щелкну пальцами — и ты превратишься в кусок разумного бифштекса!
Синяя Мальва по-детски непосредственно захлопала в ладоши. Антропос вжался в угол и, казалось, едва не заскулил.
— Хватит! — Бруттино поднял руку, и этого короткого жеста оказалось достаточно, чтоб куклы замерли. — Наружу, все. Антропос, Мальва, Перо.
— Ну, Брутти! — Синяя Мальва умоляюще взглянула снизу вверх на деревянного человека. — Пожалуйста!..
— Наружу.
Все трое без пререканий скрылись за ширмой. И Гензель, испытав секундное головокружение, ощутил, что мысли его делаются яснее и четче. Их нормальный ход был попросту невозможен в присутствии Синей Мальвы. Когда она проходила мимо него, он успел рассмотреть, что глаза у нее — огромные и тоже небесной голубизны. А личико — тонкое, почти детское, с точеным носиком и губами оттенка дымчатой розы, подобных которым нет даже в сказках.
«Что со мной? — Гензель отвесил себе мысленную оплеуху. — Я теку, точно сопливый мальчишка, впервые заглянувший под юбку посудомойке. Возьми себя в руки и играй роль. Если вас разоблачат по твоей вине, губки Синей Мальвы будут последним, что ты увидишь!..»
Бруттино начал без вступлений:
— Раз вы здесь, госпожа Алиция, значит, знаете, чего мне от вас надо.
На миг Гензелю стало жутковато быть немым свидетелем этого разговора. Бруттино и Гретель смотрели друг на друга и оба казались неестественно спокойными, отрешенными. По одной и той же причине. Оба притворялись людьми и оба точно не знали, что это означает. По сердцу Гензеля вновь прошел тревожный сквознячок.
— Знаю.
— Значит, у вас есть что мне сказать.
— Ваше желание реально, господин Бруттино.
— Не «господин», просто Бруттино. — Смешок деревянного человека напоминал звук, с которым у стула подламывается ножка. — Вы уверены в этом? Вы можете его исполнить?
Он ничем не выдал охватившего его беспокойства. Остался таким же сухим и бесстрастным, как торчащий в земле корень.
— Я могу превратить вас в человека, — отчетливо произнесла Гретель, глядя ему в лицо. — Если вы это хотите знать.
— Многие говорили мне, что это невозможно.
— Для многих. Но я к ним не отношусь.
— Вы самоуверенны, госпожа Алиция.
— И достаточно умна. Мое чудо будет вам дорого стоить.
— Вот как? Может, вам известно: две последние геноведьмы, заявившие мне примерно то же самое, сейчас вносят свой вклад в развитие генофонда опарышей.
Гретель не выглядела испуганной. И она не играла роль, как Гензель. Ей этого не требовалось.
— Мне малоинтересны насекомые. Слишком примитивная генетическая модель. Я занимаюсь другими материалами.
Брутто потер друг о друга ладони. Удивительно человеческий жест — видно, успел его позаимствовать. Например, у своего старого приемного отца. Сухое шуршание дерева о дерево неожиданно показалось даже приятным.
— Это чудо… Как оно выглядит?
— Неприметно, как и другие чудеса геномагии. Я синтезирую специальное зелье, которое вы выпьете. И оно превратит вас в человека. Контролируемая каскадная реакция модификации всех клеток. Дерево станет плотью. Кора — кожей. Сердцевина — костями. Древесные соки — кровью и лимфой.
— Звучит весьма… невероятно.
— Я гарантирую результат. И если он вас не удовлетворит, я буду находиться рядом. Уверена, тот же господин Антропос с удовольствием возьмет на себя наблюдение за трансформацией. И примет соответствующие меры, если она пойдет… не так.
— Вы правы. Кажется, вы самая рассудительная и профессиональная из всех геноведьм, что я видел. Может, у нас с вами что-то и получится.
— В таком случае время задать следующий вопрос.
— Какой?
— Что я хочу за это получить?
Бруттино испустил короткий вздох — словно крыса пробежала по деревянной полке буфета — и вытащил из-под стола туго набитый кошелек. Оценив его размер, Гензель едва сдержался от одобрительного кивка. Куклы господина Варравы покинули театр не с пустыми руками. Судя по всему, они прихватили плату за свои многолетние выступления. Может, и чуть больше.
Едва взглянув на кошель, Гретель дернула подбородком.
— Меня не интересует золото.
— Здесь две тысячи гунналандских ливров, госпожа Алиция. Очень приличное состояние.
Гретель удалось презрительно и весьма естественно махнуть рыжим хвостом.
— Золото — всего лишь металл. Он почти не используется в реакциях геномагии.
Бруттино усмехнулся. Усмешка его была похожа на горизонтальный надрез в старой древесине — точно какой-то мальчуган мимоходом полоснул по коре складным ножом.
— Тогда скажите, чего вам надо.
«На крючке, — понял Гензель, сжимая украдкой кулаки. — Уже на крючке, хоть сам того не понял. Хитрая, расчетливая, кровожадная и дерзкая деревяшка, проведшая среди людей много лет, но не познавшая по-настоящему их образа мыслей. Слишком глупа, слишком жадна. Природы не изменить».
— В качестве оплаты я могу принять генетические реагенты любого рода. Я слышала, в ваших краях много любопытных зелий. Возможно, вам удастся найти то, что будет мне интересно.
Бруттино колебался недолго. Гензель не видел, откуда он достал пробирки, лишь услышал тончайший перезвон стекла, похожий на смех Синей Мальвы. В грубых корявых пальцах Бруттино, кажущихся неуклюжими и сучковатыми, пробирки выглядели совсем небольшими. Если он ненароком раздавит их… Гензель стиснул зубы. «Три трилобита» очень быстро превратятся в одну истекающую слизью и гноем могилу для всех своих посетителей. Но Бруттино удивительно ловко передал пробирки Гретель. Та приняла их и некоторое время пристально рассматривала, читая этикетки. Потом мягко положила на стол.
— Извините.
Янтарные глаза загорелись. Уже не стылый древесный сок, а желтое пламя, пробивающееся из-под коры.
— Эти генозелья кажутся вам недостаточно хорошими?
— Они хороши. Даже редки. Но… Недостаточно перспективны.
— Я могу достать вам других зелий. Несколько десятков. Или даже больше.
Бруттино поднялся из-за стола. Треск, который издало его тело, был зловещим, тягучим. Сродни тому, который издает медленно падающее дерево, напирающее на своих соседей. Хрустнула жалобно столешница, зазвенело на полу золото.
«Сейчас он устремится прямо к фальшивому очагу за новыми зельями, — подумал Гензель лихорадочно, одновременно пытаясь нащупать бесполезный нож. — И тогда все. В каморке остался лишь папаша Арло, он и пикнуть не успеет. Да и меня с мушкетом там не окажется. Глупейшая будет ситуация…»
Но Бруттино не успел дойти до двери.
— Возможно, мне хватит и этих, — произнесла Гретель.
— Возможно?..
— Это интересные образцы. Они будут представлять ценность, если их немного… улучшить.
— Я был помощником уличного шарманщика, а не геномага, — нахмурился Бруттино. — Как их можно улучшить?
— Мираклово поле.
— Простите?..
— Что-нибудь слышали о Миракловом поле?
— Нет.
— Неудивительно. Слухи о его существовании отмирают. И верят в него разве что дети, как и в легендарный америциевый ключ, отпирающий подземную сокровищницу…
«Играешь с огнем, сестрица», — мысленно предупредил Гензель, захваченный, однако, тем, как спокойно и небрежно геноведьма ведет свою роль.
— Что за поле?
— Обычное поле за городом. Говорят, несколько веков назад под ним располагался атомный реактор. Или генетическая лаборатория, сейчас уже никто не может сказать. Во время войны там произошел взрыв. Подземный, на многокилометровой глубине. С тех пор Мираклово поле стало не совсем обычным полем.
— Излучение? — отрывисто спросил Бруттино.
— Да. Особенного, даже уникального спектра. На поверхности его почти невозможно обнаружить. Обычное поле. Но оно обладает любопытной особенностью. Всякая вещь, закопанная на этом поле, облучается из-под земли потоком направленных частиц. В сочетании с определенными рудами, залегающими в том районе, это дает необычный эффект… Скажем так, это уникальный набор нейтронов, способный воздействовать на молекулярную структуру всякого вещества. Или, — Гретель сделала тягучую паузу, — генозелья.
— И вы предлагаете…
— Да.
— Закопать пробирки с генозельями в землю, точно какую-нибудь морковку?
— Ровно на двенадцать часов.
— Впервые слышу о подобном методе.
— Вы и обо мне впервые услышали лишь этим вечером. — Накладная морда помешала Гретель изобразить достаточно саркастическую усмешку, но вышло все равно неплохо.
— Значит, если продержать эти пробирки целый день на Миракловом поле, их стоимость в ваших глазах увеличится?
— Десятикратно.
— И вы примете контракт?
— Несомненно.
— Но вы можете сделать это и сами. Я расплачусь с вами зельями, а дальше можете закопать их хоть на грядке.
Резонно, согласился мысленно Гензель: не так уж и глупа эта деревяшка.
— Не торгуйтесь с геноведьмой, — резко ответила Гретель. — Или у вас есть то, что мне надо, и тогда мы заключаем контракт. Или у вас этого нет — и тогда я ухожу.
— Жадность — мать жестокости, — произнес Бруттино задумчиво, скрип его голоса стал едва слышен и мягок, как скрип покачивающейся деревянной колыбели. — Вам ли не знать этого?
— Цена, установленная геноведьмой, не обсуждается.
Бруттино вновь сел. Янтарные глаза горели стылыми болотными огоньками, пока сучковатые пальцы бережно собирали пробирки.
— Возвращайтесь завтра вечером, — наконец сказал он, не глядя на гостей. — И захватите свое волшебное зелье.
Гензель чихнул в ладонь. С рассветом выпала роса, и овраг, в котором он сидел, прикрывшись зарослями травы, мгновенно отсырел, превратившись в грязную канаву. На нем был теплый, подбитый мехом плащ, он помог ему продержаться в овраге всю ночь, но и плащ не мог вечно защищать своего хозяина от холода.
«Надо было оставаться в шкуре кота, — подумал Гензель, заботливо смахивая ледяную влагу с приклада мушкета. Укутанный промасленными тряпицами ствол не боялся ржавчины, но все остальное постоянно покрывалось свежей капелью. — А хвостом можно было бы неплохо гонять мух…»
Мухам ни холод, ни влага не служили помехой. Они поднялись с рассветом и со свойственным им любопытством принялись изучать Гензеля и его мушкет. Толстые, неторопливые, они важно ходили по прикладу, выискивая на нем следы пота, и жадно их облизывали. Одна муха, самая наглая, норовила атаковать нос Гензеля и обиженно жужжала всякий раз, когда бывала им отвергнута. У нее было штук двадцать крыльев, вдобавок от жадности она стучала полной пастью вполне человеческих зубов. Гензель с удовольствием бы раздавил ее, но предпочитал лишний раз не шевелиться, чтобы не выдать своей позиции.
Гретель спала неподалеку, с головой спрятавшись в том же овраге, где посуше, и завернувшись в плащ. Гензель не собирался ее будить — геноведьме требовался отдых. Освобожденное от фальшивой рыжей шерсти лицо казалось по-детски беззащитным и осунувшимся, опустошенным.
«Не разбудить бы ее выстрелом, — подумал Гензель, поправляя на геноведьме плащ. — Пожалуй, шикну ей заблаговременно, чтобы не испугалась…»
Но будить ее не потребовалось, потому что глаза Гретель вдруг распахнулись сами собой, мгновенно, точно включились два сложных индикатора. От сна в них не было и следа.
— Который час, братец?
Ему потребовалось повозиться, чтобы достать из кармана хронометр и открыть крышку.
— Десять минут до полудня.
— А когда он закопал пробирки?
— Ровно в полночь.
— А ты…
— Нет. Не вижу. Не шуми.
Овраг Гензель подобрал с таким расчетом, чтобы открывался хороший вид на поле. На ту его часть, где еще можно было угадать участок рыхлой земли с холмиком. Овраг порос ржавой густой травой, вдобавок он прикрыл его дерном, так что даже обладатель орлиного зрения едва ли разглядел бы его позицию с пятидесяти метров. Мушкет же был пристрелян на сотню.
Гензель знал, откуда должен был появиться Бруттино, но на всякий случай постоянно оглядывал окрестности. Мушкет терпеливо ждал на импровизированном бруствере, глядя в небо своими тремя глазами. В этот раз он был снаряжен не картечью, а зажигательными пулями. И Гензель готов был поклясться, что всадит как минимум две из трех прямо в центр бочкообразной деревянной груди, прежде чем Бруттино сообразит, что происходит.
Но Бруттино не было. И хотя до полудня еще оставалось время, Гензель отчего-то ощутил беспокойство. Странно, что Бруттино не пришел заранее за своими пробирками. Теперь, когда его желание могло стать явью, эти пробирки должны были представлять для него еще большую ценность. Гензель не удивился бы, если бы Бруттино и вовсе решил остаться на Миракловом поле караулить их всю ночь. Но он не остался. Пришел к полуночи, едва видимый безлунной ночью, некоторое время возился на поле, копая углубление, потом засыпал яму и растворился в ночи.
Гензель, видя его смутный, копошащийся в земле силуэт, испытывал огромное желание выстрелить прямо сейчас, но приобретенная с годами осторожность заставляла голодную акулу проявлять терпение. В темноте можно запросто промахнуться с такого расстояния, а Гензель собирался стрелять наверняка. Другого шанса никто ему не даст.
— Здесь и верно был подземный реактор? — спросил он шепотом, боковым зрением наблюдая за тем, как Гретель кутается в плащ.
— Здесь было овечье пастбище, — негромко ответила она, приглаживая отсыревшие за ночь волосы. — В те времена, когда овцы были съедобны и от них еще не отбивались огнеметами. Но реактора здесь никогда не было.
— Какой циничный обман!
— Цель оправдывает средства, — безразличным тоном произнесла Гретель.
Сейчас она казалась такой же холодной и твердой, как обмотанный тряпками мушкет. И Гензель знал, что ее слова — не фигура речи. Это был ее истинный подход к миру — бестолковому, страшному и неизведанному миру, населенному всякими букашками вроде мух, овец и людей. Цель должна быть достигнута. Средства — лишь инструмент. Инструмент можно вытереть после грязной работы и вновь пустить в дело. Или швырнуть в мусорную корзину.
Сейчас ее целью был америциевый ключ. Если для достижения этой цели требовалось обмануть или превратить деревянное существо в корчащийся пылающий факел, Гретель не собиралась переживать на этот счет. Цель должна быть достигнута наиболее коротким путем — безжалостная рациональность. Все остальное не играет роли.
«А кто я сам для нее? — внезапно подумал Гензель, делая вид, что возится с мушкой прицела. — Цель или тоже средство? Много лет я был уверен, что она любит меня. Любовь геноведьмы — странная штука, ну да черт с ней… Но что я, в сущности, знаю об этой любви? Как она проявляется? Как говорит сама Гретель, у каждой реакции должны быть свои признаки. Где признаки того, что я ей не безразличен? Что я в ее глазах не бездушный инструмент, который защищает ее жизнь и облегчает быт? Что, если она вовсе не способна испытывать какие-либо чувства, и этими чувствами я наделил ее в своем воображении?»
Чтобы отвлечься от этой мысли, он бросил взгляд на хронометр — семь минут до полудня, — но мысль вернулась назад с настойчивостью голодной мухи.
«Она позволила тебе мучиться от жажды в доме на крыше. Она позволила Антропосу почти задушить тебя. Все это ради того, чтобы сберечь собственную жизнь. Стать еще на шаг ближе к цели. Предельно рационально, что сказать. Что, если в ее прозрачных холодных глазах ты сам — просто инструмент? Удобный, привычный, даже ценный. Но все-таки — инструмент. Который рано или поздно придется бросить в корзину ради достижения цели… Просто до сих пор у нее не встречалось достаточно серьезной цели, чтобы пожертвовать инструментом. Теперь есть».
— Гретель.
— Мм…
— Гретель.
— Что?
— Почему мы остались в Вальтербурге?
Вопрос был неожиданным и неуместным, но ее бесцветные глаза взглянули на него совершенно без удивления.
— Потому что мы с тобой так решили, братец.
— Перестань. Мы оба знаем, что так решила ты. Мое желание не играло никакой роли. Это ты хотела здесь остаться. Я лишь согласился.
— Разве тебе не надо следить за полем?
— Еще шесть минут, и никого нет. Видимо, Бруттино пунктуален. Так почему?
Она погладила пальцем узкий бледный лоб. У любого человека этот жест выражал бы задумчивость. Но Гретель не использовала жестов — ей они были не нужны. Скорее всего, это было расчетливое механическое движение, призванное показать, будто она задумалась. И выглядело это даже естественно. Все-таки она научилась многому за эти годы. Прекрасная мимикрия.
— Вальтербург не хуже других городов. Здесь мало геноведьм и много работы.
— Тебя никогда не интересовали деньги.
— У меня есть исследования.
— Ты могла бы заниматься ими где угодно. Оборудовать лабораторию где-нибудь в Пацифиде и точно так же смотреть в окуляры. Или вообще поселиться где-нибудь в пустыне или дремучем лесу. Геноведьмы любят уединение, разве нет?
Две белые брови, дрогнув, сблизились на миллиметр — Гретель нахмурилась.
— Тебе обязательно нужна причина, отчего именно Вальтербург?
— Да.
— Именно сейчас?
— Да.
— Я уже привела их. Но они тебе не подходят. Раз так, придумай свою.
— Уже придумал.
Он взглянул на хронометр. Все еще шесть минут.
— И какая же она?
— Мне кажется, ты нарочно выбрала Вальтербург. Старый город, заселенный неисчислимым множеством генетически увечных мулов. Средоточие боли и уродства.
— Глупо упрекать геноведьму в садизме. Я не испытываю удовольствия от чужих мучений.
— Я знаю, ты к ним безразлична. Но я говорил не о садизме. Мне кажется, этот город — твой… личный тест. Твой инструмент, с помощью которого ты исследуешь саму себя.
— И что я ищу?
— Не знаю. Себя? Свою человечность?
Гретель немного наклонила голову, словно оценивая его слова на слух, как музыку.
— Интересно, — признала она. — Поясни.
— Возможно, ты давно запуталась в себе. Потеряла водораздел между человеком, которым когда-то была, и геноведьмой. Если он был, этот водораздел. Слишком далеко ушла в своих исследованиях. И в какой-то момент обнаружила, что сама уже не помнишь, кто ты. Что окружающий мир в какой-то момент стал настолько чужд и непонятен, что нет уже реперных точек, или маркеров, для привязки. Ты как ученый, что двинулся по тропинке Железного леса, исследуя его, но зашел так далеко, что безнадежно заблудился в чаще. И теперь отчаянно пытаешься вспомнить хотя бы направление.
— Не понимаю твоих метафор, братец. Но изящно. Только при чем здесь город?
— Ты специально поселилась среди генетически изувеченных мулов. Чтобы видеть их каждый день. Чтобы что-то постоянно напоминало тебе о том, что клетки, которые ты изучаешь под микроскопом, живут не сами по себе. Они — чья-то боль, чье-то тело, чей-то разум. Ты хочешь понять, отзывается ли в тебе на это твоя человеческая часть. Стимулируешь ее, как стимулируют омертвевшую мышцу разрядами тока.
— Ну и как, по-твоему? Мне удалось чего-то добиться?
— Я не знаю, — честно сказал Гензель. — Твое исследование длится уже семь лет. Но его результаты известны только тебе. И иногда мне даже кажется, что лучше пусть так и будет.
Гретель улыбнулась. Впервые за всю свою жизнь — без причины. Гензель ожидал, что она что-то скажет, но геноведьма ничего не сказала. Стала смотреть в поле, дыша в сложенные ладони.
Гензель рефлекторно бросил взгляд на хронометр: четыре минуты.
Стрелка почти успела отсчитать еще одну, когда Гретель нарушила установившееся молчание.
— Вопрос за вопрос, братец.
— Давай. — Он пожал плечами. — Отчего бы нет?
— Почему ты так боишься принять мою помощь?
— Глупый вопрос, — пробормотал он, с удивлением обнаружив, что этот неожиданный вопрос сумел зацепить его.
— Мою помощь как геноведьмы. Ты ведь знаешь, что твое тело несовершенно. Оно изнашивается, становится слабее и ненадежнее. Ты чувствуешь это. Но не принимаешь моей помощи. А ведь я предлагала ее тебе бессчетное число раз. Я могу обновить старые клетки твоего тела. Сделать кости прочнее, мышцы сильнее, кровь — горячее. Я могу сделать так, чтобы ты вновь ощущал себя двадцатилетним. Но ты всегда отказываешься. Почему?
Он передернул плечами — проклятая влага пробиралась даже под плащ. А может, это еще отчего-то его пронизало сыростью по спине.
— Ты же знаешь, я терпеть не могу всех этих магических штучек. Не хочу, чтобы кто-то лез внутрь моего тела и что-то там подкручивал и подпиливал.
— Но ты шел к цирюльнику, когда нужно было вырвать зуб.
— Это другое. Поверхностное. Мне тошно при мысли о том, что кто-то будет копошиться руками в моем фенотипе. Даже если это будешь ты. Малейшая ошибка — и… Не хочу очнуться с ушами летучей мыши или двухсотметровым кишечником.
— Гензель, — она серьезно взглянула ему в глаза, — я лучшая геноведьма в этом королевстве. Возможно, я лучшая геноведьма на всем континенте. Я не допускаю ошибок.
— Ну… — пробормотал он, отчего-то чувствуя себя неуютно даже на привычном месте у бруствера. — Человеческая природа. Умом я это понимаю, но страх сильнее.
— Человеческой природе свойствен инстинкт самосохранения, — безжалостно сказала Гретель. — Ты же противоречишь ему. Отказываясь от помощи геномагии, сознательно сокращаешь свою жизнь. Зачем?
— Едва ли я могу что-то еще добавить.
Гензель рассеянно вырвал травинку и думал уже направить ее в рот, когда заметил, что сок, капающий из нее, — ядовито-синего цвета. Он бросил травинку в сторону.
— Давай тогда я попытаюсь ответить за тебя, братец.
— Слушай…
— Ты боишься, но боишься не моей ошибки. Ты боишься пустить меня в святая святых — к тому, что составляет твою человечность. Ты боишься, что я изменю там что-то без твоего ведома. Отщипну несколько хромосом от твоих генетических цепочек. Из лучших побуждений или просто из любопытства. Я же геноведьма, верно? Для меня все вы — просто нагромождение клеток, за которыми ничего нет. Предмет для исследования. Материал. Кто по доброй воле пустит себе в душу геноведьму с ледяными пальцами?..
— А говорила, что не понимаешь метафор, — слабо улыбнулся он.
Ответная улыбка Гретель была бледной, едва заметной.
— Не понимаю, братец. Но я учусь.
Чтобы не сказать ничего лишнего, он вновь бросил взгляд на хронометр:
— Полдень.
— Я не вижу его. А ты?
— Нет. На поле Бруттино нет. И даже на подходах. Из этого оврага мы увидим его, даже если он попытается зайти со стороны.
— Он мог послать кого-то из своих подручных за пробирками.
— Нет, — убежденно сказал Гензель. — Только не он. Бруттино слишком жаден и недоверчив. Я не удивлюсь, если его компаньоны даже не подозревают об америциевом ключе. Именно поэтому он говорил с тобой наедине. И поэтому сам отправился на Мираклово поле, чтоб закопать пробирки в землю. Нет, он никого не пошлет. Будь уверена, сейчас он не находит места от беспокойства.
— Тогда почему его нет?
— Не представляю. Возможно, какие-то задержки в пути. Будем ждать. Кстати… — Гензель надеялся, что его голос звучит достаточно непринужденно. — Что мы будем делать дальше? Я имею в виду отдаленную перспективу. Я превращу Бруттино в кучу свежих углей, но это не решит проблемы ключа. Нам придется придумать, что делать с ним дальше. Папаша Арло — не слишком надежный хранитель.
Гретель тоже сорвала травинку, но не выбросила ее, а стала задумчиво наблюдать, как льется из нее синий сок.
— Понимаю, к чему ты ведешь. Не захочу ли я, когда америциевый ключ окажется у нас, завладеть им?
Гензель поморщился. Гретель никогда не стесняла себя лишними маневрами, как и тактом. Била точно в цель. Шла по кратчайшему пути.
— Ну, вроде того. Я подумал…
— Конечно. Я ведь геноведьма. И перспектива заполучить огромный склад генозелий, даже самых смертоносных на свете, должна парализовать мою волю. Это ведь настоящее сокровище, верно? Какая геноведьма откажется захватить его?..
— Какая? — спросил он.
Гретель разорвала стебель на две части и бросила под ноги.
— Не такая, как я. Возможно, я провела в Вальтербурге больше времени, чем требовалось. Я не буду претендовать на америциевый ключ, братец. Но и папаше Арло его не отдам. Когда все кончится, я выкину его в самое глубокое и ядовитое болото Гунналанда. И убежусь, что он оказался на самом дне.
Гензель потянулся и взъерошил ей волосы. Сырые и совершенно белые, они походили на липкий густой пух.
— Неужели тебе надоел Вальтербург, сестрица?
— Возможно, — сказала она, помедлив. — Возможно, мои исследования здесь и в самом деле затянулись. К тому же я не привыкла находиться столько времени на одном месте. Что ты скажешь, если мы заколотим дом и отправимся куда-нибудь?
— Куда?
— Не знаю, — искренне ответила она. — Куда-нибудь, как в старые добрые времена. В Руританию. В Офир. Или дальше.
— Вновь спать под открытым небом? Питаться черт знает чем? Перебиваться случайными контрактами?
— Мне казалось, тебе этого не хватает.
— Возможно, — сказал он, стараясь оставаться серьезным. — Но не исключено, что мне понадобится твоя помощь. Мои старые кости не выдержат долгого пути.
— Я что-нибудь придумаю, братец.
Он уже собирался отпустить какую-нибудь шутку, когда лицо Гретель внезапно окаменело. С него словно сдуло слабый румянец, обратив опять в мертвый холодный мрамор.
— Что такое? — встрепенулся он.
Его встретил взгляд пустых, как потухшие лампы накаливания, взгляд.
— Бруттино!
Он бросился к мушкету, проклиная все на свете и сдергивая со ствола тряпки. Торопливо повел стволом, отыскивая знакомую метку в земле, одновременно стараясь замедлить участившийся пульс, мягко и нежно коснулся бронзового спускового крючка… И ничего не заметил. Поле было пусто. Гензель повернулся к Гретель, ничего не понимая.
— Его все еще нет. Хотя уже четверть первого. Наверно, заблудился или…
— Нет, ты не понял. Бруттино. Помнишь, что ты сказал о нем?
— Э-э-э…
— Ты сказал, он жаден и недоверчив. — Гретель даже воспроизвела его интонацию, как механический фонограф.
— Да, кажется, так я и сказал. А что?
— Жаден. Жадность. Жадность — мать жестокости. Ты понял?
Он уставился на нее, ожидая какой-то подсказки, намека, объяснения.
— Ни единого слова, сестрица.
— «Жадность — мать жестокости». Это он сказал нам вчера, в трактире.
— Да, я помню. И что?
— То же самое я когда-то сказала ему. Точнее, не ему, но он при этом присутствовал. И хорошо запомнил.
Гензель хотел было поинтересоваться, что это за белиберда, но вдруг сам обмер.
— Театр Варравы, — враз окаменевшими губами пробормотал он. — Ты сказала это Варраве. Когда он хвастался своим новым приобретением.
Гензель вспомнил кабинет Варравы и закованного в цепи Бруттино. Мертвенный блеклый взгляд его янтарных глаз.
«Благодарю вас обоих за столь ценный дар».
Бруттино слышал все это. Он знал, кто продал его Варраве в обмен на америциевый ключ. Гензель ощутил, как враз похолодело в груди, точно кто-то закачал в легкие вместо воздуха чистый фреон. Это означало, что…
— Гензель! Куда ты?
Забыв про мушкет, он перескочил через бруствер и побежал к площадке взрыхленной земли с холмиком. Каждый шаг отдавался болью в правом бедре, а сердце колыхалось, будто расшаталось за долгие годы в своих креплениях и в любой момент могло ухнуть куда-то в желудок. Но Гензель не остановился, пока не добежал. И принялся горстями раскидывать холодную рыхлую землю. Он копал судорожно, срывая ногти и не замечая этого. Может, даже слишком поспешно. Гензель представил себе, что будет, если под пальцами вдруг хрустнет тонкое стекло и прямо ему в ладони хлынет смертоносное генозелье…
— Стой. — Оказывается, Гретель все это время была возле него. Она протянула бледные руки и стала ворошить землю, пока чего-то не нащупала. — Есть.
В ее пальцах были пробирки. Пустые пробирки. Пять пустых пробирок.
Впрочем, пятая не была пуста. В ней, аккуратно свернутая, лежала бумажная полоска, напоминая заспиртованного плоского червя в колбе. Гретель ловко выхватила ее тонкими пальцами и развернула.
Послание оказалось коротким, а буквы — неровными и неуклюжими, точно их выводила неумелая рука. Или недостаточно подвижная, с деревянными суставами.
«Не беспокойтесь. Я передам от вас привет папаше Арло».
— Мы обманули сами себя, — упавшим голосом сказал Гензель, роняя пустые пробирки в мерзлую землю. — Дьявольская деревянная кукла!
— Последовательность и осторожность, — пробормотала Гретель, все еще комкая в пальцах бесполезную бумажную ленточку. — Извини меня, братец.
— Брось. Мы с тобой оба оказались в дураках. Он с самого начала знал, что это мы! Наш маскарад его не провел! Так отчего… Ради анемии Фанкони, отчего он не убил нас еще там, в таверне? Ведь он мог растерзать нас на месте!
Гретель поджала губы.
— Хотел нас унизить. Мне кажется, он был обижен на нас. Из-за того, что мы чужими руками попытались с ним разделаться, чтобы завладеть ключом.
— И что с того?
— Растения не обижаются, Гензель. Растения могут защищать себя, растения могут уничтожать других, чтобы защитить свое жизненное пространство, растения могут даже лгать, мимикрируя под другие виды. Но обижаться и мстить… Это не очень характерно для растений.
Гензель ощутил желание впиться в деревянную голову зубами — так, чтобы аж стружка полетела…
— Забудь уже про свои научные изыскания! — крикнул он, топча сапогом пробирки. Те отозвались из-под подошвы звоном стекла. — Его природа давно уже не имеет значения! Дерево или человек — да какая, к черту, разница? У него ключ! И камин остался без защиты. Мы сами оставили его без защиты. Двенадцать часов, целую вечность назад. Все кончено, ты понимаешь? Он уже добрался до него, твой чертов Бруттино! Мы обманули сами себя! В его лапах — арсенал, по сравнению с которым последняя генетическая война покажется эпидемией гриппа! А тебя заботит только то, что может испытывать разумное дерево?
— Это важно. Мне кажется, я стала лучше понимать, что он такое. И чего хочет. Но я хотела бы ошибаться.
— Хватит! — Гензель резко махнул рукой и, повернувшись, зашагал к брошенному мушкету. — План «последовательность и осторожность» можно бросить. Мы возвращаемся к моей тактике.
Гретель едва за ним поспевала. Судя по тому, как поникли ее плечи и спотыкались ноги, вся усталость последних дней мгновенно навалилась на нее, а спина геноведьмы была недостаточно прочной, чтобы выдерживать подобную нагрузку.
— Что толку? — вяло спросила она. — Камин уже разграблен и пуст. Мы опоздали. В этот раз, боюсь, опоздали слишком сильно, братец.
— Я знаю, — ответил он. — Но, может, мы найдем хоть что-то. Следы, намеки… Четыре куклы и груда склянок не могут раствориться в городе без следа. Если они захотят сбыть награбленное на черном рынке, это тоже можно будет отследить. Нам надо в Вальтербург, сестрица, и чем быстрее, тем лучше! Вдруг еще не все потеряно?
— Или же потеряно гораздо больше, чем мы думаем, — произнесла она за его спиной.
Хибара старого шарманщика не изменилась, гниль, жившая в ее щелях и перекрытиях, была бессильна уничтожить стены за столь короткое время их отлучки. Но все же Гензелю показалось, что обиталище папаши Арло выглядит не так, как прежде. Более заброшенным и зловещим. Игра воображения, не более того, но Гензель всегда доверял своей интуиции, своему акульему чутью. Акулы не очень сведущи в геномагии, но неприятности они чуют за милю. От хибары старого шарманщика с самого начала пахло серьезными неприятностями. Как и от всей этой истории.
— Держись сзади, — коротко приказал он Гретель, не оборачиваясь. Руки крутанули мушкет, висевший стволами вниз, и тот вскинулся, уставившись на входную дверь.
Гретель не собиралась спорить — она тоже понимала, что геномагия кончилась.
В этот раз Гензель не церемонился с дверью, от удара плечом она с хрустом переломилась пополам и беспомощно повисла на петлях. Гензель готов был всадить пулю в того, кто окажется за нею, даже палец приятно заныл, но почти тут же был вынужден расслабиться на спусковой скобе.
В каморке папаши Арло никого не было.
Ни самого шарманщика, ни кого бы то ни было еще. Лишь ветхая, обильно украшенная плесенью мебель, ржавый синтезатор в углу да слепые, заросшие паутиной окна. Фальшивый камин остался на своем месте. Масляная краска, которой его когда-то старательно выписали, поплыла от влажности и жара, отчего камин давно утратил какое-либо сходство с настоящим, да и натянутый холст необратимо потемнел.
— Их нет, — констатировала Гретель от порога. — Но… почему?
— Может, они не очень-то спешат? — усмехнулся Гензель, все еще не выпуская мушкета и озираясь. — Хотел бы я знать — куда подевался папаша Арло? Разве ты не наказала ему присматривать за камином?
Гретель нахмурилась.
— Да. И он пообещал, что будет караулить его, пока мы не вернемся.
— Видимо, он решил досрочно сдать свою вахту.
Гензель, сам не понимая отчего, уставился на фальшивый камин. Ужасная безвкусица, не имеющая ничего общего с хорошим гобеленом. Надо быть человеком удивительной выдержки, чтоб прожить всю жизнь, созерцая подобную мазню.
— Я не понимаю, братец, — Гретель тоже обводила комнату удивленным взглядом, — почему здесь никого нет? Ни старика, ни Бруттино…
— Не знаю, — признался он. — У деревяшки была в распоряжении вся ночь. Но холст даже не порван… Что же до Арло, вполне вероятно, что он предпочел взять ноги в руки и смыться подальше, едва представилась возможность.
— Он мог сбежать гораздо раньше. В тот же день, когда пропал ключ.
— Угу, — отозвался Гензель, все еще изучая натянутый холст. — Больше жизни любил своего Бруттино, и это и стало его главной проблемой.
— Что ты имеешь в виду, братец?
— Ты ведь знаешь, что у акул превосходное чутье, особенно по части крови?
— Я знаю твою генокарту наизусть. К чему ты ведешь?
Гензель улыбнулся, повернувшись к холсту спиной. Мушкет вновь оказался на плече, но в этот раз три его ствола равнодушно изучали осевший трухлявый потолок.
— В данный момент я явственно чувствую два запаха. Первый — запах крови Арло. Ее совсем немного, но она свежая. Возможно, именно тут его ударили, чтобы лишить чувств и унести с собой.
Гретель насторожилась.
— Значит, он не сбежал. А второй?
Гензель вздохнул.
— А еще здесь чертовски несет псиной…
Все еще стоя спиной к фальшивому камину, Гензель быстро рванул мушкет за ремень, поднимая ствол. Оружие лежало в его руках задом наперед, ствол смотрел за спину, так что на спусковой крючок пришлось нажимать большим пальцем.
Отдачей мушкет едва не вырвало у него из рук — слишком уж непривычная позиция для стрельбы. Но Гензель знал, что не промахнулся.
Холст с фальшивым камином лопнул, из-за него, вереща и завывая, в облаке тлеющей шерсти вывалилось огромное существо с непомерно большой головой, похожей на деформированную собачью морду. Лоскуты, еще недавно бывшие целым холстом, тоже тлели, распространяя по всей хижине тягучий запах, похожий на вонь горелого тряпья. В сочетании с запахом паленого мяса и шерсти он был особенно невыносим.
Существо скрежетало зубами и шаталось, прижимая гипертрофированные лапы к груди, там, где светилась, подобно углю из самого настоящего камина, глубокая дыра в обрамлении вздувшейся багровой кожи. Зажигательная пуля легко пробила грудину и, даже застряв во внутренностях человека-пса, продолжала гореть, причиняя, должно быть, невыносимую боль.
Антропос даже не помышлял о нападении. Его шерсть трещала и тлела, к ней прилипли горящие лохмотья холста, из оскаленной пасти, способной запросто откусить Гензелю голову, доносился лишь истошный, совсем не человеческий вой.
Гензель поднял мушкет, удерживая его одной рукой, и всадил пулю прямо в пасть, аккурат меж зубов.
Антропос захлебнулся своим воем. Тяжелая пуля с термической смесью лопнула у него в пасти, выбив неровный кусок затылочной кости и мгновенно превратив содержимое черепа в прилипшую изнутри сажу. Человек-пес выгнулся всем телом и умудрился сделать еще два или три шага, прежде чем мягко повалился на пол, раскинув лапы. Шерсть его все еще продолжала тлеть, отчего тесная каморка папаши Арло наполнялась удушливым смрадом. Все еще горящий огонь поедал его потроха с жадным шипением.
— Только очень недалекие люди прячут ценные вещи за нарисованным камином, — пояснил Гензель, вставляя в опустошенные стволы пули и засыпая на полку порох. — Но только круглые идиоты прячутся за ними сами.
Теперь, когда от фальшивого камина остались лишь лоскуты ткани, стало видно, что он скрывал: зловещий темный проем, из которого веяло ощутимым даже рядом с догорающим Антропосом холодным сквозняком.
— Эффектно, — нехотя обронила Гретель, косясь на брата. — Но слишком театрально. Не обязательно было пытаться произвести на меня впечатление. Это твое «несет псиной»…
Она поморщилась. Так невозмутимо, точно речь шла о неудавшемся карточном фокусе. Гензель не удержался, ухмыльнувшись.
— Чего плохого в театре? К тому же это не меня сгубила любовь к паршивым декорациям!
На то, чтобы засыпать порох и забить пыжи, у него ушло полминуты. Очень долгие полминуты, тянувшиеся бесконечно, несмотря на подгоняющие их быстрые удары сердца. Наконец мушкет был вновь заряжен. Гензель поправил его, проверил, легко ли выходит из ножен кинжал, и шагнул в сторону темного проема. Гретель устремилась было за ним, но вынуждена была остановиться, когда остановился он.
— Извини, сестрица, но тебе туда вход заказан.
Прозрачные глаза полыхнули прозрачным же огнем, по сравнению с которым пламя, унесшее жизнь незадачливого Антропоса, могло показаться едва теплым. А вот голос, напротив, был ледяным.
— Позволь напомнить тебе, братец: там, за дверью, склад, битком набитый генетическими зельями. А я, если ты помнишь, геноведьма.
— Со своей стороны могу напомнить, что там — три опытных убийцы, — сказал Гензель. — Каждый из которых, подозреваю, может дать мне изрядную фору. Или ты хочешь, чтобы мне пришлось следить еще и за твоей собственной головой?
Плечи Гретель поникли.
— Там тысячи пробирок, — все еще упрямо сказала она. — А ты ни черта не понимаешь в них.
— Мне и не надо, — легко ответил он. — Я обещаю, что постараюсь ничего не разбить. А если и разобью… Едва ли ты отругаешь меня, как в детстве, когда я случайно разбивал твои колбы.
— Если ты что-то разобьешь, никто уже не будет никого ругать, — обронила Гретель.
— Ты будешь самым ворчливым головастиком на свете, — пробормотал он. — Единственное, что мне надо знать, сестрица, — это что располагается дальше. Не хотелось бы принимать бой на незнакомой территории.
— Длинный тоннель, метров пятьдесят. А дальше старая заброшенная лаборатория. И в ней саркофаг.
— Никогда не видел саркофагов. На что он похож?
— На стеклянный купол. Он полностью герметичен, все образцы хранятся там. А еще там бронированная многотонная дверь, которая закрывается лишь снаружи. Если тебе удастся запереть их всех внутри саркофага…
— Не уверен, что они предоставят мне такой шанс. Только не Бруттино. Будут какие-нибудь рекомендации, кроме как стараться не бить посуду?
— Кажется, ты недостаточно серьезно относишься к этому, братец. Не страшно, если пробирка разобьется внутри запечатанного саркофага. Но если снаружи…
— Да понял я.
Гензель ступил в темный проем. Холодный сквозняк нес запах потревоженной пыли. И еще крови. Свежий, будоражащий, пьянящий запах. Акула внутри Гензеля беспокойно заворочалась.
Остановился он лишь раз, когда услышал голос Гретель:
— Братец…
— Чего?
— Пожалуйста, не стань головастиком.
Тоннель закончился на удивление быстро. Это были самые короткие пятьдесят метров в жизни Гензеля. И самые тревожные. Беспокойные мысли обжигали его, то и дело прикасаясь к сознанию ядовитыми медузами.
Они все еще там, Бруттино, Синяя Мальва и Перо. Они не ушли, хотя времени у них было в избытке. Почему? Уж не потому ли, что еще не сочли свое представление законченным? Может, он сам, Гензель, является необходимым действующим лицом для последнего акта?
От последней мысли нехорошо похолодело в животе, будто подземный сквозняк, не встречая сопротивления, проник прямиком в полость тела.
Бруттино, без сомнения, хитер и ловок. И времени у него было более чем достаточно. Он мог успеть обчистить коллекцию папаши Арло, оставив лишь пустые полки, и раствориться в Вальтербурге со своими подручными. Однако не сделал этого. Словно насмехаясь, остался на месте преступления, замаскировав следы вторжения и похитив папашу Арло. Что это, холодная нечеловеческая логика? Или простое желание мести?
Гензель сплюнул на каменный пол. Уже скоро он это узнает. Главное, чтобы не подвело тело. Постаревшее, давно утратившее юношескую силу, оно едва ли годилось, чтобы столкнуться с тремя опытными головорезами одновременно. Оно может дать слабину — как раз в тот момент, когда это непозволительно. Глупо на него пенять, это тело помогало Гензелю три десятка лет, но при всех своих достоинствах у него был существенный изъян — оно было человеческим. Любые человеческие ткани стареют и утрачивают эффективность. Снижается выносливость, понижается темп метаболизма, падает скорость нейронной реакции. По меркам Гунналанда, он, тридцатипятилетний, давно был стариком. Что он противопоставит трем юным, знающим себе цену хищникам, прямиком сошедшим с забрызганной кровью арены? Кроме своего акульего упрямства да порядком поредевших зубов?..
Когда Гретель говорила о старой лаборатории, Гензель представлял подобие ее собственного вальтербургского рабочего кабинета. Небольшое помещение, уставленное сложной и зловещей геномагической техникой. Блестящие ртутью змеевики, пыхтящие автоклавы, тонкие прозрачные жилы гибких шлангов, равномерный рокот вытяжных шкафов…
Лаборатория, обнаружившаяся за фальшивым камином, едва ли выдерживала подобное сравнение. Она давно пребывала в запустении, но не в обычном для забытых вещей запустении, от которого все покрывается налетом пыли, а в ином, навевающем мысли об окоченевшем, позабытом всеми трупе.
Лаборатория давно была мертва. Сушильные шкафы выглядели гигантскими надгробиями, занесенными тысячелетним слоем праха. Резиновые кожухи электропечей и термостатов полопались от времени, превратившись в лохмотья. Высокие, как колокольни, смесители покосились и во многих местах потрескались. Даже пузатые чаны центрифуг выглядели проржавевшими касками, внутри которых не осталось ничего, кроме мелкой трухи. Стенды с неизвестной Гензелю аппаратурой слепо смотрели на него навеки погасшими индикаторами. На полу валялись брошенные грудой ржавые баллоны вперемешку с опустошенными контейнерами и пробирками.
Кладбище геномагического оборудования. Настоящий некрополь. Неудивительно, что папаша Арло предпочитал свою ржавую шарманку, — у него не хватило бы жизни, чтобы привести в порядок здешний инструментарий.
Тем диковиннее на фоне этого запустения выглядел саркофаг.
Он походил на перевернутую хрустальную чашу, причем такого размера, что ею без труда можно было вычерпать небольшое озеро. Только кто-то вместо этого положил ее вверх дном прямо посреди лаборатории. Ее прозрачные своды казались обманчиво хрупкими, но Гензель чувствовал, что, даже если разрядит в стену саркофага все три ствола, едва ли добьется хотя бы маленькой отметины. Тот, кто строил этот саркофаг, знал, что его своды должны выдержать любой штурм.
Внутри стеклянной полусферы видны были тускло блестящие стойки, стоящие ровными рядами, что-то вроде непомерно хитрых вешалок с металлическими зажимами. Некоторые из них, как сразу разглядел Гензель, были пусты, в других виднелись головки пробирок. И вновь вернулся неприятный холод в животе — пустых гнезд было на удивление много. Больше, чем должно было быть.
Гензель стал медленно приближаться к распахнутой пасти саркофага, обходя покосившиеся лабораторные столы и выключенные агрегаты, о чьем назначении не имел ни малейшего представления. Бронированная дверь даже на вид казалась неподъемной, но могучие сервомоторы откатили ее по специальным направляющим в сторону. Мгновением спустя Гензель увидел и ключ.
Америциевый ключ торчал из специального шкафа на внешней стороне саркофага. Обычный ключ тусклого металла, ничем не примечательный, разве что с необычной головкой. Чья-то рука уже повернула его, распечатав вход, да так и оставила торчать. Приближаясь и держа на изготовку мушкет, Гензель машинально оценил устройство стеклянного купола. Может, внутри него и было царство геномагии, но запирающие устройства относились к куда более прозаической сфере простой механики.
Судя по всему, строители саркофага не хуже своих потомков понимали, что именно заточено за хрупким на вид стеклом. Понимали они и то, как иной раз бывает важно вовремя захлопнуть дверь. Поэтому саркофаг снаружи был оборудован тревожной кнопкой, хорошо выделяющейся на матовой поверхности управляющего пульта. Гензель не сомневался, что стоит нажать на нее — и бронированная дверь встанет на свое место, герметично запечатав саркофаг до тех времен, пока кто-то вновь не повернет ключ в замке.
Гензель кисло улыбнулся. Похвальная дальновидность.
А еще сквозь преломляющее и причудливо искажающее внутренности саркофага стекло он увидел нечто, приковавшее его внимание. Что-то, очертаниями напоминающее человеческую фигуру. И мгновенно подобрался, перестав дышать. Шаг, еще шаг, еще полшага…
Теперь, с расстояния в несколько метров, он отчетливо видел стоящего в саркофаге человека. Или чего-то, что могло быть человеком на первый взгляд. Бесшумно ступая, Гензель медленно обходил стеклянный купол, пока не заглянул краем глаза в приоткрытую дверь.
Человек стоял полуметром левее и не был виден, зато сделалось видно другое. То, от чего Гензель ощутил тревожное покалывание под ребрами.
Разгадка пустующих гнезд оказалась проста. На полу саркофага стояло несколько невзрачных на вид дорожных котомок, доверху наполненных мерцающими продолговатыми пробирками. Кто-то не один час доставал из гнезд пробирки и складывал их в котомки, так запросто, будто эти хрупчайшие на вид сосульки были не опаснее, чем обычные леденцы. Гензель ощутил, как немеют легкие при одной лишь мысли о том, сколько генодемонов спит в этих крошечных хрустальных гробах.
Человек, стоявший внутри саркофага, не спешил выходить с украденным. Возможно, он считал, что в котомки уместится еще немного, и неспешно собирал урожай, уверенный в том, что времени в запасе еще полно. Гензель все еще видел его преломленный стеклом неподвижный силуэт. И чувствовал, как улыбка из винно-кислой делается по-акульему торжествующей.
Очень опрометчиво с вашей стороны, господин Бруттино, очень недальновидно, мысленно усмехнулся Гензель. Вы, как и прежде, видимо, не доверяете своим подручным в важных делах, предпочитая полагаться лишь на себя. Не решились впустить их в святая святых, отпираемую америциевым ключом. Решили самолично наполнить котомки генозельями, оставив на страже верного пса.
Все-таки кукла. Коварная, расчетливая, кровожадная, но все-таки деревянная кукла.
Гензель сделал еще один бесшумный шаг, оказавшись в полуметре от бронированной двери. Нет, он не станет стрелять. Только безумец разрядит мушкет, находясь во вместилище всех человеческих кошмаров. Уцелевшие пробирки разнесет в куски, их содержимое мгновенно окажется в воздухе, и… Это не входит в планы Гензеля. Он попросту хлопнет по тревожной кнопке на панели, и сервомоторы запечатают вход в саркофаг, навеки замуровав Бруттино внутри, наедине со своим богатством, ну а ключ так и останется торчать снаружи.
Сколько может прожить существо, сотворенное из дерева? Кажется, Гретель говорила, что жизненный цикл Бруттино неведом даже ей. Как знать, быть может, впереди у Бруттино еще сотни лет жизни. Его ткани, лишенные слабого и недолговечного человеческого геноматериала, стареют куда медленнее. А деревья живут очень долго.
«Только едва ли ты обрадуешься своему долголетию, оказавшись запертым в стеклянной ловушке вместе с несметным богатством, которое так и не успел вынести, — подумал Гензель, готовясь сделать последний рывок к кнопке. — Придется тебе смириться с тем, что ты так и останешься единственным актером в лишенном зрителей театре. А уж о том, чтобы его никто и никогда не нашел, как и сам ключ, я позабочусь…»
Последний шаг Гензель сделал почти мгновенно. Протянул руку к кнопке, одновременно пытаясь найти взглядом глаза Бруттино. Безотчетная глупость, конечно. Но ему в этот последний миг хотелось знать, появится ли в тусклых янтарных кругляшках его глаз что-то человеческое? Злость? Отчаяние?..
Пальцы коснулись кнопки, но так ее и не нажали. Лишь бессильно скользнули по ее рифленой поверхности.
Бруттино не было в саркофаге. Человеческая фигура, обнаружившаяся там, по всем признакам не была деревянной. В деревянном теле могут течь древесные соки, но там не течет человеческая кровь. А крови здесь было достаточно — и на самом человеке, и на полу под ним.
Человек висел на зажиме для пробирок, точно уставшее и измочаленное огородное пугало. Он был мертв, кровь давно запеклась на многочисленных порезах и ранах, которыми сплошь было усеяно его тело, и этого не скрывали клочья одежды. Даже вместо глаз на лице располагались два симметричных алых провала. Гензель узнал мертвеца лишь по остаткам седых волос на голове.
— Папаша Арло… — прошептал он, все еще безотчетно гладя пальцами кнопку.
— Между прочим, очень неприятный и невежливый господин, — громко произнес женский голос у него за спиной.
Гензель мгновенно обернулся. Мушкет слепо дернул стволами, рыская из стороны в сторону и пытаясь нащупать цель. Но цель даже не пыталась скрыться. Она демонстрировала себя со всей возможной откровенностью. Даже настойчиво, учитывая, что разделяло их едва ли более десяти метров.
— Очень, очень невежливый господин, — повторила Синяя Мальва с обворожительной улыбкой, покусывая кончик своей легкой полупрозрачной перчатки. — Совершенно не способен развлечь даму разговором. И еще ужасный грубиян. Вы не поверите, милый Гензель, как долго мне пришлось учить его хорошим манерам. Между прочим, без кошачьих усов вы выглядите симпатичнее.
Синяя Мальва сидела на лабораторном столе, заложив ногу за ногу, совершенно не боясь запачкать своего небесно-голубого платья. Удивительно, в любой обстановке она выглядела чистой и свежей — возникало ощущение, что грязь попросту не может к ней пристать, это Гензель заметил еще в кабинете «Трех трилобитов». Недавнюю актрису словно обтекало прозрачное силовое поле, не пропускавшее ни малейшей соринки. И Гензелю отчего-то очень не хотелось в этом поле оказаться.
Угловатый силуэт печального паяца, господина Перо, возвышался неподалеку, своей мертвой неподвижностью напоминая скорее предмет обстановки, чем живое существо. Глаза его были так блеклы, а лицо столь невыразительно, что сложно было даже понять, видит ли он Гензеля. И если видит, испытывает ли при его виде хоть какие-нибудь чувства, кроме смертной скуки.
Но Гензеля интересовал не господин Перо и не Синяя Мальва. А тот, кто непринужденно расположился за ними.
Тусклые желтые глаза Бруттино смотрели на него из темноты. Не глаза, а кусочки застывшего янтаря, холодного и твердого, несмотря на свое солнечное свечение. Деревянный мальчишка спокойно созерцал Гензеля, подперев рукой подбородок: очень человеческая поза. Но человеком он не был. Дерево. Хищное, смертоносное, злое дерево, как деревья из Железного леса, полные коварных ловушек и яда. Спокойное, хитрое, уверенное в себе дерево, которое научилось у людей всему необходимому. Теперь оно наблюдало за тем, как Гензель беспомощно водит мушкетом из стороны в сторону.
— Вы пришли один, господин Гензель? — с искренней теплотой спросила Синяя Мальва. — Я просила Антропоса проводить вас, но, видимо, он совсем забыл про мое поручение. Как и все мальчишки, он совершенно безответственный! Я обязательно накажу его, когда он вернется.
— Не думаю, что он вернется, — негромко сказал Гензель, раздвигая для устойчивости ноги — на тот случай, если придется стрелять из трех стволов сразу. — Разве что если вы захотите набить из него чучело. Впрочем, я бы не стал этого делать. По-моему, от него будет ощутимо попахивать…
Огромные синие глаза Мальвы широко распахнулись.
— О нет! Вы же не хотите сказать, что обидели бедного Антропоса? Неужели вы способны на такое, сударь Гензель? Я-то думала, вы воспитанный юноша! Неужели у вас нет сердца? Как вам не стыдно! Вы, оказывается, обладаете дурным и злым характером!
Синяя Мальва была обворожительна даже в гневе. И Гензель, взглянув на нее, обнаружил, как тяжело вновь вернуть взгляд к Бруттино. То самое силовое поле, что окружало девушку, обладало, казалось, способностью примораживать к себе взгляд. Она была слишком прекрасна и невинна для убийцы. Она выглядела цветком, который кто-то то ли по ошибке, то ли из злого умысла воткнул в букет с уродливыми выродившимися соцветиями. Но даже в их окружении она оставалась прекрасной — юный и свежий цветок, разливающий вокруг себя удивительно тонкий, но явственный аромат. Который, казалось, будет ощутим даже посреди поля боя, заваленного разлагающимися телами.
Гензель отчего-то не мог перестать смотреть на Синюю Мальву. Она и прежде, во времена их короткой предыдущей встречи казалась ему крайне привлекательной и эффектной, несмотря на свое пристрастие к странным, нарочито детским нарядам и лентам. Но сейчас ее бездонные синие глаза сделались невероятно притягательны. Их хотелось рассмотреть. И Гензель непременно это сделал бы, если бы не приходилось держать на прицеле Бруттино и Перо.
Синяя Мальва вдруг соскочила со стола, на котором сидела. Так легко и изящно, что в воздух не поднялось ни единой пылинки. Она сделала шаг по направлению к Гензелю. Затем еще один, ноги в туфлях с большими бантами беззвучно ступали по грязному полу. Гензель готов был спустить курок, стоило лишь кому-то из этой троицы пошевелиться, но в этот момент палец отчего-то прирос к спусковому крючку, потеряв чувствительность.
Он представил, как мушкет выбрасывает из себя грязно-серый пороховой язык, как крошечная фигура в воздушном платье превращается в ворох смятых и тлеющих лент, как огромные синие глаза закатываются, делаясь быстро высыхающими и теряющими прозрачность сферами, в которых не осталось уже ни капли волшебства…
— Стой на месте, — процедил Гензель сквозь зубы, ощущая, до чего неудобно становится удерживать привычный мушкет. Ложе налилось тяжестью, стволы клонило к земле, прицел вдруг безобразно начал прыгать — так, что не попасть в силуэт и с трех шагов…
Синяя Мальва улыбнулась, глядя ему в глаза. И Гензель ощутил, как все его естество устремилось навстречу этому взгляду, а тело вдруг скрутило в спазме страсти, горячем и липком, как тяжелый приступ лихорадки. Она была прекрасна. Он ощутил ее запах — необычайно тонкий, необычайно мягкий — и понял, что теряет дыхание. Она была не просто прекрасна, она была притягательна, как глубокое синее озеро, полное холодной свежей воды, посреди пустыни. Озеро, не имеющее дна. В воду которого достаточно лишь раз окунуться, чтобы отринуть все прочие мысли, суетные, глупые, злые…
— Не подходи.
«Да меня же трясет, — понял он, на миг вернув ясность сознания, но не в силах отвести взгляда от приближающейся девушки. — Святой Вавилов, я точно мальчишка, впервые увидевший юбку… Почему я раньше не замечал, до чего она удивительна?»
Синяя Мальва смотрела на него, улыбаясь уголком губ. Губы у нее были тонкими, но удивительно красиво очерченными. Даже на вид они казались необычайно мягкими, податливыми и тоже приятно прохладными. Когда эти губы размыкались, чтобы обронить слово, Гензель смотрел на них как завороженный.
— В чем дело, сударь Гензель? — осведомилась Синяя Мальва с подобием насмешливой укоризны. — Отчего это вы так застыли? Плохо себя чувствуете? Мне кажется, урок вежливости пойдет вам на пользу!
Ее туфельки оставляли за собой симметричные аккуратные отпечатки. Только с трудом переведя на них взгляд, Гензель ощутил, что овладевший им морок, сделавший тело ватным и непослушным, на миг отступил.
— Эй, Бруттино! Лучше убери свою куклу! Иначе тебе может не хватить пустых пробирок, чтобы собрать ее мозги!
Синяя Мальва надула губы, словно обиженная девочка. Несмотря на то что обида ее казалась по-детски искренней и даже недоумевающей, аура сексуальности, захватившая в свое магнитное поле Гензеля, от этого не ослабела. Напротив, сделалась еще сильнее. Настолько, что зубы Гензеля заскрипели сами собой. Это было противоестественно, это было странно, но он ничего не мог с собой сделать — его сердце делалось мягким, как тающий медовый леденец, при одном лишь взгляде на девушку в кружевном.
— Мальва, стой.
Скрипучий голос был тих, едва расслышать, но Синяя Мальва мгновенно остановилась.
— В чем дело, Брутти? Разве ты не хочешь, чтобы я поучила господина Гензеля хорошим манерам?
Деревянная кукла медленно кивнула.
— Поучишь. Чуть позже. Кажется, он хочет что-то спросить.
— Но ты отдаешь его мне? — Ее тон стал просительным. — Ты обещал!
— Отдам. Уже скоро. О чем ты хочешь спросить, Гензель?
Гензелю пришлось сосредоточиться, чтобы вспомнить, как он здесь оказался и кто напротив него. И приложить излишне много сил, чтобы задать простой и, в сущности, совершенно бесполезный вопрос:
— Зачем ты убил старика?
Бруттино не шевельнулся. Его скрипучий голос разносился по лаборатории так легко, что Гензель мог бы расслышать его и на другом конце. Сейчас он казался вкрадчивым, приглушенным — так скрипит старая дверь на ветру.
— Папашу Арло? Удивительно не то, что я убил его, а то, что я терпел его целых семь лет. Даже не представляешь, как меня подмывало разбить его пустую голову…
— Он ухаживал за тобой, как за сыном!
— Как за комнатным цветком. — Бруттино медленно провел узловатым пальцем по своему острому носу. Показалось Гензелю или нет, но нос выглядел испачканным в чем-то темно-красном. — Вот кем я был для него. Комнатным цветком для уставшего старика. Ходячим парадоксом. Генетической аномалией. Уродцем в пробирке. Но сыном… Я никогда не был для него сыном.
— Он любил тебя, ты, рассохшийся чурбан!
Бруттино улыбнулся, обнажив свои темные неровные зубы, похожие на тупые деревянные шипы.
— Любовь. Конечно. Для вас, людей, любовь — это что-то осязаемое, зримое, существующее. Хотя вы давно должны были понять, что любовь ваша — всего лишь выжимка гормонов, впрыснутая в кровеносную систему. Простая и бесхитростная химическая реакция. Едва ли тебе известно все о любви папаши Арло. О той любви, что доставалась его деревянному сыну, а не о той, что вы знаете с его слов. Могу лишь сказать, что у нее было много форм. Некоторые из них были оскорбительными, некоторые неудобными, а некоторые, если бы я обладал нервной системой, можно было назвать весьма… нелицеприятными. Впрочем, как может деревянная кукла судить о такой вещи, как человеческая любовь? Слишком загадочна для деревянного чурбана, слишком сложна. Ведь так?
— Я не тот человек, которому стоит рассказывать о плохом детстве.
— Рассказать тебе, какие опыты ставил надо мной папаша Арло? Знаешь, у него была богатая для старика фантазия. Между прочим, не все его опыты можно было отнести к геномагии. — Деревянная кукла едко усмехнулась. — Отнюдь не все. Но я терпел. Семь лет, Гензель. Семь лет. Это очень большой срок даже для того, кто не чувствует боли. Но все должно было измениться. И все изменилось.
Синяя Мальва, все еще очаровательно надув губы, вернулась к своему месту. Слушая Бруттино, она стала заплетать ленту в косу, время от времени бросая на Гензеля взгляд, и от каждого такого взгляда его пронзало молнией через колени и живот, то ли мягкой, как тополиный пух, то ли острой, как зубья цепной пилы.
— Мне плевать, даже если старый болван выстругивал из тебя зубочистки, — резко сказал Гензель, стараясь дышать ровно и размеренно, глядя только на Бруттино. — Это ваше частное дело. Но вот нарисованный камин…
Бруттино улыбнулся на человеческий манер, отчего его деревянное лицо стало выглядеть еще неестественнее.
— Мое наследство. Не переживай, я распоряжусь им мудро. Я знаю цену хорошим генозельям, особенно такой коллекции. Это ведь не просто жуткие бактерии, разносчики нейрогриппа. Это настоящие произведения искусства.
— Что ты с ними сделаешь?
— У меня есть обширные планы, Гензель, касательно этих стеклянных малышек. Ты ведь представляешь, сколько они могут сейчас стоить? Изысканные, уникальные генетические зелья, каждое со своим неповторимым эффектом, выращенные в незапамятные времена геномагами прошлых поколений…
— Золото?
— Тонны золота. Эти зелья всегда найдется кому продать. Ушлым дельцам, геномастерам-самоучкам, завистливым аристократам, неудавшимся революционерам, старым генералам и просто психопатам. Это ведь прорва золота, а цену золоту знает даже последнее дерево. Думаю обзавестись графским титулом, построить замок, завести карету и слуг-квартеронов в ливреях… Все деревья в лесу будут мне завидовать. А на гербе у меня будет, наверно, дубовый лист… Не слишком откровенно, как ты думаешь? Может, лучше что-то нейтральное?..
Он смеялся, хотя его скрипучий голос оставался предельно серьезным. Дерево насмехалось над человеком, разглядывая его своими невыразительными, цвета загустевшей древесной крови, глазами. Ствол мушкета, направленный прямо в деревянное лицо, ничуть его не смущал.
— Ты хочешь не этого, — только и сказал Гензель.
— Что ж, допустим, — неожиданно легко согласился Бруттино. От его скрипучего голоса Гензеля уже начало мутить. — Возможно, это лишь моя фантазия. Когда живешь в человеческом обществе, немудрено нахвататься человеческих же фантазий, они липнут, как кишечные паразиты… Нет, я конечно же не стану ничего продавать. На самом деле я поступлю иначе. Догадываешься как?
— Нет.
— Завтра воскресенье, — задумчиво произнес Бруттино. — В Вальтербурге базарный день. На рыночной площади, как обычно, будет уйма народу. Раньше я часто наведывался туда по воскресеньям. Обычно для того, чтобы срезать потихоньку кошельки у зазевавшихся мулов. Непростая была работенка. Не так-то легко подобраться поближе к чужому карману, когда ты выглядишь как ожившая древесная коряга. Когда над тобой потешаются, стоит лишь тебе появиться на людях. Норовят поджечь смеха ради или швыряют в реку, чтобы посмотреть, как хорошо ты держишься на воде. Обычные ярмарочные развлечения.
— Одолела ностальгия? — прищурился Гензель.
Деревянная кукла смерила его ничего не выражающим взглядом.
Сидящая без движения, она напоминала брошенного в угол болванчика, чьи члены больше не поддерживаются прочными нитями.
— Знаешь, Гензель, некоторые гены сближают людей. Левши и альбиносы, больные меланизмом или гетерохромией — они ощущают что-то вроде общности. Но на один-единственный ген это не распространяется. На ген уродства. Уроды презирают друг друга. И чем ты уродливее, непохожее на других, тем больше унижения и позора тебе предстоит вынести. Наверно, это тоже один из законов геномагии.
— Что ты хочешь сделать с пробирками?
— Завтра воскресенье. — Деревянная кукла издала негромкий трескучий вздох. — Завтра я впервые пойду на базарную площадь не для того, чтобы брать чужое, а для того, чтобы раздавать.
Гензель ощутил, как напряженный на спусковом крючке палец дергается от нервной дрожи. Как у сущего старика, вот ведь…
— Что ты имеешь в виду?
Вопрос был излишним. Гензель и так знал. Что-то внутри него знало. Начиная с той секунды, как он увидел деревянного человека, созерцающего свое богатство, заключенное в хрупких стеклянных контейнерах.
— Завтра в полдень я вывезу все это на рыночную площадь. Люди любят зрелища. Я покажу им целый зоопарк. Тысячи хищников, запертых в стеклянных клетках. И разобью их вдребезги. — Голос Бруттино треснул, сухо, как сломанная ветвь. — Эти невидимые звери, должно быть, ужасно устали находиться в стеклянном плену столько лет. Как я устал под бдительной отцовской опекой папаши Арло. Я окажу им услугу. Выпущу их на свободу.
Гензель никак не мог спустить курок. Расстояние до Бруттино было невелико, мушкет был исправен, порох на полке оставался сухим, но его собственное тело под невинным и одновременно развратным взглядом Синей Мальвы стало вдруг непослушным, ненадежным. Кроме того, он знал, насколько проворно это уродливое деревянное существо. Двадцать шагов — слишком большое расстояние для верного выстрела. Стоило Синей Мальве взглянуть на него из-под пушистых синих ресниц, сердце нарушало привычный размеренный ритм, на лбу высыпала ледяная испарина, прицел начинал отвратительно прыгать.
Как чертов мальчишка… Гензель кусал губы, но ничего не мог с собой поделать. Синяя Мальва являла собой оружие совсем иного рода, с каким ему еще не приходилось сталкиваться и против которого у его тела не было никакой защиты. Способность трезво мыслить возвращалась к нему лишь на несколько секунд, и этого было явно недостаточно. Должно быть, в ее теле есть какие-то железы, способные выбрасывать в окружающий воздух особые секреции… Как их называла Гретель… Форо… Феро… Ему никогда не давались эти геномагические словечки.
Бруттино, казалось, откровенно забавлялся, наблюдая за ним. Не переменив за все время разговора позы, он лениво взирал на Гензеля, то поглаживая заточенный нос, то бессмысленно щелкая деревянными суставами.
— Ты ведь хочешь спросить меня, Гензель? Хочешь?
— Д-да…
— Ты хочешь спросить, зачем мне это.
— Да.
— Звери хорошо попируют завтра в полдень. Ты представляешь, как они набросятся на эту толпу уродцев, мнящих себя людьми? Тысячи голодных и свирепых генетических тварей, способных мгновенно встроиться в чужой хромосомный набор или за минуту растерзать чужие клетки? Это будет похоже на гигантскую генетическую мясорубку, которая пропустит через тысячи зубов весь ваш генофонд. Мучительная смерть и стремительные необратимые мутации, новые уродства и даже жизненные формы…
Бруттино на секунду мечтательно прикрыл глаза. Он был искренен, Гензель почувствовал это с ужасом, настолько искренен, насколько это возможно для нечеловеческого существа.
— Тысячи генетических хищников растерзают весь город за несколько минут. От них не спасут ни крепкие двери, ни оружие. Великолепная картина. Настоящий генетический армагеддон. А может, напротив, новое Сотворение! — Голос Бруттино теперь скрипел размеренно, как ритмично двигающаяся старая прялка. — Ваш генофонд превратится в хлюпающую кашу, из которой слепые мутации вылепят что-то новое. Быть может, настолько отвратительное, что вы позавидуете вчерашним мулам. А может, что-то столь извращенное в биологическом отношении, что оно попросту не сможет существовать. Разве это не прекрасно, Гензель? Настоящий геновзрыв. Генохаос. Геночума. Как знать, может, уже завтра весь Гунналанд будут населять не люди, а полуразумные грибы?..
— Или головастики… — пробормотал Гензель себе под нос.
— Что?
Гензель ощутил себя немного увереннее. Не настолько, чтобы спустить курок, но достаточно, чтобы выдержать тяжелый янтарный взгляд.
— Не суть важно. А о себе ты подумал, деревянный мальчик? Или думаешь, что уцелеешь в этом геноводовороте?
— Общество геноведьмы, кажется, мало что тебе дало. — В скрипучем голосе Бруттино прорезались покровительственные нотки. — Во мне нет человеческих генов, забыл? Я — растительная форма жизни. Жидкость из этих пробирок для тебя смертельный яд, но для меня не опаснее родниковой воды. Я могу пить из них, провозглашая тост за новое будущее человечества! Или того, что будет называть себя человечеством с завтрашнего дня…
— И что дальше? Станешь королем полуразумных грибов? К этому ты идешь, Бруттино?
Синяя Мальва ходила по лаборатории, делая вид, что не замечает его. Разгуливала меж пыльных лабораторных агрегатов, с любопытством рассматривая их и изредка трогая изящным пальчиком, затянутым в небесно-голубой шелк. Ее движения были мягки и грациозны, как у порхающей над свежим цветочным полем бабочки. Но при мысли о том, что она вдруг окажется возле него, Гензель испытывал одновременно и пьянящий восторг, и смертельный ужас.
Бруттино не обращал на нее ни малейшего внимания. И уж подавно никак не реагировал на разговор господин Перо, замерший на своем месте.
— С точки зрения геномагии, грибы мне более близкие родственники, чем люди. Думаю, я найду с ними общий язык. По крайней мере, они точно не смогут смотреть на меня свысока, свято полагая себя вершиной генетической эволюции.
Гензель облизнул губы, которые, оказывается, давно пересохли, но он только сейчас это заметил.
— Так вот что это такое, — выдавил он. — Теперь я понял. Я думал, это месть высокоразвитого и сложного существа. А это всего лишь обида капризного и злого ребенка.
У Бруттино не было мимических мышц, а лицо его своей выразительностью могло поспорить с деревянным чурбаном, но Гензель каким-то образом почувствовал его напряжение.
— Что ты знаешь о мести, ты, сытый квартерон? Даже несмотря на свои зубы, ты чертовски человекообразен. Счастливый обладатель почти человеческого фенотипа, редкость для Гунналанда. У тебя две руки и две ноги, у тебя хорошая мягкая кожа… Тебя когда-нибудь называли поленом? Тебя пытались смеха ради распилить пилой? Может, соседские дети, заливаясь смехом, тащили тебя на костер?..
— Всего лишь смертельная обида, — повторил Гензель в голос. — Ты ведь всегда хотел быть человеком. Хотел стать настоящим мальчиком, верно? Именно потому, что презирал свою истинную природу и понимал, насколько чужд всему окружающему. Поэтому ты искал геноведьму, надеясь на чудо, которое превратит дерево в живую человеческую плоть. Но это невозможно. Дереву не стать человеком, таковы безжалостные законы геномагии. И тогда ты решил отомстить тому, сходства с кем так и не смог добиться. Решил отомстить человечеству.
Бруттино поднялся на ноги, его суставы негромко хрустнули. Как и прежде, он выглядел немного грузным, но не тяжелым. Крупным, но не массивным. Но даже в этом коротком движении сквозило столько силы, что палец Гензеля едва прежде времени не спустил курок. Он знал, как выглядит настоящая сила, даже в неказистом обрамлении. Бруттино и был такой силой. Грозной, сокрушительной, безжалостной.
— Впечатляющая прозорливость для человека, который уже дважды угодил в ловушку. Мальва!
— Да, Брутти?
Синеволосая красавица встрепенулась.
Гензель ощутил, что у него мало времени. Возможно, и вовсе нет.
— Слушай, Бруттино… Моя сестра не лгала, когда говорила, что это зелье можно создать. Зелье, способное превратить тебя в живого мальчика… Это долгий и сложный процесс, но…
Презрительный смех Бруттино прошелся по нервам Гензеля, как тупая ржавая пила по древесной ветке.
— Прекрати. Этот прием выглядел наивно и в прошлый раз, глупо уповать на него в такую минуту, Гензель. Я сделал вид, будто поверил, только для того, чтобы выманить вас из каморки Арло. Но использовать ту же ложь вторично… Мне кажется, ты совсем меня не уважаешь, Гензель.
— Это не ложь. Я не знаю деталей, но…
Перебить деревянного человека оказалось невозможно. Его скрипучий голос мгновенно набрал силу и звучность, заскрежетал:
— Я давно убедился в том, что ни одна геноведьма не в силах создать что-то подобное. Это было всего лишь… мечтой, слабостью. Когда я был юн, я мог позволить себе хвататься за то, что мерещилось мне спасительной соломинкой. Тогда я еще верил в сказочные истории о том, как какое-нибудь чудовище превращается в человека. Но это все была ложь, точно такая же, как и в прочих ваших сказках. Завтра в полдень сказка кончится. И начнется новая, которую напишу я сам. Сказка про то, как люди превращаются в бородавчатых тварей, страшную пародию на самих себя, в кисель, в тлен, в микроскопические организмы. Может, это будет не очень красивая сказка, но одного у нее не отнять — она будет правдивой.
— Моя сестра — самая могущественная геноведьма в Гунналанде!
— Охотно верю. Именно поэтому я навещу ее этим же вечером. Мне кажется, у нас с ней получится хороший разговор. — Улыбку на деревянном лице Бруттино можно было назвать мечтательной. — Мальва, думаю, тебе интересно будет в нем поучаствовать. Ведь Гретель была очень плохой девочкой. А ты любишь учить манерам плохих девочек.
Синяя Мальва улыбнулась и провела пальчиком по своим розовым, изящно очерченным губам. Очень мягким, если судить по внешнему виду.
— И плохих мальчиков, и плохих девочек, милый. Но мальчиков интереснее.
Гензель прицелился точно меж тускло горящих янтарных глаз на деревянном лице.
— А вот об этом и не думай, проклятая кукла. Иначе я быстро пущу тебя на стружку.
Синяя Мальва погрозила ему пальцем, отпустив еще одну лукавую и обворожительную улыбку, одновременно и мягкую, и бритвенно-острую:
— Ай-яй-яй, Гензель. Совершенно недопустимо говорить подобные слова. Это очень грубо. Очень гадко. Если ты будешь вести себя невежливо, мне придется тебя наказать. А я умею это делать. Лучше, чем ты можешь себе представить.
Гензелю пришлось напрячь всю волю, чтобы заставить себя вновь открыть рот.
— А ты заткнись, шлюха Варравы. Пока я не отправил тебя вслед за твоим блохастым псом.
Ему показалось, что лопнули невидимые медные струны, обвивавшие его грудь и медленно душившие. Не все, но многие из них. Он частично вернул себе контроль над телом, пусть уставшим и слабым.
Бездонные глаза Синей Мальвы потемнели. Они больше не смеялись, не улыбались ему, теперь они лучились энергией другого рода — гибельной, тяжелой, отравляющей. Но даже злость не могла испортить красоты идеального лица, лишь выгодно оттенила и заострила его черты.
Шелестя бесчисленными лентами, Синяя Мальва повернулась к деревянной кукле.
— Брутти, теперь я могу позаниматься с этим упрямым мальчишкой? Или ты хочешь, чтобы это сделал Перо?
Бруттино молчал недолго, несколько секунд. Когда он заговорил, его глаза, как и прежде, горели ровным янтарным огнем.
— Он твой. Но обращайся с ним аккуратно. Я хочу сохранить хотя бы голову.
— Как скажешь, милый, — улыбнулась Синяя Мальва, грациозно потягиваясь, ее огромные глаза пылали синим ледяным огнем, от которого Гензеля пробрало до самого позвоночника. — Ты даже не представляешь себе, до чего я могу быть аккуратной…
В этот раз Синяя Мальва не остановится, понял Гензель.
Она приближалась к нему своей летящей бесшумной походкой, за спиной трепетали синие ленты, а на лице сверкала улыбка, которая в одно мгновение казалась скромной и застенчивой, но уже в следующее — торжествующей и похотливой. Руки Синей Мальвы были опущены вдоль тела и пусты, но Гензель отчего-то знал, что оружие ей и не понадобится. Она сама была оружием. Самым страшным видом оружия, в котором рефлексы жертвы бессильны распознать опасность.
Гензель вспомнил цветы Железного леса, о которых когда-то давно им с Гретель рассказывал отец. Эти цветы выглядели отталкивающе и уродливо — огромные шипастые бутоны, скрученные в жгуты листья, зловонный запах, разносящийся далеко вокруг, похожий на смрад разлагающегося мяса. Однако именно в этом запахе крылось коварство цветов. Какая-то его нотка, незаметная в общем смраде, обладала способностью привлекать людей, притягивать их, отключая все мысли и чувства. Едва ощутив этот запах, люди не думали ни о чем другом, кроме как о том, чтобы прикоснуться к этому волшебному и прекрасному цветку, попробовать его нектар. И брели, слепо переставляя ноги, забывшие обо всем, кроме этого манящего аромата. Иногда их находили позже, в раздувшихся, как старые винные бочки, бутонах, булькающих и дрожащих. Эти люди заползали в цветок и, отведав нектара, оставались там навсегда, не обращая внимания на то, что растение тем временем медленно переваривает их, поглощая все соки человеческого тела. Им важен был лишь запах этого цветка, что же до боли, они ее вовсе не ощущали. Для сотрясающегося в пароксизме блаженства тела боль делалась чем-то не имеющим значения. Клетки тела прекращали существование одна за другой, но не поднимали тревоги.
И сейчас, глядя за тем, как приближается Синяя Мальва, Гензель ощутил себя во внутренностях такого же цветка. Безумного, душистого и смертоносного. Который уже постепенно начал переваривать его, хотя оглушенное тело еще не чувствовало этого.
— Какие у тебя ужасные зубы, — прошептала Синяя Мальва, складывая изящные руки на груди. — Наверно, их очень тяжело чистить каждый день?
Гензель попытался что-то сказать, но губы слиплись, язык одеревенел. И, что еще хуже, сознание мягко поплыло, мгновенно лишив тело привычного контроля. Это было паршиво, это было очень паршиво, но мысль эта, беспокойно зудящая, оказалась запертой где-то в самой глубине мозга. Сознание отказывалось паниковать — напротив, оно ликовало, ощущая кипящие во всем теле страстные соки, бурлящие и бьющие фонтанами. Оно смеялось, ощущая запах свежего юного цветка, оно вычеркнуло все, что не было связано с Синей Мальвой, — и деревянную куклу, внимательно глядящую на Гензеля из полумрака, и стеклянный купол саркофага, и все прочее. Ничего из этого больше не имело значения и не существовало. Весь окружающий мир медленно растворялся, а его составляющие канули в небытие. Узкие, набитые мулами улицы Вальтербурга. Мертвый шарманщик. Опустевший театр. Нелепый ключ из потертого металла. Беловолосая геноведьма. Все таяло, до тех пор пока единственными существами во вселенной не остались они двое: онемевший от своего счастья Гензель — и девушка с синими волосами.
— Иди сюда… — Он даже не мог понять, мысль это была или слова.
Содрогающийся в приступах накатывавшей эйфории и одновременно парализованный, Гензель даже не заметил, как мушкет упал на пол: пальцы разжались сами собой, перестав получать сигналы от мозга.
Синяя Мальва.
Он влюбился в нее еще в тот миг, когда впервые увидел, в смрадном зале «Трех трилобитов». Просто отказывался признать это в своем слепом акульем упрямстве. Она — удивительное творение, вылепленное миллионами причудливых хромосомных сочетаний. Творение, которого просто не могло оказаться в омерзительном, пропахшем всеми человеческими пороками Вальтербурге. Но оказалось — в нарушение всех мыслимых законов геномагии и логики.
Флюиды их тел соприкоснулись, вступив в реакцию прямо в воздухе. Они были предназначены друг другу. Любовь к ней была заточена в его клетках, в его генетическом материале. И все мучения, вся неуверенность, вся боль последних лет происходили оттого, что он не мог ее найти. И нашел — на окраине мира, сам сперва не осознав происшедшего чуда.
— Ты милый, — сказала Синяя Мальва, грациозно поводя плечами. У нее были удивительные плечи, хоть и скрытые синим шелком, тонкие, как у подростка, трепетные, как тело юной стрекозы. И от мысли, что он может их сжать своими грубыми руками, у Гензеля весь мир покачивался перед глазами. — Ты ведь чувствуешь то же, что и я, наглый мальчишка?
— Да, — сказал Гензель, безотчетно улыбаясь и делая шаг ей навстречу.
Он видел лишь ее улыбку и губы, тоже, казалось, созданные из мягчайшего шелка. Бездонную синеву глаз. Озера, в которых величайшим счастьем было бы утонуть.
Это сказка, звенела, захлебываясь от восторга, мысль где-то в подкорке. Они нашли друг друга и встретились. Теперь все будет хорошо, как и полагается в настоящей сказке. Они уедут отсюда. Вместе, он и она. Люди, которые не должны были встретиться, но встретились в самый неподходящий момент. И они будут счастливы вместе, где бы отныне ни оказались. Им больше не будет дела до геноведьм, деревянных кукол и никчемных пробирок. Они будут жить долго и счастливо.
Что-то было неправильно, обрубленный остаток мысли, не додуманный им до конца, трепетал на дне сознания, как отсеченная рука, чьи пальцы все еще рефлекторно дрожат. Что-то было не так. Что-то изменилось. Но обрубок этой мысли смяло слоями страсти и нежности, которые заполнили его в мгновение ока, когда Синяя Мальва протянула к нему свои руки.
Гензель качнулся ей навстречу, готовясь заключить ее в объятия. Он видел, как приоткрылись лепестки роз — нежные тонкие губы, — как мягко блестел за ними язык. Удивительно, на миг он показался Гензелю не мягким и розовым, а острым и серым, беспокойно елозящим за жемчужными зубами в провале рта подобно тому, как елозит в своей норе насекомое. Впрочем, мгновением позже это перестало вызывать беспокойство. Это не играло никакой роли. От Синей Мальвы пахло настолько бесподобно, что у Гензеля на глазах выступили слезы. Он ощущал себя самым счастливым человеком на свете, и счастье это перло из него наружу, не в силах уместиться в теле.
Что-то было не так.
Эта мысль зудела мучительно, как завязшая в тканях тела заноза. Крошечная, но пропитанная ядом. Она была не в силах отравить охватившего его счастья, но в то же время делала это счастье не полностью завершенным. С маленьким, но досадным изъяном. Надо было отыскать ее причину, но это казалось невозможным — мысли были ватными, как и тело, липли друг к другу и отказывались рассредоточиваться. Под их толщей невозможно было ничего обнаружить. Он чувствовал себя смертельно пьяным, не способным разобраться даже в том, что происходит. Счастье, окрылившее его и подталкивающее навстречу Синей Мальве, на миг показалось ему неестественным. Слишком приторным, как испортившееся варенье.
Был лишь один способ очистить мысли и сообразить, что происходит.
— Я люблю тебя, Гензель, — прошептала Синяя Мальва, приникая к нему.
Он ощутил шелест прохладного шелка под пальцами. Невыносимо свежий и прекрасный запах заполнил носоглотку и легкие.
— Я тоже, — сказал он хрипло, бессмысленно улыбаясь. — Я тоже тебя люблю…
И изо всех сил ударил себя кулаком в лицо.
Удар был коротким и сильным, без замаха. Хороший удар, отлично подходящий для драки в трактире, хлесткий и злой. Таким ударом можно опрокинуть с ног. Но тело, хоть и постаревшее, еще не превратилось в ветхую развалину. Он устоял, лишь мотнулась на шее голова.
Мгновением позже мир переменился. Нет, понял Гензель, это был какой-то другой мир. В котором он стоял, пошатываясь, безоружный, с хлещущей из носа кровью, а в шаге от него стояла жестокая кукла в оболочке из синего шелка. Запах собственной крови мгновенно, хоть и болезненно, отрезвил его.
Учуяв кровь, акула мгновенно напряглась, повела носом, оскалила острые треугольные зубы. Существо слишком древнее, чтобы сравнивать с человеком, она мгновенно ощущала этот запах, как бы слаб он ни был, и шла на его зов, заблокировав все второстепенные центры мозга. Акула холодна и вечно спокойна, ей неизвестны чувства, она не знает эмоций. Но она хорошо знает этот особенный запах, пробуждающий всю ее суть…
Синяя Мальва недоуменно смотрела на то, как Гензель прижимает руку к хлюпающему кровью носу. Отчего-то она уже не казалась столь прекрасной, как секундой раньше. Лицо ее было скроено не совсем симметрично, под глазами наметилась тонкая сеточка лопнувших сосудов. А во рту ее, меж очаровательных губ, за жемчужными зубами, извивалось что-то острое, узкое и изогнутое, сродни шипастому древесному корню.
— Фиброзная алкаптонурия, — выдохнул Гензель, отстраняясь. — Что это за…
Его спасло мгновение. Акулий инстинкт заставил Гензеля резко отдернуть голову вправо. Этот инстинкт пришел к нему из вечной темноты, он был слишком холоден и древен, чтобы позволить чему-либо сбить себя с толку. Рефлекс примитивного подводного автоматического устройства, предназначенного для уничтожения всего живого.
Изо рта Синей Мальвы, разорвав прекрасные розовые губы, вырвался заостренный и зазубренный хитиновый нарост, похожий на наконечник копья. Он метнулся вперед, раскрыв десятки крохотных членистых лапок, выглядящих как острые зазубрины и шевелящихся подобно конечностям сороконожки. Если бы этот удар пришелся ему в лицо, последним, что он услышал, был бы хруст собственного черепа. Но этой твари, живущей в самом прекрасном на свете рту, как в подземном гроте, не хватило одного-единственного мгновения, того самого, что нашлось у Гензеля.
Тварь злобно заскрипела, повиснув на толстом жилистом жгуте, тянущемся изо рта Синей Мальвы. Промахнувшись, она встопорщила свои хитиновые покровы и стала дергать множеством крохотных ножек. На ее конце виднелось короткое кривое жало с отверстием — отвратительная пародия на хоботок бабочки. Только этот хоботок смотрелся так, словно им можно было проломить прочную стену. Или кости черепа.
Гензель отпрыгнул в сторону, не дожидаясь нового выпада. Он никогда прежде не видел подобной твари, но отчего-то ощущал, что она способна действовать быстро. Очень быстро.
И не ошибся — жало Синей Мальвы мгновенно нанесло еще один удар, стремительный и шипящий, как фехтовальный выпад. Гензель ускользнул от него, заплатив клочком куртки, мгновенно вырванным из предплечья. Жало двигалось удивительно быстро на своем жгуте, танцевало, вытягивалось, делало короткие обманные рывки. Оно скрипело, как сердитое насекомое, топорщило зазубренные хитиновые наросты, негромко свистело и покачивалось.
— Что такое, милый Гензель? — осведомилась Синяя Мальва, лукаво глядя на него. — Я-то думала, ты джентльмен. Неужели ты из тех противных мальчишек, что забывают про слова любви, едва узнав девушку поближе?..
Удивительно, как ей удавалось говорить, учитывая, что меж ее зубов торчал, извиваясь, толстый жилистый хлыст с жалом на конце. Теперь он уже не казался ее языком, напротив, сама Синяя Мальва выглядела его придатком.
— Извини, но у нашей любви нет будущего, — пробормотал Гензель, кружа вокруг нее и пытаясь не пропустить следующего момента атаки. — Кроме того, я холостяк.
Пропустил. Жало скользнуло вниз, к самому полу, крутанулось, выписав короткую петлю, и, извернувшись змеей, ударило снизу вверх. Удар пришелся Гензелю в живот и отбросил его на три метра в сторону, распластав на полу. Не острием, плашмя, но хватило и этого.
Воздух выбило из груди, внутренности слились в одну огромную, пульсирующую кровью язву. Синяя Мальва не собиралась тратить зря время — жало тут же устремилось к нему, со свистом рассекая воздух. Гензель откатился в сторону, прижимая руки к животу, и хитин ударил о сталь, смяв и отбросив в сторону какой-то лабораторный бак.
Он поднялся на ноги, кашляя и сплевывая с губ мелкую кровавую капель. Пальцы шарили по животу, ожидая наткнуться на рассеченную брюшину и теплые комья внутренностей, вываливающиеся из нее. Но нашли лишь лохмотья рубашки и пару глубоких борозд выше пупка. Удар пришелся вскользь. Повезло, в противном случае он едва ли поднялся бы. Скорее всего, превратился бы в бесформенные обрубки, в которых сладострастно копошилась хитиновая тварь…
— Плохой мальчишка, — нечетко сказала Синяя Мальва, голос ее булькал и вибрировал, он до сих нор казался похотливым, напитанным страстью. — Но ничего. Мне приходилось наказывать и не таких.
В этот раз у него не было времени на саркастический ответ — пришлось отскочить назад, спасая голову, и вновь чудовищное жало прошло совсем рядом.
Жало молотило по воздуху и беспорядочно хлестало. Если раньше оно было похоже на шпагу в руках опытного фехтовальщика, то теперь напоминало хлыст, рассыпающий вокруг себя десятки ударов, достаточно незаметных, чтобы глаз не ухватил их, и достаточно сильных, чтобы рассечь человеческое тело пополам.
Гензель молча отбивался, пытаясь держаться подальше, но понимал, что ведет бой на чужих условиях, а значит, выдохнется первым. Хлыст, на котором держалось жало, был неимоверно длинным и эластичным. Он скручивался, выстреливал вперед, чертил размытые петли, пружинил и стелился у самого пола. Пытаясь увеличить дистанцию, Гензель почти ничего не добился — Синяя Мальва, невесомая и грациозная, как прежде, непрестанно следовала за ним, точно марионетка, подвешенная на невидимых, но очень прочных нитях.
Вынужденный постоянно отступать и пятиться, Гензель скоро начал спотыкаться. Он двигался без изящества, без грациозности и, вероятно, со стороны напоминал старого больного быка, упрямо мотающего головой, чтобы увернуться от дубинки в руках забойщика.
Он хотел выжать из тела все, что оно способно дать, но обнаружил, что его запасы оказались даже меньше, чем ему представлялось. Или же их изначально не было вовсе. Раз за разом уворачиваясь от рассекающих воздух выпадов, Гензель ощутил, как быстро сдается его собственная плоть. Легкие болезненно сокращались, страдая от недостатка воздуха, движения были скупы и неуклюжи, перед глазами плыли, переплетаясь друг с другом, зеленые ленты.
Возможно, пришла в голову ядовитая мысль, он жив только потому, что Синяя Мальва вознамерилась не давать ему быстрой смерти. Возможно, она попросту развлекается. Интересно, эта тварь — симбионт самой Мальвы? Или это и есть Синяя Мальва в своем истинном обличье, а все остальное — милое личико, синие волосы, розовые губы лишь обрамление ядовитого бутона, маскировочный покров?..
Гензель попытался схватить с разгромленного лабораторного стола штатив, чтобы использовать как дубинку. Но мгновением спустя жало выбило из его рук импровизированное орудие, едва не выворотив пальцы.
— Медленно, — протянула Синяя Мальва, надвигаясь на него с улыбкой. — Очень медленно. Признаться, я разочарована. Ожидала чего-то большего.
— Я еще не закончил, — прохрипел Гензель, продолжая отступать по спирали, с таким умыслом, чтобы оказаться поблизости от лежащего на полу мушкета.
Возможно, его тело уже не в силах оказать достойного сопротивления. Гретель была права: слишком много лет упущено. Но шанс еще есть.
Синяя Мальва сыпала ударами без остановки. Они казались небрежными и ненаправленными, но Гензель ощущал, что хитиновое жало подбирается все ближе и ближе. Это с самого начата не было поединком, скорее забавой. Которая будет длиться ровно столько, сколько сочтет нужным Мальва. Избиение старой больной акулы, которая уже не в силах оказать сопротивление.
Гензель попытался укрыться за лабораторным стендом, но язык Мальвы полоснул по нему, без труда рассекая сталь и пластик. На пол посыпались осколки стекла и крошки текстолита вперемешку с кусками проводки. Гензель нащупал какую-то реторту и метнул прямо в лицо Мальве — та, рассмеявшись, легко отбила ее.
Некоторые удары задевали его, но пока лишь вскользь — куртка уже висела бахромой, одна пола была отсечена начисто. Там, где он пятился, на полу оставались зигзагообразные алые полосы — кровь обильно капала из рассеченных до кости пальцев и предплечий.
— Слишком старый, презрительно произнесла Синяя Мальва, очередным ударом едва не разделав его пополам. — Мне становится скучно.
— Это исправимо, — пробормотал он, задыхаясь.
Коротким движением Гензель подхватил с пола мушкет. Глаза Синей Мальвы, уже утратившие сходство с озерами, похожие на две мутные лужи ядовито-лазуритового цвета, сверкнули презрением.
— Мальчишки и их игрушки… Я не разрешала тебе трогать их!
Жало с неожиданным проворством хлестнуло, метя ему прямо в лицо. Гензель заслонился от удара мушкетом, но не учел чудовищной силы удара. Хитиновое жало, скрежеща, обвило деревянное ложе и выдернуло оружие из пальцев Гензеля так легко, словно он и в самом деле был ребенком. С не меньшей легкостью оно вырвало бы его руки из плеч, если бы он не догадался бросить мушкет.
— Ты напоминаешь мне Мачеху… — пробормотал Гензель, тяжело дыша. — Она тоже отбирала мои игрушки. Мне пришлось многому научиться.
Секущий удар кинжалом застал Синюю Мальву и ее симбионта врасплох. Гензель обрушил его на хлыст, надеясь снести скрипящее хитиновое жало одним движением. Но недооценил прочность покровов. Лезвие царапнуло покрытую мелкой чешуей шкуру, отскочив в сторону, оставив на месте удара лишь узкую, сочащуюся желтоватой жижей царапину.
Синяя Мальва завизжала от ярости. Ее голос утратил чистоту и мягкость, теперь он звучал хрипло, глухо, лишившись всех своих манящих интонаций.
— Ах ты… ты… Ты! Очень. Скверный. Мальчишка.
Челюсти Синей Мальвы захрустели. Тварь, которой она служила лишь оболочкой, ворочалась в ее горле, пытаясь вырваться наружу. Человеческие ткани не были рассчитаны на такое напряжение. Некогда прекрасные губы повисли рваными розовыми лепестками, челюсть, качнувшись, выломалась из суставов и теперь болталась почти на самой груди. Щеки лопнули, превратив прекрасный девичий рот в оскаленную, перемазанную кровью пасть.
Гензель ударил кинжалом прямо в средоточие шелковых лент, туда, где должно было быть сердце, но если у Синей Мальвы и было сердце, располагалось оно не там. Клинок ушел вглубь лишь на палец. После чего хрупкие девичьи руки Мальвы вырвали его и сломали пополам, не обращая внимания на несколько отсеченных пальцев, все еще обтянутых небесно-синим шелком.
— Т-ты… будшш-ш-шььь… накк-казз-з-з…
Синяя Мальва шла на него целеустремленно, не останавливаясь. Тело ее менялось с каждым шагом. То тут, то там тонкая человеческая кожа лопалась, как одежда, которая внезапно стала сильно мала. Синие и красные лохмотья покрывали ее подобно лоскутному одеялу, по ногам стекала желтоватая жижа с щедрыми вкраплениями алой крови. Стройные женские ноги затрещали — кости перестали выдерживать нагрузку. Маскировка сползала с Синей Мальвы кусками, шелк вперемешку с плотью. Гензель видел осколки ребер и зияющие раны, из которых тянулись новые жгуты, каждый с бесформенным уродливым жалом на конце. Пробивая бледную кожу, наружу вылезали хитиновые отростки и жесткая черная щетина.
Кажется, она этого не замечала. Наступая на Гензеля, полосуя воздух все новыми выпадами, оставляя за собой багровую полосу, Синяя Мальва была слишком разъярена и увлечена, чтобы отвлекаться. Тварь, сделавшая из нее свое логово, все пыталась выбраться через горло, расширяя отверстие крохотными резцами. В какой-то момент голова Синей Мальвы на переломанной шее отпала назад в облаке прекрасных синих волос и осталась болтаться на спине, как скинутый капюшон плаща. Вместо нее из грудной клетки под треск ребер лезло что-то чудовищное, блестящее крошечными слюдяными глазами, булькающее.
Самое ужасное было не в метаморфозах, которые претерпевало когда-то прекрасное тело. А в том, что аура сексуальности, вырабатываемая сокрытыми в нем железами, все еще отчасти действовала. Существо, представлявшее собой по большей части лохмотья шелка и внутренностей, шлепающее по полу с болтающейся за спиной головой, все еще казалось ему прекрасным. И пусть теперь эта красота не парализовала волю, от ее присутствия делалось жутко.
Удары, пусть и не всегда достигая цели, изматывали Гензеля слишком быстро, чтобы тело успевало набраться сил. Вновь и вновь уклоняясь, отскакивая, принимая удары на предплечья, Гензель чувствовал, что вот-вот хрустнут его собственные кости. Они были слишком слабы и слишком стары, чтобы сдерживать подобный натиск бесконечно. И постепенно его тело сдавалось.
Холодная акулья ярость не могла вести его вечно, лишь помогала отдалить тот момент, когда он окажется полностью беззащитен. И Гензель знал, что такой момент наступит.
Очередной удар наотмашь заставил мир зазвенеть, точно кто-то бросил на каменный пол целую пригоршню монет. Гензель зашатался и тут же получил еще один — в поддых. Третий удар впечатал его в какой-то лабораторный бак, отчего тот лопнул, выдохнув облаком пыли осадок какого-то опыта, устаревший на несколько сотен лет.
Гензель попытался подняться и почти успел. По Синяя Мальва одним коротким прыжком оказалась рядом — и обрушила на его бок очередной чудовищный удар. Боль полыхнула так, что он ощутил себя рыбиной, разделанной от хвоста до горла одним чудовищным скользящим ударом. Перед глазами на какой-то короткий момент осталась лишь огромная черно-красная клякса. Гензель захрипел, беспомощно открывая и закрывая рот. Он чувствовал себя так, будто у него лопнуло легкое. И печень в придачу.
Существо, нависшее над ним, представляло собой одну раскрытую рану, обрамленную синим шелком. Ленты, подобно перепачканным гноем бинтам, стелились за ним. Оно могло добить Гензеля одним ударом своего хитинового жала. Но вместо этого протянуло руку и, нащупав болтающуюся за спиной собственную голову, с хрустом водрузило ее на прежнее место, неровно закрепив на осколке позвоночника.
— Шш-што такое, мм-мм-м-ммлый Гг-генззль? Тт-ты ббоишшь-ся мм-м-мня? А как жже наашш-ша любб-бовь?..
Прежнее лицо Синей Мальвы уже нельзя было назвать прекрасным. Оно было маской, все еще висящей на остатках лопнувшего черепа, кожа перекосилась, бездонные некогда глаза слепо пялились из глазниц. Когда-то чистые и ясные, они стали мутными, как обточенные морем стеклянные осколки.
Гензель попытался встать, но молниеносный удар хлыста едва не раздробил ему колено, заставив вновь покатиться по полу. Она не хотела, чтобы он вставал. Она хотела, чтобы он принял смерть распростертым в позе проигравшего. Униженный, сломленный, сдавшийся.
— Сука, — пробормотал он, не обращая внимания на стекающую по подбородку кровь.
Он нащупал кусок какой-то стойки и попытался прикрыться ею, но следующий же удар жала выбил ее у него из рук, легко смяв толстую сталь. Синяя Мальва, которая больше не была синей, скорее алой, удовлетворенно шипела, наблюдая за тем, как он пытается отползти. Она наслаждалась каждым мигом его поражения, сладострастно впитывала его, как сладчайший хмельной напиток.
Задыхаясь, упираясь в пол руками, Гензель тащил свое измятое и кровоточащее тело назад. Он попытался спрятаться за громоздкой центрифугой, но жало Мальвы с шипением разворотило ее так легко, словно это был ветхий холщовый кошель. Следующим же взмахом оно рассекло ногу Гензеля от колена до щиколотки, да так, что он лишь всхлипнул от боли.
Все верно. Молодая акула — средоточие холодной ярости и силы. Но у каждого хищника во все времена есть свой жизненный предел, отмеряющий время его существования. Рано или поздно даже самый грозный представитель вида делается слабым и беспомощным. Уступает место на генетической арене более успешным особям. Старая акула уже отжила свое. Утратила чутье, растеряла острые зубы, стала неуклюжа и слаба. Она больше не хищник, не хозяин моря. Она лишь биологический объект, некоторое количество еще сносно функционирующих органов, и только. Новые хищники завладели ее прежними охотничьими угодьями и готовы растерзать бесполезные реликты прошлого в кровавые ошметки. Новое всегда уничтожает старое. Это даже не закон геномагии, это закон всего сущего.
«Ты знал, что этот момент когда-нибудь настанет, — устало подумал Гензель, чувствуя, как стремительно слабеет тело, утрачивая силы вместе с вытекающей кровью. — Просто не догадывался, что он настанет именно сегодня…»
Жало Мальвы свистнуло, едва не снеся Гензелю половину головы. Оно с легкостью перерубило опоры стойки с баллонами за его спиной и, если бы он чудом не успел перекатиться, огромный газовый баллон, грохнув вниз, раздавил бы его, как гнилой орех.
Удивительно, задыхаясь и все еще пытаясь отползти, он не ощущал злости по отношению к Мальве. Она просто была хищником нового поколения, чуть более удачливым, чем он сам, занимающим свой биологический ареал. Все было верно. В полном соответствии с извечными законами геномагии. Сильнейший рано или поздно побеждает. Вот в чем отличие от сказок.
Гензель ощутил под пальцами скользкий круглый бок лежащего баллона и попытался затащить свое тело на него. Под пальцами было липко, голова кружилась, пылал отбитый бок.
Все правильно. Старые акулы не выходят на пенсию.
Его окровавленные пальцы пытались нащупать хоть что-нибудь — острый осколок стекла или железный прут, — но не находили ничего, натыкаясь лишь на полированные бока газового баллона. Еще полного, судя по всему. Избитая и потрепанная акула вдруг ударила хвостовым плавником.
Из последних сил Гензель затащил свое тело на лежащий баллон. Сил этих оставалось так мало, что даже эта задача оказалась едва ли не непосильной. Но он знал, что последнюю их кроху надо приберечь.
Мальва ухмылялась перекошенным ртом, наблюдая его мучения. Она не собиралась давать ему легкой смерти и не скрывала этого. Из многочисленных дыр в ее теле, двигающемся дергано и резко, как разлаженный сервомеханизм, высовывались трепещущие хитиновые отростки, точно проволочный каркас, пробивший свою оболочку.
— Мм-млыйг Генннзель…
Гензель перевернулся на спину, чтобы взглянуть ей в лицо. В то, что от него осталось.
— Ну ты и уродина… — пробормотал он, усмехнувшись скупой кровоточащей улыбкой. — Ты уверена, что… кхх-кхх… Бруттино нашел тебя именно в театре, а не в борделе?..
Мальва взвизгнула от злости. Хитиновое жало, нетерпеливо скрипящее и перебирающее своими конечностями, взвилось у нее над головой и секундой позже ударило. Уже не сдерживаясь, не забавляясь, в полную силу. Ударило сверху вниз, метя своим хоботком в грудь Гензеля.
Той крохи сил, что у него оставалось, было недостаточно для того, чтобы защититься от удара, который должен был стать последним. Но ее хватило на то, чтобы, оттолкнувшись едва слушающимися руками от металла, свалиться на пол.
Он услышал глухой и вибрирующий металлический удар — точно кто-то, размахнувшись, ударил зубилом по тяжелому колоколу.
Мальва замерла. Ее жало пробило баллон, воткнувшись в него, как швейная игла втыкается в катушку ниток. Жилистый хлыст, которым жало соединялось с ее телом, вдруг стал разбухать на глазах, превращаясь в подобие раздутого шланга. Множество слюдяных глазок заморгало. Они выглядели не яростно, скорее озадаченно. Гензель слышал шипение газа под давлением. И треск, который издавал хитин ее тела, когда этот газ стал перетекать в нее, безжалостно распирая изнутри.
Мальва издала утробный скрежет и попыталась вытащить жало, но тщетно — его зазубренный хоботок, пробив баллон, глубоко засел в нем. Мальва заметалась, стараясь высвободиться. Все новые и новые литры сжатого газа заставляли ее тело раздуваться, оставшиеся человеческие покровы сползали с него, обнажая переплетения лиловых вен и сочащиеся желтоватым ихором нечеловеческие внутренности. Внутри она оказалась не такой прочной, как снаружи.
Распираемая чудовищным давлением изнутри, Мальва завизжала, но теперь это был не визг ярости, скорее — отчаяния. Хитиновые конечности бессмысленно дергались в переплетении некогда синих лент. Она раздулась до такой степени, что превратилась в подобие переполненного бурдюка, в некоторых местах оболочка ее тела уже рвалась, выпуская наружу шипящие газовые гейзеры.
— Ахшш-шш-ш-вшш-шшаа-а-а-аашш-ш…
Мальва с грохотом лопнула. Клочья желтоватых внутренностей и шелка разлетелись далеко в стороны. На том месте, где она была, остались лишь бесформенные хитиновые осколки да дергающийся обрубок хлыста, стравливающий газ.
Гензель лежал добрую минуту, прежде чем попытался подняться. Его тело, когда-то бывшее крепким и выносливым, сопротивлялось даже малейшим усилиям. Но Гензель никуда не спешил. Из темных непроглядных глубин несуществующего моря ему ухмылялась акула.
Бруттино и Перо стояли на прежнем месте. Равнодушные зрители в пустом зале. Никто из них не проронил ни слова.
— Следующий, — прохрипел Гензель, пошатываясь. Теперь, полагаю, вы, господин Перо?
Потеки крови мешали ему ясно видеть, потребовалось много времени, прежде чем он заметил брошенный мушкет. И еще больше — чтобы сделать к нему первый шаг.
— Ты очень упрямое существо, Гензель, — вздохнул Бруттино. Иногда упрямство способствует выживанию биологического вида. Но это не тот случай.
Скрипя суставами, деревянный человек подошел ближе и поднял мушкет. Его руки небрежно вертели оружие так, будто оно было несуразной детской игрушкой. Желтые глаза горели тускло и равнодушно, как остывшие угли.
— Следующий, — повторил Гензель. — Мой биологический вид не любит ждать. Давайте, господин Перо, смелее.
Он знал, что еще одной схватки ему не выдержать. Во имя кодоминирования, ему не продержаться и минуты против молчаливого паяца. Но Гензель все равно улыбался. Должно быть, какой-то бессмысленный безусловный рефлекс.
Перо вопросительно взглянул на Бруттино, медленно разминая тонкие пальцы. Гензель видел, как под белоснежным покровом ткани шевелятся, готовясь порвать тонкую ткань, смертоносные когти.
— Все рано или поздно заканчивается, — медленно произнес Бруттино, в его голосе Гензелю почудилась то ли насмешка, то ли усталая ирония. — А мы все еще так далеки от финала…
Он легко вскинул мушкет одной рукой и выстрелил.
Перо споткнулся и опустил недоумевающий взгляд на собственный живот. Нарушая строгое белое единообразие, там чернела обожженная дыра, в глубине которой трещало, облизывая его внутренности, оранжевое пламя. Из-под балахона медленно выбралось несколько щупалец, увенчанных страшными зазубренными когтями, но они не пытались никого атаковать, бессильно подергиваясь, вытянулись вдоль тела.
Перо поднял ничего не понимающий взгляд на Бруттино. И, возможно, впервые в жизни попытался что-то сказать. Но из его разомкнувшихся губ не вырвалось ни звука, лишь тонкая дымная струйка. По белому подбородку, петляя, потянулась вниз карминовая дорожка. Перо всхлипнул и упал, все еще прикрывая руками разорванный живот. Бруттино какое-то время равнодушно глядел на его тело, сделавшееся подобием вороха белой ткани.
— Зная бы ты, как он меня утомил, — проскрипел Бруттино, опуская дымящийся ствол. — Все время молчал. Можно ли доверять тому, кто постоянно молчит?
— Ты убил его только поэтому?
— Отчасти. Я слишком хорошо знаю ваш биологический вид, Гензель, и знаю, как опасно ему доверять. Перо был человеком. Где гарантия, что он не вздумал бы бежать, узнав о моем завтрашнем представлении? Или не попытался бы украсть мои драгоценные пробирки? Знаешь, иногда мне кажется, что, прожив семь лет рядом с вами, я перенял некоторые ваши черты, и подозрительность — лишь одна из них.
— Что бы ты ни перенял от нас, ты всегда останешься деревом.
— Так и есть.
Переваливаясь с ноги на ногу, Бруттино подошел к Гензелю на расстояние вытянутой руки. Он издавал тонкий запах древесины и смолы, от которого Гензель скривился. Запах этот сейчас казался ему отвратительным.
Гензель, шатаясь, поднял сжатые в кулаки руки.
— Давай, чертово дерево. Покажи мне, чего стоишь.
Бруттино медленно поднял мушкет. Увернуться от него Гензель не пытался — знал, что не сможет. Ему и без того приходилось тратить слишком много сил, чтобы удерживаться на ногах.
— Стреляй, — пробормотал он.
Бруттино молчал, внимательно разглядывая Гензеля. Его пальцы лежали на спусковом крючке, но не нажимали его.
— Интересно, у кого из нас деревянная голова? — проскрипел он. — Знаешь, самая плохая черта вашего вида не в хрупкости и не в жизненном цикле. Она в вашей нелепой и неуместной гордости. Даже попавшись дважды в ловушку, ты все равно считаешь, что имеешь дело с неразумным деревом, ведь так?
— В точку, — Гензель закашлялся. — Ты и есть дерево. Самоуверенное трухлявое полено.
Но разозлить деревянного человека было не так-то просто. Кажется, он отличался невероятной способностью к самоконтролю. И неудивительно. Он не был заложником гормонов и секреций, коктейль из которых постоянно циркулирует в человеческих венах. Он был существом иной природы, бесконечно далекой от человеческой.
— Позови сестру, — кратко приказал Бруттино.
— Что?
— Твоя сестра. Гретель, — терпеливо сказал деревянный человек. — Позови ее. Неужели ты и в самом деле считаешь меня настолько глупым, Гензель? Я же знаю, что она здесь. Она не могла не заявиться вместе с тобой. И сейчас, полагаю, она находится где-то неподалеку. Геноведьмы часто ужасно любопытны, и это редко доводит их до добра.
— Зачем тебе Гретель, чертово полено?
Бруттино вздохнул. В его голосе угадывалось напряжение. Как в скрипе медленно смыкающихся деревянных тисков.
— Мне придется ее убить.
— Почему ее?
— И тебя тоже, конечно. Но она важнее.
— Не будь дураком. Пробирки у тебя. И ты знаешь, что мне тебя не остановить. Но Гретель… Какой тебе прок от ее смерти?
— Твое убийство не принесет мне пользы, лишь незначительное удовольствие. Да, утолять чувство мести способны и растения. Твоя смерть станет лишь приятным вознаграждением за то, что ты заставил меня пережить, не более того. Видишь ли, ты не представляешь для меня опасности. Мое тело сильно и выносливо, а ты уже стар и мало чем способен удивить. Скорость реакции, сила, способность переносить повреждения… ты настолько ниже меня по всем биологическим параметрам, что даже не годишься в противники. Ты попросту не способен меня убить даже в самой выигрышной для тебя ситуации. С точки зрения геномагии, ты не можешь быть моим врагом. Ты всего лишь мошка, которая пытается вызвать на бой слона. Признаю, очень настойчивая мошка, но все же. А вот Гретель… С ней дело обстоит иначе.
— Она всего лишь человек.
— Нет. Она геноведьма. И она в некотором смысле приходится мне матерью. Если я отпущу тебя, это ничего не изменит — ты попросту не способен служить для меня источником опасности. А Гретель способна. Я не могу исключать, что ей удастся создать эффективное зелье, способное уничтожить клетки моего тела. А ведь она захочет это сделать — хотя бы для того, чтобы отомстить за своего непутевого брата. Известно, что геноведьмы бывают очень настойчивы. Поэтому я не могу просто оставить ее за спиной. В отличие от тебя, она и в самом деле может оказаться моим врагом. Может быть, даже самым опасным из всех возможных. Всего лишь разумная осторожность.
— Тогда отпусти нас, — попросил Гензель. — Пока еще нет оснований для мести. Дай сутки на то, чтобы убраться из Гунналанда…
Бруттино покачал своей несуразной уродливой головой, похожей на древесную опухоль.
— Перестань. Ты ведь и сам не веришь в такую возможность. Отпускать людей, знающих про мои маленькие стеклянные подарки, попросту неразумно. Я ведь не хочу, чтобы сюда нагрянула королевская латная кавалерия и в последний момент все испортила? А теперь зови Гретель. Что, не хочешь? Понимаю. Что ж, могу позвать и сам.
Голос Бруттино оглушительно затрещал, так что Гензель рефлекторно отшатнулся, хоть и едва стоял на ногах. Треск огромного дерева, подрубленного топорами и начавшего медленно оседать. Дерева, настолько тяжелого, что превратит в мокрый отпечаток всякого, неосторожно сунувшегося под удар.
— Гретель! Я знаю, ты меня слышишь. Будь добра, подойти сюда, пока я считаю до трех. Если ты не выйдешь, мне придется по-настоящему заняться твоим братом. Уверяю, даже ты не представляешь те пределы боли, которое способно испытать ваше хлипкое человеческое тело.
Гретель не выйдет, понял Гензель с облегчением, но у этого облегчения был тяжелый привкус. Гретель — геноведьма, она мгновенно оценит ситуацию и примет самое верное и самое безупречное с точки зрения логики решение. Сейчас она бессильна против Бруттино и не станет ввязываться в драку, где нет шансов. Она выждет. Сбежит из Гунналанда, чтобы накопить силы и когда-нибудь заставить Бруттино пожалеть о содеянном. Жаль, что он этого уже не увидит, но что поделать.
Холодная трезвая логика неумолимо подскажет ей верный порядок действий. Жизнь обычного квартерона по сравнению с ее собственной не ценнее, чем щепотка золы. Она это понимает. Геноведьмы всегда идут к цели кратчайшим путем.
Если Гретель попытается его снасти, это погубит их обоих, пусть и продлит его, Гензеля, жизнь на лишнюю минуту. Несправедливая цена. Не та, которую согласится заплатить геноведьма, для которой чужая жизнь — всего лишь совокупность уникальных биологических процессов.
«Беги, сестрица, — подумал Гензель, ощущая, как по всему телу разливается отравленный сок надежды. — Беги во весь дух! Прочь из города! Прочь из Гунналанда! Прочь от невидимой чумы и безумного деревянного палача. И лучше бы тебе никогда сюда не возвращаться…»
— Считаю до трех! — объявил Бруттино своим невыносимо трещащим голосом. — Раз!
— Нет нужды, — громко и отчетливо произнесла Гретель.
Я здесь.
Она шла по мертвой лаборатории как призрак, не глядя по сторонам, не удивляясь и не боясь. Ни одной эмоции на бледном, как молоко, лице, ни одного чувства.
«Сестрица! — чуть не взвыл Гензель. — Что же ты?..»
Казалось, Бруттино тоже удивлен.
— Смело, — сухо констатировал он. — И глупо. Честно говоря, я не ожидал, что вы осмелитесь явиться, сударыня геноведьма. Разве инстинкт самосохранения не говорил вам, что лучше бежать отсюда? Я искренне благодарен вам за этот поступок, хоть и не понимаю, чем он вызван. Как я уже сказал, отсюда не выйдет никто из вас. Вы не спасли своего брата, лишь подарили ему несколько минут времени.
— Не примитивной древесной культуре рассуждать с геноведьмой об инстинктах, — спокойно бросила Гретель.
Удивительно, ее слова достигли цели — Бруттино оскалился.
— Если геноведьма столь глупа, что по доброй воле и безоружной является к врагу…
Короткая усмешка Гретель показалась Гензелю ледяной.
— Кто сказал, что я безоружна? — осведомилась она, вытягивая в стороны пустые руки. — Я же геноведьма. Мне нет нужды в набитой порохом палке. Есть оружие куда более эффективное. И куда более невзрачное.
Бруттино подобрался. Несмотря на то что он был лишен мышц и сухожилий, Гензелю показалось, что деревянный человек настороженно сжался. И хоть ствол мушкета все еще упирался в живот Гензеля, было видно, что он почти мгновенно сможет развернуться в сторону Гретель и изрыгнуть из себя пулю. Но Бруттино отчего-то медлил, не стрелял.
— Любопытно, — процедил он сквозь зубы. — И что же вы можете мне предложить?
Гретель коротким движением запустила руку за пазуху камзола. Когда рука показалась обратно, Бруттино издал лишь короткий сухой треск, напоминающий человеческий смешок. В бледной руке Гретель был не пистолет, не кинжал, не самодельная бомба, а всего лишь крохотная, отливающая серебром пробирка. Почти неотличимая от тех тысяч пробирок, что лежали в саркофаге.
— Оружие истинной геноведьмы… Ну и что же это? Генетически модифицированная лихорадка? Проказа? Особенный вид холеры? Вы ведь не из тех, кто разменивается на мелочи, верно?
— Ты не человек. Значит, для тебя безвредны все человеческие болезни.
Бруттино одобрительно кивнул.
— Резонно, сударыня геноведьма. Так, значит, не болезнь? Значит, что-то другое? Какой-то микроскопический пожиратель древесины? Порода особенных термитов? Это было бы интересно, но тоже неразумно. Вы ведь не думаете, что я позволю вам кинуть в меня эту склянку? Мои реакции куда быстрее ваших, человеческих, и у меня оружие, вам ведь не надо об этом напоминать? Так что ваш план неразумен, с какой стороны ни взгляни. Удивительная беспечность для столь опытной геноведьмы, не правда ли?
— Тогда почему ты не стреляешь?
Бруттино усмехнулся.
— Вам так не терпится разделить судьбу брата?
— Забавно, — задумчиво произнесла Гретель, все еще держа крохотную пробирку зажатой меж пальцев. Несмотря на то что жидкость, содержавшаяся в ней, была прозрачной, как вода, Гензель не мог не ощутить явственной ауры опасности. Любая пробирка в руках геноведьмы может стать страшнее, чем эпидемия чумы или генетическая бомбардировка. — Ты научился делать вид, будто твоя необычная природа делает тебя лучше людей. Что ты ничуть им не завидуешь, напротив, презираешь, как нечто, стоящее несоизмеримо ниже в эволюционной цепочке. Но при этом ты лжешь себе. В тебе слишком много человеческих качеств, выработавшихся с годами. Ты куда больше человек, чем можешь себе признаться. Знаешь, как называется то, что ты сейчас ощущаешь? Боязнь неизвестности. Нам, людям, очень хорошо знакомо это чувство.
Бруттино прицелился в нее из мушкета. Если бы он стоял на полшага ближе к Гензелю, это можно было бы назвать удачным стечением обстоятельств. Но Бруттино никогда не забывал об опасности и обладал отличным чувством дистанции. Гензель знал, что не успеет даже прикоснуться к нему.
— Меньше слов. Что в пробирке?
— Генозелье. Изготовленное по моему собственному рецепту.
— И в чем же проявляется его действие?
— Оно превращает деревянных кукол в людей.
Воцарившееся молчание показалось Гензелю мучительным, гнетущим. Это было молчание трех человек, каждый из которых сейчас о чем-то напряженно размышлял. И то, что из этих троих двое не были людьми в полном смысле этого слова, а третий не имел с человеком ни одной общей хромосомы, ничего не меняло.
— Вздор, — наконец хрипло произнес Бруттино. — Примитивная ловушка.
— Нет. Оно реально и вполне действенно. Конечно, у меня не было возможности провести полноценные испытания, ведь ты единственный деревянный человек на свете. Но я думаю, что оно сработает как надо.
Гензель почувствовал, что его собственное горло делается сухим, точно было создано не из мягких человеческих тканей, а из хорошо просушенного дерева.
— Сестрица… — негромко сказал он. — Но ведь ты говорила, что это невозможно?
Гретель устремила на него взгляд вечно задумчивых прозрачных глаз.
— Я не говорила, что это невозможно, братец. Я говорила, что это возможно лишь гипотетически. Есть разница.
Но ты говорила, что потребуются годы!..
— Да, — легко сказала она. — Но у меня получилось… немного ускорить программу.
Он вспомнил, как двумя днями раньше Гретель вошла в каморку панаши Арло, забыв постучать: выжатая, бледная сильнее обычного, с темными пятнами под глазами. Она знала уже тогда, осенило его. Проклятая скрытность всех геноведьм! Уже тогда держала за пазухой крохотную склянку с прозрачной жидкостью!
— Да, братец, — произнесла Гретель неожиданно ясным голосом. — Я синтезировала это зелье не вчера. Не хотела тебе говорить. Думала использовать его как последний козырь, если возникнет необходимость. Кажется, она возникла.
Бруттино не отрываясь глядел на склянку в ее руке. Уродливая деревянная статуя с мушкетом оставалась без движения, но глаза ее горели ровным огнем.
— Значит, хотите предложить мне сделку?
— Вроде того. Одна склянка в обмен на несколько сотен других, — свободной рукой Гретель указала на россыпи крошечных стеклянных цилиндров, упакованных в котомки и все еще лежащих внутри прозрачного саркофага. — Мне кажется, не самая плохая сделка.
Брутто хохотнул.
— Она слишком запоздала. Спроса больше нет.
— Ты хотел стать настоящим человеком, — жестко произнесла Гретель. — И это единственная на свете вещь, которая сможет исполнить твое желание. Бери.
Она держала пробирку в вытянутой руке. Но Бруттино не сделал шага навстречу. На пробирку он смотрел завороженно, как на что-то невероятно опасное и вместе с тем прекрасное.
— Поздно, сударыня геноведьма. Когда-то я и в самом деле желал стать человеком. Наивное, глупое желание. Мне казалось, что все мои беды оттого, что природа дерева так далека от природы человека. Что стоит устранить это отличие — и мир примет к себе недавнего деревянного мальчишку, выделит ему лучшую участь, признает за своего. Я был слишком юн и глуп, слишком плохо знал то, что вы называете человеком.
— И ты отказался от своего желания?
Бруттино медленно кивнул, голова качнулась на хрустнувшей шее.
— После того как вашими стараниями оказался в «Театре плачущих кукол». Возможно, со стороны он выглядел жалкой деревянной сценой под управлением старого мерзавца, но он послужил мне хорошей школой. Гораздо лучше любой той школы, куда мог бы устроить меня папаша Арло. Я много вынес из нее. Я не узнал, что такое боль или страх, но я стал понимать, что такое человек. Бесконечно омерзительное, уродливое, трусливое и кровожадное существо. Каждый раз, когда мне приходилось разрывать какого-то бедолагу на части, люди в зале ревели от возбуждения. И они любили меня. По-своему, конечно. За то, что я могу причинять боль.
— Ты…
Он не дал ей прервать себя:
— Я — деревянная кукла и счастлив ею оставаться. Нет ничего отвратительнее человеческой участи. Вы, люди, жалуетесь на генетические болезни и увечья, даже не замечая того, что вы сами — наиболее уродливая и тлетворная жизненная форма. Вы думаете, что судьба мстит вам, испражняясь в ваш разлагающийся генофонд, но это не так. Она всего лишь заставляет вас эволюционировать, принимая свои естественные черты. Вы — смертоносные паразиты, сперва уничтожившие все прочие биологические виды и теперь принявшиеся за самих себя. Я никогда не буду человеком и рад знать, что человечество обречено идти путем генетического упадка, до тех пор пока не выродится в нечто совершенно несуразное. Пока вы не примете того единственного облика, которого по-настоящему заслуживаете! И не считайте меня чудовищем. То, что произойдет завтра в Вальтербурге, будет всего лишь ускорением эволюционных процессов. Скопленная вами генетическая дрянь попросту ускорит ваше путешествие на несколько сотен лет. Так что я лишь сыграю роль катализатора…
Гензель впервые слышал, чтобы Бруттино говорил так яростно и эмоционально. Прежде он казался ему равнодушной деревянной статуей, созерцающей мир своими янтарными глазами так же безразлично, как дерево может наблюдать за сидящими на его ветвях птицами. Теперь же он видел другого Бруттино. Исполненного кипящей злости настолько, что казалось странным, как его деревянная кожа еще не начала тлеть.
Но тирада не произвела на Гретель никакого впечатления. Она махнула зажатой в пальцах пробиркой, и от Гензеля не укрылось, как глаза Бруттино дернулись, провожая ее неотрывным взглядом.
— Значит, отрекаешься от человеческой судьбы? Твое последнее и окончательное решение? Учти, другой порции не будет, это зелье существует в единственном экземпляре.
— Отрекаюсь и проклинаю, — почти торжественно произнесла деревянная кукла.
— Что ж, раз так…
Гретель усмехнулась. И кинула пробирку.
Ей не потребовалось большого замаха, крохотная стеклянная капля не отличалась значительным весом. Гензель лишь выдохнул, когда та мелькнула размытой серебряной дугой, выпущенная из пальцев, точно камень, выскользнувший из пращи.
Замах вовсе не требовался, если бы Гретель собиралась попросту разбить склянку. Достаточно было уронить ее под ноги — и даже Брутто с его непревзойденными рефлексами, далеко превосходящими человеческие, не успел бы подхватить ее. Но Гретель вместо этого метнула ее гораздо дальше — прямо в распахнутый зев прозрачного саркофага.
Гензель ожидал выстрела. Ожидал, что из ствола мушкета в следующее же мгновение вырвется грязно-серый пороховой сноп и крошечная фигурка Гретель осядет на пол, окрасившись в отвратительно алый цвет.
Но Бруттино не выстрелил. Отшвырнув мушкет, он совершил молниеносный рывок еще прежде, чем пробирка успела преодолеть половину траектории. Он двигался быстрее, чем может двигаться любое существо, считающееся человеком или похожее на него. Так быстро, что стук деревянных подошв превратился в рваную дробь вроде тех, что издают ярмарочные трещотки.
Удивительно, что сознание Гензеля успело зафиксировать все дальнейшее, мало того — мгновенно разложить по своим местам. Должно быть, следствие огромной дозы адреналина, выплеснутой в кровь. А может, он подсознательно и ожидал чего-то подобного.
Бруттино почти успел. Он оказался у входа в саркофаг лишь немногим позже стеклянной пробирки. Но Гензель понял, что деревянной кукле не успеть — возле входа, как и прежде, лежали набитые котомки, те самые, что предназначались для Вальтербурга. Тусклые россыпи стеклянных гильз, в каждой из которых хранился свой особенный вид невидимой смерти.
Россыпи эти были слишком высоки, а брошенная Гретель пробирка — слишком близка к полу. Крохотная хрустальная звезда неслась беззвучно сквозь воздух, ставший вдруг удивительно прозрачным и густым. Акулья часть сознания, отлично разбирающаяся в пространстве, подсказала Гензелю, что Бруттино опоздал. Той четверти секунды, что у него оставалась, не хватило бы, чтобы обогнуть разложенный груз или перепрыгнуть. Сейчас пробирка коснется пола и бесшумно разобьется…
Бруттино не мог успеть.
Но он успел.
Гензель обмер, видя, как брызнули во все стороны прозрачные осколки, — точно Бруттино пробежался деревянными ногами по кромке легкого декабрьского льда. И как прозрачной росой сверкнула заключенная прежде в пробирках влага.
Не сбавляя скорости, Бруттино врезался в груды разложенных пробирок. Под его подошвами хрустело стекло, осколки летели в стороны. Но он успел. У самого пола схватил брошенную Гретель пробирку, пальцы, способные одним лишь щелчком ломать кости, удивительно нежно сжали стеклянное горлышко.
Оказывается, геноведьмы могут двигаться быстро и слаженно, когда это требуется. Бруттино еще сжимал в руках чудом спасенную пробирку, когда Гретель, оказавшись возле саркофага, коротко ударила рукой по кнопке. Натужно заворчав невидимыми движителями, многотонная стальная дверь провернулась вокруг своей оси, мгновенно запечатав стеклянную чашу, внутри которой так и осталась деревянная кукла.
Гензель не сразу понял, что произошло. А когда понял, отчего-то ощутил вместо облегчения смертельную усталость. Как будто все его хромосомы в один миг почувствовали каждый из тридцати пяти прожитых годов. Кажется, он только сейчас понял, какой это большой срок.
— А ты хитра, сестрица, — выдавил он, стараясь не закашляться кровью. — Никогда бы не подумал, что хитрость в природе геноведьм.
Гретель не без усилия вытащила из двери америциевый ключ. Как и прежде, он выглядел безыскусным куском потертого металла с причудливой головкой. Совершенно невнушительная вещь, если не знать ее истинной цены.
— Это не моя хитрость, — сообщила она, без всякой почтительности засовывая ключ за ремень. — Это хитрость Бруттино, которая обернулась против него. В некотором смысле он сам себя перехитрил.
Гензель попытался улыбнуться и сам не понял, удалось ли ему это. Удивительно, что он все еще был на ногах. Конечно, дерево — несгибаемая материя, но иногда и старая акула может показать, что такое настоящее упрямство…
— Он… не выйдет? — Гензель окровавленной рукой указал на купол саркофага.
И ощутил огромное облегчение, когда Гретель уверенно покачала головой.
— Никогда. У саркофага лишь один ключ. Да и тот окажется в болоте в самом скором времени.
— Значит, ты готова к такой жертве?
— Жертве? — Она непонимающе взглянула на него.
— Только не говори, что не думала об этом. Хранилище. Для любой геноведьмы оно стало бы настоящей сокровищницей. Тысячи самых причудливых штаммов и культур!..
Гретель усмехнулась. Судя по ее усмешке, геноведьма тоже прилично устала. Просто не считала нужным это показывать.
— Слишком поздно, братец. Минуту назад сокровищница превратилась в гигантский террариум, набитый самыми смертоносными тварями на свете. И даже я не настолько безрассудна, чтобы рискнуть когда-нибудь его открыть. Теперь это шкатулка Пандоры. И ради всех нас и наших потомков, какими бы они ни были, лучше ей оставаться закрытой на все времена.
— И как долго… — Гензель попытался найти нужные слова, и это далось ему непросто, в голове все еще прилично звенело. — Как долго эти твари будут там обитать?
Гретель пожала плечами.
— Не имею ни малейшего представления. Сотни лет. Может, тысячи. Не знаю.
— Это значит, что Бруттино…
— Да, — легко согласилась Гретель, стирая платком кровь с его подбородка. — Думаю, ему будет немного скучно. Учитывая, что его жизненный цикл почти неограничен…
— Как цветок, обреченный вечно стоять в стеклянной вазе.
— Твои метафоры всегда сбивали меня с толку, братец. Они совершенно бессмысленны.
— Да, я знаю. — Гензель, придерживая себя за бок, попытался сделать шаг и обнаружил, что это дается ему слишком нелегко. — А теперь подведи меня поближе к стеклу.
— Зачем?
— Хочу посмотреть, как ему понравится новая обстановка. Ему придется к ней привыкнуть.
— Любопытство — едва ли положительная черта, братец.
Гензель взглянул на нее и глядел достаточно долго, пока Гретель не потупила взгляд.
— Ладно. Держись за мое плечо. Сейчас ты выглядишь как очень потрепанная акула, братец.
С помощью Гретель ему удалось добраться до саркофага и заглянуть внутрь сквозь толстое стекло.
Бруттино стоял на том же месте, где поймал брошенную Гретель пробирку. Вокруг него ледяными россыпями лежали стеклянные осколки. Пол сплошь был покрыт прозрачной жидкостью, и можно было представить, что это вода из тающего льда.
Гензель мысленно содрогнулся, представив, сколько тысяч смертоносных ядов на самом деле находится в этой жидкости. Даже воздух внутри саркофага должен был превратиться в жуткое месиво из всех возможных генетических болезней. Но Бруттино, казалось, совершенно не беспокоился на этот счет. Он глядел на Гензеля сквозь оболочку саркофага, не шевеля и пальцем. Не кричал, не метался, не пытался пробить бронированную преграду острым носом. Просто стоял и смотрел.
Понял все сразу. Умное дерево.
— Кажется, вся эта дрянь и в самом деле не производит на него никакого эффекта, — заметил Гензель вслух. — Гляди, даже кора не потемнела.
— И не произведет, — сказала Гретель, тоже глядя сквозь стекло на деревянную куклу. — Генозелья воздействуют лишь на человека. Ему ничто не грозит. Он не человек.
— Но это зелье…
— Самое настоящее, — заверила его Гретель. — Я не лгала. Это то, что может превратить его в человека. Сотворить с деревянной куклой маленькое чудо.
Гензель знал, что Бруттино не слышит их: толстый слой стекла препятствовал проникновению звуковых колебаний так же надежно, как и молекул воздуха. Янтарные глаза Бруттино мигнули. Теперь, когда пропала необходимость действовать молниеносно, он двигался удивительно размеренно, как подточенное дерево в лесу, медленно клонящееся к земле. У него ушло не меньше полминуты, чтобы поднять уцелевшую пробирку к глазам. Преломленный тонким слоем лабораторного стекла, янтарный цвет глаз приобрел новый, непривычный оттенок.
Гензель глядел на него не отрываясь, забыв про боль.
— Но если он…
Гретель тоже пристально наблюдала за деревянной куклой.
— Да, — просто сказала она. — Теперь у деревянного мальчика появился шанс, на который он раньше не мог и рассчитывать. Он может выпить содержимое пробирки и стать человеком.
— А… потом?
Геноведьма вновь пожала плечами. Где она успела научиться этому типично человеческому жесту?..
— Как только его генетическая структура изменится, вся та зараза, что находится под куполом, мгновенно распознает его как добычу. И вцепится тысячами голодных ртов. Разумное дерево может существовать там бесконечно долго, но живой мальчик не проживет и минуты. А если и проживет, эта минута будет наполнена самой страшной болью из всех, что известна нашему биологическому виду. С другой стороны… С другой стороны, братец, эту минуту он проживет человеком. Много это или мало?
— Он обрек себя на что-то куда худшее, чем смерть или пожизненное заключение, — пробормотал Гензель, не в силах отступить от стекла. — Он обрек себя на выбор.
Гензель знал, что стена саркофага непроницаема для любой геноинфекции, но все же машинально отнял руку от стекла. Бруттино стоял в прежней позе, сжимая в когтистой деревянной лапе пробирку. Сейчас она была для него и райским нектаром, и смертельным ядом одновременно. Он мог бы раздавить ее неуловимым движением пальцев. Сохранить бессмертие, пусть и оставшись в заточении прозрачного купола, уничтожив при этом свою единственную мечту. Или же выпить, променяв уготованную ему вечность на минуту невыносимых страданий, но умереть человеком.
— Кажется, он еще не готов сделать выбор, — тихо сказал Гензель. — Но я не понимаю. Это же нелогично. Если он выпьет зелье, то окончательно лишится возможности когда-нибудь выбраться.
— Нелогично, — согласилась Гретель. — Между прочим, умение мыслить нелогично — несомненное свойство любого человека. Наша деревянная кукла давно уже в большей степени человек, чем сама подозревает. Что ж, ирония зачастую бывает горька.
— Значит, он так и не отказался от своего навязчивого желания?
— Никогда и не отказывался, братец. Он родился куда более сильным и выносливым, чем любой человек, но его уязвляло то, что человеком ему никогда не стать. Форма жизни, которая казалась ему глупой, непрочной и уязвимой, оказалась недостижима. Но эта форма жизни владела миром, и на ее фоне он всегда оставался чужаком, изгоем, чудовищем. Ему во что бы то ни стало надо было стать человеком. Доказать, что он, лишенный и капли человеческого геноматериала, не хуже прочих. Это сделалось его навязчивой идеей, изувечило психику. Он пытался уверить себя в том, что человечество — дрянь, вырожденная культура, доживающая последние дни, но в глубине души ничего не мог с собой поделать. Ему нужно было стать человеком, хотя бы для того чтобы понять — каково это…
Кажется, у него теперь будет достаточно времени для размышлений.
— Возможно, его странное желание обрекло его самого на самое страшное наказание из возможных, — заметила Гретель, все еще глядя на существо за стеклом. За все это время оно так и не пошевелилось. — Только представь, каково это. Оказаться в вечном заточении, сжимая в руке смешанную с ядом мечту. Бояться ее, ненавидеть и вожделеть. По-моему, даже для такого существа, как Бруттино, это излишне суровая кара.
Гензель смотрел в замершие янтарные глаза и не знал, что сказать. Бруттино больше не замечал их, сделавшись совершенно неподвижным, неживым. И если бы не тусклый блеск его глаз, похожих на сгустки свежей смолы, его тело можно было бы принять за древесный остов из числа тех, что годами стоят в лесу, обреченные, но все еще слишком сильные, чтобы превратиться в труху. Сколько продлятся муки выбора, на которые он сам себя обрек? Сто лет? Двести? Гензель отвернулся от стекла. Едва ли это ведомо и мудрейшим из геноведьм. Быть может, это продлится очень, очень долго. Наверху будет течь обычная жизнь — сменят друг друга короли, исчезнут в радиоактивной пыли города и обновятся наборы всех хромосом. И все это время будет петлять и виться цепочка человеческой генетической линии, претерпевая непредсказуемые мутации и обрастая дополнительными генами, продолжая свой бесконечный, на протяжении тысячелетий, танец. Черт возьми, быть может, уже лет через сто Вальтербург превратится в заплесневелое болото, населенное полуразумными головастиками, которые по привычке станут именовать себя людьми… И все это время глубоко под землей, в толще камня будет терпеливо ждать существо из дерева, которое само обрекло себя на бесконечную муку, самую страшную из всех известных человечеству: муку выбора.
— Пойдем-ка отсюда, сестрица, — сказал Гензель вслух. — Может, ты не заметила, но я все еще истекаю кровью. Еще немного, и тебе придется вырастить себе еще одну деревянную куклу — на замену брату.
Гретель нахмурилась, прозрачные глаза недовольно потемнели.
— Ты хитрая старая акула, братец. Такую не так-то просто отправить на дно.
— Да, — позволил он себе улыбнуться, — хитрая, старая, но очень уставшая акула. Дай-ка плечо, обопрусь… И мушкет не забудь.
Пока Гретель вела его к выходу, Гензель смотрел себе под ноги. И лишь у самого тоннеля, ведущего к фальшивому камину, обернулся. В вечной полутьме огромной лаборатории полусфера саркофага мерцала тускло и заманчиво, как огромная чашка Петри, внутри которой находился в неподвижности один-единственный организм.
Когда америциевый ключ навеки упокоится на болотном дне, ни одна сила уже не сможет ее раскрыть. Так она и будет стоять столетиями, тысячелетиями — огромный сверкающий памятник единственному существу на свете, которое слишком хорошо знало, какую цену надо заплатить за то, чтобы стать человеком.
Одесса
Апрель 2014 — август 2015