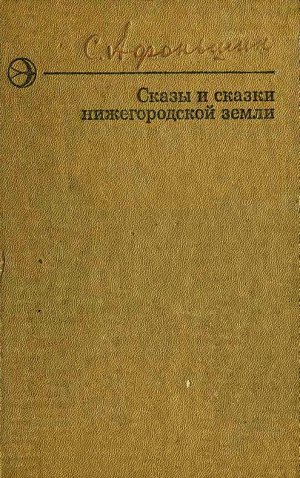
Сказ о яростном олене
В летописях об этой истории ничего не записано. Видно, святые отцы-монахи тут промаху дали либо не успели, из-за недосуга. Это они напрасно. Такие дела да случаи без внимания обходить — все одно что народ без сладких пирогов держать.
Из старых книг известно о том, как во время похода грозного царя Ивана на супротивную Казань, дикие звери — лось да олень — для войска подспорьем в харчах были. Все воины с дикого мяса силы набрались, вдвое храбрее стали и поэтому под Казанью долго не копались. Это не мудрено, такому и поверить можно. А вот кто добывал для войска тех диких зверей, о том ничего не сказано.
Если рассказывать без утайки, то дело так было. На пол-дороге к царству Казанскому отрядили воеводы царские дюжину охочих стрельцов, чтобы добывали они, попутно, для царя, воевод и бояр свежинку к столу. Был конец лета, а по-старинному к успеньеву дню все олени — и сохатые, и рогатые — дикой силы и храбрости набирались, без устали по лесам ходили и на особых боевых урочищах яростно копытом в землю били, врага на бой вызывая. В эту пору бывалому охотнику зверя добыть не трудно. Только те двенадцать московских бородачей напрасно по лесу с пищалями ходили, ничего не видели и не слышали. Под конец нашиблись они на паренька-подростка, что сидел в лесу у костра и лосиную губу кусочками на прутике поджаривал. Подсели стрельцы к огню, парень их ядреной лосиной угостил. Поели и спрашивают:
— А где вся туша?
— Да ваши же люди порасхватали, поразнесли! Кому свежинки неохота?
Завидно стало царским людям, что подросток с луком да стрелой ловчее их и смекалистее, и стали выспрашивать, как он оленей добывает. Но парень своего секрета не выбалтывал, одно сказал:
— Видно, вы по-коровьи реветь не умеете!
Переглянулись стрельцы, ничего не поняли и поволокли подростка к царским шатрам. Вышли из шатров бояре да воеводы бородатые, а один молодой, но грознее всех, в доспехах боевых. Самый старый воевода стал подростка спрашивать, какого он роду и племени, а если холоп, то какого боярина. На это ответил парень, что вырос он у самого Нижня Новгорода, отца с маткой не упомнил, племени холодаева, рода голодаева. Так и в народе его кличут — «Холодай-Голодай, по лесам шагай». Луком да стрелой себе пропитание добывает и добрых людей не забывает. Тут спросил воевода бородатый:
— А царя своего отчего забываешь? Не худо бы и к царскому столу свежинки добыть!
Удивился Холодай-Голодай:
— А почто царю на боку лежать? Пущай по-коровьи реветь научится, свежинка к нему сама придет. А как посидит ночь на ярище, дичина слаще покажется!
Тут самый грозный да молодой воевода, усмехнувшись, сказал:
— Ладно, попробует царь по-оленьи реветь, было бы у кого поучиться!
И тут же приказал коней седлать, на лосиную охоту собираться. Вот и повел подросток царя на охоту в леса нижегородские. Не доезжая до урочного места, коней со стражей оставили, а сами пешком через болото пошли, до дикой сосновой гривы. Там Холодай-Голодай лосиное ярище разыскал, засидку на двоих сделал, царя рядом посадил и, пока засветло, стал учить его сохатых оленей подманивать, лосихой клохтать. Сдавит себе горло руками и охает дико: «Ох! Ох!» — как лосиха квохчет. Потом царю говорит:
— Ну, теперь ты, боярин, попробуй!
Начал царь Иван лосихой охать, да что-то плохо получалось. Сердился Холодай-Голодай:
— Эка голова скоморошья! Ты не по-гусиному охай, а по-лосиному!
И снова учил царя сохатых оленей подманивать. К ночи научился царь лосихой реветь не хуже, чем Голодай!
Оба тихо сидели, урочного часа ждали. Вот и спрашивает тихонько подросток:
— Ты, боярин, хоть старый ли?
— На Иванов день двадцать два минуло.
— Вона как! А мне шестнадцать либо меньше чуть. Однолетки почти!
Когда стемнело совсем, месяц над лесом поднялся, а болото туманом окуталось, и грива сосновая островком в белом море казалась. Тихо сидели. Чуть ворохнется царь Иван, как Голодай его в бок толкал и кулаком грозился:
— Сиди, боярин, тихо, не вокшайся!
Так ждали они до полуночи, когда в разных сторонах стук да треск послышался, будто кто-то сучки ломал и по деревьям стучал. Тут Холодай-Голодай царя в бок легонько толкнул:
— Мани, боярин!
Начал царь всея Руси сохатой коровой охать-реветь. Ничего, хорошо, очень похоже получалось! Когда поохали попеременно, то царь Иван, то Холодай-Голодай, вышел из тумана на гриву страшенный лосище с огромными рогами. Остановился на ярище, обнюхался, прислушался и начал копытами землю копать да бить. Загудела земля, как живая, а глаза звериные при месяце разными огнями светились. И так разъярился сохатый, на смертный бой противника вызывая, что царю с непривычки жутко стало. Схватил он свою пищаль дареную аглицкую и напропалую выстрелил. Замер зверь, насторожился, глазами и слухом врага разыскивая. Тут паренек Голодай тугой лук натянул, зыкнула тетива и задрожала стрела, пронзивши лосиное сердце. Задрожали ноги сохатого и, вздохнувши шумно, свалился он на белый мох.
Немедля, при свете месяца, начал охотник добычу свежевать, а царю сказал:
— Неча, боярин, без дела сидеть, доставай огниво, разводи костер!
Пошарил грозный царь Иван по карманам — нет огнива!
— Какой же ты вояка, без огнива на татар идешь! — попенял Голодай и живо костерок развел. Потом лосиную губу на кусочки разрезал, на прутики повтыкал и спросил:
— Нет ли сольцы, боярин?
Но соли у царя в карманах не оказалось.
— Какой же ты охотник без соли?
Достал Голодай из сумы тряпочку, высыпал остатки соли на царское кушанье и начал обжаривать.
А тут и солнышко взошло, пригрело, и заснул царь Иван у костра на беломошнике. И приснился ему диковинный сон. Будто бы обложил он столицу Казанского царства кругом своим войском. Бьются воины русские головами о стены Казани, и колоколами гудят и звенят их шеломы. А татары со стен крепостных зубы скалят, насмехаются, гогочут и ржут по-лошадиному. Вдруг из тумана седого, что над берегами волжскими плыл облаком, показался сохатый олень, да такой большой, что вся Казань у него под брюхом оказалась. Как начал тот лось яростно копытами бить да рогами бодать, и полетели к небу камни крепости, дворцы и мечети, ханы и ханши, мурзы и воины!
Проснулся царь Иван радостный, а когда поел жареной лосины с угольков да губы лосиной с вертела, почувствовал в себе силу и бодрость небывалую и сказал, что такой еды и по праздникам не едал. И в тот же день, вернувшись к шатрам, царь поставил Голодая старшим над всеми царскими охотниками, приказал во всем его слушаться, научиться сохатых и рогатых подманивать, чтобы мясом звериным яростным кормить воинов до самой Казани. Дело тут совсем ловко пошло. Войско вперед подвигалось, а охочие стрельцы под началом Голодая сохачей и оленей добывали. Скоро все воины, поевши вдоволь свежинки, силой и духом поправились и, придя под Казань, долго не мешкались и в осенний день покрова за один раз приступом взяли. Вот так и оправдался сон грозного царя Ивана. Яростный нижегородский сохач рогами разметал, ногами растоптал вражью крепость дотла.
После победы над казанскими ханами, на обратном пути в Москву, царь Иван в Нижний Новгород заехал, а московские бояре туда же прибыли царя с победой встречать да славить. И начался в столице земли низовской великий пир. В начале пира спохватился царь, про Холодая-Голодая вспомнил и разыскать его приказал. А когда того сыскали да привели, рядом с собой за стол посадил. Не по губе-то это боярам да царским слугам пришлось. Охотник не ведал о том, что простому человеку рядом с сильным мира посидеть не на радость да счастье выходит.
На пиру мед-брагу ковшами пили да вина заморские, студнем-холодцом лосиным закусывали. А как отведали московские гости-бояре жареной лосиной губы, сказали, что за всю жизнь слаще ничего не пробовали. На том пиру заморские гости были, своими землями, городами и гербами похвалялись. Вспомнил тут царь Иван, что обширные земли низовские никаким гербом не отмечены. И задумался сурово, очи прикрывши. В глазах его, как живой, стоял зверь красоты дикой, невиданной, яростно рогами бодал и ногой в землю бил. И тут же на пиру указал грозный царь, что быть Нижнему Новгороду и всей земле низовской под гербом сохача яростного, что помог ему казанскую твердыню взять. И вскоре появился на царских печатях и воротах нижегородского кремля буйный сохатый олень, бьющий в землю передним копытом.
Прибыв в Москву, царь с боярами еще пир на всю столицу задали. Но казалось царю Ивану, что не так хороши были яства на том пиру, как оленье мясо с угольков и прутиков у костра в нижегородских лесах. И гневался грозный царь на своих стольников и поваров.
А Холодай-Голодай опять по приволжским лесам ходил, стрелой да копьем пропитание добывал. Но через год либо два после казанского похода налетела с востока, вместе с ветрами-суховеями, язва моровая на всяких копытных зверей и домашнюю животину. Стали олени сохатые и рогатые от той язвы валиться, а самые разумные на полночь за Волгу пошли. Но и там не все спаслись от гибели, совсем мало в живых осталось. И стало пусто в нижегородских лесах, не гонялись по гривам и болотам разъяренные сохачи и олени, только кости да рога валялись. Охотника Голодая эта беда тоже за Волгу прогнала. Трудно в те годы было людям Заволжья жить, после моровой язвы скота не осталось, а олени долго не распложались. Теперь уж не помнят люди, сколько лет эта беда тянулась. Только получилось так, что понадобились грозному царю Ивану на праздничный пир лосиная губа да студень-холодец олений, чтобы было чем хмельную медовую брагу заедать. Поехали царские охотники в Лосиный остров под Москвой, но и там после мора в лесу пусто было. Вспомнились тут царю леса нижегородские и послал гонцов-стрельцов в Нижний Новгород за олениной и лосиной губой.
Струхнули тут нижегородские знатные — и бояре, и воеводы, и торговые люди. И рады были царю угодить, да не знали как. Вот дознались они, что охотник Холодай-Голодай за Волгой на моховых буграх живет, где оленей всегда было полно, стрелой да копьем пропитание добывает, в зимнице спит, у костра обогревается. И послали к нему людей с наказом, чтобы добыл для царского стола лося сохатого да оленя рогатого. Походил, побродил Голодай по заволжским лесам, воротился к боярам и сказывает:
— Нетути за Волгой ни лося, ни оленя. Одна матка олениха с малыми оленятами ходит!
— Ну, ино матку бей! — приказали бояре. — К царскому столу еды надо!
Заупрямился тут Холодай-Голодай:
— Не трону матку, она одна осталась на всю сторону! И холуям вашим погубить не позволю, а коли нахрапом полезут, так стрелой проколю!
Рассердились воеводы и бояре на упрямца, кнутом отхлестали и послали со стрельцами за Волгу оленины к царскому столу добывать. Но Холодай со своими дружками-охотниками, вместо того чтобы боярским людям помогать, на них же самострелов насторожили, ям накопали, чтобы до оленей не добрались. И вернулись боярские горькие охотники без добычи, зато калеками хромыми да одноглазыми. Насовсем тут разозлились бояре и слуги царские, поймали Голодая, в город приволокли и в темницу кремля затолкали.
После того не одно лето пришлось царю с боярами и опричниками пировать без дичинки-свежинки нижегородской, поэтому, наверное, и дела царские хуже пошли. Холодай-Голодай в застенке томился, всеми забытый, а благодарная ему олениха ушла с детками бродить по далеким краям, по хлыновским и удмуртским лесам, по Вятке да Каме рекам, нигде не останавливаясь. И все олени, и сохатые и рогатые, смекали своим догадливым звериным умом: «Видно, к привольным кормным местам старуха с дочками спешит либо зиму небывало суровую чует!» И, послушные непонятному зову, шли за оленихой на заход солнышка, к Волге широкой, к привольным моховым горам. И десятка лет не прошло, как в нижегородских лесах снова расплодилось племя оленей.
Не один год Холодай-Голодай в темнице пропадал, томился, и остался бы там до смертного часа, да, видно, судьба надумала иначе. Под старость грозный царь Иван затосковал вдруг, от войны, пиров и молитвы его отворачивать начало, хотел отдохнуть духом и телом, но не находил покоя. Вот приснился как-то царю Ивану сон, что месячной ночью с отроком-охотником в лесу на гриве сидит, пищаль наготове держит, зверя поджидая. И в радостной тревоге билось сердце царское усталое, замирая сладостно. Когда же проснулся царь, поманило его не на пиры и безумные радости, не в церковь грехи замаливать, а позвало неудержимо в леса нижегородские, зело веселой утехи в последний раз изведать. Приказал он своим прислужникам коней седлать и отправился по дороге Муромской в Нижний Новгород.
Там грозный царь Иван дознаваться стал у бояр и служивых людей о том, жив ли, проживает ли в нижегородской земле ничейный человек Холодай-Голодай, что в походе на Казань помогал охотой войско кормить. Перепугались хозяева города, немедля из застенка Голодая выпустили, помыли, накормили и чуть живого перед царские очи привели. Не вдруг они друг друга признали. Удивился царь:
— Видно, ты и вправду холодал да голодал, пока меня не видал?
— Ну и ты, надежа-царь, не добрым молодцем глядишь! Не сладко, знать, на Москве тебе живется!
Так Голодай царю сказал, но жаловаться на пережитое не стал. Не откладывая надолго, царь с Голодаем за Волгу отправились, бояр да прислужников на берегу ждать оставили, а сами на моховые бугры да гривы пошли, где звери водились. Долго ходили, наконец выбрал Голодай одну гриву, на которую, по приметам, ночами сохатые яриться приходили, и тут засидку на двоих устроили. Засели и стали ночи ждать, а чтобы не скучать, тихий разговор повели. Спрашивает царя Голодай:
— Ты, надежа-царь, чай, старый стал?
— Скоро умру! — ответил грозный царь.
— Оно и пора! — согласился охотник. — Заживаться на белом свете — оно невыгодно. Как пораньше умрешь, кто-то да пожалеет, а до немощи дотянешь, так только рады все будут, что бог старика прибрал!
Усмехнулся горько-горько грозный царь Иван, припечалился и ничего в ответ не сказал.
В половине ночи, когда месяц круглый бугры и гривы осветил, начали они попеременно рогачей подманивать. Вот откликнулся один, на бугор вышел и стал яростно копытами в землю бить, рогами деревья бодать, глазами и слухом врага разыскивать. За первым зверем другой да третий вышли, копытами землю копали, врага на бой вызывали. И затрепыхалось, затукало по-новому измученное сердце царя Ивана, и казалось ему, что за всю жизнь он не знал, не испытывал такой тревожной радости.
До зимних заморозков охотился грозный царь в нижегородских лесах. Бояре на Москве уже радоваться начали, надеялись, что государь совсем сгинул. А он и прибыл вдруг, а следом за ним привезли на санях добычу царскую, бурых сохачей и оленей седых. Когда бояре, воеводы и гости заморские отведали у царя на пиру оленины жареной да студня лосиного, не знали, что больше хвалить, чтобы угодить царю, лосину или оленину. А грозный царь Иван только одно вымолвил, что до конца жизни не забудет охоту в нижегородской земле на зверя столь яростного, красивого и храброго!
Тогда на пиру никто не понял, какую охоту царь хвалил, оленью или лосиную. Но чиновные люди, чтобы царю угодить, задумали переделать на скорую руку герб земли нижегородской: вместо сохатого, буйного да яростного, изобразить оленя рогатого, бьющего в землю копытом. Только ничего у них в тот раз не получилось, и зверь на царских печатях и на лося и на оленя стал смахивать. Наверное, потому, что те чиновники в заволжских лесах не бывали, в засидке с Голодаем не сиживали и ни оленя рогатого, ни лося сохатого живым не видывали.
После отъезда царя Ивана нижегородские бояре Голодая-Холодая в темницу больше не прятали. Поселился он в своей избе на Студеном посаде, по зимам за Волгой сохатых и рогатых оленей добывал и через нижегородских мясников в Москву на царский двор отправлял. И была у грозного царя на пирах дичина до самой его кончины. Помнил и согласен был царь Иван со словами охотника Голодая о том, что заживаться на белом свете не выгодно, и умер не очень старым. Но жалеть и плакать о нем было уже некому.
В годы лихолетья, когда задумали нижегородцы воровских ляхов из Москвы выкурить, стали они войско набирать, оружие и продовольствие запасать. Насчет мяса тогда туго было, всю скотину вокруг ляхи да казаки разбойные загубили. Дикие звери сохатые и олени недалеко за Волгой табунами паслись, только взять их не просто было, лямку на рога не накинешь, на двор не приведешь. Зверя добыть — не дерево подрубить. Тут вспомнили старожилы, что на Студеном посаде старик Холодай-Голодай живет, тот самый, что, бывало, с царем на оленей хаживал. Разыскали старика и за Волгу охотой промышлять послали. Давали было ему охочих людей в помощники, но Голодай от них отказался:
— Старых дружков да лесовиков-охотников позову, а ваше дело добычу к месту прибирать!
До конца зимы Голодай с товарищами сохатых да оленей добывали. Нижегородцы для своего ополчения дичины впрок запасли и перед трудным походом ополченцев свежинкой кормили, чтобы все воины силы набрались. По весне, перед выходом ополчения из кремля, вернулся из-за Волги сам Холодай-Голодай, а с ним за полсотни охотников разных племен, с рогатинами, копьями да пищалями. Только что отгудели колокола, народ Михаилу-архангелу помолился, русского воинства покровителю, и все войско ополченное, готовое к походу, под хоругвями нижегородскими стояло. Когда подвел старый Голодай свой отряд к воеводам, тот, которого народ запросто Минычем звал, спросил старика:
— Ну как, дед Голодай, сам свое войско на ляхов поведешь или под мое начало отдашь?
— Не будет худа, коли и сам пойду! — ответил старик. Потом глянул на хоругви ополчения нижегородского со крестом и оленем яростным и такое сказал:
— Нашему-то олешку да ярославского медвежка на помогу бы позвать!..
Сразу смекнули воеводы ополченские, на что старый Голодай намекает, посоветовались между собой и порешили, не прямо на Москву идти, а через Ярославль, город под медведем. И не напрасно они так надумали. Ярославцы да костромичи изрядно помогли нижегородцам, ратной силы в ополчении прибавилось. Тогда и на вражьих ляхов двинулись.
Дело в конце лета было, когда все олени, и сохатые и рогатые, силы набрались и рога вырастили, без устали по лесам ходили, землю копали и ярились, врага на бой поджидая. Пока войско до Москвы добиралось, Холодай-Голодай со своей ватагой не плошали, попутно яростных оленей добывали и той свежинкой всех воинов кормили. С мяса лосиного да оленьего силы и храбрости у воинов въявь прибавилось, и под Москвой с ляхами-захватчиками скоро расправились.
А дикий олень на хоругвях и стягах войска нижегородского, гордый своей породой, в благородной ярости угрожал и копытом, и рогами, радуясь победной битве над врагом-супостатом.
Сказ о счастливой подкове
В славном да Великом Новгороде при Волхве-реке жил кузнец Скоромысло, смекалистая голова, сноровистые руки. Жил — не горевал, землякам-новгородцам железо ковал, кому что надо: торговым людям весы да запоры, ратникам — мечи да копья, а ратаям — сошники да орала. Никакое дело от рук Скоромысла не отбивалось, заморские гости и те знали к нему дорогу. Три молодца-сына отцу в кузнечном деле помогали, всякую вещь на славу ковали, чтобы люди довольны были.
Свое ремесло кузнечное Скоромысло широко повел, железо и медь у боярина Мирошкиныча покупал, а иной раз и под запись брал. А займодавец-боярин все Кузнецовы долги на особой доске записывал и пеню-проценты к ним присчитывал. И росли долги кузнеца на деревянной доске, как тесто на хмельной опаре. Только скопит деньги, чтобы с боярином расквитаться, хвать — долги к тому часу втрое выросли! Вот так и попал честной кузнец в кабалу к боярину. Начал займодавец старого кузнеца стращать: либо в долговой яме с железом на шее сидеть, либо работать на боярина без срока, без отдыха, ковать кандалы и цепи железные на строптивых новгородцев, на молодцов из вольницы.
Как поведал Скоромысло сыновьям о своей беде, стукнули молодцы-кузнецы по наковальням молотами тяжелыми и молвили:
— Не бывать тому, чтобы честной старик, наш отец родной, с железом на шее у Мирошкинычей в яме сидел! Не ковать нам кандалы да цепи на несчастных людей в угоду займодавцу-боярину!
Подговорили кузнецы своих дружков из вольных ушкуйников, пособрали инструмент кузнечный, баб да ребятишек да и пропали из Новгорода темной ночью, словно в воду Волхова канули. Через леса и болота, речками и озерами, а где и посуху, волоком, добрались кузнецы с ушкуйниками до истоков великой русской реки и с великим трудом на широкое русло выплыли. Тут распрощались кузнецы-новгородцы с дружками из вольницы и на трех ушкуях вниз по Волге поплыли.
В конце весны причалили ко граду Радилову три ушкуя загруженные, с народом старым и молодым, с бабами и ребятишками. Княжья стража к ним навстречу повысыпала, окружила и доведываться начала, кто да откуда. Самый старый из ушкуйников таково сказал, что плывут они от самого Новгорода с Волхва-реки, а об остальном только самому князю поведает. Удивились княжьи люди-стражники:
— Вот лютой какой — с князем говорить захотел! А как ты да лихо задумал?
— Али вы басурманы какие, что русских людей до своего князя не допускаете? — ответил старый новгородец.
Потолковали между собой дружинники, окружили кузнецов с бабами и детками и на княжий двор привели, за стену частокольную, за ворота дубовые, железом кованные. Вышел на резное крыльцо терема сам князь Юрий Всеволодович, гостей окинул взглядом пытливым. Тут старый Скоромысло вперед шагнул, низенько князю поклонился и о своей беде рассказал. А закончил словом таким: «Не поднялась рука ковать железы на братьев-новгородцев, хотим ковать мечи и шеломы для твоих воинов!»
Приметил князь, что старый кузнец, разговаривая, изредка головой кивал, словно носом клевал или шапку-невидимку с затылка на лоб стряхивал. И спросил по-доброму:
— А отчего ты, старик, головой, словно дятел, долбишь?
В ответ широко, от души улыбнулся старик:
— А я Дятел и есть! За привычку головой кивать сызмала так прозвали. Скоромысло по имени, Дятел по прозвищу. И все племя мое — детки со внучатами — Дятлами прозваны! Нет у нас, князь, ни кубков золотых, ни ковшей заморских серебряных, ни мечей булатных дамаскинских. Но привез я тебе из Новгорода дар диковинный…
С теми словами достал кузнец из кожаной сумы подкову конскую, в походах досветла избитую, и к ногам князя положил.
— Мы, новгородцы, от заморских гостей примету переняли: кто подкову найдет, тому счастье само придет, кому подкову дарят, тому счастье в руки валят, удачу в жизни сулят!
Поднял Юрий Всеволодович подкову дареную, оглядел всю семью Скоромыслову и позадумался. Потом такое сказал:
— Невыгодно мне вас здесь на житье оставлять. Да и вам тут, после жизни новгородской, тесно покажется. Но поселю тебя, старый Дятел, на таком приволье, что князем будешь жить. Заморского вина вам не пивать, в шелках своих баб не одевать, но житье будет вольготнее княжеского. Живут там рыбари, монахи да пахари, деревянными оралами землю ковыряют, голыми руками жито с поля убирают, на костяные крюки осетров ловят, а железный гвоздь да топор для них дороже золотого ковша! Будешь там жить и ковать и ремеслом своим мне, твоему князю, служить. А железом и милостью я тебя не забуду!
В тот же день кузнецы Дятлы с княжескими провожатыми вниз по Волге поплыли до диких лохматых гор, под которыми Ока в Волгу вливалась. Тут бывалые княжьи люди место для причала выбрали и высадили семью Скоромыслову при устье ручья, что промеж гор по оврагу бойко бежал. Огляделись Дятлы и начали строиться да обживаться. На помогу коренные жители пришли — и русь, и мордва, и черемисы с той стороны. Помогали и словом добрым толковым, и работой спорой. Оправдались слова князя Юрия, что кузнецам напоследок сказал: «С русскими уживайтесь и мордвой не гнушайтесь. С мордвой брататься да кумиться грех, зато лучше всех! А у черемис только онучки черные, а совесть белая!»
Скоро появились на склоне горы над ручьем новые просторные избы с крохотными оконцами, а ближе к воде — кузницы. И ожили дикие берега при слиянии двух могучих рек. Пылающие горнила кузниц манили к себе людей, как маяки, и со всех сторон потянулись люди к поселению новгородца Скоромысла. А старый Дятел и его сыновья с темна до темна ковали и ковали все, что на потребу было русскому, мордвину, черемису-заволжанину: мечи и орала, копья и медвежьи рогатины, топоры и остроги, подковы и гвозди. И прошла о Дятловых кузнецах великая слава вверх по Оке и в оба конца Волги Великой.
Дремучие горы днем хмуро вековыми деревьями зеленели, а по ночам сверкали пылающими горнилами кузниц. И дивился народ радостно: «Куют и куют наши Дятлы, рано встают, поздно ложатся и устали не знают!» А когда волжские булгары русь и мордву грабежами на полночь потеснили, кузнецам спать и вовсе некогда стало. Побросавши жилье и добро, бежал народ от булгар к Оке, новые места обживать и у Дятловых кузниц по горам, как пчелы вокруг матки, селиться и роиться начали.
И первым делом в кузницу, ковать топор и мотыгу, острогу да рогатину. Кузнечихи Скоромысловы тоже сложа руки не сидели. Научили они русских и мордовских баб заморские кружева плести, цветные узоры по одежке вышивать, шерстяные рубахи-подкольчужницы вязать. Вольготно зажили кузнецы Дятловы, часто добрым словом князя Юрия вспоминали.
А для князя Юрия Всеволодовича с того дня, как Скоромысло ему подкову на счастье поднес, сплошные удачи начались. Поначалу в Суздаль на княжение перебрался, а потом и великим князем стал. Дареную подкову князь над порогом терема прибил и Скоромысла не забывал. Как узнал он, что булгары приволжский народ зорят и новым походом грозят, послал по Оке челны с железом и людей с наказом, чтобы наковали кузнецы подков и подковных гвоздей на княжий полк. И только успели Дятлы тот наказ выполнить, как от Владимира походом на булгар дружина пошла во главе со Святославом, братом князя великого. На устье Оки остановился Святослав, от пыли отряхнуться, доспехи поправить, коней перековать, Позвал князь к своему шатру всех кузнецов рода Скоромыслова и спрашивает:
— Можете ли, хватит ли вашей силушки мой полк заново перековать, боевым коням копыта подровнять, старые подковы на новые сменить?
В ответ ухмыльнулся старый Дятел хитро таково:
— На то мы и кузнецы. Кто чего заслужил, тому так и сделаем!
И тут же кузнецы за дело взялись. Не заводя в станок, с колена лихих коней ковали, сами работали и воинам показом помогали! Потом как пошла Святославова рать на булгар, кони гололедь в брызги разбивали, из камней огонь высекали, вражьих коней острыми подковами разили. Разбил, разогнал Святослав вражью рать по чистому полю. После того булгары миру запросили, много добра уплатили и зареклись русь и мордву обижать. Княжья дружина домой ко Владимиру поворотила с победой, а кузнецы Дятлы опять за мирную работу взялись, железо ковали, кому что надо. Лето ли, два ли прошло, как вдруг нежданно-негаданно опять дружина пришла, со князем Юрием Всеволодовичем. Весь народ с гор спустился великого князя встречать, а впереди других кузнецы Дятлы с хлебом-солью на белой скатерти. Вот тут и сказал князь Юрий старому Скоромыслу слово приветливое:
— От подарка-подковы мне удача в делах и в жизни пошла. Мастерством своим помог ты, старик, дикий край оживить, заселить и диких булгар усмирить. А теперь помогай этот край от врагов на веки веков укрепить!
И поведал князь о том, что задумал он русское поселение на приволжских горах валом да крепостью обнести. В тот же день Юрий Всеволодович сам гору обошел, осмотрел и указал, где башням быть, где крепость городить, рвы копать, валы насыпать. И зашумел народ вокруг Дятловых кузниц. Рады были люди, что их избы да клети будут городьбой обнесены, частоколом дубняка долговечного, и старались на постройке крепости изо всей силушки. А кузнецы Дятлы всю работу намертво железом скрепляли. От весны до весны прожил князь Юрий под новым градом, доглядывал за постройкой вала и крепости с башнями на шесть углов из бревен дубовых. И, заложивши под конец на круче холма церковку, засобирался князь ко стольному граду своему Владимиру. Вот позвал Юрий Всеволодович к своему шатру всех кузнецов рода Скоромыслова, за стол княжеский пировать на прощанье, и молвил Дятлу старому:
— Ну, старина, попрощаемся! Ты мне подкову на счастье поднес, а я тебе на горе подкову выстроил!
И кивнул князь на городьбу с башнями. Как глянули Дятлы на ограду кремля, видят — и вправду она подковой глядит. Повеселел князь, глядя, как кузнецы дивуются.
— Это тебе за подкову, кузнец, целый Юрьев-град! Доволен ли? — Ничего не ответил старый Дятел, но задумался. Потом молвил не торопясь, раздумывая:
— Не надо, князь, града Юрьева. Не называй его своим именем. Придет супостат, покорит, разорит, над твоим именем насмеется, своим назовет. А нареки ты наш град Новгородом, будет счастливое имя и долговечное!
Тут князю Юрию Всеволодовичу пришла очередь призадуматься. Но скоро он дело смекнул и сказал:
— От тебя, старик, не только удача да счастье — и советы идут толковые. Быть граду Новгородом, а старому Дятлу в нем заместо моего воеводы и посадника!
Дремали под небом и солнцем суровые горы, в Оку да Волгу как в зеркало гляделись, словно любовались новым венцом-подковой, что чело их венчала. Дозорные воины с башен из-под руки во все стороны зорко глядели, Новеград от ворогов стерегли. А в деревянной церковке на темени горы божьи слуги молитву Михаилу-архангелу возносили, покровителю воинства православного. И с каждым годом росло население за стеной кремля и в посадах вокруг города. Булгары на Каме-реке смирно жили, издалека чувствуя сильную руку князя Юрия, мордва заодно с русским людом поближе к Новому граду теснилась, русскую веру и обычаи перенимала. Да и с левой стороны Оки народу не страшно стало на правый берег переселиться. Поредели вековые леса, кругом города поля распахивались, посады и деревни выросли, торговля и промыслы бойко пошли. Стучали, гремели, огнями сверкали Дятловы кузницы, поспевая людям служить: немало понадобилось новых сошников и топоров, копий и рогатин, подков и гвоздей. Старый Дятел от молодых кузнецов в работе старался не отставать, но и по граду пройти не забывал, крепость и посады хозяйским оком окинуть. А кремль на старика исполинской подковой глядел и князя Юрия забывать не велел.
Так прошло немало лет. Старый кузнец поседел, в кузницах его сыновья да внуки наперебой молотками стучали, а Новгород земли низовской мужал и богател на радость жителям и князю Юрию.
Но, видно, подкова счастья над порогом княжьего терема вдруг служить отказалась, и пришла на Русь Суздальскую беда нечаянная, неминучая. Доплеснулась волна татарская и до Дятловых гор, поразметала стены частокольные и в кремль-подкову ворвалась. Похватали монголы-воины кузнецов, окружили и к своему хану Чалымбеку привели. И приказал тот Чалымбек, чтобы кузнецы Дятлы без сна, без отдыха подковы да гвозди для татарской конницы ковали. Да потребовал еще с каждой живой души по паре подков и дюжине подковных гвоздей. За это посулил хан города не зорить, не палить и людей не угонять, а кто подковами не откупится, тому татарских плетей и неволи не миновать. И поскакали монголы дальше, на заход солнышка, остатки Руси топтать, князей полонить.
А кузнецы Дятлы, не мешкая, принялись наказ хана исполнять. Старый Скоромысло по кузням ходил и всех учил, как подковы ковать и шипы наваривать, чтобы недолго служили, скоро разлетались. Да еще словом и делом показывал сыновьям и внукам, как умеючи подковные гвозди ковать и затачивать. Со всех сторон к Дятловым горам народ повалил, несли люди последние топоры на подковы переделывать, чтобы было чем от неволи и плетей откупиться. И ковали кузнецы-молодцы и подковы и гвозди, никому не отказывая, так, как их старый Дятел учил.
Порыскавши по низовской земле, монголы у Дятловых гор станом на отдых стали, коней на новые подковы перековали и снова на Русь ринулись, на князя Юрия. Но конница татарская в пути вдруг хромать начала, редела и таяла. А когда до битвы дело дошло, подковы на части разлетались и копыта коней калечили. И разбил Юрий Всеволодович рать Чалымбекову, как сокол ясный стаю серых ворон. Собрал Чалымбек остатки своего войска, отступил и послал гонцов к хану Бурундаю за помощью. Разоривши Владимир-град, подвалил Бурундай и силой ратной, как тучей темной, окружил рать суздальскую с одной стороны, а Чалымбек с другой. Тут и полегла дружина княжеская в сече жестокой, а с ней и сам князь Юрий Всеволодович.
Три дня пировали татары после победы на Сити-реке, победой и зверством своим похваляясь. Потом перековали всех коней на новые подковы, что с русских людей собрали, и пошли на Великий Новгород. Пошли, да недалеко ушли. Опять стали подковы на части разлетаться, разваливаться, кони захромали, обезножились, и повернула вспять вся великая рать Бурундая.
Загоревал, запечалился старый Дятел, когда узнал о гибели Юрия Всеволодовича, но воспрянул духом при вести о том, что татары не пошли к Великому Новгороду из-за хромоты, напавшей на басурманских коней. А хан Бурундай с Чалымбеком догадались, отчего на их конницу беда навалилась. Созвали на совет самых старых да бывалых воинов-соратников Чингисхановых, копыта коней ощупывали, подковы да подковные гвозди разглядывали, ругались, гадали да спорили. И рассудили, разгадали дело трудное:
— Эти кузнецы из града на диких горах — колдуны русские. Видно, ковали они в час полуночный, призывая всех духов злых на погибель нашей конницы!
И послали к Новгороду низовскому отряд самых свирепых воинов — с лихими кузнецами расправиться. Вот прискакали басурманы, от славянской крови озверевшие, в осиротевший град ворвались, все племя Скоромыслово похватали, по рукам и ногам связали. И рано поутру, когда из-за Волги только что солнышко выглянуло, пленников на взлобок холма вывели. Сначала старого Дятла головорезы наособо поставили и дознаваться начали, почто и каким колдовством они, кузнецы, зловредные подковы для монгольской рати ковали, много ли еще таких подков понаделано и куда отправлено. На то старый кузнец за всех отвечал:
— Слыхано от дедов-прадедов, что с Олегом в походы хаживали: «Подкова — коню не обнова, да в бою страшнее палицы. Как подковать, так и воевать!» Вот и мы вас, кровожадных псов, подковали на все четыре ноги, да так, как душа подсказывала! И с каждым часом и днем все тошнее и труднее будет вам по Руси скакать, нашу землю топтать!
Тут главный злодей саблей взмахнул. И покатилась голова старого Дятла с горы в овраг, к порогу кузницы. Поотрубали татары всем кузнецам головы, а хоронить заказали, чтобы нижегородский народ устрашить. Но в первую же ночь смелые люди всех погибших тайно похоронили, дерном прикрыли, только холмы не насыпали да кресты не поставили, чтобы басурманы о том не ведали. Так и теперь никто не знает, где те кузнецы-молодцы со старым Дятлом похоронены.
На долгие годы притихли Дятловы горы и кузницы. Сменялись князья и поколения нижегородцев, не один раз перестраивались и подновлялись стены и башни кремля. Но и сегодня этот каменный старец по форме своей напоминает огромную подкову, олицетворяя смекалку, силу и мужество народа русского.
Сказ о башне Белокаменной
В то лето, как великий князь московский задумал Нижний Новгород кругом каменной стеной обнести, томились в нижегородских темницах молодцы-удальцы из новгородских ушкуйников, а с ними их земляк Данило Волховец. Совсем молодым пареньком он в Новгороде Великом на возведении детинца трудился — камни тесал, кирпичи подносил, известь месил. Да и мастером стал. А когда детинец построили, другие ремесла от заморских мастеров перенял и стал искусником на всякую руку — и меч выковать, и колокол отлить, палаты каменные выстроить и судно морское починить заново. И такой тот Данило Волховец был толковый да памятливый, что перенял говор заморских гостей, что в Новгород по торговым делам наезжали.
Вдруг в жизни Волховцу перемена вышла. Решился он с новгородскими ушкуйниками на Волгу податься, на вольный свет поглядеть, другую жизнь повидать. Ушкуйники люди верные, но отчаянные головушки, с ними подружиться — все одно что в «орлянку» сыграть: либо «орел», либо плата-расплата! Так и у Волховца получилось. Попались они в цепкие лапы стражи княжеской и очутились в темницах Нижня Новгорода. Чуть не год сидели в застенках молодцы-удальцы, солнышка не видели, жаждой, голодом мучались. Ладно, что добрые люди сквозь решетки бросали им подаяние. Но одним солнечным днем распахнулись двери тяжелые, и всех узников из темниц на волю кликнули:
— Эй, вылезай на свет, кровь разбойная!
Высыпали из башни каменной изнуренные новгородцы и пошли за стражей на горы высокие копать рвы глубокие, камни тесать, кирпичи таскать, стены крепостные выкладывать и башни под самые небеса поднимать. Скоро смекнул воевода Волынец, слуга князя великого, что напрасно новгородских молодцов в застенках держали, давно бы их к делу крепостному приставить, такие они сноровистые да ловкие в работе были! А первым среди них — Данило Волховец. И посулил воевода всех новгородцев за отменную работу на волю отпустить, а Волховца поставил главным мастером над всей ватагой каменщиков.
Не одно лето трудились новгородцы рука об руку с коренными нижегородцами. Крепко-накрепко строили, не простой кладкой, а крестовою, а известь так хитро да умело гасили, что схватывала камень и кирпич намертво. Знали и умели люди русские, как кремль против ворогов строить: неспешно да надежно, на веки веков! Вот и показалось князю великому Василию, что нижегородская крепость строится мешкотно. И послал он в Нижний Новгород искусника и мастера по крепостям итальянца Петруху Франческо с помощником Джовани Татти. Оба прибыли разряжены по-заморскому, в шапочках диковинных, в плащах-накидушках и при шпагах, как настоящие воины. Мастер Петро Франческо всем русским по нраву пришелся, сразу угадали в нем человека великого духа и мастерства. А помощник его, Джовани Татти, был настоящий головорез, заморский хвастун и задира. Чуть что — и за шпажонку свою хватался, на ссору, на драку напрашивался. В крепостном деле только понаслышке смекал, а своими руками и одного кирпича не вкладывал. И за все его проделки и выверты переделали русские люди имя Джовани Татти на свой русский лад — «Жеваный Тать».
Начал было распоряжаться этот разбойник Жеваный Тать над артелью новгородцев, приказывал класть крепость не крестовой кладкой, а простой, чтобы скорее дело шло. Вот и стали рассуждать между собой русские мастера-каменщики, что кремль нижегородский строили: «Доколе будем терпеть ругань да понукание в убыток Руси и Нижню Новгороду? Некрепко крепость класть — в беду попасть! У иноземных мастеров одна заботушка — поскорее мошну набить и за море уплыть. А нам перед всей Русью ответ держать!»
Знал Данила Волховец, что правду говорят мастера-нижегородцы. Не раз слышал он, как Джовани Татти уговаривал Франческо крепостные дела торопить и восвояси домой спешить. Вот выбрал Данила время, когда воевода Волынец с Петром Франческо вместе мимо проходили, и рассказал им о недовольстве мастеров-нижегородцев. А Петруха Франческо и сам приметил, что нижегородцы да новгородцы и без подсказки и указки надежно и умело крепость кладут. Особо отличал он Данилу Волховца и часто маэстром называл-величал, это по-иноземному, а по-русски сказать — искусник и умелец большой. Вот после того и приказал он своему помощнику Татти: «Не неволь русских по нашему способу стену класть. Их кладка крестовая чуть помешкотней, зато долговечнее!»
Воевода Волынец в тот раз с Данилой тоже ласково обошелся, и опять посулил всех новгородцев вольно поселить в любом посаде Нижня Новгорода, как только закончат постройку крепости. А тальяшка, этот Жеваный Тать, после того еще злей стал придираться к русским каменщикам, и особо к мастеру Даниле Волховцу.
Жила в ту пору на верхнем посаде одна девка-краса, темные глаза, толстые косы, а улыбнется — словно бутон розовый раскроется. По имени звали Настасьей, а прозывали «Горожаночкой», лет ей за двадцать перевалило, но замуж что-то не торопилась и отшучивалась:
— Милый не берет, а за немилого сама не иду — не миновать вековушей быть!
Жила своим домиком, с матушкой родной, честным трудом. Частенько она по горе за водой спускалась, и каждый раз ей молодцы-каменщики с крепости подмигивали, ягодкой называли, на стену зазывали. Только ягодка, видно, не промах была, отвечала бойко, но по-умному. Сам Петро Франческо на ту Горожаночку заглядывался, шапочку на лысине поправлял, усы крутил, завивал и, за шпагу держась, как журавель по стене выхаживал. А подручный его Жеваный Тать, завидев Настасью, добрым притворялся и рожу свою идолову старался подделать под ангельскую. Не знали, не ведали они, дурачки заморские, да и никто другой не догадывался, что не зря Настасья Горожаночка мимо стен часто ходила, ватагу трудовую водой поила. Давным-давно через решетку темницы она с Данилой Волховцем добрым словом перемолвилась. «Добьюсь воли — назову женушкой!» — так ей Данило однажды из окна темницы сказал. А теперь, не жалея сил, служил он князю московскому, надеясь дожить до обещанной воли. Молодецкая артель новгородская ничем перед девкой не бахвалилась и не охальничала, а, завидев ее, песни заводила и под песню крепость строила — камни тесала, тяжести поднимала:
С такой песней и камень легче казался, и с ношей кирпичей веселее бежалось, и крепость быстрее росла. Как пройдет мимо Настя Горожаночка — словно солнышком всех пригреет, и каждому горемыке-труженику казалось, что это ему она так радостно и по-родному улыбнулась.
Трудились люди русские на нижегородской крепости почти без сна и отдыха, подвозили кирпичи каленые, как кровь багряные, а в ямах кипела, пузырилась известь горячая, набирая силушки, чтобы камень и кирпич схватить мертвой хваткой. Согнувшись под ношами, вбегали на стену сотни людей и, сваливши груз, обратно скатывались. А ловчее, быстрее и крепче всех работали молодцы из ватаги Данилы Волховца, зарабатывая милость княжескую — волюшку вольную! Сам Петро Франческо, маэстро великий, не мог надивиться на мастерство и неутомимость артели новгородской, и наполнялось его сердце уважением к русскому мастеру. «Таких поучать не надо — сами любого научат!» А помощник его, этот Жеваный Тать, все придирался и подгонял, очень хотелось ему поскорее золотом мошну набить и за море удрать. Особо невзлюбил он ватагу новгородцев после того, как они его на безлюдье окружили и посулили в горячей извести выкупать, если не перестанет докучать Настасье Горожаночке.
А матушка-Волга катилась и катилась, неудержимо, как время, волной играла, по утрам солнце с левого берега принимала, по вечерам за правым, горным прятала. То стужу, то зной, то каргу-осень встречала, то весну-молодушку. А весной и праздники весенние спешили. Ко дню праздника зачатия приурочили нижегородцы закладку сразу трех башен кремлевских: Бориса да Глеба, Зачатьевскую и Белокаменную да всей стены между ними. Выкопали котлованы и рвы, натесали камня белого, кирпича навозили гора горой, заварили известь в ямах глиняных. И в день непорочного зачатия все нижегородцы на молебен высыпали. Под колокольный звон из церквей иконы вынесли, а передом, на полотенцах льняных, белоснежных, икону Богородицы. Все труженики кремля, простые люди и знатные, обнажили и склонили головы. Петро Франческо, мастер гордый и суровый, с непокрытой головой незаметно в сторонке стоял. Уважал он и народ и веру русскую, православную. Только Джовани Татти, этот безумный Жеваный Тать, не снимая шапчонки, среди народа важно расхаживал, на православный обряд дивился.
Под конец моления стали нижегородцы нательные крестики снимать и на дно котлована бросать, чтобы стояли башни и стены кремля веки вечные, не поддавались вражьим осадам и приступам. Вот подошла к яме Настасья Горожаночка, расстегнула на груди пуговки, сняла с шейки крестик золотенький и в котлован бросила. Тут откуда-то Жеваный Тать подвернулся, как угорь начал вокруг девки увиваться, обнимать, гляди того, целовать-миловать при народе начнет. Оторопела было Горожаночка, но скоро образумилась и наотмашь охальника по роже ладошкой ударила. Попятился от нее Джовани Татти да в яму и свалился, озорник заморский, на смех всему миру нижегородскому. Свалился, а выбраться никак не мог, злился и ругался по-иноземному: «О, Мадонна путана! О, путана Мадонна!»
Все видел и слышал Данила Волховец, и не стерпело сердце его. Подскочил он к яме, за руку Жеваного вытащил да тут же, не откладывая, ударил того по одной щеке, потом по другой, поучая уму да разуму: «По-вашему она путана, да по-нашему матерь честная!» Стыдно стало Татти, что при народе по щекам бьют, и за шпагу схватился. Но Данила его за руки ловко поймал и, когда шпага вывалилась, в охапку супротивника сгреб. И тут от боли нестерпимой охнул новгородец, но приподнял злодея-тальяшку и в яму с кипящей известью бросил. А сам, как дуб подрубленный, медленно к земле склонился. Подбежали к яме люди — Джовани Татти вытаскивать, да не скоро достали. А Данила без дыхания лежал, с заморским ножом в подреберье.
Затужили, загоревали нижегородцы, заголосили, запричитали бабы. Настасья Горожаночка в сторонке стояла и платок свой в горячих слезах молча купала. Потускнел лицом главный мастер Петро Франческо. Жалел он земляка своего, Татти шалопутного, а еще больше печалился о русском мастере Даниле Волховце. Поговорили они с воеводой и распорядились, чтобы обоих смертоубийц в подбашенных котлованах захоронили.
Невесело разошелся с молебна народ нижегородский. Недобрая примета при закладке башен получилась. Не устоять долго стенам кремля, что близко к Волге спускаются. Неохотно и каменщики за известь брались, в которой безбожный тальяшка сварился. Ватага Данилы Волховца молча работала, воздвигая башню-памятник над могилой своего товарища. Весь белый камень с берега Волги своими руками перенесли, известь по-своему в яме замесили и трудились неистово, не жалея себя. Трудно им было без песни выкладывать башню из каменных глыб, так и манило запеть, как бывало при жизни Волховца.
С каждым днем и часом прибывала, росла у Волги величавая суровая башня. Все остатки белого камня на нее израсходовали, и прозвал ее народ Белокаменной. А на полдень от нее из кирпича кроваво-багряного другая башня росла, Зачатьевская. Под ней охальник и хвастун тальяшка Тать лежал. Живые же люди, как муравушки, на стены карабкались, кирпичи, камень, известь тащили, стены лепили с верой великой, что простоят они веки вечные, никаким стихиям и бедам не покорные.
А Настасья Горожаночка не забывала своего Данилу Волховца, не затухала в ее сердце любовь к нему и ненависть к злодею Джовани Татти. Из года в год, в погоду и непогодь, каждый вечер она на откос выходила, к башне Белокаменной, и негромко свою песню пела. Налетавший с Волги ветер обнимал кремлевские стены, сердито гудел в бойницах, трепал полушалок и косы Горожаночки, но не успевал осушать ее слезы, не заглушал песни:
И Волга, и Дятловы горы слушали ту песню, но молчали. Молчали до поры до времени, как судьба неисповедимая, что всю правду жизни знает, да не скоро сказывает. Спустя много лет, словно исполняя волю Горожаночки, подточили подземные воды склон горы вместе с крепостью и башней Зачатия, чтобы сползли они к Волге оползнем. А башню Белокаменную не тронули, оставили памятником над могилой мастера, сложившего крепость нижегородскую на веки вечные.
Сказ про мастера Касьяна
За всех плавающих по водам большим и малым в старину Прокопий-праведник перед небом заступался. Только не зря в народе поговорка была, что на бога надейся, а сам не плошай. И когда люди на челнах по Волге и Оке к этим хмурым горам подплывали, то не вдруг к берегу приставали, а с опаской да оглядкой. До того, как привалиться, глядели да слушали, не ждут ли их на берегу лихие молодцы. Особо привольное место для причала и высадки было в устье речушки быстрой да звонкой, что между гор по оврагу бежала и говором своим всех плавающих пристать зазывала. Как заслышат гребцы удалые да усталые разговор того ручья бойкого да подплывут к нему, сразу смекали, что не найти места привольнее привалиться, ухоронить посудины и у костра ночевать, да так, чтобы ни с Оки, ни с Волги не видать и ветрам не достать.
И все речные путники, кто на час или на всю жизнь к тем хмурым горам приставал, устье ручья веселого для причала выбирал. И за это самое все волгари и окари прозвали ту речушку Почайной. А их жены, сестры да невесты, что по горам в курных избах жили, на тот ручей и овраг ждать да встречать своих мужиков выходили с разного промысла. А надеяться да ждать — по-старинному говорили «чаять». Вот и прозвали женщины с хмурых гор ту бойкую речку Почайной, а овраг Почайным.
Жил в бугре Почайного оврага палатный мастер Божен. Боярам палаты каменные строил, а бедным избы деревянные, колокольни повыше к небу поднимал, а себе избу хорошую сделать не удосужился. Бывало и так, что палатного дела не было, тогда Божен глиняную посуду для народа выделывал. И говорили люди нижнегородские, что сама судьба для них умельца Божена в овраг свалила.
Вот в каком-то году високосном, в последний день февраля родился у Божена сынок-последыш. И выходило по церковным книгам-святцам, что окрестить парнишку только Касьяном дозволено. Так и поп сказал в церкви Николая Угодника. Просили родители, нельзя ли по святцам на день-два попятиться, чтобы сыну другое имя дать, Иваном либо Семеном назвать. На то ответил поп, что святцы не телега, а поп не мерин, чтобы пятиться, а вперед по святцам заглядывать великий пост не пускает. Да не зря, мол, и поговорка такая есть: Семенов да Иванов, как грибов поганых, а Касьяны не чаще камней-самоцветов! Так и нарекли паренька Касьяном, по приметам именем самым несчастливым. Когда парень вырос, перенял от отца ремесло палатное и гончарное. Иной год в палатных делах застой был, так они с отцом на гончарное ремесло пересаживались. Кирпичи делали, посуду глиняную выкручивали, расписывали да окаливали. А Касьян еще разные свистелки да дуделки делать из глины наловчился и сам на них искусно насвистывал. Только заслышат мужики да бабы на базаре Касьянову игру, как сразу в глиняный ряд спешили: посудину для варева купить да игрушку-свистелку детишкам выбрать.
Так дожили Божен с Касьяном до того лета, как в Нижний Новгород московские люди прибыли, чтобы каменную стену вокруг города поднимать. Походивши по горам да по нижнему посаду, те знатные да умелые люди позвали Божена, чтобы на важное дело поставить — строить башню в самом низу детинца-кремля. Не отказался Божен. А тут из Пскова да Новгорода, с Москвы да Тверцы еще палатные мастера прибыли, и работа споро пошла. Но когда главные мастера царские пригляделись, кто как работает и в деле смекает, Божена с Касьяном отличать стали и на самые мудреные работы ставили.
Вскоре выросла у подножия горы грозная башня каменная с глазами-бойницами на три стороны: на Волгу, на Оку и Почайный овраг. А от башни стены белокаменные полезли по горе в обе стороны. Вот понадобилось ворота в той башне подвесить, да так смекнуть, чтобы они крепки да тяжелы были, а отворять и закрывать двое стрельцов смогли. Задумались тут Божен да Касьян, ночей не спали, все догадывались, как к делу подойти. И смекнули так: ворота кованые на дубовом валу — ворота подвесить, чтобы они не растворялись, а сверху спускались. Так и сделали. И когда главный царский мастер Орест Фиарентов проверил, как ворота налажены, Божена с Касьяном шибко похвалил и тут же из царской казны награду выдал и обещал о них слово сказать самому царю московскому. После того в крепостных делах заминка вышла, главных мастеров на другие дела в Москву позвали, а Божен с Касьяном в Почайном овраге доживать остались. Только не долго старику жить довелось. И за час до кончины, свои пожитки сыну завещая, Божен на старый стол указал и такое сказал:
— Береги этот стол. Он из разных деревьев сделан, что росли по оврагу Почайному. Ножки у него дубовые, ящики кленовые, планочки яблоневые, а крышка еловая. За этим столом твои деды-прадеды хлеб-соль ели, радость и горе хмельным запивали. Но не в том главное. Вот на крышке стола трещина. То ушкуйник новгородский Сарынь Позолота кулачищем по столу ударил, прадеду твоему угрожая, чтобы потайный лаз за городьбу кремлевскую указал. Да не сдался старик, и не попали за стену ушкуйники! А щербина на столе — это от сабли самого Улу-Махмета дикого. Первым разом по столу, а вторым — деду твоему по шее, за то, что не захотел старик против своих радеть. Кровью и слезами пропитан сей стол, и не отмыть, и не забыть того во веки веков, аминь!
С теми словами и помер Божен. Вскоре за отцом и мать отправилась, а Касьян, сиротой оставшись, жену Маланьку в избушку привел, а она, не мешкая, детей начала рожать. Палатного дела в те годы, как на беду, не было, и Касьян, чтобы семью прокормить, гончарным ремеслом занялся. Горшки кашные да корчаги-бражницы выделывал, а для ребятишек свистульки да дуделки глиняные, все ярко расписывал, в жаркой печи окаливал и на базар выносил. Сидя на базаре, Касьян расчудесно на свистелках играл, баб и мужиков на свое торговое место приманивал, чтобы скорее посуду да игрушки раскупали. Придут мужик с бабой домой и деток своих порадуют: «Нут-ка, гляди, какую игрульку-свистульку дядя Касьян прислал!»
Вот так и жил палатный мастер Касьян, умелец на все руки, гончарным ремеслом перебиваясь, а жена его Маланья не забывала каждый год детей прибавлять.
В одно лето несчастливое казанский царек Махметко, на Москву разбоем идучи, мимоходом нижегородскую землю зорил и под осень Нижний Новгород своим войском обложил. Поздновато дозорные вражью рать приметили и город оповестили. Как поднялись тревога да смятение, весь люд посадский за стены детинца-кремля устремился.
Касьянова жена Маланья к тому дню только что пятого ребенка родила. И как поднялся переполох на нижнем посаде, она своего мальца вместе с зыбкой подхватила и к воротам башни побежала. Сам же Касьян Захарку да Макарку на руки подхватил, а Настаська да Протаська, что постарше были, своими ножками за ним потопали, да, видно, поотстали. В тот час, как на беду, к башенным воротам монашки из Зачатьевской обители с кудахтаньем табуном подвалили. Маланька с маленьким среди монашек замешалась и за стену протиснулась, а Касьян из-за детей замешкался. Пока он за отставшими Настаськой да Протаськой бегал, воротный ворот заскрипел, цепи железные загремели, и решеткой кованой ворота закрылись.
Напрасно Касьян кричал и бранился. В ответ со стены лишь один стрелец выглянул и откликнулся:
— Али не ведаешь, каково ворот воротный ворочать? Не будем из-за твоих голопузых, ворота открывавши, руки неволить. Иди, хоронись в овраге, ништо, чай, не слопают тебя живьем татарове!
Всех посадских людей укрыли стены нижегородские, только строителя башни Касьяна, сына Боженова, с малыми детками не пустили ворота башенные. «Видно, валы дубовые от дождей позамозгли, да цепи воротные позаржавели, что трудно, не под силу стало людям ворота открывать. Помнится, мы с батькой вдвоем с этим делом легко справлялися!» Так подумал тогда Касьян, не догадываясь, в простоте своей, что не ворот и не цепи, а сердца у стрельцов кремлевских позамозгли да позаржавели. И только успел подумать да от стены отойти, как из Почайного оврага шайка пеших татар выскочила, окружила Касьяна с ребятишками и, радуясь первой добыче, к своему хану повели.
Мурза Ногай в тот час только что с коня слез и, от похода отдыхая, у шатра на ковре среди подушек сидел да на русский город глядел, прикидывая, много ли тут разного добра и полонянок возьмет. А рядом с ним на корточках отрок лет пятнадцати на балалайке круглой шестиструнной играл и подпевал негромко. Как подвели воины первую добычу к шатру, долго молча разглядывал Мурза Ногай мужика русского с малыми детками. Касьян худой да жилистый, глаза, как небо, синие, а ребятишки все вислобрюхие, головки русые и тоже все синеглазые, в рубахах ниже колен. И нашло на Мурзу раздумье, никак он не мог придумать, как с этими первыми полонянами быть.
А тот мальчик-балалаечник, смуглый да черноглазый, долго глядел пристально да с жалостью, не столь на мужика сколь на деток его. Глядел-глядел, да и молвил Ногаю Мурзе:
— Какие они все худущие да заморенные! Одни мослы! Взять их да кормить — нас всех сожрут, а не кормить — сами помрут! Какая от того корысть господину моему? На родине моей умелые ловцы первую добычу на волю пускают, чтобы счастья в лове больше было. Отпусти их, храбрый воин Мурза, пусть они на воле по оврагам кормятся!
По нраву пришлись Ногаю слова своего слуги-невольника, улыбнулся и согласно головой кивнул. И тут же его воины Касьяна с ребятишками в родной овраг отпустили. Ох и зазвенела же им вслед балалайка заморская шестиструнная! То невольник Ногая Мурзы от радости, что других от неволи избавил, от всего сердца играл, господина своего потешая песней и музыкой.
Доброе, знать, сердце имел тот невольник Роман, родом из-за высоких гор и самого синего моря. Приметил он, где скрывается жилье Касьяново, разыскал и ходить туда повадился. Негромко на балалайке играл и песни разные пел, ребятишек потешал. Любил тот Роман о своей родине рассказывать. Какие там горы, и небо, и виноградники! А как славно девушки поют, когда виноград на вино в чанах голыми ножками топчут! И каждый раз, как Мурза Ногай, наевшись конины да напившись бузы, в шатре засыпал, его невольник-отрок вниз по оврагу убегал и в Касьяновой избе от неволи отдыхал.
Целый месяц татары нижегородцев в осаде держали, зорко следили, чтобы не попадало в крепость ни воды, ни хлебушка. Только, видно, горожанам втерпеж было, и они с татарами о сдаче не заговаривали. И вот накануне того дня, как татары тайно к боевому приступу подготовились, невольник Роман опять в Почайный овраг прибежал. До поздней ночи он Касьяна с детишками потешал, на балалайке играл и песни пел. Потом повесил на стену свою балалайку заморскую и, как мог, по-русски сказал: «Кто много поет, тому счастья недостает, как и мне, горемыке. Укрой меня, Касьян, за рекой Окой. По-за Окой я до Москвы доберусь, царю в ноги паду, о замыслах татар расскажу. А как скажу, кто мой отец с матушкой, он сжалится и в родные края меня отошлет. А балалайку вам на поглядок оставлю — без нее я буду неприметнее!»
Позадумался тут Касьян. Потом одежку да обувку теплую русскую достал, одел паренька и к полуночи на берег Оки провел. Дождавшись, когда месяц за бугры скроется, разыскал Касьян челнок и Романа-балалаечника за Оку перевез. Потом, на свой берег вернувшись, тихо да с опаской к башне низовой прокрался и свистнул три раза сквозь пальцы. И когда увидел, что против неба на стене голова показалась, ко рту руки трубой приложил и молвил негромко, вполголоса:
— Слышь, борода! На утре татары приступом пойдут. Осведоми о том воевод, пущай к обороне готовятся!
Перед рассветом Касьян домой вернулся и только успел заснуть, как пробудился от грохота непонятного. Дрогнула избушка от потолка до пола, и зазвенела на стене заморская балалайка то ли тревожно, то ли радостно.
— Чай, не гроза нашла, глядя на осень? — удивился Касьян и глянул в дверь за овраг. Тут с крепостной башни огонь сверкнул, вырвался, загрохотало по оврагу Потайному, и завыли ногайцы в страхе и смятении, от кремля скатываясь. Кругом не повезло Ногай Мурзе. Невольник пропал, балалайка любимой жены в чужой избе висит, а сам он, сраженный чугунным ядром, рядом с конем на луговине лежит. Когда сквозь рев и гомон слышно стало, как ногайцы аллаха да своего Мурзу поминают, понял Касьян, что беда на татар обернулась и теперь им на глаза лучше не попадаться! Подхватил он Захарку да Макарку, а Протаська да Настаська следом за ним побежали. И схоронились все в чаще непролазной, в старой яме. Тут сидели они и день и ночь. Поутру родная речь послышалась, тогда все в родную избу пошли. А там Маланька уже печку топила, кисель овсяный варила, только не знала, куда мужик с ребятишками подевались. Наелись дети в первый раз после татарской осады досыта и повеселели.
Скоро забыл Касьян обиду на стражу кремлевскую, что ворота крепостные перед самым его носом захлопнула, но долго горевал о том, что гончарный круг и мастерскую басурманы порушили и дотла сожгли. Зато радовала его балалайка шестиструнная. Взял он ее как-то на досуге в руки и поиграть попробовал. Раз, другой да третий поиграл, слышит — получается! И подумал вслух Касьян: «На балалайке играть, оно, пожалуй, нисколь не мудренее, как на глиняных дуделках да разных сопелках дудеть!»
В ту осень после татар всякого дела для Касьяна хватало. В бедных избах глинобитные печи сбить, а в богатых — кирпичные сложить, засовы да запоры поправить. Где дело было мудренее, туда и Касьяна звали. Только на ночь домой приходил и сразу за балалайку брался. И не до еды ему было, не до сна, не до отдыха. И так у него ловко получалось, что под балалайку не только Настаська с Протаськой, гляди того, сама Маланька запоет да запляшет. Жена для виду сердилась не раз: «Чем беса тешить да скоморошничать, ложился бы спать, как добрый человек! И детей своих, гляди того, скоморохами сделает!»
Зима после отбоя врага для нижегородцев была весела да радостна. Со средины зимы разные праздники одни за другими пошли да свадьбы с пирушками. Касьян к тому времени играть на балалайке поналовчился и осмеливался с ней на улицу выходить. Как узнали о том богатые да знатные, стали его наперебой в дома зазывать: на свадьбах играть, потому что петь и плясать под балалайку было сподручнее и ловчее. Хмельной народ добрый и медяков для Касьяна за его веселую игру не жалел. А балалаечник ухом чутким да памятливым запоминал все, что народ пел, и дома по вечерам те песни на балалайке переигрывал. И вслух радовался: «Слышь, Маланька, как послушна мне балалайка — любую песню и пляс играет!»
В конце зимы масленица подоспела. Люди городские и посадские кто куда в гости спешили, в санях-розвальнях по Оке и Волге катались, чкой-льдинкой перепинывались и, играючи, друг друга кулаками по спине дубасили. Скоморохи да придурялы разные песни и плясы народу на дуделках да сопелках играли, в трещотки трещали. А балалайка на весь город одна была: у Касьяна, сына Боженова. Вот как-то на бойком месте окружили его люди и простые, и знатные. Кому не любо было под балалайку спеть да сплясать! Как на беду тут ватажка озорных скоморохов подвалила и начала орать песни охальные да зазорные. Честную мать воеводиху со монахами помянули да боярыню толстогузую. Услыхали ту песню боярские сынки да люди воеводские, наскочили на скоморохов, почали плетями бить, конями топтать. Тут заодно и Касьяна повалили, балалайку разбили и в мелкие щепы растоптали, а балалаечнику жестоко бока намяли. Хотели воеводины холуи ощепки от балалайки в масленичный костер бросить, да Касьян на них животом упал, руками закрыл и, сколь ни били его, не отдал. Когда же прошла та гроза, собрал он остатки от балалайки со струнами певучими, под полу сермяги спрятал и домой в Почайный овраг поплелся.
После той веселой масленицы довелось мужней жене Маланьке к богатым людям на поденку ходить, для всей семьи прокорм добывать, а Касьян дома сидел, от побоев откашливался да отплевывался. И тосковал по мужской работе и по своей балалайке. А над горами нижегородскими, над кремлем, посадами и Почайным ручьем метели дикие завывали, с Оки да с Волги налетая, сугробами жилье заносили. И трудно было из оврага выбраться, чтобы до воды дойти или дров запасти. Надолго как-то задумался Касьян от заботы да и выдумал:
— Слышь, Маланька, на тяжелое дело я, видно, долго не погожусь. Сделаю я из старого стола балалайку. Он нам совсем ни к чему. А с балалайкой жить будет веселее. Да копейку с ней добуду скорее!
Удивилась и напугалась жена, не спятил ли мужик с ума-разума. А тот на своем стоит:
— Щей да каши давно не видим, а сухой кусок и помимо стола не зазорно съесть. А дерева сподручнее не найти!
Смолчала Маланька, мужа жалеючи, головой покачала и на поденку ушла.
А Касьян в тот же час за дело взялся. Дедов стол на части разобрал. Еловые доски, дубовые, кленовые и яблоневые брусочки и планочки отдельно разложил и на дело употребил. Когда все часточки к балалайке были обструганы, размерены и друг к другу пригнаны, из копыта лосиного да рога бычиного крепкий клей сварил, масла льняного городецкого для красок скипятил. Не одну неделю Касьян, над верстачком склонясь, старался. Зато получилась балалайка — как картинка писаная: сзади на нее взглянуть — как девка крутобедрая, в сарафане из атласа малинового, а спереди — словно ясно солнышко с дугой-радугой заспорили и глаза слепят!
Натянул Касьян на новую балалайку три струны старинные, а три про запас оставил, подвернул колки яблоневые, настроил их на родной нижегородский лад и легонько пальцами по струнам провел. Как зазвенела тут балалайка на всю избу от стены к стене, из угла да в угол! И притихла вся семья — и Маланья, и ребятишки малые. А сам Касьян удивился радостно:
— Эва, какая сила в дедовом столе сокрыта была! Если да на эту балалайку все шесть струн натянуть, да выйти, например, на откос, да заиграть, так и за Окой, и за Волгой бабы запоют и запляшут! — И, переигравши все песни и плясы, какие еще на старой балалайке знал, повесил новую на стену, на том самом месте, где старая висела.
Пока Касьян балалайку из стола мастерил, к Дятловым горам весна подкралась, в Почайный овраг сам-друг с солнышком заглянула, травку на пригорках пробудила. А за весной и праздники весенние подоспели, пономари в колокола зазвенели, попы в соборах запели, народ на улицы высыпал. Только Касьян никуда не выходил, потому что от побоев не мог поправиться. Но дома на балалайке играл и очень радовался, что такая она расчудесная получилась. И, поигравши, бережно вешал ее на стену. Балалайка же от того не унывала, она знала, что ее время придет, потому что была не простая балалайка, а сделана из стола, пропитанного слезами и кровью старожилов из Почайного оврага нижегородского.
От тепла да от солнышка Касьян чуть поправляться начал, а настоящей силы и здоровья еще не было. Вот и пошел он в поденщики к богатею Феофану Носатому. Тот Носатый-купец всякой всячиной на все стороны торговал, и до того разбогател, что целые села с народом покупал и боярином прописался. Жил он над Волгой, на Мостовой улице, в палатах каменных, в светлой горнице сидел и на заморских счетах костяшками щелкал, барыши подсчитывал. А по двору его холуи да приказчики бегали, товары разные принимали, для хозяина прибыль выжимали. Вот и поставили Касьяна в бабью артель, чтобы он за старшего был и следил, так ли товары в коробицы укладываются.
Неделю или две поработал Касьян, по балалайке заскучал и принес ее на хозяйский двор. А в полдник, когда бабы-укладухи своим спинам отдых давали да хлеб жевали, за балалайку взялся. Как зазвенела она, за сердце и душу задевая, не утерпели усталые поденщицы да бабы крепостные и песню запели. Тут Маруха-укладуха, молодая да бедовая, к песне подстала. А когда она подставала, другим и поотстать не грешно было! Голосок-то был как струна живая, густой да томный! Вот как запела она под Касьянову балалайку, не то что приказчики, сам хозяин — кощей Носатый заслушался: «Ты, ясен сокол, кудри русые, ты почто склонил головушку да на правую на сторонушку…»
До того купец-хозяин заслушался, что вспомнил свою молодость горемычную, барыши с убытками перепутал, и голова его сама собой на сторону склонилась. А очнулся, когда песня кончилась. Да так каждый день и пошло. Как только Касьян за балалайку, Маруха-укладуха песню заводила, а у хозяина и подручных от того дело из рук валилось, а в подсчетах путанка получалась. Вот позвал кощей Носатый к себе балалаечника и такое сказал:
— Уходи, парень, с моего двора подале. От твоей балалайки у меня в делах хлябь пошла. Вот тебе рупь деткам на орехи, только уходи, Христа ради!
Распрощался Касьян с укладухами, балалайку под полу спрятал и с купецкого подворья ушел. А через три дня нанялся у кузнеца в кузнечном овраге точило вертеть.
— Не бери с собой балалайку, с ней только грех! — посоветовала Маланька.
Послушался Касьян и неделю балалайка дома на стене висела.
Но как-то не вытерпел и под полой в кузницу ее принес. И как выпала минутка свободная, сел на порог кузницы да и заиграл! И все молотобойцы, подмастерья и точильщики из других кузниц, заслышав удалую игру, тотчас балалаечника окружили, и пели, и плясали под балалайку, забывши о деле. И было так почти каждый день. Кончилось тем, что собрались кузнецы-хозяева, пришли гурьбой к соседу и сказали:
— Прогони ты своего скомороха-точильщика, от его балалайки нам убыток и разорение. Подмастерья и молотобойцы от рук отбиваются, дело забывают, только бы пели да плясали!
Неохотно расставался хозяин с безотказным и веселым точильщиком, но против мира не поспоришь! Спрятал Касьян балалайку под сермягу и домой уплелся. Целое лето и зиму переходил он из посада в посад, с базара на базар, из оврага в овраг, по разным делам и хозяевам, но нигде его долго не держали. А все из-за балалайки. А Касьян так к ней привык, что без игры и жизнь была не красна, и кусок хлеба в горле застревал, и плохо спалось, а во сне все слышалась музыка разная, то разудалая, то грустная. И перебивалась семья Касьяна из-за его беспутства с хлеба на квас.
А полоненок Роман за десять дней до Москвы добрался и с вестью о злодействах хана казанского к царскому двору пробился. Подивились царские люди, что отрок так скоро от низовской земли до Московии добежал. На то сказал Роман:
— От неволи бежать — что под ветром на парусах плыть, а тоска по родной земле пуще страха подгоняет!
В тот же час царь московский указал воеводам ко встрече вероломного Махметки готовиться, а Романа обласкал и при своем дворе оставил. Скоро к Москве хан Махмет с войском подступил, но скоро и назад откатился. После того как супостатов от Москвы и с Руси прогнали, царь Василий о том призадумался, чтобы Новгород земли низовской надежной каменной стеной обнести и ту крепость пушками да пищалями вооружить.
И вот как-то по весне, когда бугры Дятловы из-под снега свои лысины показали, прибыли в Нижний Новгород люди царя московского, воеводы с боярами, с ними мастера заморские, знаменитые по крепостным и палатным делам. Поначалу они по буграм ходили вокруг кремля древнего, саженями землю мерили, глубоко копать пробовали, старую кладку стен обушками простукивали. За мастерами да воеводами писец-грамотей ходил с гусиным пером за ухом, с чернильницей на гайтане, и часто на особую грамотку что-то записывал. Вскоре среди народа нижегородского молва пошла, что по указу царя их родной город будут стеной каменной огораживать, с башнями боевыми неприступными, грознее Низовой и Димитриевской. И на то потребно будет работных людей и городских и посадских, и смердов, и холопов боярских неисчислимое множество. И всех тех людей сулят кормить по два раза на дню похлебкой рыбной, да горохом разварным, да кашей — и каждый раз с хлебушком. Это по постным дням, а по остальным еще и щами мясными, тоже с хлебушком. А тому, кто будет глину на кирпичи месить, припасена пара самых крепких лаптей на каждую неделю.
Молва народная правдой оказалась. Как прогрело землю солнышком да дождями теплыми весенними, в разных местах принялись люди глину копать, ногами месить, кирпичи вытопывать да вышлепывать, на ветру сушить и в ямках глубоких обжигать-окаливать. Вот и пошел Касьян сам-третей с Настаськой да Протаськой на царскую работу, в кирпичную артель глину месить за похлебку да за кашу с хлебушком. Первые дни без балалайки ходил, а потом подумал: «На таком деле балалайка не помехой, а подспорьем была бы!»
И зазвенела его трехструнка угловатая на кирпичных ямах за верхним посадом. И дело сразу спорее пошло, у мужиков, баб и девок ноженьки устали не знали, с песнями да с подплясками глину месили и самые крепкие лапти к концу недели в лохмотья изнашивали. И никому на том деле балалайка не мешала: ни работному люду, ни мастерам, ни подрядчикам. И столько кирпича от Касьяновой артели вдруг повалило, что печи обжигать не успевали, возчики и кони на подвозке из сил выбивались.
Пока землекопы рвы и котлованы под стены и башни припасали, царские воеводы и мастера по всем кирпичным артелям и ватагам бывали и работный народ торопили, чтобы работа спорее шла. И на Касьянову артель указывали, что вдвое больше других кирпича давала самого крепкого да звонкого. На то отвечал работный народ и подрядчики:
— Так той артели балалайка задору придает! Ну-тка дайте в нашу артель Касьяна с балалайкой — под песни да под пляску всем нос утрем!
Так народ мастерам и воеводам на словах отвечал, а на деле старались во всю силушку от балалаечной артели не отставать. И скоро столько кирпича понаделали, что навозили его к стенам кремля целые горы, места пустого не стало.
Как-то под осень ходил по кремлю главный царский мастер Петро Франческо, закладку новых башен доглядывая, и мимоходом на Низовую башню зашел. Сверху и до подножия, снаружи и нутро башни оглядел и спросил старожилов, кто в той башне ворота придумывал и подвешивал. И сказали нижегородские старожилы, что главное мастерство в том деле свои нижегородцы проявили, старый Божен с Касьяном-сыном, что старика давно в живых нет, а его сын Касьян живой и теперь на кирпичные ямах глину месит.
Долго и пристально разглядывал мастер заморский кладку Низовой башни, еще раз оглядел ворота тяжелые подъемные, сам попробовал ворота опустить и поднять. Не одну крепость построил за жизнь свою Петро Франческо, немало повидал боевых твердынь. И дивился теперь искусству неведомых русских мастеров, воздвигнувших эту грозную башню. Каждый камень и кирпич словно вещали его проникновенному взору: «Нас уложили здесь намертво и навечно русские люди-нижегородцы с верой великой в неприступность твердыни, призванной спасать родной город от разбойной орды. Свой дом и очаг они не строят так умело, надежно и крепко, как эту крепость для общего спасения!»
И захотел главный царский мастер в тот же час повидать Касьяна — сына Боженова, что вместе с отцом эту башню строил. Издали услыхал Петро Франческо, как под звон балалайки артель мужиков и баб, приплясывая, глину месила и песню пела:
Под музыку и песню люди кирпичи формовали, на просушку складывали, а сухой в глубокие ямы для обжига укладывали. Как увидели работники царского мастера Петруху Франческо с воеводой да боярином, песню оборвали, но плясать по глине под балалайку не отступались. Все усердно глину лаптями месили, а среди них Касьян с балалайкой в руках мерно ногами притопывал. И летела Касьянова игра-музыка над Волгой и Окой, под самое небо нижегородское синее.
Тут соседи по работе балалаечника в бок толкнули, чтобы играть перестал. А главный мастер Франческо его к себе поманил. Выбрался Касьян из глиняного месива, из-под глины лаптей и портянок не видно, и перед главным мастером встал. И вопросил его Петро Франческо:
— Ты ли Касьян, что с отцом Низовую башню строил и ворота к ней и разные боевые хитрости?
На то ответил Касьян, что правда, они с покойным батьком мастерам-москвичам да псковичам строить башню помогали, живота своего не жалея. И все самые мудреные дела их руками сделаны. А то, что теперь ворота поднимать воротом трудно стало, так в том их вины нет: либо валы позамозгли от сырости, либо цепи позаржавели. И рассказал Касьян, как по этой самой причине его прошлым летом в кремль не пустили, когда он с малыми детками от татар спасался, как перед самым его носом закрылись ворота, которые они с родным отцом для спасения народа придумывали.
Пытливее и словно добрее стал взор великого мастера заморского. Молча он разглядывал мужичонку русого, по колени в глине перемазанного, с медным крестом на гайтане поверх рубахи, с копной волос над глазами голубыми, что под крутым да широким лбом прятались. И худоба в теле, и синева жил на руках, и худые порты на коленках. И с балалайкой в руке.
— А не зазорно тебе, сыну Боженову, вместо настоящего дела крепостного с бабами глину ногами месить?
В ответ рассказал Касьян, что после того, как его на масленице воеводины люди да боярские сынки ногами попинали, у него спина плохо гнется и в ребрах скрип, а глину месить — были бы ноги целы, да и балалайка тут не помеха.
После того Петро Франческо воеводу и боярина нижегородских сурово спросил:
— Много ли у вас таких Касьянов, кои вместо дела по рукам на крепости, в глиняных ямах на бабьем деле приставлены? — И указал Касьяну с утра на постройке крепости быть. Только балалайку посоветовал дома оставить.
С того осеннего утра началась для Касьяна, сына Боженова, трудная, но счастливая пора. Радостно ему было думать, что понадобился он на настоящем крепостном деле, которое знал и любил. И что был под началом самого главного мастера, который в первый же день указал ему за делом доглядывать и делом показывать, как стены и башни закладывать и ввысь поднимать. А больше всего любо было Касьяну, что этот мастер Франческо, неказистый да щупленький с виду, умел указывать не только люду работному, но воеводам и боярам нижегородским. Иной раз казалось ему, что стоит кому-то не уступить этому человеку как он, не задумываясь, проткнет супротивника своей шпагой, что болталась на левом его бедре.
Скоро оценил Петро Франческо, какого помощника он себе из глиняных ям переманил. В первые же дни Касьян весь запас кирпичей от разных артелей оглядел и перещупал и такое маэстру сказал:
— Чтобы кирпич к бою крепок был, надо его вовремя из обжига вынимать, а для того надо слушать, когда он в печи «спелым голосом» запоет. А чтобы каменщиков не меледить, весь кирпич надо на одну мерку делать, а тут все разные. Да надо еще всем артелям лаптей не жалеть и глину промешивать, как моя артель под балалайку делала, да непросохший кирпич не торопиться в обжиг пускать, а дать ему хорошо проветриться. Да хорошо бы глину для будущего лета осенью наверх повыкидать, чтобы промерзла вся, тогда кирпичи будут крепки, как камни дикие.
И повсюду Касьян успевал за делом доглядывать: и ладно ли основание стен и башен закладывается, и крепко ли известка камни схватывает, и доводят ли кирпичи в обжиге до «спелого голоса». В зимние морозы работа на глиняных ямах совсем затихла, но запасов сухого кирпича для обжига хватило надолго. По зимней дороге скрипучей, на санях крепких дубовых подвезли весь кирпич, звонкий да каленый от печей, да под самые руки строителям стены нижегородской. Сотни людей, под тяжелой ношей согнувшись, кирпичи на стены и на башни подносили, и чем выше каменщики поднимались, тем труднее было поспевать за ними людям, что на спинах кирпичи носили.
Вот как-то по весне Касьян и скажи главному мастеру кремля нижегородского:
— Надо бы не на горбах людских кирпич поднимать, а подавать наверх коромыслом, как мы, бывало, с батькой Боженом, когда Низовую башню строили.
Тут спросил мастер заморский Франческо:
— А что такое коромысло есть?
На то ответил Касьян, что на словах он растолковать не сможет, а сделать такое коромысло сумеет. Надо только кузнеца Федьку Окалину да плотника Олеку Сутулого разыскать. Они, чай, тоже где-то в артели кирпичи на спине подносят либо с бабами глину месят.
В тот же час указал Петро Франческо кузнеца и плотника разыскать и вместе с Касьяном к постройке того коромысла приступать. Да заодно своим помощникам из бояр нагоняй задал, чтобы они впредь разных умельцев и мастеров на пустые работы не ставили, а давали бы им дело по их рукам и умению.
Вот и взялись три нижегородских умельца коромысло строить, чтобы легче и спорее на постройке крепости дело шло. Плотник Олека Сутулый бревна тесал, деревину к деревине подгонял, кузнец Федя Окалина, что надо было, железом оковывал да скреплял, а Касьян, тот больше рассчитывал да подсказкой обоим помогал. И двух недель не прошло, коромысло сделали, похоже на журавель колодезный, только столб с развилкой не в землю был врыт, а на стане деревянном укреплен, да так, что куда надо поворачивался. Потом весь стан на колесный ход поставили, чтобы можно было лошадьми перевозить. На один конец коромысла-очепа привязали корзину ивовую крепкую, а к другому — веревку пеньковую важную и через два колесика — нижнее и верхнее — ту веревку пропустили. После на пробу коромысло поставили. В корзину по сотне и больше кирпичей накладывали, двое-трое людей за веревку через колесики тянули и корзину с кирпичами высоко на стену поднимали.
И подивился, и обрадовался Петро Франческо, как увидел, что коромысло Касьяново в деле себя показало, и приставил к нему людей самых толковых да сноровистых. А самого Касьяна при всем народе, простом и знатном, в обе щеки поцеловал, мастером назвал и подарил ему из своего уха золотую серьгу с камешком-самоцветом.
С того дня, как Касьяново коромысло в работу пустили, дело на постройке крепости совсем ходко пошло. И если бы да то коромысло триста лет прожило, в нем приметы крана и лебедки люди увидали бы. А строители кремля нижегородского, простой работный люд переняли от Касьяновой выдумки только самое простое и полезное. Когда башня или участок стены вырастали ввысь, рядом с ними столб с развилкой наскоро ставили, в развилку на оси журавель-очеп подвешивался с корзиной на конце, и тем очепом кирпичи наверх подавали. После того работа еще спорее пошла, каменщики еле успевали кирпичи укладывать, а мастера о том позадумались, как бы глиняные ямы да печи постройку крепости не задержали.
А кирпичники, что глину месили, кирпичи лаптем отшлепывали и в ямах-печах окаливали, и вправду теперь не успевали, отставать стали. Кто-то придумал было скотиной глину мять, быков да лошадей по месиву гонять. Но мастера-кирпичники тому поперед стали:
— Скотина, она не глядит, где топтать, глину месит как попало, без разума. А лапоть надежнее, потому что видит, где протоптано, где недотоптано! — И не дали скотиной кирпичи портить.
Тогда главный мастер и воевода-боярин указали своим приспешникам по кирпичным артелям ходить и народ подтуривать, чтобы скоро и много кирпича наделали. А кирпичники на то серчать начали:
— Почто вы тут ходите да погоняете, хлебом-солью попрекаете! На что нам царские деньги, разные посулы да щи с говядиной! Подайте нам нашего Касьяна с балалайкой, тогда на диво вам дело само в обгон пойдет!
Той порой Касьян своим коромыслом кирпичи на стены подымал и шибко на том деле нужен был. А балалайка его угольчатая сиротой на стене в избушке висела, не унывала и спокойно ждала, когда придет ее время. И вот пришло оно: Касьяна с балалайкой на работу позвали. Чтобы в кирпичах перебоя не случилось, согласился Петро Франческо своего первого помощника Касьяна на кирпичные ямы отпустить, заодно с народом глину месить и балалайкой работный дух веселить. И зазвенела снова Касьянова балалайка на глиняных ямах, за верхним посадом, где артели кирпичные крепкий да каленый кирпич торопили к стенам нижегородской крепости.
Из артели в артель переходил Касьян-балалаечник, и, где появлялся он со своей балалайкой, сразу поднимался артельный дух и работный задор. Заодно с артелью лаптями глину месил и на балалайке под песню и под пляс играл. И сверкало на его руке кольцо-серьга, подарок великого мастера заморского Петра Франческо. Под песни да музыку, что разлетались далеко по горам Дятловым, люди месили глину без устали, на станках кирпичи лаптями задорно вышлепывали и под песню для просушки закладывали. А когда в ямах печи жаром пылали, Касьян все печи обходил и людей учил, как узнавать, когда кирпичи в обжиге «спелым голосом» запоют. К середине лета кирпичные артели столько кирпича понаделали и обожгли, что кони и возчик из сил выбивались, а отвозить к стенам крепости не успевали.
Вот как-то Петро Франческо с нижегородским воеводой да боярином задумали кирпичные артели обойти, чтобы знать запасы кирпича для крепости. На подходе к одной артели издали заслышали они игру и песню разудалую. Артель мужиков и баб под балалайку лаптями глину месила и озорную песню про воеводиху да боярыню пела:
Не допели песню артельщики, замолчали, как увидали Петро Франческо с воеводой да боярином, но глину топтать под игру плясовую не бросили; Пока знатные люди с главным мастером кирпичное дело осматривали, артельщики полудничать сели, с похлебкой и хлебушком скоро управились и, сидя, ногам отдых давали. А Касьян заиграл песню про доброго молодца, что со злой кручины склонил головушку на правую сторонушку. Ох и сила же была в его балалайке! Недаром, видно, была она сделана из старого стола, пережившего вековые русские беды, слезы и горе. Немало в артели было певцов, и пели все завидно. Но Марюха-укладуха теперь тоже тут была, где досыта кормили. А когда та Марюха к песне подставала, другим и поотстать не грех было! И так-то славно пели ту песню и баба и мужики-артельщики, что воевода с боярином волей-неволей склонили свои буйные головы. А Петро Франческо, когда песня смолкла, сказал, что не слыхивал такого с той поры, как отбыл со своей родины на скитание по земле царя московского.
До конца лета задержался Касьян у кирпичников, то в одной, то в другой артели разжигая работный задор удалой игрой, развеселой песней да словом толковым. И так мила стала его балалайка всем труженикам, что без нее и руки не работали, и ноги нехотя глину месили, и лапоть не так охотно да ловко кирпич на станке вышлепывал. Когда на ближних колокольнях пономари безо времени в колокола начинали звонить, от артелей посыльные бежали и тех пономарей с колокольни прогоняли, чтобы несуразным звоном работать под балалайку не мешали. И опять до прихода зимы было понаделано кирпича целые горы, и возчики на дубовых санях-розвальнях те кирпичи возили да возили и еле успевали перевозить по зимней дороге к стенам крепости. Вот как помогала народу-строителю треугольная балалайка, сделанная из старого стола, который пережил столько бед, горя и слез человеческих.
В зимнюю пору, когда кирпичное дело замирало, Касьян показывал землякам, как кирпичи на стены коромыслом подавать, да строил немудреные журавли-очепы, чтобы работа споро шла и людям под силу была. А с весенним теплом, когда глина на ямах оттаивала, он в кирпичных артелях людей ободрял музыкой под песню бодрую нижегородскую, чтобы не было перебоя в кирпичах каленых да крепких, как дикий камень с полей заволжских. А мастер заморский Петро Франческо не переставал радоваться тому, что судьба послала ему такого толкового да бескорыстного помощника из простых работных людей. И когда он Нижний Новгород покидал, сына Боженова за собою звал, богатую да вольную жизнь сулил. Только не сменял Касьян свой Почайный овраг ни на какие выгоды и чужие милости.
Сколько дней делал Касьян свое первое коромысло, теперь никто не помнит и нигде это не записано. Но служило оно на постройке нижегородской крепости надежно не одно лето, безотказно на стены и башни кирпичи подавало, а когда работа была закончена, оставили то коромысло у грозной круглой башни, что с бойкого места горы за Почайный овраг да за Оку глядела. Много лет сиротливо стояло оно у той башни и пропало за долгие годы от непогоды и времени. Истлели стан и столбы, развалился главный рычаг-очеп, повыпадали из перекладин колеса-блоки. Дерево сгнило, а железо люди подобрали и кузнецам на перековку отнесли.
Пропало бесследно Касьяново коромысло, а башня осталась. Высоко и гордо держит она каменную голову, и поет в ее бойницах вольный ветер, то глухо да грозно, то зло и тоскливо, как хищный посвист вражьей стрелы. На этом кончается сказка про нижегородца Касьяна, сына Боженова, что умением да искусством своим помогал великому мастеру Петрухе Франческо, и всем людям нижегородским строить твердыню каменную, защиту от корыстных соседей-ордынцев, с вожделением глядевших на Русь и Москву с той стороны, где солнышко всходит.
Молодость инока Макария
Гуляет ветер весенний над Волгой, теплый да расхожий, гонит волны речные, и плещутся они о берег ласковым плеском. По горным берегам березы молодыми листьями мягко шумят, дубняк да липняк почки в лист разбивает, неистово цветет черемуха, и утопает в пушистой весенней зелени обитель Вознесения на Печерских горах. А солнышко уже обогрело и землю и воду, оживило тони монастырские. Десятка полтора молодцов-чернецов осторожно тянут невод к берегу. Одни порты засучивши выше колен, другие вовсе бесштанные, в рубахах по колено, старые в скуфейках, чтобы лысину солнышком не прокалило, а молодые под копной волос густых, нечесаных. Тянут невод с радостью и благоговением, немало, видно, рыбы зачерпнулось, помог бы только Николай Чудотворец вытянуть! Чай, не зря на вешний николин день всякая рыба в снасти валом валит, возами ловится!
Весна да начало лета — страдная пора для рыбарей монастырских. Только успеет мать-Волга льды на низы пронести, как щука, судак и жерех в верховья на икромет пойдут, а вслед за ними и язь, и чехонь. А как береза под ветром озорным свой листок развернет в денежку, жди с низов леща табунами несметными. Припасай только бочки, соль да коптильни. А стерлядку с весны до весны запасай, хороша она на подарки к столу князьям великим и малым, боярам именитым, отцам церкви православной да и злому обжоре из татарской орды, гостю незваному!
Так думал, рассуждал вполголоса старец Савватий, глава монастыря Печерского. Рядом с ним монахи породы именитой, боярской да княжеской, разные чины монастырские, сытые да тучные. Глядят и улова ждут, а помочь рыбарям-инокам за позор почтут. Чуть поодаль от них инок Макарий, молодой да черноволосый, широк и в плечах и в бедрах, а костью — как конь породистый. Монах, а с мечом у пояса, стоит, крепко ноги расставив, — ударь такого невзначай, не вдруг упадет! И всем бы монахам монах был инок Макарий, но к молитвам и постам холоден и за молодухами не охотник, как другие черноризники. Зато лекарь он на все Поволжье лесовое и горное. Далеко разбежалась слава о нем, как о дивном целителе простых и знатных людей от всех сорока недугов.
А братия монастырская, чернецы-рыбари невод по заводи тянут да тянут, кто с молитвой, кто с крепким соленым словцом. И только бы на берег вытянуть, как невод за что-то на дне зацепился. Расстроились рыбаки-иноки: и рыбу выпустить жаль, и снасть порвать опасаются. А нырять на дно никому неохота. Тут рыжий, как сам огонь, монах сбросил рубаху, порты, гайтан со крестом, все на бережок сложил бережно и, наскоро перекрестившись, в заводь бесшумно нырнул. Только грива его да борода успели красной медью на солнце сверкнуть. Освободив невод от зацепа, вынырнул и рукой махнул: «Тяни!»
Закрестились, заговорили братья-монахи радостно и вытянули неводом рыбы разной за двадцать пудов. Тут и лещ, и сазан, и стерлядка с осетром, а язя да разной чехони — и не рады тому! Тут же, на берегу тони-заводи, отец Савватий всех рыбарей на трапезу благословил. Как сварили уху в котлах, да по чарке из бочонка дубового налили, да ухой захлебнули, и непонятно стало, кто тут на волжском берегу шумит — ватага чернецов или шайка разбойников. И мелькала среди пирующих огненная борода Варнавы, главного рыбака Печерской обители. Когда же с пригорка к пиру игумен с чинами спустились, все позатихли малость, только ложками стучали, на уху да икру налегая, да искоса на дубовый бочонок поглядывали с вожделением: «Не благословит ли отец Савватий всех еще на чарочку!»
Служил в дружине у Бориса Константинова, князя нижегородского, витязь Иван Тугопряд, витязь роду именитого. В ратных делах мечом и копьем князя оберегал, стягом княжеским воинов на битву звал, а с брани последним отступал, с потылицы князя оберегая. С малых лет уразумел он книжное слово читать и грамоты писать, по-умному о деле толковать. Служил столу княжьему честью и верностью, но недоволен был тем, что князь с ханами якшался, с булгарами заигрывал и худое против Москвы замышлял. С отроческих лет невзлюбил он ханов татарских за их коварство, лихоимство и зверства над русскими. И вот, когда честной народ нижегородский поднялся против князя Бориса с княжичами, чтобы за измену выдать его великому князю Василию, воин Тугопряд так рассудил: «Мало чести для воина за татарских прихвостней стоять и на своих руку поднимать. Ладнее и честнее в чернецах ходить, чем неверным князьям служить!» Да и сокрылся послушником в обитель Вознесения под крутыми горами Печерскими, что над Волгой-рекой.
В народе тогда молва прошла, что не разлад с князьями Тугопряда в монахи погнал, а была на то другая причина. «Воин да витязь без раны душевной в монастырь не прячется. Не иначе тут присуха сердечная да любовь обманная!» А людская молва, что речная волна — правду ко бережку прибьет! «Нате, глядите, люди добрые, вот отчего человек душой тосковал и от мира сбежал!»
Не напрасно Иван Тугопряд с малых лет у ученых монахов грамоту и науки перенимал. На всю жизнь полюбилось ему искусство — целебные травы распознавать и людей от хворобы лечить. Пока князю Борису служил, при досуге воинов от ран и увечий лечил, от недугов летучих, прилипчивых. А как стал монахом, весь тому делу отдался. И повалил народ простой и именитый в обитель Печерскую, не столько святым поклониться, сколь к иноку Макарию за исцелением. Игумен Савватий указал выстроить для целителя келью просторную поближе к воротам монастырским, чтобы было где болезным помогать и целебные травы да коренья хранить. И старого и малого, и смерда и боярина лечил инок Макарий от разных недугов, болей и немощи. Но тоскливо было ему стоять на молениях, заодно с братией поклоны бить и молитвы петь. И скрывался надолго в леса да луга за целебными травами, с торбочкой за спиной, с мечом у пояса. А годы по нижегородской земле шли да шли, как льдины весной по Волге-реке, неторопливой своей чередой.
Спешит с посвистом ветер студеный, торопит воду волжскую к морю Хвалынскому, через орды татарские, сквозь степи басурманские. Гонит ветер речную волну, и плещется она о берег у стен монастырских. Ночь накрыла обитель Печерскую. После вечерней молитвы и трапезы разошлись чернецы-иноки по своим закуткам и углам. За долгий день успели потрудиться и помолиться, поссориться и побраниться, с посадскими бабенками перемигнулись и словцом перекинулись. Пора бы спать и грешникам и праведникам, пока свеча да лампада их сон стерегут. Но пустует ночами келья Варнавы, рыбаря монастырского. Плохо ли другим в теплой келье нежиться, а он на песчаной косе снасти стережет, горячей ухой на ночь согревается, костер сухим дубняком да осокорьем подкармливает. И отливает его борода при свете костра то красной медью, то золотом. Было время, и он у князя Бориса в стремянных служил, а как потерял хозяина, две дороги для слуги верного: либо в монахи иди, либо в разбойники. Вот так и стал стремянной Назар монастырским рыбарем, чернецом Варнавой.
А инок Макарий в своей просторной келье перед очагом сидит, в огонь глядит, невесело думает. Редеют в камельке жаркие угли березовые, а между ними огоньки зеленые, красные да синие, как бесы-чертики, бегают, угасают и снова вспыхивают. В келье сумрачно и душно от развешанных трав и цветов. Смешались запахи целебные со всей земли низовской, с горной и лесной стороны. Каких только трав, цветов и кореньев сюда за лето не собрано! На полице кувшины с душистым дегтем и разными смолами. А где густо дегтем пахнет, туда никакая хвороба, ни людская, ни скотская, залететь не посмеет. Таковы приметы народные. В углу перед божницей лампада теплится, а на стене в полутьме меч боевой, да копье, да щит, как месяц круглый, проглядывал. И кольчуга, и все доспехи боевые, к службе готовые, коли ханы на обитель нападут. И спят под потолком пучки целебных трав, цветов и кореньев. Не знахарь, не колдун чернец Макарий, а толковый целитель тела живого.
Перед очагом сидит, в огонь глядит, о прожитом думает. Язычки огня голубые да зеленые с угля на уголь чертиками перескакивают, словно дразнят инока: «Семь долгих лет томишься в иноках, за тридцать добру молодцу, а радости да сладости житейской не видывал, не испил досыта. Видно, голова твоя в мирских делах была не смекалиста, либо загордился не по силам себе. Вот и упустил, на диво всем, невесту свою, Анфису, дочку боярскую! Тебя посулами утешала, любила, миловала, да и выскочила за сынка княжьего Данилу Борисова, как лиса хвостом вильнула. Понадеялся на слово боярское да и проворонил зазнобу сердца молодецкого. Не велика доблесть в монастырь сбежать, коли не сумел невесту отстоять. Гладил бы теперь не кота черного, что под рукой мурлычет, а головку сынка своего, растил бы дочку красу на загляденье и зависть боярыням!»
И замерли в очаге, потухли язычки огненные. Только лампада освещала инока с невеселыми думами. А ветер гонит и гонит речную волну, и плещется она под стенами обители. Одинокий челн с гребцом на корме к берегу пристал, из челна вышла жена в одеже богатой, княжеской, в гору поднялась и, пряча лицо в соболя, в ворота постучала. Заскрипела калитка, и дюжий чернец-вратарь проход загородил. Но шепнула женщина слово могутное, а в руку деньгу тяжелую сунула. Пропустил чернец богомолку и келью инока-целителя указал.
Нет, не удивится монах нежданной пришелице. Не первая молодуха спешит к нему с болью-хворобой несказанной. Но отвечал инок им всем одинаково: «Нет у меня, лебедушка, средства такого, чтобы в тайне зачатия помогало. Проси богоматерь, только она может исцелить от бесплодия. Да помни Луку-апостола: «Блаженны неплодные и утробы неродившие!» И так он отвечал одной, другой и третьей, до одного ненастного вечера. Надолго она ему запомнилась. В келью вошла, у порога стала, молчит. Слышалось только дыхание ее да сердца стук. По одежке боярыня либо богатого посадского жена несчастная. И, набравшись смелости, словно в ледяную воду бросилась, молвила:
— Дитяти хочу. Яви милость великую, исцели от бесплодия. Как на бога за то молиться буду!
И послышался целителю в ее горе-жалобе крик о гибели. В первый раз тогда не сослался он на волю богоматери, а задумался. Да и сказал попросту, как мудрый отец своей дочери:
— А как не ты, боярыня, бесплодна, а супруг твой повинен в том? И коли такая тоска у тебя по детищу, то смекай сама. Авось кто и сжалится, только мужа на то надо доброго, а распутных да воровских обегай, не зря народом сказано: «Если нет в дитяти рожоного, так не будет вложенного!» От кого родила, то и вырастет!
Молча ушла из кельи жена неплодная. С той поры и повадились жены боярские и купецкие к иноку Макарию за исцелением от бесплодия. Скоро они уходили из кельи инока, одни с молитвой, другие спесиво, с обидой, но, выйдя за ворота, с вожделением заглядывались на костры рыбарей. И года не проходило, как деток рожали. Так и пошла слава-молва о том, что инок Печерской обители травами да молитвами помогает женам бесплодие одолеть.
Вот какие думы у Макария были до того, как женщина в келью неробко вошла. И когда спросил ее монах, с каким недугом пришла, ответила смело, без робости:
— Дитя-сына хочу родить. Слыхано, что разным бабам в таком деле помогу даешь!
И белозубой усмешкой сверкнула сквозь келейные сумерки. Жар очага в глазах отражался, нос и губка верхняя задорно вздернуты, зубки, как у бобрихи, — широкие, по приметам, счастливые, брови — словно сажей написаны. Молча глядел монах, как зеленый огонек-чертик опять из груды выскочил и пошел бесом плясать да перескакивать с угля на уголь. Вдруг жена боярская к иноку шагнула, склонилась и ручку на голову ему положила:
— Только поседел малость да лицом истомился, а то во всем, как бывало: и глаза голубые, и брови черные! Али свою Анфису не узнал, свою зазнобушку? Али запамятовал, как целовались-миловались тайком да с глядкой?
Усмехнулся Иван Тугопряд невесело:
— Как не узнать дочь боярскую, жену князя Данилы Борисова! Узнал по речи, по взгляду, по усмешке твоей. Но, полно, надо ли наследника Даниле Борисову? Будет ли чему наследовать твоему сыну-княжичу? На счастье ли будет ему имя княжеское из рода Борисова? Не по чести поступили Иван с Данилой, против князя московского замысливши. В дружбе с исконным русским ворогом, ханом-татарином, разгромили крепость великокняжескую на Сундовике, родной наш град на разграбление отдали, стольный Владимир дотла сожгли. Против всей Руси за татарином пошли! Где, когда еще такое межусобное злодейство слыхано, видано? А теперь не знают, как править захваченной землей и нижегородской, словно щуки жадные, ерша с хвоста заглотавшие: ни проглотить, ни выплюнуть! Не жены княжеские, а само небо не дает детей сынам Борисовым за их измену родной Руси. Давно простил я твой обман, Анфиса, жена Данилина. Тогда милее тебе показалась почесть княжеская имени Тугопряда, воина. Коли тоска тебя по дитю обуяла, облюбуй мужа достойного, авось, понесешь. А от князя Данилы ждать дитяти — все одно что от теляти! И ничем тебе никакой святой не поможет, если сама не смекнешь!
— Ха! — только воскликнула Анфиса, жена Данилина, то ли со смехом, то ли с горем отчаянным. Повернулась и, как мышь, из кельи шмыгнула. Мелким бегом к Волге сбежала, остановилась одуматься, оглядеться. «Так Анфиса не мила стала! Над Анфисой насмехаться, княжьей женой гнушаться! Сама себе дите-сына добуду!»
И берегом, мокрым песочком неторопко пошла на огонь одинокий, что в сумраке играл и плясал и дрожащей полосой в реке отражался. У костра рыбак, над костром котелок-уха — и никого кругом. А борода у того рыбака и копна волос на голове краснее огня. И не понять было, что ярче горит — костер или борода. Потом у костра двое сидели. Издали видно было, как рыжая борода костер потушила и головни в Волгу покидала. Зашипели, задымили горячие головешки, на волнах покачиваясь, и пропали в темени.
Совсем неладно стало в семьях Ивана и Данилы, сынов Борисовых. Давно ли они заодно с татарами да булгарами крепость на Сундовике разгромили, Нижний Новгород захватили, владимирцам бороды подпалили. Теперь жить бы им, братьям, наследникам стола нижегородского, в мире и согласии, низовской землей править, град укреплять. А у них не только в отчине, в семьях ладу не стало. За княжьим столом не крепко сидели, а о наследниках думали. У Данилы с Анфисой детей одна девчонка, злая полудурочка, а сына дождаться не могут. На их радость и облегчение у брата Ивана с Маврой и совсем детей не было. Вот прошла молва, что инок Печерской обители не только убогим да болезным помогает, но и женам бесплодным. И будто бы все бабы, побывавшие с мольбой у праведного инока, с того же дня тяжелели и родили таких крепышей ребятишек, что и родители и деды с бабками дивились да радовались.
Строгая княгиня Мавра, жена Ивана Борисова, долго и гордо терпела эти россказни, над бабами посмеиваясь, а у самой так и не было ни сына, ни дочери. Пока князья Иван да Данила нижегородских бояр улещали и задабривали, чтобы за них перед Москвой стояли, их жены злейшими врагами стали. Как назло, княгиня Анфиса брюхатеть начала и своему князю сына-наследника сулила. Изумились, заговорили люди, удивилась и Мавра, княгиня Иванова: «Вот она, сила целебная, волшебная инока Макария из Печерской обители!»
Низко плывут над крепостью нижегородской облака суровые, гуляет ветер над Волгой, и бежит вечер на смену хмурому дню. В княжем тереме одна-одинешенька княгиня Мавра, супруга Иванова. И никого с ней родного, ни дочки, ни сына желанного. Того и жди, что пошлют ее в обитель Зачатьевскую монашкам-дурам на съедение, как бесплодную, вместе с ее красотой и молодостью. А бесплодная ли она, она ли бесплодна? О, еще попомнят люди, как ее бесплодной звать, не зря она из плодовитого племени бояр новгородских! Али не обидно ей слышать говор княжей челяди: «Данило, Данило, припасай зыбку да мотовило, жена наследника родит!» Анфиса Данилина затяжелела, пузо к носу растет, жди того, сына родит. Где взяла-заняла, змея греховодная? Детки от слюнявых мужьев не валятся!
Тут с досады княгиня Мавра пальцы на руках довольна поломала, губку добела прикусила, брови прямые изломала. А слезы удержала. Прислужников кликнула, приказала челн снарядить до Печерской обители. Низко-низко плывут над горами тоскливые облака, сердитый ветер играет волной и торопит княжий челн вниз по реке. У стен монастыря вышла княгиня на берег, знаком руки гребцам ждать повелела и по тропинке к монастырским воротам поднялась. Суровый вратарь калитку открыл, скуфью снял и, пропуская гостью, поклон отвесил низкий, истовый.
В тот вечер служка-чернец рано в келье Макария камелек затопил, и тихо догорали в нем жаркие дрова. Тихо в тот вечер было и на сердце инока. Вдруг шорох в сенцах — и открылась дверь. Вошла, на божницу перекрестилась и присела у порога на стул приземистый. И разрыдалась неудержимо, горький плач рукавом приглушая. Знатного, безжалостного рода была Мавра-княгиня, но женщина. Дрогнуло тут сердце чернеца и воина:
— Ну, полно, уймись, голубушка! Пожалей себя, угодишь наплакаться за жизнь досыта! Кто ты, с каким недугом и горем пришла?
Притихла, поднялась, заговорила с грозой в голосе:
— Поведай, монах, правдива ли молва о тебе, что неплодным женам травами да словом боговым помогаешь? Или то выдумка бесталанная?
Запрыгали в очаге озорные огоньки, как чертики, замелькали язычками разноцветными, трепетным светом келью освещая и самого инока-целителя в думе тревожной. Что сказать в ответ этой здоровой, но несчастной жене, заболевшей тоской по материнству неизведанному? Эту не посмеешь, как иных, послать по бережку прогуляться, с рыбаком ушицы хлебнуть, к мил другу прижаться! Три свечи затеплил монах, и стало в келье светлее и радостнее.
— Послушай, боярыня, слово правдивое. Сама не дитя, знаешь, что непорочное зачатие было на земле единожды. Либо его совсем не было. Какое слово, какой корень, какая трава целебная помогут в таинстве рождения? И тебе, лебедушка, душа гордая да сиротливая, монах не поможет. Вот взгляни на целебные средства мои. Здесь пучок медуницы, с нее хрипы в груди затихают, дышится легче. Вот шалфей от простуды, от глоточной боли. А это пустырник, тому, кто сердцем ослаб. Вот тимьян-трава, травка богородицына, в людях дух укрепляет, бодрости придает. А это чистотел-трава, от шелудей да бородавок. Вот копытень, он от червя в нутре. Зверобой, он кровь завораживает, утишает, раны заживляет. Калужница от ожогов, прилистник от лихоманки. А от твоей, боярыня, немощи нет на земле ни трав, ни корней. И не помогут от бесплодия ни молодило-трава, ни травка Варварина, ни первоцвета лист!
Не на пучки целебных трав и цветов глядела княгиня Мавра, а на монаха-целителя и дивилась последним словам его: «Сама смекай, сама себе счастье добывай!» А огоньки в очаге мелькали язычками зелеными, синими, голубыми, с головни на головню, как бесы, перескакивали, словно дразнили инока: «Не попался ли ты опять бабе, Иван Тугопряд! Ой, остерегись! Али забыл Анфису, любовь первую, змею хитрую, вероломную? Доживи камнем холодным без веры и жалости к боярыням!» Это в мыслях у инока. А в ушах звучал голос глубокий, горестный: «Поведай, монах, правдива ли молва о тебе?..»
Вздохнула княгиня, прощаясь:
— Видно, напрасно я в горе своем на бога надеялась. А к миру со своей бедой не пойду. Непригоже будет князю Ивану чужое дитя растить да пестовать!
Некрепко сидели на княжении Иван да Данила, сыны Борисовы. Не прощал им народ, что на басурманских плечах в Нижний Новгород въехали. Зыбилась земля низовская под ногами князей-брательников. И надвигались тучи со стороны княжества Московского. И между собой братья не ладили. И словно смолы в огонь подлила Анфиса Данилина, когда сына-наследника родила. Князь Иван своей Мавре начал пенять: «Вот Данилина баба сына родила, а ты, что, колода, смоковница бесплодная! Побывала бы у Макария, инока Печерского!» Попенял, да не на радость себе. Таково глянула на него Мавра-жена, хоть в землю от взгляда зарыться. Глянула и молвила:
— Ох, не велика была бы честь тебе от такого наследника! Но потерпи, авось накликаешь!
И захолонуло у князя Ивана на сердце.
По низовской земле не торопясь зима проходила, с морозами да метелями, с поземкой по застывшей Волге, со свадьбами и похоронами, с грабежами татарскими. Княгиня Анфиса сына пестовала, за инока Макария у Михаила-архангела молилась и мужу о том наказала. Не беда, что наследник рыжим родился, как гриб красноголовик. Княжеские бабки да няньки до третьего колена княжий род перебрали и вспомнили-таки, что в роду князя Данилы были рыжие, а в родне Анфисы не один такой. Какое же тут диво, что наследник красноголовым на свет вынырнул!
А княгиня Мавра одиноко и безвыходно в тереме сидела и от думы безотвязной отмахнуться не могла. Мерещился ей образ монаха с лицом витязя и голос его чуть приглушенный: «Ну, полно, голубушка, не казни, не мучай себя!» А во сне все дитя виделось, к себе его нежно прижимала, а оно, дитятко, в грудь ручонками вцепившись, губками чмокало. Просыпалась — и никого рядом, одна-одинешенька в душном постылом тереме! И тоска, и дума о монахе безотвязная. А князь Иван, брату завидуя, с сыном торопит, гонит молиться в обитель Печерскую. Пыталась уговаривать: «Не спеши, князь, с наследником. Было бы чем владеть, наследовать. Завладел бы сначала накрепко нижегородской вотчиной. Но как-то глянет на то великий московский князь!»
Но отлетали от князя Ивана добрые слова, как от стены. Тут весна-греховодница как-то вдруг нагрянула. Не хватило у Мавры силы подождать, когда льды на низы пройдут и вода спадет. В самый ледоход, в праздник весенний благовещения, когда птица гнездо не вьет и девица косу не плетет, а остальные все радости дозволены, повелела челн снарядить до Печерской обители.
Трудная жизнь у инока Макария. Живых людей исцелять — это не то, что мертвых отпевать. А в помощниках у лекаря только травы, и цветы, и коренья, что родит земля низовская, да слово доброе. А народ — темень темная, бездумно верит в наговоры и в силу слова божьего. Поневоле вспомнишь Пантелея-целителя, что исцелял только силой чудотворною. А среди монахов немало злых да завистливых. Отцам церкви доносят, что не словом божьим исцеляет инок Макарий, а пойлом бесовским. А сам безверием тяжко болен, да и с мечом не расстается, что супротивно уставам и книгам святым.
Плывут по Волге последние льдины, спешат к морю Хвалынскому мимо орд басурманских. Торопятся волжские воды, но не сбывают, только выше поднимаются к стенам Печерской обители. И когда причалил княжеский челн к берегу, совсем недалеко осталось княгине до ворот дойти. По тяжелой серебряной деньге гребцам, чтобы ждали, не скучая, золотую привратнику, чтобы воротами не скрипел, запорами не стучал. Вот и келья знакомая с крышей шатровой, с крылечком приземистым. Окна изнутри светом чуть-чуть озарены. И в келье все так, как ей долгую зиму представлялось. Перед божницей лампада и свечи горят, жутко и строго лики святых глядят. Пучки пахучих трав под потолком, стул приземистый перед очагом, а на стуле он, в затухающий камелек глядит. Из углей вдруг огненные язычки приветливо выскочили, попрыгали бесами, подразнились и потухли враз.
— Анфиса князя Данилы сына родила. Молва о том, что инок Макарий силой целебной да молитвами Даниле наследника даровал. Так народ говорит и верит тому. Скажи, за что гонишь меня? Или я худороднее Анфисы Данилиной по крови, по племени? Почто молчишь, инок жизни праведной? Вот пришла к тебе жена княжеская, душой и сердцем горит по дитяти родному. Что ты ответишь ей?
Молчал инок. Рдели угли в очаге, ровно горели свечи, и блестела сединой его борода, как мех серебристой лисицы.
— Скажу тебе то, что думаю, княгиня, жена Иванова. Полно, нужны ли сыновья-наследники князьям Ивану с Данилой, что вражьей саблей родную землю порубили, изранили? Князьям, что позорят землю низовскую межусобицей да враждой с великим князем московским? Что в наследство останется сынам-княжичам опричь худой славы до бесчестья отцов? А коли тоска по детищу тебя так измучила, найди, облюбуй мужа честного, духом сильного, может, и понесешь. И нет, и не было у меня средства другого ни для одной женской души!
Дивилась княгиня, что вот таким он и во сне виделся, и мерещился в сумерках терема. С гневом шубку соболью с плеч отшвырнула:
— Доколе же это будет, упрямый монах! Или не видит око твое, сердце и разум не слышат, что не наследника князю, а дитя себе ищу!
Потом к божнице шагнула и, крестясь размашисто, с образами, как с живыми, заговорила:
— Господи, Иисусе, сыне божий! Святой Николай Чудотворец! Матерь божия, заступница! Вразумите этого истукана, идола, что не от кого любого, а от него самого дитя понести хочу! И простите ему все грехи невольные!
От ее горячего дыхания погасли вдруг и лампада и три свечи, и стало в келье темным-темно. Вспыхнули в очаге огненные язычки-чертики, поплясали, как бесы, на углях и погасли один за другим.
Весна весной, а с Волги несло, как из ледника-погреба. Продрогли гребцы у челна, княгиню Мавру ожидая. Но когда вышла она из утренних сумерек с грузом своих и чужих грехов да подарила каждому по большой деньге серебряной, повеселело у молодцов на душе, потеплело на сердце. И так на весла навалились, что полетел челн, как птица, с волны на волну перескакивая.
С той ночи весенней благовещенской, когда птахе грешно пушинку в гнездо нести, а девице косу плести, а остальное все небом прощается, немало перемен зародилось на земле нижегородской. Из Москвы грозные слухи пошли, что великий князь не простит Ивану и Даниле Борисовичам разгром крепости на Сундовике и захват Нижня Новгорода. Да и за сожженный Владимир заставит ответ держать. А народ нижегородский уже волком глядел на князей Борисовичей и на всю их родню с чадами и домочадцами. И совсем неладно стало в тереме князя Ивана. Княгиня Мавра и в грош супруга не ставила, на грозу грозой отвечала. И тайно гонцов в Москву посылала и людей московских у себя принимала. И инок Макарий полюбил по вечерам из кельи выхаживать, вверх по Волге и на откосы поглядывать, неведомо кого поджидая. И нередко навещали его люди в одежде воинов. Дряхлый игумен Савватий с молитвой не разлучался, а когда монахи-завистники знатные наушничали ему на инока Макария, отмахивался, как от овода:
— Сей инок, наш Макарий, доблесть и украшение всей нашей обители, ибо исцеляет от недугов народ православный от смерда до боярина!
Встревожены князья Иван и Данило. Слышно, снаряжает великий князь Василий против них силу ратную, чтобы прогнать сынов Борисовых из нижегородской вотчины. Что делать, как быть, когда народ простой и знатный ждет не дождется, когда с Ивана и Данилы княжьи шапки в Волгу полетят! Брат Иван брата Данилу корил за то, что своей бабе много воли дал и треплет она языком, что родила наследника стола нижегородского. Ни коня, ни возу, а вопит перевозу. А сынок-наследник, как огонь, рыжий, ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца! А Данила в ответ Ивана пытал, слыхал ли, мол, братец родной, что в народе о твоей Мавре говорят? Всю-то весну в Печерскую обитель челн гоняла, ездила наследника князю Ивану вымаливать. А вымолила себе дружка любезного из монастырской братии. У меня-то, мол, рыжий сынок, а вот поглядим, твой каков будет, чалый или вороной! Из народа что-то многие повадились к тому монаху Макарию наведываться, словно всем вдруг занедужилось. А на нас, князей, глядят по-недоброму, стало боязно за городьбу выехать!
В брани да распрях забывали братья заботу о народе и вотчине. А туча на заходе солнышка росла да чернела, гневом князя московского полнилась, дальним громом гремела. И ждали нижегородцы нового: «Нет, не простит князь Василий, сын Донского Димитрия, захват Нижня Новгорода племенем Борисовым!» Пока братья бранились да спорили, княгиня Мавра сынка родила, не рыжего, не чалого, а черноголового. Мамки, няньки да повитухи, на малыша любуясь, думали-гадали, с какой стороны такой черненький удался да с широкой косточкой. Сразу видно, что будет витязем! И додумались, что и с отцовской и материнской стороны в роду были черные, да еще примету вспомнили: «Сыновья — не то что дочки, завсегда больше на мать смахивают!»
Перед грозой-бедой совсем забыли Иван и Данило, что родными братьями доводятся, расспорились да рассорились из-за наследной отчины. Анфиса, вздорная на ссоры, братьев подзуживала, а княгиня Мавра в том деле ничего знать не захотела, только младенца своего оберегала, пестовала. Да неведомо откуда к ней потайно разные люди наведывались и не знамо в какую сторону пропадали. Все тревоги тайные не мешали Мавре первенца сына беречь и согревать своим дыханием.
Грянул гром над сынами Борисовыми не из тучи, что от Москвы надвинулась, а с неба нижегородского. Ненавистны стали народу братья-князья с глупыми распрями, с дружками татарами да булгарами. В колокол ударили, собрались люди мастеровые и посадские, чернецы и воины, бояре с челядью и подступили к теремам княжеским. И сбежали Иван с Данилой за Суру-реку. Анфиса с сынком успела за Данилой сбежать, а Мавра отказалась от дороги в чужой народ: «Милее мне вернуться к отцу да матери в Великий Новгород, чем к басурманам, дружкам твоим!» Отступился князь Иван от супротивной, рукой махнул и, спасая свой живот, вслед за братом ускакал.
Тем часом одна мятежная орава к терему подвалила с криками: «Не захватили Ивана Борисова, так отродье его, сынка-наследника, как котенка, головой об угол!» Княгиня Мавра навстречу буйным вышла и, как тигрица, вход в терем загородила с топором боевым в руках:
— Нет здесь ни князя Ивана, ни сына его, наследника! Здесь только я, Мавра, да чадо мое! Прочь отсюда, чтобы в ответе не быть перед князем великим!
Попятились люди и побежали Данилин терем с досады громить. И вовремя. Из-под горы ватага чернецов вынырнула с мечами да копьями, и монах с огненной бородой крикнул издали:
— Не страшись, матушка, не дадим на поругание, ни тебя, ни дитя твое! Вишь, злодеи, на дите да на бабе задумали зло выместить!
В тот день и войско московское подоспело. Воины князя Василия родню и пособников бежавших князей похватали и в темники посовали, а у терема князя Ивана стражу поставили, чтобы Мавру с чадом оберегать. Вслед за войском прикатилась в Нижний Новгород колымага на колесах дубовых, окованных, с верхом позолоченным, а в ней иерей Иона, рука правая великого князя во всяких церковных и божьих делах. Остановился старец в монастырских покоях и в первое же утро приказал позвать к себе настоятеля Печерской обители Савватия да инока Макария.
Долго разглядывал Иона своим оком испытующим монаха с мечом у пояса, чернеца Макария. Старец Савватий напротив в креслице сидел, слезящимися глазами посланца разглядывал и на расспросы о Макарии отвечал:
— Мних учености великой, простоты ангельской, жизни праведной. Не бывало таких в обители с той поры, как игумен Дионисий перед богом представился. Прочу его в настоятели после кончины моей!
А инок Макарий богатырем стоял, горбоносый по-орлиному, с лицом открытым да смелым, с осанкой воина, а головой потолок подпирал. И бесстрастным казалось его лицо, изрезанное ранними морщинами.
— А сам о себе что он скажет? — спросил воевода московского князя. — Мы в Москве о нем малость понаслышаны!..
Углубились морщины на широком угловатом челе Макария, и сказал он, как выдохнул:
— Все мы люди, у каждого сила и слабость своя, у одних явная, у других тайная. И я как все. Но народу нижегородскому и князю московскому служу издавна, надежно и верно!
Тут патриарший посланец Иона белым пухлым пальчиком иноку погрозил:
— Ведомо, ох, ведомо на Москве, как иноки монастыря Печерского чужих жен от бесплодия исцеляют. Слыхано, дошла молва о том, как посылаешь молодух погулять с вольным ветром в обнимку, и тем ветром им животы надувает! Ведомо также великому князю Василию и патриарху Руси, что мних Макарий не уставал созывать народ под стяг московский. За это служение святой Руси многое простится тебе небесами. Но церковь православная и патриарх всей Руси не могут простить вольномыслия твоего и еретичества!
Ни слова в ответ не падало от инока Макария. Глядел на старца Иону, как на злую диковину, словно сердце его разглядывал и думы угадывал. И следа не осталось от лукавого добродушия в лице патриаршего посланника. Сытый румянец пропадал, а глазки, как у горностая, злым огоньком зажигались:
— Непригоже и грешно смердам трещины на пятках залечивать, что им богом в наказанье и испытанье подано! Не пристало слуге божьему гнойные глаза раба целебной водой промывать, наказанье богово своей грешной рукой снимать! И паче грешно иноку божьей обители чресла мечом поясати, аки воин, что спасителя на кресте распял. Во искупление грехов твоих, будет назначено тебе, инок, испытание трудом тяжким, изнурительным, постами и молитвами. Принимай сию кару со смирением, ибо в землях иных за ересь и целительство заживо в темницах хоронят и на кострах жгут. Так велит церковь святая и православная!
Ни слова в ответ от инока. Старец Савватий низко и покорно склонил седую голову.
Хлеб да соль испокон веков рядом идут. Соль и за столом всегда во здравие была и в прок запасти позволяла. «Вяленое да копченое хорошо, когда посоленное!» Без соли — не хозяин. Немало надо было соли и монастырю Печерскому. На целый мир рыбы насаливали. На низах у моря Хвалынского соль пластами лежит, да досягнуть оттуда басурман не велит. А вот повыше Оки, у самой Волги, соляное урочище. Соли не густо и взять трудно, зато вольно, без опасения, да и справлять попутной водой. Молва о Соленых грязях далеко разнеслась. Одна безымянная речка, что напротив Соленых грязей в Волгу вливалась, так и прозывалась: «У соли». Долго ее звали Усола, потом стала Узолой. А радиловские монахи на Соленых грязях свои варницы построили — грязь копали, соль выпаривали, на челнах в обитель отправляли.
Гуляет над Волгой ветер весенний, добрый да тугой, как лук боевой, гонит волны речные, и плещутся они под Печерской горой. А на волнах под стеной монастырской покачиваются два просмоленных челна. Два челна, на каждом по шесть гребцов, седьмой на корме. Четырнадцать чернецов с иноком Макарием во главе в трудный путь готовятся, на работы тяжкие, на Соленые грязи, варницы строить, соль добывать. Ватагу Макарий сам подбирал, все головы смелые да удалые, бывалые воины. Плывут соль варить, а из монастырской кладовухи мешок соли в челне припрятали, с топорами и лопатами копья да мечи ухоронены. И услыхало бы чуткое ухо, как под иноческим одеянием кольчуги чуть слышно звенят.
Отчалили и понеслись Волге навстречу, сверкая новыми веслами. На одной корме правил челном монах с бородой черной, посеребренной, на другой бородач рыжий, огненный. Тот ветер тугой, как лук боевой, да весла крепкие, молодецкие, пригнали челны к устью речки лесной, что с левой стороны к Волге спешила и сливалась с ней у Соленых грязей. Здесь, заплывши в Усолу, инок Макарий своим молодцам передышку дал. Ночью вокруг костра сидели, жизнь и долю свою от молодости молча вспоминали. Тут под ропот речной струи да под шепот леса весеннего заговорил инок Макарий, что в миру звался Иван Тугопряд:
— Служил я, браты, в молодости князьям да боярам, живота не жалея, а доброй судьбы не выслужил. От межусобиц княжеских в монастырь бежал, и богу и великому князю служил за позор, за кару, за бесчестие. От знатных монахов и церковников только зависть да наветы на мою голову. Теперь думой с вами пополам делюсь. Честнее и почетнее служить нам не князьям со боярами, что перед ханами угодничают, друг на друга зло замышляют, а народу поволжскому да вольной волюшке!
Наперебой заговорили монахи ватажники:
— Ты наши думки, Макарий, угадываешь! Давно согласны с тобой!
— Милее себе гробы тесать, чем переносить неволю монастырскую да знатным монахам прислуживать! — сказали братья-плотники.
— Охотнее нам мечи да копья ковать, чем запоры да цепи на темницы монастырские! — так кузнецы молвили.
А сапожный тварь да одежный швец такое слово вставили:
— Свои глаза готовы выколоть, лишь бы не видеть обитель ненавистную, житье постылое!
— Эх, браты, маловато мы сетей да вентерей прихватили! При вольной-то жизни некогда будет снасти плести! — Это Варнава-рыбак сказал и горестно рыжей головой покачал.
И порешили ватажники не строить на Соленых грязях варницы, не служить ни монастырю, ни князьям, ни боярам, а уплыть вверх по Волге, растаять там, как вешний снег, и новую жизнь начать. А в случае злой беды-неволи можно и к вольному Новгороду уйти.
С рассветом потух костер, ветерок зашумел, сизый сокол над рекой пролетел. Проснулись молодцы-чернецы, из Усолы выбрались и вверх по Волге поплыли.
Четырнадцать монахов пропало из монастыря Печерского. Все молодцы один к одному, бывалые воины, мастера на разные руки, и с мечом и с топором обходятся играючи. Уплыли по весне на Соленые грязи и как слезой в Волгу канули. Не стало в обители целителя Макария, а хворый люд идет и идет в монастырь со всеми недугами. И начал народ роптать, дознаваться: «Куда похитили, захоронили иноки-целителя?» Отводят в сторону глаза свои блудливые монахи-завистники, что беду на Макария накликали. И старец Савватий молчит. Что людям ответить, чтобы неправдой не согрешить? И черемисы, и мордва, и русские все идут к Макарию за исцелением. Но не стало в обители целителя. А людская молва, что речная волна, все потаенное на берег выбросит. «Монахи, завистники толстобрюхие, в темницу Макария упрятали!»
За обычай было в Печерском монастыре каждое лето праздновать четверг вознесения, с крестным ходом вокруг обители, с обильной трапезой на монастырском дворе. В вознесенский четверг народ к монастырю с утра валил, кто грехи свалить, кто недуг лечить, кто сытной еды отведать. В тот летний погожий день с горной и лесной стороны немало людей нахлынуло. После молебна и трапезы все недужные и хворобые инока Макария спохватились. Как узнали, что напрасно сюда свою хворь несли, подняли плач да вой с бранью-руганью. Смерды с гнойными глазами, лесовики, желтые от лихоманки, бабы с детками золотушными, люди посадские с одышкой — все с воплями к монахам приставали, инока Макария разыскивая. И не знали игумен с братией, как от них избавиться. В тот час на их беду тяжелый черный ушкуй причалил к монастырю, а в нем десять молодцов-ушкуйников и атаман Семен Позолота, израненный, на дне челна лежал. По весне встретились им у Соленых грязей два челна с черноризниками. Подумалось ушкуйникам, что это чернецы федоровской закутки соль промышляли. И задумали попугать да поглядеть, что монахи в челнах везут. Да, видно, не в добрый час дело затеяли. Схватился с атаманом на мечах монах с бородой черной, посеребренной, и выпал меч у атамана, рука плетью повисла, а из ключицы кровь — не унять. Отцепились от чернецов ушкуйники и погнали свои челны к потайному становищу. Лечили вожака у колдунов да знахарей, но рана не закрывалась и рука не володовала. Посоветовали им люди лесной стороны: «Везите недужного в Печерскую обитель к иноку Макарию. Только он может вашего атамана выходить!»
И вот приплыли ушкуйники в Печерскую обитель в самый праздник вознесения. Атамана на парусе бережно на монастырский двор внесли и на лужок опустили. Окружил их народ. Как ястреб с перебитым крылом, Семен Позолота недвижно лежал и только взглядом грозным показывал, что жив пока. И тронулись сердца людей жалостью к разбойнику. А молодцы-ушкуйники голосами грозными да хриплыми дознаваться стали:
— Где нам взять-повидать инока Макария-целителя?
И стало вдруг понятно всем, что не уйдет эта вольница, пока не узнает правду про инока-целителя. Наперебой закричали хворобные да недужные:
— Захоронили, замуровали заживо от народа нашего Макария!
— Доносами да наветами извели инока монахи-завистники!
— Постами да работой изнурительной погубили Макария!
Тут молодцы из вольной ватаги за мечи да копья схватились, к монахам приступили и потребовали отдать им инока-целителя. Попятились черноризники. На ушкуйников глядя, смерды, и недужные и здоровые, за дубинки да камни взялись, загорланили:
— Отдайте добром инока Макария! Выпустите из темницы неповинного! Огнем спалим ваше все гайно непотребное!
Божились монахи, открещивались и ко храму пятились. А как поняли, что словом божьим не укротить народ, попрятались в храме и заперлись. И полетели камни в окна божьего дома, застучали дубины в ворота и двери. Смерды железными ломами запоры у подвалов ломали, в темницы заглядывали, искали целителя Макария. А десять удальцов ушкуйников к церкви подступили и крикнули монахам, что сожгут их в божьем доме заживо, если не скажут, куда целителя запрятали. И разнеслось по двору монастырскому:
— Соломки, соломки к божьему дому! Смолья под углы да огня поживее! Поджарим черноризников!
Завыли, завизжали монахи от страха. Старца Савватия со крестом в руке из церкви вытолкнули. Он всех богом стращал и крест целовал, призывая поверить, что инок Макарий вверх по Волге уплыл варницы строить, соль добывать и там с ватагой сгинул, пропал. И плакал старик, стоя на коленях перед смердами и ушкуйниками. После того позатих народ, отвалил. Хворые с недугами в разные стороны побрели. Тут воеводские люди на горе показались, спешили монахов оборонять. Подхватили ушкуйники своего атамана, к Волге спустились и от берега оттолкнулись. Коршуном полетел молодецкий ушкуй вверх по реке и скрылся из глаз. Погрозились воеводские стражники, покричали вслед с берега да и остыли. Да и угнаться ли стае ворон за смелым соколом?
Так печально закончился один праздничный четверг вознесения в Печерской обители.
А ватага инока Макария после схватки с ушкуйниками опять по Волге вверх поплыла. На третий день добрались до крутой волжской излучины. Тут в Волгу сквозь дубняки лесная река борзой струей лилась. Вода в нем была с весны красноватая, как сусло ядреное. И подивились ватажники весело:
— В этой речке вода, как у нашего Варнавы борода — медная!
И в устье той нелюдимой реки заплыли. Плыли день да другой, навстречу берега открывались незнакомые, дикие да угрюмые, а чернецам-молодцам дышалось все вольнее и радостнее. Выбрали место для становища, черную одежу на костре сожгли, в молодецкие кафтаны нарядились и булатными мечами опоясались.
Полонянка с Колдовской реки
Жил на хмурой приморской земле викинг Гуннар, разбойник, до чужого добра жадный, на богатство и славу завистливый. Ростом и силой с викингом никто не тягался, по отваге неистовой равных ему не было. Волосы рыжие Гуннар растил не стрижены по плечи, как шерсть кабанья жесткие, на бедре носил двурушный меч сокрушительный, на левой руке тяжелый щит, а в правой копье метательное.
Много владений захватил разбойник-викинг, немало рабов привез из заморских земель, несчетные стада паслись на лугах, а сундуки тяжелы были от серебра и золота. Но корысть ненасытная манила Гуннара Неистового на новые разбойничьи подвиги. Каждой весной плавал он за море, добирался до истоков великой Колдовской реки и спускался по ней далеко в глубь чужой земли. Шайка викинга грабила по реке селения и набирала полонян, чтобы их силушкой гнать корабли в обратный путь. И к середине лета успевал викинг с добычей домой воротиться. Но ни разу не доходил Неистовый до славянского града-крепости на той Колдовской реке. Только от рабов-полонян было слыхано, что люди того града и племени к труду, как пчелы, прилежные, на всякие ремесла искусные и много среди них волхвов, вещунов и боянов-песенников.
Вот и задумал Гуннар Неистовый вновь побывать за морем, добраться до земли волхвов и боянов-песенников, до града-крепости на Колдовской реке, чтобы вернуться с добычей дорогой, невиданной, полонянами сильными, на всякое дело умелыми. Задумал и приказал своим полонянкам-рукодельницам выткать к весне паруса новые, нарядные, в долгой путине надежные.
Три славянки-полонянки, три сестры родные давно у викинга в неволе жили, на чужой земле состарились, с неволей свыклись, да с судьбой не смирились. Руками служили, а сердцем не покорились. Вот сели за ткацкие станы сестры-умелицы и с вещей песней за трудное дело взялись. Той песней сестры богов просили, чтобы послали Гуннару Неистовому вместе с добычей небывалой несчастье грозное и судьбу печальную. Тяжко было сестрам колдовскую песню петь, от напева жуткого, припева сурового.
И с той же песней колдовской боевой стяг выткали и на нем черного ворона шерстью вышили в хищном полете. Боевой стяг Гуннара Неистового. Пока паруса готовили, викинг с ватагой своих разбойников-воинов к пустынным горам отлучался, на свое идолище богам поклониться, в разбойном походе удачи просить. А в горе за идолищем полонянин Гмырь отшельником жил, идолище оберегал, викингам судьбу предсказывал. После поклона богам-идолам Гуннар старца полонянина навестил, чтобы заранее судьбу знать и смело за море плыть.
Выполз Гмырь из земляного жилья, лицом на полночь стал, вспухшими веками глаза прикрыл и оцепенел, как заснул. Только пальцы его костлявые по сивой бороде бегали, да веки дрожали живчиками. И как сквозь сон вещал викингам удачный поход. «Вижу Гуннара, воина неистового, с мечом сверкающим, со щитом серебряным на корабле под парусами, как радуга, нарядными, а с ним отроковица красы невиданной!» И замолчал. «Я жду, старик!» — нетерпеливо сказал Неистовый. «А вдаль понять не могу. Сверкает меч кривой в тонких женских руках. Ворон на знамени твоем крыльями машет и клювом грозит!..»
На свое подворье вернулся Гуннар радостный, с верой в удачный поход и в свою судьбу счастливую. Поторопил он своих мореходов-воинов корабли просмолить, заново оснастить, с берега в море столкнуть и новые паруса поднять. И с ватагой воинов на трех кораблях в поход отправился.
Много дней плыли викинги-разбойники, сначала морем, потом цепью рек и озер, с воды на воду корабли волоком перетаскивая. После пути трудного выбрались на реку Колдовскую, великую и по ней легко и быстро поплыли. Гонимые ветром, попутной водой и веслами, как черные птицы, летели корабли Гуннара Неистового, под парусами новыми, нарядными, с черным вороном на боевом стяге-знамени. И через три дня увидали разбойники на береговых холмах град-крепость из частокола могучего, с домами, теремами и башенками, а вокруг крепости высокий вал земляной. И видно было, как люди, старые и малые, завидя чужие челны, от реки на гору бежали, спешили схорониться за валом-крепостью. Потревоженным ульем глухо гудел град на холмах, а над рекой Колдовской, величаво-спокойной, с тоскливыми криками белые птицы летали, как платки полотняные.
Причалили викинги к берегу, корабли на отмель вытащили, стражу поставили и все ватагой подступили ко граду-крепости. И потребовал Гуннар Неистовый от города откупа мехами дорогих зверей, тканями шелковыми, утварью золотой да серебряной и боевым оружием. Да запросил сто полонян, чтобы гнать свои корабли в обратный путь. И грозил Неистовый все жилища огнем спалить, людей без разбора в пожар бросать, двурушными мечами сечь, на копья поднимать, если не дадут ему откупа.
До ночи и всю ночь ждали разбойники ответа из крепости. И только после полудня выпустили из города паренька-подростка лет пятнадцати. Вышел он к шатру викингов и поставил к ногам Гуннара лубяной кузовок, а в руки подал меч булатный, видом нерадостный. С грозным удивлением спросил викинг через толмача-переводчика, долго ли ему дани-откупа ждать. В ответ сказал паренек:
— Все дары со мною посланы. А сотня сильных людей горожанам самим нужна — свой город от ворога отстаивать. И еще наказано сказать, что пустые корабли вам легче будет гнать, чем груженые!
Свой гнев подавляя, приказал Гуннар открыть кузовок с подарками. И нашли там разбойники вместо дорогих мехов земляного крота, вместо тканей шелковых бересты клочок, а за утварь серебряную держали ответ черепки глиняные. Невесело стало воинам от такого ответа бессловесного, а вождь их Гуннар, ярость искусно скрывая, дареное оружие разглядывал. Тускло и холодно сталь мерцала, не радовал меч ни насечкой, ни оправой золотой, и был он легок по сравнению с двурушными мечами викингов. Но когда попробовали воины остроту простого клинка на своих мечах, подивились и переглянулись совсем невесело. Оставил легкий булатный меч на их тяжелых двурушниках глубокие зазубрины, а сам остался без царапины.
— Где и кем такой меч выкован? — спросили подростка викинги.
— В нашем городе. Дед мой ковал, а я закаливал да оттачивал!
Надолго задумался над подарками викинг Гуннар, склонясь бородой на двурушный меч. И, от думы очнувшись, молвил своим воинам:
— Люди города волхвов бедны и взять с них нечего. Но и бедность свою не отдадут они без боя смертного. Порукой тому вот этот меч и кузовок с подарками. Возьмем добычу в других городах, где люди богаче и покладистее!
И приказал Гуннар Неистовый своим воинам в обратный путь готовиться, чтобы с рассветом уйти от города волхвов и кудесников.
Невесело ночь встретили и викинги и осажденные. Не спали славяне-горожане, а, затаясь за стеной, ждали вражьего приступа, к битве готовые. Но тихо было в стане викингов на речном берегу, молча у костров сидели воины и о бесславном походе думали. Вот огромный месяц из-за сумрачных лесистых холмов поднялся, холодно глянул на Колдовскую реку, на град-крепость, на стан разбойничий, А на вал городской взошла девчоночка, тростинка стройная, с пышной косой до пояса и запела песню, викингам непонятную:
Девчоночка-тростинка по валу ходила и песню пела, словно богам племени молилась. От той песни дивно и жутко было викингам. Не колдунья ли из града волхвов очаровывает их красой и силой голоса? Месяц огромный, багряный из-за стены выплыл и от песни сразу лицом посветлел, река под ним струйками-чешуйками задрожала, а град волхвов на крутом берегу стал грознее и сумрачней. А над городом и рекой, кружась, песня летала, наводя страх на разбойников. Гуннар Неистовый, очнувшись, спросил раба-полонянина, о чем поет эта девчоночка на валу крепости. Раб сказал в ответ:
— Она пела вещую песню о том, что никто не рад будет завтрашнему дню, призывала на помощь богов, реку и месяц. Она еще поет о том, что готова пойти ради родного народа и города на самый край света, за море грозное к людям хмурым и жестоким. И что не остановят ее в замысле никакие силы грозные!
— Хорошая песня, смелая девчонка! — сказал Неистовый. И задумался. Потом под стеной города одиноко стоял и слушал певунью. И очень хотелось ему не только слышать, но и знать, о чем поет она, и видеть ее лицо. И жалел, что так плохо понимает язык народа с Колдовской реки. Когда певунья умолкла, викинг в стан вернулся и опять спросил полонянина, о чем пела славянка в конце песни.
— Она кончила песней о друге своей юности, что не побоялась бы идти с ним за море грозное, в неволю к хмурым викингам.
— Хорошая песня, смелая девчоночка! — снова сказал Неистовый. — Среди наших жен не найти такой!
И замолчал в раздумье, сидя коршуном на диком камне. «Храбрая песня, смелая девчоночка. Среди наших не найти таких. Жены моей земли умеют только шерсть прясть, одежду шить да мясо варить. Умом и сердцем волчицы алчные, голосом — котлы разбитые, их песни — завыванье ветра полуночного!»
Викинги дозорных выставили и спать полегли, но не спали, а думали: «Напрасно мы забрались так далеко по Колдовской реке, в землю волхвов! Уходить надо, пока чародейки не околдовали всех своими песнями, как вождя нашего, Гуннара Неистового!»
И не зря так думалось воинам. На рассвете приказал Гуннар подступить к стенам города и потребовал у славян-горожан выдать певунью-девчоночку, что ночью по валу ходила и дивную песню пела. И на мече своем поклялся не трогать города и тотчас прочь уплыть, как только славянку-полонянку ему отдадут.
Позадумался храбрый воин Турило Зык. Последнюю дочку алчные боги себе в жертву отнять задумали. Отнять и заморским разбойникам в неволю отдать.
А воины викинга, боевой ярости набираясь, мечами и секирами грозились и под стены для костров хворост тащили. В молчаливой печали готовились славяне смертью град и честь отстаивать и друг с другом перед гибелью прощались. Только самые богатые да сварливые на Турину Зыка косились и шипели: «Это твоя дочка, девчонка своенравная, ночной песней беду накликала! Не шибко вчера задумывался, как кузнеца Соколика в подарок врагу посылал!»
А Гуннар Неистовый опять горожанам самое малое время на раздумье дал, чтобы немедля выбирали они либо в огне смерть лютую, либо по доброй воле певунью выдали. В тот трудный час к Туриле Зыку на помощь дочка Вольга смело пришла, в глаза отцу не таясь глянула и молвила:
— Не надо, отец, губить в пожаре город родной, старых и малых гибели обрекать! Отошли меня к викингам, чудится мне, что я живой вернусь!
Услышали о том славяне-горожане и заодно с Вольгой просить начали, а со стены крикнуть поспешили, что решено народом отдать викингам певунью Вольгу, красу и радость всего города!
Провожали Вольгу всем городом. Все, кто за ночную песню колдуньей бранил, со слезами в ножки девчоночке кланялись, матери младенцев подносили, чтобы на прощанье ручонками спасительницу обняли. Последним Турило Зык головку дочери ко груди прижал бережно. Открыла стража в городских воротах тесный проход, и вышла славянка-полонянка смело навстречу воинам Гуннара Неистового.
И подивились тут все воины-разбойники, а больше всех сам Неистовый: «Полно, эта ли девчоночка пела ночью на валу крепости? Откуда взяться дивному голосу у неприметной недоросли? Не подменили ли девку волхвы города?» А певунья Вольга неробко перед воинами стояла, костью широкая, с пышной косой по спине, по-отрочески большеротая, с гребешком и ножом у пояса. Видно, не дано было разбойникам видеть в полонянке приметы добрые, в плечах грудной простор, шею сильную, красивую. Тут старый раб-толмач к Вольге приблизился со словами вкрадчивыми:
— Моему господину и воинам не верится, что ты — та самая певунья, что ночью с песней по валу ходила!
В ответ большеротая девчонка усмешкой недоброй сверкнула:
— Не спеть ли для вашего гривастого?! Не верится, так пусть в реку швырнет, волной к родному берегу вынесет!
И опять на викинга бесстрашно глянула. Тут Гуннар отплывать приказал. Погрузились разбойники, оттолкнулись от берега, паруса подняли, на весла налегли и вверх по Колдовской реке поплыли. Вот тогда-то и запела полонянка Вольга, с родным городом прощаясь. И показался конец песни Гуннару знакомым.
И летела песня, как птица сильная, над Колдовской рекой до города волхвов, за холмы лесистые. И опять спросил Неистовый своего толмача-полонянина:
— О чем пела полонянка моя?
— Обещала не забывать свой народ и родину и что совсем не страшно ей по зову сердца плыть за моря сердитые, в земли дальние. А кончила песней, что ночью с крепости пела.
И еще глубже задумался Гуннар Неистовый, хмурясь, словно трудную загадку отгадывал.
А полонянин Соколик заодно с простыми воинами веслом волны рубил, подгоняя суденышко в края чужие, дальние. Но не грустил и не задумывался, а радовался тому, что никто не догадывался, кому Вольга в конце песни пела. Легко было разбойникам гнать корабли порожние, да думки были тяжелые. Из похода дальнего без богатой добычи плыть невесело. И вот как выбрались викинги из рек да озер к морю просторному, возле берегов поплавали, приморские племена да встречные корабли пограбили, тогда и к своей земле поплыли. На одном корабле везли полно тканей шелковых да утвари серебряной, на другом — вина, меду да разных иноземных сладостей, а на третьем всего-навсего двух полонян-недорослей да меч булатный из земли волхвов на Колдовской реке.
Взлетали корабли с волны на волну, как птицы буревестники, и расправили на тугих парусах крылья черные вороны. Гуннар Неистовый в морскую даль глядел, удачному походу радуясь, и думой угадывал, как удивит своей удачей соседних викингов. На пиру оделит гостей подарками, серебром да дорогими тканями и похвалится мечом булатным и кузнецом-отроком, что выковал оружие дивной остроты и крепости. А под конец покажет, как драгоценную диковинку, полонянку-недоросль, а она удивит и порадует гостей песней сладостной, чудным голосом. И о чем бы ни задумывался Гуннар Неистовый, прибивало его по волнам раздумья к славянке-полонянке из земли волхвов с великой Колдовской реки. Иное думали простые воины, на весла налегая: «Околдовала полонянка нашего Неистового. Если в море нас не постигнет беда, то в свою землю ее привезем!»
Неприветливо глянули берега чужой земли на славянку-полонянку, не ласковы показались они и Соколику. Встречать корабли вышли из хором сумрачных Изольда, жена Неистового, и три сестры-прислужницы, управитель с десятком воинов, рабы-полоняне из сараев высыпали. А позади всех Бородатый Ян, полонянин-кузнец, выше всех на целую голову. На нем одежа — штаны короткие да шкура телячья спереди — защита от огня, железной окалины. На ногах туфли самодельные из кожи воловьей, неизносимые. Волосы за плечами шнуром, как сноп жита, перевязаны, борода густая, кольцами. Много лет он в рабах у викинга, но не осилил тоску по родине, не забывал край родной. Не убывала в нем сила, краса богатырская, только появилось серебро в волосе. Вот ему, Яну Бородатому, и отдали прямо с корабля отрока Соколика, а полонянку Вольгу три сестры за собой в хозяйские хоромы увели, как было Гуннаром приказано, и одели в одежку дорогую, иноземную. И в тот же час Изольда, жена викинга Неистового, с великой ненавистью на полонянку Вольгу глянула. «Ох, чую сердцем и разумом, что будет эта девчонка злодейкой моей! Вот подрастет, расцветет, тогда Гуннар ее в жены возьмет, главной хозяйкой сделает, а меня к полонянам в сарай, на работы тяжкие — паруса ткать, на болотах сено для скота припасать!» И затаила она на Вольгу зубы змеиные.
Не откладывая надолго, назначил Гуннар Неистовый пир пировать, праздник справлять. Издалека понаехали родня да соседи-викинги, разбойники знатные с буйными женами. Хозяева и гости за длинные тяжелые столы сели, мечи да щиты за спиной за стену повесили и принялись за горы вареной говядины, за хлебы огромные, взялись за ковши пузатые, начали пировать да бражничать.
Среди пира вздумалось Неистовому главной добычей похвалиться, и послал толмача-полонянина за Соколиком, а сам иноземный меч со стены снял и гостям с похвалой показывал. Когда привели Соколика, не поверилось гостям, что этот недоросль своими руками такое оружие выковал. А Гуннар дареный меч в руки Соколику подал:
— Мастер ты мечи ковать, да умеешь ли мечом мечи отбивать! — И приказал отроку двурушные мечи викингов отражать. Один за другим викинги крепость своих мечей пробовали, но на диво всем отрок-полонянин своим легким мечом на тяжелых двурушниках следы оставлял, осколки да искры выбивал, а его клинок оставался цел, невредим, ни щербинки, ни искорки, только звенел да пел, как заколдованный. И владел тем мечом отрок Соколик легко да играючи. И подумалось бывалым воинам и самому Гуннару Неистовому: «Счастье наше, что не вступили мы в битву со славянами на Колдовской реке!»
Под шум да споры посторонился Соколик с мечом в застенье, от захмелевших викингов подальше. Тут сестры-прислужницы славянку-полонянку напоказ привели. И успела Вольга неприметно взглядом бодрым паренька осветить. Исподлобья, хмуро глядели викинги и суровые жены их на заморскую диковинку, на девчонку, в дорогую одежу одетую. А хозяин Гуннар сказал Вольге, чтобы спела она для гостей песню самую сладостную и всем приятную. И похвалился перед соседями-викингами, что эта полонянка, худая да большеротая, искусница великая не только песни петь, но и сама те песни складывает. Но усмехнулась Вольга нерадостно и, сторонясь викинга, что-то молвила. А слуга-толмач промычал трусливо, мешкотно:
— Она сказала, что мало чести и радости петь для стада хмельного!
Тут гости заодно с Изольдой насмехаться да роптать начали. «Ну и сокровище привез Гуннар с Колдовской реки, из племени дикого, славянского! Что проку да радости в своенравной девчонке, в ее песенном голосе, в глазах бездонных да неприветливых, как наше море хмурое, в ее густых косах да худых плечах!»
А Гуннар Неистовый не знал на кого гневом обрушиться: на гостей, на Изольду или на девчонку упрямую. А сердце грозное уже наполнялось жалостью к синеокой полонянке из земли волхвов. Сразу приметила это Изольда глазами своими звериными, вскипела злостью змеиной, двурушный меч ухватила и к Вольге подступила с угрозами:
— Знаешь ли ты, девчонка дерзкая, как в моем доме строптивым полонянам головы отрубают?!
И не успел никто из-за столов выбраться, как на славянку злой волчицей напала, за косы ухватила, к полу пригнула и мечом взмахнула. Но отрок Соколик из застенья налетел по-соколиному, по двурушному мечу родным клинком ударил — и выпали из рук Изольды обломки меча. Тут Гуннар подоспел, Изольду прочь оттолкнул и заговорил с Вольгой по-доброму да милостиво, чтобы не противилась она, потешила гостей той песней, что пела со стены родного города. И волосатой рукой по голове гладил девчоночку. Но молчала певунья, как не слышала и не видела, стояла камнем холодным, истуканом с идолища. Три сестры-прислужницы смело подступили к хозяину:
— Или не видишь ты, викинг Неистовый, что лишилась она от страха и речи, и разума!
Глянул Гуннар и поверил. В лице славянки ни кровиночки, в глазах ни слезиночки, и холодна, как камень с морского берега, волной да ветром обточенный. Подхватили Вольгу сестры-полонянки и за собой увели. А у Соколика хозяйские слуги славянский меч отобрали и в кузницу к Яну Бородатому послали. После того гости и хозяева опять пировать начали, на говядину вареную, на брагу солодовую, на вина заморские навалились. Потом буйные жены викингов песни запели. И стало от той песни на сердце у Гуннара Неистового совсем сумрачно и холодно, как от ветра полуночного, тоскливо, словно от воя звериного.
Много было земли и скота во владениях Гуннара Неистового. От зимы до зимы сорок рабов-полонян на полях и лугах страдали, жито и сено запасая. В ту пору люди заморской земли не знали ни косы, ни серпа, все хлеба и травы срезали рабы ножами да обломками мечей, старыми, зазубренными, к делу кровавому негодными. А боевое оружие в руки полонян не попадало. Не зря управитель викинга, опасаясь за свой живот, носил поверх одежды панцирь из кожи бычиной. За это и прозвали его «Пузом Кожаным».
Из всех рабов только Бородатый Ян свободно по подворью ходил. Кузнеца в железы не закуешь, на цепь к горнилу не посадишь. Немало лет прошло с той поры, как Ян в неволю попал, немало руды и угля добыто, железа выковано. Дорожил викинг Гуннар своим рабом-кузнецом, как скотиной породистой, мастером корабельные гвозди ковать да гарпуны зверобойные. Но гневался хозяин, что совсем не умел кузнец ковать боевое оружие. Не догадывался Неистовый, что не все свое мастерство полонянин показывает. Да отказывался Бородатый Ян на рабов железы ковать, и не осилил хозяин упрямства Яна-полонянина. У последнего кузнеца голову не отрубишь! И вот, вернувшись из похода, Гуннар думой так укладывал, что два кузнеца любое дело одолеют: и секиру, и якорь, и меч стальной выкуют, и цепи на раба строптивого. Только давно жизнью проверено, что не получается на деле так, как думой уложено. Рука невидимой судьбы да случая все на свой лад переделывает.
В тот час, как Соколика с корабля Яну Бородатому отдали, оглядел старый кузнец паренька сероглазого, телом сухого, по приметам сильного да ловкого, обнял рукой за плечи и всего-то три слова сказал:
— Ну пойдем, сынок, в мою кузницу!
Когда Гуннаровы прислужники позвали Соколика на пир, чтобы пьяным викингам показывать, старый Ян тоже на хозяйское подворье поспешил с увесистым молотом под кожаным фартуком. И к бою и смерти был готов богатырь, когда нависла беда над Вольгой и Соколиком. И порадовался их бесстрашию. Терпеливо дождался он, когда отпустили отрока, обнял за плечи и увел в свою кузницу.
А молодая славянка-полонянка с того часа и дня немой да полоумной прослыла. После пира-праздника пытался Гуннар вину свою загладить, приветливым взглядом и словом Вольгу приласкать. Но в ответ на слово доброе глядела полонянка зверенышем, на речь суровую отвечала смехом радостным. А Изольду словно не слышала и не видела. От того хозяйка еще больше гневалась и раскаливалась: «Или ты слеп, Гуннар, не видишь, не догадываешься, что она прикидывается немой дурочкой! Не жалеть ее, а на цепь посадить, не кормить, не поить, тогда язык и разум появятся!» Но тут за Вольгу сестры-полонянки заступались, говорили, что во всяком деде она искусница: и полотна ткать, и по полотну вышивать, и одежду шить, но речь от страха потеряла и разумом тронулась.
Скоро на приморские земли осенние холода набежали. Рабы-полоняне на полях последние колосья собрали, обмолотили и в хозяйские закрома убрали. Кожаное Пузо у всех ножи и обломки мечей отобрал, в кладовую свалил и запором замкнул. А рабы-полоняне по своим землянкам и сараям на зиму разбрелись, треску да китовое мясо есть, по хлебу и родной стороне тосковать, от холода и болезней страдать. Отрок Соколик с Яном Бородатым тоску по родине работой заглушали, ковали на викинга гарпуны да корабельные гвозди, сами себе пищу готовили и зимнюю одежду шили. А полонянка Вольга под охраной трех сестер на их половине дома жила, паруса да полотна ткала, а сестры-прислужницы так за нее ответа боялись, что глаз не сводили и с подворья никуда не выпускали. Гуннар Неистовый часто к рукодельницам заходил, с тайной надеждой, не вернулся ли голос молодой полонянки, певуньи с Колдовской реки. Суровый викинг по-доброму с Вольгой заговаривал, перемежая речь словами ее племени, и до боли в сердце жалел, что не перенял язык людей с Колдовской реки. И пытался по головке погладить ее своей волосатой рукой, чтобы хоть одно слово она молвила. Но сторонилась Вольга и молчала, как ничего не слышала. На сестер-полонянок рычал Неистовый:
— Заговорит ли, запоет ли полонянка моя?!
А старые сестры давали ответ нерадостный:
— О том может знать и сказать только Гмырь, вещун!
— Так берегите ее, как глаза свои, как свои головы! — наказывал Гуннар Неистовый и в гневе прочь уходил.
Как было не беречь сестрам Вольгу-певунью. Про себя смекали: «И года не пройдет, как прогонит Гуннар от себя Изольду-змею, и будет молодая полонянка их хозяйкой и повелительницей!» И многое другое смекали три сестры-умелицы, но при себе думку держали.
После осени — снега да морозы. Море вдали черной полосой горбилось, волны на берег швыряло, молодой лед взламывало. После больших морозов, когда озера и реки заковало, Гуннар в сухопутный поход собрался в озерный край, в страну звероловов, за дорогими мехами и дивной утварью. Перед уходом навестил сестер-полонянок и еще раз наказал беречь красу-полонянку от всего лихого, а больше всего от Изольды.
Почти всю зиму в походе Гуннар пропадал, в краю звероловов, за большими озерами. И столько награбил бесценных мехов и разных украшений и утвари, что люди и кони гнулись под ношами. В начале весны Неистовый в свои владения вернулся и сразу же на праздничный пир родных и соседей позвал, чтобы похвалиться добычей и гостей подарками оделить. В сумрачных приземистых хоромах по стенам и под потолком прислужники меха развесили, на скамьях утварь разную разложили, чаши, ножи, гребни и украшения ограбленных людей далекого племени, меха чернобурые и серебристые, голубые и белоснежные, огненные и палевые, как живые звери, хвостами вниз висели под сводами и по стенам жилья.
Гости долго ели и пили, кто что хотел, потом женщины дикую песню завыли, и совсем скверно стало у Неистового на сердце. После пира хозяева всех гостей мехами одарили и домой проводили, хмельная Изольда спать повалилась, а Гуннар одиноко в опустевшем доме сидел и в никуда глядел остановившимся взглядом. Долго он истуканом сидел, потом сестер-полонянок позвал и приказал привести Вольгу-певунью.
И вот пришла она, посреди хором стала без робости. Всю зиму сестры-прислужницы держали Вольгу в стенах, оберегали, как было приказано, пока Гуннар в долгом походе был. Молодая полонянка ростом вытянулась и в плечах раздалась. Похудела, а силы и смелости не убавилось. Загар с лица пропал, а красы прибавилось. И подумал Неистовый: «Пройдет еще лето — и не будет женщины краше на всей приморской земле!»
Викинг грузно поднялся, достал с бруса лубяной ларец, убогий подарок земли волхвов, и высыпал к ногам Вольги гору сверкающих украшений. Он сам выбрал самый дорогой и красивый костяной гребень и бережно воткнул его в густую косу певуньи, своими руками надел на шею сверкающее ожерелье. Сестры-прислужницы принялись старательно украшать девушку, а Неистовый бросал к ногам безмолвной певуньи самые легкие, нежные и дорогие меха, а Вольга стояла не шелохнувшись, только глазами следила за движением волосатых рук и гривастой головы викинга. А он как одержимый бросал и бросал к ее ногам новые звериные шкурки. Меха окружали ее пушистой горкой, ласкали ее голые ноги, руки и шею, а сестры хлопотали вокруг, подбирая новые украшения. Гуннар снова пытался заговорить с полонянкой, но она молчала, как не слышала. Он устало сел на скамью у дальней стены, помолчал, глядя на Вольгу с жалостью, и опять спросил:
— Заговорит ли, запоет ли она?
А три сестры-полонянки ответили:
— Не знаем. Только Гмырь это может знать и сказать!
Тут хмельная Изольда вдруг подняла голову, мутным взглядом окинула всех, змеей на Вольгу глянула и хрипло каркнула:
— Я знаю! Быком заревешь ты, Гуннар, когда она запоет!
И на пол уронила свою пьяную голову.
Весной подобрели море и земля, растаяли льды и снега, зазеленели луга. В начале лета задумал Гуннар свои края объехать, у соседей погостить, на дальнем идолище главному богу поклониться. И навестить урочище, где скрывался от людей ясновидец Гмырь, полонянин с Колдовской реки. Позвал Неистовый за собой своих воинов-разбойников, а хозяйство оставил на Изольду и управителя с десятком старых воинов. Осталась волчица Изольда на подворье за хозяйку, а в помощниках у нее Пузо Кожаное, тоже злодей.
Весна была дружная, теплая, травы поднялись буйные, сильные, скоро пришла пора сено запасать. Всем рабам-полонянам управитель ножи да обломки мечей выдал и послал на луга траву подсекать, сено сушить и в стога метать. Каждому полонянину свое место-урочище было указано, смирным да тихим — луга чистые, а строптивым да непослушным — самые клятые, болотистые, с жесткой травой, кустами да кочками. Только три сестры-полонянки на страду не выходили, дома сидели, рукодельничали: полотна ткали, шили. И по наказу Гуннара полонянку Вольгу, как око свое, берегли.
Вот зашла змея Изольда доглядеть, прилежно ли полонянки ткут, много ли дела понаделано. Невзначай на Вольгу-красу глянула и наполнилась дополна жгучей ненавистью, «Ох на погибель мою эта девчонка на земле моей, в доме моем! Для себя припас Гуннар эту худую да глазастую, с косой, как лошадиный хвост! Ой, не зря приказал рядить ее да беречь!» И сказала Кожаному Пузу, управителю:
— Прогони-ка эту девку на Змеиное болото траву подсекать, сено сушить, в стога метать! Довольно ей со старухами в прохладе сидеть, пусть на солнышке пожарится, своим потом попарится!
Три сестры-полонянки храбро и дружно за Вольгу стояли, гневом неистового викинга хозяйку стращали. В ответ тигрицей рыкнула Изольда:
— Подавайте мне железа каленого! Своими руками глаза ваши выжгу, мыши летучие!
Кожаное Пузо, страшась викинга, молвил, что не было на то воли хозяйской и нечего полонянке в руки дать, все серпы-ножи рабам розданы. В ответ Изольда только взглядом на него сверкнула, славянский меч со стены сняла, в руки управителя сунула и приказала на Змеиное болото Вольгу увести. И сама за ними следом пошла и непосильный урок полонянке задала: болото подсечь, траву высушить и сено в стога сметать. И, довольная злым делом, домой в хоромы угрюмые ушла.
На каменистом холме кузница Яна Бородатого. С холма море видно вдали, темной полосой с небом сливается, а под горой в котловине болото Змеиное. В кузнице Ян да Соколик молотками стучат, хозяину Гуннару богатство куют, славы прибавляют. Корабельных гвоздей целые горы наковано, да ножи промысловые по всему побережью прославились. Не зря хозяин дорожит кузнецами, но недоволен, что нерадивы они боевое оружие ковать.
А на Змеином болоте полонянка Вольга славянским мечом траву подсекала. Не знала она, что на том болоте Ян Бородатый давным-давно руду добывал, ям накопал, а в тех ямах ядовитых змей полно развелось. Услыхали твари человека, навстречу полонянке выползли, зашипели, язычками полонянку дразнили, скорую смерть сулили. Но вздохнула Вольга глубоко-глубоко, на синее небо глянула и смело за дело взялась, песню добрую да нежную напевая. Над болотом песня звенела, а меч сверкал с посвистом безжалостным, живую траву подсекая. Нашла тут на гадюк оторопь, и все они в глубокие ямы да норы попрятались.
В тот час Ян Бородатый с Соколиком из жаркой кузницы вышли вольным ветром дохнуть, на дальнее море взглянуть, думами далеко слетать. Вдруг ветер с болота песню донес, да такую для Соколика родную и знакомую, что в смятении глянул он на Бородатого:
— Это она, Вольга, поет!
— Видно, не для всех она голос потеряла, — усмехнулся Ян, — иди к ней, сынок!
Соколик быстро с горы в Змеиное болото спустился, через кочки и ямы перепрыгивая, к певунье неслышно подкрался.
— Отдохни, сестричка! Вот и опять мы вместе!
На холмике сидели рядком, наговориться, наглядеться не чая. Соколик за зиму тоже в росте прибавился, похудел, почернел, но весь молодой силой дышал. Бывает ли дружба надежнее той, что начинается с юности! С моря ветер летел, холодком пробегал, шелестел жесткими травами. Две белых птицы с грустным говором над болотом плавно проплыли, как платками полотняными, махали крыльями. Соколик с Вольгой взглядом проводили их до края земли.
— В нашу сторону, за море!
— Это они нам дорогу показывают!
Потом булатным славянским мечом попеременно траву подсекали. И попрятались, уползли все змеи болотные в самые глубокие норы. А Ян Бородатый на холме с думой стоял: «Видно, не страшны для дружбы, что родится в юности, ни разлука подневольная, ни болота Змеиные!»
Не зря старый Ян в раздумье погружался до той поры, как солнышко над морем повисло:
— Оставь-ка, дочка, свой меч-траворез до утра в кузнице. А мы с Соколиком над ним ночью поворожим да подумаем!
И меч из рук Вольги ласково взял. А певунья молча и быстро на хозяйское подворье пошла, к сестрам-полонянкам под крыло схоронилась до утреннего солнышка. Подивилась Изольда, как узнала, что Вольга со Змеиного болота живехонька вернулась. «Видно, до змеиных ям еще не дошла. А как дойдет да потревожит ядовитое племя, не быть ей живой!»
Ян Бородатый у кузницы на камень присел, меч в ногах положил и долго над ним в раздумье сидел, как дремал. Потом еще раз клинок оглядел, глазами и слухом пытал, по-боевому мечом поиграл, словно всю жизнь в сечах провел. И сказал:
— Раздувай горнило, сынок!
Пока Соколик горнило до голубого огня раздувал, Ян от меча рукоять отнял и сунул клинок в шипящий огонь. И когда раскалился меч докрасна, выковали кузнецы лезвие не толще волоса, а обушка не тронули. Жало клинка внутрь к лезвию чуть повели, а стержень рукояти загнули накруто. До полуночи в кузнице молотки стучали, сталь звенела и лилась тихая дружная песня:
Не один раз Ян Бородатый раскаливал клинок то до цвета зари утренней, то до блеска вечерней звезды, а отрок Соколик раскаленный клинок клещами подхватывал, из кузницы выбегал и размахивал им, как в яростном бою, рассекая белый холодный туман. И сверкала, и крутилась горящая сталь огненным колесом. Потом остывшую стальную змейку на остром камне отточили и на крепкое копейное древко железными кольцами укрепили. Так под руками рабов-полонян родилась первая коса-работница. Первая коса на той заморской земле, а может быть, и на всем белом свете.
Утром вместе с солнышком певунья Вольга в кузницу за мечом-траворезом зашла. Ян Бородатый ее до Змеиного болота проводил и показал, как новым диковинным оружием траву подсекать. Взялась девчоночка левой рукой за вершину древка, правой рукой за рукоять поперечную и начала вполукруг махать, траву подсекать. Скоро к ней сноровка пришла, меч-коса в руках послушной стала, траву легко подсекала и в ряды складывала. Поточил кузнец косу еще раз острым камешком, оставил Вольгу и за гору пошел.
С каждым часом у полонянки спорее и ловчее работа шла. Вот оглянулась она — и сама подивилась тому, как много сделано. А к полудню до главных змеиных ям докосилась. В тот час змеи на солнышке спали, от свиста косы проснулись, зашипели и, дразнясь язычками, навстречу тревоге поползли. Как увидели твари, что впереди неведомая змейка, шипя и сверкая, все живое под корень режет и валит, языки свои попрятали и молча в болото уползли, подальше от гибели. Только первая на свете коса шипела и сверкала под солнцем, как безжалостная серебристая змейка. А кузнецы Ян да Соколик часто из кузницы выходили, из-под руки вдаль глядели и делу своему радовались.
Не один день Гуннар Неистовый по соседям пировал, удалью-силой да удачами похвалялся. Только певуньей-полонянкой не хвалился, затаив свой гнев на Изольду, жену. Вдоволь наслушался он на чужих пирах дикого воя песенного и еще больше по Вольге затосковал, по песне нежной и доброй, как ветер с полудня, радостной и зычной, как рог серебряный. И готов был Неистовый отдать все богатство свое, чтобы видеть в доме хозяйкой-повелительницей не Изольду дикую, а полонянку с длинной густой косой, с глазами умными и смелыми, с нежным грудным говором, что надолго запомнился и каждый час наяву и во сне мерещится.
На обратном пути заехал Гуннар на родовое идолище в дикие горы, богам поклониться, навестить вещуна-полонянина. Старец Гмырь при идолище за сторожа викингу служил, на чужой земле в земляном жилье жил, чужих богов охранял и далеко ясновидцем прослыл. В щеке у старого дыра от копья, губы пополам рассечены, на темени от меча зарубина, от нее он перед дурной погодой заговаривался, бормотал несуразное. Вот и сказал Неистовый старому рабу-полонянину, чтобы заглянул он вперед времени, узнал обо всем, что тревожило викинга, долго ли будут боги в походах ему помогать.
Дрожащие веки плотно зажмурил старый вещун, землистым лицом к полуночи стал и замер. Только пальцы костлявые по бороде бегали, по волоску ее разбирая. И, очнувшись, такое Гуннару вещал:
— Когда прозреет слепой, заговорит немой, а меч обратится в копье, только тогда изменят тебе и боги, и счастье, и имя грозное.
Ободрился Неистовый и нетерпеливо спросил:
— Заговорит ли, запоет ли полонянка моя?
— Она уже поет! — чуть слышно сказал Гмырь.
От надежды радостной совсем рассвело на сердце у грозного викинга. Напоследок еще раз поклонился богам-идолам и всей ватагой к своему подворью поспешил, обсуждая с воинами новый поход за море. А море вдали чернело, о скалы билось, над спесью и замыслами викингов насмехаясь.
Вот воротился Гуннар домой и первым делом узнать поспешил, жива ли, здорова ли полонянка-краса. И поведали сестры-прислужницы, как Изольда с Кожаным Пузом у них Вольгу отняли и на Змеиное болото страдать послали. И совсем бы загубили девчоночку, да видно боги ее берегут. А змея Изольда с плачем и воем перед хозяином оправдывалась. Рассказала, как молодая полонянка кузнецов чарами околдовала, научила их булатный меч перековать и на древко укрепить, чтоб тем колдовским оружием, не кланяясь земле, траву подсекать.
— У других рабов урочища чуть початы, а твоя полонянка за десятерых управляется. Голыми руками задушила бы ненавистную!
И поторопился Неистовый на луга взглянуть, узнать, как рабы с работой справляются, правду ли Изольда поведала. Тот день был солнечный, луга отцветали, рабы-полоняне, согнувшись дугой, старательно траву подсекали, но и наполовину свои урочища не осилили. Конца-края не видно было лугам нетронутым. Помрачнел Гуннар, как увидел, что луга на сено не убраны. И поспешил на гору к болоту Змеиному. Хмуро глянул он с холма на Змеиное урочище и не поверил своим глазам. Вся трава болотная лежала подкошена, рядами ровными, и сохла под ветром и солнышком. А вдали на том краю болота полонянка Вольга, урочище докашивая, мерно и плавно древком вполукруг махала, впереди ее змейка стальная сверкала, а трава покорно валилась в ряды. К дикому сердцу снова жалость постучалась: «Заговорит ли, запоет ли она?» И почудилось викингу, что с того края болота еле слышная песня с ветром летит. Тут справа на землю тень человека легла. Оглянулся Гуннар. Кузнец Ян Бородатый сзади стоял, черный от копоти, с молотком в руке. И вспыхнул Неистовый:
— Как осмелился ты, раб-полонянин, господина обманывать! Не ты ли прикидывался, что совсем не искусен ковать оружие!
— Здесь нет обмана, грозный Гуннар. В руках той полонянки вовсе не оружие, а богатство твое. Вот погляди, что из обломка меча выковано!
Так ответил хозяину Ян-полонянин и кликнул Соколика. Как не понять было алчному викингу своей выгоды. За три дня подросток-девчоночка целое болото подрезала. А тут Соколик из кузницы странное оружие вынес: стальная острая змейка на копейное древко присажена. И показал, как она в умелых руках все кусты, чертополох и былинки под корень срезает. И подумал Неистовый, корыстным умом смекая: «Таким оружием десяток рабов все луга и хлеба играючи подсекут. Больше половины полонян на скот сменяю, земли и лугов прихвачу. Добра прибавится, а дармоедов убавится. Только бы соседи о том до поры не проведали!» И снова с горы глядел, как славянка-полонянка Змеиное болото докашивала. И сказал, встрепенувшись:
— Слышится мне — поет она!
— Нет, это ветер сталью звенит, — так Соколик сказал и снова начал косой со свистом махать, былинки, чертополох и кусты подсекать.
В тот же день Гуннар приказал управителю все негодные мечи собирать и Яну-полонянину в перековку отдавать. А кузнецам, молодому и старому, с темна до темна ковать и ковать, чтобы каждому рабу досталось острое и сподручное оружие, каким одна полонянка Змеиное болото за три дня подкосила. Потом снова на Изольду гневом обрушился за то, что посылала певунью косить на гнездовье змеиное, куда летом ни один человек пойти не отважился. Ответила Изольда с волчьей яростью:
— Не дождаться тебе песен сладостных, не хозяйничать чародейке на подворье твоем, пока гром меня не сразит или последний раб ржавым копьем не проткнет!
Но замолчала Изольда, когда Неистовый посулил за косы к конскому хвосту привязать и верхом по тому Змеиному болоту проскакать.
А Ян Бородатый да Соколик молотками усердно стучали. Чуть перевалит темень ночная за полночь, как они за дело брались, клинок ржавого меча в горниле раскаливали до цвета зари утренней и змейку косую выковывали. Потом снова калили до блеска вечерней звезды, раскаленную сталь Соколик клещами подхватывал и бежал с ней ветру навстречу, крутил в тумане ночном, купал в холодной росе. Семь дней с часу полуночного до густой вечерней темени из старых мечей, клинков зазубренных ковалось оружие новое и так закаливалось, что пела сталь упрямая звоном безжалостным. Ковали и ковали, отдыха не зная, чтобы все рабы Гуннара Неистового получили в руки орудие диковинное, для всего живого страшное. Это были первые косы на земле разбойных викингов.
За каждой новой косой, не успеет остыть, управитель спешно посылал раба-полонянина, чтобы поскорее убирать луга и поля. Ян Бородатый выходил с косой за кузницу и там показывал полонянину, как надо траву подкашивать. И каждому внушал, что этой змейкой стальной можно срезать не только траву и хлеба, но при сноровке подсекать ноги врага, отсекать руки и головы, вспарывать кожаные рубахи и кольчуги. И тут же на кустах бурьяна и чертополоха показывал, как это делается. После такого урока кузнец давал рабу косу и желал удачи во всякой работе.
По вечерам к кузнецам Вольга приходила, приносила узелок с едой, которую три сестры сберегали и присылали. Все трое радовались тому, что Змеиное болото подкошено, Изольда с Кожаным Пузом присмирели, не неволят Вольгу тяжкой работой, а сестры-прислужницы ее оберегают. Видно, не на ветер Гуннар Неистовый бросил наказ управителю и всем прислужникам: «Берегите полонянку от Изольды, берегите, как глаза свои, как себя от меча и гнева моего бережете!»
Сидя на камне у порога кузницы, Соколик с Вольгой тихо радовались, что вот они опять вместе, как в счастливые годы в родном граде за деревянной стеной, и, может быть, так и дойдут вдвоем до новых светлых дней на родной земле.
— А помнишь, Вольга, как на родной реке чаек кормили?
— А помнишь, Соколик, совсем маленькими потайным ходом из города к реке ушли и под землей до слез наплутались? — И так допоздна вспоминали, о будущем с надеждой говорили. А старый кузнец все слышал, но только раз спросил:
— А помнишь ли, Соколик, отца своего?
— Нет, не помню. Я совсем маленьким был, когда отец в битве за город пропал.
Рабы-полоняне скоро привыкли к стальным змейкам на дубовых древках и выкосили все луга до того, как хлеба к жатве поспели. Доволен был Неистовый и наказал своим кузнецам мастерство свое втайне держать и за это обоим волю сулил. Ничего в ответ не сказал старый кузнец, давно знал, какой награды и милости ждать от разбойника. Помнил Ян Бородатый, как преданно служил хозяину полонянин Гмырь — и в боях и в страде первым был, — а вместо воли землянку выслужил да остатки тухлой говядины с идолища.
Поманило вдруг Гуннара Неистового по морю плавать, корабли смирных людей пограбить, заморского добра домой привезти, чтоб славянку-полонянку удивить. Верилось Неистовому, что заговорит, запоет Вольга и духом оживет. Сестрам-полонянкам еще раз настрого наказал Вольгу оберегать, управителю приказал корабли оглядеть, просмолить, харчи погрузить. И с ватагой своих воинов на идолище отправился, перед походом богам поклониться.
Кожаное Пузо с десятком бывалых мореходов и воинов корабли к походу готовили, смолили, в порядок спасть приводили. А рабы-полоняне хлеба подсекали. Ян Бородатый и Соколик заодно с полонянами затемно на страду поднимались, неумелых рабов косой владеть обучали, робких смелым словом ободряли. И наказывали, чтобы никто не разлучался с косой, с певучей змейкой стальной до урочного часа и дня.
И вот настал тот грозный час. Все рабы-полоняне с острыми косами на плечах пришли на подворье Гуннара Неистового, на луговину широкую. Никогда раньше рабы на такое не осмеливались, и смекнула Изольда с управителем, что дело неладное. Кожаное Пузо с десятком воинов двурушные мечи похватали и во двор высыпали. Но полоняне и шагу не попятились. Управитель с коварством да насмешкой дознаваться стал:
— По какой нужде на хозяйский двор пришли, голопузые? Или надумали воронье накормить досыта?
А старый кузнец ответил за всех:
— Нет, не воронье кормить, а сами пировать пришли на хозяйский двор. Сегодня на нашей родине день великого праздника. Вот и собрались мы сюда говядину есть, сусло солодовое пить, песни петь, хоровод водить!
И с этими словами Ян Бородатый вперед выступил, а Соколик за ним, оба с мечами и боевыми копьями. Тут полонянка Вольга из хоромин выскочила, диким голосом, как одержимая, крикнула и, словно образумившись, на людей глянула, улыбнулась первым весенним цветком, подмигнула звездочкой и запела, запела, переступая понемножечку навстречу воинам. На Вольге была родная одежда славянская, из нее она за год повыросла, но от того только больше сверкала красой и мужеством. На поясе нож да гребешок, а на темени тяжелый гребень короной сверкал, один-единственный из подарков Гуннара Неистового. Удивились разбойники, что онемевшая певунья голос вдруг обрела, молодые воины загляделись, старые заслушались. И не успели опомниться, как рабы-полоняне широким кругом их всех охватили, косы с плеч поснимали и грозной стеной обложили.
Жутко стало слугам викинга в кольце полонян худых, оборванных, с оружием страшным в руках. Страшно было разбойникам за свои ноги, по колено голые, за руки, по локоть обнаженные, за жизнь вольготную, сытую. И вздрогнули все от громового голоса Яна Бородатого:
— Положить мечи! Не порежем ни единого, всех живыми выпустим!
Первым управитель Кожаное Пузо свой меч в землю воткнул, за ним остальные викинги оружие бросили. По-одному, озираясь опасливо, из живого кольца выходили и по диким холмам разбегались. А полоняне брошенное оружие подхватили, не мешкая к морю устремились и корабли с берега столкнули. Последними три сестры на корабль взошли. Тогда полоняне паруса подняли и за весла взялись.
Три утренних зари встречал Гуннар на идолище, богам кланялся, просил удачи в походе морском. А мыслью жгучей и сердцем буйным, неистовым просил богов вернуть голос полонянке Вольге из славянской земли. Потом посетил викинг ущелье, где полонянин Гмырь — вещун-ясновидец от людей и солнца прятался. Заслышав звон оружия, старый Гмырь из земляного жилья выбрался, бледный, как подземный гриб, хмурый, как нетопырь, и, опираясь на посох, стал перед Неистовым. Скрывая суеверный страх, заговорил Гуннар:
— Ну, что сегодня, старый ворон, накаркаешь?
— Ничего нового, — ответил старик, — твои удачи кончатся не раньше, как прозреет слепой, заговорит немой, а меч обратится в копье.
— Что ты мелешь, полоумный хорек! Вот мой меч, он цел и несокрушим, полонянка безгласна, как сельдь, а слепых в моих владениях нет!
Опять старый Гмырь лицом на полночь стал, костлявыми пальцами седую бороду по волоску разбирая, и застыл, как уснул. И, очнувшись, сказал:
— Видел, три корабля от земли твоей отплывают, на них полоняне-рабы, кривые мечи на древках, как копья, сверкают. И немая твоя полонянка поет. А слепой — это ты! Поспеши!
Повскакали разбойники на своих диких коней и помчались безумно. Вот и берег, и море. С подворья Изольда и безоружные воины навстречу бегут, разумного слова не в силах сказать:
— Наши корабли! Наши корабли! — только и могли вымолвить.
А от берега в море корабли отплывали. Попутный ветер паруса надувал, полоняне дружно веслами воду секли, а через борты змейки-косы в бездну гляделись. Свободные полоняне смело на море плыли, к родной славянской земле на великой реке без конца и начала, прозванной супостатами-викингами Колдовской рекой. Не страшны были теперь рабам-полонянам ни встречные корабли викингов, ни долгий путь по великой реке до родной земли. Туже надулись нарядные паруса, под кораблями волны заговорили, а над волнами песня смелой птицей летела, по напеву и грустная, и радостная:
А с берега хозяева приморской земли вслед кораблям и рабам угрюмо глядели. Изольда молвила Гуннару с усмешкой злобной:
— Вот слушай, твоя немая поет!
Метнул тут Неистовый взгляд яростный, страшный, как стрела громовая, зарычал, как насмерть раненный, двурушным мечом взмахнул. И пропали с морского берега все его люди до единого. Только змея Изольда издали страшным смехом дразнила.
А грозный викинг Гуннар Неистовый двурушный свой меч в сырой песок воткнул, в море вошел и, подняв руки, кричал вслед кораблям:
— Вольга! Вольга! Вольга!
И столько было в его криках горя и больной бессильной ярости, что дрогнули прибрежные скалы, со скал снялись тучи птиц и закрыли уходящие корабли.
Про Семена-Ложкаря
По обширной и доброй земле бежала река, такая широкая и длинная, что люди, жившие по одну ее сторону, не знали обычаев населения другой стороны, а племена, обитавшие у истоков, не ведали, какие народы населяют земли в ее низовьях. От правого берега реки до теплых морей и высоких гор простирались владения грозного царя, его бояр и опричников, а на другом берегу был сосново-березовый край, ничейная и свободная земля под дремучими лесами. А жил на ней мастер-умелец по кленовой и березовой ложке, «Семен-Ложкарь» по прозвищу. С ним в соседях вокруг мордва, мещера да мурома, звероловы да хлеборобы русские, что с правого берега от ярма и неволи сюда попрятались. Жил Семен-Ложкарь в просторной черной избе над дикой лесной речкой Санахтой со своей женой Катериной и дочкой Авдоткой. Втроем успевали они делать ложки кленовые и березовые далеко на все стороны, да такие приглядные и ловкие, что люди тюрю с квасом, горох и кисель без масла и приправы хлебали да прихваливали! И пошла про Семена слава по лесам, городам и весям Поволжья, да на его беду дошла она до царской вотчины.
А грозный царь в ту пору в своей столице сидел, с боярами думу думал, с опричниками по церквам да монастырям молился, а между важными делами пировал и бражничал.
Вот один раз натешившись пирами да молитвами, надумал грозный царь воевать сразу на три стороны — с крымским ханом, турецким султаном и ливонскими рыцарями и баронами. Людей в войсках у царя было много — пушкарей, и стрельцов, и конницы. Пушек да пищалей на пушечном дворе понаделали, пороху, свинцу и ядер тоже вдосталь было. Всяких припасов в царских войсках хватало, вплоть до котлов, в которых воины кашу да похлебку варили. А вот ложек, коими русские люди испокон веку щи и кашу ели, у царя в запасе не было. В те времена простые люди, что жили вокруг царской столицы, в каждой семье сами для себя ложки выскабливали, а знатные люди — князья да бояре — серебряными ложками похлебку и всякое варево хлебали. Вот поэтому-то грозный царь и опростоволосился: войну начал сразу на три стороны, а ложек у воинов не было. А горячая еда да крепкая ложка в войне — не последнее дело!
Созвал тут грозный царь всех бояр и опричников и задачу им такую задал, чтобы не далее как к весне у каждого воина кроме оружия за каждым голенищем по ложке было, одна коренная, другая запасная. Чтобы бояре и верные псы-опричники веселее за это дело взялись, обещал царь того, кто дело скоро исполнит, чинам отличить и наградить, а кто посулит, да не сделает, того на дыбе поневолить и в застенок упрятать.
Задумались бояре и опричники — дело это за длинным столом на царском пиру было. Но был среди них злой опричник Скирлибек. Вот и вызвался тот Скирлибек разузнать и разведать, в каком углу царства мастера-ложкари притаились.
В кабак у столичной заставы зашли в ту ночь два бродяги Шиш и Ярыга, два друга. Исходили они Русь вдоль и поперек, на царской службе и кнута и дыбы отведали, а не остепенились. Сидели они за столом, хмельное пили, севрюжиной закусывали и друг перед другом всякой всячиной похвалялись. Подсел к ним тут Скирлибек и стал допытываться, где бы ему мастеров-ложкарей для царя подыскать.
Ярыга и Шиш ответили, пусть, мол, боярин сначала кошельком тряхнет да хмельное поставит, а за отплатой дело не станет.
И сказали они Скирлибеку, как разыскать искусника и умельца Семена-Ложкаря в заволжских лесах.
Тут опричник Скирлибек мешкать не стал, кликнул своих слуг да друга Ваську Басмана. Оседлали они коней и поскакали из столицы по Владимирской дороге искать за Волгой Ложкаря-Семена.
Сквозь сосновые боры и березовые долы пробирается темной змейкой речка Санахта, бежит-торопится повидаться с соседом Керженцем. На пологом холме у реки среди сосен вековых прижалась к распаханным кулигам просторная и приземистая изба Семена-Ложкаря. Глядит она в темень осеннюю веселыми глазами, огоньком приветливо подмигивает. В избе березовая лучина горит, угольки от нее в ушат с водой падают и гаснут шипя. Не успеет догореть одна лучинка, как девчоночка Авдотка от нее другую зажигает в железные светцы вставляет. Пока лучинка горит, девочка работает, Семен-Ложкарь сам-третей, согнувшись, за работой сидит, топориком из березы ложки вырубает да вытесывает. Жена Катерина из ложки-болванки скобельком нутро выбирает и тыльную сторону зачищает, а дочка Авдотка ножичком остальную басу и красу ложкам придает. Сидят на низеньких чурбаках-стульчиках, тихий разговор ведут, к ночи прислушиваясь, а готовые ложки из ловких рук, как рыбы, ныряют на дно плетеного короба.
А опричник Скирлибек с дружком Васькой Басманом и стремянным той порой уже за Волгу переплыли и скакали лесными дорогами в край заволжский сосново-березовый. Раным-рано поутру спешились опричники у Семеновой избы и в ставни стукнули. Недолго отклика ждали, вышли из избы все трое — и Семен-Ложкарь, и жена Катерина с дочкой Авдоткой, встали тесным рядком и дивятся на незваных гостей. На Семене сермяга внакидку, березовые стружки в курчавых волосах и бороде понасели, а Катерина в домотканом сарафане да кацавейке овчинной. Не шибко нарядной и Авдотка из избы выскочила — в рубашке льняной, розовой, высоко пояском подпоясана, на голове платок холстинковый узелком завязан, на ногах лапотки. Но загляделись на нее опричники, а пуще всех царский слуга Скирлибек. С большой неохотой оторвал он свой взгляд от девчонки Авдотки и грозно спросил Ложкаря:
— Чей ты раб и холоп, как прозываешься и на какого господина работаешь?
Мужик ответил опричнику, что с тех пор, как помнит себя, ничьим рабом и холопом не бывал, отца с матерью не упомнил, прозывается Семеном-Ложкарем, работает на всех русских людей, что по Волге живут и едят не руками, как басурманы какие, а с кленовой и березовой ложки. Скирлибек на это Семену сказал, что всех ничейных людей грозный царь к своим рукам прибирает, был ты ничей, а теперь стал царским. И объявил опричник грозный приказ о том, чтобы к концу зимы Семен-Ложкарь сделал для царя сто сороков ложек кленовых, а березовых во сто раз больше. Да сделал бы сначала кленовые — для царских воевод и опричников, для попов и святых отцов-монахов, что за здравие царя молятся. А после кленовых ложек принимался бы за березовые — для простых бойцов: стрельцов, пушкарей и казаков, для работных людей, кои крепости строят и пушки отливают. Так сказал Скирлибек-опричник Семену-Ложкарю, первому мастеру по деревянной ложке. Да еще для страха прибавил, что если Семен царский заказ не исполнит, то его самого царь угонит на край земли за Каменный пояс медь и свинец добывать, а жену с девчонкой отдаст в неволю самому злому и распутному опричнику.
На такие страхи Семен спокойно ответил, что наделать столько ложек, сколько царь повелел, не ахти как мудрено, лишь не подвела бы хвороба да хватило бы вокруг берез и кленов.
Когда наелись и передохнули кони, опричники в обратный путь к царской столице ускакали, а Семен-Ложкарь с того дня сам-третей крепко за дело взялся и к концу зимы выполнил царский заказ по кленовым и березовым ложкам. Кленов вокруг осталось мало, а березняк так поредел, что сквозь него видны стали редкие поселения хлеборобов и звероловов, живших по соседству с Ложкарем. Перед весенней распутицей, по последней зимней дороге к Семену царские обозники с думным дьяком приехали, пересчитали готовые ложки, погрузили на подводы и увезли к царю. Семен-Ложкарь с женой и дочкой у избы стоял, вслед обозу глядел и долго слушал, как скрипят по насту сани да звенят на конях бубенцы.
Когда прибыл обоз с ложками на царский двор, грозный царь приказал выдать по кленовой ложке всем боярам, воеводам, опричникам и атаманам, а простым бойцам — стрельцам, пушкарям и казакам по две березовых. И стало у простых воинов за каждым голенищем по ложке: одна коренная, другая запасная.
Дело задерживалось только из-за ложек, поэтому в тот же день все царские полки в поход выступили, пошли воевать сразу на три стороны — с турками, крымчаками и ливонцами. Войскам грозного царя в той войне поначалу везде удача была, во всех трех сторонах они быстро занимали иноземные города и праздновали победу за победой. После каждой победной битвы русские воины садились у котлов, доставали из-за голенища кленовую либо березовую ложку и принимались за еду.
Поглядеть на бойцов собирался иноземный народ и дивился на них и на деревянные ложки, которыми они так ловко любую еду хлебали. Самые смелые из чужеземцев подходили ближе к котлам и просили дать им попробовать поесть с березовой ложки. А поевши, говорили, что есть с такой ложки очень сподручно и вкусно. Потом пробовали есть ложками воевод, атаманов и боярских сынков, а попробовавши, находили, что с кленовой ложки кушать еще ловчее. Понравились иноземцам деревянные ложки еще тем, что при еде не обжигали губы, как серебряные, а после еды не зеленели, как медные.
Наевшись каши, царские бойцы-молодцы начинали веселье. Лихие музыканты на ложках плясовую играли, а плясуны пели и плясали. Побежденный народ иноземный глядел и любовался на русских воинов и завидовал житью под грозным царем. Чужеземцы так думали, что русские люди у себя дома только то и делали, что у котлов с кашей сидели, на ложках музыку играли, песни пели да плясали.
И прошла великая слава о деревянных ложках по всем странам, с которыми грозный царь воевал, — по Крыму, по Туретчине и Ливонии. Дело дошло до того, что там простой народ бунтовать начал: «Не хотим войны с народом, который умеет делать такие чудесные ложки! Подайте нам ложки, которыми можно, не обжигаясь, любую пищу хлебать и, не отходя от котлов, музыку играть, чтобы петь и плясать!» Что дальше, то больше бунтовал народ во всех трех сторонах. Напугались народного гнева ханы, султаны, рыцари и бароны и послали грозному царю послов насчет мира договариваться. Те послы перед царем явились и сказали, что их правители согласны на скорый мир, все занятые города и земли за ним оставить, если он, грозный царь, на деревянные ложки не поскупится.
Обрадовался царь, что скоро и выгодно закончить войну удалось, подписал грамоту о замирении, а послам насулил присылать ежегодно деревянных ложек, сколь их правителям надо. Довольные послы домой поспешили, правителей обрадовать и народ успокоить, а грозный царь в тот же день к себе Скирлибека вызвал. Когда опричник явился, повелел ему царь немедля за Волгу отправляться к тому Семену-Ложкарю, что для войск так скоро ложек наделал. «Пусть тот Семен-Ложкарь к концу каждой зимы припасет ложек кленовых и березовых в сто раз больше, чем для мово войска сделал. За то дело награжу его так, как никого в своем царстве не жаловал!»
Вышел Скирлибек на царский двор, свистнул своих стремянных да дружка Ваську Басмана, оседлали они борзых коней и поскакали ватагой по Владимирской дороге. Не один день, не одну ночь мчались опричники от царской столицы на восход солнышка сквозь леса муромские. Через Волгу у града Новгорода Нижнего переправившись, еще ночь ехали и добрались наконец до края сосново-березового, где жил Семен-Ложкарь.
Встречать незваных гостей хозяин опять сам-третей из избы вышел, оба с женой приветливые, а дочка Авдотка за год повыросла и стала еще пригожее.
Прочитал Скирлибек ложкарю царскую грамоту, а от себя прибавил, что если Семен то дело не исполнит и ложек, сколь надо царю, к сроку не припасет, то его самого за Каменный пояс угонят свинец и медь из земли добывать, а бабу с дочкой самому злому татарину в неволю отдадут либо на самое непотребное дело определят.
Задумался Семен-Ложкарь, бороду в кулак ухватив, жена Катерина поскучнела, а дочка Авдотка утешает: «Не кручиньтесь, родные, хватило бы вокруг берез да кленов — наделаем царю ложек, сколь ему надо!»
И засел Семен всей семьей за работу. А Скирлибек, пока стремянные коней вываживали да кормили, к Авдотке подсел и, глядя на то, как ловко она ложки ножичком зачищала, начал ее в царскую столицу сманивать — жить в тереме, наряжаться в парчу и шелка, носить шубку из соболей сибирских. На такие хитрости и посулы Авдотка ответила: «С родным отцом да матушкой мне и в курной избе неплохо, а одежду себе сама припасу: ленку напряду, холстинки натку, сама рубашку сошью — не хуже и шелка будет!»
Покосился опричник на розовые плечики и рукава Авдоткиной рубашки, на ее проворные и ловкие руки и снова манит с собой, сулит обуть в сафьяновые сапожки, а на голову — дорогую кичку, золотом расшитую, алмазами осыпанную. Но и на эти посулы Авдотка умный ответ нашла: «По родной земле не худо и в лапотках ходить — всей ножке тепло, пальчикам просторно, а головушку самотканым платочком принакрою».
Скосил глаза Скирлибек на русую головку Авдотки и ни слова больше не молвил.
В тот же день уехали опричники в обратный путь, царю обо всем доносить, награду за службу просить, а Семен-Ложкарь с женой и дочкой еще сердитее за работу принялись и под конец зимы выполнили царский урок по кленовым и березовым ложкам.
Но клена и березняка вокруг осталось совсем мало, на месте березовых лесов появились пустоши с пеньками, а по краям сосняк вековой да ельник дремучий. Приехали царские обозники, пересчитали ложки, погрузили на сани и в царскую столицу увезли, а Семен, не отдохнувши, опять за ложки принялся. Работал без отдыха, похудел мужик, обтрепался, обносились оба с бабой, только Авдотка, как всегда, цветочком выглядела. Льна и жита Семену посеять стало некогда, хорошо, что народ из соседних лесных поселений помогал, иначе пропала бы с голоду вся Семенова семья. Наказал Семен обозникам и дьяку сказать царю, что он на царской работе с голоду и надсады умирает, но когда те в столицу вернулись, грозного царя уже в живых не было. Поиграл он как-то на масленице с одним боярином в шахматы и проигрался. Расстроился царь и со зла да обиды со стула мертвым упал. Все бояре и опричники большой толпой, как мыши кота, грозного царя хоронили.
Так вот поработал Семен-Ложкарь еще лето да зиму, все березы и клены далеко кругом дочиста на ложки срубил, а царский урок не выполнил — дерева не хватило.
Перед весной опять приехали царские обозники, погрузили на подводы что было наделано ложек и в обратный путь тронулись. Семен не посоветовал им впредь за ложками приезжать, потому что березняка вокруг совсем не стало.
Но весной, как только снег растаял, лиходей Скирлибек явился опять с дружком Васькой Басманом и стражниками. Под видом царской немилости Скирлибековы стражники заковали в железы Семена-Ложкаря и погнали в гиблые места из-под земли свинец и медь добывать.
А Скирлибек с дружком Басманом тут остались. И Семенову избу сожгли, а Катерину с Авдоткой с собой повели. Мать с дочкой впереди шли, кони им в затылки горячим дыхом дышали, копытами на пятки наступали, а дружки-опричники, сидя в седлах, своему злому делу радовались. Вот улучила Катерина минутку, когда опричники зубоскалили да по сторонам глазели, и шепнула Авдотке: «Беги, дочка, хоронись, у тебя ножки резвые, только лапотки сбрось. А я их задержу, разбойников!»
Смекнула это дело Авдотка и стала сначала на одну ножку припадать, потом на обе и, обернувшись к злодеям, сказала: «Не могу идти, ноги натерла, позвольте лапоточки снять!» Села девочка на дорогу, разулась быстренько, вспорхнула и полетела, как пичужка, редким лесом сосновым да еловым. А Катерина опричниковых коней за уздечки схватила, поводья перепутала, а опричникам в глаза песком швырнула, и никак они не могли от нее отцепиться. Авдотка тем часом что было силы лесом бежала, только розовая рубашка между деревьями мелькала. Когда устала да запыхалась девочка, у старой дуплистой ели остановилась, головкой к седому стволу прислонилась и просит: «Голубушка ель, сумрачное дерево, дремучие ветви, укрой Авдотку от опричников!» Закряхтела старая ель и в ответ проскрипела: «И рада бы укрыть тебя, девчоночка, только вижу я, бежит сюда злодей, боюсь, изрубит секирой меня, от ран изойду я душистой смолой, жуков да червей приманю, и источат они меня и тебя. Беги к сосне, авось она ухоронит!»
Побежала Авдотка дальше, розовые плечики и рукавчики ее рубашки ярким цветком мелькали среди деревьев. Быстро бежала, скоро запыхалась девочка, остановилась у старой сосны, обхватила руками могучий ствол и просит: «Матушка сосна, улыбчивое дерево, укрой Авдотку от погони».
Качнула, шевельнула гордой вершиной сосна, заплакала, обливаясь горючей слезой-смолой и молвила: «Рада бы спрятать тебя, сирота-девчоночка, да боюсь, злодей с секирой сюда бежит, изрубит меня, слезой-смолой изойду, сама зачахну-высохну и тебя высушу. Беги на пустоши, не укроет ли старуха береза. Да торопись — погоня близко!»
Вспомнила тут Авдотка, что на вырубках, где березняк на ложки рубили, отец одну старую дуплистую березу не тронул. И пустилась она бежать к пустошам. А Скирлибек из глаз ее не выпускает, бежит, догоняет.
Добежала Авдотка до березы, обхватила руками: «Родная мать — береза, укрой Авдотку от царского опричника!» Ни слова не говоря, затрещала береза, дала трещину, дупло ее стало шире и больше. Юркнула Авдотка в то окно, как синичка в гнездышко, а дупло стало суживаться, закрываться, да и совсем захлопнулось перед носом набежавшего Скирлибека.
Начал опричник березу саблей рубить. Где ударил, там мигом березовая губа — трутник вырастала. Рубил, рубил, а береза стояла живехонька и с каждым ударом новым трутовиком, как языком, Скирлибека дразнила.
Со зла и досады плюнул опричник и побежал назад Ваське Басману помогать. А тот от Катерины никак не мог отбиться: вцепилась худыми руками намертво, коней не оторвать и самому не отцепиться. Подоспевший Скирлибек ударил женщину по голове рукоятью сабли, когда упала она, вырвали опричники из рук ее поводья, вскочили в седла и ускакали прочь от своего злого дела.
Катерина день и ночь пролежала, на заре очнулась и к пожарищу своей избы приплелась. Долго сидела она на головнях родной избы, пугливо озираясь по сторонам, ощупывала руками окровавленное темя, словно проверяя, на месте ли ее голова.
Вдруг Катерина повеселела, засмеялась, присела, по-птичьи взмахнула руками, как крыльями, и закуковала кукушкой. Потом она долго ходила вокруг сожженного гнезда по березовым пустошам, заходила в редкие поселения того края и куковала.
Не все узнали жену и помощницу Семена-Ложкаря, и когда люди спрашивали, кто она и откуда, Катерина отвечала: «Я бездомная кукушка с Семеновых пустошей. Мы с мужем наделали для царя целые горы ложек, за это царские люди сожгли нашу избу, а Семена угнали за Камень. Не слыхали, не видели моего птенчика Авдотку? Говорят, что ее укрыла старая береза. Полечу к березе!» И снова Катерина взмахивала руками, приседала по-птичьи и куковала кукушкой. Соседи ложкаря — следопыты и звероловы — ходили на розыски. По следам и приметам дошли до старой одинокой березы, изуродованной множеством наростов и губ. Постояли, поговорили, подумали, а дерево молчало. Хотя и добрые пришли к ней люди, но тайны своей береза не выдала. А Катерина не переставала куковать. Так ходила она по окрестностям вокруг сгоревшей избы Семена-Ложкаря и куковала до зимы. Потом пропала неизвестно куда.
Прошла зима, а весна принесла с собою много чудес и диковин. Манит весной человека на новые земли, в другие края. Когда прошел среди народа слух, что между Волгой и Керженцем хорошая земля под березовыми вырубами пустует, потянулись люди на Семеновы пустоши. Узнать, разведать, местечко облюбовать, где пеньки корчевать, землю пахать, лен да жито сеять. А над речкой Санахтой на сосновом бугре среди пустошей той весной поселилась кукушка звонкая, неутомимая. Без устали куковала она, летая по ближним и дальним вырубкам. Придет ли, приедет ли новый человек место для поселения выбирать, кукушку услышит, заслушается и невольно крикнет: «Кукушка, кукушка, сколько лет мне здесь жить?» Как начнет куковать серая! Тот человек за полста насчитает, со счета собьется, а она все кукует, ворожит ему долгие годы жизни на этой земле. И стали быстро, одна за другой вырастать на Семеновых пустошах зимницы, избы и деревни новоселов. А кукушка каждую весну появлялась на сосновом бугре у Семенового пепелища, нежным кукованием заманивала людей поселиться и ворожила им долгие годы жизни на новоселье. И появились на Семеновых пустошах новые избы и деревни.
Одинокая и уродливая береза, что в своем дупле спрятала Авдотку, в ту же весну зазеленела пышным листом и нарядилась в длинные цветы-сережки. А под ней, из того места, куда со зла плюнул Скирлибек, вырос большой гриб-мухомор, нарядный и ядовитый, как царский опричник.
Когда сережки созрели, старуха береза тряхнула ветвями, а ветер подхватил посыпавшиеся семена и разнес их во все стороны по Семеновым кулигам и пустошам и дальше по просторам Заволжья. Через год из ее семян пробилось буйное березовое племя, наперегонки потянулось к солнцу, и выросли вокруг распаханных полей новые березовые леса. Люди со всех сторон не переставали прибывать и заселять Семеновы пустоши. А кукушка на бугре была жива и куковала каждое лето, обещая новоселам долгую жизнь на новом месте.
Лет через тридцать-сорок после того, как царские слуги сожгли избу и погубили Семена-Ложкаря, на Семеновы пустоши издалека пришел изнуренный старик. Когда его спросили, откуда он, старик отвечал: «Из-за Камня!» Когда спрашивали, чей он, старец отвечал еще мудренее «Молодым был ничей, потом стал царским, а теперь опять ничей!» И трудно было старожилам узнать в страннике Семена-Ложкаря. Глаза его выцвели от пыли и пота, кожа побурела от ветра и солнца, голова побелела от лютой невзгоды, а спина согнулась от работы не по силам. Но умелые руки Семена-Ложкаря были целы.
Разыскал старик заросшее лесом пожарище, построил тут себе избушку и начал делать березовые ложки. Это было очень вовремя и кстати, потому что все ложки, которые он в молодости наделал местным людям, поломались и износились, а новых наделать было некому. Взрослые и дети пользовались самодельными ложками, грубыми и тяжелыми, которые царапали язык и губы. Зато ими было очень ловко драться, и озорники ребятишки, сидя за столом, не столько ели кисель и кашу, сколь стукали друг друга ложками по лбу. Только у старых людей хранились Семеновы ложки в укладах и сундучках как драгоценности. По большим праздникам хозяева подавали их на стол только для того, чтобы показать, и все гости дивились мастерству Семена-Ложкаря, которого царские стражники угнали на Каменный пояс.
Поработал старец Семен в своей избушке сколько-то дней и наделал ложек всем людям, от малого до старого, что жили между Керженцем и Волгой и даже дальше. Простой народ Заволжья стал обедать новыми ложками, радоваться возвращению Семена-Ложкаря и захотел перенять его мастерство. И потянулись к избушке старого ложкаря люди из близка и далека учиться ложечному рукомеслу.
Старый ложкарь, не жалея сил, продолжал обучать людей делать ложки, а кукушка каждую весну прилетала на облюбованный бугор неподалеку от его избушки и без устали куковала, обещая людям долгую жизнь. И все, кто хоть раз появлялся на Семеновых пустошах, чтобы приглядеть место для новоселья, послушав кукушку, не раздумывая строил избу, распахивая кулигу, сеял лен и жито. А пообжившись, чтобы не скучать от безделья долгой зимой, новоселец перенимал искусство Семена-Ложкаря. Так в сердце керженских лесов на березовых вырубках поблизости от Кукушкина бугра и Семеновой избушки быстро выросло большое селение Семеново, а далеко вокруг него — много деревень, где жили хлеборобы и ложкари.
Сосновый холм, на котором жила и куковала кукушка, призывая людей заселять Семеновы пустоши, народ навечно прозвал Кукушкиным бугром. Так он и до сейчас называется, а семеновские жители издавна полюбили проводить на нем веселые праздничные гулянья.
Искусница Авдотка, помогавшая отцу с матерью на всю Русь ложки делать, тоже не пропала бесследно. После того как старая береза, укрывшая девочку, расцвела и осеменила все Семеновы пустоши и все Заволжье, выросли здесь новые березовые леса. И стали ложкари примечать, что пеньки срубленных берез весной покрываются розовой накидкой, словно в розовую кофточку пенек одевается! Тогда старые люди, помнившие беду Семеновой семьи, сказали: «Это Авдоткины рукавчики на пеньках показываются, чтобы мы ее не забывали!» Продольный же шрам на стволах берез, укрывший либо дупло, либо нездоровую сердцевину, те старики называли «Авдоткиной хоронушкой».
Здесь конец сказки про Семена-Ложкаря. За все беды, лишения и гонения от царя, за бескорыстную передачу в народ доброго и полезного ремесла сама земля и люди, не сговариваясь, надолго запомнили его имя. Там, где была избушка старца Семена, родился и вырос целый город Семенов, родина и столица ложкарного промысла.
Сказ о городецком прянике
Само царствие небесное валится в рот…
Аввакум Петров
В каком-то году царю всея Руси Алексею Михайлову понадобилось церковные книги и обряды пересмотреть, чтобы у народов православной веры в церковных порядках разнобоя не было. Вот и взялись за это дело церковники под началом двух главных попов — Никона и Аввакума. Поначалу все попы заодно старались. Правда, часто они спорили, например, о том, какой кашей ангелы в раю проповедников кормят, на каких углях черти в аду грешников поджаривают — на сосновых или березовых, какой распорядок дня в раю и какой в аду. И много у них было других, не менее важных спорных вопросов… Пока спорили, главный поп Никон не плошал, монастыри со всем добром к своим рукам прибрал, на божьем деле богател и все больше зазнавался. А чтобы царя Алексея на своей стороне держать, Никон всячески его задабривал. Скоро понял протопоп Аввакум, что надо не книги да порядки, но и самих церковников заново переделывать.
И начался между Аввакумом и Никоном великий и жестокий спор. «Надо не книги да обряды поправлять, а унять распутство да корысть бояр и церковников, чтобы не столь жестоко народ угнетали, людей бы в железы не ковали и в ямы не бросали». Так протопоп Аввакум говорил. И доспорились главные попы до того, что протопоп всю церковь православную вертепом обозвал, трехперстное крещение «кукишем», Никоновское благословение «каракулей», а самого Никона царским ярыжкой и блюдолизом. Никон же обругал Аввакума еретиком, бунтовщиком и слугой антихриста. С того дня и стали они врагами на всю жизнь и до самой смерти.
А нижегородец Аввакум и вправду не столько попом был, сколько бунтовщиком и мятежником. Ему бы не в церкви протопопом служить, а у Степана Разина в помощниках. Тут Аввакум Петров оплошку дал, не додумался. Сам царь Алексей его побаивался, но был на стороне Никона, сделал того патриархом Руси и во всех церковных делах помогал. А протопопа Аввакума не любил за прямоту и строптивость.
Незадолго до того, как по велению царя в Сибирь угодить, довелось протопопу Аввакуму в царские палаты по святым делам зайти. В тот час царь Алексей с молодой царицей и царятами за трапезой сидели и сладкие пряники с начинкой ели. Самодержец в добром духе был и сказал Аввакуму: «Вот ты все на Никона наскакиваешь, еретиком и всяко бранишь. А попробуй — каких пряников он к нашему столу из Вязьмы привозит!» И с теми словами царь один пряник протопопу подал. Впору сказать, что Вяземские хлебопеки тогда по пряничной части большие мастаки были, пряники пекли отличные. Откусил Аввакум от пряника уголок, пожевал-пожевал да и сказал сердито: «Ремень!» Удивился царь, спрашивает: «Что такое ты молвил?» — «Говорю — ремень, сыромятина! Таким пряником только зубы да брюхо портить. Попробовал бы ты, царь-государь, пряники, какие одна баба-просвирня в Заволжье, бывало, пекла, — не захотел бы эту глину вяземскую в рот брать!»
Когда ушел Аввакум из царских палат, царица с царятами просить стали царя, чтобы послал он этого сердитого попа к заволжской просвирне за пряниками. Но царь шибко расстроен был и о пряниках говорить и слушать не стал. А протопоп Аввакум, домой идучи, таково думал: «Хитрец Никон простачка царя пряниками задабривает. Хоть пряником, но дойму, досягу пса Никона!»
Пономарь Ерофеич, «Заноза» по прозвищу, с протопопом Аввакумом издавна друзьями были. Из Юрьевца их в одно лето выгнали: протопопа за нетерпимость к слабостям боярским, а пономаря за питие хмельного, за песни окаянные да безбожные. Когда Аввакум на Москве протопопить стал, своего дружка-Ерофеича в беде не забыл и в одну городецкую церковь звонарем посадил, а пономариху просвирней в той же церкви поставил. Теперь Ерофеич в церковной избушке жил, когда надо — в колокола лихо названивал, а его старуха, Ерофеиха, просвиры для богомольцев пекла. Да жила с ними приемная дочка Дарья — ее все Данькой звали, — сирота девчоночка из лесной дальней деревни. Печка в избушке была такая большая да такая жаркая и умелая, что часом по сотне просвир-колобушек выпекала. Пономарь-звонарь свои гроши с дружками пропивал да прогуливал, зато и было у него в Городце сто друзей. А сто друзей бывают дороже ста рублей. Чтобы как-то прокормиться, старуха Ерофеиха к базарным дням корзину пряников выпекала и с Данькой на базар отсылала. Пряники были хороши, да и торговка им под стать, девчонка бедовая, с песнями пряниками торговала: «Ой, пряники медовые, мягкие, фунтовые! То и малым ребятишкам, то и старым старикам! Сами печем, отдаем нипочем — с пылу, с жару, алтын за пару!» Как споет Данька свою песенку, кому надо улыбнется да глазком подмигнет — часом расхватывались пряники!
Как-то нежданно-негаданно к городецкому звонарю знатный гость — протопоп Аввакум нагрянул. И не знали Ерофеичевы, где гостя посадить, чем напоить, накормить. Звонарь на радостях зеленый шкалик осушил, а Ерофеиха подала на стол блюдо расписное деревянное с приглядными да пригожими пряниками. Отведал Аввакум пряников и как-то непонятно похвалил: «Хорош Федот, да лицом не тот!»
После того они со звонарем долго в задней горенке сидели и тихо-тихо беседовали. Потом протопопа с дороги спать повалило, а звонарь по Городцу пошел знакомых мастеров-умельцев разыскивать. Сначала попался ему Лука Гром, кузнец и жестянщик, умелец по жести, по меди, по олову и лужению. Как возьмет Лука, к примеру, меди кусок да постучит по нему молотком часок, и получался котелок либо другая какая посудина. Оловянной лудой посудину изнутри протрет, тогда в ней хоть печево пеки, хоть варево вари — не позеленеет, не заржавеет. А противни из жести для просвир такие выстукивал, что без подмазки любое тесто пеки — не пригорит, не присохнет.
Поговоривши о деле, Ерофеич с Лукой пошли к Фоке Каленому, известному резчику по дубу и рисовальщику. Рисовать да вырезать по дереву Фока большой мастак был, а прялки для баб такие мастерил, что как жар-птицы разными огнями да цветами полыхали и прясть на них было сплошное удовольствие. Сядет баба-пряха за такую прялку, и как приворожит ее к делу, век бы сидела и лен пряла. Разыскавши Фоку в знакомой харчевне, звонарь с жестянщиком к нему подсели и тихий разговор повели. Ерофеич Аввакумовы грамотки достал и мастерам показал. После того как дело со всех сторон обсудили, по рукам друг другу хлопнули, хмельного выпили и без лишних слов домой разошлись.
Ровно через сутки, вечерком, в избушку звонаря заявились Лука Гром да Фока Каленый и диковинные противни и пряничные доски принесли. На противнях для каждого пряника свое место-гнездышко, а на печатных досках картинки с узорами. Подмигнувши Даньке, молодые мастера восвояси отправились. Аввакум и Ерофеич спать полегли, а звонариха с Данькой печь затопили и стали тесто для пряников припасать. Сначала старуха перед иконами свечку зажгла, потом из сеней муку внесла, достала коробочки с приправами, бочонок с медом хожалым из-под лавки выдвинула и принялась тесно разводить да месить, напевая тихонько свою песню-раздумье:
К середине песни тесто поспело, и Ерофеиха молча и ловко его по гнездам противня разложила и печатными крышками прикрыла. Потом угли в печи к сторонке подгребла, печной под помелом подмела и водой ключевой спрыснула. После того противни с пряниками в печь посовала, чело печное тяжелым заслоном заслонила и села на скамейку свою песню-раздумье допевать. А усталая Данька в углу на кутпике свернулась и под стряпухину песню заснула.
Утром протопоп Аввакум на мастерство Ерофеихи удивился. На лавочках и залавочках лежали-нежились теплые пряники, как загорелые кирпичики, бронзой отливали, и все картинки и слова на них отпечатались такие четкие да ясные, что слепые могли разобрать. Оглядел Аввакум пряники со всех сторон, на вкус попробовал и молвил, ухмыляясь в бороду: «Что лицо, что нутро — пряники истинно царские!» Это были самые первые городецкие пряники и по виду и по вкусу. Тут звонариха большую городецкую корзину внесла, льняную городецкую скатерть-самобранку в нее раскинула и все пряники ловко уложила и завернула. И помчался протопоп на ямских лошадях в столицу, царя с царскими чадами и домочадцами расписными городецкими пряниками угощать. А звонарю с просвирней наказал таких пряников больше печь и ему на Москву посылать.
Как-то сумел Аввакум корзину с пряниками к царскому столу доставить. На том праздничном пиру у царя, кроме родни, все знатные князья, бояре и попы с Никоном сидели. После щей, каши да осетрины на стол блюдо с городецкими пряниками подали. Тут царь и гости на них навалились и не вдруг разглядели, что на них нарисовано и написано, а кто и разглядел, да смолчал: говорить некогда было.
Как ни хороши были пряники, всей корзины гости не осилили, сколько-то пряников осталось. После сытной трапезы царь с царицей и все гости спать завалились, а царские сыновья Петька с Ванькой остатки пряников делить начали, чтобы из них, как из кирпичиков, на полу крепости строить. Пряники поровну никак не делились, и стали озорники громко спорить. Проснулся царь от шума и слышит, как сынки перекоряются: «Дай мне одного черта Никона!» — «А ты дашь мне царя в котле?» — «Давай поменяем кукиш на каракулю!»
Встал царь с постели, к сыновьям пришел: «Что вы тут раскричались, матушке-царице спать не даете?» — «Да вот, батюшка, пряники пополам никак не поделим. С рогатым Никоном пять штук, а с царем в котле — три. Кукишей да каракулей тоже не четка!»
Забрал царь у сынков пряники, стал у окна разглядывать. Батюшки светы, что он увидел! Каждый пряник с разных сторон был расписан да разрисован. Вот патриарх Никон с хвостом и рогами. И слова для ясности: «Собака Никон бедных грызет!» Вот сам царь в аду сидит, в котле кипит. И подпись внизу: «Царю Алексею в аду сидеть, в котле кипеть!» Вот кукиш на прянике и слова для понятности: «Не крестись кукишем!» И на каждом прянике разные картинки непотребные и слова безбожные, богохульные. Больше всего разгневался царь на пряники с изображением самого себя. В короне и с державой в руке он сидел в котле под охраной двух рогатых чертей. В тот же день собрал царь всех попов, и стали они судить да рядить, что с еретиком и богохульником Аввакумом делать. Вызвали протопопа и стали его всячески стращать. На все опуги Аввакум ответил, что придет время, когда не в аду, а наяву «бедный будет из богатого сок выжимать», достанется тогда и князьям и боярам, а паче всех отступнику Никону. Тут царь и все церковники еще пуще разошлись, повелели схватить Аввакума и в далекую Сибирь угнать.
А среди простого народа молва пошла, что Аввакум царя с Никоном пряниками с «кукишем» накормил, за это и в Сибирь отправлен. Мятежный протопоп в далекой ссылке от голода и холода погибал, а пряничное дело в Городце не затухало. Звонариха без устали пряники пекла и приемыша Даньку своему искусству научила. А умельцы Лука Гром да Фока Каленый новые гнезда-формочки и печатные пряничные доски готовили. Пряники городецкие стали еще вкуснее, рисунки на них задиристее и злее, а слова такие, что царь, бояре и попы сна лишились. Любо было людям на картинки поглядеть, как черти бояр поджаривают, узнать, что попов клеймят грабителями и распутниками. Потому и раскупались пряники нарасхват, не столь для еды, сколько «для души».
Посоветовался царь с попами да с боярами и распорядился торговлю зловредными пряниками запретить, а народу не дозволять их покупать и есть. Стали царские шиши да ярыжки по базарам шнырять, у людей из рук крамольные пряники отнимать, народ в застенки сажать и батожьем бить. Но проще было запретить людям воздухом дышать, чем те городецкие пряники покупать. Как узнали люди, что их любимый пряник под опалой, стали без удержу его покупать, а неизвестно кто и где не уставал его выпекать. Народ все больше волновался и бунтовал. Поневоле пришлось царю попа Никона из патриархов прогнать, а непокорного Аввакума из Сибири вернуть, чтобы простой народ утишить.
Только не на радость себе царь и церковники Аввакума вернули. С возвращением протопопа совсем «запустошели церкви в столице», потому что народу была желанна и мила не вера, а воля. На церковном соборе Аввакум «паки возмущал народ», церковь православную опять бранил вертепом разбойничьим, а попов прощелыгами и распутниками. За такое буйство Аввакума в цепи закопали, к студеному морю увезли и в бревенчатую клетку-тюрьму на погибель бросили.
А на городецких пряниках появились новые злые картинки и слова против царя, бояр и попов. Царь опять боярскую думу собрал, и решили не ловить тех людей, кто пряники покупает да ест, а разыскать лиходеев, что те зловредные пряники пекут. Поначалу все царские шиши и ярыги по столице рыскали, вынюхивали, откуда пряники привозят. Потом самый хитрый, Старый Ярыга, с десятком шишей да ярыжек за Волгу в Городец поехал, чтобы доподлинно разузнать, кто пряниками народ мутит и будоражит.
Городецкий звонарь Ерофеич все в той же избушке у церквушки жил, когда надо в колокола звонил. Ерофеиха неустанно пряники пекла, а Данька ей в том деле помогала — и на базаре торговала, и через надежных дружков в столицу отправляла. Пряничное дело бойко пошло. Мать-звонариха купила Даньке за раденье новый сарафан цветной, да платок огневой, да коты-башмаки с подковами. Городецкие умельцы Фока да Лука не забывали вечерами в избушку звонаря заглянуть, Даньке подмигнуть и лишние пряники для отправки забрать.
Вот как-то перед весенним праздником Ерофеиха с Данькой много пряников напекли. Три корзины для отправки в столицу сдали, а с остатками Данька на свой базар вышла. Как раз в тот день по Городцу царские шиши да ярыги рыскали, узнавали, кто печет запретные пряники. Вот видят они, что люди откуда-то пряники несут, не столь едят, сколь на них глядят да царя с боярами ругают. Вдруг песенку в калашном ряду услыхали:
Окружили царские ярыги прянишницу, схватили и в приказ на допрос поволокли. Как нарочно, им навстречу Лука да Фома подвернулись, на харчевню ярыгам кивнули и шепнули, что в том доме уха из стерлядей и осетрина заливная хороши и дешевы, а сусло-брагу и совсем задаром можно пить. Ярыжки и шиши все голодные были, в харчевню ввалились, Даньку в угол посадили и столом задвинули. И, пока им еду да питье припасали, стали у девки допытываться, кто в Городце незаконные пряники печет. Не испугалась Данька и смело Старому Ярыге такое выпалила: «Да, чай, сама не маленькая. Чай, сама пекла!» Но хитрый старик не унимался: «А где та изба и печка, что на всю Русь озорные непотребные пряники печет?» Данька и тут не сробела и так Ярыге ответила: «На родине родной моей матушки, в родном селе, за синим лесом, под синим небом, у чиста поля, у Синя камня. Утром выйдешь, к ночи добредешь!»
Пока прянишница ярыгам зубы заговаривала, Лука да Фома с хозяйкой кабачка словом перекинулись, с хозяином перешепнулись. Потом к ярыгам подсели и сказали, что эта девка с пряниками и вправду откуда-то из-за леса появляется. Тут царским людям на стол уху подали, и осетрину, и вино зеленое, и брагу-сусло ядреное. Когда все наелись да напились, Старый Ярыга приказал лошадей в повозки запрягать, чтобы всем скакать туда, где девка пряники печет, а Лука Гром да Фока Каленый глиняную бутыль в прутяной корзине из харчевни вынесли и в повозку Старому Ярыге поставили, на тот случай, если в дороге жажда доймет.
И поскакали царские люди за синий лес, туда, где, по слухам, пряничное заведение было. Даньку на переднюю повозку рядом со Старым Ярыгой посадили, чтобы дорогу показывала. На сороковой версте лесной дороги захмелевшим ярыжкам из глиняной посудины испить захотелось, быстро ее опорожнили и, проехавши деревню да поле, в еловый лес уперлись. Среди седых елей большой Синий камень лежал, а вокруг далеко мелкие камни россыпью поразбросаны. Тут Данька-прянишница из повозки выпрыгнула, подвела к тому Синему камню величиной с баню и такое молвила: «Вот здесь из песочка да глины пряники мешу, а те, что неудачами получаются кругом по лесу да по полю раскидываю». И на камни-голыши рукой показывает. Нахмурился Старый Ярыга и Грозно сказал: «Ты, девка, нам головы не морочь, а указывай заведение, в коем пряники пекут. А ино как заголим сарафан, да растянем на камне, да почнем лозой парить!..»
Данька в ответ на Синий камень скакнула, башмаком притопнула и прикрикнула: «Да вот тут! Вот здесь, на этом камне, пряники пеку!» И начала она на том камне плясать да припевать. Так заплясала, закружилась, что сарафан на ней колоколом стал. От ее кружения у царевых холуев в глазах зарябило и головы забахмурило. Старому Ярыге подумалось: «Что-то неладное со мной деется… Выпил лишнего али девка эта пляской своей околдовывает?»
Хотел приказать Ярыга, чтобы Даньку схватили да связали, да не успел, от круженья в голове на четвереньки упал, и язык отнялся. Каждый раз, когда Данька башмаком притопывала, из-под каблуков искры летели, а камень в землю оседал. Все ниже и ниже прятался камень, а искры не переставали сыпаться. Ярыги и шиши оттого все больше жмурились, в глазах у них земля вдруг к небу пошла, и все они одни за другим у Синего камня на луговину повалились. А Данька еще раз, последний притопнула, приухнула и, видя, что ярыжки валяются как убитые, быстро разулась, башмаки в руки взяла, сарафан подобрала да и побежала в родной Городец.
Царские холуи, провалявшись полдня, чуть очухались, к ручью напиться приползли, да тут опять досыпать свалились. Рано поутру их местные жители нашли, разбудили, спросили: «Откуда вы?» А у ярыжек в головах все перемешалось, потому отвечали они что-то несуразное: «Из-за синя леса, от чиста поля, от Синя камня!» Переглянулись люди, лошадей с повозками в лесу разыскали, упряжь поправили, помогли царевым слугам в телеги забраться и обратную дорогу показали. Когда ярыги в приказ вернулись, родня, сватья да кумовья их виду удивились: «Где вы были, бедные?» А ярыжки отвечали как одурелые: «За синим лесом, под синим небом, у чиста поля, у Синя камня!»
А на базарах Руси опять появились свежие да пригожие печатные пряники. И не было для народа заманчивее лакомства. По велению царя и святых отцов-церковников сожгли вместе с тюрьмой бесстрашного и грозного узника Аввакума. Его прах вместе с пеплом по мерзлой тундре ветер развеял, а «грамотки Аввакумовы» да расписные пряники городецкие продолжали нести в народ мятеж и крамолу.
Одна изба в Городце по утрам и вечерам трубой дымила. Русская печь с широким челом жаром дышала, а перед ней молодая прянишница Данька хлопотала. А старая мать звонариха в сторонке сидела, глядела и радовалась. И тихо напевала свою песню-раздумье:
Потом и другие умелые люди переняли и перехватили пряничное дело. Еще сильнее запахло над Заволжьем и всей Русью городецкими мятежными пряниками. Синий камень, на котором Данька-прянишница плясала, царских ярыжек обморачивая, и сейчас прячется в заволжских лесах у села Чистого Поля. Как втоптала его плясунья, так и лежит, только макушка из земли видна. Ручей, что мимо Синего камня бежит, люди исстари речкой Пьяной зовут. А вокруг Синего камня, по полям и перелескам «Данькины неудачи» — мелкие голыши пораскиданы. В старину на чистопольщине их «городецкими пряниками» звали и, чтобы пахать не мешали, на меже в кучки собирали.
Сказ о плотнике Евлахе
Запрятались, притаились в лесном Заволжье гнезда раскольников, упрямых ревнителей благочестивой старины, духовных деток Аввакумовых, И курились над прикерженьем редкие дымки скитских поселений. Совсем недавно гулял по просторам Поволжья удалый яицкий казак с огнем и мечом, с петлей для угнетателей и царских прислужников, ходил-бродил еще по русской земле мятежный дух голытьбы.
Среди сугробов и белых берез серым пятном маячит в сумерках тихая обитель Макридина. Озорная весна подкралась к сосновым келейкам как-то вдруг и начала свои шуры-муры да чудеса показывать. За три дня на крышах снег растаял и капелью в землю ушел, у стен травка проглянула. Остатки сугробов при вечерних сумерках кажутся синими, а ельник вдали совсем потемнел. За ельником только что солнышко спряталось, над зубчатой стеной еловой месяц молодой рога навострил, а рядом с ним звезда вечерняя зажглась и лукаво подмигивает: «Спокойной ночи, игуменья!»
Ой, плохо спит по ночам мать Макрида, игуменья. Вот и сейчас она не спит и не молится, а перед окном стоит и в сумерки глядит. В руках ее четки замерли, на лице забота, в глазах печаль. Перед божницей свеча горит, в келье тишина, полумрак, да и в сердце хозяйки сумрачно. Великий пост кончается, страстная неделя подходит, а страсти человеческие — вот они, за спиной стоят, на сердце лежат. Трудновато стало игуменье блюсти затворниц-келейниц, молодок в черном одеянии, да не легче и за собой уследить. Всего-то ей тридцать лет исполнилось, еще жить бы и жить в миру, молодостью тешиться, а не тосковать в скиту затворницей.
А бес-искуситель, этот враг рода человечьего, не сидит без дела и все соблазны придумывает да каверзы устраивает. Всех окрестных парней из-за монашек до драк перессорил. Блохой либо клопом обернется и монахинь в постели донимать начнет. Проснутся молодые келейницы и слушают, не свистит ли соловьем в кустах душа-зазноба? Накинут платок на плечи — да из кельи вон: «Ой, клопы заели, моченьки-терпенья не хватает в келье спать!» А соловей-молодец только этого и высвистывал. Не унимается бес-соблазнитель ни на день, ни на час. Купцам-толстосумам, что приедут в кельи грехи замаливать, в зелено вино дурмана подсыплет. Как выпьют бородачи-староверы, так и о молитвах забудут. Вместо поклонов перед иконами в кельи стучатся, к монашкам ночевать просятся. Ох, велика забота у Макриды, игуменьи скита кержацкого! Как скитниц-келейниц молодых да и себя, грешную, от соблазнов мирских уберечь?
За окном стало совсем темно, в ельнике по-весеннему гулко филин заухал. Месяц рогатый с подружкой звездочкой готовы за лес спрятаться и горят, пристроившись на вершине дальней ели. В селенье за рекой погасли последние лучики-огни, стало совсем тихо вокруг скита кержацкого, только в овражке под снегом бойкий ручеек журчал, пробиваясь навстречу с рекой. Молча догорает свеча перед божницей, молча перебирает четки-листовки игуменья. Заснула вся обитель Макридина, и снятся монашкам грешные сны. В своем березовом креслице задремала игуменья. Вдруг тихо, без скрипа открылась в келью дверь дубовая. Пригнувшись в дверях, широко шагнул через порог парень Евлаха, бобылкин сын, плотник золотые руки. Чуть кривоног, длиннорукий, а в плечах полтора аршина. Шапку держит в руке. Вороная прядь волос на глаза свесилась, а в глазах добрый огонь — так и греет! Словно сам бес-соблазнитель в обличье мужском прокрался в келью игуменьи. Очнулась она от дремоты и чуть не вскрикнула.
— Не пугайся, игуменья, голубушка, это я пришел!
И опустился тут Евлаха перед окаменевшей келейницей, одной лапищей за руку взял, другой за ножки обнял, как храбрый и преданный пес в глаза ей глядит. Перекреститься бы игуменье, да рука словно отнялась, встать нет сил, а по телу огонек пробежал. Как живой ручей-поток, зажурчала в келье речь Евлахина:
— Затворница несчастная, мне жаль тебя, а тоскую так, что родная мать не мила и работа из рук валится! Как тать-разбойник часами жду в кустах, когда из кельи покажешься, чтобы взглянуть разок. Так и манит к следочкам твоим на тропе припасть. Не полно ли тебе перед божницей стоять да попусту богам кланяться — пора самой всласть пожить. Либо дозволь мне с горя-досады весь твой скит вместе с моленной по бревнышку раскидать!
Пыталась Макрида с креслица встать, послушницу кликнуть, а силы в душе-то и нет. А плотник Евлаха, как змей-искуситель, свое поет:
— …И будут люди, на нас глядючи, радоваться: «И что за парочка! То ли муж с женой, то ли брат с сестрой, то ли сизый сокол с соколихою?» Вот прилетит по весне соловушка и про любовь нашу над окном твоим запоет. А пчелы-труженицы будут в окна кельи жужжать и звенеть крылышками: «Спи спокойно, игуменья, тебя любят!» Черемуха, что в холода цветет, и та белой веткой-цветком тебе кивнет: «Живи счастливо, Макридушка, а для молитвы — на то старость придет!»
— Отойди, сатана! — гневно шепчет игуменья, а оттолкнуть и бежать — на то воли нет.
— Не гневайся, голубушка! Не грешно любить, а грешно душой кривить, супротив себя идти. Мне жаль тебя, злая затворница!
Тут поднялся Евлаха во весь могучий рост и очень хотелось ему, как настоящему черту, сквозь пол-землю провалиться. Постоял, помолчал, повернулся и к двери шагнул. Но встала с кресла келейница и глухо молвила:
— Постой! За эту жалость твою не гоню тебя. В мужском сердце чувство доброе дороже золота и спасения. Ох, ни крестом, ни пестом, ни ладаном от тебя, видно, не оборонишься!
С тех весенних дней, когда в лесу под снегом ручей журчал, а месяц молодой с подружкой-звездочкой вслед за зарей за ельник дружно прятались, запел, заходил гоголем Евлаха-плотник, бобылкин сын. Но ни бахвальства, ни хвастовства победного, ни единого слова лишнего про Макриду-игуменью от него никто не слыхивал. А мать Макрида за монашками и за делами скитскими зорко следит, но уже не так усердно молится и поклоны бьет. Порядила плотника новую моленную выстроить. Трудится Евлаха с темна до темна и устали не знает, топором лихо рубит, и выше леса, в синеву поднебесную летят щепки от бревен сосновых. Игуменья только для вида держит четки в руках, изо дня в день из окна кельи на плотника украдкой любуется, наглядеться не может: «Вон ладный да могутный какой, мой Евлаха, не плотником, а генералом впору быть!»
Так пролетел целый год, за ним новая весна да лето прошли. Немало за это время плотник топором поработал. Моленную достроил, кельи-домики подновил, часовенки поправил, не забывал и к игуменье потихоньку наведаться. А скит жил да жил мирским подаянием и богател от подачек купцов-толстосумов. Не скудела скитская трапезная, и раздобрели от сытой жизни молодухи келейницы.
Струился из-под горушки к реке родничок холодный. Немало в заволжских лесах таких родников-ключиков, но этот был всего за версту от скита кержацкого, потому и прославился не простой водой, а святой, целительной. Люди веры старой, праведной не врали, а правду сказывали, как один аввакумовец бурачок такой воды на Москву доставил самому патриарху Никону. Испил патриарх из бурачка разок да другой и начал толстеть да жиреть, одышкой маяться и потеть. Ну и разлюбил его царь-государь, прогнал его от себя и от церкви православной. Питирима-гонителя тоже незазнамо водой из того родника напоили. После того у него сначала голос пропал, дух захватило, потом совсем захрипел, а черти только того и ждали! А вот людям старой веры вода из того святого ключа на пользу шла. Каждый богомол, что у скита побывал, из родника воды для дома в бурачок набирал, хлебнуть от хворобы, от глаза дурного, от всякой напасти. Вот и придумала игуменья скита керженского построить над тем святым ключом часовенку.
Вот как-то в начале осени Евлаха-плотник ту часовню у родника доделывал. Тесу натесал-нащипал, крышу покрыл, оставалось только крест на коньке укрепить. Сидит плотник на крыше часовни, потную спину на ветру сушит и хорошую песню поет. Шел в тот час старец Трефил, что за рекой в зимнице жил и травами да наговорами народ лечил. Остановился у часовни, поглядел на плотнила, прищурившись:
— Ты что, глупый, там на крыше как петух кукарекаешь? Али не боишься, что твою курочку другой потопчет?
— Эй, старик, поостерегись! Евлаху задевать — это тебе не блюдо в трапезной вылизывать! Видно, плохо тебя там сегодня покормили?
— А ты не задавайся, не храбрись, енералов сын, а слушай да головой смекай. Пока ты часовни да кресты ставишь, твоя матанька с купцом бражничает, винцо пьет, осетриным хрящиком закусывает!
Как ветром Евлаху с крыши сдуло, а старик нырнул в кусты и следа не оставил. Размашисто зашагал плотник прямиком к Макридиной обители. На подходе к ней тройка повстречалась, в повозке купец курносый, сытый да румяный, борода лопатой, волосы копной, по-староверски. На козлах кучер упряжкой правит, кумачовым кушаком подпоясан, с кнутом под пазухой. Поймал Евлаха коренника за узду, повернул тройку круто в сторону и вывалились из повозки, как мешки, и купец и кучер. Ухватил плотник купца за шиворот, тряхнул и шепнул с грозой в голосе:
— В бабий монастырь грехи замаливать дорогу забудь, а то не ровен час, без головы уедешь!
И легонько своим кулачищем толстосуму по шее дал. Крестясь и озираясь, купец в повозку забрался, кучер кнутом взмахнул — и рванули кони, понеслись по дороге лесной, ухабистой.
Мать Макрида перед образами стоит, истово молится. Плотника Евлаху по шагам узнала, но не обернулась, не дрогнула. А он и лба не перекрестил, допытывается:
— А скажи-ка, игуменья, почто этот купчик с весны зачастил, повадился? Молитву заказал по родителям али сам какой подряд взял?
Не обернулась келейница. Не спеша молитву дошептала и ответила холодно:
— Такими купчиками мой скит живет, держится. Из их кошеля и тебе за твое мастерство плачу. Без купцов-дарителей зачахнет обитель моя, а монашки босыми по миру с сумой пойдут на посмеяние никонианцам-церковникам. Не хороши, не по нраву тебе мои гости-купцы, так иди к разбойникам!
Эх, Макрида, Макрида, игуменья! Знала бы, ведала, кому ты такие слова молвила! Видно, не успела узнать Евлаху-плотника, «сына енералова». Дела божьи да хлопоты келейные заслонили от тебя сердце доброе да каленое. Повернулся Евлаха, дверь за собой тихо закрыл, в сенцах постоял, шапку в руках помял. Потом на крыльцо кельи вышел, вздохнул, словно бревно издалека принес и с плеча свалил, да и пошагал прямиком в свою избушку к матке-бобылке.
Не узнать стало бобылке сынка своего, Евлаху-плотника. Либо дома тихо, смирно живет, либо надолго пропадает. Темны и долги осенние ночи, а Евлаха в сумерки из избы выйдет, и хорошо, коли на рассвете вернется. А где пропадает — о том и мать родная не догадывалась. Дома перед божницей не встанет, не перекрестится. На мирских праздниках престольных бывать перестал, а как случаем в село зайдет, так всех богатых мужиков поколотит, купцам бородатым взбучку задаст, а челяду-ребятишек леденцами да орехами наградит. И ждали малыши-голыши прихода Евлахи-плотника, как самого большого праздника. На девичьи посиделки, случалось, зайдет, но не посидит, как другие парни, рядком с красой-рукодельницей, не пошепчется, а только высыплет на пол ворох сластей да пряников и к матке-бобылке убежит. Поспит, одежку да обувку посушит и вновь пропадет.
Кручинится Макрида-игуменья в своей келейке. Черной кошкой досада к сердцу скребется. Середина зимы, скоро масленица, а богатые богомолы в скиту не бывали. Со всех сторон вести-слухи ползут, что разбойники кругом дурят, купцов-дарителей на дорогах встречают и вместе с повозками под откос в овраги спускают. Боязно стало торгашам ехать до скита кержацкого грехи свалить, монашек за мягкий бочок пощупать. Не помогали ни поклоны, ни свечки перед иконой Николая Угодника. Все, кто пытался до Макридиной обители добраться, в беду попадали.
Нижегородских толстосумов на большой дороге в урочище «Три сосны» останавливали. У тех «Трех сосен» выходил на дорогу и коней останавливал детина — в плечах косая сажень, ростом богатырь — и голосом как из бочки спрашивал:
— Куда, почтенные, торопитесь, путь-дорогу держите? Не к монашкам ли в кержацкий скит грехи замаливать? Так вороти назад, бог вас и так простит!
А если кто супротивничал, тому советовал:
— Не мешайте, люди крещеные, а то, не ровен час, гужи обрубать буду, так ненароком по кумполам вас обушком не задеть бы!..
И при этих словах доставал из-за пояса широченный топор плотницкий, сверкавший в ночи, как полумесяц на небе.
Богачам староверам из захолустных городков тоже не стало проезда к скиту кержацкому. На глухих лесных дорогах встречался купчикам парень-богатырь, шапка набекрень, а из-под шапки будто рожки выглядывали, изо рта вместе с речью безбожной искры летели и дым валил.
— Вороти назад, мирские захребетники, гони к своим бабам, пока мой топор вам носы и уши не обрезал! Давай, давай, поторапливайся, у меня на других дорогах дела неотложные!
Да как загогочет вслед, да засвистит на весь лес, созывая на шабаш своих чертей-товарищей! У купцов-богомолов от того по спине мороз, волосы дыбом, и, вернувшись домой, привирая наперебой, о том рассказывали. Ну, кто осмелится поехать с дарами в кержацкую обитель судьбу пытать, саму смерть за нос дергать!
На том же березовом креслице сидит Макрида-игуменья, в то же окно глядит, да на сердце не то, что было. Вторая весна пошла с той поры, как плотник Евлаха к ней в келью и в сердце прокрался. Те же скитские кельи среди синих сугробов, те же четки в руках и свеча, как всегда, перед божницей. Тот же сумрачный ельник вдали стена стеной, но звезда яркая вечерняя спускается за лес одна-одинешенька, и нет с ней рядом молодого месяца.
Вдруг неслышно открылась дверь в тихую келью игуменьи, и плотник Евлаха жив-невредим в избу шагнул и поставил к ногам изумленной хозяйки две кисы купецкие тяжелые.
— Пришел повидаться да проститься с тобой, игуменья. Вот здесь, в этих торбочках, все серебро да золото. Да не пугайся, не крестись, — никого не убил, не ограбил! Это бородачи-купцы, что к твоим бабам грехи замаливать ехали, на крутых горах да поворотах от страха повыбросили, а иные со страха сами мне в руки мошны совали. Дают — бери, бьют — беги, — пословица старинная. Вот и я не отказывался. Прими и ты от Евлахи подарочек. За меня не надо будет перед иконами кланяться, без корысти дарю. Авось недороги тебе будут купцы-дарители. А теперь прощай!
И, как тень, пропал. Опять одна осталась игуменья, в кресле сидит и дивится: «Не сон ли приснился?» А у ног мешок с золотом, в другом — серебра полно. Только не было в тот вечер никого на свете беднее ее, игуменьи скита кержацкого. Сидит и шепчет, задумавшись: «Черны у парня волосы, да знать бела, чиста совесть, на кривых ногах, да не кривит душою!»
Дни у жизни крадет время. Бежит оно и мимо затворницы Макриды, только плохо залечивает ее тоску-печаль. В скиту достаток и богатство, но не радуют игуменью дела скитские. И гонит ее тоска из кельи в милые сердцу места. Задаст келейницам рукоделье да моленье, а сама, важная и строгая, идет в новую моленную.
Тихо входит она в маленькую церковку и, перебирая четки, вполголоса разговаривает. Нет, не с богом говорит келейница, и совсем не божественное шепчут губы ее: «Все его рученьками сделано, его топориком рублено-тесано! Где-то теперь пропадает он, голубь сизый мой?» И с нежностью проводит игуменья бледной рукой по сосновой стене скитской моленной. Залетевшая с воли пчела шелестит и звенит крыльями о стекло, а Макриде кажется, что сам плотник шепнул: «Спи спокойно, игуменья, тебя любят!» И покатились по щекам монахини две крупные слезы.
Из моленной идет она медленно и строго к новой часовенке над родником среди цветущей черемухи. Вошла в часовню, послушала, как святой ключик струей звенит, перекрестилась, потрогала рукой божницу в углу. «Все его золотыми руками сделано, только нет его самого со мной, сокола ясного!» Здесь, в пустой часовне, вдали от людей, мать Макрида дала волю своему горюшку и расплакалась всласть.
Неслышно подкрался к часовне отшельник Трефил. Волосы у старика седые добела, всклочены, глаза от дыма да копоти выцвели. Длинная рубаха лыком подпоясана, штаны из дерюжины, босой, с подожком в руке, а сбоку торбочка для подаяния. Стоя в дверях, головой покачал.
— Знать, доняло горюшко, игуменья? Ну, пореви, пореви! Дело бабье такое: что поревешь, то и поживешь! Хоть не поправишь беду свою, а все полегче будет!
Обернулась оторопелая игуменья и глядит пугливо на старика, страшного и дикого.
— Что пугаешься, Макридушка, али старого Трефила не узнала? Сколько раз в трапезной объедками кормила, а не запомнила. Трефила бояться нечего. К нему простой народ смело ходит. Кто с горем, кто с хворью. Это тебе, матушка, от богатых выгодно, а мне — что бедней, то милей! Хворых травами лечу, а для дурных да глупых слово такое знаю, для дурака доброго слова не жалей — эта погудка верная. Вот и пошла про меня слава: «Трефи — ворожец, Трефи — колдун, он все может: и плохое, и хорошее, и злое, и доброе!» А у меня одна сила и умение: знать, коя трава от коего недуга. Вот твой-то недуг, игуменья, нелегко вылечить. Сама сплоховала! Плотник хоть и бобылкин сын, да по нраву больше в отца-енерала пошел. А ты, чай, о том и не ведала? Ну, не печалься, Евлаха не пропадет, человека не убьет, не ограбит, а то, что богомолы-толстосумы с перепугу на дороге бросят, так это ему бог посылает!
Слушая старика, Макрида глядела на него уже без страха и неприязни. «Ой, много знает этот дед про моего сизого сокола, только таится, недосказывает!» И не напрасно она так думала. Под конец Трефил намекнул игуменье, что если он в скиту появится, так в трапезную не отсылала бы, а в свою келью пускала. Дело, мол, стоящее. На том и расстались. Старик, сгорбившись и стуча подожком, за ручей к своей зимнице поплелся, а мать Макрида слезы насухо вытерла и степенно пошла к обители. И никто бы из встречных не подумал, что всего полчаса назад эта суровая келейница навзрыд рыдала по утерянной любви, по Евлахе-плотнику.
А по лесным дорогам к скиту кержацкому да святому родничку-ключику совсем проезда не стало. Как злой оборотень, появлялся детина-разбойник, то тут, то там, и везде нежданно-негаданно. Остановит повозку, спросит путников, далеко ли путь-дорогу держат, и по-доброму да по-честному посоветует назад восвояси ехать. «А денежки, что в скит за молитвы везете, можно через мои руки передать. Дело надежное, не сумневайтесь, только скажите, за кого молиться, за упокой или за здравие. Все будет игуменье передано!» И при этих словах словно невзначай поправлял за опояском свой широченный плотничий топор. И все обходилось тихо и мирно. Богомол-купец опасливо поглядывал на парня с топором, кряхтя доставал кису денежную и отдавал на молитвы за упокой и за здравие. Случалось, что дурак-кучер для бахвальства кнутом замахивался или какой чиновничишка за пистолет хватался, так за это кулаком по уху получали. Заветлужский барин Завирай-Собакин не в скит, а в город спешил денежки прогуливать, не шибко ему хотелось с деньгами расставаться, сам пистолет выхватил, кучер топор достал. Но детина-богатырь успел коней остановить, гужи обрубить, кучера кулаком оглушил, а барину по руке так стукнул, что пистолет в небо пальнул и сам туда улетел.
А старец Трефилий игуменью навещать повадился. Осторожно, как кот, проберется в келейку, подожек в угол поставит, с плеча суму снимет. И доставал кисы тяжелые с серебром да золотом.
— Вот твой Евлаха тебе на обитель шлет, игуменья. Наказал низкий поклон передать, жив и здоров, а когда к тебе вернется, о том разговора не было. И говорить о том ему что-то не по сердцу.
Изредка старик по селениям проходил, в самые бедные да сиротские избы заходил и голым ребятишкам разную одежку да обувку давал, приговаривал:
— Для старого Трефила, что бедней, то милей. Ну-ка, наряжайтесь, не лихим, а добрым человеком послано!
А по нижегородской земле молва пошла о том, что в заволжских лесах разбойная ватага дурит, у купцов да господ казну отнимает. Сам барин Завирай-Собакин рассказывал, как из пистолета семерых удальцов повалил, а из леса вышло опять же семеро, подобрать своих убитых товарищей. Проскакала по лесным дорогам челядь приказная, губернаторская со стражниками, но разбойной шайки и духу не было. Одна баба-бобылка у скита кержацкого подолгу сына Евлаху с отхожего промысла поджидала и, не успевши на него наглядеться, порадоваться, опять в долгий путь провожала.
Нет, не пропадала у Макриды дума тоскливая о Евлахе-плотнике. Каждодневно молилась она за здравие раба божия Евлампия и келейницам о том же наказывала. Часовенку над святым ключом разукрасила и дорогими иконами обставила, а на крыше засиял вдруг тяжелый золоченый крест. Сюда, в часовенку Евлахину, полюбила она ходить, одна-одинешенька, помолиться да подумать. Придет, а молитва не получается, и шепчут губы сами собой все что-то такое бесовское: «Все-то его руками сделано, его острым топориком рублено-тесано! И где ты теперь, сокол гордый да супротивный мой! Черен волосом, темен лицом, да бела, чиста, видно, совесть твоя. Разбойник, богохульник, а милее и дороже никого на свете нет!»
Вот так как-то пришла игуменья помолиться в часовенку, но молитва опять на ум не шла, не ладилась. Стоя перед иконами, уронила келейница две-три слезинки да и позадумалась. Надолго задумалась. Тут и завладела затворницей дума неотвязная, неуступчивая, что боль-тоска из сердца ее улетучится, если запоет она песню хорошую о своем любимом Евлахе плотнике. А он, сокол сизый, заслышав ту песню, призывную, сразу обиду забудет, простит и вернется к ней в келейку.
Тропинкой через рощу цветущей черемухи возвращалась игуменья в кельи и пела песню-раскаяние о том, что напрасно сменяла она бескорыстную любовь на богатство сонного скита с ненавистными дурами-келейницами!
Ох, как постылы ей стали и скит, и келейницы, и моления! Как счастливо бы жили они с Евлахой, на радость и удивление всем добрым людям:
Так с песней и пришла она в свой скит. Игуменья сняла с головы свой черный платок и, плавно помахивая им вокруг, пела и пела, со странной удалью в движениях, со слезами в голосе.
— Мать Макрида мирскую песню запела!
Закудахтали келейницы и в страхе попрятались в свои норки. «В игуменью Макриду бес вселился. Надо скрывать эту беду от никонианских церковников. Пусть никто со стороны не ведает о том, что случилось в прославленной святостью кержацкой обители!» Так решили староверские попы и начетчики, столпы благочестия. И всем келейницам о том молчать наказали, под страхом епитимьи, самой жестокой и изнурительной. И лечили игуменью от наваждения бесовского разными снадобьями да молитвами. Потом старца Трефилия на помогу позвали. Приплелся старик, поговорил с игуменьей ласково и по разброду в мыслях да по жуткому огоньку во взгляде ее сразу смекнул, что от тоски по Евлахе-плотнику келейница разумом тронулась. «Травами да наговорами в таком деле не поможешь!» Так отшельник Трефил сказал и застучал подожком по лесным дорогам, шагая в глубину кержацких лесов «енералова сына» разыскивать.
А в скиту кержацком беспорядок и смятение. Игуменья Макрида то пела, то плакала да тайком в часовню ходила. Вот как-то одним вечером счастливым она опять туда ушла, не молиться — о милом горевать. Молча постояла на коленях перед иконами, слушая, как нежно родничок журчит и ласточки под крышей разговаривают. А сердце в груди тук да тук, словно на волю просится. Вдруг позади в часовню тень вошла, и стало сумрачно. Оглянулась игуменья и замерла, не веря глазам своим. В радостном испуге глядела она на Евлаху-плотника. Отхлынула кровь от больной головушки, от лица белого, а сердце застучало добольна, будто что недоброе вон выталкивало. Не запела игуменья и не заплакала, потому что со счастьем возвращался и рассудок к ней. Только и молвила:
— Соколик ты мой!
В ту светлую летнюю ночь, когда заря с зарею сходится, опять поражены были келейницы скита кержацкого. Вернулась игуменья из часовенки без песен и слез, молчаливая и строгая. Это была прежняя Макрида, во взгляде ее и в голосе все снова узнали властную игуменью. Только недолго радовались кержаки-староверы благополучию скита у святого ключа. Ушла, пропала игуменья Макрида из тихой своей обители, незнамо куда, без весточки и следа. Прошла было молва о том, что пробирались в ту пору по дороге в глубину лесную кержацкую молодец-богатырь с молодухой-красой, ликом светлые да радостные, на диво встречным путникам:
Но староверские столпы, попы да начетчики ту молву скоро заглушили, над кержацкой обителью другую игуменью поставили, а про Макриду сами молчали и другим заказали под страхом всяких немилостей, божьих и человеческих. Так и притихла людская молва. Но скоро там, где реки Керженец да Узола начинаются, как гриб, выросло в сердце леса жилье сосновое. Хозяин сам-друг с хозяйкой раскорчевали поляну-полюшко, жито да лен посеяли и медвежий тот угол обжили. Шибко не богатели, а деток нажили. А детский голосок в лесной глуши — слаще пенья соловьиного, милее всякой музыки. Для детей — где родился, там и родина. Детки и родителей к одному месту приноравливают. То место, обжитое урочище, долго прозывалось кулигой Макридиной, пока не выросла тут деревня с тем же названием.
Доброго старика Трефила люди тоже не забыли, не обидели. Полюбилась им зимница Трефилова, стали жаться да селиться по соседству с ней, а поселение назвали Трефилихой. На том же ручье почти два века стояла часовня Евлахина. Ее смолистые стены и кровля долго не поддавалась непогоде и времени. Лет, чай, сорок назад сломал ее один дошлый мужик на дрова, а подугольные камни увез под новую избу.
И кельи скитские в те же годы порушились. На их месте теперь березняк вымахал. Земляника-ягода высыпала, белые грибы повыскакали, звери лесные да птицы обжились. По зимним вечерам тем урочищем кумушка-лиса полюбила проходить, то бойко, как плясунья, по сторонам поглядывая, то важно и степенно, как игуменья.
Сказ про воеводу Хороброго
Мимо озера Светлояра, что навеки сокрыло Китеж-град, бежит речка потайная, родниковая, змейкой извивается. Подземная вода здесь на свет просится, зыбучие берега куполом выпячивает, прорываясь родниками да ключиками. В старину так и говорили:
— Это татарина Кибелека с войском от святой воды распучило! — И ставили люди у тех зыбунов и родничков кресты можжевеловые либо махонькие часовенки с иконками, на смолистых столбиках. И сейчас еще сохранились по той речке такие немудреные памятнички вековой старины. Да осталось еще сказание о том, как хана Кибелека с воинами от градкитежской воды распучило.
В то лихое лето, как на землю нижегородскую царек Арапша-азият с полчищами приходил, приставал к нему в помощники хан Кибелек со своим войском. После резни на Пьяной реке Арапша с Кибелеком добычу мирно не поделили и врозь разошлись. И вот, пока Арапша у Нижня Новгорода разбойничал, его дружок Кибелек, понаслышавшись о богатствах града Китежа, за Волгу переправился и в леса подался. Много ли, мало ли по лесам керженским проплутавши, выползло войско монгольское, как оболоко змеиное, ко граду Китежу.
Китеж-град в лощинке между холмами скрывался, за стенами частокольными, за воротами коваными, за валом и рвом. Промеж двух холмов, из озерка лесного темного, ручей спешил, под стену городную нырял и, пробегая городом, всех жителей поил и обмывал. Из подножия холмов роднички-ключики журчали, прохладные да чистые, и тоже в ручей сбегали. И такая в ручье вода к питью приятная и мягкая, горох да кашу часом в печи сваривала, а одежку всякую отмывала дочиста без золы, без щелока. Вот как подкралось ко граду войско Кибелеково, сразу стаей звериной кругом крепость охватило, обняло. И не стало в город ни входа, ни выхода. Не хотелось басурманам на рожон идти, под горючую смолу спины подставлять да под стенами погибать, и задумали они город измором брать. Ручей, что под стены городские бежал, в сторону отвели, родники-ключики позавалили да испоганили, чтобы жаждой нестерпимой китежский народ донять и на сдачу города понудить. Только не торопились китежцы монголам ворота открывать.
А на княжеском прокормлении в Китеже сидел Чурило-боярин, «Овсюг» по прозвищу, за бороду его жадную жиденькую, за пустую голову. Только о том у него и забота была, как бы свою мошну потуже набить, а чужая тощала бы. Тут как на беду люди, духом слабые, начали роптать да жаловаться на тяготы осадные, подбивая боярина на сдачу города. Проведал о том хан Кибелек и придумал подослать к Овсюгу своего человека, чтобы насулил он тому всякие татарские милости да почести, если мирно город сдаст. И обещал еще хитрый татарин родню боярскую в неволю не брать, богатства не отнимать и поделиться с боярином всем добром, что у супротивных горожан отберут. А Чурило-Овсюг только и ждал того. Ухватился он костлявой рукой за бороду свою жадную и, малость подумавши, посулил отдать Кибелеку город с горожанами без брани-побоища.
Но был воеводой в дружине китежской Прокопий Хоробрый роду княжеского. И была у него супруга, что лебедушка, да сын-отрок Зосимушка. Все богатство и радость у Прокопия было в малой да пригожей семье. И народ китежской всю семью воеводы жаловал. Как оденется свет Марьяна в сарафан из заморской парчи с рукавчиками малиновыми, в сапожки сафьяновые обуется, платком темно-синим накроется да сынка-княжича нарядит под стать себе! Ой, многие останавливались, чтобы вослед им поглядеть, подивиться счастью воеводы Прокопия Хороброго!
Как дошло до воеводы, что боярин Чурило замыслил Китеж татарам отдать, поднял он против труса своих дружинников и жителей китежских, отобрали ключи тяжелые от ворот кованых и замкнули изменника в его тереме.
Знал Прокопий Хоробрый, что не отсидеться от супостатов за стеной городской, и подготовил своих полсотни дружинников к битве неравной и смерти завидной. А стражами у ворот внутри Китежа поставил старца витязя, в сечах изрубленного, да сына своего, ростом чуть повыше меча. Знал, что на старого да малого рука своих русских людей не подымется, но не ведал воевода о том, что в ночь глубокую бежит из города к татарам предатель Чурило-Овсюг и ворогов осведомит, насторожит. Только успел воевода с рассветом своих воинов за ворота вывести, чтобы врасплох на татарский стан напасть, как орава басурманская с трех сторон на китежскую дружину напала. Долгой и жестокой была сеча под стенами града Китежа, но полегли тут все воины-защитники. А самого воеводу, сколь ни бился он, смерти искавши, татары живьем полонили и к своему хану Кибелеку привели.
Сначала Кибелек уговаривал Прокопия Хороброго, чтобы приказал ворота Китежа открыть, обещая за то живота не лишать и семью не отбирать. Но не согласился воевода на то позорное дело. Тут кровожадный хан другой мастью обернулся и приказал головорезам с живого Хороброго кожу сдирать и тело солью посыпать. Долго мучили воеводу татарские изверги. И когда почуял страдалец, что конец его близок, взмолился громко да истово от всего сердца мужественного:
— Силы грозные небесные, могучие силы подземные, возьмите меня на муки вечные нестерпимые, но сокройте от лютых псов родной Китеж-град! Сохраните лишь жизнь супруге моей и сыну-отроку!
До неба далеко, до бога высоко. А мать сыра-земля — вот она, под ногами. Услышала мольбу мученика, вздохнула тяжко, золотые купола китежские легонько качнула. И начал не спеша оседать Китеж-град в утробу земли. Затрещали стены дубовые, нестройно колокола загремели, и вдруг все в землю ухнуло. Колыхалось-пенилось на месте града Китежа яма-озеро, и медленно погружались в воду кресты золотые соборные.
Тут жизнь от Прокопия Хороброго начисто отлетела. А в стане Кибелековом тревога и смятение начались от страха великого. И вопило поголовно все татарское войско:
— Веди нас прочь от места колдовского да страшного! Не хотим погибать от колдовства русского!
Но хан Кибелек свою рать казнями устрашил, повиноваться заставил и приказал всем воинам коней и верблюдов из озера поити и самим пити и пити, насколь духу хватит, чтобы то озеро до дна осушить и Китеж-град разграбить. Подступили татары с конями и верблюдами к озеру новорожденному и навалились всей оравой воду пить да сосать без отдыха.
А предатель Чурило-Овсюг в тот час в ханском шатре от страха дрожал, но вспомнил о нем Кибелек и подмигнул подручным своим. Смекнули монголы, разыскали Чурилу, приволокли его за овсюжью бороду к озеру и начали головой в воду окунать, приговаривая:
— Ты насулил нам много добра и золота за шкуру свою шелудивую, так пей воду без отдыха, пока яма эта не высохнет!
Сам хан Кибелек тоже к озеру губами присосался. Поначалу так постарались басурманы, что малость убыла вода и показались золоченые кресты китежские. Завыли грабители радостно:
— Если кресты на русских домах золотые, то найдем там богатства и драгоценности неслыханные!
И снова сосать принялись. И день и ночь пили от восхода до восхода солнышка, но не убывала вода в озере, и снова скрылись кресты золоченые. Не знали злодеи, откуда озеро водой пополняется, не догадались, что из-под берегов и со дна источники струей били.
Отяжелели от воды татарские воины, верблюды и кони, да и самого Кибелека распучило. И отступило татарское войско от затонувшего града Китежа. Но, отойдя три версты, все поголовно попадали, у каждого пузо горой вздулось, изо рта, ушей, носа вода полилась. И столько из Кибелекова войска воды вытекло, что родилась тут речка лесная с зыбучими топкими берегами. Она, эта речка, и сейчас бежит и Кибелеком называется. А изменник Чурило-Овсюг столько выпил воды, что совсем не мог за татарами идти. Чуть от озера отполз, и начало его раздувать да пучить, и лопнул он тут как пузырь. И до сих пор на том месте мочажина-калужина, лягушачье житье.
Через сколько-то лет, когда народ попривык к новому Светлому озеру, что сокрыло Китеж-град, заметили в нем окрестные рыбаки-жители язя-язиху красоты невиданной с малым язем-детенышем. С боков и спереди оба золотистые, словно в парчу наряженные. Плавнички передние — как рукавчики малиновые, задние — что сапожки сафьяновые. А по спине покрывало темно-темносинее.
И такие эти язек с язихой были доверчивые, что часто к берегу к ногам людей подплывали, словно молвить хотели. Стали в народе поговаривать, что не иначе как это княгиня-воеводиха с княжичем в живых осталися, только в ином образе. Видно, услышали земля и небо голос Прокопия Хороброго и сделали, как он просил! Все рыбаки того края зорко глядели, когда невод по озеру тянули, чтоб тех диковинных язей на берег ненароком не вывести. А когда такое случалось, то спешно да бережно их в озеро опускали.
Но один рыбак, «Каравашко» по прозвищу, старый да подслеповатый, как-то оплошал. Насторожил он вершу прутяную в источине, что из озера в реку текла, а сам спать ушел. Утром пришел затемно, достал вершу, чует, рыбы полно, тяжелая. Да, не разглядывая, и вытряхнул всю рыбу в свой берестяной кузовок. Вытряхнул, на плечо навалил, отошел от берега сажен на семь, слышит, разнеслось над озером негромко, но доносчиво:
— Зосимушка! Где ты, чадо мое? Отзовись!
А из кузовка у рыбака за спиной как откликнутся голосом молодым отроческим:
— Здесь я, матушка, у рыбака за спиной, в коробушке берестяной!
Не ведал дед Каравашко, что накануне язек-княжич у матери погулять отпросился, за дружками в протоку уплыл да в вершу и угодил. И упал от страха старик на колени, а из озера вдруг волна плеснула, рыбака окатила, кузовок опрокинула. Другая волна старика на берегу распластала, кузовок раскрыла, а третьей волной его с пустым кузовом на поле выплеснуло. А все, что в кузовке было, назад, в глубину озерную унесло.
С того дня все рыбаки еще строже стали за своим уловом глядеть, чтобы вместе с рыбой свет Марьяну с отроком Зосимой не загубить. Долго жили в Светлояре язек с язихою, никого не опасаясь. На утренней заре по озеру оба разгуливали, а перед солнечным закатом один язек-отрок резвился, на самой средине озера плескался. Позднее, когда рыбаки стали жаднее да неразборчивее, язиха с язьком стали осторожнее: добрым людям показывались, а от недобрых в глубину скрывались. Лет, чай, сто назад зашли светлоярские рыбаки с неводом по шею в озеро, да, видно, и окружили неводом язька-отрока. Тут мать-язиха подоспела и начала рыбаков по щекам хвостом хлестать. Со страха бросили рыболовы невод, рыба и вышла вся. Вот какие истории случались на Светлом озере.
Здесь конец сказания про воеводу Прокопия Хороброго, его женушку Марьяну и сына-отрока Зосима. Если случится бывать на Светлояре, спросите умных стариков обо всем. Они покажут и речку Кибелекову, и поле Каравашково, и мочажину-калужину, где Овсюга от воды разорвало. А вот язька с язихой увидать стало трудно. Не доверяют они теперешним людям, не показываются!
Про лебедушку Настасью
Подбросили к воротам Зачатьевской обители младенца-подкидыша. Ночью с Волги холодом потянуло, озябло дитя и расплакалось. Услыхали его келейницы, в тепло внесли, отогрели и при себе оставили. А когда дитя-девчоночка повыросла, отдали ее в дочки на Верхний посад. Там, у приемных родителей, и выросла краса Настенка, умелица да искусница.
В те лета низовской землей князья Кирдяпы правили. Вот прослышали басурманы-ордынцы о неладухах между Кирдяпами и задумали Низовский Новгород захватить, людей полонить. Подошло войско татарское, вплотную ко граду подступило и кругом обложило. Но поднялись на оборону города все горожане и посадские, заодно с воинами. Вражий приступ отражая, из луков стреляли, копья метали, круглые бревна с горы на басурман скатывали. Запоет стрела — сразит ворога, просвистит копье — насквозь проткнет, к сырой земле пришьет, а бревно покатится — целую ораву, что траву, примнет! А тех, что по лестницам на стены карабкались, горячей смолой поливали. И сражались низовцы от старого до малого, помогая воинам. Но всех смелее и сноровистее в битве была Настенка-краса, посадского приемная дочь. И копья, и камни метала, и кипящей смолой супостатов поливала, билась, не жалея себя. Лицо и глаза ей огнем опалило, руки смолой обварило, но она, как здоровая, приступ врага отбивала.
Вот заметили это басурманы, сговорились и нацелились в девчоночку разом сорок самых метких татарских воинов. И упала Настенка, сраженная стрелами калеными. Горевать да плакать над ней было некогда, врачевать-колдовать некому. И то ладно, что не затоптали в суматохе намертво. Так и лежала до той поры, как вражья орава передохнуть отвалила. Ходила в тот час по крепости побирушка Улита, что в черной избе жила, лен пряла и полотна людям ткала. По крепости ходила, берестяной бурачок к губам раненых подносила — напиться давала, а мертвым глаза закрывала. Вот и набрела она на отроковицу-девчоночку. Лежит пластом со стрелой в щеке, руки смолой сварены, широко раскинуты, один глазок закрыт, другой кровью налился, чуть глядит. Склонилась над ней Улита, прислушалась и слышит, стучит в теле жива душа, постукивает. Змею-стрелу из щеки девчоночки выдернула, другую из шейки, третью из плечика. Закапала, побежала из ран кровушка. Тут веки у девушки дрогнули, руки землю царапнули, и глаза сквозь опаленные ресницы глянули. Перекрестилась старая Улита радостно: «Вот и жива душа!» Из сумы черепяночку достала, пошептала над ней и три раза глотнуть Настенке дала. И в свою черную избу на мостовую улицу на закукорках отнесла.
Побилась лбами о стены басурманская рать да и отхлынула от города без победы и добычи. Тихо радовались тому люди старые да разумные. А озорные да шальные головы во след татарам по-лошадиному игогокали, поросятами визжали, голышами себя показывали и срамили басурман всячески, кто как умел. Потом погибших хоронили, пропавших разыскивали. Только красу Настенку искать было некому. Погибли ее приемные родители от татарских стрел.
Долго искалеченная девушка в Улитиной избушке отлеживалась. Добрая старуха ее травами да наговорами лечила, а молодая кровь — своей целебной силушкой. И поднялась Настенка на ноги, бродить начала. Но остались на лице багряные пятна от ожогов, от стрелы дыра в щеке, правый глаз слезой исходил, а левый чуть-чуть на свет глядел. Обваренные руки позажили, но так и остались неприглядными. Стала Настя калекой непригожей, и глядели на нее люди со страхом и жалостью. И никто не признавал в ней ту посадскую девчоночку, что на весь низовский град красой и рукодельем славилась. Выйдет убогая на откос на Волгу взглянуть, а как завидит кого, словно мышка в норку, в Улитину избу схоронится, чтобы страшным видом своим людей не пугать. А при нечаянных встречах головку низко склоняла, дыру в щеке прикрывала либо стороной людей обегала. А руки свои старалась поджимать да под одежу прятать. И больно, и страшно ей было теперь встретиться с молодым князем Кирдяпичем. Не он ли при встречах, не сходя с коня, дорогие кольца да серьги к ее ногам бросал, нежно ягодкой да касаткой величал и княгиней обещал назвать. А теперь проедет мимо и оком не поведет, словно не девица, а карга убогая да болезная встретилась. Только в работе изнурительной и находила Настя себе радость и утешение от горьких дум. Одежкой обносились да обгорели горожане, от татарской беды обороняясь, и теперь спохватились посадской умелицы, что всем рукодельем служила. Куда запропала девка-краса, сноровистые руки, что полмира обшивала?
Но скоро разнеслась молва о безродной умелице на Мостовой улице. «Шьет одежку нарядную, строчит и полотенца, и рушники, и столешники, а малышам такие пошивает рубашечки, что как на опаре растут и хвори не знают!» И бабы, и молодухи, горожанки и посадские, — все узнали тропу к Улитиной избушке, где трудилась на радость людям добрая умелица. И радовалась старая карга Улита:
— Вот какая слава пошла о тебе, моя печальница! С твоими-то руками жить да не тужить, а что ликом стала уродлива, — о том забыть пора!
Вот повстречала Настя на улице молодого Кирдяпича. Борзого коня за уздечку ухватила, остановила и стала перед княжичем: «Вспомнит ли, узнает ли?» Удивился князек, по лицу тень пробегла, понахмурился. Глянул в лицо Насти-красы: из дыры в щеке слюнка бежит, глаза из-под опаленных век чуть на свет глядят, на лице от ожогов следы. И руки такие-то непригожие!
— Чего тебе надо, болезная?
Достал из сумки денежку серебряную и бросил к ногам ее, чтобы скорее коня отпустила. И поехал не оглядываясь. Задумалась Настенка, глядя во след Кирдяпичу: «Видно, не зря про таких, как я, в народе сказано: «Такой-то красе дорога к Волге по росе!» Сбежала сирота к Волге, у самой воды на берег присела, колени руками обняла. Сидит, пригорюнившись, склонив голову. А волжская волна, гуляючи, на берег набежала, играет камешками, плещется и шепчет, да как-то явственно: «Не мудрено девице утопиться, да от греха-позора не отмыться! И обмыла бы, и полечила недуги твои, жива девчоночка, да сама не чиста: издалека свои воды качу, грязь и хворобы людские к басурманскому морю несу. Но беги ты, резвая, до моего братца Керженца, что бежит из нелюдимых мест, непроходимых болот. Воды его чистые, неоскверненные, авось он вылечит!»
Очнулась Настенка от чудных грез, головкой тряхнула. «Это сама матушка-Волга со мной разговаривала!» И на рыбацкой лодочке-долбенке на левую, лесную сторону Волги переправилась. Шла день да ночь, а на заре вышла на речку дикую, что из болот воду брала и нелюдимыми местами текла. Подбежала к самой воде и молвила:
— Речка быстрая, нелюдимая, полечи, исцели недуги Настенкины, чтобы добрые люди ее не сторонились, не отворачивались!
В ответ зажурчала грустно речка Керженка, лаская струей ножки девушки: «Из ржавых болот свои воды беру, через леса хмурые к Волге несу, жажду диких зверей утоляю, корни дерев обмываю, а недугов людских не исцеляю. Беги-ка ты, девица, на восход солнышка, к сыну моему побочному Яру Ясному. Живет и полнится он родниками подземными, водами глубокими, волшебными. Он и снимет с тебя хворобу с недугами!»
Послушалась Настенка, косы пышные за спину закинула, подол в руку ухватила да и побежала на восход солнышка к озеру Яру Ясному. Бежала да бежала тропами звериными, местами нелюдимыми и прибежала к дивному озеру. Спит между холмами среди дубравы, не шелохнется, и все, что вокруг, глядится в него, как в зеркало. Сбежала Настенка ко бережку, озеру с колен поклонилась и погляделась в воду до дна-песка. Увидела себя такую непригожую и расплакалась. Потом в озеро по колени зашла и старые раны на челе сполоснула. Погляделась в воду и не поверила: пропали, сгладились рубцы на челе. Другой раз водой в лицо плеснула и глазки промыла. Глянула в воду — засияли глаза, как синие алмазы, здоровые и ясные! Третий раз водой плеснулась и по щекам ладошками похлопала. Погляделась в озеро — пропали дыры на щеках, разгладились щечки, стали, как бывало у Насти-красы. Только руки, сколь ни мыла их, остались неприглядными. Запечалилась девчоночка. Но дохнул ветерок, и заплескалось, зашептало озеро: «Не дано мне, девица, больше трех недугов исцелять, заживлять. Но беги ты на полдень к брату моему Яру Темному, он полон водами волшебными, авось и вылечит!»
Отняла Настя руки от лица белого, чистого, прислушалась: «Чай, не ослышалась, не померещилось?» А волны уже что-то невнятное у берега шепчут, булькают, да и затихли совсем. Поклонилась Настенка Ясному Яру низехонько да и побежала нежилыми урочищами, тропами нехожеными к Яру Темному. Бежала да бежала, в каждое озерцо и калажину гляделась, лицом любовалась, а на руки и глядеть не хотела. Вот с холма открылось ей озеро, мелкой волной играет, рябит, а кругом сосны вековые обнявшись стоят, шепчутся. Сбежала Настенка на кромку берега, чтобы волшебной водой руки помыть, присела на кочку передохнуть, да и задремала от изнеможения. И слышит, заговорило волнами озеро у самых ее ног: «А почто тебе, девица, руки белые да мягкие? Рукам умелым надо радоваться, на то и даны они, чтобы делом себя украшать, доброе слово от народа заслуживать, А руки белые — хилые да неумелые, руки мягкие — не сноровисты, руки нежные — ленивые. А твои-то руки — слава всему городу!»
Вот очнулась от грез девчоночка и молвила: «Видно, правду вещало мне озеро. Не буду менять руки умелые на нежные да белые, поспешу-ка в обратный путь!» Поклонилась, спасибо за науку сказала Яру Темному и побежала знакомой тропой к родной стороне, добрыми руками людям помогать. И наторили люди к избе карги Улиты тропу торную. Княгини да боярыни и те туда дорогу проведали. О чем ни попросят Настенку-рукодельницу, все исполнит быстро да сноровисто. Бабе сарафан сошьет к празднику — как цветок нарядится, мужику рубаху — не износить вовек. А столешники да рушники — всей семье на любование. Вот дошло до княжича Кирдяпича о сироте-умелице, и поехал он Улитину избу разыскивать. На улице Мостовой встретилась ему девица.
— Поведай, раскрасавица, где тут живет карга Улита с девкой-рукодельницей?
А сам от красы-девчоночки не в силах глаза отвести. «Ох, видал я где-то эти глаза синие, косы густые, стан породистый, чело высокое! Али во сне снилась когда?» А девчоночка спрашивает:
— А как звать-прозывать ту девицу-рукодельницу?
— По имени Настасья, а по прозвищу — «Дыра в щеке». — Это князь в ответ. А сам все хмурится, вспомнить силится, где видал он эту девицу.
— Видно, забыл ты, князь, как от недужной дурнушки на этом месте деньгой отбояривался?
И подала на седло Кирдяпичу ту самую денежку, что к ее ногам была брошена.
С того дня, как на колесах, дивные дела покатились. Повадился Кирдяпич бывать в избушке Улиты-побирушки, с заказами к Настенке-рукодельнице. Расшила ему Настенка чепрак под седло — друзей своих удивил. Боевой стяг шелками да золотом выткала — ворогов побил, победил. А рубаху-подкольчужницу не пробивало жало стрелы. Завидовали князю и други и недруги, а молва трубила о том, что от девки-красы — Насти-умелицы — везенье да счастье князю пошло. «Видно, правдива людская молва, что от нее мне удача идет!» — подумывал княжич и все чаще бывал на улице Мостовой, чтобы повидать Настенку-умелицу.
Неохотно и боязно было Насте-красе с такими руками в княжий терем княгиней входить, насмешкам боярынь служить. Но старая Улита ей бодринки придавала: «Лицом да станом ты краше любой боярышни, разумом — не у княгинь занимать, а по рукоделью таких еще не сыскать. Бояр да князей робеть — век в избе просидеть!»
А князь Кирдяпич и вовсе отговоров слушать не хотел. Кончилось тем, что суженой Настю назвал и свадебный пир созвал. Собрались, понаехали гости знатные, сели за столы пировать. Родные Кирдяпича невестино рукоделье на видных местах по стенам понавешали, искусством молодайки похваляясь. Только не гордилась за столом сама Настя-умелица, несмело на гостей глядела, ручки свои по привычке поджимая.
Но вот дошло до обычая, когда невесте всех гостей брагой обносить, к каждому с братиной подходить, подавать и принимать. Тут и увидели гости знатные, какие у невесты руки непригожие. Завопили истошно боярыни, глаза под лоб закатывая:
— Ой, какие руки-то у нее страшные!
Запокашливали с насмешкой бояре молодые и старые:
— Кхе-хе-хе! Ладно бы на лицо не смазлива была, а тут, гляди-ка ты!.. Ну и красоту княжич высватал. С руками неприглядными, шелудивыми! Да кто из таких поганых рук будет мед-пиво пить!
Замерла Настенка-краса, ручки поджавши, ждет, не замолвит ли за нее княжич слово твердое. Нет, не стукнул Кирдяпич кулаком по столу, не глянул грозно на охальников, а склонил свою бесталанную голову и молча слушал насмешки гостей. Тут Настя братину перед княжичем поставила, сама в сени выбежала. Храбрый конь, в походах бывалый, смело в Волгу вошел и, прядая ушами, на другой берег переплыл. И понеслась Настя-краса тропами звериными, урочищами нелюдимыми, лесами угрюмыми. И раным-рано прискакала к озеру Яру Темному. Сошла с коня усталого, ко бережку спустилась, на колени стала и тихо с озером заговорила:
Помолчала Настенка, прислушалась, не заговорит ли опять с ней Темный Яр. Но тихо было над озером. Только запоздалая ушастая сова бесшумно пролетела над водой и скрылась в камышах да конь борзой звенел уздечкой на луговине. Но вот по озеру вихрь пробежал, ветер дохнул, плеснула волна.
С этими словами Настенка в воду вошла и руки свои сполоснула по локоть. И пропали на руках страшные следы ожогов, стали руки чистыми, пригожими и белыми, как крыло лебедя. И так ей стало радостно, что заплескала она руками по воде и нырнула в темную глубину озера до бела песка. А вынырнула белой лебедью. И уже не руками, а белыми лебяжьими крыльями била по воде. Закричала, запела лебедушка, и полилась печаль лебединой песни над Темным Яром до самого синего неба.
В тот час князь Кирдяпич с дружками к озеру по следам коня прискакал. Но поздно одумался да спохватился князь. Выскакали на холм, видят, внизу озеро, темное да молчаливое. По зеленому берегу бродит конь оседланный, уздечкой звенит, в шелковых поводьях ногами путается, травой-муравой угощается. А среди озера лебедушка белая, лебединую шею дугой изгибая, себя оглядывает. И в небо кричит.
Запечалилась столица низовской земли. Пропала добрая умелица Настенка, краса и гордость города. Некому стало чудесные полотенца да столешники вышивать, счастливые рубашки да сарафаны шить. Понахмурились нижегородские люди на Настенкиных обидчиков и всех, кто на пиру над невестой насмехался, камнями да батогами побили, а самого Кирдяпича и совсем с княжения прогнали. Бежал он от народа в землю вятскую да там и сложил свою бесталанную голову.
Долго помнили горожане искусницу Настенку, княгиню несчастливую. Каждое лето ходили люди в глухомань заволжскую на поклон к озеру, что у глупого князя умную невесту отняло. И прозвали то озеро Настиным Яром. Потом это место люди для житья облюбовали, на холме поселение выросло. И теперь там люди живут. Знают, слыхали они сказку про лебедушку Настасью. Но никто не просит у родного озера чистоты и красоты своим трудовым рукам. Видно, не хотят менять на лебединые крылья свои руки-труженицы.
Сказ о коне Сарацине
Какое-то лето князь низовской земли сынка-воеводу женил. Как звали княжича по имени, о том забыто давно, а по прозвищу «Переметом» кликали, сумой переметной за неверность в словах и делах. На пиру во хмелю похвалялся воевода-жених, что супругу свою, как царьградскую царевну, будет рядить-одевать, пылинку с ее плечика сдувать и на позор никому не давать. А суженая Оринка, похвальбу Перемета слушая, не гордилась, не радовалась, только больше печалилась. Немало было на пиру шутов-скоморохов, песенников и музыкантов, все пели, плясали, на гуслях и дудках играли — гостей потешали, молодых славили. Но не было на том пиру любимца народного, витязя Бояна, певца, гусляра и воина.
До той поры, как судьба занесла его в земли низовские, служил Боян родному Новгороду Великому на Волхве-реке. С гуслями за спиной, с мечом в одной руке, с копьем в другой на боевом коне сражался он за Великий Новгород с любым ворогом. Идучи на брань, на гуслях играл и песни складывал, бодрил дух воинства, а после сечи пел во славу павших воинов. Да так играл и пел, что росла в сердцах воинов отвага на новые битвы. Вот дошло до новгородцев, что на низовскую землю опять ханы-басурманы грозятся, собираются пограбить, позорить, огнем спалить. И решено было на вече новгородском послать витязя Бояна с полком бывалых воинов на помогу низовцам против набегов басурманской орды.
Вот и привел свой полк витязь Боян в низовские земли, ко граду Радилову да Нижнему Новгороду. Под ним конь породы сарацинской, крови огненной, тонкогривый, да крутобедрый, крепкий да нестомчивый, темно-серый в яблоках. Доспехи на витязе царьградские, вражьим копьям и стрелам непокорные, а меч стали булатной, мастеров дамаскинских. И позавидовали и на коня, и на доспехи, и на оружие Бояново все бояре, князья и воины низовской земли, а пуще всех княжич Перемет, сынок князя нижегородского.
Ехали два витязя на борзых конях по горе крутой над Окой рекой. Под одним конь вороной, хвост трубой, шея дугой, под другим темно-серый в яблоках, с хвостом негустым, гривой жиденькой.
— Отдай коня, Боян! Взамен своего вороного отдам, да мошну серебра, да шубу соболиную. Али дружба моя не дорога тебе?
— Стыдно, негоже, князь, заветного коня у воина выманивать. Жди, когда по доброй воле тебя конем одарю!
Ни коня, ни доспехов царьградских, ни меча булатного сарацинского не отдал честной воин Боян княжичу нижегородскому, и затаил князь Перемет зло и зависть неугасимые. Вот узнал он, что Оринка-краса, густая коса, глаза синие, дочка боярская для Боянова коня чепрак расшила серебром да золотом, и послал ее отцу сватов с самыми дорогими подарками. Не устоял боярин и отдал дочь за постылого.
Только успела молодая жена Перемета первенца княжича родить, как со полуденной стороны на низовскую землю беда надвинулась, и ударили нижегородцы в вечевой колокол. Собрались на вече князья и бояре, люди посадские да торговые и порешили послать князя Перемета с полками на бранную встречу с басурманами, что на Новеград грабежом идут.
Вот и выступили полки нижегородские и радиловские берегом вверх по Оке на битву с ханом-татарином. При одном полке витязь Боян на Сарацине, боевом коне, бесстрашном в кровавых боях, с легкой гордой поступью в мирный час. Вышли полки в поход, но витязь Боян в тот раз на гуслях не играл и песен не пел. И ехали воины, понурив головы.
Через сколько-то верст князь Перемет указал шатры разбить и станом стать. И начал тут с дружками да боярскими сынками пировать да бражничать, не спеша на встречу с татарами. Вот и спросил князя-воеводу смелый витязь Боян, туда ли он дружину ведет, не ошибся ли путем-дорогой, что привел войско не с басурманами воевать, а отлеживаться да пировать. Старые да бывалые воины за Бояна стояли. Струсил Перемет и посулил с рассветом на встречу с ханом поспешить. А в сердце псином недоброе затаил. И в ночь-полночь, когда все воины по шатрам крепко спали, князек со своими подручными на сонного Бояна ватагой напали, мечами жестоко порубили и бездыханного к берегу Оки уволокли. Тут они витязя в дубовый челн бросили и оттолкнули от берега. А сами к шатрам вернулись и как неповинные спать полегли.
А челнок сам собой по Оке поплыл и плыл до рассвета. Утром вверх по Волге ветерок побежал, в устье Оки заглянул и одинокий челнок к правому берегу прижал. На счастье тут монахи невод тянули, приметили челнок, Бояна на гору в кельи унесли, в чувство привели и отстаивать от смерти принялись. Трудно поправлялся Боян. А когда смерть поборол да все о себе монахам поведал, сказал ему игумен обители благовещенской:
— Негоже тебе у нас оставаться, под боком у врага заклятого. Отправим мы тебя к отцу Досифею, в леса заволжские. Житье там сытое, привольное. А как скупаешься в святом озере, раны затянет и жилы срастутся!
И помогли монахи Бояну укрыться в обители на далеком Ясном озере, за лесами керженскими. Двенадцать иноков, старец Досифей тринадцатый хлеба сеяли да рыбачили, по диким ульям мед и воск добывали. За русских богу молились, черемис в православную веру заманивали. Все тринадцать иноков воины бывалые, в сечах изрубленные. По сердцу им пришелся послушник-витязь Боян. Лечили травами да целебной водой из родников-ключиков. И раны зажили, и жилы срослись, а без костылей никуда! А песни запел. Любили монахи послушать песни Бояна, и вспоминалась им буйная молодость и ратные подвиги под стягами великих и малых князей.
А князек Перемет, черное дело свершив, Бояновым конем, мечом и доспехами завладел и повел полки на встречу с ханом-басурманом. Дошли до края низовской земли. Народ тут нерусский пошел, но как стали на отдых да разбили шатры, на диво воинам понесли вдруг местные жители в стан княжеский мед-брагу хмельную да яства разные. Загуляло, запировало тут нижегородское воинство, чресла распоясавши, мечи в кучу сваливши, перепились все и заснули до того крепко, что на рассвете татары-вороги копьями да мечами с трудом добудились. И сдался Перемет хану-татарину бесславно со всей дружиной и оружием. И не только сдался, а с ханом побратался и заодно с ним на московскую землю грабежом пошел.
Но от Москвы хана с Переметом москвичи попятили. Тогда они в теплые края подались, малые народы грабить. Больше года Перемет помогал татар-хану мирные земли и племена зорить. Перенял веру татарскую и обычаи и за службу свою получил от хана пайцзу[1] и ярлык на княжение в земле низовской. Но когда вернулся Перемет с остатками дружины в родной край, то княжить и править ему было нечем. Пока он одному татар-хану помогал, другой хан походом на нижегородскую землю ходил, город-крепость разорил, а людей перебил да в полон угнал. Не миновали татарской неволи и Оринка с первенцем княжичем. И не нашел Перемет в родном городе ни семьи, ни двора своего княжеского. По лицу низовской земли словно черная хворь-чума прошла. Повсюду были побоища, кости да пожарища, только хищному зверю да воронью привола была.
На изнуренном коне Сарацине метался Перемет из конца в конец низовской земли, не находя покоя и отрады. Выходили из лесов уцелевшие люди, заново обживали разоренный край, во всю мочь трудились на полях, на промыслах. Но не слышал от них князь ни единого доброго слова. Чтобы угодить ханам, принялся Перемет с низовцев дань собирать, в черемисские земли грабежом ходил. И каждый раз, отправляя в орду дань, просил хана Басмана выкупить и вернуть ему Оринку с первенцем сыном. Так прошел еще целый год, на ханской службе растерял Перемет остатки чести и совести, и возненавидел его народ нижегородский, Малые ребята и те кричали вслед:
— Перемет-сума! Перемет-сума! Бабу на бляшку сменял, сына за ярлык продал! У витязя Бояна коня украл!
От народной ненависти только больше свирепело сердце отступника. Наконец стало известно ему от татар, что жена и сын за Хвалынское море проданы и вернуть их никак нельзя. Совсем жутко стало князю Перемету на свете жить. От почета и семьи ничего не осталось, от богатства один конь да и то чужой. Не переставал Сарацин по ночам призывно ржать, хозяина ждать, прислушиваясь тревожно. И есть стал плохо, и на князя злился, гляди того, загрызет.
Начал понимать Перемет, что обманулся он в беспутной жизни, да поздно спохватился. Сиротливо висел среди дубовых столбов вечевой колокол Нижня Новгорода. Давно не служил он народу нижегородскому. Но собрались голытьба, да смерды, да молодцы из вольницы, ударили в колокол, созвали народ и ополчились поголовно против княжеской шайки притеснителей. От восставшего народа переметнулся князь с остатками дружины в Радиловград. Но и там ему пятки жгло, со всех сторон боязно. Вот и подался он в глухомань заволжскую, в земли вятские да черемисские. Сначала по-за Ветлугой ходил, черемис зорил, притеснял, потом на Вятку пришел. Показался ему народ там доверчивым да простецким и задумал было тут на княжение сесть. Но недаром исстари сказано, что народ вятский прост, да хватский. Так испокон веков было. И сказали вятичи князю Перемету:
— Из Новгорода Великого дошло до нас о том, какой ты есть. А теперь и сами видим, чего ждать от тебя и татей твоих. Уходите всей шайкой восвояси да подале, пока головы носите. Наша Вятка не так глубока, как Волга, но местечко поглубже для вас найдется! — После того последние воины и приспешники от Перемета отшатнулись и по сторонам разбрелись. Понял князь, что звезда его бесталанная закатывается. Просыпались совесть и раскаяние. Совсем не нужен был князь народу, что держался дружбы с Великим Новгородом. Как загнанный волк метался он по вятской земле, не находя ни отдыха, ни пристанища. Дурные люди под конец своей жизни к молитвам да к богу прибегают и ответ за свои дела на бога сваливают. Так и князь Перемет порешил:
— Поеду на Волгу, пусть казнь принять, да от своих нижегородцев. Постригусь в монастырь, прощение у бога вымолю!
Спешит лесной дорогой всадник на заморенном коне. Конь серый в яблоках, сединой тронутый, ушами шустро прядет, перед непогодой всхрапывает. Воин спит либо дремлет, поводья на лугу бросил, сидит в седле нахохлившись мокрым вороном. Вот расступился лес, впереди полько зеленое, весенним закатом освещенное. За польком холмы, от леса кудрявые, а с холмов волнами бежит вечерний звон. Очнулся всадник, поводья в руку взял. Замолчали колокола, зато песня послышалась суровая. Заржал тут Сарацин призывно, радостно, ушки навострил и шагу прибавил. И посмеялся над ним всадник невесело:
— Али ячмень да пойло почуял, собачья кровь!
За польком среди холмов показалось озеро, тихое да ясное, как голубой алмаз на челе земли. На холме над самым обрывом монастырь за частокольной стеной. Избы-кельи из вековых сосен срублены, берестом покрыты, крошечными оконцами на свет глядят. Храм без куполов, без луковиц, приземистый, но крест свой тяжелый, как голову, высоко держал. И весь он в озере, как в щите стальном, отражался. Загляделся Перемет и тишиной заслушался. И тишина, и глушь, но давно сюда молва дошла о том, что князь Перемет не только злодеем стал, но перенял и веру и обычаи басурманские.
У монастырских ворот к дубовому столбу-коновязи князь коня за повод привязал и в ворота тяжелые кулаком постучал. Сквозь решетку кованую видно было, как инок на костылях к воротам приковылял. Застучали засовы дубовые, запоры потайные, ворота распахнулись и, пропустивши гостя, глухо захлопнулись.
В тот вечер князь Перемет за всю свою жизнь впервые с колен поклонился не хану-басурману, а русскому и о всех своих злодеяниях рассказал. Надолго задумался старец Досифей, игумен иноческой обители. Потом сказал:
— Перед богом боязно принять тебя в послушники, но будем за тебя небеса просить. Пойдем на вечернюю молитву, князь!
Собрались во храме чернецы-иноки, свечи да лампады засветили и за спасение раба божия молиться начали. После тихой молитвы, когда все для земных поклонов на колени опустились, инок на костылях один молитву запел. Любо было слушать калеку Зиновия. Могучей серебряной струной звенел и гремел его голос под сводами церковушки и показался Перемету знакомым. Но он усердно молился и кланялся вслед за монахами. Вдруг почудилось всем, что загудела и содрогнулась земля. От страха замерли монахи, а Перемет приказал:
— Молись, молись! Это мой конь у коновязи копытом в землю бьет!
Снова зашептали молитву иноки, земные поклоны отбивая, а инок Зиновий пел не переставая. С новой силой содрогнулась земля под храмом, онемели от ужаса иноки. А конь Сарацин, заслышав родной голос гусляра Бояна, бил в землю копытом, ржал и рвался с коновязи.
— Молись, молись! — грозно успокаивал монахов князь. — Это мой конь в землю копытом бьет!
Но монахам было уже не до молитвы. Только Зиновий, певец и воин, пел все громче и вдохновеннее, и не вдруг поняли князь и монахи, о чем он поет перед алтарем:
— Так-то вы молитесь за спасенье души моей! — в бешенстве закричал Перемет, наступая на иноков, и меч свой из ножен выхватил. Приготовились к смерти старцы, не дрогнул, не обернулся послушник Зиновий. Грозным укором звучал в храме его мощный голос:
А конь Сарацин все безумнее рвался у коновязи. Все злее бил в землю могучим копытом. И поползла вершина горы вместе с монастырем вниз, в озеро. Потухли в храме свечи и лампады, затрещали стены, тревожно и жалобно зазвенели колокола. Рванулся тут Сарацин, порвал оброть ременную, отпрянул от обрыва и заржал страшно, призывно и радостно. Расступились воды глубокого озера, пустили гору-оползень с монастырем и сокрыли все, словно ворота наглухо захлопнулись. Только волна-страшилище прокатилась до дальнего берега и с шумом вернулась вспять. И успокоилось все на века.
Не один раз прибегал умный конь туда, где в последний раз слышал голос хозяина. Прислушивался к озеру, бил копытом по краю обрыва, отваливая глыбы земли. Но молчали холмы и озеро. Только одинокий лебедь-кликун плавал и призывно трубил как в рог серебряный. Долго Сарацин не забывал это место и навещал его, пока не погиб от истощения и тоски в дремучих лесах керженских. То место-урочище издревле Конем прозвано. Так оно и сейчас называется. А на Светлояре с той поры и до недавних лет каждой весной появлялся лебедь-кликун с певучим серебряным горлом. Храбро и горделиво выгнув шею, плавал он по озеру и, никого не докликавшись, улетал в полуночную сторону.
Вот какая сказка ходила, бывало, по народу вокруг Светлояра и града Китежа.
Оборотни хана Бурундая
Издавна гадают охотные люди о том, как и откуда взялись на Руси гончие псы, прославленные костромичи, от всех других пород отличные и по масти, и по стати, и по голосу. А по мертвой злобе-смелости к зверью дикому им, костромичам, и на свете равных нет и не было. Это они испокон веков русским звероловам в охоте служили, хищных зверей из непролазных чащоб под стрелу и копье выживали, на конных борзятников выставляли. И недаром завидовали на старинных русских гончих знатные иноземные охотники.
В народных сказках и преданиях сквозь выдумку завсегда правда просвечивает дорогим самосветом-камешком. Без нее, без правды, и выдумка-сказка не живуча. В этой сказке за вымыслом тоже правда кроется. Правда о том, как умные смелые псы от злого хана-татарина на службу к русскому пареньку-зверолову перешли. И помогали отроку не только зверя добывать, но и очищать родную землю от вражьей нечисти.
За ратью Батыевой, что на Русь грозным оболоком двигалась, бежали псы монгольские, твари злые и сварливые, до русских людей злобные. Привадили их завоеватели на славян нападать, бежавших пленников настигать и терзать. А за кибиткой хана Бурундая, что особо от Батыя шел на земли суздальские, ехал ханский ловчий Гуннхан, зверолов и наездник лихой. Под ним конь крепкий да выносливый, при седле лук тугой да колчан со стрелами, а у правой ноги копье боевое жалом в небо поглядывало. И бежали слева от коня две собаки, как песок пустыни желтые, словно волки высокопередые, с глазами раскосыми кровавыми. Тех псов невиданных получил хан Бурундай в дар от владыки всех гор поднебесных, что сверкали вершинами на самом краю монгольской земли. Были они умны, бесстрашны и смекалисты, и не зря одну собаку звали Халзан, что обозначало орел, а другую Гюрза — змея. Они выгоняли под копье Гуннхана свирепых барсов и кабанов, заганивали и душили матерых волков, но, в отличие от других монгольских собак, никогда не трогали человека. И тщетно ловчий Гуннхан в угоду своему хану старался пробудить в них злобу к людям, которых татары пришли покорять. Словно тайный голос удерживал Халзана и Гюрзу от нападения на русских людей. И вот теперь, на земле Руси монголы-воины смеялись над ханскими собаками:
— Испортились собаки! Любого зверя берут, собак наших душат, а уруса в овчине боятся!
По указке хана ловчий Гуннхан стал собак очень худо кормить и голодных напускал на русских. Но исхудавшие от голода Халзан и Гюрза отказывались нападать на людей.
После одной битвы с русскими задумал хан Бурундай устроить пир для своих знатных воинов. Для ханского котла дичина понадобилась. И задрожала под копытами монгольских коней приволжская земля. Сам Бурундай с оравой охотников за добычей выехал, скакал по перелескам и крепям, выскакивал на опушки, топтал озимые поля. Халзан и Гюрза, худые до ужаса и страшные своей силой и смелостью, по сторонам рыскали, чутьем и смекалкой в звериных следах разбирались. За ними ловчий Гуннхан с трудом на коне поспевал. Вот прихватили псы свежий олений следок, через болота да чащобы зверя с подвыванием погнали и с глаз и со слуха ушли.
Долго монголы по лесу метались, к шумам лесным прислушивались, к следам звериным приглядывались. Но по лесам да по болотам скакать на коне не так привольно, как по полям да степям. И вернулся хан Бурундай со своей свитой к своим шатрам без добычи. А ловчий Гуннхан волей-неволей остался, из конца в конец по лесу метался, прислушивался, принюхивался и после долгой скачки по крепям да долам разыскал собак у крутояра широкой реки. Синей сталью просвечивала она сквозь вековой сосняк, неудержимая и полноводная от осенних дождей. Русский отрок, склонясь над поваленным оленем, искусно работал ножом, свежуя добычу. А поодаль Халзан и Гюрза лежали, голодными глазами подачки ждали, от голода и холода вздрагивали. Тут Гуннхан подскакал, рысьими глазами нацелился и пролаял визгливо:
— Мои собаки — моя добыча!
И с того визга басурманского осыпался с деревьев первый снег-пороша, притихли пичужки и зверушки лесные. Но не испугался паренек в полушубке овечьем:
— Мой зверь! — спокойно ответил отрок. Ногой на голову оленя наступил, выдернул из оленьего горла стрелу окровавленную и татарину ее показал. И все деревья кругом согласно кивнули мохнатыми вершинами. Долго молча с ненавистью глядел Гуннхан на русского охотника, что добычу монгола-воина осмелился оспаривать. Но глазом не моргнул отрок. Молча и ловко вспорол оленью тушу, достал сердце и печень и собакам пополам разделил. Но не успели Халзан с Гюрзой проглотить добычу, как их свирепый хозяин взвизгнул яростно:
— Мои собаки — моя добыча!
И зверски ударил собак своей татарской плеткой-нагайкой.
С воем и рычанием собаки отпрянули в сторону, а Гуннхан бешеным конем на зверолова наступал. Но всего-то на три шага отступил паренек, а стрела его сама собой в тетиву уперлась, и лук тугой напружинился. И придержал тут Гуннхан своего коня. По тому, как, не дрогнув, жало стрелы в глаза ему глянуло, понял воин бывалый, что не промахнется этот урус, не спасут его от русской стрелы ни конь, ни копье, ни сабля татарская. И начал незаметно коня назад осаживать, да так, словно бы сам конь, ярясь и храпя, от отрока пятился. Тут паренек проворно пудовый кусок от оленины отрубил и в торбочку свою положил. На остальное рукой махнул:
— Вот теперь все твое!
И, не торопясь, но с осторожной оглядкой, с луком и стрелой наготове, скрылся в сосновом бору. Напрасно Гуннхан улюлюкал вполголоса, посылая собак на отрока. Халзан и Гюрза не подчинялись его приказам, отказались нападать на человека и не двинулись с места. Когда шаги зверолова стихли вдали, татарин соскочил с коня, разрубил оленью тушу на части и приторочил к седлу. И в поводу повел нагруженного скакуна из хмурого леса. Собаки долго глядели вслед Гуннхану, потом нехотя поплелись за ним, продрогшие, худые и голодные.
У ханской кибитки Гуннхана ждали сам Бурундай и другие знатные воины. Слуги расседлали коня, оленину внесли в кибитку, а седло с войлочным потником и чепраком оставили сушиться на ветру, потому что все было пропитано оленьей кровью. После того монголы забрались в жилье, наварили оленины и стали пировать. А голодные Халзан и Гюрза бродили вокруг, дрожа от холода, и наконец задремали, прижавшись к войлоку кибитки.
Монгольские воины ели оленину, запивали бузой и хвалили удалого зверобоя Гуннхана, его коня, и собак, и меткое копье. Потом и Гуннхан расхвастался о том, как трудно ему было поспевать лесом за зверем и собаками, какой был этот олень выносливый и хитрый и как долго он не попадал под его копье! И снова все гости хвалили охотника, и его коня, и ханских собак. Только в конце пира Гуннхан вспомнил о собаках. Он сидел покачиваясь и бормотал одно и то же:
— Надо бы накормить собак. Кто накормит собак?
Но все гости и слуги хана Бурундая опьянели от сытой еды и бузы, и никому не хотелось выходить из теплой юрты на холод. Скоро хозяин и все гости войлочной юрты заснули. Люди спали в теплой кибитке, а Халзан и Гюрза сиротливо жались друг к другу и тоскливо глядели в звездное небо. Но не жаловались, не выли.
Над землей поднялся круглый месяц, стало еще холоднее, и собаки стали бродить, подыскивая место потеплее, чтобы свернуться клубком и заснуть. И набрели на брошенные у входа в кибитку седло и чепрак, пропитанные кровью оленя. Псы начали жадно вылизывать кровь, Гюрза из чепрака, а Халзан из войлочного потника. Лизали и лизали, но голод не унимался, становился невыносимее и заставлял собак прихватывать зубами то, что лизали, отрывать кусочки потника и чепрака, проглатывать. Скоро они съели все: Гюрза чепрак из черной верблюжьей шерсти, а Халзан войлочный потник, пропитанный оленьей кровью. Когда от седла и чепрака остались только отдельные клочья, собаки свернулись на земле клубочками и, зябко вздрагивая, заснули под холодным небом с круглым месяцем посередине.
Спали в теплой кибитке монголы-воины, спали и собаки Бурундая, а желтый холодный месяц и редкие звезды глядели на них сверху. Халзану и Гюрзе грезилось, что они преследуют дикого зверя, и сквозь сон вполголоса взлаивали и подвывали. Кругом было светло, холодно и жутко. Месяцу сверху хорошо видно было, как постепенно менялась окраска спящих собак. Халзан, съевший окровавленный потник, становился краснее и краснее, и наконец шерсть на нем стала совсем багряной, как застывшая кровь. У Гюрзы же, съевшей чепрак, спина и бока темнели и темнели и стали совсем черными, словно покрылись черным блестящим чепраком. Только лапы и голова оставались желтыми.
Кончилась ночь, месяц опускался за край земли, с другой стороны показалось солнце, а собаки все спали, и шерсть на них отливала по-новому: у одной багрянцем, у другой крылом ворона. Выспавшись, вышли из кибитки монголы. Гуннхан хотел оседлать коня, но на месте седла увидел только клочья чепрака и войлока. А две совсем незнакомые собаки сидели поодаль и, словно насмехаясь, глядели на монголов желтыми раскосыми глазами. Одна собака была вся багряная, другая черноспинная и желтомордая. Удивились Бурундай и Гуннхан и все монголы.
— Откуда взялись эти странные псы? Или это оборотни?
А Гуннхан закричал:
— Это они сожрали мое седло!
— Это русские лесные колдуны подменили моих собак! Надо расправиться с ними! — крикнул хан Бурундай.
Монголы повскакали на коней и стали гоняться за Халзаном и Гюрзой, стараясь затоптать, захлестать нагайками. Сначала собаки спасались от конников, бегая среди кибиток, но на помощь хозяевам подоспели сторожевые псы. Увертываясь от копыт и нагаек, собаки-оборотни успели так рвануть двух-трех монгольских псов, что они поползли умирать. Тут монголы начали метать в них копья и стрелы, пытались поймать арканами. «Здесь только наши враги!» — подумали Халзан и Гюрза и спорым волчьим махом поскакали к дальнему лесу.
Позади гикала, визжала и лаяла погоня во главе с ловчим Гуннханом, он кричал, призывая расправиться с собаками-оборотнями, которые осмелились съесть его седло. Но зубчатая зеленая стена приближалась, обещала укрытие, и гонимые псы стремительно скакали к ней. Когда же они вынеслись на последний холм, увидели перед собой широкую полноводную реку, а спасительный лес темнел на том берегу.
Немало ханские собаки переплыли рек и ручьев, глубоких и стремительных, пока служили Гуннхану, но никогда им не приходилось пересекать таких могучих потоков. А шум погони приближался, рос и подгонял.
— За р-р-реку! — рявкнула решительная Гюрза.
— За р-р-реку! — согласно рыкнул Халзан.
Вода была страшно холодна, по ней плыла ледяная каша-шуга, но для собак была одна дорога — плыть к синеющему лесу на той стороне этой могучей реки. Две собаки плыли друг за другом, над водой видны были только желтые головы да кончики хвостов, а набегавшие волны безжалостно их захлестывали и топили.
— Не вернуться ли? — спросила Гюрза, плывшая сзади.
— Никогда! — отрубил Халзан.
Тогда Гюрза, стыдясь минутного малодушия, прибавила ходу, обогнала и поплыла передом. Собаки уже доплыли до середины реки, но другой берег казался очень далеким.
— Не вернуться ли? — спросил Халзан.
— Никогда! — ответила Гюрза.
Теперь Халзан обогнал Гюрзу и поплыл передом. Так ободряя друг друга и меняясь местами, собаки подплыли к другому берегу реки.
Встревожена деревенька Соколиная у лесной стены над рекой. Изо дня в день с той стороны Волги далекий говор ветром доносится, чужой, басурманский, злое лошадиное ржание, а воронье летит и летит туда, как на званый пир. И совсем не радостную весть принес вчера Савелий Обушок, зверолов, воротившись с правого берега:
— За Волгой татары!
Всю ночь соколинцы скарб да жито хоронили, скотину в дебри прятали, а с рассветом затаились на берегу в ракитнике, с копьями, топорами да рогатинами. Недолго ждать пришлось. Вот с той стороны к реке конные басурманы повыскакали, за двумя собаками гонятся в диком порыве затоптать, захлестать. И тут удивились соколинцы невиданному:
— Две собаки через Волгу плывут!
Посуматошились, погалдели монголы и ускакали. Опустел правый берег, а к левому подплывали невиданные, странные псы. И когда вышли они на берег песчаный да отряхнулись от ледяной воды, шатаясь от усталости, никто не грозил им ни копьем, ни топором, ни нагайкой. Люди в овчинной одежде манили собак к себе ласковым жестом и словом, бросали кости, кусочки хлеба и мяса. Но Халзан и Гюрза теперь не доверяли людям. Только на малое время они замерли на месте, словно изучали взглядом толпу людей, один багряный, как сгусток крови, другая черноспинная, желтомордая. И рысцой скрылись в прибрежных зарослях. А соколинцы подивились дикости собак:
— Басурманской породы!
С того осеннего дня Халзан и Гюрза прижились на левой стороне Волги, в краю исконных русских звероловов, но не подходили к жилью человека, а рыскали по полям, лесам и долам, добывая себе пропитание охотой на диких животных. Только в очень холодные ночи они подходили к деревне и ночевали в ометах соломы, чтобы с рассветом скрыться в лесу. И дивились смерды-звероловы неслыханным голосам двух собак, когда заливались они на разные голоса, заганивая добычу до изнеможения, насмерть. Казалось, не две, а дюжина собак ревет, поет и плачет в первобытном лесу.
А зверолов Савелий Обушок, после того как в лесу с татарином из-за добычи поразмолвился, на промысел за Волгу не ходил. Много дней и ночей в своей избушке за работой сидел, наполнял колчаны стрелами верными, убойными, чтобы хватило тех стрел и на зверей лесных, и на монголов лихих, алчных на чужую добычу, на добро русское. Чернеет под месяцем деревенька Соколиная, словно шапка черная, на холм нахлобучена. Только в крайней к лесу избушке оконце светится. При свете лучинки выскабливает отрок стрелы кленовые, наконечники подлаживает и камушком остро затачивает. А старая бабка Удола, дремоту пересиливая, внуку помогает, лучинку сменяет, чтобы огонек не угасал, не чадил, а ровненько светил. Не сидит без дела старая Удола. Каждую новую стрелу под жаром очага калит, выдерживает, чтобы лучинка, древко кленовое, было крепче кости сохатого, не гнулось, не ломалось бы, пронизывало и зверя и басурманина насквозь, как игла острая. А перед тем как в колчан положить, стрелу клочком барсучьей шкуры с пеплом протирала досветла, не переставая напевать, ворожить, внуку в охоте удачу сулить, на супостата-басурманина погибель накликала. Ой, неспроста она прошлой ночью на берег Волги выходила в час самый полуночный, босая, с волосом распущенным и, дрожа от стужи, богам своих предков молилась, глядя в лицо месяцу. И Волге, и земле кланялась, и месяцу со звездами, просила наслать напасть на ворога, что зверем напал и добычу отнял у отрока, внука сиротского. И теперь при свете лучины колдует старая с верой жестокой в свою ворожбу.
После морозов уснула Волга, прошла холодная метель, засверкали под солнцем снега. Спит перед рассветом деревенька Соколиная. Но рано поднялся Савелий Обушок и на промысел собирается. Вот вышел он из избушки погоду узнать, на небо взглянуть — долго ли до солнышка, не выпала ли за ночь переновка свежая. Прислушался. А из синего леса, морозом заколдованного, набежал волнами звон заунывный, переливчатый да знакомый такой! Сразу и слухом и сердцем понял зверолов, что это голоса собак доносятся, грозные да певучие, идущих по звериному следу. Собрался Обушок скоро-наскоро и пропал, растаял в утренней морозной мгле. Только стежку-дорожку оставил на снегу голубом до опушки лесной. Трудно стало Халзану с Гюрзой зимой пропитание добывать. Не скоро добыча в зубы давалась. Вот и в этот морозный день с зари до полудня молодой лось-сеголеток водит их за собой по трущобам лесным, на отстоях рогом и копытом смело обороняется. Устали собаки, но и зверь дышит тяжело, мечется, топчется на гриве сосновой. С двух сторон на него голодные псы наседают, норовят в горло вцепиться, повалить, задушить. Но не сдается лось, из последних сил за жизнь стоит. Вдруг безжалостный посвист стрелы. И не успел сраженный зверь повалиться, как Халзан и Гюрза пиявками повисли на нем, вцепились в горло. И только когда подоспевший Обушок приколол лося ножом, обе отпрянули в сторону.
Зверолов распахнул лосиную тушу и бросил собакам по куску внутренностей. Псы с жадностью проглотили подачку и на какой-то шаг подвинулись ближе. Отрок свежевал зверя и бросал помощникам куски парного мяса, а они подвигались все ближе и ближе, дрожа от непривычной сытости после длительного голодания. Шерсть на них дыбилась и горела под солнцем багрянцем и золотом, янтарные глаза отливали кровью.
— Ух, как к зиме-то вырядились! — полюбовался Обушок на густые псиные шубы. И опять бросил им по куску от лосиной туши.
Когда солнышко присело за лес, охотник взвалил на спину тяжелую ношу и направился к дому. Халзан и Гюрза не раздумывая пошли за ним. Усталые, истощенные лишениями и голодом, но сытые, они шли за человеком, к жилью человека. Над Соколиной уже были сумерки, густые, хмурые и морозные. Пока Обушок в сенцах сваливал ношу, Халзан и Гюрза разгребли лапами соломенную завалинку и, прижавшись к стене, улеглись ночевать. И прежде чем задремать, оба глубоко-глубоко вздохнули.
После победы над суздальской ратью, начало Бурундаево войско шайками по сторонам рыскать. Пронюхали монголы, что у заволжских звероловов в клетях и амбарах дорогих мехов полным-полно, шкурок бобровых, куньих да горностаевых. Вот дождались они, когда Волгу льдом заковало, и начали заглядывать в леса костромские да ярославские. Только мало было хану от того радости. Возвращались его воины из заволжских лесов без добычи дорогой, зато со стрелой в животе.
В ту морозную ясную ночь Халзану и Гюрзе снилась охота на страшного зверя, и сквозь сон они рычали и взлаивали. Теперь собаки не страдали от голода, налились еще большей смелостью и силой и готовы были насмерть постоять за себя и своего хозяина. Не зря по вечерам из избушки Удола выходила, сытно собак кормила и костлявой рукой по загривинам ласково трепала, бормоча наговоры. Потом по снегу босая за околицу выходила, руки к тощей груди прижимала и, глядя на месяц, колдовала.
При свете месяца чернела избушками деревенька Соколиная, да Волга спала под белой простынью. Мороз изредка потрескивал. А вот и первый петух прокричал. Не тревожьте собаку, пока она спит. Так в древней пословице сказано. Халзан и Гюрза проснулись вдруг, когда нанесло на них запахом монгольского конника. Вот дробный хруст снега под копытами, чуть слышный звон сбруи и оружия. Собаки тихо зарычали и поднялись. Вот два конных монгола свернули от околицы к избушке Обушка.
Халзан и Гюрза теперь их видели и чуяли, они узнали людей, которые кормили их только побоями, не позволили съесть куска от добычи, пытались затоптать конями, захлестать нагайками. Инстинкт и разум подсказывали псам, что эти серые всадники на побелевших от инея коньках несут зло и смерть их хозяину-зверолову, его жилью и всему селению. И шерсть на собачьих спинах поднялась дыбом от хвоста до затылка. Это были уже не собаки, а умные бесстрашные звери, и, словно звери, неприметно перешли они с освещенной месяцем завалины и затаились у темной стены избушки. И когда конники приблизились вплотную к хижине, с рыком бросились на врага.
Увертываясь от сабельных ударов, собаки кусали всадников за ноги, а лошадей за ноздри и сухожилия. Кони храпели и пятились, монголы визгливо кричали. С луком в руках выскочил из избы Обушок, узнал незваных гостей, и две стрелы, одна за другой, пропели со смертельной угрозой. Хрипя и визжа от ужаса, монголы повернули коней и скрылись в облаке снежной пыли. А Халзан и Гюрза отлично поняли, за что так ласково хозяин трепал и гладил их рукой по бокам, и оба глухо рычали, глядя в сторону ускакавших врагов. И поняли, и запомнили. А старая Удола вынесла им по большому куску оленины.
Целыми днями стал Савелий Обушок в лесах пропадать, только изредка навещая Соколиную. К вечеру в избушку придет, а к рассвету Удола ему все для нового похода припасет и собак сыто-насыто накормит. А монгольские воины, что совались в глубину заволжских лесов разведать да пограбить, возвращались в стан Бурундая без добычи, зато с наконечником русской стрелы в животе, на лошадях с порванными ноздрями и сухожилиями. И рассказывали такие страхи, что жутко становилось ханам оставаться на русской земле. Собаками-оборотнями прозвали монголы Халзана и Гюрзу. Они с ужасом рассказывали, что не собаки, а багряный кровожадный барс и черная змея с желтой головой кусали и рвали монгольских коней и всадников. А самое страшное было в том, что следом за оборотнями поспевал урус-невидимка с боевым луком и колдовскими стрелами. И пока всадники оборонялись от двух страшных зверей, русский стрелок пробивал им горла каленой стрелой.
Никто в Соколиной не догадывался о тайных подвигах Обушка. Только бабка Удола стала еще усерднее колдовать над каждой стрелой, а по ночам босая, с распущенным волосом выходила за околицу поклониться земле и месяцу, вымаливать удачи внуку в опасном промысле. Обушок возвращался всегда с добычей и делился свежинкой с земляками-соколинцами. И снова до рассвета уходил бродить по лесным тропам и дорогам, искать встречи с запоздавшими и отставшими монголами-грабителями. Халзан и Гюрза послушно шли за спиной хозяина, до той поры как попадался свежий след двух-трех всадников. Собаки уже чуяли, что ненавистные им люди совсем рядом, и знали, как угодить своему повелителю. Схватка всегда была недолгой, но страшной. Глубокой ночью Обушок пробирался к монгольским становищам и терпеливо ждал запоздавших воинов, затаившись в засаде при дороге. Халзан и Гюрза с двух сторон прижимались к нему, а он гладил их, ласково успокаивая:
— Тихо, милые, тихо, родные!
И прижимались умные собаки к зверолову ещё плотнее, чуть слышно рычали и мелкой дрожью дрожали в ожидании схватки.
И с каждым днем воинам хана Бурундая все страшнее казалась лесная Русь, с ее собаками-оборотнями и стрелками-невидимками. Да задумался и сам хан Бурундай. Если на подступах к заволжской земле неведомый враг истребляет монгольскую рать, то что ждет ее там, в глубине лесной заснеженной равнины! Подумал да и повел свое войско к открытым стенным просторам, где всегда было привольно зоркому монголу-татарину. Подальше от собак-оборотней и урусов-невидимок.
А отрок Савелий Обушок продолжал очищать родную землю от остатков вражьей нечисти. Долго шел он следом за ратью Бурундая, и немало монгольских воинов оставил лежать на русском снегу. И только после того как выследил и приколол стрелой самого ханского ловчего, повернул зверолов в родные края. За ним, ступая по-волчьи, след в след, шли верные и храбрые псы, багряный Халзан и черноспинная Гюрза.
Собаки, переплывшие Волгу, долго и верно служили своему хозяину. Осталось в лесном Заволжье предание о том, что от ханских собак, бесстрашных Халзана и Гюрзы, и пошла порода старинных русских гончих, ярославских и костромских. Прославленная порода собак багряной и чепрачной масти, с громовыми, но музыкальными голосами, с мертвой злобой к дикому зверю, собак, которые никогда не нападают на человека, если им не угрожают татарской плеткой-нагайкой. Вывели эту породу не какие-либо знатные и богатые охотники, а простые звероловы, как Савелий Обушок, жившие в курных бревенчатых избах.
И до сих пор среди русских гончих встречаются собаки, очень похожие на своих прародителей Халзана и Гюрзу: багряные, либо черно-чепрачные, как змея-гюрза. Такие собаки в одиночку и парой преследуют любого зверя и волчью стаю, напевая свою безумную песню и не задумываясь о том, что, может быть, идут на верную смерть.
И до сих пор в трудные минуты они поступают так, как их далекие предки при переправе через Волгу. Когда один из гонцов пропоет малодушно: «Не вернуться ли?» — другой обязательно гавкнет: «Никогда!» И гон по следам зверя польется с новой силой. А в это время их невезучий хозяин, с двустволкой в руках прозевавший зверя, уныло трубит и трубит в охотничий рог, посылая напрасные призывы в холодные сумерки.
Сказание о Керженце
Это было в пору, когда на заброшенных славянских идолищах истлевали забытые деревянные боги-истуканы, а на смену им уже появлялись убогие церквушки на смолистых столбах с дубовым крестом на островерхом шатре. Суровый воин Чингиз еще не проскакал по Руси на своем страшном коне, сотрясая землю от края до края. Северные племена славян пахали и сеяли, охотились и рыбачили по соседству с племенами мордвы и черемис, разделенные только полосами бесплодной земли либо лесами и болотами. Тогда-то и родились такие русские приметы-пословицы: «С мордвой водиться грех, зато лучше всех!», «У черемис только онучки черные, а совесть белая!» Люди разных племен жили по-разному, имели разные обычаи и молились разным богам, но старались жить мирно, пока их князьков не одолевала корысть и зависть.
Жили между Волгой и Ветлугой прилежные труженики-хлеборобы. Охота, рыболовство да пчелки дикие от их рук тоже не отбивались. Сами пахали и сеяли, лен да жито выращивали, сами одежку и обувку мастерили. Старый скряга Ширмак тем племенем управлял и всему головой был. Слово его было законом неписаным, как Ширмак скажет, так оно и будет. И это не потому, что он был умнее всех, а своим богатством да упрямством осиливал.
А у охотника Черкана все богатство по лесу гуляло. Что луком да копьем в лесу добывал, тем и семью свою кормил, одевал. Жена охотницкая Кокшага да три дочки по дому хозяйничали — горох да кисель варили, лен пряли, холстину да онучи ткали — да еще успевали богатею Ширмаку в поле помогать. Потом маленький Чур в семье вдруг появился. По такому случаю да по обычаю надо было всех соседей за праздничным столом дичиной лесной досыта накормить. Вот и пошел Черкан в лес за добычей, но повстречал на тот раз медведя и себе и рогатине не по силам. Затрещала рукоять копья-рогатины под медвежьими лапами, и погиб тут охотник заодно со зверем.
Вдова Кокшага сама медведя свежевала и всех соседей на поминках по мужу тушеной медвежатиной накормила. Челюсти медвежьи в печи распарила, клыки из них подергала, до блеска очистила и в потайное место спрятала. А шкуру медвежью выдубила, выскребла и мехом кверху на полу разостлала, чтобы малютке Чуру не холодно было зимой на полу на четвереньках ползать.
Но на удивление всем маленький Чур до наступления зимы научился через порог избы переползать и по задворкам ползать. Заберется в крапиву, в бурьян, исколется весь до красноты, а не плачет, только почесывается. Мать Кокшага и дивилась, и бранилась, и шлепками сына угощала, но дочкам наказывала:
— Глядите за братцем, берегите, он один мужик растет на всю нашу семью! Без мужика в доме жить худо!
Пяти лет Чур с большими парнишками в лосиные косточки-бабки играл. Как нацелится костяной битой да ударит по кону, так и разлетятся из-под биты все бабки, как град, на удивление всем взрослым: «Ну и рука у парня! Ну и глаз!»
Пока сын подрастал, вдова Кокшага сама охотой промышляла, но не всегда удачно, поэтому бывали для семьи голодные дни. Тогда Чур уходил в соседний бор на ягодники, а за ним трусцой плелся черный, как уголь, щенок, тоже голодный. Два малыша уходили в лес с каждым разом все дальше, к нехоженым местам. Большие тяжелые птицы с белыми носами и красными бровями с шумом взлетали с брусничников и рассаживались на деревьях. Чур уже знал, что взрослые охотники добывают этих птиц стрелой из лука, особенно в пору, когда они так глупеют и глохнут от весенней радости, что можно достать и заколоть копьем. А самые хитрые его сородичи, такие, как скряга Ширмак, настораживают особые ловушки из тяжелых плах, которые придавливают птицу к земле. Только он, маленький Чур, пока не знал, как добыть такую тяжелую, но осторожную птицу. И малыш, и молодой песик подолгу глядели на дичь, совсем забывая о голоде. Вдвоем они ходили по сосновым гривам и брусничникам, щенок принюхивался к птичьим следам-набродам, а мальчик с любопытством разглядывал места, где кормились эти птицы, клевали мелкие камешки и купались в пыльных ямках. И вот однажды, вернувшись из леса, Чур попросил сестер отрезать от своих кос по самой длинной пряди волос. Дивно это показалось дочкам Кокшаги, стали допытываться:
— Скажи, Чур, что ты задумал?
Но брат не выдавал своей придумки и настойчиво просил у сестер по пряди волос. Помогла мать Кокшага:
— Порадуйте братца, он что-то доброе задумал!
Когда сестры отрезали по пряди самых длинных волос, Чур сразу принялся за дело. За один вечер он свил дюжину тонких волосяных шнурков, а с утра ушел в лес. Он пропадал там целый день. А через три дня поутру сбегал в сосновый бор и принес двух темных птиц с белыми клювами и красными бровями, да таких тяжелых, что горбился под тяжестью ноши. Это было очень вовремя, семья голодала, потому что мать Кокшага давно ничего не добывала, работая на поле у скряги Ширмака, который не спешил с ней расплачиваться своим хлебом. Ободренный удачной охотой Чур догадался свить еще дюжину шнурков, но уже из конского волоса, и снова на целый день уходил в лес. И через каждые два-три дня приносил по тяжелой ноше больших краснобровых птиц. А мать радовалась, что растет удачливый сын.
Слава о добычливости маленького Чура разнеслась по всему племени. Старые охотники задумались, не из их ли западней Кокшагин парнишка достает дичь. А мальчик все бродил по своим потайным урочищам и каждый день возвращался с добычей. И вот как-то под вечер в избу Кокшаги пришел старый Ширмак. Пытливо разглядывая мальчика, спросил, как это он ухитряется ловить столько осторожной дичи, что приносит ее из леса целыми ношами? Чур был мал, но у него хватило ума ответить, как ответил бы взрослый:
— Да, мы теперь не голодаем. Походите за мной, поглядите, сами увидите!
Недоверчивые старики-охотники уже следили за Чуром, чаще обычного проверяя свои западни, но их ловушки никто другой не тревожил. Свои же силки-петли на дичь мальчик настораживал так неприметно, что их трудно было увидеть. Завистливый Ширмак дольше других старался разгадать искусство удачливого птицелова. Часто по вечерам он бродил по лесу, пытливо приглядываясь ко всему на своем пути. Один раз он запоздал, а сумерки были пасмурные и ветреные. Старику стало жутко одному в темном лесу, и подумал: «Все злые духи к ночи проснулись и сердятся, надо поспешать домой!»
Ширмак уже выбирался на знакомую тропинку, как вдруг его больно, до искорок в глазах ударило по переносице, дернуло за ногу, и он упал. Не один раз старик вскакивал, пытался бежать, но его дергало за ногу, и он опять падал. Наконец Ширмак как-то вырвался и что было силы побежал к дому. Не добегая до селения, он стал кричать и звать на помощь, а у своего дома упал и принялся стонать и охать. Долго он так притворялся и дурачился, и только когда собрались все соседи, рассказал, как в лесной чаще на него напал злой ночной дух, ударил по переносью дубинкой, схватил за ногу и пытался утащить за дерево. И не будь он, Ширмак, таким хитрым и ловким, не вырваться бы ему от коварного лесного врага!
Старик совсем расхвастался, и многие ему верили. Чур тоже был тут. Он разглядел на ноге старого враля обрывок волосяной петли и смекнул, что тот невзначай наступил на сторожок силка, деревце выпрямилось и ударило его по носу, а петлей захлестнуло за ногу. После того как Ширмак, притворно охая, уплелся в избу, люди тоже пошли по домам, рассуждая о том, что лесные духи знают, кого надо подогом стукнуть и за ноги подергать. И что не надо было этому скряге завидовать сиротской семье.
С того дня старые охотники перестали дознаваться, как Кокшагин малыш добывает дичь. А маленький Чур, как умел, помогал матери в охотничьем промысле, и это было очень кстати, потому что Кокшага часто недомогала от старости. Так прошло сколько-то лет, и вот, когда Чуру минуло тринадцать годков и ему под силу стало носить отцовский лук и копье, Кокшага повесила ему на шею медвежий клык на шнурке — для удачи и счастья и отпустила на промысел.
Была глубокая осень, звери и птицы уже оделись по-зимнему и стали осторожными, поэтому Чур отправился на далекую Дикую реку, в крепи багряных дубняков и сонных хвойных боров, в край непуганых диких животных. Много дней охотился Чур на той Дикой реке, ночуя у костра под крутыми берегами. Раньше, на охоте вокруг дома он пользовался самодельным луком, поэтому отцовское оружие ему казалось поначалу тяжелым. Чтобы пустить стрелу, он опирался концом лука в землю и стрелял с колена, а колоть копьем смог только обеими руками. Но скоро он привык, и потом, когда вернулся домой, его маленький лук показался игрушкой.
Умение делать луки и самоловы и здесь, на Дикой реке, пригодилось Чуру. В первые же дни охоты он насторожил на звериных тропах лучки-самострелы и западни-самоловы с приманками, а сам бродил по окрестным лесам, выслеживая и стреляя зверков, которых находил и облаивал верный Уголек, теперь уже взрослый пес, но по-прежнему черный как уголь. Дикая река с каждым днем становилась для Чура роднее, место ночлега у костра в глинистом крутояре стало обжитым домом, а лесные урочища, речные берега и песчаные радовали тишиной и безлюдьем. Ни голоса, ни следа человеческого. Он засыпал под ночной шепот леса и тихий ропот речной струи, а просыпался от утреннего мороза, звона первых льдинок, от гомона запоздавших перелетных птиц. Питался Чур свежей дичиной, поджаренной на костре, и только изредка доставал из мешка хлебный сухарь либо колобок. Умный и верный Уголек надежно помогал ему в охоте, а по ночам чутко дремал у костра, изредка поднимая голову и глухо рыча в сторону подозрительных шорохов, чтобы хозяин не чувствовал себя одиноким.
Чур вернулся домой уже по снегу, изголодавшийся по хлебу, усталый, но здоровый и сильный, с полным мешком дорогих звериных шкурок. Мать Кокшага встретила его с удивлением и радостью:
— Вот как помог тебе медвежий клык! Видно, не напрасно я над ним пошептала!
Она сняла с плеч сына мешок и вытряхнула добычу на пол, чтоб полюбоваться. Вслед за мехами из мешка выпал плоский треугольный камень величиной с гусиную лапу, с дыркой в одном округлом уголке. Чур поднял его, подал матери:
— Посмотри, мать, какую диковинку нашел я на песках Дикой реки!
Пока сестры любовались куньими и собольими шкурками, мать Кокшага внимательно разглядывала камень. Это был кремневый скребок, орудие ее пращуров. Долго и упорно, до изнурения и пота трудился человек, чтобы из камня сделать острый и удобный для работы скребок. Не одну ночь при неровном свете костра он склонялся над работой, тер камень о камень, шлифовал его до блеска о жесткую звериную шкуру, протирал концами своих длинных волос.
— На этом камне есть рисунки! — воскликнула Кокшага. — Вот лисица с пышным хвостом, а здесь, на другой стороне, женщина с длинными волосами. Наверное, это сама хозяйка скребка. Она выскабливала им шкуры зверей, снимала бересту для кровли, разрезала мясо, потрошила дичь и рыбу. Вот ведь как ловко, камень так и липнет к руке!
При этом мать Кокшага очень живо показывала, как умело действовала скребком та неведомая хозяйка кремня. Потом она отвернулась в самый темный угол хижины, пошептала над скребком, поплевала и подула в разные стороны и подвесила его на шею сына, рядом с медвежьим клыком.
— Носи этот камень с изображением лисицы и женщины. Думается мне, что женщина — хозяйка всей Дикой реки и всех диковинных камней, что там есть. Она принесет тебе удачу и в охоте, и во всяком другом деле!
В тот же вечер Кокшага отнесла все добытые сыном меха богатею Ширмаку, чтобы расплатиться с ним за старые долги. Хитрый старик сразу подобрел и посулил и впредь давать хлеба под будущую добычу. Кокшага чуть осмелела, похвалила Ширмакову дочку Рутку и намекнула, что с радостью пустила бы такую расторопную красотку в свой дом, когда ее дочки выпорхнут из родного гнезда и оставят ее одну с сыном. На это ничего не сказал ни сам Ширмак, ни его старуха. Тогда Кокшага откланялась и ушла.
Пока мать отлучалась, Чур отдыхал у горячего очага. Слова матери о хозяйке Дикой реки не выходили из его головы. Он снял с шеи шнурок с медвежьим клыком и скребком и долго разглядывал рисунки, высеченные на камне. Ему даже казалось, что на скребке остались следы пальцев хозяйки, а на ее шее изображено ожерелье. Контуры лисицы были неясны, но головка ее выглядела как живая. Наконец, когда женщина начала улыбаться и расплываться, а лисица принялась заметать хвостом свои следы, Чур крепко заснул со скребком в руке и опять видел хозяйку Дикой реки. Она шла по колени в воде вверх по реке, одетая только в юбочку из звериной шкуры, а ее длинные волосы прядями лежали на загорелых плечах. Женщина шла быстро, пересекая реку на перекатах, изредка оглядывалась и манила Чура за собой. Длинные тени деревьев падали на воду, в реке дрожало солнце, а крутые берега краснели рябиной и первыми багряными листьями.
Утром Чур рассказал матери о том, что видел во сне.
— Разве не говорила я, что она принесет тебе счастье? Но не торопись, Чур, впереди зима. Ты говоришь, что видел ее идущей вверх по реке, а по берегам краснела рябина? Значит, надо идти в конце будущего лета. А рыбу в реке ты видел? Это хорошо, что не видел, рыба во сне — к худому!
Этой зимой Чур охотился по ближним лесным урочищам и речкам. Бродил за Угольком по куньим следам, обухом топора стучал по дуплистым деревьям и, когда потревоженный зверок, покидая теплое гайно, замирал на самое короткое время на ветке, чтобы оценить опасность, Чур успевал его сбить меткой стрелой. В конце зимы ходил по сугробам на лыжах за сохатыми, ночуя там, где застанет ночь, и наконец закалывал утомленного зверя копьем под неистовый лай собаки. И с каждым днем охоты Чур наливался удалью и силой, ловкость его родила удачу за удачей к тихой радости Кокшаги:
— Это она, хозяйка Дикой реки, и ее скребок помогают тебе в добыче, посылают удачу и счастье. И как хорошо, что я догадалась повесить тебе на шею медвежий клык для отворота злых духов и всяких напастей!
Сыну очень хотелось сказать, что носить на шнуре у голой груди каменный скребок и медвежий зуб не очень-то приятно. В мороз от них холодно, а на охоте, когда надо бесшумно подходить к зверю, приходится придерживать амулет рукой, чтобы камень и клык не стучали друг о друга. Но он промолчал, чтобы не огорчать Кокшагу. Вот так и прожила осиротевшая семья зверобоя Черкана до той весны, когда Чуру перевалило за четырнадцать лет, а сестры повыросли и на них уже начали заглядываться парни. Но Рутка, дочь Ширмака, была самой миловидной и смелой девушкой в племени. И не зря вдова Кокшага таила думку о ней: «Вот как поразбегутся дочки в разные стороны, научу Чура, чтобы Ширмакову дочку в хозяйки и помощницы позвал. А мне, старой вороне, и на покой пора!»
В середине лета, когда поспела в лесу всякая ягода, а пчелиные соты наполнились медом, началась у медведей бродячая пора, шальная и драчливая. Одна буйная медведица повадилась в селение заходить, страх на людей наводить. Старых и малых по избам загоняла, ловко от собак обороняясь, по селению хозяйкой бродила. И не успевали люди за топоры да рогатины взяться, как она в лесу пропадала. Всем понятно стало, что дело худо кончится, примется озорной зверь за людей да скотину.
Первой в лапы медведицы попала корова богатея Ширмака. Разгневался старик, не столько на зверя, сколь на незадачливых следопытов:
— Видно, не стало в нашем племени смелых охотников, чтобы встретиться с медведицей! Теперь она, крови отведавши, за людей примется!
И принялась бы, но не успела. Пока Чур оттачивал отцовское копье-рогатину, Кокшага кожаный мешочек сшила, скребок да медвежий клык в него положила и на грудь сына повесила, бормоча слова непонятные против злых духов и оборотней. Потом в раздумье посидела, пригорюнившись. «Сын молод и неопытен, хватит ли силенки, чтобы сразить копьем медведицу?» Пошла в сени, достала из угла железину, на пятиконечный якорек похожую, очистила ее от ржавчины и сыну подала.
— Это придумка моего отца, твоего дедушки. С этой распоркой он на любого медведя смело ходил. Только надо уметь зверя на дыбы поднять и втолкнуть ему в пасть эту железину. Как схватит он ее в ярости, так не выплюнет! А хозяйка Дикой реки в смелом деле тебя не забудет!
По совету матери Чур обернул коварную распорку ветхим тряпьем, взял копье да лук охотничий и отправился ждать медведицу. Вот спряталось на ночь солнышко, и пришла крадучись к зарезанной корове косолапая гостья, есть-пировать, пир довершать. Тут Чур из засады в медведицу стрелу метнул и во весь рост поднялся, чтобы видел зверь, кто ему боль причинил. И пошел навстречу ревущей медведице с копьем-рогатиной в правой руке, а в левой коварная железина.
Редко бывает добрым дикий зверь медведь, а тут, со стрелой в боку, совсем в ярость ударился, заревел и на дыбы поднялся. Не испугался Чур и ловко всунул острую распорку в пасть медведицы. Как сундук, захлопнулись ее челюсти. Поздно поняла косолапая, что не за руку цапнула охотника. Тут острая рогатина ей под ребра впилась и достала до самого медвежьего сердца.
С восходом солнышка Чур принялся за свежевание заколотой медведицы, а Кокшага высвободила из пасти зверя распорку, промыла ее, насухо протерла и спрятала до поры до времени. Поглядеть, как Чур снимает шкуру со страшного зверя, собрались и старые и малые. Только скряга Ширмак сидел дома, словно в селении ничего не случилось. Зато его жена Ширмачиха шепнула дочке:
— В когтях шалой медведицы большая приворотная сила! Иди, Рутка, выпроси у этого парня коготок медведицы!
Вот прибежала девушка, протиснулась сквозь народ, обступивший охотника, выбрала время и тихонько сказала:
— Послушай, Чур, не подаришь ли мне один коготок, хотя бы с медвежьего мизинчика?
В ответ улыбнулся Чур:
— А на что тебе, Рут, коготок с мизинчика? Я дам тебе по самому большому когтю с каждой лапы!
Когда радостная Рутка прибежала домой, мать Ширмачиха три когтя спрятала в лубяную укладку, а над четвертым долго шептала наговоры и заклинания. Потом подала дочке с таким наставлением:
— Береги, не теряй! Как полюбится умный да пригожий парень, шепни ему поласковее, а коготком за одежку поближе к сердцу задень. Навек присушишь паренька!
Рутка надежно спрятала медвежий коготок в рукав и каждый день думала, кого бы тронуть коготком. Из всех парней девушке больше всех по сердцу был Чур, но ей казалось, что он и без приворота от нее не уйдет. К тому же она знала, что этот сирота хотя и прославил себя смекалкой и смелостью, но чем-то не нравился ее родителям. Но испытать приворотную силу коготка Рутке не терпелось. И вот при встрече с парнем она подходила к нему поближе, шептала на ухо ласковое слово и незаметно задевала медвежьим коготком поближе к сердцу. Так перебрала она многих парней, и каждому из них думалось, что только ему девушка пошептала на ухо такое хорошее и заманчивое. И каждый спешил поскорее вновь ее увидеть.
Как грачи на иву, слетались парни к дому богатея Ширмака. Каждый думал, что только с ним была приветлива девушка, все наперебой похвалялись удалью и силой, совсем одурели и делали разные глупости. Но Рутка парням была уже не рада и сердилась, что среди них не было охотника Чура. И вот, как-то встретившись с ним, она шепнула ему что-то ласковое, но непонятное, погладила левой ручкой по щеке и незаметно задела медвежьим коготком против сердца. Она ведь не знала, что Чур носит на груди амулет-скребок, подарок хозяйки Дикой реки, и совсем не заметила, как коготок наткнулся на что-то твердое. Может быть, поэтому приворотная сила тут не подействовала, и она так и не дождалась Чура на свое крыльцо.
Рассердилась и расстроилась Рутка. «Этот нелюдим Чур только и знает пропадать в лесу. Ну и пусть! Было бы на то мое желание, вот задену коготком поглубже, тогда придет и будет день и ночь сидеть на моем крыльце, как пугало воронье!» Так, гневаясь на Чура, девчонка разогнала всех парней и посулила облить помоями из поганого ведра того, кто появится на ее крыльце.
А лето быстро, как на колесах, катилось к осени. Уже взматерели молодые тяжелые тетерева и храбро шли в западни. Притихли, отъедаясь к зиме, медведи. Забеспокоился, забегал по урочищам сохатый олень-лось в непонятной тревоге безрассудной поры. Люди убрали с полей хлеб и ссыпали в бревенчатые житницы. Домашний скот еще гулял по воле, но не уходил далеко, прижимался к селению. В эту пору спелой рябины и морозных утренников в сердце Чура поселилась тревожная радость, манившая его оставить дом и спешить в нехоженые лесные крепи на Дикой реке. И когда он заговорил об этом с Кокшагой, она согласно кивнула головой и помогла сыну собраться в далекий путь.
Неприметными звериными тропами, обходя топи, гари и болота, Чур вышел к устью Дикой реки, к тому месту, где она вливалась в другую реку, широкую и полноводную, с крутым берегом в туманной дали. Здесь, при слиянии двух потоков, он посидел на песчаном холме среди старых приземистых сосен. Этот недолгий отдых у водных просторов, неоглядная даль безлюдной реки укрепили в нем дух следопыта и стремление идти и идти, увидеть невиданное, найти неведомое. Чур поднялся и пошел в сторону мокрых ветров, откуда приходила ненастная и холодная погода. Вверх по Дикой реке. Чур шел то правым, то левым берегом, пересекая реку вброд на мелких перекатах. Впереди него бежал храбрый пес Уголек, а кремневый скребок и медвежий клык в кожаном мешочке под одеждой у самого сердца мерно стучали друг о друга в такт его спорым шагам.
Местами берега были так круты и обрывисты, что надо было идти кромкой воды, опасливо поглядывая вверх, на нависшие над рекой подмытые деревья и глыбы земли. Совсем безлюдная Дикая река жила своей жизнью. С берега на берег перелетали доверчивые кулички. Большие хищные рыбы таились у самого берега, подстерегал добычу, и, потревоженные шагами охотника, с плеском скрывались в глубину. Огромные серебристые рыбы с темной спиной стадами поднимались из глубокого плеса и, лениво шевеля плавниками, дремали под солнцем. К осени вода в реке стала совсем прозрачной, и в глубине можно было разглядеть табуны широких горбатых рыб, а ниже, у самого дна, призрачно извивались длинноносые осетры и стерляди с частыми горбинками на спине. Чур знал, что они жирны и вкусны, а вместо костей у них только хрящ, и он добыл одну себе на ужин метким броском копья. Потом выбрал место для ночлега и развел огонь.
Черный и блестящий, как ворон, Уголек дремал за спиной хозяина, глухо рыча, когда кто-то нарушал покой Дикой реки. Вот сверху по течению вдруг накатилась волна, зашуршала, во мраке, лизнула песчаный пологий берег. Это косолапый хозяин — медведь вплавь перебрался на другой берег своих владений. Слышно было, как он отряхивался от воды и, шлепая лапами, побрел по мелководью. Чуть пониже, за излучиной, целая семья сохатых шумно спустилась с крутояра, вброд перешла реку и удалилась, щелкая копытами. Усатый сом, водяной ночной разбойник с жуткими змеиными глазами, разгуливал по плесу, выбирая себе добычу. В страхе мечется рыбная молодь, выскакивает из воды и падает серебряным дождем. Вот филин молча пролетает низко над берегом и пропадает во тьме. Только по писку потревоженных птиц можно догадаться, куда он направился.
Чур лежал у костра с луком за спиной, обнимая руками копье, и сквозь дремоту грезил будущим днем. Завтра к вечеру он доберется до той излучины, где охотился прошлой осенью и нашел кремневый скребок хозяйки Дикой реки. Там, в крутом берегу, он выкопает себе землянку для будущей осенней и зимней охоты, запасет дрова для очага, заранее подготовит западни на пушных зверков. Да постарается добыть оленя и навялить мяса и для себя, и для собаки, и для приманки, чтобы потом напрасно время не терять, в короткие зимние дни, а только охотиться. Потом он уйдет домой до той поры, как по-зимнему оденутся пушные звери. С этой думой он заснул.
Перед рассветом ему приснилась хозяйка Дикой реки. Она шла вверх по реке, изредка оглядываясь, и рукой манила его за собой. Низкое вечернее солнце заливало обрывистые берега, купалось в реке и слепило Чуру глаза. Вот она вброд перешла перекат, еще раз оглянулась и махнула рукой. Но Чур не видел, куда пропала женщина. Помешала эта солнечная полоса на реке. Она и разбудила его. Утреннее солнышко, играя с рекой, будило и бодрило все живое.
До полудня Чур прошел все знакомые урочища Дикой реки — отмели, излучины и крутояры. Вот и обжитый берег при впадении в Дикую реку небольшой речки. Здесь он прошлой осенью не одну ночь провел у костра. А вот у этого обрыва в песке у самой воды попался ему на глаза каменный скребок. Теперь он оглядывал берег, выбирая место для жилья-зимницы. Речной берег здесь был словно обрезан, весенняя вода подточила его и сделала почти отвесным. Вверху различался нетолстый слой песка, пониже — мощный пласт зеленоватой глины с серыми и темными прожилками, а ниже опять были напластованы желтые, красные и белые пески. По верхнему песку и глине проходила, перемежаясь, тонкая лента сероватой земли, а местами она была черной как уголь. Камней не было, только из одного серого пятна торчал небольшой серо-зеленый камень. Чур тронул его копьем, и он свалился к ногам. Это был каменный топорик с круглым отверстием для рукоятки. Рукоять сгнила, камень остался.
Какое-то время Чур постоял в раздумье. «Вот здесь я и выкопаю себе жилье. Это хорошо, что тут глина, она не обсыпается!» Потом сложил на берегу сумку и оружие, вытесал из сухого дуба острую лопатку и начал вкапываться в стену берега. До темноты он успел выкопать столько, что можно было ночевать не под открытым небом. Чур перенес в пещеру свои пожитки, развел внизу у входа огонь и заснул в обнимку с отцовским копьем-рогатиной. Уголек свернулся клубком у костра и чутко оберегал новое жилье хозяина. А с рассветом Чур снова работал топором и лопатой. Чтобы потолок землянки был надежен и не обрушивался, он сделал его острым сводом, не подрубая древесных корней. А в стене у входа выкопал очаг-печурку со сквозным выходом для дыма.
Потом Чур сколько-то дней бродил по лесным угодьям, припасая западни для зверей, а на малой речке, что впадала в Дикую реку, заплел ивовую загородку и прутяные самоловы для рыб. После того он добыл оленя, нажарил свежинки для себя и собаки, а остатки развесил провялить на солнце. Ему уже оставалось только собраться в обратный путь, как надумал расширить свое земляное жилье и сделать в стене нишу с лежанкой. И начал снова работать. Вверху стена имела рыхлый серый прослоек, и надо было его убрать, чтобы добраться до глины. «Далеко ли тут глина?» — с досадой подумал Чур и глубоко ударил лопатой. И вслед за ударом что-то как град посыпалось ему под ноги. Склонясь, он долго разглядывал то, что вывалилось из стены. Потом глянул вверх: не из укладки ли кто вытряхнул столько разноцветных камней, костяшек, колец и разных мелких красивых вещичек?
Камешки разной формы и цвета — красные, зеленые, голубые. Бусины рассыпавшегося ожерелья, цветом, как жидкий мед с поздних цветов. Были тут браслеты, и кольца, и серьги камешковые и костяные. Каменная ступка откатилась к стенке, костяной гребень прятался под грудой бусин, кремневый нож и костяные иглы лежали отдельной семьей. «Это сокровища хозяйки Дикой реки. Среди них не хватает только скребка, что висит у меня на груди!» Так подумалось Чуру.
В эту ночь Чур трудно засыпал. По молодости, по своему уму и сметливости он совсем не был суеверным, подобно пожилым людям его племени. Ему не слышалось ничего зловещего в хохоте совы, летающей над рекой, завывание ветра в дупле дерева не казалось песней злых духов, а огненно-рыжая белка, перебежавшая дорогу, не служила недоброй приметой. Страх перед всем непонятным покорялся его уму и смелости. Он был молод и не успел еще поверить ни в богов, ни в духов, не боялся колдовских чар, не надеялся на помощь ворожбы. Зато верил, что черный пес Уголек не пустит в его землянку ни зверя, ни злого духа. А если который из них и покажется у входа, то вот оно, отцовское копье, что бьет без промаха.
Но Чур верил своей матери Кокшаге, в ее охотничьи приметы и поверья. А теперь еще поверил, что вот здесь, на берегу при слиянии двух рек, жила со своим племенем женщина, хозяйка всех этих украшений и кремневого скребка, который мать Кокшага повесила ему на грудь для счастья, против всякого зла и хворобы. В очаге догорали головни, освещая землянку неровным прыгающим светом. Тревога и радость уступили место грезам, и Чур крепко уснул.
…Эта женщина никуда не спешила и не звала Чура за собой. Она сидела у огня, обхватив руками колени и, покачиваясь, тихо напевала песню. Ее странная одежда была перехвачена узорным поясом, на нем висели кривой нож в расшитом чехле, костяной гребень и маленький мешочек из цветной кожи. Три ожерелья разных цветов, обнимая ее шею, сползали на грудь, на руках повыше кистей зеленоватые браслеты-запястья, а в ушах сережки из продолговатых ярких камней. А длинные волосы, заплетенные в косы, спускались по смуглым плечам до земли. Слова песни были непонятны, но напев ее, то жуткий, то нежный, будил неодолимое желание понять, о чем поет эта хозяйка Дикой реки. И от этого желания Чур проснулся.
В землянку уже глядело утро. Чур собрал свои пожитки, загородил вход в жилье еловыми ветками и оставил его до холодной охотничьей поры. Он шел к дому уже не берегом реки, а ближайшим путем, прямо на восход солнышка, и к вечеру второго дня был в родном селении. Всплеснула руками Кокшага, глазам своим не поверила, а дочки оторопели от радости, когда Чур высыпал на пол сокровища своей кожаной сумки.
— Вот, глядите, как наградила меня хозяйка Дикой реки!
Шустрые сестры сразу разглядели, что за сокровища высыпались из сумки охотника:
— Ах, да тут есть и кержи! И сколько их разных, красивых! А какие кольца и запястья!
Девушки проворно повыкидали из ушей самодельные сережки-кержи из куньих и медвежьих зубов и выбрали себе из вороха с Дикой реки. Новые сережки сделали их лица миловиднее, а на щеках от камней разгорелся румянец. Потом сестры собрали из бусин по ожерелью. И сразу их шейки стали полнее и белее, кожа на них свежее и нежнее. Когда же они надели запястья и кольца, их натруженные руки стали красивыми и мягкими. И радовалась, глядя на них, матка Кокшага:
— Это хозяйка Дикой реки делает моих дочек красивыми и счастливыми! Чудится мне, что не забудет она и сына!
Для себя Кокшага выбрала из всего добра только костяной гребень. Да собрала на шнурок ожерелье из бусинок цветом позднего меда, а к ожерелью подобрала еще коржи-сережки. И все припрятала для той, которая придет жить в ее избу, когда дочки разлетятся за мужьями в разные стороны.
С того дня как сестры охотника Чура стали самыми нарядными девушками и только на них стали заглядываться парни, кончилась приятная жизнь для скряги Ширмака. Старая Ширмачиха без отдыха упрекала мужа с утра до вечера:
— Долго ли будет так, что дочки вдовы Кокшаги будут наряднее и моднее нашей Рутки? Это ты во всем виноват! Не сумел вовремя приветить парня, который оказался гораздо смышленее и смелее иного старого хвастуна! Иди-ка взгляни, сколько разного добра принес с Дикой реки сын Кокшаги, от которого ты, старая спесь, отворачивался. Вот увидишь, он еще нарядит в дорогие кержи и бусы всех девчонок племени, кроме нашей дочки!
И вот, наслушавшись перепалки между отцом и матерью, Рутка решила встретиться с Чуром. Как-то под вечер она пришла к жилью Кокшаги и, дождавшись, когда Чур возвращался из леса, подошла к нему и шепнула:
— А что, Чур, не подаришь ли ты мне кержи, какие носят твои сестры? Не отказалась бы я и от ожерелья!
И незаметно задела его медвежьим коготком за одежду поближе к сердцу. И Чур сразу подобрел. Он взял девушку за руку, привел в избу и сказал матери, чтобы показала Рутке все сережки и бусы, кольца и браслеты. И сам помогал девушке подбирать бусины для ожерелья, примерять к ушкам кержи. Рутка вернулась домой довольная и счастливая.
Скоро все девушки разузнали о находке Чура и повадились ходить к дому Кокшаги за коржами и колечками. И ни разу, даже на самое малое время, не задумывалась старуха о том, не отказать ли неведомо чьей дочке в подарке и радости. Не только девчонки, молодайки-бабы и те стали форсить в невиданных украшениях.
Приближалась зима. Чур каждый день пропадал в лесу, запасая дичь и мед для семьи, чтобы с наступлением холодов уйти на дальний промысел и без заботы о доме там жить и добывать дорогие звериные меха. Как-то на досуге Кокшага навестила семью Ширмака и там, разговорившись, сказала:
— Боюсь, что скоро мои дочки уйдут за мужьями, их уже выбрали добрые парни. А сын надолго пропадает в лесу. А я стара, и мне трудно будет одной в зимнюю пору. Не отдадут ли они свою Рутку жить в ее доме?
На это хотела ответить мать Рутки, но старик перебил:
— А зачем твой сын нарядил в дорогие бусы и кержи всех девчонок без разбора? Теперь любая девчонка и бабенка носят в ушах кержи не хуже, чем у нашей дочки. Вот и зови в свою избу из них любую. Твой сын простофиля. Вот когда он будет хитрее, тогда наша дочь придет тебе помогать!
Старый Ширмак до того расходился, что бранился как попало. Гневался на то, что счастье слепо и балует не тех, кого бы следовало, что всех девок радовать — на то ума не надо, не зря пословица есть: «Курчонку не накормишь, девчонку не нарядишь!» Если бы сын Кокшаги вовремя посоветовался с ним, Ширмаком, то стал бы самым богатым человеком!
Вернувшись домой, Кокшага поведала обо всем сыну. В ответ Чур усмехнулся:
— Не огорчайся, мать! Ведь ты сама говорила, что хозяйка Дикой реки не оставит нас. И кажется мне, что я не смогу быть хитрее. Припаси сухарей, скоро пойду на промысел.
В одну месячную ночь, пока Чур спал перед походом, Кокшага заботливо уложила в заплечный мешок сухари, легкую, но теплую зимнюю одежду, а в кожаную сумку, которую сын носил на ремне через плечо, положила топорик, разные мелкие охотничьи снасти и запасное огниво. В то утро Чур проснулся рано, и пока спали сестры, бесшумно собрался в дорогу. За порогом избы ждала Кокшага. На прощанье она вновь пошептала над мешочком с медвежьим клыком и скребком, призывая всех добрых духов и днем и ночью безотказно служить ее сыну.
Знакомыми тропинками с луком и колчаном за спиной, с копьем-рогатиной в правой руке Чур спешил на промысел к Дикой реке. И все деревья под утренним ветром кланялись ему вершинами. Чуткий Уголек бежал впереди, загоняя на деревья тяжелых взматеревших птиц и проворных зверьков с пушистым хвостом и кисточками на ушах. Старые белки были уже одеты по-зимнему, а молодые только начинали голубеть со спины. Рыжими бочками, как огоньками, мелькали они по деревьям и дразнили охотника урчаньем и цоканьем: чур-р-р, чур-р-р, чка-чка-чка! Наклевавшись спелых желудей, хрипели нарядные сойки, синицы пинькали и тенькали на все лады, приветливо и смело: пинь-пинь, тарарах! пинь-пинь, тарарах! И радостно было Чуру забираться все дальше в лесную нехоженую глухомань, слушая редкие голоса осеннего леса.
На другой день он добрался до земляного жилья в крутом берегу Дикой реки. Сухой сентябрьский ветерок, забираясь в дверь и вылетая в трубу очага, хорошо просушил землянку. Стены и потолок стали светлее, стойки и подпорки высохли, а трава и древесные ветки на лежанке источали нежный запах увядания и прошедшего лета. В тот вечер ветер дул с верховья реки, а закат был бледный и зеленоватый. Приметы обещали холода, поэтому Чур развел в очаге жаркий огонь, чтобы прогреть землянку, и, когда дрова прогорели, заснул без заботы.
Первые три дня Чур ходил по своим охотничьим владениям, проверяя исправность западней и самострелов на пушных зверей и настораживая силки на боровую дичь. И каждый вечер, возвратившись в землянку, разводил в очаге огонь, чтобы в жилье было тепло и сухо. После крепких ночных заморозков и ледяных закраин на реке, нашла полоса тихой пасмурной погоды, с утренними густыми туманами. Одним таким утром Чура поманило пойти вверх по Дикой реке, пройти по нехоженым ее берегам и урочищам, узнать и увидеть новое. Он взял с собой только оружие да кожаную сумку и пошел вверх по реке с верным псом впереди.
Чур шел без отдыха целый день, ночевал у костра и опять шел и шел под пасмурным осенним небом. А Дикая река в награду ему каждый час открывала новые нехоженые урочища, крутояры, излучины, устья малых речек, песчаные отмели и глинистые обрывы. Только следы диких зверей и птиц радовали его до той поры, как на речном песке приметил след человека. Еще в детстве от матери Чур слышал, что в далеких верховьях Дикой реки живут люди иного племени, совсем другие по росту, по речи и по обычаям. Приглядываясь к следам, он приметил, что походка была мелкая, а следок небольшой, короткий. «Это девушка!» — подумал Чур и пошел ее следом. Сметливый пес, по знаку хозяина, послушно, шел позади.
Влажный мох хорошо сохранял следы, отдельные примятые моховинки нехотя выпрямлялись, как живые. И вот среди моховых кочек, усыпанных спелыми ягодами, Чур увидел ее, ягодницу. Он знал, как приятно поесть таких ягод зимним вечером после ужина. Мать Кокшага и все женщины его племени тоже запасали этих ягод на зиму еще потому, что они помогают от угара, а если поесть их с горячим медом, то вылечивают от простуды и кашля.
Чур подкрался к девушке совсем неслышно. Стоя в трех шагах за ее спиной, он видел, как проворно работала она обеими руками, наполняя берестяную набирушку спелыми темно-красными ягодами, а поодаль стоял уже полный лубяной кузов. Чтобы не испугать девушку, Чур осторожно, чуть-чуть тронул ее плечо рукояткой копья. Она обернулась, удивилась, но не заголосила на весь лес от страха, а зачуралась негромко, как от лешего, духа лесного:
— Ох, чур меня, чур меня!
И сидела на холмике, не сводя с пришельца больших синих глаз. А Чур не поверил своим ушам. Не почудилось ли ему, что девушка дважды назвала его по имени? Это было неожиданным и непонятным. Но он улыбнулся ей и кивнул головой:
— Да, я охотник Чур, сын Черкана и Кокшаги. А ты чья? Ты Рутка?
Ягодница глядела на него по-прежнему со страхом, повторяя вполголоса:
— Ой, чур меня, чур меня!
С минуту Чур стоял в раздумье, потом не торопясь достал из сумки овсяный колобок и осторожно бросил на колени девушке. А овсяный колобок, испеченный женщиной, это уже не шиш болотный, не леший, не дух лесной. С незапамятных времен он верный спутник человека в близких и дальних походах, на работе, на промысле. Этот пресный круглый хлебец до надобности держали под одеждой, возле бока. Коло бока, как говорили в старину. И вот этот озорной чародей колобок вновь, уж который раз, творил свое доброе дело. Исподлобья взглянув на Чура, девушка бережно взяла колобок. Он был еще совсем мягкий, этот колобок, от него шел чудесный и родной запах липового меда, хмеля и пихтовых веток, которыми Кокшага подметала горячие подпечки перед тем, как посовать туда колобки. И снова глянула на Чура. «Нет, это не оборотень, не шиш лесной, и совсем не леший, а человек, только не нашего роду-племени!» А он, этот лесной дух, не глядя на девушку, начал быстро-быстро собирать с моховых кочек темно-красные ягоды и полными пригоршнями ссыпать в набирушку. Очень скоро он набрал ее дополна, поставил к ногам ягодницы и помахал рукой в сторону реки.
— Домой пора, пойдем вместе!
Не понимая речи, девушка сообразила, о чем говорит этот простодушный парень, уже вскинувший на свои плечи тяжелый кузов с ягодами. Ей оставалось только взять набирушку и идти следом за ним до реки. Когда вышли на берег, Чур обернулся, взглядом спрашивая, куда идти. И она пошла передом вверх по реке, по знакомой ей, чуть приметной тропе. На ходу она жевала овсяный колобок, изредка отламывая по кусочку для Уголька. Шли молча и быстро, и спелые желуди, опавшие с пожелтевших дубов, хрустели под их ногами.
Потом на солнечном крутояре присели отдохнуть. Она глядела теперь на Чура совсем без страха, оглядывала его с любопытством с ног до головы. А колобок с запахом пихты оказался таким вкусным и сытным, какие пекли в ее доме только по праздникам. Девушка гладила рукой Уголька, молча разглядывая Чура. Тут он, показывая на нее пальцем, спросил:
— Ты Рутка, да?
Но девушка, не зная его языка, не вдруг поняла, о чем ее спрашивают. Тогда он указал на себя:
— Я Чур, сын Черкана и Кокшаги. А ты Рутка?
И при последнем слове опять указал на нее рукой. Теперь и она начинала понимать и тряхнула головой:
— Нет, я Устинья. Устя, Устя!
Тут широко улыбнулся Чур:
— Так ты Устя? Устя — это хорошо! А я Чур! Чур!
И каждый раз показывал себе на грудь. И она поняла, что Чур это его имя. Не имя лесного бога, именем которого она чуралась от злых шишей и леших, а вот этот добрый увалень с черными глазами и бровями, чуть скуластый и приземистый.
После такого объяснения они снова тронулись в путь, Устя впереди, а Чур за ней, а там, где позволяла тропинка, шли рука об руку, изредка спрашивая друг друга, каждый по-своему:
— Так ты Устя, да? Это хорошо!
— Да, я Устя. А ты Чур? Это ладно!
И обоим было радостно, хотя говорили по-разному, и кузовок с ягодами совсем не казался тяжелым, а путь незаметно подходил к концу.
Берега Дикой реки здесь были еще выше и поднимались над ней крутыми глинистыми обрывами, а хвойный лес перемежался лиственным и пустошами. Вот из-за одной излучины показались бревенчатые избы большого селения, а к нему от реки вилась по крутояру тропинка. Здесь девушка взяла у спутника кузов с ягодами, взвалила на свои плечи и, подхватив набирку, быстро пошла вверх по тропе к родному селу. Взобравшись на кручу, она сверху призывно помахала рукой, чтобы Чур следовал за ней, и пропала за берегом. И он не раздумывая пошел в селение русов.
Но медленно и осторожно подходил Чур к чужому поселку. Избы стояли в один ряд лицом к реке, а позади них чернели нежилые приземистые постройки. В конце селения впритык к лесистому берегу высилось одинокое строение с несколькими крышами, одна другой выше, с тесовым шатром над самым высоким срубом. А на вершине шатра странное изображение из дерева. Вот из одной избы вышли люди, а с ними и она, его первая знакомая в этом крае. Незнакомые люди, старые и молодые, мужчины и женщины, высыпали из домов, окружили Чура и с любопытством разглядывали нежданного гостя, его одежду и оружие и Уголька, прижавшегося к ноге хозяина.
Пока люди на него дивились, острый глаз Чура успел приметить, что все они тоже носили амулеты, подвешенные на шнуре через шею. Эти штучки из желтого и белого металла похожи были на летящего жучка. У одного толстого старика, одетого в длинную черную одежду, большой такой амулет болтался на груди поверх одежды. Этот старик появился из избы, стоявшей вплотную с большим странным домом под островерхой крышей, и сразу не понравился Чуру своей тучностью и недобрым взглядом.
Люди долго слушали рассказ Усти. По тому как она живо говорила, всплескивая руками и поглядывая на Чура, он понял, что она рассказывает о нечаянной встрече в лесу и как она испугалась. Вдоволь наглядевшись, люди разбрелись по домам, а отец и братья Усти позвали Чура в свою избу, посадили за стол на широкую скамью, а старая женщина, мать Усти, подала ужин. Но прежде чем сесть за стол, все стали лицом в передний угол, помахали перед собой руками и покивали головами, словно кланяясь кому-то невидимому. Для Чура это было в диковинку и занятно, он оглянулся в тот угол, но в сумраке ничего не увидел. После еды, поднявшись из-за стола, все опять помахали перед носом руками и покивали головами. Чтобы угодить хозяевам за добрый ужин, Чур тоже хотел повторить за всеми то же самое, но Устя легонько ударила его по руке и покрутила головой: «Не надо!» Потом она принесла сноп свежей соломы и постелила гостю постель на мужской половине избы, где спали отец и братья.
Утром за завтраком Чур опять спросил девушку: «Ты Устя?» И когда та повторила свое имя, он переспросил всех ее семейных и запомнил их имена. Всей семье русов Чур пришелся по душе своей смелой простотой и бесхитростным нравом, а старая женщина не забыла накормить и его собаку. Потом каждый взялся за свое дело. Пока Устя просеивала на ветру ягоды, очищая их от лесных былинок и моховинок, Чур сидел на завалинке избы и глядел, как она работает. И все казалось ему, что эта девушка очень похожа на Рутку, дочь Ширмака, только станом повыше да волосом посветлее.
Не один день Чур прожил в новой семье. Братьев он научил делать отличные легкие лыжи и ставить западни на зверей, отцу показал, как плести из лыка крепкую и удобную обувь, какую носят люди его племени, а матери помогал во всех ее нелегких делах по хозяйству. И от всех, а больше всего от Усти перенимал их родную речь и обычаи. Он уже знал, что амулеты, которые русы носят на шее, они называют крестами, а большой дом под высокой крышей служит местом, где эти люди задабривают своего бога и просят у него удачи в разных делах.
За ночь выпал настоящий зимний снег, сухой, скрипучий. Утро народилось ясное и морозное, и все сверкало под солнышком. Большой угрюмый дом с крестом под островерхой крышей и тот глядел веселее. Никто из людей еще не прошел по заснеженной улице, только от одной избы уходил одинокий след человека вниз по Дикой реке. Это охотник Чур вышел на промысел в свое урочище, к земляному жилью на крутом берегу. Старая женщина напекла ему в дорогу колобков и помахала вслед рукой, а Устя звонко с крыльца: «Опять приходи!» Скрипит под ногами снежок. Кремневый скребок и медвежий клык в кожаном мешочке на груди чуть слышно стучат друг о друга, предвещая удачную охоту. А черный пес Уголек на синеватом снегу казался чернее самого черного угля.
Землянка на Дикой реке встретила Чура поздним вечером. Огонь очага обсушил и согрел одежду, а лежанка в нише стены показалась ему уютнее и теплее любой постели под крышей деревянного дома. Он поднялся с рассветом и отправился в обход по своим охотничьим тропам. Много дней с темна до темна, не зная усталости, стрелой, западнями и самострелами Чур добывал пушных зверей — куниц, горностаев, норок, белок и соболей, умело расправлял и сушил их дорогие шкурки. И когда мехов накопилось столько, что с трудом убирались в мешок, пошел к родному племени. К той поре накрепко замерзли реки и болота, он шел, сокращая путь, и вернулся домой вовремя. Две старшие сестры уже оставили мать и родной дом и ушли за мужьями, только младшая жила еще с матерью, но и она собиралась уходить в другую семью.
В тот же день Кокшага отнесла все меха богатею Ширмаку, чтобы рассчитаться с долгами и задобрить на будущее. Старик обрадовался и удивился. Он ощупывал каждую шкурку руками и алчными глазами, встряхивал, расправлял и раскладывал меха по сортам, прикидывая в уме, как много получит он разного товара, когда по Большой реке приплывут люди выменивать у его племени мед и меха. Но когда Кокшага спросила, не отпустит ли он свою дочку Рутку на житье в ее дом, Ширмак ответил, что пусть она подождет до той поры, когда ее сын научится умело распоряжаться всем, что посылают ему добрые духи. А он, Ширмак, будет давать ей все, что нужно для жизни, пока сын пропадает в лесу. При этом старый скряга не заметил, как сердито поглядела на него из темного угла дочка Рутка. А Кокшага ушла с такой думой: «Вот как! Этот жестокий скряга вспомнил добрых духов! Уж кто-кто, а она, мать Кокшага, знает, кто посылает удачу за удачей ее сыну! Нет, не напрасно повесила ему на грудь подарок хозяйки Дикой реки!»
А дома она бранила Ширмака вслух. Ведь из всего племени только Чур так добычлив, уходит надолго и далеко и приносит целые вороха дорогих мехов! Видно, этот старый хрыч задумал без конца пользоваться добычей ее сына!
В этот вечер Кокшага опять помогла сыну собраться в далекий путь, и через два дня он уже ночевал в землянке на Дикой реке. В первый же день он обошел и проверил все западни, силки и самострелы, забрал добычу и снова насторожил на свежих тропах. Потом ходил с Угольком по звериным следам, добывал куниц и соболей стрелой из лука. Стояли морозы, какие бывают, когда солнышко только в полдень нехотя и недолго оглядывает заснеженную землю, выглядывая из-за леса. По вечерам Чур жарко натапливал очажок, и землянка все больше просыхала, стены ее согрелись, а от еловых корней, оплетавших потолок, исходил приятный смолистый запах.
Одним вечером, сидя перед очагом, он достал из-за одежды мешочек с амулетом и долго разглядывал каменный скребок и рисунки на нем. При неровном свете пылающего очага изображение женщины словно оживало, а лисица казалась совсем огненно-рыжей. Чур попробовал скоблить им древко копья и рукоять топора, и получалось не хуже, чем железным ножом. От очага камень нагрелся, и когда Чур сунул его в мешочек и спрятал под одежду, он приятно согревал грудь. Тут сын Кокшаги стал дремать и грезить: «Завтра пойду к русам!» Когда в очаге прогорели дрова, он заснул на лежанке, укрывшись одеждой. И, засыпая, опять грезил будущим днем: «Утром пойду к Усте!»
А в конце ночи в землянку заглянула хозяйка Дикой реки. Теперь она похожа была на Устю и держала в руке берестяную набирушку со спелыми красными ягодами. Она смело перешагнула спящего у входа Уголька, с тихим напевом подошла к лежанке и высыпала на ноги Чура ворох ягод, которые с шумом раскатились по землянке. Тут Чур проснулся, а Уголек навострил уши. «С потолка земля упала», — подумал Чур и заснул до рассвета. Хозяйка Дикой реки ему больше не снилась и не будила. И только при свете дня он разглядел в обсыпавшейся земле россыпь большого ожерелья из бусин разной величины, полупрозрачных, цвета позднего меда, а среди них две пары голубоватых сережек. «Это бусы и кержи для Усти», — подумал Чур и, бережно очистив каждую бусинку, сложил на дно охотничьей сумки. Ему не хотелось оставлять в землянке добытые за неделю меха, и поместил их в походный мешок, а самые дорогие в сумку. Потом наглухо закрыл дверь землянки и пошел уже знакомыми тропами вверх по Дикой реке.
Ночь застала Чура на середине пути, но старая ель и костер из сухих кряжей помогли ему дождаться утра. Остаток пути он шел по льду Дикой реки спорой походкой, а иногда и трусцой, прижимая к груди мешочек со скребком и клыком. И после полудня уже был в селении русов. Семья Усти встретила его радостно, а соседи заходили с приветливым словом. Сначала Чур выложил из сумки меха, а потом вытряхнул бусины ожерелья. Потом разыскал в ворохе бусин две пары продолговатых голубых камней и отдельно подал девушке.
— Ах, это сережки! — обрадовалась Устя и приложила по камешку к каждому уху, показывая, как будут к лицу ей эти серьги.
— Это кержи! — по-своему сказал Чур. — Бусы и кержи хозяйки Дикой реки!
Бусины были тут же нанизаны на шнурок и обняли шею девушки тяжелым красивым ожерельем. И все были очень довольны и радостны, и мужчины и женщины. Но тут в избу вошел старик с крестом поверх длинной одежды. Его маленькие глазки сразу разглядели шкурки, вытряхнутые из кожаной сумки. Он молча их переглядел, перещупал, сложил аккуратно и спрятал под одеждой. Тут Чур возмутился и сердито сказал:
— Не трогай, это мое!
Но отец и братья растолковали ему, что все, что облюбует этот старик, отбирать у него не принято, потому что он хозяин большого божьего дома. И Чур согласился, но обида его на старика не потухла. И когда этот длинноволосый хозяин божьего дома начал было допытываться, откуда взялись ожерелье и сережки, нехотя сказал, что это подарок Усте от его матки Кокшаги. И замолчал.
В этот раз Чур надумал остаться в селе до конца зимы. Он уже начинал понимать речь русов и говорить на их языке и скоро привык ко всем жителям. Как люди его племени, русы жили в деревянных избах с маленькими оконцами и большими глинобитными печами. Осенью они выжигали и раскорчевывали лесные поляны, а весной сеяли на них разное жито, лен и просо. Все держали скот и запасали для него на зиму сено. И между важными летними работами успевали еще обхаживать лесных диких пчел, собирать мед и воск и оборонять эти ульи-борти от косолапых сластников-медведей. А глубокой осенью и зимой опять каждый брался за свое ремесло: гнули колесные ободья, делали сани, выкуривали смолу и деготь, мастерили и обжигали глиняную посуду, добывали в лесу дичину, а в реке рыбу. А женщины пряли пряжу и ткали льняные холсты-полотна. Все, как в родном его племени, в низовьях двух больших рек.
Зато здесь никто лучше Чура не стрелял из лука, никто так быстро не ходил на лыжах. Только он умел так искусно настораживать западни-самоловы и луки-самострелы на зверей и больше всех добывал дорогих мехов. Но русы были люди не завистливые и, не считая охоту средством к жизни, искусству его дивились, а удачами восхищались. И семья Усти, и все другие жители селения были с ним добрыми и честными. Только один раз заметил Чур, что по его лесным тропам и урочищам кто-то ходит из селения и уносит из западней самую ценную добычу. Но не зря он был сыном догадливой Кокшаги и следопыта Черкана и давно научился узнавать человека по следу, не столько по величине и форме следа, сколь по походке. Стоило ему пройти несколько шагов, ступая точно в след неизвестного человека, как в его представлении возникала походка этого незнакомца.
Так и в этот раз Чур пошел, ступая строго след в след, наблюдая за собой: он шел теперь, как слегка косолапый человек, неловкой и грузной походкой, раскачиваясь, как утица. И остановился, раздумывая: «Чья же это походка? Кто из селения русов ходит так в развалку и ставит ступни пальцами слегка внутрь следа?» И вдруг вспомнил: «Это он! Надо проучить эту двуногую росомаху!» В тот же час Чур насторожил на своем следу у куньей ловушки нетолстую сосновую лесинку-жердь. Стоило вору невзначай тронуть ногой волосяной шнур и спустить сторожок, как эта жердь обрушивалась ему на шею. Он нарочно выбрал такую жердь, чтобы не придавила вора, а только больно ударила по шее. Не прошло и недели, как жадный старик из божьего дома стал ходить сгорбившись, по-волчьи, глядеть исподлобья, словно шея его совсем не гнулась. С той поры никто не ходил по тропам и урочищам Чура и никто не тревожил его западни и самострелы.
После первой половины зимы налетели на Дикую реку метели, навалило много снегу, и промысел пошел вяло. Зато у русов началась веселая пора, одни за другим пошли праздники. По утрам люди толпами и вереницами ходили в большой дом, где жгли восковые палочки и кланялись и кланялись, крутя правой рукой вокруг своего носа, либо размашисто стучали себя по плечам, животу и по лбу. Для Чура все это было диковинно, интересно, но в большой дом он не заходил, а наблюдал сквозь открытые двери и окна. От безделья и праздников жизнь в поселке для него вдруг поскучнела, и он засобирался домой, к матке Кокшаге. Но Устя, проведав о том, шепнула ему:
— А зачем тебе уходить? Ведь ты сам говорил, что там тебя никто не ждет!
А отец и братья девушки сказали:
— Оставайся с нами. Мы построим тебе просторную избу из самых толстых бревен, и ты будешь жить в нем вместе с Устей. Ты смекалистый и добрый парень, и мы охотно тебе во всем поможем.
И Чур согласился, но с уговором, что мать Кокшага будет жить с ним. Потом семейные Усти, посоветовавшись между собой, решили поговорить с отцом Никодимом, хозяином божьего дома. Из их разговора Чур понял, что если с этим стариком не сговориться, то он может причинить много зла. Тут он ощупал на груди кожаный мешочек и усмехнулся: «Не так-то легко и просто кому бы то ни было поспорить с волей хозяйки Дикой реки и наговорами его матки Кокшаги!»
Позвали в свою избу и посадили за стол хозяина божьего дома и долго всякой всячиной угощали. Он сказал, что можно оставить Чура в семье русов навсегда, но надо сначала его окрестить. Чур понял, что для этого ему придется искупаться в речной полынье и трижды окунуться с головой, пока старик бормочет над ним свои заклинания и наговоры. За это он, Чур, должен будет отдать старику все меха, что добыл на Дикой реке, а Устя подаренное ей ожерелье и серьги. После этого их обвенчают в божьем доме. Так понял Чур. И сказал, что он готов искупаться в полынье хоть пять, хоть десять раз, но не понимает, за что он должен отдать с таким трудом добытые меха? Не за то ли, что будет купаться зимой в реке на потеху всем русам? На это ему сказали, что так надо, так велит их бог.
И в день крещения все пошли к реке. Когда Чуру объяснили, что надо делать, он быстро разделся и, придерживая рукой мешочек с амулетом, нырнул в полынью. И три раза погружался в воду с головой, пока хозяин божьего дома говорил непонятные слова. После того он выбрался из полыньи, оделся, и все ушли в избу. Там этот старик, отец Никодим, украдкой сверкнув на Чура недобрым взглядом, строго спросил:
— А научили ли вы этого парня молиться и креститься? — И поднес к его лицу свой тяжелый медный амулет. Чур не знал, что делать, и стоял в недоумении. Тут Устя показала ему, как надо перекреститься и приложиться губами к медному кресту. За ней все это повторил и Чур.
— Вот хорошо! — сказал старик. — А теперь сбрось свои побрякушки и надень святой крест, как христианин.
И подал медный крестик на шнурке, какие носили все русы. Чур с готовностью распахнул одежду и хотел повесить крест рядом с кожаным мешочком. Но хозяин божьего дома рассердился:
— Свой мешочек брось в огонь, а крест носи! Только тогда тебе позволят жить в одном доме с крещеным народом. Нельзя, грешно носить божий крест с разными бесовскими побрякушками!
Вслед за попом то же самое повторили родные Усти. Чур понял, чего от него требует хозяин божьего дома, взглянул на него и встретился с тяжелым и хитрым взглядом. Тут он отступил от попа на два шага, словно собираясь с ним биться или поддеть на рогатину:
— Э, нет! Никогда не сниму я со своей груди того, что повесила матка Кокшага! Ни в огонь, ни в воду не брошу подарка хозяйки Дикой реки!
Потом швырнул старику медный крестик, заправил под одежду свой амулет и застегнул ворот рубахи. Родные Усти уговаривали его послушаться старика и сделать все, что он требует. На это Чур ответил, что он вовсе не против того, чтобы жить так, как они, согласен ходить с ними в большой дом помахать правой рукой и кланяться их богам, держа в левой руке восковую палочку. И целовать этот большой медный крест и быть во всем таким, как русы. Но он не согласен бросить в огонь мешочек с клыком медведя, которого отец заколол в свой смертный час, с кремневым скребком хозяйки Дикой реки, подвешенный ему на грудь родной маткой Кокшагой для удачи и счастья, против бед и хворобы! Не хватит ли с этого старика того, что он забирает все его меха, добычу за целую зиму и отбирает у девушки последние бусы и кержи!
После этого Чур замолчал, не поддавался уговорам и был тверд в своем упорстве, как наконечник стрелы. А хозяин божьего дома перед уходом сказал, что чем скорее этот дикарь уберется из селения, тем лучше для родных Усти и всех, кто за него заступается. Но не глядя на угрозы попа, никто не поторопил Чура уходить из поселка, и он жил в семье Усти как родной сын до той поры, как сам вдруг надумал идти в родной край. Наверное, это хозяйка Дикой реки позаботилась послать на помощь ему раннюю и дружную весну. За одну неделю потемнел и огрубел снег, затенькала капель, запели первые ручейки, а лед на реке приподнялся и посинел.
Русы провожали Чура как родного и на прощанье говорили:
— Опять приходи!
Мать Усти в то утро напекла мягких колобков, завернула их в чистую тряпочку и уложила в его охотничью сумку. Устя ушла за Чуром до самого крутояра, до той тропинки, по которой осенью впервые привела за собой этого парня. И было ей невесело, как в самый пасмурный и холодный осенний день. Она долго стояла на откосе реки и глядела вслед Чуру до того, как услыхала зов отца:
— Устинья!
Тут Чур обернулся и последний раз помахал ей рукой. И пошел по льду вниз по Дикой реке. И в такт его шагам кремневый скребок и медвежий клык тихо стучали друг о друга.
С каждым шагом в родную сторону сердце Чура наливалось весной и радостью, а зима в поселке русов казалась чудным сном с нерадостным пробуждением. И все живое на его пути радовалось скорой весне. Черные пичужки в красных шапках дробно барабанили по сухим деревьям. Сохатые олени табунками нежились под солнышком среди боров. А тяжелые птицы с красными бровями и белой бородой по утрам напевали так самозабвенно, напропалую, что любую можно было запросто заколоть копьем или стрелой. Изредка попадался след, похожий на человечий, в растрепанных лаптях. Это хозяин берлоги уходил со своего логова, подмоченный весенней водой. У землянки уже вытаяли все зимние следы и тропы, словно жил он тут только вчера. Здесь Чур передохнул, накормил Уголька, просушил лыжи и обувь и, выспавшись, утром снова тронулся в путь. Еще день и ночь — и он подходил к родному селению.
Чур издали приметил, что тропинка к дому Ширмака была еле приметна, не торнее, чем к дому Кокшаги. Откуда он мог знать, что после его ухода на промысел Рутка очень загрустила. Чтобы развлечься, она снова взялась за привороты. Встретившись с парнем, она шептала ему на ухо приветливое слово и незаметно задевала медвежьим коготком поближе к сердцу. Парни опять повалили на ее крыльцо как на праздник, и сидели, и дурачились, поджидая, не выйдет ли к ним дочка Ширмака. И стали для Рутки совсем постылыми, как холодная мокрая обувь на босую ногу. В середине зимы многие девушки облюбовали себе парней и ушли жить в новую семью, а Чур все не возвращался. Тут Рутка рассердилась. Нет, не на Чура, а на себя и своих родителей. Она прогнала от своего дома всех привороженных парней, разыскала приворотные медвежьи коготки и бросила их в печку. Потом, проплакавши целый день, отмахнувшись от родительских уговоров, собралась и ушла жить в избушку Кокшаги. И вот Чур, войдя в свою избу, радостно удивился:
— А, Рутка, ты здесь!
Он подал матери тяжелый мешок и кожаную сумку и стал раздеваться, а Рутка развешивала его одежду и обувь для просушки. На шее у нее было ожерелье, а в ушах кержи-сережки, те самые, что хранились в берестяной укладке Кокшаги.
Вот так богатею и скряге Ширмаку, голове всего племени, довелось породниться с Кокшагой, вдовой следопыта Черкана. Долго-долго потом не было между Волгой и Ветлугой смелее и славнее охотника Чура. Изредка ему снилась хозяйка Дикой реки и звала за собой, обещая удачу. Сердце охотника начинало биться тревожно и радостно, он просыпался и уходил искать счастья на Дикую реку. А река не уставала отваливать пласты берега, открывая все новые диковинные вещички и сокровища: оружие, утварь, украшения. И каждый раз вместе с охотничьей добычей Чур приносил женщинам племени новые бусы, кольца и кержи. И прозвали ту реку рекой кержей.
Прошло много-много лет, и Дикая река, прокладывая среди лесных дебрей новые и новые пути-излучины, ушла от древних стоянок и обеднела сокровищами. И теперь уже редко-редко находят на Керженце наконечники для стрел, каменные скребки, бусы и сережки-кержи.
Сказка о серых скворцах
Эта сказка нигде не записана, ни на камне, ни на коже, ни на бересте. Ее в нашу сторону скворцы на крылышках принесли. А в лесной стороне всякая старина крепче держится — и сказки, и сказания, приметы и обычаи. В лесу они от солнышка не выгорают, от суховея не выветриваются, а с народом крепко уживаются. Вот и осталась в лесном Заволжье сказка-загадка о том, как серые скворцы, гости весенние радостные, у нас на Руси появились. А до той поры да случая скворцы только там водились, куда зима не доходила. И были они не серые, а как уголь черные.
Давным-давно жил на берегу теплого синего моря повелитель простого народа Лежи-Полеживай. Не очень он был умен, а заносчивый, потому и называл себя царем всех царей. Этому царю совсем нечего было делать, потому он часто скучал и сердился. Чтобы царь с царицей не скучали, придворные вельможи достали для них заморского попугая Звездочета, обезьянку Макаку и горбатого карлика Гия. Обезьянка потешала царскую семью гримасами и кривляньем, карлик Гий забавлял разными фокусами, а глупый Звездочет заученными словами и фразами: «Привет царю царей! Как здоровье? Доброе утро! Спокойной ночи!»
Пришло время, когда царю Лежи-Полеживай наскучили эти забавники. Он насупился от скуки, и вельможи не знали, чем развеселить своего господина. И вот главный вельможа объявил по всему царству, что человек, доставивший царю повое развлечение, получит большую награду. Но беззаботные подданные Лежи-Полеживай никак не понимали, как это можно скучать их повелителю, который вместо хлеба ест одни пряники, а пьет только мед и вино. И никто не спешил развеселить царя всех царей. Только один малыш, по прозвищу «Пастушок», откликнулся на зов вельможи. Чтобы прокормить мать и сестренку, он за жалкие гроши нанимался пасти чужой скот и скучал на пастбище. Зато черные скворцы, прилетавшие к стаду поохотиться за насекомыми, стали его друзьями. А одна пара молодых скворцов так привыкла к мальчику, что на его плечах отдыхала и охорашивалась и часто ночевала в его домике под потолком в прутяной клетке. Случилось так, что маленькая сестренка Пастушка была долго больна и ничего не ела, а когда начала выздоравливать, тихонько сказала: «Я съела бы горсточку изюму!» Это было как раз в то утро, как ее брат услыхал, что Лежи-Полеживай захворал от скуки.
Пастушок посадил пару скворцов в прутяную клетку, принес на царский двор и сказал главному вельможе, что его птички могут развеселить и порадовать всю семью царя царей.
— Что за черных галок ты принес на царский двор? — грозно спросил вельможа. — Не они ли ловят насекомых, копаясь на воловьей спине? Разве могут эти замухрышки развеселить царя царей!
А мальчик в ответ улыбнулся:
— О, вы их, как видно, не знаете! Попробуйте поселите моих пичужек в царском дворце — и не раскаетесь! Только дайте мне на изюм и на орехи для больной сестренки!
Вельможа забрал у Пастушка клетку со скворцами, дал ему одну медную денежку и вытолкнул за ворота. Потом он позвал царского мастера по золотым делам и приказал сделать для скворцов серебряную клетку, а самих птичек позолотить и раскрасить.
Этот золотой мастер был настоящий искусник и художник. Сначала он сделал расчудесную серебряную клетку, потом целый день и всю ночь трудился над скворцами. Он позолотил и раскрасил им каждое перышко так искусно, что засияли скворцы в своей серебряной клетке, как диковинные жар-птицы, разноцветными огнями!
Рано утром главный вельможа взял у мастера клетку со скворцами и подвесил ее на ореховое дерево у царского терема. Выспавшись, царская семья вышла в палату, а вся придворная знать пришла поздравить царя царей с добрым утром. В те дни на землю царства Лежи-Полеживай только что пришла весна, и все зверушки и пичужки встречали ее, кто как умел. Позолоченные скворцы в серебряной клетке тоже радовались весне, тирликали и махали крылышками. Тут их услышал и увидел царь всех царей. Скворцы пели слою немудреную песенку, перемежая ее звуками, услышанными со стороны. Вот царский котище, пушистый хвостище мяукнул, сидя на подоконнике, а скворцы подхватили и наперебой замяукали по-кошачьи. Царский осел подал свой голос с лужайки под деревом, а скворцы и по-ослиному крикнуть попробовали. Горбатый карлик Гий тряхнул бубенчиками, а вслед за ним и скворцы зазвенели живыми бубенцами.
И сразу отлетела от царя царей хандра и скука. И царь, и царица с царятами, и все придворные слушали золоченых певцов, и любовались, и дивились их красочному наряду и мастерству подражать чужим голосам. А золотые скворцы трепетали под солнцем раскрашенными перьями, и трещали, и тирликали свою песенку, потому что приближалась пора, когда все птицы вьют гнезда и выводят детей. Тут царь Лежи-Полеживай спросил:
— Кто доставил в мой дворец таких занятных пичужек? — Главный вельможа выступил вперед и с гордостью сказал:
— Это я, преданный слуга царя царей, добыл чудесных заморских певцов!
Лежи-Полеживай стал шарить по карманам, чтобы наградить царедворца, но денег в царских карманах в тот день, как на беду, не было. Царь нашел только один пряник и подал его вельможе. Главный вельможа сделал вид, что очень доволен наградой, и спрятал пряник в карман и низко поклонился. И вся придворная знать, что была тут, громко восхищалась щедростью царя царей. Только обезьянка Макака, попугай Звездочет и карлик Гий, всеми забытые, угрюмо молчали.
Прошло сколько-то дней. Позолоченные и раскрашенные скворцы жили в серебряной клетке на ореховом дереве и своим пением забавляли царскую семью. И никто не смел на певцов обижаться, когда они передразнивали и высмеивали придворных, повторяя на свой лад услышанный звук или слово. Как-то одним утром, когда царь царей с придворными тешились скворцами, на царский двор пробрался Пастушок. Он надеялся, что главный вельможа обещал большую награду тому, кто потешит царя, а дал только одну медную монетку. Мальчик сразу узнал своих скворцов, хотя они и были позолочены. Подойдя к вельможе, он простодушно сказал:
— Я могу наловить и принести таких пичужек целую корзину, если хотите!
Тут на мальчика все зашикали, а вельможа взял его за шиворот и вытолкал за ворота. А скворцы, заслышав знакомый голос Пастушка, запели так отчаянно, весело и ярко, что Лежи-Полеживай с гордостью сказал:
— Хотел бы я знать, есть ли у кого из владык на земле такие певцы, как мои!
Все придворные наперебой начали льстить, что только в царстве Лежи-Полеживай могут жить и петь такие красавцы. Долго бы они еще льстили царю царей, расхваливая скворцов, но с царской кухни вдруг донеслись заманчивые запахи. И все ушли обедать.
На другой день после завтрака царь с царицей и царятами опять вышли под ореховое дерево послушать позолоченных скворцов. В то солнечное утро певцы трещали и тирликали напропалую, подражая всему, что слышали. Лежи-Полеживай глядел на скворцов, задрав кверху голову, а озорной солнечный лучик забрался к нему в нос и заставил громко чихнуть. Не успели попугай и придворные пожелать царю доброго здоровья, как вмешался скворец:
— Чих, чих! — передразнил он царя, помахивая золотистыми крылышками. — Чих, чих!
Молча улыбнулись придворные и главный вельможа, вслух рассмеялась царица.
— Хи-хи-хи! — передразнила царицу скворчиха. — Хи-хи-хи!
И опять все молча улыбнулись. Но горбатый карлик Гий не умел тихо смеяться. Звеня бубенцами, он кувыркнулся через голову и заорал на весь царский двор:
— Золотые пичужки царя и царицу дразнят! Вот здорово! Царя царей пичужки-болтушки дразнят!
За такое озорство сам царь дал карлику пинка и приказал выпороть. Пока горбунка хлестали плеткой, царь с челядью слушали скворцов. Вдруг с кухни вкусно запахло обедом, все захотели есть, а пообедавши, крепко заснули. Только побитый горбунчик Гий не спал, а плакал злыми слезами в дальнем углу царского сада. В тот час с другой стороны ограды к нему подкрался Пастушок, и они долго шептались сквозь решетку. Потом мальчик передал карлику плетеную коробочку, а Гий на прощанье сказал:
— Все будет сделано так, как задумали. Клянусь своим горбом!
Пока Лежи-Полеживай с челядью отсыпался в тереме, карлик забрался на ореховое дерево, тряхнул бубенцами и негромко, но внятно сказал два-три слова. И когда скворцы протрещали что-то похожее на слова, горбунчик дал им поклевать из коробочки. Потом снова звякнул бубенцами, повторил те же слова и опять дал скворцам поклевать из коробочки, после того как они снова повторили. После третьего такого урока Гий проворно спустился с дерева и скрылся во дворце. На другой и на третий день и еще несколько дней подряд, когда царский двор погружался в сон, карлик забирался на дерево и обучал скворцов кричать несколько слов. И каждый раз награждал их за старание лакомством из плетеной коробочки. Наконец он добился того, что стоило ему зазвенеть бубенчиком, как скворцы дружно и внятно кричали заученные слова.
Одним утром Лежи-Полеживай проснулся сердитым. Чтобы развеселиться, он поспешил на лужайку под ореховое дерево, а за ним и царица с царятами, и главный вельможа, и все придворные. Весна была в разгаре, скворцы пели задорно и весело, а завидев внизу людей, еще усерднее замахали крылышками и затрещали на разные голоса. Царь царей, вся его родня и придворные, задравши головы, глядели на сверкающих скворцов. Тут горбунчик Гий, улучив момент, когда певцы смолкли, звякнул бубенцами. В ответ из серебряной клетки разнесся озорной крик золоченых скворцов:
— Царь царей дуралей! Вельможа жулик!
У придворных и вельможи от испуга отнялись языки и затряслись ноги, а скворцы бесцеремонно кричали заученные слова:
— Царь царей дуралей, дуралей! Вельможа жулик, жулик!
Чтобы замять скандал, попугай Звездочет, сидя на царском плече, начал кричать свои приветствия и поздравления, желать всем доброго утра и спокойной ночи. Но в ту минуту горбунчик, кувыркнувшись через голову, зазвенел колокольчиками. И скворцы снова стали выкрикивать заученные слова, а карлик истошным голосом закричал на весь царский двор:
— Слышите, что кричат эти зловредные пичужки? Будто бы царь царей дуралей, а вельможа жулик!
И снова, будто ненароком, зазвенел бубенцами. А скворцы, привыкшие после звона получать любимых личинок и жучков, опять принялись бранить царя дураком, а вельможу жуликом.
Тут все, от слуги до вельможи, стали швырять в певцов чем попало — и грязью, и камнями, и палками. Обезьянка Макака, глядя на людей, тоже разозлилась, она вскарабкалась на дерево, порвала клетку и сбросила ее на землю, но перепуганные скворцы успели выпорхнуть и взлететь на вершину дерева. Вдруг царский ослик тряхнул головой и зазвенел колокольчиком. А скворцы в ответ на звон снова принялись поносить царя и вельможу.
Все глупцы и подхалимы, окружавшие царя царей, закричали, что надо изгнать с царского двора певцов, которые бранят царя и вельможу. И поднялась суматоха. Царская челядь стучала по дереву палками и бросала в скворцов камнями, попугай махал крыльями и кричал на ухо царю то доброе утро, то спокойной ночи, а обезьянка, забравшись на вершину дерева, старалась поймать перелетавших скворцов. Тут золотые скворцы навсегда улетели из царского сада.
На другой день до главного вельможи дошло, что изгнанники не забывают крамольные слова и где попало бранят царя дураком, а вельможу жуликом. Под страхом великой немилости всем подданным было приказано не давать золоченым пичужкам приюта и отдыха и безжалостно гнать их из владений Лежи-Полеживай. И началось гонение двух веселых скворцов по всей земле у теплого синего моря. Люди швыряли в них камнями, стреляли из пращей и самострелов, гонялись за ними по полям, и лугам, не давая покормиться и отдохнуть.
И вот как-то под вечер усталые и голодные скворцы улетели на дикие пустынные холмы, опустились на общипанное ветром дерево и прижались к его серому стволу. Далеко-далеко синела полоска моря, за нее погружалось солнце, и скворцы, освещенные зарей, горели на дереве, как два радужных огонька. Когда солнышко совсем нырнуло в море, холмы окутал сумрак. Изгнанники скворцы плотнее прижались к дереву и задремали. Они слышали, как в темном вечернем небе пролетали разные птицы стайками, парами и в одиночку. Сдержанно гоготали гуси, зазывно и грустно курлыкали журавли, пищали, звенели и щебетали мелкие птахи.
— Куда они так спешат? — спросила скворчиха.
— Наверное, туда, где их не выкрасят краской и не посадят в клетку, чтобы потом выбросить и зашвырять чем попало.
— И не помешают свить гнездо и вывести деток! — с грустью добавила скворчиха. — Почему бы и нам не полететь следом за этими птицами? Наверное, там очень спокойно и привольно, если все спешат туда, как на праздник, с веселыми криками.
На это скворец ничего не ответил, но был согласен. И вот утром, чуть только забрезжил рассвет, золоченые скворцы снялись с дерева, взвились вверх и, набирая высоту, устремились в ту сторону, где занималась заря. Так летели они несколько дней, не торопясь, но поспевая за бегущей на север весной, за жаворонками и другими пичужками, что спешили туда же. Изредка они, по примеру других птиц, останавливались, чтобы покормиться и отдохнуть или переждать встречный ветер и холода. И снова летели, а земля внизу была уже совсем не такая, как у теплого синего моря. Местами она белела от снега, который скворцы видели впервые. Потом перелетели широкую полноводную реку. По воде плыли большие белые льдины, и река от того казалась еще суровей и стремительней. А за рекой опять пошла пестрая от снега земля. Густой ковер хвойных лесов наглухо прятал тайны этой новой земли, а по-весеннему голые березняки пестрели черными бревенчатыми избами с небольшими полянами вокруг. Это было царство лесного царя Берендея, по прозвищу «Выдирай Пеньки».
— Мне жутко в этом диком краю с белой землей и темным лесом! — на лету жаловалась скворчиха.
— Не трусь! — бодро ответил скворец. — Может быть, здесь люди умнее и добрее, чем на нашей родине!
Скворцы дружно нырнули вниз, к земле, и спустились на вершину высокого дерева, что дремало под весенним солнцем рядом с избой царя Берендея.
День начинался солнечный и теплый, и вся царская семья была во дворе. Сам Берендей, по прозвищу Выдирай Пеньки, в короне из курчавых волос, сверкая топором, вытесывал из дуба рассошину для орала. Царица Берендеиха, подобрав подол за поясок и засучив рукава, скребла и мыла крылечко перед весенним праздником бога Ярилы. Царевич Берендевич, сидя на завалинке, чинил уздечку для Сивки-Бурки. Царевна Берендевна толкла в ступе просо на кашу и провеивала его на ветру. Пятеро царят-берендят, радуясь теплу и весне, босые, худые и вихрастые, играли на проталинке у избы. Исхудавшие за зиму труженик Сивка-Бурка и рогатая Буренка вышли из повети погреться на солнышке. По двору бродили куры с горластым петухом во главе, у стены на припеке дремал пес Полкан, на крыше спал кот. На шестах вокруг двора белели конские и коровьи черепа, поднятые хозяином для отворота злых духов и мора на скотину. Поодаль от подворья, на пригорке высилось Берендеево идолище. Огороженные частоколом деревянные истуканы-идолы не мигая глядели на солнышко, источая вместо слез капли душистой смолы. А по углам идолища опять же конские и коровьи черепа, ослепительно белые, с черными глазищами. Все это видели золотые скворцы с вершины высокого дерева. А царь Берендей, вытесывая из дуба рассошину для орала, негромко пел свою песню!
А высоко в небе звенели жаворонки, первые желанные гости Берендеева царства. Обогретые солнышком скворцы тоже запели, но Берендею казалось, что это жаворонки со своей песней спустились пониже над избой, и он, обделывая рассошину, допевал свою песню:
Но чуткие и зоркие берендята скоро заметили на дереве диковинных пичужек и закричали:
— Тятька, гляди! На нашу березу золотые пичужки прилетели! Золотые, огненные, нарядные!
Поднял кверху бороду сам Берендей. Подставила ладонь к глазам Берендеиха. Загляделись на вершину березы царевич Берендевич и царевна Берендевна. Навострил уши пес Полкан, проснулся на крыше кот. А скворцы замолчали. Кто знает, не начнут ли эти люди швырять в них камнями и палками! Но снизу им никто не угрожал. Скворцы осмелели, спорхнули на спину Сивке-Бурке, покопались в шерсти и перелетели на спину Буренки. Все Берендеи, не шелохнувшись, глядели на невиданных пичужек, сверкавших разноцветными перьями. Пес Полкан вздумал гавкнуть, но получил пинок от Берендевича. Котище — пушистый хвостище спрыгнул с крыши и пополз по земле. И получил от Берендевны пестом по боку. Покопавшись на коровьей спине, золоченые птахи перелетели на проталины, побегали, покормились и вспорхнули на березу. Тут они опять затирликали, засвистели, попутно передразнивая всех, кого слышали — и кота, и галок, и собаку, и петуха, и стук Берендеева топора.
— Ах вы проказники! — удивился царь Берендей и строго-настрого наказал своим берендятам всячески оберегать пичужек-новоселов. Тут царевич Берендевич, прибирая конскую сбрую, звякнул колечками и удилами уздечки. Скворцы услыхали и вспомнили:
— Царь царей дуралей! Вельможа жулик, жулик!
Скворцы кричали на чужом языке, и никто их не понял. Старому Берендею чудилось в их криках совсем другое: «Будь здоров, царь Берендей, под горячим оком бога Ярилы! Выдирай пеньки, засевай землю, расти жито и семью, люби все живое на свете!»
Целую неделю распевали скворцы по утрам над избей Берендея, улетая в полдень покормиться на проталинах. Потом стали хлопотливо подыскивать местечко для гнезда. Они заглядывали во все укромные уголки под крышей, в щели избы, забирались в глазницы конских черепов над воротами и на идолище. И Берендей сообразил: «Это они место для гнездышка ищут. Надо им помочь!» И сделал из кряжа дуплистой осины дуплянку-скворечницу. Это была самая первая скворечница на всей земле, на всем белом свете, сделанная руками человека.
Проворные берендята быстро подвесили дуплянку на березе, а Берендей выдолбил на всякий случай другую и поднял ее на шесте над воротами. Обе дуплянки скворцам понравились, и они не знали, какую выбрать. Долго без устали ныряли они то в одну, то в другую. Окна-летки Берендей второпях сделал тесноватыми, впору только пролезть, и вот пока скворцы лазили взад-вперед, краски с их перышек постепенно стирались. И никак новоселы не могли выбрать себе домик. Скворец настаивал на первой дуплянке, потому что на березе ему было ловче петь и не так жарко, а скворчихе понравилась дуплянка на шесте, потому что она летком была к солнышку, просторнее и светлее. Так вот, пока скворцы, выбирая домик-дуплянку, шныряли то в одну, то в другую, краски и позолота с них почти начисто осыпались. Наконец свили они гнездышко там, где хотелось скворчихе, — в дуплянке над воротами.
На досуге любили скворцы посидеть на крыше своего домика, пели и махали крылышками. И золотистой пыльцой слетали с их перьев остатки красок и позолоты. К тому времени как вывести детей, остались на скворцах только желтые крапинки да зеленоватый отлив. Повадились они летать на поляну, где Берендеи пеньки да коренья выдирали и землю под просо копали. Прилетят и давай вредных гусениц да жучков выклевывать. Так и норовят из-под рук людей червячка схватить. И опять подивился царь Берендей.
— Какие ведь ловкие! Недаром посерели, чай от работы да заботы краса-то вылиняла!
— И ведомо! — подстала Берендеиха. — Дом вести — не гузном трясти!
А шесть молодых скворцов, вылетевших из дуплянки, были еще серее. Когда детки поумнели и окрепли, старые скворцы их оставили и к середине лета вывели еще шесть скворчат. И стало в Берендеевом царстве четырнадцать серых скворцов, первых таких скворцов на всем белом свете. Все лето трудились скворцы, очищая владения Берендеев от вредных насекомых. Наперегонки бегали они по пашне, по борозде за пахарем, подбирая жучков и личинок. От сытой пищи молодые скворцы быстро выросли, выровнялись, и их трудно стало отличить от родителей. И с каждым днем они все больше привыкали к лесному царству Выдирай Пеньки, к труженикам Берендеям.
Но осенью, когда с полуночной стороны полетели на полдень первые стайки перелетных птиц, старые скворцы-родители забеспокоились, собрали молодых и сказали:
— Скоро сюда придут холода. Надо улетать от них на нашу родину, туда, где всегда тепло!
И все четырнадцать серых скворцов улетели к теплому синему морю. Они спокойно прозимовали в стране царя Лежи-Полеживай, потому что среди стайки серых скворцов никто не мог теперь признать двух озорных золоченых скворцов. Но с приближением жаркой южной весны забеспокоились молодые скворцы. Они заскучали вдруг по стране Берендеев, где родились и выросли. Это был зов их родины, и, подчиняясь этому зову, они сказали старикам:
— А теперь полетим на нашу родину!
И всей стайкой полетели на север. Радостно встретили серых скворцов в Берендеевом царстве. Много новых дуплянок появилось на шестах и на деревьях: выбирайте, гости дорогие, любой домик, кому что мило! Босые, худые и вихрастые царята-берендята зорко охраняли гнезда скворцов от сорок и ворон, от котов и кровожадных ласочек. И забота их не пропала даром. К середине лета около сотни серых скворцов трудились на земле Берендеев, помогая урожаю.
А осенью, когда все скворчиное племя тронулось в дальний путь, на зимовку к теплому синему морю, сам царь Берендей, по прозвищу Выдирай Пеньки, помахал им вслед своей старенькой войлочной шапчонкой:
— Доброй дороги вам, бесценные пичужки! Прилетайте опять!
Здесь конец сказки о том, как появились на лесной Руси серые скворцы. Племя их потом так разрослось, что заселило все равнины далеко на север от теплого синего моря. Холодный край с долгой зимой и быстрой весной стал их родиной. И теперь только зеленоватый отлив да желтые искорки на одежде наших скворцов напоминают о двух разрисованных скворцах, что в отместку за Пастушка и горбунчика Гия бранили царя дуралеем, а вельможу жуликом.
Поющие часы
Появилась у одного боярина заморская диковинка, часы, величиной с большую луковицу. Время стрелками показывали и звоном отбивали. Часы еще тем угодливы были, что в полдень, к обеду и в полночь хозяина будили. Проснется боярин, терем обойдет, сундуки да замки-запоры оглядит и снова спать завалится. Дорожил боярин часами и часто перед гостями похвалялся. Но вдруг отказали часы, не тикают и не тенькают. Днем и ночью молчат, не радуют, не будят. Загоревал, заугрюмился воевода.
Вот услыхала челядь боярская, что по городу парень ходит — на все руки мастер, все, что надо, людям починяет. Девчонкам колечки да серьги из серебра отливает и в них камешки вставляет. Ножи и сабли острее острого оттачивает, по серебру чернью рисует, по стали узоры наводит. Приказал боярин заманить того молодца на боярский двор и в хоромы привести. И с грозой в голосе сам дознаваться стал, может ли тот парень заморские часы починить, что перестали время стрелками показывать и звоном отзванивать.
Молодцу так за двадцать лет, широкой косточки, в груди и плечах простор, на ногах пружинистый. Да и по взгляду не вороньей породы, а роду соколиного. В рубахе, крестом вышитой, под кушаком шелковым, обут в сапоги с подковами. А через плечо на ремне сумка кожаная. Глянул парень на часы и сказал в ответ:
— Зацепиться бы глазами, а руки сделают!
Распахнул молодец окно терема, пустил в горницу свет-солнышко и пристроился на подоконнике часы разбирать, до изъяна доискиваться. Сначала крышки отнял, на подоконник положил и на них разные колесики, винтики и камешки складывал. И запоминал, что к чему. Воевода-боярин поначалу у него за спиной стоял, доглядывал, а в полдень под окнами стражу поставил, а сам пообедал и спать завалился.
Боярские стражники от духоты да лени к стене привалились и, сидя, задремали. А парень все в часах разбирался, догадывался, как звон-музыку наладить. И догадался под конец, что и как.
Тут впорхнула откуда-то девчоночка, дочка боярская, поглазеть на чудо-мастера. По горнице, как мышка, неслышно шмыг да шмыг, с разных сторон на пария заглядывала, глазами постреливала. Поглядеть склонялась и в затылок мастеру подыхивала. Отложил тут молодец ремесло, обернулся, на девчоночку глянул. Да и загляделся, как на диво дивное:
— Ой, краса-то какая!
Не раздумывая, достал из сумки золотое кольцо с камнем-самоцветом и красе-боярышне в ручку положил. Примерила девушка колечко на пальчик и подивилась вслух:
— Али ты богатый купец, что такое дорогое даришь?
А парень в ответ;
— И в родню к торгашам не пойду!
Достал серьги золотые красы невиданной, с камешками — ослепнуть впору — и боярышне на ладошку положил.
Еще больше подивилась боярская дочь:
— Чай, не сын ты боярский али княжеский!
— И рядом с барами не сяду! — Это парень в ответ.
Достал из сумы бусы яхонтовые на золотом шнуре-цепочке и своими руками повесил на шейку девчоночки. И опять загляделась девица не на бусы, а на добра молодца:
— Во сне али наяву тебя, бывало, видела?
— Как, чай, не видеть, над всей Волгой воеводой хожу!
Пока так ворковали, с улицы на подоконник петух взлетел и тихомолком все часовые винтики, колокольцы и камешки поклевал. Оставил одни колесики и кукареку запел. Увидели парень с девушкой беду, спохватились, ахнули, да поздно. Тут стража проснулась, загалдела. Девчоночка из горницы выпорхнула, а боярин на шум привалил. Узнал, в чем беда, и таково приказал:
— Челяди петуха поймать, а мастеру в руки топор дать, чтобы он вору-петуху голову отрубил и все поклеванные винтики, и камешки, и колокольца из петушиного горла достал. А не исполнит, так самому головы не носить!
На самую малость призадумался парень. Принял петуха в руки и пошел под стражей на боярский двор. Там на плаху сел, петуха на коленях держит, по шейке гладит, приговаривает:
— Экая жалость какая! Такому-то красавцу да голову рубить! Добро бы из пищали, из пистоли застрелить, а тут — топором!
Отбросил топор в сторону, говорит страже с укором:
— Али я палач какой? Честнее свою голову на плаху склонить, чем чужую топором рубить!
И только успел такое вымолвить, как петух встрепенулся, как перед дракой, распетушился, шею вытянул, словно подавился чем. Да и высыпал из горла парню на рубаху все часовые винтики, колокольца и камешки, что с подоконника склевал. И тут же с колен на землю слетел и закукарекал радостно: «За добро-о-ту-у!»
Подивились стражники, парня обратно в терем повели, а он из подола часовые часточки опять на подоконник высыпал и принялся часы до дела доводить. И собрал часы заморские, как новые затикали. Только звон-пружина да колокольцы молчали, потому что время для звона не пришло.
Обрадовался воевода-боярин, обещал мастера поутру наградить и с честью со двора проводить. А на ночь в подвал за решетку посадил. Сам, поужинавши, спать повалился, а часы, как бывало, под подушку положил.
Только стал засыпать, как где-то петух пропел. Поворочался боярин с боку на бок, подремал часок, опять петух запел раз за разом. Забормотал воевода спросонок:
— Эк, загорланил безо времени, засветло! И без тебя знают, что непогодь будет — третий день поясница болит!
И снова захрапел. А петух через каждый час кукарекал и мешал боярину спать. В самую полночь, когда часы будили хозяина долгим звоном, опять загорланил петух на самое ухо. Прислушался боярин, догадался, — видно, полночь. И пошел свои хоромы оглядывать, сундуки да замки-запоры проверять. Обошел, оглядел, никакой беды не нашел и снова сон досыпать.
Утром, как проснулся, приказал молодца из подвала выпустить и к себе привести. Пошарил на поясе ключ от застенка — нет ключа! Все ключи на месте, а от застенка пропал. Побежали стражники подвал проверять, глянули и ахнули. Подвал не закрыт, а от молодца и след простыл. Тут все спохватились дочки боярской, принялись искать да кликать. Не нашли, не докликались, пропала девчоночка.
Стали всем подворьем гадать да думать. И догадались, что это сам Сарынь Позолота, атаман разинской вольницы, по городу ходил, колечки отливал и часы воеводе починял. И никакого тут дива нет. В старом-то Нижнем Новгороде и не такие диковины бывали!
Серебряный подойник
Вырос у нижегородского богача сынок, рябой да конопатый. Годов было много, а борода не росла. За такого и девки замуж не шли. Вот и женили парня на бедной девке, лицом тоже неказистой, с родимым пятном во всю щеку. За этот изъян ее «Родинкой» кликали. Чтобы поскорее разбогатеть, откупил молодой мужик на большой дороге постоялый двор и на житье туда с женой перебрался. И дело сразу к богатству пошло. От постоялого двора в любой конец до жилья много верст глухим лесом. Путникам поневоле было тут ночевать и платить за постой, сколь хозяин назначит. А по старинным приметам шадровитый да рябой — человек неуступчивый, скупой. Вот и этот конопатый молодец что больше богател, то пуще жадничал. Богатство прибывало, а борода не росла. Три волосинки — на смех людям! Так и прозвали: безбородый да безбородый.
Вот среди зимы в праздники выпала морозная неделя, путников не было, всяк дома отсиживался, морозы пережидал да Новый год встречал. Досадно было безбородому, что дни без барыша пропадали. На крыльцо выходил да прислушивался, не едет ли кто откуда. Вот услыхал он, что в лесу бубенец звенит, топоток да скрип по снегу. «Кто-то знатный да богатый едет!» — подумал мужик и приказал бабенке печку топить, лежанку греть. Вот слышно, совсем рядом скрипит да позванивает. И вышла из леса старушоночка с посошком, с подойником на локотке. Лапотки скрип-скрип, посошок стук-стук. За старой девчоночка лет, чай, семи, тоже в лапотках, в шубеночке, веревочкой подпоясана. А за ней белая козочка с бубенцом на шее, топы-топ, топы-топ, да еще норовит вприскочку, играючи! Вошла старая с девчоночкой да козочкой в избу и спрашивает:
— Чай, пустите ночевать, люди добрые?
Хозяин ответить не успел, как Родинка приветила:
— Ночуй, ночуй, матушка! И тебе, и внучке, и козочке места хватит, изба просторная!
Обогрелась старушка и, перед тем как спать, присела козочку подоить. Под струйками молока зазвенел подойник, словно песенку запел, заговорил, как живой. Подивился хозяин:
— Какой звонкий! Чай, не серебряный?
— Кто его знает, — ответила бабка, — от родителей достался!
Подоила козочку, кружку молока внучке налила, остатки в хозяйские крынки слила, подойник на стену повесила. И уснула возле внучки на лежанке. А хозяину не спалось, все по избе ходил да на подойник завидовал: «Ох, много тут серебра положено!»
Вот ночевала старая и утром в дорогу засобиралась. За ночлег алтын-денежку хозяину подает и спасибо сказывает. А безбородый в ответ:
— А что так мало? Меньше полтины не беру! За себя полтину да за внучку с козой по четвертаку — вот и рупь целковый!
Пошарила бабка по сарафану, ощупала карманы и не нашла ни грошика. Тут Родинка голос подала:
— Полно, хозяин, не жадничай, отпусти без выкупа!
Но заупрямился конопатый:
— Коли нечем за постой заплатить, так козу с подойником в заклад оставляй!
Призадумалась старушоночка, затуманилась. А у девчушки на глазах слезинки выскочили.
— Ладно, — молвила старушка, — оставим и козу и подойничек. Только ты, добрая душа-хозяюшка, не ленись по утрам нашу козочку доить!
Потом на прощанье козочку приласкали, по спинке погладили и со двора потрусили. Только лапотки заскрипели да посошок застучал по мерзлой дороге.
Прошла неделя-другая, а старушонка за козой не приходила. Хозяин, радуясь, посмеивался: «Видно, рубля не накопила. Вот и отпусти бы каргу без заклада. А теперь у нас лишняя скотина на дворе да серебряный подойник на стене!»
Только козочка по старой хозяйке скучала. А новая ее утешала:
— Не грусти, голубка, скоро хозяюшка придет!
Вот как-то вышла Родинка во двор козочку подоить, присела и начала в подойник молоко чиркать. Зазвенел, запел подойник, словно песенку веселую запел. А козочка вдруг передним копытцем по донышку стук-постук! Подскочило молоко из подойника и бабеночке в лицо брызнуло.
— Эка озорница! — молвила Родинка и тряпочкой лицо вытерла.
Подоила, в избу пришла и мужу рассказывает, как ее коза молоком обрызгала. Глянул безбородый и не узнает жены. На щеках и на лбу ни одного пятнышка, ни бородавки, ни родинки, лицо чистое да белое, брови стрелами, глаза как синие луковицы, а коса густая, волнистая, ниже пояса. Удивился безбородый, на жену глядючи:
— Ух ты, какая стала баская! Видно, не простое у козы молоко, наговоренное!
Хвалил жену, а сам завидовал: «Какая ведь раскрасавица! Такую бабу и боярин подберет!»
На другое утро говорит жене:
— Дай-ка я сам разок козу подою!
Схватил дойничек, выбежал во двор и давай козу за вымя тянуть. Но поджалась коза, не дает молока мужику. Со зла начал он козу кулаком в бок тыкать, неистово за соски тянуть. Надоил молока чуть на донышко, плеснул себе в лицо и умылся. Бросил подойник и домой прибежал.
— Ну-ка, погляди, жена, какой я стал? Пропали ли мои шадрины да конопатины?
Глянула Родинка и ахнула. У мужика разом козлиная бороденка выросла, из ушей шерсть полезла, а на лбу бугорки-рожки наметились. Тут кто-то в сенях по полу пробарабанил. Глянули на улицу, а там коза с подойничком на рогах вприскок в ту сторону, куда старушка с девчоночкой ушли. И больше ее не видели.
Рассказывают у нас старые люди, что с той поры и повелись на свете люди с жиденькой козлиной бородой, по приметам самые скупые и непокладистые. Этому и поверить можно. В лесной-то стороне и не такие чудеса бывают.
Сказка про пихту
Жил в селе над Ветлугой паренек, по прозвищу «Русой». Вот весной послал его отец поляну под просо корчевать, а мать свое наказала:
— Еловых веточек на помело принеси. Да смотри, сынок, на чужих девчонок с той стороны не заглядывайся!
Вот пришел Русой на свою поляну, пеньки да коренья выкорчевал, землю вскопал. И, покончив с делом, принялся матушкин наказ выполнять. Ломает еловые веточки и припевает:
А парня и вправду вскорости в царское войско забирали. И очень не хотелось ему к царю в солдаты идти. Услыхала его песенку одна марийка в белой рубашке, Айна-егоза, черные онучки, карие глаза, девчоночка, что за Ветлугой жила. Послушала, пожалела молодца и закричала через реку:
— Ой ты, парень, русая головка, покажи-ка удаль да сноровку, переплывай на мой берег! Тогда не придется тебе с девчоночкой прощаться. А елочки возле моей избы растут совсем не колючие, а мягкие, как лебяжий пух!
Бросил парень лапник, что матушке на помело наломал, и стал из-под руки мариечку разглядывать. И так она ему издали понравилась, что сразу забыл о своих стариках и на другой берег переплыл. И повела его Айна в свой край лесной, богатство да житье-бытье показывать.
Шли да шли, вдруг расступился лес, и показалось селение. Избы сосновые, крыши лубяные, крылечки резные, а вокруг деревья, как ели, голубые. Потрогал парень Русой веточки на деревьях — мягкие. К щеке веточку приложил — совсем не колется как шелковая! Парень удивляется, а девчоночка радуется:
— Вот какие добрые да мягкие наши елочки. Нигде таких не найти!
Потом повела Руса в избу, родным показывать:
— Поглядите, какого братца я себе с той стороны реки переманила.
Тут в избе стол накрыли, хлеб, пироги да медвежий окорок подали, сотового меду понаставили, и все наперебой гостя честили. А на ночь Руса в чистой горнице спать положили. Айна пихтовый веничек наломала и под подушку подложила, чтобы голове повыше было. И такой нежный да настойчивый запах от того веника был, что, засыпая, подумал Русой: «Вот поживу тут до той поры, как это дерево отцветет, семян наберу и в свой край отнесу. То-то подивятся наши!»
А поутру этой думкой с Айной поделился. Сразу позадумалась девчоночка. Не одну неделю Русой в чужом племени жил, помогал жито сеять, поляны распахивать, пеньки выдирать. И все спрашивал Айну, скоро ли их мягкие елки зацветут и обсеменятся, чтобы ему поскорее семян набрать и к своим уйти. А девчоночка Айна так к братцу Русу привыкла, что о разлуке с ним и думать было горько. И часто подумывала: «Чтобы пихта-дерево подольше не цвело!»
Но вот подул ветер с полудня, жарой дохнуло, и зацвела пихта. Обрадовался Русой. А девчоночка Айна совсем пригорюнилась, сидя на завалинке. Шла мимо бабка-подгоренка, что в избушке под горой у леса жила и смерти ждала. Остановилась, на Айну глянула пристально и, клюкой постукивая, сказала, как прокаркала:
— Ох, знаю, о чем девка призадумалась. Но сделаю так, что долго-долго здесь парень проживет, ожидая семян от пихты-разлапушки! А ты, черноглазая, глазки утри, личико проясни и мне блинков, да маслица, да медку за службу принеси!
И ушла бабка-подгоренка, клюкой постукивая. А девочка в тот же час отнесла ей в избушку и блинов, и масла, и меду. И села у дома Русого с поля поджидать. А старая карга-подгоренка, ночи дождавшись, в плошку-жаровню горячих углей насыпала, да гнилушек, что во тьме мерцают, да медвежьей желчи с печенью туда же подбросила. И в ночь-полночь со зловонной жаровней под пихтами кругами ходила и деревья окуривала, наговоры свои припевая:
Потом пучок ядовитой травы веха в жаровню бросила и еще раз все пихты кругом обошла. И после колдовского дела в свою избушку под горушкой уплелась. После полуночи с неба вдруг потянуло холодом, и пал на деревья и травы злой иней-утренник. А когда взошло солнышко да обогрело, весь цвет пихтовый завял и обсыпался. Порадовалась Айна: «Не уйдет теперь братец Рус!» А Русой опечалился и сказал:
— Видно, не дождаться мне семян ваших мягких елочек. Завтра домой пойду!
На ночь в последний раз Айна пихтовый веник связала и под изголовье Русу положила. Долго не спалось парню. Запах от веника дурманил голову и отгонял сон. К полуночи Русой уснул и увидел себя во сне медведем. Он бежал домой, в родные края, бежал по-звериному, на четвереньках, стуча по тропе медвежьими когтями.
Утром Руса в горнице не нашли. Искали, звали — не докликались. От селения к лесу медвежий след разглядели. И рассудили, что парень по родному дому затосковал и убежал, обернувшись медведем. С того дня загоревала Айна накрепко, не ела, не спала. И все плакала да плакала, обнимая соседнюю пихту. Долго она слезами землю под деревом поливала. И зацвела голуба-пихта заново. Обрадовалась Айна и от горя да радости не переставала пихту слезами поливать.
Скоро отцвела разлапушка-пихта и к осени семена высыпала. Вот набрала Айна пихтовых семян целую торбочку да два веничка связала, в лапотки обулась, торбочку за спину, венички в руки да и побежала своего Руса разыскивать. Шла да шла, вышла на реку. На том крутом берегу чужие девушки гуляли и песни пели. И крикнула им Айна-егоза, карие глаза:
— Девушки-красотки, нет ли там братца Руса?
— А какой он, твой Рус? — спрашивают девушки.
— У моего Руса голова русая, глаза, как васильки-цветы, плечи широкие, руки сильные!
Позвали тут девушки всех своих парней. У всех волосы русые, глаза синие, плечи широкие и руки сильные. Спрашивают:
— Ну, который твой Рус?
— Нет тут моего Руса! — ответила Айна, взмахнула с досады веничками и побежала дальше.
Много дней бегала девушка, разыскивая братца Руса, взмахивая с досады и горя то одним, то другим веничком. И летели из веничков пихтовые семена во все стороны. Так долго искала Айна своего Руса, что торбочка за спиной от непогоды обветшала и сыпались из нее семена повсюду, где пробегала девушка в черных онучках. И вырастали тут пихтовые перелески.
Так расплодилось племя пихты-красы по русской земле от Волги до холодных морей и каменных гор. Что стало с Русом и Айной, никто не знает. Но заметили люди, что испокон веков пихта родит семена не раньше, как ей семьдесят лет исполнится. На такой срок, будто бы ее бабка-подгоренка заворожила. И еще такое говорят: если какая девчоночка поплачет под пихтой подольше, то пихта раньше срока зацветет и семечки выбросит. Только не стало теперь таких девчонок, чтобы слезы под деревом лить. Им бы только веселиться, смеяться, плясать да песни петь.
Как галки за Русь стояли
Много веков назад жило на Руси племя молчаливых черных пичужек. Люди не мешали им гнездиться под крышами домов, теремов и храмов, оберегали их гнезда и прозвали молчунками. Так и остались бы те птахи молчаливыми на веки вечные, да, видно, судьба научила их подавать голоса.
Одной ранней весной пошли вдруг на восход солнышка боевые славянские полки. Клубилась пыль, ржали кони, звенели кольчуги и оружие. То русский князь Мстислав Удалой вел дружину свою на оборону Руси от страшного воина Чингиза. А высоко над славянским войском летели черные вороны. И спрашивали их волки, рыскавшие по земле:
— Где быть пир-р-ру, бр-р-ратцы?
— На Калке, на Калке, на Калке! — отвечали сверху сарацины-вороны. По всей Руси разносился зловещий клекот черного воронья, призывавший пировать на степной речке Калке. Услыхали это птахи-молчунки и поняли, что идет на Русь беда лихая, неминучая, сожжет Чингиз славянские города и села и погибнут в пожарах их птенцы и гнезда. Посовещались они между собой, да вдруг и закричали звонко, призывно:
— На Калку, на Калку, на Калку!
И удивились тому все русские люди. А птахи собрались в несметную стаю, взвились высоко-высоко и полетели нагонять русское воинство. И приставали к молчункам в пути все новые стаи их племени.
Словно туча саранчовая, двигалась на Русь ратная сила свирепого Чингиза, и мертвела земля под ее ногами. Ни былинки, ни деревца, ни кустика, ни ручья чистого прохладного не оставалось позади, все истаптывала, испоганивала сила вражья монгольская. На встречу с той силой и спешил князь Мстислав Удалой с войском.
Черное воронье высоко кружилось, на кровавый пир собратьев созывало, а туча монгольская на краю неба все росла и ширилась. И стало на сердце русских воинов сумрачно. Вдруг с неба бодрые птичьи голоса послышались. Неисчислимые стаи родных молчунков спустились над русским войском и, кружась впереди, загородили его от зорких монгольских глаз. Летали, кружась над землей, и кричали призывно да весело:
— На Калку, на Калку, на Калку!
Ободрились тут русские и сам Мстислав Удалой:
— Птахи небесные и те за нас стоят! Поспешим же на встречу с басурманами под этим живым пологом!
А полководцы передовых полков Чингизовых видели над степью вдали только птичье оболоко, а что там за ним, разглядеть не могли. Туча птичья все ближе надвигалась, а когда к войску монгольскому вплотную подвинулась, вверх взмыла, как живой занавес. Разглядели тут монголы войско славянское, да поздно было. За сабли да копья схватиться не успели, как русские их смяли, смешали и по степи погнали. А крылатое племя над войском кружилось и витязей криками ободряло:
— На Калку, на Калку, на Калку!
И погнали русские монгольскую рать к самой Калке-реке.
Прискакали гонцы к воину Чингизу и в страхе великом о том поведали, как передовые полки были русской дружиной разбиты. Потемнело и без того грозное лицо Чингиза, и приказал он казнить неудачливых военачальников, а к утру собрать к шатру всех монголов-соколятников с ручными соколами.
На другой день с рассветом главная битва началась. Нежданно-негаданно опять слетелось птичье оболоко, от монгольских стрел русских воинов заслонило, и снова дружина Мстислава Удалого врага теснить начала. Как увидел такое дело злодей Чингиз, подал знак своим соколятникам соколов вверх метнуть. Поднялись высоко монгольские соколы — и сапсаны, и кречеты, и балабаны, ударили сверху на стаю молчунков и всех по сторонам рассеяли. Обрадовались, завыли монголы, как увидели, что русских супротив их совсем мало, пустили стрел тучу непроглядную и всей оравой на дружину князя Мстислава навалились. Долго бились русские с монголами. Руки витязей от сечи онемели, в глазах от жажды темнело, от басурманской крови тошнило, но не отступали. А несметная стая молчунков взвилась высоко-высоко, чтобы от соколов избавиться. Там, под облаками, их ветер подхватил и назад, к своим гнездам, неудержимо понес. И остались над побоищем только черные вороны, они парили над степью и скликали собратьев на жуткий пир на Калке-реке.
Гонимые злым ветром, вернулись молчунки в родные края, не переставая кричать о побоище на Калке. При всякой тревоге они покидали свои гнезда, поднимались вверх и суматошно кричали:
— На Калку, на Калку, на Калку!
И прозвали люди неугомонных пичужек галками. А скромные птахи-галочки стали постоянными квартирантами под крышами русских селений. Роковое слово, которое они впервые услышали и переняли у черного ворона, теперь звучит у них иначе — беззаботно и нежно:
— Кал-кав, кав! Кал-кав, кав!
А мудрому и угрюмому ворону, что живет триста лет, изредка грезится кровавый пир на Калке. Тогда он взъерошивает перья, вытягивает шею и, силясь вспомнить вещее слово, жутко клекочет:
— Каллы, каллы, калл-ка-ка!
Вот какая сказка сохранилась в лесном Заволжье о галках, которые в старину помогали русским стоять против злого воина Чингиза.
Край легенд и сказов
Послесловие
Люблю родной Нижний Новгород. Город Горького и Добролюбова, Свердлова и Заломова, отчизну Минина и Кулибина. Каждый раз когда поднимаюсь от Волги к вершинам загадочных Дятловых гор, меня неодолимо влечет к стенам нижегородского кремля. Хочется разглядеть и ощупать руками их древнюю кладку и приложиться ухом: не расскажут ли они, как живые очевидцы, одну из чудесных былей нижегородской земли? Чудится, что безмолвные башни и стены могут поведать легенды и сказы без колдунов и чародеев, но полные дикой красы из жизни пращуров-нижегородцев. Каждый камень крепости побывал в руках людей, чья жизнь и судьбы для нас теперь так же интересны и загадочны, как посланец из другого мира.
Много раз я бывал у подножия нижегородского кремля, ходил по стенам, разглядывая башни, и думал, и думал. В ответ они так привыкли ко мне, что шепнули самое сокровенное: тайну Потайного оврага, трагедию башен Зачатия и Белокаменной, о Дятловых кузницах и кузнецах, подковавших злых татаровей. И много других былей из жизни Нижнего Новгорода, города трудной и славной судьбы.
С крутого откоса, где изваянный из камня великий нижегородец по-соколиному смотрит в небо, открываются взору дали лесного Заволжья. За голубоватой дымкой дремлет на горизонте зубчатая стена леса. Край сосновых боров и еловых раменей, озорных студеных речек и непроходимых болот. Лес-батюшка, лес-кормилец, лес — отец родной. Надежное убежище мятежной голытьбы, бежавшей от царских воевод, пыток и виселиц. Земля обетованная духовных детей неистового Аввакума. Край хлеборобов, кузнецов, плотников и лесорубов, кустарей-художников и ложкарей, искусных умельцев на все руки.
Круглыми щитами сверкают под солнцем в нижегородском Заволжье провальные озера, очаровывая не только видом своим, но и названиями. Вот дикий, в пустынных берегах Ардин Яр. Строгий Козьмояр в рамке торфяных болот. Изияр и Чернояр — отцы двух нелюдимых речушек. Вероломный красавец Настияр, родивший легенду «О лебедушке Настасье». И легендарный Светлояр, сверкающий несравненной жемчужиной среди своих собратьев.
Светлояр-озеро. А на дне его Китеж-град и тихий звон колокольный, как дивная музыка звона вечернего. Не верится? Но побывайте на старце озере, походите по его холмам и окрестностям. Немало легенд, сказов и сказок шепнет вам Светлояр, если сумеете заглянуть в глубину старины. Надо только помнить две истины: у старины свое очарование, и приукрашать ее — значит портить. И что старина беззащитна, поэтому прикасаться к ней надо бережно, добрыми и умелыми руками.
Родился и вырос я в селе у самого Светлояра. Отлично помню ежегодные ярмарки-гулянья, вереницы паломников на тропах ко граду Китежу, ползанье богомолок вокруг озера, религиозные споры под деревьями. Под темным обрывистым берегом торчали из воды три дубовых столба. Старые люди называли их коновязями и рассказывали, что давным-давно они стояли у монастырских ворот. Привязанный к ним богатырский конь бил в землю копытом и свалил гору вместе с церквушкой в озеро. И показывали место оползня, которое заметно и до сих пор и послужило началом «Сказа о коне Сарацине».
Среди зыбучей поймы бежит мимо Светлояра потайная лесная речушка Кибелек. Подземная вода здесь на свет просится, топкие берега куполом выпячивает, прорываясь родниками да ключами. В старину о таких местах говаривали: «Это супостата Кибелека с войском от святой воды распучило!» И ставили у зыбунов над родниками можжевеловые кресты либо смолистые столбики. И сейчас еще сохранились на той речке немудреные памятники старины. Да осталось сказание о том, как хана Кибелека с воинами от град-китежской воды распучило, — «Сказ про воеводу Хороброго».
В молодости мне довелось учительствовать в сельских школах Семеновского уезда. Это там, где в керженских лесах таились деревни Карельская и Кельи, Монастырь и Пустынь, Комаровской скит и Елфимово, Дубравы и Плюхино. В двадцатых годах этот край еще дремал, по-дедовски пахал и сеял, делал ложки, кадки, матрешки и валенки. И молился по всем правилам староверского благочестия. Были в деревнях доморощенные старообрядческие попики и моленные избы. Это не мешало людям в долгие зимние вечера вспоминать и рассказывать бывальщины из старины.
Деревенька Плюхино. Старый бондарь Яков Ермилович стучит и гремит в мастерской, набивая обручи на кадку. Его четыре сына, постриженные по-староверски, наперебой стучат и строгают. Огонь висячей керосиновой лампы вздрагивает от стука. Когда все заметно уставали, а у младшего сына Макаруньки начинали слипаться веки, Яков откладывал инструмент: «Рассказать вам бывальщину про игуменью Манефу? Как она беса-соблазнителя заставила собачий хвост разгибать». Макарунька забирался на просторную печь и слушал из-за трубы. Сосед Федюха Ольгин располагался поудобнее на полу. Старшие сыновья переходили на тихую работу, строгали обручи и скептически улыбались: «Слыхали, мол, такую историю!» Рыжий пес Балетка и кот Митрошка выбирались на средину пола и не сводили глаз с хозяина.
Староверский книгочей Иван Кокин доживал свой век в старой почерневшей избе среди деревни Елфимово. Это только через речушку от Комаровского скита. Жил одиноко, но в избе было чисто прибрано, в углу под божницей лежали толстенные божественные книги, а по полу ходил, выгибая спину, черный кот. И сам хозяин был когда-то черноволосым, но поседел и очень смахивал на стрельца с картины Сурикова, что сидит в телеге со свечой в руке. Сказку про мать Манефу и плотника Евлаху он еще в молодости слышал.
— Только не сказка это, а бывальщина. А что охальники в ней насчет беса да собачьего хвоста приплели, так это на них грех!
Оживившись и разговорившись, старик спросил:
— А слыхал ли ты бывальщину о том, как наш мученик Аввакум антихриста Никона пряником донимал? Вот как идти от нас просеком, что лесом на Чистое поле выходит, придешь к самому Синему камню, на коем городецкая пряничница плясала, никонианских собак телесами ослепляя. Сходил бы — прямиком-то недалеко. Как выйдешь на Пьяный ручей, тут тебе и Синий камень!
На прощанье старик рассказал мне, как пройти к Евлахиной часовенке. Срубленная из отборных сосновых бревен задолго до того, как появилась пила, часовня почернела от времени, но стены ее были крепки, как кость. Казалось, само время берегло память о бескорыстном плотнике Евлахе.
Давно живет в заволжских лесах городок Семенов, столица кустарей-ложкарей и хохломской росписи. Разговор об истории своего города семеновские старожилы обычно начинают с первожителя — старца Симеона, присуждая ему разные звания: то мятежного стрельца, то беглого монаха, то отшельника из раскольников. И ясно, что старец относится к этому безропотно — стрелец ли, монах ли, спорить не будет. Мне же подумалось, что для старика было бы приятнее и почетнее быть не монахом, не староверским бегуном, а первым ложкарем в заволжской стороне. И написал «Про Семена-Ложкаря». Семеновцы должны быть благодарны этому старику не только как первожителю и основателю города, но и за то, что оставил о себе хорошую сказку.
«Наша-то Керженка — она речка не простая, загляни-ка в нее поглубже!» Так говорят о своей реке кержаки. Это верно, что не простая.
Я прожил на самом берегу Керженца тридцать лет и три года, как в сказке, в избушке, стоявшей к лесу задом, к реке передом, и мог заглядывать в эту глубину кержацкой старины. За много веков до меня на этом месте жил, наверное, человек неолита. Это он оставил тут кремневые топоры, скребки и наконечники стрел, которые я находил под берегом реки и на своем огороде. Только клада с украшениями хозяйки Дикой реки так и не нашел. Один из скребков и описан в «Сказании о Керженце».
Нижегородская земля — край легенд и сказов, заброшенных и забытых. Это самые дорогие клады, только надо уметь их видеть. Как драгоценные камни-самоцветы, их надо поднимать, очищать от пустой породы, умело шлифовать и гранить, чтобы каждая грань заиграла огнями народной смекалки, чести, добра и мужества.
Сергей Афоньшин