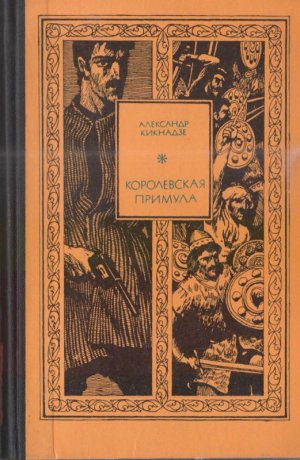
Предисловие
Герой романа[1] — молодой грузинский лингвист Отар Девдариани, поставивший целью своей жизни так или иначе разрешить интересную историко-филологическую проблему — родственны или неродственны иберы закавказские и иберы пиренейские, то есть, иначе говоря, грузины и баски, относительно которых и лингвистика и этнография уже неоднократно подмечали близость, допускающую предполагать их общее этническое происхождение. Надо сказать, что наука в паши дни еще далеко не сказала своего последнего слова по этому вопросу. Но роман есть роман, а не научное исследование. Роман интересен потому, что главные действующие лица, Отар Девдариани и его друзья, являются нашими современниками, типичными для нашего времени. Тот Факт, что действие романа развивается вокруг неразрешенной научной проблемы из цикла гуманитарных, а не естественных наук, нисколько не снижает интереса к книге, особенно в наши дни, когда так повысилось значение общественных наук. Поиски решения проблемы этнической близости басков и грузин вне зависимости от того, как она разрешится, являются серьезным фактором в установлении и укреплении дружбы двух, живущих далеко друг от друга народов. Помимо этого, проблема имеет серьезное теоретическое значение для лингвистики. В наши дни, когда дружба народов нашей планеты приобретает все большее практическое значение в международном масштабе, роман Александра Кикнадзе особенно интересен. Герой его романа Отар Девдариани привлекателен своим бескорыстным, самоотверженным служением науке и вообще всей своей личностью, мужественной, настойчивой и благородной. Более того, этот образ характерен для всех поколений советской грузинской науки, внесшей серьезный и ценный вклад в науку Советского Союза и в мировую науку. Достаточно напомнить имена таких замечательных ученых, которые пользуются заслуженным уважением и авторитетом далеко за пределами нашей Родины, как математик Николай Иванович Мусхелишвили, как семитолог и арабист Георгий Васильевич Церетели, как лингвист Арнольд Степанович Чикобава, а также ряд других, чтобы понять, что образ Отара Девдариани не надуманный литературный образ а правдивое отражение реальных черт живых деятелей советской грузинской науки. Писатель Александр Кикнадзе немало колесил по миру, повидал многие замечательные города; обладая острым взглядом и тонкой наблюдательностью, он показывает людей, наделенных ценными для нашего времени качествами, которые позволяют называть их вполне заслуженно прогрессивными людьми. Именно такие люди привлекают внимание и симпатии автора и его героя, Отара Девдариани. Стремление расширять и углублять дружбу, основанную на высокой идейной основе, сближаться с людьми любой национальности, являющимися борцами за самые благородные идеалы человечества, — необходимая черта каждого настоящего интернационалиста. Недаром великий грузинский поэт Шота Руставели писал: «Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг».
И автор, и Отар Девдариани, побывавшие во многих странах, любят и ценят в людях все передовое и общечеловеческое, но вместе с тем ни на мгновение не забывают и свою великую социалистическую Родину, и одну из ее неповторимых жемчужин — маленькую, воистину прекрасную Грузию, которую воспели в своих бессмертных произведениях и Пушкин, и Лермонтов, и многие другие писатели, русские и зарубежные.
События романа развертываются в небольшом грузинском селении Мелискари, в Тбилиси, Москве, Париже, Мадриде, Лондоне начиная с 1912 по 1938 год. Связь времен налицо. Главный герой романа является живым и подлинным воплощением интернационализма и патриотизма, слитых в одно благородное мироощущение.
В декабре 1965 года под рубрикой «Загадки истории» «Неделя» опубликовала очерк Александра Кикнадзе «Баски. Откуда они?» Редакция попросила меня прокомментировать его. Я писал тогда: «Думаю, что этот очерк привлечет заслуженное внимание к явлению, которым очень интересовались многие советские и зарубежные ученые на протяжении многих лет. И действительно, эти упрямые, но поразительные факты этнографического и лингвистического сходства между басками и грузинами… несомненно, не случайны. Объяснение этого сходства — вопрос, требующий своего разрешения… Главное — в накоплении, в классификации и изучении конкретных фактов сходства. Их надо собрать все. Это очень серьезная задача».
Тот очерк был перепечатан некоторыми газетам и журналами, выходящими на грузинском, испанском и баскском языках. Мне приятно было узнать, что автор воспринял мое пожелание, продолжил работу.
И вот перед нами роман. Автор его, лингвист по образованию, писатель по профессии, избрал сюжет, бесспорно, оригинальный, сумел увлечь нас потоком жизни действующих лиц, донести до нас прелесть одной из древнейших загадок истории.
Несомненно, что роман будет встречен широкими кругами советских читателей с интересом.
М. А. Коростовцев, профессор, доктор исторических наук.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПИСЬМО
Глава первая. Расставание
Отца своего, Давида Девдариани, Отар помнил по одной только встрече.
Было это холодной московской зимой; рано утром кто-то тихо постучал в дверь. Отар проснулся раньше мамы, растолкал ее, она торопливо спрятала под халат длинную косу, щелкнула задвижкой и вскрикнула. В дверях стоял незнакомый Отару мужчина с белыми от мороза усами. На незнакомце была кожанка, в руках небольшой чемодан. Мама бросилась к гостю, они обнялись и долго стояли молча, словно боясь пошевельнуться. Из открытой двери потянуло холодом.
Отар помнил, как строго выговаривала ему мама: «Плотно закрывай дверь, дров до конца зимы не хватить», а сейчас из коридора врывался воздух, от которого тело покрывалось мурашками, но мама ничего не замечала.
— Нина, Нина, — гость целовал маму в щеку, в шею. «Оказывается, совсем не белые у него усы, а совсем черные», — сказал себе Отар.
— Все, навсегда? — спросила с надеждой мама.
— Нет, родная. Пока не навсегда. Пока на два часа. Сердце Отара билось быстро-быстро, он понимал, что сейчас произойдет что-то важное, ему надо было только попытаться вспомнить, где и когда видел он этого человека.
Он знал, что его папа в армии, что скоро разобьют белых, и тогда он вернется домой. Часто думал об отце: вот он скачет на коне, в одной руке у него красное знамя, а в другой верный друг маузер; послушный конь песет вперед-вперед, только ветер в ушах: вжи-иик, вжи-иик, а за папой скачет вся его рота — сто, нет, тысяча человек, они кричат «ура!», и белые, побросав оружие, бегут в разные стороны.
У Отара тоже был свой маузер, который раньше служил вставным дверным замком — подарок соседки-старушки Марьи Матвеевны, долго объяснявшей, как целиться им и в какую пружину вставлять гвоздик, чтобы получался щелчок. Он мечтал увидеть настоящий маузер и все ждал, что его привезет папа… У этого человека маузера не было, а был старый чемоданчик. И голос у незнакомца был тихий, и, когда он говорил про два часа, на лице его была застенчивая и виноватая улыбка.
Мама плотно прикрыла дверь, заложила ее тряпкой, висевшей на ручке, подошла к сыну:
— Ну что же ты?.. Подумай, кто это может быть.
Мужчина завернул Отара в одеяло, приподнял над кроваткой, заглянул в глаза и сказал весело, с легким кавказским акцентом:
— Слюшай, Нинка, йэтот гражданин упрямо не хочет узнавать своего отца. И я бы не узнал Отара. Как вирос! Глаза твои, но нос, нос — наш, наследственный, девдариановский, за версту видно, что этот молодой человек — Девдариани. Итак, товарищ Отари, ви не желаете нас узнавать. Ничего, ми это дело сейчас исправим.
Мужчина прижал малыша к груди и, сделав несколько шагов — от угла к углу, — запел старую грузинскую песенку «Моди внахот венахи».
Кто-то очень давно напевал Отару ее перед сном. «Давай посмотрим на виноградник… Кто съел виноград? Козлик. А что стало с козликом? Его съел волк. А в волка выстрелило ружье. А ружье погибло от ржавчины. А ее съел огонь. И у огня был враг. И у того врага — свой враг…» Пел большой сильный человек с теплыми и мягкими руками. А у этого были холодные руки. И чужой голос. Только песенка та.
— Ну-ка посмотри на меня хорошенько… — голос мужчины пресекся.
— Папа, папка, мамико! — малыш уткнулся в грудь мужчины. Словно проверяя себя, Отар дотронулся до руки отца. Она согревалась и казалась теперь знакомой-знакомой.
«Наверное, как я, не любит перчатки», — подумал малыш, проведя ладонью по шершавой, потрескавшейся от мороза руке отца.
Мама накинула платок и вышла за дровами.
Мужчины остались одни. Отар хотел спросить про маузер, но отец подошел к столу, вынул из ящика большую синюю папку, открыл ее и начал быстро писать на самом верхнем листке. Потом разыскал на дне чемоданчика тетрадь в коленкоровом переплете и положил ее в папку.
— Ну, какие стишки ты знаешь? — рассеянно спросил отец, продолжая писать.
— Буря мглою небо кроет…
— Хорошо. А еще?
— Эй, комроты, даешь пулеметы, даешь батареи, чтоб было веселее!
— Ну так, давай «Буря мглою», только, пожалуйста, не торопись. — Отец снова взялся за карандаш.
Когда Отар дошел до слов: «Выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей», отец вдруг о чем-то вспомнил, вынул из чемоданчика кулек с рафинадом, пачку чая и еще мешочек с грецкими орехами. Спрятав папку, он начал колоть ножом сахар, получалось у него не очень ловко, кусочки летели на пол, вошла мама, улыбнулась и сказала, что можно не весь сахар колоть:
— Поручи это дело нам, мы как-нибудь сами справимся.
Положила перед сыном два маленьких кусочка сахара, закрыла кулек и спрятала его в шкаф.
— Наш папа не знает пока, что такое классовый паек. И слава богу. Иначе бы он забыл про свои кавказские замашки, — Нина грустно улыбнулась мужу. — Между прочим, в августе нам отказали в пайке, как семье дворянина. Вызвали на заседание комиссии, там у них была только справка из университета, из твоего старого титульного списка. Я им сказала, что муж на фронте, а председатель спросил без особого интереса: «А с какой стороны?», я ответила: «С нашей», а он опять: «С какой с нашей? Красный он или белый?» Я ответила: «Красный». Председатель оторвался от бумаг, оглядел меня недоверчиво, предложил сесть и пропел изумленно: «Ну и дела, дворяне в Красную Армию пошли, ну и дела… А справка есть?» А справки не было… Я показала заметку о тебе в «Известиях», он посмотрел на нее и сердито предложил: «Вы эту „Известию“ себе на память оставьте, а нам справка нужна». Ну пока я собирала справки для этой справки, прошел срок. Правда, за август нам выдали муку и крупу, а вот сахара не дали.
Потом взрослые долго говорили о чем-то своем, отец ломал руками орехи и клал их перед Отаром, а из одной половинки скорлупы сделал кораблик, прикрепил ко дну мякишем спичку, надел на спичку кусочек газеты, пустил кораблик в блюдце с чаем, подул, и поплыл кораблик, слегка покачиваясь на волнах.
— Я хотел бы совсем немного отдохнуть, приятель, — обратился отец к малышу, — не возражаешь?
Мама закутала Отара и отвела к Марье Матвеевне. Та достала очки, книжку с Коньком-Горбунком на обложке и принялась негромко, с выражением читать про охоту Ивана на жар-птицу. Минут через пятнадцать старушка зевнула раз, другой, качнула головой и сладко задремала, не выпуская, однако, книги из рук. Отар дал ей заснуть хорошенько, на цыпочках подошел к двери, тихонько открыл ее, оглянулся и бросился бежать по коридору.
Он бежал по длинному, тусклому, холодному коридору, заставленному старыми сундуками, диванами, кухонными шкафами и прочей рухлядью, бежал, что было сил, чтобы никто не догнал. Запыхавшись, он добежал до своей комнаты, схватился за ручку двери, она была закрыта. Начал колотить в нее кулачками и звать маму; никто не отвечал. Сын понял, что его обманули. Его отвели к чужой женщине и сказали, что папе надо отдохнуть, а сами ушли. Ушли неизвестно куда. Мама говорила, что обманывать стыдно. Когда Отар делал что-нибудь не то, но признавался честно, мать не наказывала его. А теперь сама обманула. Сын ненавидел ее, ненавидел соседку, к которой его отвели, ненавидел сказку, которую она ему читала, у него на всю жизнь сохранилась ненависть к счастливому дурачку Ивану, он ненавидел весь свет. Он сел у двери и громко заплакал и тут увидел в конце коридора Марью Матвеевну, которая бежала к нему, держась за сердце и причитая на ходу. Вдруг за дверью послышались шаги. Кто-то повернул ключ. Отар испугался, подумал, что это воры (за неделю до того обчистили одного соседа-пианиста), и бросился к старушке. Но отворилась дверь, и он увидал маму. Ее длинные черные волосы были распущены. Мама как-то странно улыбалась. Марья Матвеевна почему-то начала извиняться: «Боже, совсем стара стала, ох как это я» — и смотрела на мальчика как на человека, глубоко обидевшего ее.
— Что ж ты не дашь отдохнуть отцу? — с укоризной спросила мама.
— Пойдем, пойдем — схватила малыша за руку Марья Матвеевна.
— Не пойду, не пойду, — забасил на весь коридор Отар.
— М-да, — не очень весело сказал отец. — Боишься, чтобы маму не украли? Правильно делаешь, — И добавил серьезно: — Береги маму, теперь ты главный мужчина в доме. Знаешь, что это такое?
— А ты?
— А мне уезжать.
Мама торопливо скручивала волосы в тугой жгут.
Папа посмотрел на свои плоские черные часы и сказал:
— Скоро прощаться. За мной заедет друг.
Минут через сорок, постучав в дверь, в комнату вошел кряжистый, приземистый человек с громким голосом и настоящим маузером на боку. Он поздоровался, отрекомендовался: «Григорий Иванович», вытащил из-за пазухи точно такой же кулек с сахаром, какой был у папы:
— Не взыщите. Мои-то далеко, не везти же с собой гостинец. Ну давай, Давидушка, собирайся, до поезда меньше часа осталось.
Отец оделся, подошел к маме, взял ее за плечи, посмотрел в глаза, вдруг наполнившиеся слезами:
— Ну не надо, не надо, шени чири ме![2] Тэпэрь ненадолго, — когда Давид волновался, его кавказский акцент становился заметнее. — Тэпэрь ненадолго. Но кто знает, если что-нибудь случится… Не плачь, слушай внимательно, если что-нибудь случится, езжайте в Тифлис. Все же там родные. Ты знаешь, у меня не все было хорошо с Петрэ, но в трудную минуту вас не оставят. А еще помни о том, что здесь, — Давид подошел к столу, вытащил папку, провел по ней рукой: — Старайся, чтобы не пропало.
— Ты что это, товарищ Девдариани, не по тому делу разговор затеял? — Григорий Иванович провел широкой костистой ладонью по подбородку. — Никуда мы с тобой не денемся. Воротимся. Делов слишком много накопится к той поре. Несогласный я, чтобы без нас те дела делали! Выше нос, товарищ командир роты! Никуда мы с тобой не денемся!
Отец подошел к сыну, прижал к щеке.
Сын заплакал. Ему казалось, что он знает, понимает, чувствует больше, чем кто-либо другой из находившихся в этой комнате, больше, чем этот незнакомый человек с громким голосом по имени Григорий Иванович; больше, чем Марья Матвеевна, которая сидит на кончике стула и вытирает платком глаза; больше, чем мама, которая соглашается отпустить отца, не спрашивая сына: а можно ли это делать? Почему так спокойны и молчаливы взрослые? Неужели не понимают эти умные люди, что папу нельзя никуда отпускать, что, если его отпустят, он не вернется. «Как сказать им об этом, как остановить их, кто поверит мне, кто послушает меня?»
— Папка, не уезжай! — сын бросился к отцу, обхватил его колени, крепко уперся ногами в пол: — Не уезжай, не надо, прошу тебя! Мама, скажи ему, скажи, не надо никуда уезжать, попроси его!
— Будь мужчиной, сын! — отец ласково потрепал волосы Отара, делая легкую попытку освободиться.
— Э-э, так не годится провожать, пожелай нам хорошего пути, да боевых побед, да скорейшего возвращения домой. А нюни распускать нечего, не маленький, поди, — в голосе Григория Ивановича зазвучала укоризна.
— Папка, не уезжай! — Сын бросился к отцу, обхватив его колени, крепко уперся ногами в пол. — Не уезжай, не надо, прошу тебя!
…Много раз вспоминал в жизни своей ту минуту Отар, и сердце его сжималось, и спрашивал себя, откуда знал он, что больше не увидит отца. Спрашивал и не находил ответа. Неужто и впрямь дано человеку предчувствовать беду в минуты несчастливого, беспомощного озарения? Эх, знать бы, что ждет впереди! А может быть, лучше не знать?
…Осенью, на второй или на третий день после того, как маму приняли на работу в школу, к ним пришел хмурый, усталый, постаревший Григорий Иванович, положил большие руки на стол и уставился в пол. Долго молчал.
Отар уже пережил эту минуту, он видел уже этого человека, его руки на столе и слышал его чужой, нехороший голос. Теперь он только сравнивал все давно пережитое с тем неотвратимым, что должно было вот-вот наступить.
Чем дольше молчал гость, тем дальше, дальше улетала надежда, уступая свое место беспросветной, смертельной тоске.
Григорий Иванович не поднимал глаз.
— Пропал товарищ Девдариани, Как случилось, не знает никто. Была рота, и не стало роты. В засаду попала. Перебита вся. Возможно, предательство.
— С чьей стороны предательство? — спросила Нина, как будто это было важнее всего, а не то, что погиб ее муж, погиб отец Отара.
«Почему Григорий Иванович не смотрит на нас? Стесняется? Боится? Ведь это он увел у нас папу. Где его маузер? Почему он оставил папу в беде? Почему не поспешил к нему на помощь? Почему не выручил?»
— Следствие пока не дало результатов. Меня вызывали несколько раз, требовали дать пояснения относительно командира роты. Я писал то, что знал. Больше хорошее. Но, конечно, и того, что они из дворян были, не скрывал. Да это и не скроешь. Вот такие дела… Была рота, и не стало роты.
Григорий Иванович помолчал, не зная, продолжать или нет, потом собрался с мыслями, вздохнул горько и тяжело:
— Меня как комиссара батальона под суд отдали. Вины не нашли. Но и в комиссарах не оставили. Как-никак за подбор командиров в батальоне отвечал я.
Нина подошла к сыну, обняла его. Сын не плакал. Он вспомнил слова отца о главном мужчине. Григорий Иванович говорил что-то еще, но Отар не слышал его, не понимал.
— Ну, бывайте… Если что-нибудь новое узнаю, зайду или напишу…
— Как же вы теперь, как же вы теперь, родные мои, без Давидушки, сокола ясного моего? — заголосила в дверях Марья Матвеевна. Она оплакивала соседа, к которому, как это бывает с одинокими, добрыми женщинами, привязалась всей душой, хотя знала его и не так долго. Она оплакивала соседа, а вспоминала своего ясного сокола, мужа своего, минера русского флота, погибшего в японскую войну — он напоминал о себе портретом под образами, с которого смотрело на мир спокойное, мужественное, простое лицо с лихо подкрученными усами. От мужа осталась медаль «За верность и отвагу», иногда, играя с Отаром, она давала поносить ее; вот и сейчас, чтобы заглушить его печаль, Марья Матвеевна вернулась к себе, разыскала медаль и принесла ее Отару.
— Вот это тебе от меня. Тут написано «За верность и отвагу», понимаешь, что это значит? Теперь ты только один у матери, упокой, боже, душу раба твоего, Давида!
Марья Матвеевна подошла к Отару и перекрестила его.
До революции Нина преподавала в реальном училище немецкий и французский. Теперь она работала в трудовой школе для бывших беспризорных. Ее учениками были дети, затравленные жизнью, дети, для которых оказались потерянными первые из самых важных в человеческой жизни лет. Азбука, грамматика, таблица умножения — все давалось их ненатруженным обстриженным головкам с нечеловеческим напряжением.
Нина учила их счету, азбуке, географии, рисованию, пению, она пришла в школу сама, движимая желанием помочь этим мальчишкам. Среди них были ласковые и доверчивые, но были и злые, гораздые на непристойную выходку. Однажды верзила Екатеринкин, терроризировавший всю группу, подвесил у входа в класс глобус, который упал ей на голову, едва она открыла дверь. Нина знала, что это сделал Екатеринкин. Тот сидел с самодовольной улыбкой, потом встал, поднял помятый глобус и спокойно поставил его на стол:
— Давай, гражданочка учителка, рассказывай нам про свою еграфию, а вообче, от ее одна головная боль.
Она не выгнала его из класса. Прижала платком легкую ссадину на лбу, постаралась улыбнуться:
— Ты думаешь, это мне нужна география? Она тебе нужна и твоим товарищам. Чтобы знать землю, на которой жить собираешься и которую тебе предназначено переделать. А для ленивых умом, друг ты мой неразумный, это дело не по плечу. Постарайся запомнить. Итак, на чем мы остановились прошлый раз?
— А платочек-то чистенький, с кружевами, во жила буржуазия! — восхищенно пропел Екатеринкин. — Шик-блеск-красота!
Нина до конца урока казалась спокойной. Но после того как пропел звонок, нервы ее не выдержали. Она не пожаловалась, зашла в уборную, расплакалась и опоздала на следующий урок, и казался он ей долгим, как ни один другой урок в ее жизни.
Когда-то Нина и Давид мечтали стать педагогами. Теперь она не знала, насколько ее хватит. Старалась справиться с группой своими силами, но оказалось, что для этого нужно не только много сил, но и слишком много специальных знаний, которых у нее не было. В школе было одно-единственное пособие, переведенное в 1911 году с немецкого. Да и авторы его не предполагали, что молодой уставшей женщине придется ломать голову над тем, как поступить с трудновоспитуемым Земцовым, который во время большой перемены аккуратно склеил страницы единственной на всю группу книги «Родное слово», или с трудновоспитуемым Дыбовым, который принес в школу настоящий наган с холостым патроном и, когда Нина вызвала его к доске, приставил наган к виску, выстрелил и сделал вид, что упал замертво, У Нины от ужаса помутилось в глазах.
Раньше таким говорили: «Приведите родителей».
У Земцова, Дыбова и у других родителей не было. Раньше таких исключали из школы. Из этой школы не имели права исключить никого. Она была обязана превратить в человека самого отпетого, потерянного, никчемного подзаборника.
Когда-то Нина мечтала стать педагогом.
Теперь она чувствовала, что силы и выдержка ее на исходе. Она терзалась школьными неурядицами, принимая все слишком близко к сердцу. Но более всего терзалась тем, что на протяжении двух с лишним лет не смогла ничего узнать об обстоятельствах гибели мужа.
Однажды к ним домой пришел какой-то Коростылев, грязный обросший человек с маленькими трясущимися руками и сказал, что знал товарища Давида Девдариани, что он погиб в бою, ведя свою роту на вражескую цепь. Он говорил, что сам перенес контузию и потому больше ничего не помнит, помнит только, что Давид погиб мгновенно, должно быть, пуля под сердце попала. Нина была благодарна ему за одну эту весть и, разыскав адрес Григория Ивановича, попросила этого несчастного человека пойти с ней к бывшему комиссару батальона. Коростылев задумался, спросил, не осталось ли чего-нибудь из вещей Давида, и смущенно показал на свой костюм. Нина отдала незнакомцу пиджак и две сорочки мужа и обещала к следующему разу найти еще что-нибудь. Коростылев сказал, что зайдет через день, Нина отпросилась пораньше с работы и вместе с Отаром ждала Коростылева, Он не пришел. Не пришел и на следующий день. А потом оказалось, что это был какой-то морфинист. Он ходил по дворам, заводил беседы со старухами, узнавал, у кого из соседей кто погиб, поднимался в квартиры, сочинял нехитрые истории, выпрашивал вещи погибших и тотчас спускал их.
Три раза 7 ноября Григорий Иванович поздравлял с праздником. А других вестей не подавал.
Отару шел девятый год, когда умерла от тифа Марья Матвеевна. Нина, рано лишившаяся матери, оплакивала ее как родную. Дом без соседки осиротел, не с кем было оставаться Отару после школы, некому было приготовить ему обед и накормить. Отец Нины жил в Харькове с новой женой, у нее было трое своих детей, и она постаралась рассорить его с собственной дочерью. Мать и сын Девдариани, помня слова Давида, решили ехать в Тифлис.
У Нины были маленькие золотые часики с тоненьким браслетом, память о матери. От Марьи Матвеевны остался золотой перстень с дорогим камнем, привезенный мужем из плавания в Мексику. Марья Матвеевна сказала перед смертью: «Будет трудно, поступи с ним по-своему», — и показала глазами на перстень.
Обе драгоценности Нина снесла в Столешников переулок к ювелиру-нэпману, который вернулся в свой магазин и запел старую песню:
— Только я вас прошу, вы никому не говорите, что я дал вам за такую вещь столько денег. А то все подумают, что я сошел с ума. Такие деньги за такую вещь… — в перерывах ювелир ругал что было сил новую власть, которая с такими налогами на честных людей долго не продержится.
Еще был небольшой ковер, подарок Давида. Давид пришел к Нине, порвав с отцом; он принес ковер, купленный едва ли не на последние студенческие деньги, зубную щетку, пепельницу с серебряной рыбкой на оси, двухтомник Жюля Верна и кровь своих предков… Смышленый, глазастый и легковозбудимый, Отар был первой веткой с более светлыми листьями, чем другие, на древнем генеалогическом древе дворян Девдариани.
За ковром пришла маленькая женщина в цветастом платке. Она сама назначила цену, уже уходя увидела серебряную пепельницу с рыбкой и заметила, что не постояла бы перед ценой, ибо вещица приглянулась ей. Нина сказала: «Не продается», — покупательница еще раз обвела комнату профессиональным взглядом, но больше ничего не нашла.
Ехали в Тифлис через Баку с долгими остановками на разъездах. Нина, боясь тифа, купила ужасно дорогие билеты в купе. Но в купе, рассчитанном на четверых, ехали девять пассажиров, потом сошли четверо и вошли трое, потом сошли двое и вошли пятеро.
Ехали в Тифлис через Баку с долгими остановками на разъездах. Нина, боясь тифа, купила ужасно дорогие билеты в купе. Но в купе, рассчитанном на четверых, ехали девять пассажиров.
Когда подъехали к Ростову, в купе вошло трое невысоких смуглых граждан в папахах, похожих на большие белые хризантемы. Они возвращались с политкурсов, разговаривали быстро и громко, помогая языку жестами, пели протяжные песни и угощали соседей черствыми, но очень вкусными пирожками.
— Тифлис — хароши город, но пасматри хоть раз на Баку, никуда не уедешь. Такой море где есть? Такой рыба где есть? Такой виноград, шааны называеса, где есть? Адин раз пасматри. Грамотни челавек знаешь как нам нужен… — убеждал выпускник политкурсов Нину, мечтательно оглядывая ее. Она не знала куда себя деть.
Нина долго не могла уснуть. Рядом мирно посапывал Отар. Таинственно шептались соседи. Под подушкой лежала старая синяя папка. Она о многом напоминала: с ней было связано первое расставание Нины и Давида после счастливого и быстро промчавшегося года знакомства.
Отец Давида, профессор Московского университета, языковед Георгий Девдариани получил весной 1912 года приглашение на международную конференцию баскологов в город Бордо. Он взял с собой Давида, студента-филолога. Нина переживала разлуку тяжело. Все эти полтора месяца она жила в мире иных измерений, только делала вид, что слушает лекции (вечером, садясь за конспекты, она с трудом вспоминала, где и когда записывала их). В ту пору отец только-только привел домой мачеху, Нина старалась как можно меньше видеть эту крутобокую и громкоголосую даму, сразу же взявшую власть в свои руки. Много читала. У хорошего писателя нашла довольно сентиментальную мысль — разлука для любви все равно что ветер для огня: маленькую гасит, а большую разжигает, — переписала ее в блокнот и все думала, все спрашивала себя: а какая любовь у Давида, не погаснет ли там, вдалеке, не увлекут ли его француженки…
Он вернулся загорелый. На перроне, перепоручив отца заботам своего брата Петрэ, взял Нину под руку и, стараясь идти с нею в ногу, все говорил о встречах с басками:
— Понимаешь, странные вещи там со мной происходили. Закрывал глаза, слушал песни, пил вино, закусывал, нарочно долго не открывал глаза, спрашивал себя: где я нахожусь? Где уже пил такое вино? Где уже слышал эти песни и где ел это все? И отвечал: в Грузии. Дома. Не знаю, как объяснить тебе. И как объяснить себе.
— Ну а все же, что ты об этом думаешь? — Нина спросила только для того, чтобы о чем-нибудь спросить. Приехал человек, который должен был стать ее мужем, которого она ждала, как ни ждала никогда никого, приехал и начал говорить о чем-то в высшей степени безразличном для Нины. Не поинтересовался, как она провела эти длинных полтора месяца, как занималась, как жила, ступил на перрон и пошел рассказывать о своем. Нину кольнула эта бестактность, но она ничего не сказала. Спросила просто ради приличия: — Ну а все же, что ты об этом думаешь?
— У них и обычаи наши, и обликом походят на кавказцев. Одни говорят — просто случайные совпадения, другие — что вовсе не случайные совпадения.
— Ну а когда они говорят по-своему, вы их понимаете?
— Нет, не понимаем, но некоторые слова похожи. Я постарался собрать их. Да еще несколько легенд. Черт возьми, кончу университет, возьму тебя и уедем к этим баскам; будем вместе изучать их язык, твой французский может помочь: три баскские провинции из семи — во Франции. Познакомился с одним славным англичанином профессором Джекобом Харрисоном — тоже изучает басков и считает, что какая-то сила заставила их покинуть родину и осесть в Пиренеях.
— Симпатичное было путешествие… Что же им не понравилось дома?
— Спроси об этом у Харрисона. Но знаешь ли ты, что сами баски называют себя «эускалдун» и что это может быть расшифровано как «представители стороны солнца», то есть посланцы Востока. Живут на самом западе Европы, а называют себя людьми с Востока… Да, здесь есть над чем поломать голову, А может быть, совсем не случайно баски считают себя потомками иберов? Ведь мы же тоже иберы, — Давид, отдав вещи носильщику, будто забыл о них; носильщик ушел далеко вперед, Нина поторопила Давида. Сделав машинально несколько быстрых шагов своими журавлиными ногами, он снова забыл о носильщике; — Знаешь, какой счастливый человек этот Харрисон? Узнал о том, что под Бильбао нашли несколько металлических пластинок с неведомым, по-видимому иберийским, текстом, примчался туда, сфотографировал находки и вот уже несколько лет пробует расшифровать надписи с помощью современного баскского языка. Если ему это удастся, будет переворот… настоящий переворот в лингвистике. Профессор пригласил нас в гости, хочет привлечь к расшифровке надписей и древний грузинский язык. И к нему поедем, поедем!
Так баски вошли в жизнь Давида Девдариани и Нины, вскоре ставшей его женой.
Откликнуться на приглашение Харрисона Давид не смог: помешала война. А потом в жизни Давида произошли события, которые отодвинули басков на второй план.
Нина лежала на нижней полке тряского скрипучего вагона, прижимала к себе сладко спавшего сына и думала о том, что придет пора, когда ей надо будет рассказать ему обо всем: об отце, о деде, о том, почему разошлись эти два так преданно любившие друг друга человека… И о басках придется рассказать тоже; она дала слово сберечь все, что там, в этой папке. Знала, что придет пора рассказать сыну обо всем. Не знала только, что в предсмертные дни свои позаботился об этом сам Давид, что ходит по Европе — из Сербии в Италию, из Италии во Францию — письмо, которое написал он сыну, прощальное письмо из хутора Верхние Перелазы.
Глава вторая. Дом на Семеновской
Есть города, в которых прошлое властвует над настоящим, определяя его ритм и его образ жизни и как бы говоря наблюдателю: «За этими древними стенами, в этих полуразрушенных домах когда-то кипела славная жизнь!»
Такие города привлекают интерес археологов и историков.
Есть и иные города. Они вырастали на голом месте шумно и торопливо, рядом с заводами, рядом с электростанциями; с первых же шагов своих они подключались к ритму века и, загадывая далеко вперед, не очень любили оглядываться назад.
Такие города привлекают интерес социологов и футурологов.
И есть еще счастливые города, в которых прошлое сливается с настоящим, дает ему свои неброские, но дорогие черты, подсказывает мотивы самым современным композиторам и самым смелым архитекторам.
Такие города интересны всем.
Что за тайная сила в тебе, Тбилиси!
Есть в мире города крупнее в десять раз: человеку, побывавшему в Нью-Йорке, Токио или Лондоне и впервые посмотревшему на тебя, ты можешь показаться тихим и неторопливым, несмотря на громкий говор твоих граждан и бесшабашную лихость твоих еще не воспетых таксистов.
Есть города, чьи песни известны миру больше, чем твои (ведь ты не будешь оспаривать пальму первенства у Неаполя), и города, чьи рынки красочнее, привлекательнее и богаче: взглянул бы ты одним глазом на базар в мексиканском городе Толуке и сказал бы себе: таких диковинных фруктов и овощей я, клянусь небом, не видел.
Я знаю, ты думаешь с хитринкой — ничего, ничего, зато у меня есть такое, чего нет ни в одном другом городе — где умеют так вкусно готовить, так сладко пить и так соединять сердца застольной песней и беседой? Не торопись! Есть город, который тебе не уступит и в этом. Зашел бы ты на огонек в вечерний час в небольшой ресторан «Кармен», что недалеко от площади Ворота Солнца в Мадриде, услышал бы тосты и песни, попробовал бы вино и сказал бы себе: правы французы, путешествия развивают.
И еще один твой козырь сейчас безжалостно побью я — ты думаешь, наверное, что нет ничего красивее в мире, чем вечерний вид с горы Давида, ты вспоминаешь поэта, который уподоблял твои огни вдруг повернувшемуся звездному небу… Поднимись на Эйфелеву башню, посмотри на Париж и умолкни изумленный!
Но почему же, скажи, почему я, побывав во всех этих да и многих других городах, так тянусь к тебе, какая дана тебе волшебная сила, кто дал тебе право так распоряжаться временем и мыслями моими, почему ты заставляешь меня, вдруг бросив все дела, ехать к тебе издалека, чтобы вдохнуть твои весенние запахи, выпить стакан старого вина, увидеть друзей и забыть с ними все горести мира?
Кто ответит на этот вопрос?
Кто ответит?
Есть в Тбилиси, недалеко от главного почтамта, старенькая неказистая Семеновская улица, застроенная одно- и двухэтажными домами. За сто лет почти ничего не изменилось на этой улочке. Не изменился и дом номер двенадцать, построенный в семидесятых годах прошлого века вдовой купца Оганезова. Узорчатые железные ворота, ведущие во двор, замощенный булыжником, два тутовых дерева и один водопроводный кран у каморки дворника… Окна, двери и балконы, выходящие во двор. Архитекторы старого Тбилиси учитывали компанейский грузинский характер чуть лучше иных нынешних архитекторов, настроивших множество больших домов с крохотными двориками, где и в нарды сыграть нельзя: места не хватит, чтобы развернуть доску.
На этой улочке, бегущей вверх от Плехановского проспекта, в доме номер двенадцать поселилась в двадцать третьем году Нина Викторовна Харламова-Девдариаии с сыном Отаром.
Родственники мужа — брат Давида Петрэ и его жена Лиана — встретили Нину прохладно, про сына сказали, что он похож на отца, но, где остановилась Нина и надолго ли приехала, не спросили. Когда же узнали, что приехала с сыном навсегда, подивились — совсем одна в чужом городе с ребенком…
— Ну, значит, если вдруг что-нибудь для мальчика будет нужно, дайте знать, — сказал Петрэ и осекся, посмотрев на жену.
— Бедный, бедный мальчик, ом-то чем виноват? — скорбно пропела Лиана. — От этих революций одни только вдовы да сироты…
Петрэ и Лиана считали Нину виновницей семейной беды, а потому говорили отчужденно и равнодушно, показывая всем своим видом, как тягостна им эта встреча и как много дали бы они, чтобы ее не было.
Нина выслушала их молча, но ничем не выдала горечи, только погладила сынишку по голове и приличия ради ушла не сразу. Поднялась Нина неторопливо, попрощалась с такой же застенчивой улыбкой, с какой поздоровалась, а уходя, подивилась, что даже адреса ее не спросили. Вспоминала, что говорил Давид: «Будет трудно, переезжайте в Тифлис, что бы ни было между мной и братом, сына моего они не оставят». Видно, плохо знал брата своего Давид, не догадывался, как проклинал тот новую власть, лишившую его всего, что давало ему возможность жить в свое удовольствие. Теперь он был совторгслужащим, поднимался в семь утра, трясся ночью в холодном поту, когда казалось ему, что кто-то простукивает ту самую толстую кирпичную стену, в которую он спрятал восемьдесят золотых десятирублевок.
Вот и послушалась Нина мужа, оставила родной город, продала все, что имела, и теперь, рассчитавшись за комнатку, осталась с тремя рублями в чужом городе, с которым связывала столько надежд… потому что слышала о нем так много от мужа.
Нина закутала мальчишку — день был серый и слякотный, шел дождь со снегом, гулял по городу колючий ветер, так не хотелось возвращаться Нине в холодную комнату. Она подумала вдруг, что малыш, привыкший к иной — настоящей московской зиме, может не перенести этой слякоти, подхватить простуду. И сразу забыла о горестях своих. Они быстро дошли до дома, затопили камин, но три или четыре полена, аккуратно положенные в огонь, дали только видимость тепла. Нина никак не могла понять, почему в этом городе строят такие странные печи, уносящие тепло на ветер.
Они сидели вдвоем у камина, Отар лил чай с яблочным вареньем и смотрел на огоньки, бежавшие по полену. Контуры огоньков напоминали то корабль, плывущий по реке, то корову, то крокодила, вылезшего погреться на солнышке.
В девятом часу к ним постучали. Нина удивилась, кому до них может быть дело. В дверях стояла соседка, женщина лет сорока с молодыми и веселыми глазами; черты лица и речь выдавали в ней немку. Соседка представилась: «Екатерина Максимовна», посетовала на погоду, поспешила успокоить, что такие дни в Тифлисе случаются редко, а потом, оглядев небогатое убранство комнаты, задумалась и спросила: «Скажите, милая, не нужно ли вам чего?»
Нина не ответила, но Екатерина Максимовна, догадываясь, что многого не хватает этой маленькой семье, оценила достоинство женщины, которую еще совсем не знала, Подумала Екатерина Максимовна, что, должно быть, женщина оказалась обманутой грузином… и вот приехала в чужой город с надеждой отыскать отца ребенка.
— А знакомые, знакомые-то хоть у вас здесь есть? — как о чем-то чрезвычайно важном спросила Екатерина Максимовна.
— Есть одна гимназическая подруга…
— Кто ее муж? Где служит?
— Раньше на скрипке играл в оркестре.
— Нет, это не то. Вы меня не поняли. Я спрашиваю: знакомства у вас есть? Ну кто мог бы похлопотать за вас, устроить на приличную работу, мальчика определить. Вы, должно быть, не знаете, что в нашем городе все делается по знакомству.
Нина невольно улыбнулась.
— Видите ли, — после недолгого раздумья сказала она, — здесь живет брат моего мужа с женой. Но братья не ладили друг с другом…
Нина поднялась, проверила, заснул ли Отар; ей не хотелось, чтобы он услышал о том, что случилось когда-то у его отца с братом.
— Давид еще студентом вступил в большевики. Мы вместе учились в университете, изучали словесность. Я французскую и немецкую, он — испанскую… Басками занимался. А началась революция, ушел в Красную гвардию… Погиб…
— Матушка, так вы знаете языки? — спросила по-немецки соседка.
— Как будто бы.
— Ну, тогда у нас не пропадете. Мы с вами что-нибудь придумаем. Начнете давать частные уроки (Нина поморщилась), ничего, ничего, на первых порах не помешает. А пока… Знаете что, у меня есть немного айвового варенья. Почему бы нам не выпить чаю?
Это был типичный тифлисский дом со своими маленькими радостями и бедами, где каждый знал о каждом все, что следовало и не следовало бы знать, где о малых вещах говорили многими словами, порой отчаянно ссорились из-за безделицы, но быстро отходили, забывали обиды, а если являлась беда, без лишних слов помогали друг другу.
В Грузии издавна существует культ чужеземца: ох как хочется знать, чем привлек городок или деревушка гостя издалека, что нашел он здесь, что понравилось ему! О том, что не понравилось, спрашивать не принято: во-первых, потому, что это не может не понравиться, а во-вторых, если впрямь что-то вдруг не понравилось — кто же скажет об этом вслух?
— Ну как вам у нас живется? — этот вопрос Нина услышала в первые дни раз двадцать. На лицах новых знакомых играла обезоруживающая улыбка… Нина не знала, правда ли так интересует этих незнакомых людей ее жизнь. В Москве на такой вопрос она ответила бы односложно: «Ничего, спасибо», и на этом разговор бы кончился, и никто не счел бы этот ответ невежливым. Здесь же надо было отвечать обстоятельно и готовиться к тому, что соседка, улучив мгновение, начнет рассказывать о себе, о своей семье, своих заботах, удачах и неудачах.
Нина подумала, что здесь, в Тифлисе, совсем иной счет времени, здесь каким-то образом у людей его чуть больше, чем в Москве, и они могут позволить себе медленнее ходить, больше разговаривать и чуть легче относиться к делу.
Во дворе приезд новых жильцов был рассмотрен обстоятельно и всесторонне. Женщины печалились, что малыш, носящий грузинскую фамилию, не знает грузинского. Говорили, что надо бы помочь ему. Оказалось, что у старой Маро сохранилось «еще с тех пор» несколько экземпляров детского журнала «Ручеек» с разными картинками из истории Грузии. Оказалось также, что у старика Резо есть детская кроватка, из которой давно вырос его внук, и если ее подвинтить, покрасить, будет неплохая постель для Отара. Тут совершенно случайно выяснилось, что у однорукого слесаря Гургена есть краска и именно такие болтики и гаечки, которыми можно подкрутить ножки кроватки. Гурген обмазал синей краской старую проржавленную кровать и невольно залюбовался на дело руки своей.
Тем временем Екатерина Максимовна шепнула нескольким соседкам, что у Нины, кажется, не совсем ладно с деньгами, и тогда, не откладывая дела в долгий ящик, жена проводника Евдидора и кнейна Нази (княгиня Нази, вдова знаменитого тамады Николоза Гурули, погибшего в 1922 году на дуэли) обошли несколько квартир с листком бумаги и вечером, зайдя как бы между делом к Нине, незаметно положили ей на подоконник конверт с тридцатью рублями.
И слякотная погода вдруг перестала казаться такой слякотной, и комнатка такой убогой, и город таким чужим, В комнате пахло свежей краской, снизу слышался возбужденный голос Отара, и Нина подумала вдруг, что не имеет права жалеть о переезде.
У Отара сразу же объявилось множество друзей. Правда, с самым верным из них — десятилетним Гурамом, обладателем несметного сокровища — альбома с кинолентами Пата и Паташона, Бестера Китона, Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса и прочих знаменитых артистов, — он поссорился в первый же день серьезно и на всю жизнь, но на следующий день стороны вновь обменялись послами, ибо предложение, которое получил Отар — отдать старый замок от двери за двух оловянных солдатиков и обложку книжки «Робинзон Крузо», — показалось ему заслуживающим внимания. Кроме того, Отар совершил еще одну удачную операцию: получил за удлинитель для карандаша пугач, который оглушительно стрелял, когда, нажимая на курок, целившийся выкрикивал «бах-бах!».
Незадолго до окончания учебного года Нину приняли на освободившееся место преподавателя французского языка в первой тифлисской школе, расположенной недалеко от дома. В сентябре в ту же школу с новеньким ранцем за плечами потопал удивительно довольный собой и окружающим его миром Отар Девдариани.
Накануне Нина пошла в парикмахерскую и вернулась без косы. Владелец нэпманской парикмахерской «Фантазия» отвалил за нее двадцать пять рублей — целое состояние.
Накануне Нина пошла в парикмахерскую и вернулась без косы. Владелец нэпманской «Фантазии» отвалил за нее двадцать пять рублей — целое состояние.
Нина решила отдать часть долга соседкам, но Екатерина Максимовна сделала большие глаза и сказала, что она никому ничего не должна. Нина вспомнила старушку Марью Матвеевну и подумала, что без таких людей ее жизнь была бы тоскливее.
Начиналось житье-бытье русской вдовы грузинского бойца революции Нины Викторовны Харламовой-Девдариани и ее сына Отара в новом городе Тифлисе.
Глава третья. Мелискари
Недалеко от Сурамского перевала, который разделяет реки, бегущие на восток, к Каспию, и бегущие на запад, к Черному морю, там, где начинаются имеретинские теснины, прилепилась к вершине крепость Мелискари — «Лисьи ворота». Кажется, стоит она здесь со времен сотворения мира, так вросла она корнями в эту землю, так слилась с ней цветом. На много-много километров видны отсюда река Чхеримела, кукурузные поля и виноградники, полого спускающиеся к ней, маленькие, но быстрые и многоголосые речушки, торопящиеся слиться с Чхеримелой.
Со стороны реки к этой крепости не подступишься. Надо обогнуть гору, найти узкую тропинку, идущую круто вверх, и осторожно-осторожно сделать десять-пятнадцать первых шагов. Если вы не сорвались и не полетели вниз, разрывая на животе рубаху и тщетно пытаясь зацепиться за колючие кусты ежевики, считайте, что вам повезло и вы достаточно умелы и отважны, чтобы идти дальше.
По этой тропинке предстоит вам пройти метров семьсот, желательно не оглядываясь назад, чтобы не думать о том, как вы будете возвращаться. Все-таки идти в крутую гору не так страшно, как спускаться вниз.
Мальчишка, который пасет наверху коз, кажется вам удальцом, каких свет не видел. Время от времени он с любопытством глядит на вас, в его взгляде — глубокое соболезнование.
Постепенно вы приходите к убеждению, что вам никогда не добраться до цели путешествия — как была далеко крепость, так и осталась.
И тогда вы с некоторым оттенком сожаления начинаете думать о завоевателях, которые в разное время поднимались по этой тропе, чтобы покорить крепость, а с нею и весь край.
Двери крепости были открыты, она как бы говорила: добро пожаловать, незваные гости, сочтемся славою. На подступах к крепости стоял одетый в кольчугу воин-имеретин с луком в руке. Чуть повыше стоял второй, еще выше третий.
Нет, здесь, в Грузии, за крепости сражались иначе, чем за крепости, воспетые в «Одиссее», «Песне о Роланде» и в скандинавских сагах. Там к крепости подтягивали осадные орудия (какое орудие можно подтянуть по этой немыслимо крутой тропинке?), там на площадях перед крепостью гарцевали на конях рыцари, вызывая главного рыцаря осажденных на единоборство (где перед этой крепостью разыщешь ровную площадку размером хотя бы с бурку?), там шли в атаку у земляного вала сотня на сотню, тысяча на тысячу (тут, перед этой крепостью, и троим не сойтись в противоборстве!).
Стояли на узких подступах к крепости одетые в кольчугу воины-имеретины с луками и копьями в руках. И по странному, необъяснимому закону не стреляли первыми. А вдруг те, иноземцы (один шанс из «бевра», то есть из очень-очень многого: из тысячи, из десяти тысяч), не хотят зла. Надо прежде убедиться, что у гостя действительно плохое на уме. И только, когда первый из поднимавшихся, едва переведя дух, неторопливо вытаскивал стрелу из колчана и, прицелившись, отводил руку со стрелой, опережая ее, звучала в воздухе грузинская стрела.
В этом краю, где господствуют вертикальные измерения, не знали (а если бы знали, презирали) древние военные руководства, предусматривающие столкновение двух равных силами сторон. Просто история не отпустила на долю грузин ни одного сражения, в котором они имели бы большинство. Но у них, у грузин, были горы, И крепости вроде Мелискари над Чхерской тесниной.
Сколько битв видела крепость, сколько отбила врагов, сколько жизней уберегла и сколько не смогла уберечь!
Когда на других вершинах загорался огонь, предупреждая о неприятеле, в крепость стекались женщины, дети, старики, а воины в кольчугах неторопливо и достойно выходили к тропе и ждали, пока не подойдет неприятель.
И сегодня, в крестьянских домах, на стенах или в сундуках, хранятся кинжалы и кольчуги прапрапра-дедов, и мальчишка, вырастающий в семье, знает, когда и кому они служили.
Стоит над Чхерской тесниной крепость Мелискари — «Лисьи ворота». Никто не знает, почему так названа она, затерялось предание — слишком давно построена.
Быть может, потому назвали ее так, что стоит она над рекой «Чхерская лисица» — Чхеримела. Тихая и смирная обычно, эта горная река в пору дождей и таяния снегов становится непохожей на себя, норовит перехитрить человека, снести его плотины, мельницы и мосты: беснуется река и немало приносит бед.
А может быть, и потому названа крепость «Лисьими воротами», что только хитрой лисе дано найти узкую и крутую тропу и подняться к неприступным стенам.
Стоит крепость. Будто и сегодня говорит она юношам: вот в каком краю вы живете, вот какие были у вас предки, помните, как берегли они родину, достоинство и честь.
Стояла под этой крепостью церковь.
Старая скромная церковь. Где крестили и отпевали. И где благословляли на бой.
Был один колхозник, которому доверили председательский пост в селе и который почел себя первым человеком на земле. Он распорядился сломать церковь и предложил всем, кто желал, взять камни ее. Церковь, скромную с виду, ломали долго и трудно, и никто не захотел взять камней ее, хотя знает бог, как нужен в каждом хозяйстве такой камень, ровный и крепкий. Тогда председатель сельсовета нахмурился и сказал:
— Ну что ж, я предлагал вам честно, раз никто не хочет, возьму я.
Председатель привез какую-то бумагу из района (он любил, чтобы все было сделано аккуратно, по закону) и, будучи от природы человеком сильным и могучим, какими часто бывают, увы, недалекие люди, за несколько дней перевез на паре быков все камни к своему забору. А потом, наняв мастеров из другого селения, построил дом и созвал по старому обычаю на новоселье близких и дальних родственников и знакомых. Во дворе были накрыты столы человек на двести, а может быть, и на двести пятьдесят, приглашены два оркестра по три человека, но, кроме оркестрантов, пришло еще человек двадцать пять. После того новоселья запил председатель и покатился вниз.
А в конце семидесятого года в селения, раскинувшиеся близ крепости, приезжали из Тбилиси архитекторы-реставраторы, чтобы описать здешние древние церкви, скромные и неповторимые творения безвестных мастеров, чтобы описать их и реставрировать. Придет время, и к «Лисьим воротам» поднимутся архитекторы и задумаются: а нельзя ли что-нибудь сделать и здесь?
В селе под крепостью, которое тоже называется Мелискари, живет старый друг Давида Варлам Капанадзе. Их дома были рядом. В девятнадцатом году, в пору сбора винограда, когда из самых дальних мест спешит в родное село каждый «выбившийся в люди», срочно приехал из Тифлиса — без подарков и пустых бочонков — брат Давида — Петрэ Девдариани и объявил всем, кого это могло и не могло интересовать, что продает отцовский дом.
Старики удивленно качали головами и не понимали, как можно терять дом и землю, на которой жили предки. На торги пришло много народу. Чтобы показать, какой он нежадный человек и расположить к себе покупателей, Петрэ распорядился открыть чури, в котором хранилось старое и известное всей округе вино. С кувшинами и стаканами обходили собравшихся соседские мальчишки, а девушки разносили хачапури, мчади с сыром, праси и прочую нехитрую закуску, К той поре, когда приглашенный из тбилисского ломбарда оценщик объявил торги, большая часть покупателей была в том приподнятом расположении духа, когда человек кажется сам себе не только сильнее в десять раз, но и богаче в десять раз. Споры разгорались жаркие, особенно долгий торг шел из-за граммофона с грузинскими пластинками, напетыми в Париже, да из-за швейной машины «Зингер». Отдельно были проданы один из двух чури, кухонные принадлежности, шкафы с книгами, кинжал, а когда дошел черед до самого дома и оценщик объявил: «Семьсот рублей», встал с места Варлам и сказал громко: «Даю семьдесят пять червонцев», и почему-то никто не вступил с ним в спор. Петрэ, недоумевая, обвел взглядом толпу и понял с тоской, что его провели, что споры, разгоревшиеся из-за граммофона и машины «Зингер», позволившие ему выиграть несколько червонцев сверх предполагаемой суммы, были просто-напросто уловкой. Где же купец Михако, собиравшийся купить дом старшему сыну, почему молчит? Где бригадир-строитель, у которого еще со времени прокладки железной дороги остался горшок с золотыми монетами, — разве не знал Петрэ, что и он давно приглядывался к этому дому с тремя комнатами, террасой и виноградником.
— Ра дхеши вар, ра дхеши вар! Что за день?! Как меня околпачили! — причитал жадный Петрэ, готовый биться головой о стену. — Ту дзма хар, если ты мне брат, ответь, почему они молчат? — обратился он к кривому Иобе, невозмутимо сосавшему чубук. Иоба окинул Петрэ с ног до головы критическим взглядом, переложил чубук из одного угла рта в другой, смачно сплюнул в сторону, словно недоумевая, почему такой человек приглашает его в братья:
— Возможно, знают, для кого Варлам покупает дом.
Вечером, когда начался пир по случаю сделки, захмелевший Петрэ говорил Иобе, красиво отводя руку с французской папироской:
— Все равно Грузию захватят большевики. У них сам знаешь как, ик — пардон — укацрават, все общее: дома, кровати, жены. Чем они бесплатно возьмут дом, лучше я его продам за полцены, А у этого оценщика из ломбарда отец собака. Мама дзагли! Не мог помочь мне, на что я привез его? Ну ничего, придут большевики…
Варлам купил дом для сына своего друга Давида, маленького Отара. Знал, что рано или поздно его потянет сюда. Продав знаменитую немецкую двустволку, корову и заняв недостающие деньги у друзей, Варлам пришел на торг.
Восемьдесят золотых десяток лежали аккуратно завернутые в папаху в стене старого тифлисского дома Петрэ. За те годы, что прошли после торгов, Петрэ заметно сдал, осунулся, и некогда красивое лицо его начинало нервически дергаться, когда он думал о богатстве, до которого не решался дотронуться.
В Мелискари, недалеко от дома Варлама, стоял дом с заколоченными ставнями. Он ждал хозяина.
Нина и Отар приехали в деревню ранним летом. На станции Харагоули их встретили старый молчаливый Спиридон Амашукели в неизменной черкеске с кинжалом. Рядом с ним был его друг детства долговязый и добрый Мелко Лежава, знаменитый тамада, который мог выпить бочку вина и продолжать вести свадебный стол в строгом соответствии с ритуалом, завещанным предками.
Старцы важно прогуливались по перрону (такая была у них привычка — приодевшись, они спускались на станцию к приходу тифлисского поезда, встречали знакомых, узнавали новости). Сзади, в нескольких шагах, шел Варлам со старшим сыном. За мостом, на другом берегу Чхеримелы ждали гостей два огромных, круторогих, равнодушных ко всему на свете быка, запряженных в уреми — повозку с полозьями вместо передних колес. И хотя до селения было каких-нибудь две версты, помнил Варлам, как любил кататься в уреми маленький Давид, и подумал, а вдруг и сыну его будет приятно.
Когда десять облезлых вагонов, понукаемых привередливо свистевшим паровозом, лязгнув напоследок буферами, остановились у перрона, будто давая друг другу слово дальше отсюда не двигаться, Спиридон и Мелко поспешили к пятому вагону, из дверей которого выглядывала Нина. Варлам опередил стариков и, хотя никогда не видел Отара, сразу узнал в нем сына своего друга. У мальчишки были не такие черные, как у отца, но такие же угловатые, сходящиеся на переносице брови, и тот же острый подбородок, и тот же взгляд, грустный и удивленный.
Варлам протянул руки к Отару, подхватил его, осторожно опустил на землю, принял два перевязанных веревкой чемодана и помог спуститься Нине.
Мелко и Спиридон с достоинством наблюдали за этой картиной и, хотя у обоих кошки скребли на душе, не считали себя вправе расчувствоваться.
— Ну, рад с тобой познакомиться, — сказал чужим голосом Спиридон. — Здесь у нас славное место, и мы хотим, чтобы ты его полюбил. — Тут Спиридон подал хитрый знак глазами Мелко, и тот вытащил из-за пазухи черкески сверток, который развернул неторопливо и торжественно. В свертке был старый пистолет без курка («Самое главное научиться хорошо целиться, посмотри, какая здесь мушка, а остальное ерунда, прицелился — и готово. А когда вырастешь немного, мы приделаем на место вот сюда собачку и так будем стрелять, держись!».) У мальчишки загорелись глаза, он бросил взгляд на маму и не совсем понял, почему мама вместо того, чтобы обрадоваться вместе с ним, улыбается неестественной улыбкой, а потом бросается на грудь Вар-ламу и как маленькая начинает плакать. А большой и сильный Варлам гладит ее по голове корявыми пальцами и ничего не говорит.
Подошел старший сын Варлама Валико, подхватил Отара, подкинул высоко-высоко и сказал ему по-грузински:
— Пойдем к быкам, — и, помолчав немного, добавил: — Не могу по-русски, давай я буду тебя учить по-грузински разговаривать, а ты меня по-русски, идет?
— А я умею считать по-грузински до тысячи, нет, до двух тысяч и знаю три стишка.
— Что он сказал? — смущенно спросил Валико отца.
Варлам перевел и добавил по-русски:
— Если как следует захотеть, ты, наверное, и до трех тысяч смог бы досчитать?
— До трех тысяч трудно и долго. Один раз попробовал, не смог.
— Ну, подумаешь, беда…
— Дядя Варлам, дядя Варлам, а где у этих колясок передние колеса? — удивленно спросил Отар, впервые увидев имеретинское уреми, — Совсем как сани. Это для снега, да? А что там, куда мы едем, снег? Там можно ходить на лыжах?
— Нет, — спрятал улыбку в усы Спиридон, — В наших горах можно только на такой повозке. Так никакой камень на дороге не страшен, да и повозка устойчивей, не перевернется. Правда, ход у нее не слишком, но мы в горах никуда не спешим. И быки вместе с нами.
Рядом с быками ковылял кривой Иоба, в арбе, заваленной прошлогодними желтыми и шершавыми кукурузными листьями, важно восседал Отар, чуть сзади шли Варлам и Нина, а еще дальше — Валико.
— Ну как, — спросил Иоба, — нравится наш автомобиль? Это знаешь, какой автомобиль? Откуда хочешь сам найдет дорогу домой. Ложись, закрой глаза, ничего не бойся, сам все знает. Подвинься, сяду с тобой. На, возьми палку, командуй ими.
Дорога шла вдоль реки. Там, где она делала крутой поворот, забрасывал сеть рыбак. Он шел по скользким камням уверенно, как по паркету. Сеть ложилась большой плотной сверкающей паутиной на воду. Потянув за бечеву, рыбак приподнимал ее, вытаскивал отчаянно бившихся рыбок величиной с ладонь и отправлял их в кожаное ведерко на поясе. Отар засмотрелся на рыбака. Тот приветливо помахал ему рукой. Отар отвернулся.
Дорога была шириной метра в три, не больше: слева река, справа крутая, скалистая, заросшая ежевикой гора. Отару все время казалось, что быки вот-вот обдерут бока о ее острые гранитные выступы. Те продолжали свой путь с достоинством, не обращая ни малейшего внимания на ворчливые понукания Иобы.
Отар никогда не видел над головой такого голубого и такого маленького, зажатого со всех сторон горами неба. Два крохотных облачка неторопливо плыли к дальней вершине. Мир радовался солнцу, покою, тишине, нарушаемой лишь треском кузнечиков и пением цикад. Все было прекрасно, и если бы еще тот дядька с засученными до колен брюками выпустил своих рыбок обратно…
Иоба затянул песню:
«Как хорошо, как мне здесь хорошо», — шептал Отар. Он не понимал, откуда эти слезинки, выкатившиеся на ресницы. Он не знал еще, что не только от большого горя может плакать мужчина.
Уже через неделю у Отара в Мелискари полно верных и преданных до гроба друзей. Соседские мальчишки — Кукури, Ушанги, Резо, Шалико с одинаково плоскими затылками — следами от люльки, к которой их крепко привязывали когда-то, — и с одинаковыми дырками на штанах, доставшихся в наследство от отцов или старших братьев, все эти крестьянские мальчишки, немного наскучившие друг другу от одинаковых проделок, игр и ссор, вдруг начинают понимать, как многообразен и интересен мир, когда им удается с помощью Отара сложить из бумаги первого голубя, первую хлопушку или каску, которая одинаково защищает от солнца и от неприятельских стрел.
В один из дней Валико объявляет о предстоящем походе к крепости «Лисьи ворота». До позднего вечера мальчишки сидят в доме у Отара и делают из газет голубей. Лучше всего получаются голуби из журнала «Тартароз». Но на всех только один журнал, привезенный из Тифлиса и зачитанный до дыр, — не из каждой страницы голубя можно сделать.
Еще Отар привез из Тифлиса половину старой мотоциклетной камеры — богатство, не имевшее среди крестьянских мальчишек эквивалента. Камеру можно разрезать на тонкие полоски и понаделать рогаток. Отар никому не доверяет этого предприятия. Высунув язык и слегка вспотев от напряжения, он не торопясь разделывает камеру, а потом с царской щедростью раздает резину друзьям.
Теперь цель жизни — найти пять кусочков кожи для пяти рогаток. Напряженно работает мысль. Наконец Кукури говорит с просветленным лицом: «Языки от старых ботинок!» И четыре лазутчика отправляются по домам, чтобы отыскать где-нибудь, среди давно отслуживших два своих срока вещей, башмаки с целехонькими язычками.
Утром отряд встает ни свет ни заря. Валико уже сидит на скамейке под старым орехом и чистит охотничье дедовское ружье. Вокруг него прыгает, повизгивая от радостного возбуждения, дворняга Церба. Жена Варлама Нана приготовила на дорогу еду, и, едва из-за гор показалось солнце, отряд тронулся в путь. Впереди бежала Церба, за ней шел вооруженный до зубов (пистолет без бойка и курка — подарок Мелко, рогатка и бумажная каска на голове) Отар. Он чувствовал себя предводителем несметного войска. Хорошо запомнив рассказы Мелко и Спиридона о крепости, о битвах под ее стенами, мальчишка внимательно всматривался в даль, приложив к глазам, как бинокль, два кулачка — не движется ли сюда неприятель.
Во время первого привала собирали землянику, стреляли в цель из рогаток, самым метким оказался Отар, и Валико разрешил ему выстрелить один раз из ружья.
Какое-то необыкновенное, неведомое чувство переполняло душу Отара. Знать, было в нем что-то от далеких предков, что проснулось в эту минуту, заставило радостно забиться сердце, дало ощущение слитности с этой землей, с этим небом, с этой крепостью. Еще не умея выразить все, что переполнило его, по-грузински, он снова, как тогда, в уреми, сказал тихо, сам себе: «Как хорошо!»
Далеко-далеко простиралось чхерское ущелье. Высоко над селением описывал круги ястреб. Снизу слышалось: «Хау, хау», — визгливый женский голос отпугивал ястреба.
Перекусив, отряд двинулся дальше.
Теперь впереди шел Валико. Ловкие ноги легко несли его вверх. Размотав веревку, он помогал подниматься по крутой тропе мальчишкам. Церба, радостно лая, носилась снизу вверх и сверху вниз, словно желая показать, как это следует делать. Еще не привыкший к горам Отар два раза срывался, но его поддерживали шедшие сзади, и, хотя Отар больно расшиб колено, вида не показывал.
Крепость оказалась куда дальше, чем можно было подумать, глядя на нее снизу.
«Интересно, а как эти огромные камни таскали, ведь видно, что их откуда-то поднимали, — подумал Отар. — Какая же сила была у тех, кто эту крепость строил, как мне дороги эти люди, как хотел бы я узнать их, сказать им… Я бы им сказал… я бы им сказал».
— Смелей! — раздался сверху голос Валико, — Крепость совсем близко. Смелее!
Увидев вблизи крепость, Отар почувствовал себя человеком, которому не страшно ничего на свете и который может совершить любой, самый необыкновенный подвиг…
Они подошли к полуобрушенным, заросшим травой стенам. Крепость все так же пристально оглядывала бойницами округу и все такой же казалась гордой и неприступной, Валико помог Отару забраться на стену, из расщелин которой рос дикий орешник.
— Пусти голубя, — сказал Валико.
Отар долго и тщательно расправлял крылья бумажного голубя, размахнулся… подхваченный легким ветром, голубь сделал небольшой круг, совсем как настоящая птица, а потом, словно выбрав маршрут, устремился вниз, в ущелье.
И другие мальчишки выпустили своих голубей, а глупый ястреб, паривший в высоте, вдруг камнем бросился к одному из голубей, схватил его, скомкал и с презрением выпустил.
Поезд, бежавший внизу, казался маленькой змеей. Увидев ястреба, поезд-змейка пугливо нырнул в туннель.
Валико просто так, заведомо зная, что не попадет, выстрелил в ястреба, тот слегка качнул крылом.
— Попали, попали, — радостно закричал Отар, — сейчас он упадет!
— Да нет, не попал, это ястреб всегда так делает, должно быть, чувствует пулю и уворачивается от нее.
Валико сказал, что в крепости много раз находили металлические наконечники от стрел и от копий… Глаза Отара загорелись. Валико остругал и заострил охотничьим ножом несколько толстых веток, роздал их ребятам, они начали ворошить землю под бойницами, каждый мечтал найти что-нибудь необычное, может быть, клад, который закопали защитники крепости.
Мальчики рыли сосредоточенно, деловито, Валико с улыбкой поглядывал на них и кормил Цербу.
Но вдруг Кукури (он и в играх был везучим) спокойным тоном сказал: «Посмотрите, я, кажется, нашел», — и показал ребятам небольшую заржавленную пороховницу с металлической петлей, которой она пристегивалась к поясу.
— А что, разве здесь с ружьями тоже воевали? — спросил Отар.
— Еще как! Сто пятьдесят лет назад сюда пришли турки — большой отряд — четыре тысячи ружей. Думали всю Имеретию подчинить. Да дальше Чхеримелы не прошли. Им засаду устроили, вон там, — и Валико показал на то место, где неширокая дорога, бегущая рядом с речкой, делала крутой поворот.
— Засаду устроили, вон там, — Валико показал на то место, где неширокая дорога, бегущая рядом с речной, делала крутой поворот.
— Их самого главного бея в плен взяли. В Тифлис отправили. Нашему селу большой почет был. А теперь к этой стене подойдем. Посмотри, откуда течет Чхеримела, видишь, какая тихая и спокойная, да? — обратился Валико к Отару. — А вон мельница, там папа работает — посмотри, где стоит. Теперь иди сюда, я покажу, куда ее унесло в прошлом году. — Валико подошел к бойнице, смотревшей на запад, и показал вниз: — К тому большому камню понесло и туда выбросило, а жернова катились как картонные. Отца понесло по реке. Те, кто поблизости был, только звали на помощь, сами ничего поделать не могли — кто решится в такой поток броситься? Все быстро произошло. Рядом доктор оказался, Тенгиз Вуачидзе, его дядя (Валико показал на Кукури, и Кукури сразу заважничал), он бросился в воду…
Была такая история в жизни Варлама. Он не очень любил вспоминать о ней. Дело в том, что накануне к нему приехал из соседнего села старый друг Джондо, с которым они в армии служили. Они выпили немного, собирались уже спать, как вдруг на огонек зашел вечный мытарь Иоба с кувшином вина; было известно, что Иоба еще ни разу в жизни не выпил ни одного стакана наедине с самим собой; Варлам почувствовал к нему сострадание и только за компанию, только за компанию выпил еще. Когда утром раздался непривычный гул на реке, он подумал во сне: «Ну и спит этот Иоба, храпит как медведь», а потом мельницу слегка накренило и понесло, он открыл глаза и увидел, как на него летят два мешка с мукой. Эти мешки и сбили его с ног. Друзья успели выскочить, думая, что за ними последует Варлам. Но мельницу понесло, Иоба побежал по берегу, стараясь не упустить момента, когда Варлама выбросит из мельницы, и не потерять его из виду, а тот, которого звали Джондо, кровавя руки, неумело старался обломать большую толстую ветку орешника, чтобы протянуть ее Варламу.
Мельника выбросило, и он беспомощно поплыл, то скрываясь под водой, то снова показываясь, наконец, неуклюже схватился за валун; Иоба воскликнул: «Держись!» — и бросился к нему. Варлама снова понесло. Увидев идущего по путям мужчину и узнав в нем доктора Тенгиза Буачидзе, Иоба крикнул ему: «Варлам!» — и показал на реку. Он сделал это просто так, на всякий случай, ибо не предполагал, что этот неповоротливый, похожий на медведя человек сможет помочь. Но Тенгиз, едва поняв, в чем дело, и увидев Варлама, скинул пиджак и бросился с крутого берега в воду, рискуя разбить ноги и голову. Он доплыл до Варлама, но никак не мог схватить его. Иоба с ужасом увидел, как оба скрылись под водой, а когда показались снова, Тенгиз держал мельника за воротник железной хваткой. Тут подбежал Джондо, он встал на несколько метров ниже по течению и, упершись что было сил ногой в камень, протянул ветку Тенгизу.
Варлам долго приходил в себя. Он был сильно помят. И Тенгиз тоже. Сбежались люди, среди них было немало женщин. В эту минуту пригодился Варламу словарный запас, приобретенный в окопах империалистической войны: на родном языке в присутствии других ему было бы трудно сказать все, что он думает о Чхеримеле. Окончательно придя в себя, он поинтересовался: а жернова, жернова хоть целы. Мельница давно скрылась из глаз, и никто ничего не мог сказать ему.
— Между прочим, у дяди Тенгиза в реке ботинок утонул, — сказал Кукури, давая понять, что он в курсе всех мельчайших деталей того происшествия.
Ничего не сделаешь, в ту пору многие разговоры в Мелискари начинались и кончались обувью. В горах она так быстро снашивалась…
Тогда, в крепости, Отар первый раз услышал о Тенгизе Буачидзе, который недавно вернулся из Тифлиса.
Нина и Отар приезжали в Мелискари в первых числах июня. Весной Валико приводил в порядок дом, поправлял черепицы на крыше, восстанавливал забор, высаживал в небольшом огороде, полого спускавшемся к реке, праси, омбало, охрахуши и прочие ароматные травы, которые так любила Нина. Росли в огороде помидоры, огурцы, перец, а помогали с огородом, кроме Валико и его матери, многие соседи: негордая, открытая, дружелюбная учительница была принята в крестьянский круг как своя.
И в тифлисской школе к Нине относились хорошо, У нее становилось все больше уроков (теперь, кроме французского и немецкого, она вела восьмой класс) и все меньше свободных часов для дома. Она давно перестала ждать писем о Давиде. Когда-то на всякий случай она оставила адрес Петрэ (еще не зная, где сама будет жить в Тифлисе) московскому управдому и Григорию Ивановичу.
Учился Отар без особого труда, занимался с матерью немецким. Не имея в городе знакомств, они проводили вечера дома. Отар купил у букиниста прекрасную шахматную книгу «Моя система» Нимцовича; холодными зимними вечерами, подсев к «буржуйке», расставлял шахматы, раскрывал книгу, и остальной мир переставал для него существовать.
На четырнадцатом году он вдруг пошел в рост. Его с удовольствием взяли в детскую баскетбольную команду «Желдора», и уже через месяц спрашивал себя Отар — как это он мог без баскетбола, что за тоскливая была у него жизнь!
Кто знает, если бы не баскетбол и не тренировка, на которую Отар опаздывал, он, быть может, никогда не встретился бы с человеком, к которому привязался на долгие годы.
Отар опаздывал на тренировку, вскочил на ходу в трамвай и, тяжело дыша, опустился рядом со старичком в пенсне, читавшим учебник грузинского языка для детишек.
Отар удивленно посмотрел на соседа. Тот был поглощен своим занятием и беззвучно шевелил губами. Страницы он переворачивал аккуратно, едва дотрагиваясь кончиками пальцев до уголков, как это делает обычно человек, привыкший дорожить книгой. Иногда он возвращался на страницу назад, чтобы повторить текст. Отар смотрел на старца, слегка улыбаясь.
— Что, бидза[4], трудно наука дается? Ничего, самое главное — не лениться. И мне когда-то было трудно.
— Вы не знаете, как я благодарен вам за совет, мой юный друг, — сосед полузакрыл книгу. — Мне так его не хватало. Теперь все пойдет по-другому. Я просто не знаю, что было бы, если бы я вас не встретил. Простите, вас случайно зовут не Жан Жак Руссо?
Отар немного опешил. Но довольно быстро нашелся и весело ответил:
— Нет, меня совершенно случайно зовут Отаром Девдариани. Что, не слышали? Ну ничего, ничего, не огорчайтесь. Услышите.
— Рад в чрезвычайной степени. Это значит — в самой, самой высокой степени. Выше уже не может быть. К вашим услугам, Диего Альварес Пуни… Повторить или запомнили с первого раза?
— Нет, запомнил: Диего Альварес Пуни. Вы что, нездешний?
— Почему же? Самый настоящий здешний.
…Так старый тифлисский трамвай, существовавший еще с одна тысяча девятьсот четвертого года и проклинаемый с той самой поры за свою неповоротливость и вечные опоздания, вмиг реабилитировал. себя, сведя и одном из скрипучих пузатых вагонов с единственной ступенькой вдоль всего правого борта достопочтенного испанца Диего Альвареса Пуни и малоизвестного пока широким слоям общественности юного тифлисца по имени Отар Девдариани.
Глава четвертая. Диего Пуни
Был Диего Альварес Пуни родом из Андалузии, в молодости плавал на транспортных суденышках сперва боцманом, потом помощником капитана, обошел чуть не весь свет, но однажды попал в Гавр и надолго пришвартовался к нему, решив на третий или на четвертый день, что во всем мире нет города лучше, ибо именно в Гавре живет девушка по имени Кристин.
Было Диего тридцать два года, его душа истосковалась по дому и теплу; человек незлобивый и уживчивый, не испорченный званием и правами боцмана, он понимал, что давно пора подыскать подругу, подумать о семье, о детях, но каждый раз не хватало смелости пли времени, а проще говоря, не встречал он еще девушки, ради которой мог бы бросить море.
В Гавре была долгая стоянка — ремонтировали машину перед рейсом через Гибралтар в Одессу. Дело было весной. С Ла-Манша дул теплый ветер. Вдруг почувствовал Пуни — если дышать полной грудью, кружится голова. Уже одиннадцать весен встречал он на Ла-Манше, но еще никогда не испытывал ничего похожего.
— Послушай, ты ничего не замечаешь такого?.. Ничего не чувствуешь в воздухе? — решив проверить себя, обратился Пуни к старому знакомому лоцману.
Тот недоуменно посмотрел на Пуни, раздул ноздри, втянул воздух, пожевал, как опытный дегустатор, улыбнулся:
— Воздух как воздух. Просто кто-то соскучился о подруге. У меня это тоже бывало. Давно… Уже и не помню когда.
Пуни смутился, как юноша, и заговорил о чем-то постороннем.
Была у него в Одессе девушка Надьенька, или Надежда, которая учила его любить и говорить по-русски, по которая — вот уже третий рейс — не выходила встречать его. Сперва он искал ее, чуть не отстал от своего пароходика, потом остыл, но женщин с тех пор чтил не слишком высоко.
А теперь был ветер с моря, от которого кружилась голова.
Пуни зашел в синематограф, давали старую ленту «Юлий перед выходом в свет» — как наряжается перед зеркалом глуповатый хлыщ. Пуни слегка позавидовал ему — как-никак чем-то занимает время. А что делать ему?
Напротив синематографа был маленький садик. Купив газету, Пуни отправился туда.
Здесь он и встретил Кристин.
Это была гувернантка лет двадцати трех — двадцати четырех, с бледным лицом. Она не показалась с первого раза привлекательной. Но моряк заметил, что детям доставляет удовольствие играть и разговаривать с нею.
«Наверное, будет хорошая мать… А может быть, она уже мать? Нет, непохоже».
Пуни подсел к гувернантке, приподнял шляпу и спросил, не мог бы он отдать ей на воспитание своего мальчишку. Он не знал, почему сказал это. Только на минуту показалось ему, что у него есть маленький сын, а ему надо отправляться в плавание… а матери нет дома, у мальчика вообще нет матери. Что могло случиться с ней, Пуни пока недодумал — так далеко его фантазия не простиралась.
— А сколько лет вашему малышу? — гувернантка повернула к Диего маленький, слегка вздернутый носик.
— О, какой у вас приятный голос… Вы не пробовали петь?
— Нет, не пробовала. И вообще первый раз слышу об этом.
— Странно. Вы что, вообще никогда не пели?
— Так сколько лет вашему ребенку?
— Видите ли… Я собирался сказать… Если у меня когда-нибудь будет ребенок, я хотел бы, чтобы он попал в такие руки, как ваши. Малышам уютно с вами.
— О, вы любите загадывать далеко вперед. Завидное свойство.
Гувернантка улыбнулась. Это была первая после Наденьки девушка, которая ответила моряку искренней улыбкой на улыбку. Он привык к другим улыбкам, за которые надо было платить в полутемных кабаках, тавернах, барах, ночных ресторанах, пахнувших сигарами, духами и бразильским кофе. Он не был красив — лицо узкое, как у деревянного божка; длинный тонкий нос, пропахший на веки веков боцманской трубкой; грубый, с хрипотцой голос доставляли ему в былые годы немало страданий. Как и малый рост. По старой морской привычке Пуни ходил, широко расставив ноги. Ступал основательно и тяжело, как человек, страдающий плоскостопием. Сколько раз пробовал изменить походку; пока следил за собой, получалось, но вскоре забывал и снова топал медведь медведем.
Несколько дней Пуни приходил в сад и подсаживался к девушке.
Пропал для Пуни весь белый свет, и показалось ему, что нет в мире города краше Гавра, и ему захотелось бросить здесь якорь.
«Если бы эта девушка согласилась выйти за меня, я никогда не обидел бы ее и не обманул… Постарался сделать ее счастливой. И сам стал бы лучше. Ведь я могу же стать лучше. Теперь найти бы работу на берегу», — думал Пуни.
Через два года Диего и Кристин, соединив свои скромные капиталы, открыли цветочный магазин. Диего становился обходительным, приветливым хозяином, знающим вкусы своих постоянных покупателей, умеющим вести немногословную приятную беседу. Эти качества плюс знание русского языка (как давно все это было — Надья, Надьенька, Одесса!) обратили на него однажды внимание преуспевающего господина, покупавшего голландские тюльпаны. Присмотревшись к Пуни повнимательнее, он сделал ему любопытное предложение.
Любитель тюльпанов возглавлял фирму, поставлявшую в разные европейские страны французскую посуду. Фирма имела вполне солидную клиентуру и не жаловалась на судьбу. Но в 1913 году поступило несколько крупных заказов из России, и понадобилось значительно расширить дело.
Диего Альваресу Пуни предложили стать представителем фирмы на Кавказе с местожительством в Тифлисе; здесь начиналось строительство гостиницы, потрясавшей воображение газетных хроникеров своими масштабами: четыре этажа, около ста номеров, ресторан, несколько буфетов. Тифлис скромно называл себя маленьким Парижем и без французского фарфора новой гостиницы не мог представить.
Диего и Кристин посудили-порядили, повздыхали и согласились.
Диего Альваресу разрешили арендовать под жилье и контору вполне приличное помещение недалеко от Эриваньской площади. Как и многие моряки, он мечтал о собственном кусочке земли. Прослышав об аукционе в Дидубе, где немецкий колонист, уезжавший в Германию, продавал домик с хорошо возделанным участком, Диего переплатил совсем немного против первоначальной цены и стал обладателем собственности в пригородном поселке.
Первая партия посуды поступила из Парижа перед самой войной, он долго ждал вторую партию, да так и не дождался. В пятнадцатом году в связи с обстоятельствами, которые было трудно предусмотреть в договоре, фирма закрыла свое представительство на Кавказе и предложила Пуни вернуться.
Пуни ответил длинным дипломатическим письмом, в котором выражал глубокую надежду на то, что «эта ужасная война с ее неисчислимыми жертвами скоро кончится и варвар, поднявший руку на европейскую цивилизацию, будет наказан примерным образом», и добавлял, что готов терпеливо ждать часа, когда снова пригодится фирме, с которой связано у него столько приятных воспоминаний.
Фирму, однако, не удовлетворил этот ответ. Она вежливо советовала своему агенту не ждать иных времен, а вернуться теперь же и заботливо предлагала несколько маршрутов на выбор.
Пуни не причислял себя к храброму десятку. Он снова поразмыслил как следует и… ничего не написал в ответ. Он решил посмотреть, чем все это кончится.
Незадолго до начала 1917 года супруги Пуни приняли русское подданство, и, когда до Тифлиса дошла весть о февральских событиях 1917 года в Петрограде, Диего вышел на улицу с красной гвоздикой на лацкане тщательно отглаженного пиджака в крупную клетку.
Второй раз Диего Пуни вышел на улицу с гвоздикой в петлице 25 февраля 1921 года, когда на привокзальной площади собралось много людей для встречи бронепоезда 11-й Красной Армии. Он уже знал, что заводы, фабрики, банки, почта — все, что есть на земле, и сама земля переходят в руки рабочих и крестьян. Жизнь в глазах Пуни приобретала новый интерес.
Как человек, плававший в юности матросом на корабле и знавший, что такое подневольная служба на богатого, он симпатизировал рабочим, крестьянам и солдатам, которые нашли мужество и силу дать под зад бездельникам-буржуям. Но как человек, всю жизнь посвятивший тому, чтобы собрать капитал, он жалел небогатых, но все же зажиточных граждан, которым приходилось, увы, расставаться с тем, что зарабатывалось долгими годами.
— Это революция, — говорил себе Пуни, — а революция не бывает без жертв.
Как бывшего иностранца его уважили, предложив должность помощника заведующего книжным магазином; первые полгода он занимался тем, что в составе представительной комиссии списывал книги, напечатанные при старом режиме. Ему предлагалось, например, определить, не содержит ли вредных для современного рабоче-крестьянского поколения идей книга «Мифы Древней Греции», не прославляет ли она буржуазный индивидуализм, и честный Пуни брал на несколько вечеров книгу домой, наслаждался ею, а потом говорил:
— Интересный этот человек, Геракл, храбрый, умелый… Только, как бы это сказать, все один да один, без товарищей, содействует ли это воспитанию в духе коллективизма?
Бедный Пуни не знал, как это у него так получается — думает одно, а говорит несколько другое. Книга откладывалась в сторону до той поры, пока не прочитают ее в наробразе, но у тех, видно, и своих забот было выше головы. «Мифы» пылились на полке в ожидании своей судьбы.
Избавлял магазин себя от книг куда быстрее, чем пополнялся.
Первая новая книга, которую получил магазин, называлась «Как уберечь себя от тифа». Пуни раскрыл ее наугад, на него глянула увеличенная во много раз вредоносная бацилла. Пуни, не признававший медицины, с отвращением отбросил новинку в ожидании лучших времен.
А потом стали поступать грузинские буквари, книжки для дошкольников. Пуни брал их с собой на выходной в Дидубе и, отдыхая от работы на грядках, пробовал изучить язык. Дело шло медленно, годы были не те. Однажды, сидя в трамвае и листая учебник грузинского языка, он почувствовал, что кто-то с интересом следит за его занятием. Это был мальчишка с веселыми глазами:
— Что, бидза, трудно наука дается? Ничего, самое главное — не лениться…
Они разговорились, оказалось, что оба живут в одном районе. Узнав, что собеседник бывал в разных странах и знает разные языки, Отар проникся к нему почтением и, не скрывая этого, спросил, а может ли он как-нибудь прийти в гости.
— Разумеется, мы с женой будем рады.
У Кристин и Диего детей не было, жили они тихой жизнью, и, когда в их дом первый раз пришел Отар, возбужденный и не остывший после баскетбольного сражения, и начал рассказывать о том, как они выиграли, старик показал на него глазами жене, и его узкое лицо расплылось:
— Пожалуйста, не говори так быстро, дай людям продлить удовольствие, итак, с кем вы играли и сколько ты забросил мячей?
— Мы играли сами с собой, но это неважно. Мы выиграли, и меня взяли в команду! Понимаете, теперь я буду участвовать в розыгрыше, и мне выдадут форму.
— Потрясающе, — пропел Диего, — Это необыкновенное счастье. Скажите, молодой человек, вы возьмете меня на свой матч? Ведь и я когда-то был спортсменом.
Отар посмотрел на Диего, тот уловил в его взгляде подозрение. Отар поспешил отвернуться.
— О, я очень увлекался спортом. Но об этом мы поговорим позже. А пока расскажи нам, пожалуйста, о себе и своих родителях.
Отар рассказал о том, что его отец бывал до революции в Испании и что погиб в гражданскую войну. Когда же старый моряк узнал, для чего ездил в Испанию отец Отара, его интерес к мальчишке возрос.
Однажды Нина наготовила разных грузинских блюд под строгим присмотром Екатерины Максимовны и ее мужа — непьющего рачинца Евтиме (был один такой человек в Тифлисе в двадцатые годы). Как всякий истый рачинец, Евтиме считал себя поваром первой руки, но то ему специи не те присылали, то у него чуть-чуть пригорало, одним словом, Екатерина Максимовна готовила сама, предоставляя мужу право пробовать, восхищаться и изредка критиковать.
Нина взяла несколько уроков у соседки и позже, в Мелискари, не раз удивляла знакомых искусством готовить архисложные грузинские блюда.
Ждали в гости супругов Пуни.
Ведя жену под руку, Пуни поднимался по старенькой скрипучей лестнице. Двор замер. Такой тишины здесь не было никогда.
Диего, знакомясь, заглядывал в глаза и находил для дам разные приятные слова, потом сели за стол, и Нина пошла за кнейной Нази, учившейся в свое время в Сорбонне. Разговор начался с кахетинского — Диего клялся, что оно ничуть не уступает испанским винам. Молчаливый Евтиме извинился и спросил, а почему оно должно уступать, если здесь, на Кавказе, его родина.
— Да, да, вполне допускаю, вторая родина, потому что первая — это Испания, это установлено давно, — как о чем-то само собою разумеющемся сказал Диего.
— Вы гость, и я не буду вас обижать. Но вы абсолютно не правы. Наше вино лучшее в мире, и перестанем спорить на эту тему. Я согласен, Испания может гордиться тем, что ее вина не уступают нашим. — Эту фразу рачинец произнес в уме, жалея, что законы гостеприимства не позволяют озвучить ее.
Кнейна Нази вспоминала про Эйфелеву башню («Как она там, ах это было неповторимо — смотреть с башни на Париж»), про Сорбонну и про профессора Эмманюэля Дата, который знал сорок два языка и разговаривал с ней на грузинском; кнейна Нази по старой привычке сразу же взяла на себя инициативу за столом и всякую чужую реплику считала оскорблением. Напрасно уговаривал ее Евтиме: «Ешьте, соседка, вы совсем ничего не едите, возьмите, пожалуйста, вот это, разрешите, я за вами поухаживаю». — «Не трудитесь, я только что сытно поела», — отвечала кнейна Нази, еле сводившая концы с концами. Она довольно мило завела беседу с Кристин обо всем и ни о чем. Пользуясь тем, что внимание жены отвлечено, Диего не пропускал тостов. После того как было выпито немало, Пуни огляделся вокруг, как бы спрашивая себя, чем бы заняться. Он не терпел пустопорожних светских застольных бесед и втайне радовался тому, что Кристин взяла на себя словоохотливую соседку. Пуни не мог долго сидеть без дела.
— Скажите, а у вас кто-нибудь играет в преферанс? Может быть, кто-нибудь во дворе? Во дворе тоже не играют? Жаль, — тяжело вздохнул непоседливый испанец.
Без особого удовольствия он согласился на предложение Евтиме:
— Давайте мы научим вас в нарды.
Эта игра не представляла в глазах Пуни какой-либо ценности, но, когда в абсолютно проигранной позиции он бросил кости на пять-пять и сразу же на шесть-шесть и победил, интерес к нардам возрос.
— Скажите, а в них играют на деньги? — тихо спросил азартный Пуни у Евтиме.
— А как же? — простодушно удивился тот. — Конечно.
— Так можно, я буду к вам изредка приходить?
— Пожалуйста.
Перед расставанием был заключен торжественный договор: Отар учит Диего Альвареса Пуни играть в нарды, а Диего Альварес Пуни, в свою очередь, учит Отара испанскому языку. По предложению гостя было записано, что договор заключен на год и в случае, если обе стороны не пожелают расторгнуть его, будет автоматически продлен еще на один год.
— Берегитесь, сударь, — пригрозил Пуни рачинцу, — скоро мы встретимся.
С тех пор Отар стал частым гостем в доме Пуни, Брать деньги за уроки испанец отказался. Отар старался отплатить маленькими услугами: простояв в очереди несколько часов, приносил керосин, ездил за картошкой на базар, покупал хлеб. Иногда они вместе ходили на тренировку.
Усидчивость не была главной отличительной чертой Отара Девдариани. Это была некая непостоянная величина, наиболее точно измеряемая с помощью знака минус. Мир, окружавший молодого человека, имел достаточно привлекательностей (шахматы и баскетбол в этом перечне занимали далеко не последние места), которыми следовало бы жертвовать ради сомнительного звания отличника. Было на всю школу два образцово-показательных замордованных отличника, которыми гордились учителя; знаменитые потельщики, проводившие над книгами и тетрадями дни и ночи, они с нескрываемым пренебрежением относились к рядовым школьникам, и те платили им бесхитростно и прямолинейно. Отличники, поощряемые к тому, чтобы «всегда и везде быть первыми и показывать пример, достойный подражания», еще не знали, что эта привычка принесет им немало бед чуть позже, когда они столкнутся с жизнью. Той самой жизнью, которая имеет славное обыкновение ставить на место любого возомнившего о себе.
Историк Леванов говорил Нине:
— Если бы ваш сын был усидчивее, упорнее и целеустремленнее, он мог бы учиться гораздо лучше и, возможно, даже стать гордостью школы. Но отсутствие вышеперечисленных качеств не позволяет ему стать таковым, каковым он, без сомнения, стал бы, если данные качества развил бы в себе.
Леванов, молодой выпускник педагогического института, был ярым последователем бригадного метода. Он дал обязательство сделать свою группу образцово-показательной. Сама бригада с любопытством наблюдала за тем, что у него получится, и как могла портила ему жизнь. Если же добавить, что в школе было немало учителей, упорно не желавших признавать преимуществ бригадного метода и считаться с высокими обязательствами историка, нетрудно догадаться, как несладко жилось этому рыцарю идеи.
Не добившись успехов во взаимоотношениях с учителями, Леванов стал делать упор на работу с родителями. Он зачастил к Нине Девдариани и, разговаривая с ней как «коллега с коллегой», предложил метод совместной работы над воспитанием Отара. Нина не догадывалась об истинных целях молодого классовода, но он вскоре открылся, сказав, что сердцем привязался к Отару и что хотел бы… хотел бы заменить ему отца. Пугливо оглянувшись в сторону окна, нет ли кого-нибудь в коридоре, он вдруг стал на колени:
— Я давно привязан к вам душой и сердцем, дорогая Нина Викторовна! Не думайте обо мне плохо. Я пришел к вам как честный человек. Я не жду от вас ответа. Я хочу, чтобы вы немного лучше узнали меня. Быть может, у вас возникнет ответное чувство… Не судите меня строго. Я ваш раб. Ваш вечный раб.
Оглянувшись еще раз на окно, Леванов поднялся. Нине очень хотелось улыбнуться, но она сдержала себя:
— Дорогой коллега, давайте мы объединим наши усилия по линии «семья и школа». — Посмотрев на бледное растерянное лицо Леванова, первый раз заговорившего по-человечески, Нина почувствовала частицу симпатии к этому ушибленному учебной программой человеку и добавила: — Я намного старше вас и, кроме того, дала слово замуж не выходить.
…Не знала Нина, что ждет ее совсем скоро.
Не думала, что придет такое, что навеет сладкие запретные сны, заставит снова почувствовать запахи весны, верить, тревожиться… Только тот человек будет совсем непохож на Леванова, до гробовой доски преданного идеям бригадного метода
….Нина старалась привить Отару любовь к языку, литературе, истории; малые его успехи в химии и тригонометрии воспринимала философски и, презрев законы педагогики, бесхитростно признавалась сыну, что и сама не питала особого пристрастия к точным наукам.
Пуни оказался веселым учителем. На первом же занятии он предложил Отару запомнить слова, которые заранее выписал:
— Это будет трудное дело. Запомнишь, значит, ты человек со смыслом, имеешь память, и с тобой будет легко. Приготовься. Пиши и запоминай: абад — это аббат, абсурдо — абсурд, академиа — академия, акомпаньамиенто — аккомпанемент, успеваешь? — давай дальше: акорде — аккорд, акробата — акробат, актор — актер, стоп, хватит.
Отар с недоумением посмотрел на испанца. Тот улыбался:
— Видишь, мы только-только начали «абеце», то есть алфавит, и уже увидели столько знакомых слов. О чем это говорит? О том, что великая латынь, — Пуни поднял указательный палец, — и сегодня объединяет разные народы и делает великое дело. Вот что значит деятельная нация — сколько понятий открыла и сколько слов дала другим народам! Ну и как, все ли ты запомнил слова? Посмотри их еще раз. Сейчас будет экзамен. Скажи мне, пожалуйста, как будет аккомпанемент и абсурд?
— Аккомпанемент и абсурд.
— А вот и нет, а вот и нет, ты понадеялся слишком на себя и ошибся. Акомпаньамиенто и абсурдо. Почему абсурдо? Потому что окончание «о» является в отличие от русского языка признаком мужского рода. Вот с этого и начнем. Сейчас мы с тобой прочитаем небольшой рассказ, переведем его, а когда уйдешь домой, возьмешь этот старенький словарик и получишь одно задание, — Пуни любовно погладил потрепанный карманный испано-русский словарик. — Просто постараешься найти в испанском языке знакомые слова. Только, чур, предупреждаю, выбор таких слов, как испанское «попа», что значит «корма», не будет рассматриваться как признак вдумчивости и хорошего воспитания.
Отар подумал, что со скуки на занятиях не умрешь, старик обладал даром шутя говорить о серьезных вещах.
Диего Пуни, если верить его словам, был в молодости хорошим, нет, очень хорошим спортсменом. Он был на короткой ноге со знаменитым тореро Альберто Примо (матадор ценил Диего за отвагу; один раз в кабачке они вдвоем обратили в бегство полдюжины подгулявших английских моряков). Почитал за честь дружить с Пуни известнейший футболист Эленио Мадейра, который за пятнадцать лет забил все пенальти, за исключением того случая, когда в воротах Андалузии стоял Диего Пуни, прозванный за свои необыкновенные кошачьи прыжки Пумой. Наконец, много лет не порывал связи с Пуни чемпион Испании по боксу Артемио Престо, который имел обыкновение перед самыми напряженными боями приезжать на денек-другой к своему закадычному другу, чтобы посоветоваться относительно тактики в предстоящем поединке.
Рассказывал обо всем этом учитель, как о чем-то заурядном, не очень живописуя детали, ибо не пристало придавать особого значения всем этим легко объяснимым симпатиям к нему именитых спортсменов.
В это время Отар играл в детской баскетбольной команде «Желдор»; два раза в неделю тренировался в зале при стадионе и не мог дождаться часа, когда его выпустят в настоящее сражение. Тренером был высокий, длиннорукий, серьезный человек по имени Михаил Перерва, он относился к своим мальчикам с подчеркнутым уважением, никогда не сердился, понимая, что в спорте бывает всякое. Сам он играл и в баскетбол и в волейбол надежно и уверенно — это был настоящий боец, и мальчишки верили ему как богу.
Начинался городской розыгрыш. На первую игру с динамовцами Отар пригласил Диего Пуни.
— Если мы выиграем, дядюшка Диего, ты станешь нашей счастливой приметой. Команда сказала, что это неплохо, если за нас будет болеть испанец.
— Ну что ж, интересно посмотреть, как теперь играют в баскетбол. Я когда-то был капитаном команды Малаги. По-моему, у меня еще сохранились два жетона… Тогда мы довольно просто разделались в финале с каталонцами.
Когда «тогда», Пуни не уточнил. Позже Отар несколько раз напоминал ему про жетоны — не отыскались ли, но учитель незаметно переводил разговор на другую тему.
Едва началась игра, с балкона раздался свист и рев: матч проходил в динамовском зале, и зрители отчаянно «болели» за своих. Но громче всех был голос динамовского тренера: он, не жалея горла, подсказывал: «Иди вперед!», «Отдай в центр!», «Бросай по кольцу!» Чужой тренер суетился, горестно всплескивал руками, если кто-нибудь из его ребят не попадал в кольцо из-под щита, а когда раздавался судейский свисток, замирал на мгновение и, полуоткрыв рот, ждал, кого накажет судья: если штраф был в пользу его команды, утвердительно кивал головой, а если нет, хлопал себя по бедру и, направив обе ладони в сторону арбитра, осуждающе отворачивал лицо в противоположную сторону.
В самом начале Отар забросил два мяча, но потом промазал два штрафных, посмотрел одним глазом на тренера, тот и бровью не повел. Но Отар чувствовал, что все у него получалось через силу, защитник, опекавший его, казался и выше и опаснее, чем был на самом деле.
В перерыве тренер динамовцев собрал своих и разносил их со смаком и удовольствием. (Есть такие глупые люди, которые считают себя счастливыми, когда получают право накричать на других.)
Перерва дал ребятам пару минут, чтобы они пришли в себя, и показал на балкон, заполненный динамовскими болельщиками:
— У вас сегодня два соперника. Те, что на балконе, не менее опасны. Представьте себе, что вы глухие и ничего не слышите. Но, пожалуйста, не делайте вид, что вы слепые. Поле видите плохо. Находите открывающихся партнеров. Больше двигайтесь. И приглядывайте получше за их центровым. Он слишком свободно чувствует себя.
Мальчишки понимающе кивали головами и горели желанием быстрее выйти на площадку. Началась вторая половина, динамовцы, понукаемые зрителями и тренером, пошли вперед, защитники пропустили под кольцо их длинноногого центрового. «Молодец, Арно!» — послышалось с балкона. Арно не торопясь возвращался к центру, где должны были разыграть мяч.
Динамовцы овладели мячом, но Арно обманул Отара, бросил мяч по кольцу, тот медленно покатился по дуге, как бы раздумывая, упасть или не упасть в корзину. Упал, проклятый.
Динамовцы выходили вперед, Отар чувствовал себя прескверно. Пересохли губы, в горле появился какой-то комок, руки стали деревянными, а ноги чужими. Он дал неточный пас. Капитан Хавтаси прикрикнул: «Что, слепой?» Потом Отара вывели к кольцу, он приготовился бросить и вдруг услышал голос чужого тренера: «Этого не держите, он не опасен, не попадет». — «Ну, пожалуйста, залети в кольцо, залети, — готов был он попросить мяч. — Мне это так важно, пожалуйста, залети». Отар был метрах в четырех от кольца и мог прицелиться спокойно. Он бросил и… не попал даже в щит.
Серго Хавтаси подошел к тренеру:
— Может, заменим Отара? У него сегодня ничего не получается.
Отар вмиг возненавидел Хавтаси. Считал его настоящим товарищем, предложил избрать капитаном, а теперь он пробует все свалить на Отара.
Отар не знал, что будет, если Перерва ответит согласием. «Ведь я умею… Ведь умею играть. Просто не получается. Если меня заменят, все подумают, что Девдариани — никчемный баскетболист. Тогда… тогда…» Отар не знал, что будет тогда.
— Пусть поиграет, — ответил Перерва. Отар был благодарен ему. Но потом тренер произнес фразу, которая его задела: — Больше играйте на Меркулова и Хубулури.
Значит, и тренер не доверяет ему. Зачем же тогда его держат на площадке? Он отчаянно боролся за мяч под чужим щитом, но, завладев им и отдав партнерам, обратно его не получал. Отар никогда не казался себе таким малосимпатичным.
Чужой тренер всем своим видом показывал, что дело сделано, он больше не- кричал, не суетился. Теперь он изображал из себя вдумчивого и спокойного педагога, который старается не упустить ни одной детали поединка. Он держал на коленях блокнот и что-то торопливо записывал.
Перерва подозвал Отара:
— Отдохни немного, пусть поиграет Кокашвили. Кока, пойди в защиту, Игоря пошли вперед.
Отару казалось, что на него смотрит весь зал. Он заставил себя сделать вид, будто ему безразлично все, что произошло.
Отару казалось, что на него смотрит весь зал. Он заставил себя сделать вид, будто ему безразлично, то, что произошло.
«Только почему тренер, который столько лет играл сам, не предупреждал, что будет так трудно? Почему не учил, что делать, когда ты становишься непохожим на самого себя?» — думал Отар, мало обращая внимания на то, что происходило на площадке. Он помнил, что оставалось до конца игры минут десять и что динамовцы были на четырнадцать очков впереди… И вдруг услышал надрывный голос чужого тренера:
— За что штраф, за что штраф в эту сторону? Надо было в ту сторону. Судья не знает, где какая сторона. Что это за судья?
Отар посмотрел на щит с большими колесиками, рядом с которыми дежурили двое мальчишек— ассистенты судьи, и не поверил глазам. Счет был 32:37.
Кока старался играть за двоих. Отару было неприятно смотреть, как он старается. Кока давно бился за место в команде. Он был ниже других, правда, прыгал неплохо и не уставал. Но до этого тренер отдавал предпочтение Отару. И вот теперь у Коки появился свой шанс, и он хотел показать, чего стоит.
Отар не знал, будет ли рад, если его команда выиграет.
Он много бы отдал за то, чтобы выиграла команда и немного испортила настроение этому тренеру, этим болельщикам, этому самовлюбленному Арно.
Только он не знал — будет ли рад, если она выиграет. Значит, сам он стоит так мало. Значит, это он был виновен во всем.
За Отаром в оба глаза следил из угла зала Диего Пуни. Отар перехватил его взгляд и почувствовал, что старик жалеет его.
За минуту до конца Меркулов и Кокашвили вышли к щиту, имея перед собой одного Арно. Тот беспомощно махал длинными руками. «Назад, назад, не давайте бросать!» — завопил тренер, Кока сделал вид, что атакует кольцо, Арно вскинул руки; ударив мячом о пол, Кока передал его Игорю, и тот послал мяч в кольцо. Счет стал 42:42.
Пока динамовцы приходили в себя, Кока забросил еще один мяч. Тут же раздался финальный свисток. Балкон досадливо молчал.
Чужой тренер незамедлительно принялся сочинять протест на решение судьи, который в конце встречи наказал двумя штрафными Арно. К Отару подошел Пуни и поздравил с победой, Отар не знал, что ответить. Михаил Перерва сказал всем «спасибо» и напомнил про очередную тренировку.
Отар переоделся раньше других и попрощался с ребятами; они не задерживали его, продолжая оживленно обсуждать игру. Им было мало дела до Отара. Каждый из них понимал, что в этот час произошло что-то заставившее их по-новому смотреть на своего ничем не выделявшегося раньше товарища. А Кока спокойно укладывал вещи в старенький чемоданчик, Отару очень хотелось бы оказаться на его месте.
Пуни и Отар отправились медленным шагом домой. Испанца не на шутку заинтересовал динамовский тренер. Пуни никак не мог понять, что заставило этого нервного гражданина пойти в тренеры, и был искренне убежден, что еще десяток-другой таких матчей, и у динамовца будет разрыв сердца.
— Однажды я видел в Малаге матч профессионалов, разыгрывался крупный приз; испанец боксировал не то с пуэрториканцем, не то с костариканцем, так у того был несчастный тренер, он кусал ногти, бил себя кулаками по голове, что-то выкрикивал, а когда испанец послал его боксера в нокдаун, упал в обморок. Пока лежал в обмороке, его боксер пришел в себя и успел в следующем раунде нокаутировать испанца. Когда тренер открыл глаза и увидел, как с ринга кого-то выносят, он подумал, что это его боксер. Тренеру снова стало плохо. Его отвезли в больницу. Он больше не подходил к рингу. Боялся.
Пуни сказал как бы между прочим, что извлекать пользу из неприятности может только «человек с мозгами». Там, где другой опускает руки, считая виновником судьбу, «человек с мозгами» постарается понять, где и в чем он сам оплошал, чтобы этого не повторить следующий раз. На прощание Пуни пожелал Отару как можно дольше носить синяк, который он сегодня получил. «Синяки это лучшие медали, которыми награждает нас жизнь».
Отар узнал себя с новой, не очень привлекательной стороны. Значит, он не такой смелый, как думал раньше.
Как думал тогда, год назад, на берегу Чхеримелы.
…Они плавали у запруды с мальчишками и поспорили, кто дольше пробудет под водой, Одна девочка — Циала — была судьей на берегу. Отар сказал себе — задохнусь, утону, не всплыву первым: вода была прозрачная, и он видел, как выходили из игры конкуренты. И только один из них решил не уступать… Его звали Арчилом — Ачико; он думал, должно быть, что это из-за него пришла Циала. Отару казалось, что вот-вот лопнет сердце. Еще немного, и он сделал бы непроизвольный вдох. Тогда Отар закрыл рот и нос пальцами, как на замок. Арчил подплыл к нему и улыбнулся. Улыбка у Арчила была во все лицо, самодовольная и надменная, — неужели ты думаешь, что я тебе уступлю? — как бы спрашивал он. Отар понял, что проигрывает, и хотел уже плюнуть на все и всплыть. И вдруг увидел, как темные волосы Арчила скрыли его лицо. Арчил не выдержал, торопливо всплыл, хлопнул рукой по воде, как бы говоря — веселая игра окончилась, хватит валять дурака, показывайся. Значит, он до этого улыбался, чтобы лишить Отара силы. Хотел перехитрить.
Отар сказал себе: «Досчитаю до двадцати и только потом всплыву», А досчитал до двадцати шести, сложив свои годы и годы Циалы. Циала весело хлопала ему и преподнесла цветок. Ни один рыцарь в мире не получал более драгоценного подарка. И вот теперь этот баскетбол.
Отар пропустил две тренировки. Перерва прислал ему с Кокой записку. Но Отар, проводив мать в Мелискари, жил в это время у Пуни и записку не получил.
Отар помогал Пуни ухаживать за крохотным огородом в Дидубе, они изучали испанский, играли в нарды, ходили на Куру ловить рыбу. Отар вспоминал рыбака, закидывавшего сеть в Чхеримелу, и еще вспоминал, как жаль было ему рыбок. Он сказал тогда об этом кривому Иобе, Иоба что-то крикнул рыбаку. Тот ответил: «Ки, генацвале!» — «Да, дорогой», снял с пояса кожаное ведерко и перевернул его. Рыбки, вильнув в воздухе серебряными хвостиками, весело плюхнулись в реку.
Как давно все это было! Каким он был глупым. Теперь вот сам ловит рыбу. И огорчается, если долго не клюет, А все же хорошо там, в Мелискари!
Зайдя как-то к себе домой, Отар нашел записку от Перервы. Ему стало стыдно. На следующий день он побежал в зал. Ему хотелось извиниться. Он искал Перерву, но оказалось, что его взяли в армию. Отар погрустил-погрустил и решил уехать в Мелискари. Кристин напекла ему на дорогу пирожков. Соседи по купе, веселые, голодные студенты, ехавшие на каникулы в Хашури, Зестафони и Кутаиси, облизывали пальчики. Отару достался один пирожок.
Как всегда, по вокзалу прогуливались Спиридон и Мелко. Отар привез им фотографии, сделанные в прошлом году.
— Слушай, ты куда так растешь? — строго спросил Мелко. — Посмотри на Спиридона. Каким был пятьдесят лет назад, таким и остался. А тебя года не было, и уже трудно узнать. Приходите к нам завтра с мамой.
Глава пятая. Под крепостью
Однажды к Нине пришла мать Кукури Елена и, вытащив из-под платка бутылку с молоком, сказала, что у нее отелилась корова и что радость никогда не ходит одна, без беды — несносный Кукури получил на осень переэкзаменовку по русскому языку…
— Уже три дня я прошу эту несчастливую голову сесть за учебник, уже два раза его выпорол отец, он садится, посидит десять минут, но, стоит мне отойти, исчезает… Он ведь у нас джиути — съевший осла — упрямец, каких мир не видел. Он к вам так хорошо относится… Не могли бы вы, высокоценимая Нина, позаниматься с ним немного? Надо только один рассказ хорошо выучить. Только один рассказ. — Пальцами, не привыкшими иметь дело с книгой, Елена с трудом отыскала страницу, на которой был тот рассказ.
Нина быстро пробежала его глазами. Глава называлась «На уроке».
«— Я уже хорошо говорю по-русски, батоно[5] Эгпатэ? — спросил Гиви учителя.
— Ничего, Гиви, ничего. Только тебе надо больше читать. Люби книгу. Книга друг человека. Источник знаний. Ты понял меня, Гиви?
— Да, я понял вас, спасибо.
— А что мы будем проходить завтра? — спросила Этери.
— Завтра мы будем повторять старое и проходить новый материал. Кто не усвоил старый материал, тот не сможет усвоить новый. Вы поняли меня, дети?
— Да, мы поняли вас, спасибо».
После этого следовало еще три или четыре таких же изысканных вопроса и три или четыре таких же находчивых ответа.
«Чем забивают головы? — подумала Нина. — На место Кукури я бы, наверное, тоже убегала от такого текста».
— Скажите, дорогая Елена, а почему именно этот рассказ нам надо выучить? Ведь в книге есть другие, более интересные вещи… Да и Кукури могут спросить, на экзамене что-нибудь другое.
— Нет, высокочтимая калбатоно[6]. Нина, нам нужен только этот рассказ. Надо выучить так, чтобы этот нехристь мог бы прочитать его, не заглядывая в книжку. По памяти. Память у него неплохая, вот пусть назубок и выучит. А я вам буду, не обижайтесь на меня, пожалуйста, по утрам молоко приносить для Отара.
— Ну почему же именно этот рассказ?
— А он на странице сто, и это легко запомнить.
— Простите, Елена, я не совсем понимаю. А если бы он был на сто третьей странице?
— Вы ни о чем не беспокойтесь. Я уже была у племянницы мужа — Цуцы и разговаривала с ней. Она обещала все сделать.
— Что же она обещала сделать?
— Ну у Цуцы есть двоюродная сестра Вардо. А у Вардо есть муж Шота. Так вот этот муж — брат того самого учителя Амбако, который, пусть накажет его бог, совсем не чтит родственных уз. Кто мы ему, чужие, что ли, что он Кукури двойку поставил? Вот я и сказала Цуце: «Если у тебя доброе сердце, пойди поговори с Вардо, чтобы она попросила своего мужа Шота побеседовать с этим самым Амбако, чтобы у него совесть проснулась». Нет, мне не надо, чтобы он сыну, как родственнику, пятерку поставил. Пусть только поможет перейти в седьмой класс. И, чтобы у Амбако совесть была чистой, мы выучим этот рассказ так, чтобы учитель поперхнулся от удивления. От него много не надо: пусть спросит рассказ, который на сотой странице. И все дело. А я этот рассказ выбрала, потому что страница удобная — легко запомнить. Так что я очень прошу вас, любезная, если можете, помогите. И дайте Кукури ваше хорошее русское произношение.
Нина закусила губу, чтобы не расхохотаться. Не желая обидеть гостью, она сказала:
— Вот что, милая Елена. Эту бутылку молока мы возьмем, а больше не приносите. У нас уже есть молочница. А с Кукури давайте договоримся так. Мы будем заниматься каждый день по часу и постараемся не только этот рассказ осилить. Но вы поговорите с вашим братом Тенгизом и попросите его немного заняться с Отаром грузинским языком.
— О, у Тенгиза отпуск, и ему будет приятно. У него и книжки есть для детишек. Я обязательно с ним поговорю, сегодня же.
У Нины эта мысль возникла неожиданно, и, высказав ее, она вдруг смутилась. Тенгиз, большой, добродушный и неторопливый, был врачом, первым человеком во всей достославной истории села Мелискари, получившим высшее образование. Он работал в районном центре невропатологом и стойко переносил саркастические реплики старых друзей — в больнице еще не было терапевта и зубного врача, но уже был невропатолог, раб разверстки, обрадовавшийся возможности работать в родном краю, да только не знавший, с чего начать, ибо к профессии его на первых порах относились с некоторым недоверием. Но после того как он выбил дурь из головы дежурного по станции Павлэ, работника ладного да необыкновенно вспыльчивого и самолюбивого, к невропатологу начали относиться с уважением. Потом Тенгиз вылечил мальчика, который испугался змеи и не мог оставаться один во дворе. Потом помирил представителей двух издавна враждовавших родов, которые в минувшие времена убивали друг друга быстро, а теперь медленно с помощью анонимных заявлений и жалоб.
Была у Тенгиза одна страсть — он любил шахматы, любил разбирать партии, изредка публиковавшиеся в газетах, следить за турнирами, играть. В родном селе соперников у него не было. Узнав, что Отар играет, Тенгиз пригласил его домой, угостил фруктами; мальчик поблагодарил, взял в руки грушу, да так и остался с грушей до конца партии — просто забыл о ней.
Начав, как с новичком — бесхитростно, быстро и не слишком осторожно, — Тенгиз довольно скоро пожалел об этом. Его партнер искал ходы обстоятельно, жертвы Тенгиза — сперва пешку, а потом фигуру — принял и, не поднимая глаз, даже когда очередь хода была за Тенгизом, нашел путь к выигрышу. Тенгиз подумал — этот молодой человек кое-чего достигнет, если сохранит способность так вот отдаваться делу.
— Ну сдаюсь, сдаюсь, молодец. Только что ты грушу не ешь?
Отар надкусил сочную грушу, потек сок, он поискал глазами блюдце и, не найдя, с сожалением выбросил грушу в окошко.
Во второй партии Тенгизу удалось сделать ничью. Третью он играл уже серьезно и выиграл.
— Да, вы знаете, я напрасно пошел на этот вариант после хода ферзь бе три, — сказал Отар и, расставив фигуры, показал, как он мог избежать поражения. Контрдоводы Тенгиза он опровергал вежливо и убедительно, и тогда понял врач-невропатолог, какой неплохой шахматист перед ним.
Так началось знакомство Тенгиза Буачидзе с Ниной и Отаром, Тенгиз неплохо говорил по-русски, ко ничего не мог поделать со своим акцентом, поэтому его сестра Елена и обратилась за помощью к Нине.
Кукури приходил аккуратно в девять, вслед за батумским поездом, по которому отмеряли время, приносил книжку и тетрадку для труднопроизносимых слов и начинал читать.
Одновременно в соседней комнате садился за грузинский Отар. Закончив переводить текст, который специально для каждого занятия придумывал Тенгиз, Отар шел к нему, и они еще долго сидели то за «Географией Грузии», написанной в стародавние времена просвещенным и трудолюбивым царевичем Вахушти, то за стихами Важа Пшавелы, которого Тенгиз хорошо знал и любил, то за рассказами Александра Казбеги. Под вечер ходили с удочками к реке. Кукури презирал удочки. Поднявшись по течению чуть выше, он начинал шарить под большими камнями. В такие минуты на лице его были написаны вдохновение и отрешенность.
В этот день на долю Кукури выпала большая удача — он один выловил больше форели, чем Нина, Отар и Тенгиз удочками. Когда вернулись, Тенгиз, привыкший к холостяцкой жизни, ловко ополоснул котелок, наполнил его водой, поставил на огонь, бросил в котелок рыбу; Отар отправился в огород за зеленью. Елена, Нина и Кукури готовили закуску. Потом Тенгиз вместе с Отаром подошли к зарытому в землю огромному кувшину с широким горлом и, аккуратно убрав с крышки ровный слой глины, набрали вина.
Вскоре после того как они сели за стол, у забора показался всадник на крохотной лошадке, приехал Валико. Теперь он был бригадиром. Парень ладный, работящий, он за год вытянул плохую бригаду. О нем даже написали в районной газете.
Гость торжественно произнес:
— Ака мшвидоба — мир здесь.
— Винц мовида, гаумарджос — пусть здравствует прибывший, — на правах старшего мужчины за столом откликнулся Тенгиз.
— Садитесь, — подвинулся Отар. — Сегодня день рождения моего папы — ему было бы тридцать семь лет.
Нина едва заметно закусила губу. Она первый раз забыла про этот день.
— Пусть будет память о Давиде, — Валико приподнял граненый стакан. Он посмотрел на Нину и на Тенгиза и подумал: «Пусть будет память, пусть будет, но неужели правду говорят в деревне, что Нина больше не вернется в Тифлис?»
Из окна была видна похожая на мула лошаденка, лениво щипавшая траву.
«Вот разрешили бы покататься на ней, — подумал Отар. — Пойду покормлю ее».
Отломив кусочек кукурузной лепешки — мчади, Отар заговорщически мигнул Кукури: «Айда, покатаемся!», подошел к лошадке. Похлопал ее приятельски по холке, протянул мчади. Лошадка настороженно взглянула на незнакомца и отпрянула в сторону.
Что ты испугалась, глупая? — Кукури накрошил и ладонь мчади. Лошадка доверчиво подошла к нему и, едва дотрагиваясь до ладони сухими нервными губами, быстро собрала кусочки.
— А меня что же ты боишься? — Отар старался говорить ласково. — Или у меня другое мчади? На, попробуй, посмотри, как вкусно.
Валико выглянул из окна и на всякий случай предупредил ребят:
— Будьте с нею осторожней! Она иногда бывает сумасшедшая. Никогда не знаешь, какое у нее настроение. Сами не садитесь. Скоро выйду покатаю вас.
Отар приближался к лошадке.
Она боязливо заржала, как бы зовя на помощь хозяина. Потом отбросив мальчишку ударом головы, встала на дыбы и снова начала щипать траву.
Отар удивленно вскрикнул и повалился назад. Больше он ничего не помнил.
«Боже, это мне наказание, это мне наказание, знаю за что, знаю за что», — с ужасом думала Нина. Тенгиз подбежал к Отару, поднял его, зажал рукой рану на голове, перенес в кровать, обтер лицо.
— Не беспокойтесь, все обойдется, сейчас мы откроем глаза. Сейчас мы откроем глаза. — Тенгиз пристально посмотрел на мальчишку, тот действительно открыл глаза и негромко сказал:
— Это не лошадь была виновата.
И снова закрыл глаза.
— Что случилось с этой дурой? — не находил себе места Валико. — Тварь несчастная, проклятая и гадкая, Чтоб ты провалилась под землю, чтоб ты подохла, мерзкая, противная и жалкая! Чтоб мои глаза, тебя больше никогда не видели, скотина паршивая!
— Прислушайтесь, — улыбнулся Тенгиз. — Если бы вы понимали, как искусно и неподдельно клянет свою лошадку наш гость! — Тенгиз знал, как важно в такую минуту переключить мысли женщины на что-то другое.
— Я немного понимаю. Лишь бы сотрясения не было. Как вы думаете… доктор?
— Не думаю, не думаю, — сказал Тенгиз.
И все же у Отара было небольшое сотрясение. На следующий день Тенгиз и Нина отвезли его на станцию, положили в больницу; мальчишка провалялся в ней две недели. Несколько раз в день к нему заходил Тенгиз, приносил фрукты, перекидывался парой слов с Ниной.
И показалось однажды Отару, что мама и Тенгиз стали немного стесняться друг друга и разговаривать через силу, принужденно.
Не знал Отар, что уже много ночей плохо спит Нина. Думает о сыне. Думает о Тенгизе.
На второй или третий день после того, как вышел из больницы сын, невольно выдала себя Нина. Услышав шаги Тенгиза, она поднялась, прикрыв за собой дверь, но дверь отошла, и заметил Отар, как мама быстро, украдкой взглянула в зеркало и, думая, что никто ее не видит, поправила прическу и накинула платок.
Возмужавшим за время болезни умом понял Отар, почему смотрела на себя в зеркало мама. Он верил ей, доверял ей во всем. Но не понимал одного, как же папа, как же память о нем, не понимал, но и не находил в себе силы спросить об этом у матери.
А Тенгиз Буачидзе, первый в селе человек с высшим образованием, врач-невропатолог, который самой профессией своей был обязан исцелять других, многое дал бы тому, кто исцелил бы его самого. Да только…нет, не хотел он исцеляться.
В конце августа, когда во всех деревнях паковали вещи дачники, когда с боем брали билеты на Тифлис, Варлам пригнал быков, чтобы отвезти Нину и Отара на станцию… Нина подошла к сыну.
— Нам надо побеседовать, сынок! Давай присядем здесь, под деревом.
Мать говорила негромко, спокойно… И все же показалось Отару, было в ее интонации что-то незнакомое. Она словно оправдывалась. Сын ждал этого разговора, знал, что он произойдет, и все же думал иногда: а вдруг все это кажется, вдруг все это неправда? Тенгиз славный парень, но ведь ом моложе мамы на три года, а говорят, так не бывает, говорят, женщина должна быть младше. Они хорошие товарищи, и мне Тенгиз хороший товарищ, но это не значит, что…
— Сын, я хочу поговорить с тобой как с другом и товарищем. О таких делах обычно говорят со взрослыми. Я говорю с тобой потому, что считаю тебя взрослым. — Нина помолчала, посмотрела на сына. Он взял камушек, оглядел его со всех сторон и счистил налипшую землю. — Вчера Тенгиз сделал мне… сказал, что хотел бы быть нашим другом, жениться на мне. Я верю, что этот человек станет нашим другом. У него честные глаза, и я… нет, я не о том. Тут нужны особые слова. Я, видимо, не могу таких слов найти, хотя, как ты догадываешься, я долго думала об этом нашем разговоре.
— А наш папа?
— Разве мы забудем его? Тенгиз приглашает пожить этот год в деревне. Я смогла бы поработать в школе. В тифлисской школе меня обещали отпустить на год… если я попрошу.
— Значит, ты уже разговаривала об этом?
— Я написала туда… не объясняя, зачем понадобится отпуск. Поучишься год в Харагоули. На первых порах будет трудно. Но ведь об этом просил нас отец. Он хотел, чтобы ты одинаково хорошо знал оба языка. Да и Тенгиз поможет.
— Мама, там дядя Варлам ждет с быками. Поблагодари его. Скажи, что не надо… — Отар размахнулся и закинул камень далеко под гору.
И пошла женская молва по Мелискари. Осуждая Нину бабьим умом и оправдывая бабьим сердцем, судачили близкие соседки и дальние родственницы Тенгиза.
— Как можно было забыть такого мужа, каким был бедный Давид? Если бы я была вдовой такого мужа, то никогда не сделала бы того, что сделала Нина, — говорила безгрешная сорокадвухлетняя дева Роза, презиравшая всех мужчин с тех пор, как в день свадьбы сбежал и ушел в солдаты ее жених из соседнего селения… Жених, насильно подведенный под венец родителями, позарившимися на невестино добро.
— Чем плохая жена для нашего Тенгиза, не знаю, умница, не задается, с крестьянами проста, не то что твои дачники, — парировала пионервожатая Лиза, которая была тайной воздыхательницей Тенгиза и боялась словом или интонацией выдать свое горе.
Все та же крепость над ущельем.
Все та же Чхеримела внизу, торопливая, ворчливая, неумолчная.
И все то же полотно железной чудо-дороги, проложенной в семидесятые годы прошлого века по немыслимым кручам; не восславлен еще подвиг тех строителей, которые киркой, ломом и динамитом отвоевывали у скал сантиметр за сантиметром и пробивали туннели в многокилометровой толще гор с удивительным даже в наши дни мастерством и точностью.
В воскресные дни полотно железной дороги превращается в главный проспект.
Спускаются с гор, к станции, на базар старые и молодые женщины. Идут босиком Венеры, Медеи, Тамары, идут босиком или в старых-старых туфлях — выбросить не жалко. А в руках сверток. Метров за сто до станции крестьянка разворачивает сверток, вынимает туфли, подставляет ноги под родник, надевает чулки и… не крестьянка — царица идет на базар. И стан у нее стройнее, и вид горделивее, а что руки в шершавинках и мозолях от тяпки — так ведь ладони не видны. А здороваясь, царица сложит руки по-деревенски, лодочкой, и опять никто не узнает о мозолях.
Хорошая пара обуви — одна на всю семью, служит она и матери, и старшим дочерям. Но только по воскресеньям. Прийти на станцию в хорошей обуви — неписаный закон.
Хорошая пара обуви — мечта, и цены на нее фантастические. Помнил Отар, как один незнакомец привез из Тифлиса и выставил на базаре пару лакированных туфель. Сенсация была! Смотреть на них приходили специально. Незнакомец, хорошо понимая, каким бесценным богатством владеет, не сводил глаз с туфель; он просил шестьдесят рублей, а ему давали сорок. Торг длился полдня. А когда стороны сошлись на пятидесяти и ударили по рукам, оказалось, что одну туфлю все-таки стащили.
Спекулянт долго выл, ругался и умолял вернуть ему туфлю, клялся, что это не его вещь.
Когда базар закрывался и спекулянт подошел к навесу, чтобы запить горе, к нему обратился молодой человек с нехорошей улыбкой и попросил продать оставшуюся туфлю за тридцать рублей. Продавец на минуту задумался, обрадованно закивал головой, но, как только молодой человек вытащил из-за пазухи деньги, он подумал-подумал, взял в руки большой камень и начал спокойно корежить туфлю.
При этом приговаривал:
— Теперь я знаю, кто украл. Ты у меня черта с два получишь. И себе не возьму, и тебе не дам. Ну что, съел? Удалось тебе меня перехитрить, да? На, получай. — И продавец бросил на землю искореженную, разорванную в нескольких местах туфлю.
Хладнокровно досмотрев представление до конца, молодой человек сказал с отталкивающей улыбкой:
— Дурак ты, зачем вещь испортил? Это я для своей мамы хотел купить. У нее одна нога.
— А чего раньше не сказал, оболтус эдакий? — снова взвыл продавец.
— А ты разве меня спросил?
Со станции приходил в Мелискари агитатор Геронти. Он говорил, что страна строит много заводов и фабрик, чтобы на этих заводах и фабриках можно было делать машины, которые смогут шить обувь (агитатор знал слабинку слушателей!), шить платья и брюки. Геронти говорил, что общее дело есть общее дело, что чем больше будет собрано и сдано кукурузы, винограда, фруктов, тем будет легче и веселее строить электростанции, фабрики и комбинаты.
Геронти с пафосом говорил о том, какие великие электростанции строятся в стране, больше, чем ЗАГЭС под Тифлисом, придет пора, когда и в Мелискари зажгутся электрические лампочки. Подойдешь к выключателю, сделаешь «чик», и готово, загорелась лампочка: светло как днем, хочешь — книгу читай, хочешь — в нарды играй.
Пока в домах горели керосиновые лампы; чтобы не трескались стекла, на них надевали шпильки от волос. Но стекла все равно трескались, а на станции торговали ими не всегда. Поэтому, когда торговали, их покупали сразу по полдюжины.
Шли по железнодорожным шпалам босоногие Венеры, Медеи и Тамары, и их матери шли босиком, и их бабушки тоже, а над полотном, на высоких опорах мастера в тщательно залатанных штанах и выцветших гимнастерках проводили электрическую линию для будущих неведомых машин.
А пока не луч электровоза — фонарь «летучая мышь» в руке путника освещал немигающим светляком старую железнодорожную линию. Он был ангелом-хранителем горца, этот фонарь, в рано опускающуюся и темную до жути горную ночь.
Здешнему жителю не занимать трудолюбия. Он сеет кукурузу на немыслимых склонах; рассказывали про кривого Иобу, что он закидывал семена на самые трудные участки из рогатки. Как он полол на тех склонах кукурузу и как собирал скудный урожай, одному богу было известно. Но это была «его» земля. На этой земле сеяли его деды, и он не понимал, почему теперь в колхозе кто-то другой, живущий поблизости, будет обрабатывать этот «общий» участок, а он станет сеять кукурузу на другом «общем» участке. Он считал это делом неправедным и начал полегоньку халтурить. Рассуждал он бесхитростно: «Если бы я раньше не прополол как следует поле, это принесло бы беду на мою одну голову. А теперь таких голов вон сколько, ничего особенного не будет». Однажды за бутылкой вина он поделился этой мыслью с Варламом.
— Ну а если каждый начнет рассуждать так, чем, по-твоему, это все кончится?
Иоба открыл рот от удивления. Он считал себя умнее и хитрее других, и такая мысль в голову ему не приходила.
На станции открылся клуб, Отар уже неплохо говорил по-грузински и участвовал в комсомольской самодеятельности. Хор исполнял на мотивы народных песен (своих композиторов пока не было) сатирические куплеты о лодырях. Тексты сочиняли Отар и Кукури. На первом концерте, к которому готовились, как к большому торжеству, зрителей было полным-полно. Когда спели куплеты, чинно раскланялись и не услышали ни одного одобрительного хлопка, Отар заскучал. В этом краю не признавали критики, даже самой справедливой и доброжелательной. Считали: ни к чему говорить о человеке кислые слова. Вчера за столом тамада возносил до небес его ум, проницательность и удаль, а сегодня какие-то молодые люди позволяют себе напоминать, что он два дня не выходил в поле. Нет, деды бывали умнее, они говорили друг другу за столом только добрые слова, поэтому жанр сатирического куплета прививался в этом краю со скрипом.
Колхоз создавался трудно, еще труднее рос. Дали ему громкое имя «За образцовый труд» (в Мелискари не любили заурядных названий, сравнений и определений), а этот «образцовый» выдавал на трудодень фунт кукурузы.
Было мало надежд на машины. Только на людей. Все та же соха, и тяпка, и серп служили крестьянину, как и прадеду его; будущие тракторы, которыми агитаторы пленяли воображение равнинного землепашца, просто не доплелись бы сюда, в этот край вертикальных измерений.
Мельника Варлама, солдата, прошедшего через мировую и гражданскую войны, никто не числил в агитаторах — не догадывалась Советская власть, какой у нее убежденный защитник на маленькой мельнице над Чхеримелой.
Был у Варлама грех — любил он пофилософствовать: война да революция дали ему столько впечатлений, так переполнили его душу, что вряд ли до конца жизни было дано ему высказать все, что передумал он в окопах, сражаясь с немцами, вшами, империалистами, что передумал на госпитальной койке, с которой сполз на костылях, вряд ли до конца жизни было дано ему пересказать все, что повидал он в революционной Москве, в отряде по борьбе со спекулянтами, да в переполненной, пропахшей потом теплушке, развозившей после революции кавказцев по домам.
Вспоминалось все это ночами, обрывками короткого и тревожного сна, он вставал с тахты, чуть прихрамывая, выходил на балкон, сворачивал самокрутку и, подперев голову рукой, уносился мыслями в прошлое, сетуя, что еще далеко до рассвета, зная, что больше не уснуть.
Был Варлам сыном крестьянина молчаливого, считавшего, что бог не зря дал человеку два уха и только один язык, да и сам Варлам до того, пока его взяли в солдаты, многословием не отличался: больше любил слушать других, набираться уму-разуму. До солдатчины слыл мастером корзинного дела: с помощью длинного металлического языка сплетал корзины — подивишься, да не повторишь — за них немалые деньги платили в Кутаиси и в Тифлисе.
Приходят к Варламу гости, он выставляет кувшин вина и закуску, гости говорят о том, о сем, Варлам слушает их, да плетет корзину. Смеется, когда слушает веселую историю, подает реплики, а от дела не отрывается, Посидели гости, поговорили и разошлись ни с чем, ничего путного за это время не сделали, а у Варлама полкорзины готово.
После войны пальцы у Варлама не так работали, забросил он корзинное дело, пошел на мельницу.
Отар любил проводить вечера с Варламом. Мирно тараторили жернова, при свете тусклого фонаря Варлам и его помощник, обсыпанные мукой, казались участниками какого-то мифического представления. Крестьяне, сидевшие на мешках и ожидавшие очереди, закуривали самосад и не торопились начинать разговор. Знали, если будет у Варлама настроение, заведет его сам. Вот только с женщинами не вел разговоров Варлам — ни к чему, пусть домом занимаются, за детьми следят, а в политику не лезут. И вообще, зря женщинам столько прав дали, ни к чему хорошему не приведет. Эту сторону революции Варлам активно не воспринимал и с женщинами разговоров вести не любил; что же касается крестьян, всех этих Павлэ, Коций, Николозов, Глахун, всех этих простоватых, крепких крестьянским умом и не очень сильных в международной политике односельчан, то Варлам был честно убежден, что все они нуждаются в политическом просвещении. На районного агитатора, за которым, помимо Мелискари, было «закреплено» еще шесть или семь сел, особой надежды не было. Вот и становился волей-неволей агитатором сам Варлам.
Говорил он о войне с германцами, о большевиках, с которыми познакомился на фронте, о русских батраках, с которыми проводил дни и ночи в окопах, о революции, которую видел своими глазами. И о том, ради чего умирали большевики, говорил тоже. И вспоминал старого друга своего Давида Девдариани, сына дворянина.
— Ты вот возьми и порассуждай, почему он взял сторону рабочих и крестьян. Значит, в этой власти старой такое было, что ему тошно стало… Э-э-э, повидал я, как офицеры с солдатами обращались. Как в лицо били, если забывал человек, куда поворачиваться по команде «налево». Понимаешь, неграмотные мужики приходили, им на одну руку солому привязывали, а на другую сено. Чтобы не перепутали, где какая сторона. А разве мужик виноват был, что его никто ничему не учил. Взяли в армию, ударили раз, ударили два, все, что было, вылетело из головы. И меня один ударил тоже… Больше не бил… И других больше не бил. Заставил грех на свою душу взять… Глупый был человек и злой, царство ему небесное.
— Что же ты с ним сделал, дядя Варлам? Неужели убил? — спросил Отар, когда первый раз услышал эту историю. Хорошо зная Варлама, его незлобивый характер, он не мог поверить рассказу.
— Когда он меня ударил и сказал «скотина», ему уже трудно было остановиться, а мне стало все равно: я только думал, неужели не знает, что его теперь ждет? Пожалел даже. Про себя. Была такая сила, которая заставляла меня пойти на плохое дело, ждал — может быть, найду другую силу, которая будет посильнее ее, поборет ее. Но не нашел. — Варлам скрутил козью ножку, затянулся, прикрикнул на Цербу, воровато пробиравшуюся в комнату, и заговорил о щенках, которых она недавно принесла. Почувствовал Отар, что не хочет Варлам вспоминать старое, да не удержался, спросил:
— А за что он вас?
— Да было такое дело. Он ударил моего товарища Трофима. Тот раньше охотником был на Урале, белок стрелял. В глаз попадал. Был неграмотный и медленно соображал. В рассрочку. Но имел самолюбие — охотник! А этот фельдфебель Винт на стрельбах к Трофиму придрался. «Как лежишь?», — говорит. А Трофим, не вставая, ответил: «Как могем, так и лежим. Вы не на меня смотрите, а на мишень». Винт вскипел. Еле дождался, пока кончили стрелять. Велел принести мишень Трофима. Все пули в центре оказались. Думали, похвалит солдата, а он сказал: «Ты что же, сукин сын, решил — раз стрелять научился, значит, и хамить можешь? Я тебя, мать твою, научу, как разговаривать. Понял, негодяй?»
Вместо того чтобы ответить как положено, Трофим переспросил: «Чего-сь?» Винт ударил его. Трофим выплюнул кровь и ничего не сказал. Я рядом стоял. Заступился. Винт и меня ударил. Больше не бил… Никого… Твой отец сказал, что я поступил верно, а дед разговаривать перестал.
Задумался рассказчик, затянулся глубоко.
— Дядя Варлам, давно собирался спросить тебя, что у них произошло — у деда с отцом? Не хочешь — не говори. Но я уже взрослый и должен знать. Расскажи. Прошу тебя.
— Однажды случилась история. Может, все с нее и началось. Датико, так его маленьким звали, налетел на урядника, который у Тебро и Николоза корову уводил. Датико из города на каникулы приехал, урядник был новый и не знал его, оттолкнул грубо. Датико заплакал. Бросился на урядника. Ударил. Сам заплакал: «Не отдам корову, не отдам». Твой дед вышел. Отодрал при всех ребенка.
— А что с коровой стало?
— Датико выпросил у матери деньги и отдал Тебро. С тех пор в ее доме стеснялся показываться. Она ему все хотела руку поцеловать.
— Мой дед не любил моего отца?
— Нет, любил. Очень любил. Пока не разошлись. Книгу вместе писали. Да не кончили… Разошлись. Твой дед очень уважаемый был человек. К нему из Петербурга и из Парижа ученые в гости приезжали. Это он первый обследовал пещеру Дэвис-хврели. Теперь о ней все кругом говорят. Недавно снова из Тбилиси экспедиция пожаловала; много интересного нашли. Недалеко, сходил бы.
Стоянка первобытного человека в Имеретии, близ родного села Отара, считалась одной из древнейших в Советском Союзе. Резцы, скребки, осколки камня и вулканические стекла, ручные топоры — рубила и наконечники копий, найденные здесь, были вывезены в Тифлис и демонстрировались в историческом музее.
Но археологические работы близ Харагоули продолжались, и, перейдя в десятый класс, Отар с разрешения матери и Тенгиза поступил рабочим в археологическую партию.
Как всякий новичок, он служил рьяно. Безропотно перетаскивал тяжеленные ящики, за двоих работал лопатой; эта его безропотность и исполнительность, два союзника, с помощью которых делали первые шаги многие будущие светила, принесли ему доброе отношение и старых и молодых. Однажды он был допущен к расчистке небольшого, но, судя по всему, интересного захоронения, ибо руководитель экспедиции профессор Инаури, сухонький человек с тоненькой бородкой и тоненьким голосом, бегал вокруг площадки и заклинал господом богом ничего не поломать и ничего не упустить при фотографировании.
Только-только почувствовал Отар первую радость самостоятельной работы, только-только подружился с недотрогой Циалой, дочерью руководителя экспедиции, профессора Геронти Теймуразовича Инаури… пришла из Тифлиса телеграмма.
Петрэ срочно вызывал Нину, требовал сообщить поезд и номер вагона. Это обеспокоило Отара, он, как это ни было грустно, решил взять отпуск на несколько дней и поехать с мамой.
На вокзале их встретил Петрэ.
У него от гнева было слегка перекошено лицо. Весь он был готов вот-вот лопнуть от злости. Не поздоровавшись, спросил с места в карьер:
— Почему дали мой адрес? Кто вам разрешил давать мой адрес? Из-за вас меня знаете куда вызывали? Этот пакет, этот пакет из-за границы, посмотрите на марки, кто изображен на этих марках — король и королева! Да, да, король и королева, в хорошее вы меня положение поставили! Этот пакет адресован вам. Почему же он пришел на мою квартиру? Почему я должен был идти туда, куда мне совсем не хотелось? Только подозрение на себя навлекать. Я не знаю, что в этом конверте, и не желаю знать. Между прочим, Лиана, человек, которому я безоговорочно доверяю, сказала, что она бы никогда, ни при каких обстоятельствах так не поступила бы — давать чужой адрес для заграничной переписки. Когда меня вызвали, бедняжка думала, что мы больше не увидимся. Но хорошо, я был братом вашего мужа, но она, она-то чем виновата?
— Дядюшка! Дай конверт. Проваливай. Слышишь, проваливай подальше, слышишь?
— Между прочим, я ничего другого не ждал от своего племянника, — с достоинством произнес Петрэ.
Нина взяла конверт и негромко сказала сыну:
— Неудобно, Отар, говорить на «ты» с чужим человеком, который к тому же старше тебя. Ты должен был объяснить спокойно, что этот адрес я оставила давно, когда не знала, где буду жить…
— Да, но после этого вы могли пятнадцать раз сообщить свой адрес, ведь вы не сделали этого, значит, не хотели или боялись!
Нина пропустила реплику мимо ушей и продолжала:
— А ты говоришь ему «проваливай», как будто он твой сверстник. Вечно следует учить тебя вежливости.
Петрэ удалялся с видом оскорбленной добродетели.
Нина весело обняла Отара:
— А теперь быстро домой. Посмотрим, кто мог нам написать… Письмо из Парижа!
Они не стали ждать трамвая. Перехватив первого же извозчика, не торгуясь, сели.
— Варцихская, двенадцать, — бросил Отар. — Недалеко от почтамта на Плехановском.
— Около почтамта нет такой улицы.
— Бывшая Семеновская.
— Так и скажи, все улицы переименовали, не знаешь, куда ехать. — Извозчик долго возмущался, не догадываясь, что ждет еще тбилисские улицы и площади впереди.
Мать и сын торопливо поднялись по лестнице, вошли в комнату, открыли конверт.
Глава шестая. Давид Девдариани
Нина вскрыла конверт, заклеенный грубо и небрежно. Внутри был другой конверт, размером побольше, сложенный пополам, и листок с водяными изображениями двух мускулистых мужчин, натужно толкавших бумажный рулон. Это было письмо, адресованное Нине; у Нины не было времени, чтобы решать — должна ли она читать письмо про себя или вслух, имеет ли она право, не зная еще, что там, на этом листке, читать письмо сыну. Нина вспомнила последний визит Григория Ивановича, на шее ее от волнения выступили красные пятна, но она отбросила нехорошую мысль, сказав себе, что Давид не мог сделать ничего недостойного… а сын… он уже большой, от него не бывало и нет тайн… Сын уже большой.
Нина принялась читать вслух. Отар поставил кулак на кулак и оперся на него подбородком. Он смотрел на мать спокойно, словно стараясь передать ей частицу своего спокойствия.
«Уважаемая Нина Викторовна!
Почитаю долгом своим обратиться к Вам с этим письмом. Все сомневался — писать Вам или нет, время, должно быть, затянуло Ваши раны, зачем же бередить их?
Мне пришлось быть невольным и несчастливым свидетелем последних часов жизни мужа Вашего, Давида Георгиевича Девдариани; видит Бог, я не желал ему зла. Я выполнял свой долг — долг русского офицера… Впрочем, мне надо было бы слишком много написать, чтобы Вы могли понять все.
Случилось так, что письмо Давида Девдарианя, его последнее письмо, адресованное Вам и Вашему сыну, оказалось в моих руках. Я думаю, Вы извините меня за то, что я, прежде чем переправить письмо Вам, ознакомился с ним — я обязан был это сделать противу желания, чтобы пребывать в убеждении, что международная почта не найдет препятствий для доставки конверта адресату.
Вы не обо всем узнаете из письма Вашего супруга. Мое послесловие будет тягостным для Вас, но без него не обойтись. Хочу верить, что письма найдут Вас, Не думайте обо мне плохо.
Желающий Вам добра
офицер бывшей русской армии
Семен Лагинский.
Париж. 19 июня 1 930 года».
— Судя по всему, порядочный человек, — сказала Нина, чтобы нарушить долгое молчание.
— Не торопись. Посмотри, что во втором конверте.
— «Село Верхние Перелазы, 14–23 октября 1919 года. Прошу доставить семье: Москва, Вторая улица Ямского поля, дом 16, квартира 27, Нине Викторовне Харламовой-Девдариани. Просьба вскрыть 21 октября 1930 года».
— Нам еще ждать целых два месяца… — с сожалением произнес сын.
— Может быть, папа не думал, что ты станешь взрослым и в пятнадцать. Наверное, он не рассердился бы на нас. Мне было бы тяжело ждать все это время.
— И мне тоже… Только, пожалуйста, читай не торопясь.
— Постараюсь.
«Нина и Отар, дорогие мои!
Я очень хотел бы верить, что, когда настанет час открыть это письмо, вы забудете о горе… Быть может, у Отара будет новый отец… Я хотел бы, чтобы это был умный и честный человек. Отар, наверное, плохо помнит меня… Ведь, когда мы виделись последний раз, он был совсем маленьким.
Пишу вам в трудную минуту.
Три дня назад километрах в сорока от Орла наш отряд попал в засаду. Нас предали, я не сомневаюсь в этом, мне кажется, что я знаю, кто мог это сделать, да только не могу поверить в это.
Отряд разбит. Один боец — Михайлов — прикрыл меня, мы вырвались, деникинцы гнали нас несколько часов. Ранили коня, надо было прикончить его. Но рука плохо слушалась, я попросил сделать это Ивана Михайлова. Раньше он был офицерским денщиком, а теперь стал бойцом революции, много белых полегло от его шашки. Михайлов сказал: „Не могу, ваша честь, в глаза его не могу глядеть“. Тогда я взял наган и прицелился. Я израсходовал три патрона, и осталось теперь у меня два.
Мы отходили небольшой рощей. И когда до леса совсем недалеко было, рядом бухнуло, и показалось мне, что я споткнулся и лечу вниз с какой-то высокой лестницы».
— Не могу больше, — сказала Нина. Глаза ее наполнились слезами, она долго сдерживала их, но вдруг сдалась и беззвучно зарыдала. С ней и ее сыном разговаривал спокойно и рассудительно, как неторопливый собеседник, человек, который был когда-то ей дороже жизни.
— Успокойся. Прашьу тебя, мама.
«И сын тоже в минуты волнения говорит с акцентом, — подумала Нина. — Откуда это у него, как мог он это перенять?»
— Дай, я постараюсь сам прочитать.
«Пока я не знаю, как оказался в этой избе. Иван не разрешает разговаривать. И курить тоже. Отобрал портсигар с тремя папиросами. Болит нога, трудно подняться и посмотреть на нее. Что с ней, я не знаю. Когда спрашиваю Ивана, он хмурится и ничего не говорит. Заходит на цыпочках, ставит крынку с молоком, накрывает ее краюхой хлеба, обвязывает ногу мокрым полотенцем и, не говоря ни слова, уходит.
Когда мне становится нестерпимо больно, я перестаю писать. А вообще писать могу. Подкладываю планшет, придерживаю его левой рукой и пишу.
Только что невдалеке послышались выстрелы. Плохо, если это деникинские разъезды.
Я хочу, Отар, чтобы ты открыл это письмо, когда тебе исполнится шестнадцать. Ты будешь взрослым и поймешь, что заставило меня, сына дворянина и ученого, пойти в революцию. К той поре многое прояснится, многое станет на свое место, и тебе легче будет судить о моем поступке, чем мне самому. Но ты должен знать: раз я оставил тебя, единственного сына моего, раз оставил друга и жену, значит, не мог я поступить иначе, переждать революцию в моем тихом и таком близком сердцу Мелискари.
Не знаю, что ждет меня завтра, не знаю, сколько в моем распоряжении дней… или часов, но мне надо многое сказать, Отар, и я хочу успеть это сделать. Обращаюсь к тебе через многие версты и года.
Запомни!
В 1912 году, будучи студентом филологического факультета Московского университета, я вместе с отцом моим, профессором Георгием Николаевичем Девдариани, выезжал на лингвистическую конференцию в Бордо. Здесь мы познакомились с одним ученым из Басконии, Мелитоном Эчебария. Узнав, что мы грузины, он, как мне показалось, захотел сблизиться с нами. Не буду долго рассказывать о том…
Вот опять раздались выстрелы. Вошел в избу Иван Михайлов и привел хозяина, старика лет шестидесяти, с огромной бородой. Зовут Прохором Пантелеевичем. Он сделал вид, что не видит меня, стал на колени перед образами, перекрестился. Немного зная характер Ивана Михайлова, я могу предполагать, что он пообещал хозяину, если тот выдаст.
Глупо, лежу и описываю хозяина. На дела более серьезные недостает сосредоточенности. Жалею, что израсходовал три патрона на коня, да не мог иначе. Все время вижу его глаза и человеческие слезы в них.
Выстрелы затихли. Прохор Пантелеевич предлагает перебраться в курятник. Говорит, безопаснее. Но там темно и трудно писать. Я отказался. Хозяин удивленно пожал плечами. Понимаю старика. Единственное, что может его спасти, если деникинцы узнают о нас, это то, что сын его георгиевский кавалер. Где он сейчас, старик не знает. Но догадаться нетрудно. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь.
Так вот тогда, в двенадцатом году, Мелитон Эчебария пригласил нас к себе в Бильбао, Это известный в стране басков историк и лингвист, его книги издавались в Париже и Берлине. Профессор задался целью найти прародину басков. Он убежден, что этот небольшой народ, не похожий ни на один из соседних, некогда пришел на Пиренеи с Кавказа. Вместе с сыном Луисом, молодым человеком, года на два моложе меня, они ведут любопытную картотеку. В ней баскские слова, связанные с названиями первобытных орудий труда, злаков, средств передвижения. Ни одно из этих слов не имело ничего похожего в испанском, арабском или французском.
Стемнело. Пришел Иван и упрятал мою ноющую ногу в холодную простыню. Хозяин сказал, что неподалеку живет фельдшер. Да кто знает, что он за человек. Лучше переждать до утра как-нибудь. Изба наша стоит на опушке, темнеет здесь рано. Жаль. Когда пишу, не так болит нога.
Ночью Иван видел, как двигались по большаку деникинские части. Солдаты хорошо одеты и вооружены. Я не должен отвлекаться и терять часы. Если бы Иван знал грамоту, я продиктовал бы ему все, что хочу сказать тебе. Но его руки не приспособлены к письму. Он в жизни не прочитал и не написал ни одного слова. И в нашей деревне половина крестьян не знала грамоты. В твое время лучше будут понимать, за что вела бой революция.
Михайлов все же привел фельдшера, человека с умными, глубоко запавшими глазами и испитым лицом. С помощью сахарных щипцов, перочинного ножа и самогона он вытащил пулю, застрявшую чуть выше колена и не повредившую кость. У фельдшера тряслись руки. Налил мне полстакана, полный стакан выпил сам. Михайлов с презрением смотрел на него, но делу не мешал, мол, у всякого мастера свои приемы. Остатками самогона фельдшер промыл рану. Михайлов не отпустил его. Стал подозрительным после всего того, что произошло с нашим отрядом. Эта мысль не дает мне покоя, лишает сна. Я все больше убеждаюсь в том, что было предательство. Кто мог, кроме меня и комиссара, знать весь план операции? Только один человек. Тот, кто прибыл к нам из штаба. Меня уже не раз спрашивал о нем Михайлов — внимательно ли мы проверяли его документы. Что стало с вестовым? Никто не видел его с той поры, как раздались выстрелы.
Постараюсь заставить себя заснуть. Кажется, не так легко это будет сделать. Фельдшер храпит оглушительно.
Сегодня я отоспался, кажется, за все прошлые ночи. Нога болела меньше. Видел мирный сон — мы гуляем втроем по заснеженному Тверскому бульвару: мама, ты и я, ты делаешь первые шаги, Отар, и неуклюже падаешь, мама подлетает к тебе, а я прошу ее не волноваться — пусть учится падать и не плакать. Ты не плакал и удивленно смотрел на меня: почему я не бегу на помощь?
Не время мне пересказывать сны!
Вернусь к моим записям. Какая сила заставила одного просвещенного монаха, жившего в одиннадцатом веке, бросить родной монастырь и отправиться в путь за тридевять земель, в Испанию, где, как он был убежден, живет племя, близкое грузинам? Быть может, он располагал какими-то рукописями, не дошедшими до нас?
Беглые заметки об этом монахе ты найдешь в моей синей папке, которую, я хочу верить, сберегла Нина. Но там ты найдешь и нечто более важное. Легенду о том, как в стародавние времена пастух Ило увел далеко на запад от беды часть грузинского племени. Мелитон и Луис Эчебария серьезно относятся к легенде, согласно которой предки басков попали на Пиренеи в результате геологического потрясения.
В Бильбао нас познакомили с англичанином баскологом Джекобом Харрисоном. Он несколько лет назад получил в свое распоряжение металлические иберийские таблички, пролежавшие в земле много веков, и задался целью расшифровать их с помощью современного баскского языка. Ездит по стране, изучает диалекты. Харрисон — сторонник теории миграции, но очень осторожен в суждениях. Легендой, которую я пересказал, он заинтересовался весьма.
Когда мы возвратились из Бильбао, я засел за книги древних историков. Лагинский и греческий, которые портили мне жизнь едва ли не все гимназические годы, сослужили неплохую службу. Я смог прочитать в подлиннике Сократа Схоластика, Аппиана, Варрона. Я выписал все, что они говорили об иберах. Историки, жившие и двадцать веков назад, тоже считали иберов загадкой. Двадцать веков прошло, а загадка не прояснилась!
Иван Михайлов стал еще молчаливее; пробовал несколько раз заговорить с ним, отмалчивается. Не знаю, где достает он припасы. Знаю, что крестьянское нутро и честная душа не позволяют ему брать их силой. По-моему, он добровольно расстался с зажигалкой да перочинным ножом, всем своим богатством. А у меня ничего не берет.
Поначалу Иван Михайлов, да не один он, плохо меня понимал. У него все просто. Был крестьянином, рос в большой семье, которая имела мало земли, жила впроголодь, в неурожайный год детей отсылали в Воронеж просить милостыню. А помещик имел семью из трех человек, много земли — выписывал цыган из Москвы, играл в карты, драл семь шкур с крестьян. Вот то, что привело Михайлова в революцию. Когда он узнал, что мои родители из помещиков, что у нас свое имение, подумал не очень хорошо обо мне. Вообще-то я кое-что предвидел, когда вступал в революционный отряд; отчужденность, граничившая с недоверием, немало мне портила жизнь. До того дня, пока однажды комиссар не попросил меня рассказать бойцам о Марксе и Ленине, да так, чтобы меня поняли даже неграмотные. Все, что я несколько лет изучал в подпольном университетском кружке, пришлось в один час уложить. Говорил я просто, но помню, как смотрели на меня, как слушали. Помню их лица. Понимал, что становлюсь своим в этом дорогом для меня братстве, которое предстает передо мной символом новой прекрасной Родины.
Потом был бой и я опередил казака, занесшего шашку над Иваном Михайловым. Зная немного себя, я не предполагал, что смогу когда-нибудь сделать это. Но я сделал это спокойно и хладнокровно, потому что тот человек был моим врагом, не просто моим врагом, но врагом моей страны, моей и твоей страны, он хотел, чтобы все в ней оставалось таким, каким было и двадцать и пятьдесят несчастных лет тому назад. Он хотел убить моего товарища. Я убил его. И спал спокойно. Это был мой четвертый бой. Я становился другим человеком.
Весточку, одну бы только весточку от вас!
А еще хотел бы я хотя бы краешком глаза заглянуть в тот день, когда (я верю!) ты откроешь это письмо. Тебе шестнадцать лет, а маме твоей, дорогой моей старушке, тридцать шесть, скажи, пожалуйста, маме Нине, что я не верю, что ей когда-нибудь будет тридцать шесть, ей никогда не может исполниться столько лет! Она для меня молода, как в тот день, когда мы встретились на катке в Сокольниках и когда она научила меня, кавказского увальня, держаться на ногах на ужасно скользком льду. Я верю в Нину и благословляю из моего далекого далека все ее поступки. Берегите друг друга! Я знаю, что мог бы и не говорить вам этого!
Несколько минут назад я услышал, как за стеной Прохор Пантелеевич сказал Ивану Михайлову:
— Деникин-то на Москву пошел! Говорят, скоро красным карачун.
Я хотел бы побыть немного наедине с самим собой.
Рассвело. Только что увидел из окна группу деникинских офицеров. Они стоят в начищенных крагах, со стеками, курят и ведут неторопливый разговор.
Среди них — одетый в форму офицера Абросим Федоров, вестовой. Это он, я не могу ошибиться! Никому, кроме меня, не дано… Прощайте. Письмо и документы передаю И. М. Найду в себе силу заставить его уйти… Лишь бы не ушел Ф. Жалею, что потратил три патрона на коня. Помните меня!
Ваш Д.».
— Вот оно что, — задумчиво и печально, словно бы самой себе, сказала Нина. — Значит, прав Григорий Иванович, было предательство.
«Кто этот человек, Федоров? — думал Отар. — Смог ли отец отомстить?» Отар был уже там, с отцом, в темной избе, и видел мирно покуривающих офицеров и среди них того, кого отец подозревал в измене, но не решался назвать до этой минуты. Рука Отара вспотела. Ему казалось, что это он сжимает пистолет с двумя патронами.
— В конверте еще одно письмо, — откуда-то издалека донесся голос мамы. — Оно адресовано тебе. Будешь читать сам?
— Прочитай.
Нина развернула сложенный вчетверо листок:
«Здравствуй» незнакомый Отар!
Разреши мне обращаться к тебе на «ты». Я мог бы иметь такого сына.
Пишет тебе человек, который был свидетелем последних часов жизни твоего отца. Ты найдешь упоминание обо мне в предсмертных строках письма Давида Георгиевича Девдариани. Я Семен Лагинский, офицер русской армии, приносивший воинскую присягу на верность царю и отечеству и служивший отечеству так, как повелевал мне долг.
Мы живем слишком далеко друг от друга, в разных мирах, нам вряд ли суждено когда-нибудь свидеться друг с другом, и вовсе не для того, чтобы оправдаться перед тобой, я сел за это письмо. Была война, и я был врагом твоего отца. Сейчас я выполняю его последнюю волю. Было так.
В середине 1918 года меня забросили в красный отряд под именем Абросима Федорова. Федоров был вестовым из штаба полка, направленным в отряд Девдариани. Федорова взял наш патруль, допроса он не выдержал и рассказал все, что могло интересовать нашу разведку. Оказалось, что в красном отряде Федорова никто не знал, это и подсказало нашим послать в отряд под именем Федорова лазутчика. Выбор пал на меня.
Я не буду описывать, как входил в новую роль, как добрался до отряда, как меня проверяли. Скажу только, что я сумел войти в доверие, а с батюшкой твоим сблизился искренне. Мне хотелось посмотреть на мир и на то, что происходит в мире, его глазами и хоть немного понять его. И когда я привел отряд в заранее условленное место и когда, пришпорив коня, скрылся в кустах, подав сигнал к атаке, мне не хотелось, чтобы твой отец погиб. Я считал, что он заблуждается честно…
Твоему отцу и еще нескольким бойцам удалось спастись. Мне показали его коня, расстрелянного в висок, и я понял, что Давид Девдариани скрывается где-то недалеко.
Письмо твоего отца кончается упоминанием о встрече со мной. Я думаю, что эти последние строки убедят тебя в том, что я был не предателем, а русским офицером, выполнявшим боевое поручение. За ту операцию я получил боевое оружие и именные часы от его превосходительства генерала Деникина. А встретился я последний раз с твоим батюшкой так.
Мы вошли в небольшое село на рассвете и остановились покурить. В это время ко мне подковылял небритый человек в надвинутой низко на глаза крестьянской шапке. Он едва волочил ногу. В руке незнакомца был какой-то небольшой предмет, завернутый в тряпку.
Он подошел ко мне, заглянул в глаза. Я узнал командира роты и услышал:
— Это за предательство.
Девдариани вскинул руку и неловко выстрелил, но я увернулся, он выстрелил второй раз, и пуля обожгла мою щеку.
Девдариани вскинул руку и неловко выстрелил, но я увернулся, он выстрелил второй раз, и пуля обожгла мою щеку.
А третьего выстрела не было. Стрелявший закрыл лицо руками и произнес что-то на непонятном мне языке.
В это время раздался еще один выстрел. С крыши избы. Стрелял Иван Михайлов. Этот не промахнулся. С раной в животе я пролежал в госпитале два месяца и потом еще долго страдал от нее. Письмо командира роты нашли у Ивана Михайлова за пазухой. Говорили, что, когда их расстреливали, отец спросил Михайлова: «Что же ты не бежал, просьбу мою не выполнил, письмо пропадет». Михайлов ничего не ответил.
Когда я выздоровел, мне передали письмо твоего отца. На конверте было написано: «Открыть 21 октября 1930 года», я не торопился отсылать его, да и вообще не был убежден, что когда-нибудь сделаю это. Но годы пролетели незаметно, я понял, что не вправе хранить письмо. В конце концов твой отец, как и я, сражался за Россию. Только за ту Россию, которую видел в своих мечтах. Я запомнил одну строку из письма Давида Георгиевича о том, что «время все расставит по местам и покажет, кто был прав…».
Дальше шли пять аккуратно зачеркнутых другими чернилами строк, и следующая фраза начиналась с середины:
«…из того, что происходит сегодня в России, я не могу не видеть, что пишут о ней со все возрастающим уважением. Эмиграция наша живет, как и много лет назад, — все те же собрания, громкие патриотические речи, благотворительные вечера… только в церкви, на молебнах, чувствую себя русским человеком, такое поднимается в душе, и такая давит тоска, не скажешь словами, Не знаю, почему расчувствовался вдруг и пишу обо всем этом незнакомым людям. Быть может, потому, что у меня никого нет и не с кем поделиться?
Много лет прошло с той поры. Не суди меня строго. Я наказан и так. Разлукой с родиной и всем, что было дорого, что давало и силу, и волю, и смысл жизни.
Хочу думать, что ваша жизнь, Нина Викторовна и Отар, сложилась счастливо: верю в некую компенсацию, которую дает судьба много испытавшему человеку. Не знаю почему, но мне было бы приятно узнать, что сын продолжает дело Давида Девдариани. Меня, русского, заинтересовала история, о которой пишет он.
Читая по-французски и по-немецки, я, скорей всего от избытка свободного времени, начал делать выписки из книг и журналов о басках. Недавно здесь появилась книга американского беллетриста Хемингуэя „Фиеста“. В ней немало строк о компанействе басков. Читал эту книгу и вспоминал, как в 1913 году приезжали мы с отцом в Тифлис на скачки. Отец отчаянно просалился, и настроение у нас было испорчено, но вечером в ресторане, куда мы зашли поужинать, нас пригласили в совершенно незнакомую компанию. Нас никто не знал, наши имена безбожно путали, но говорили о нас такие ласковые слова и так много пили за нас, что отец растрогался. Потом были совершенно необыкновенные песни в несколько голосов. А когда пришла пора расплачиваться и отец, примерно подсчитав нашу долю, позвал официанта, тот заявил, что за все уже заплачено, но, кто это сделал, сказать отказался. Когда же отец попробовал оставить деньги на столе, вся компания страшно обиделась.
Я недолго был в отряде красных, но мне казалось, что твой отец готов был всем поделиться. Был нрава общительного, дружелюбного, но при всем том порой, оставшись наедине с самим собой, бывал таким грустным, что даже мне становилось жаль его. Я догадывался о разрыве Давида Георгиевича с родителями, но, только прочитав его письмо, понял, чего стоил ему уход в революцию. Я всегда испытывал глубокое уважение к людям, имеющим убеждения и силу отстаивать их. Жалею и поныне, что оказались мы в разных лагерях.
Ну вот и все, что я хотел написать. Желаю добра вашей семье. Если сочтете возможным, напишите мне. Извините за твердые знаки и „ять“ — иначе писать не научился.
Семен Лагинский.
Отель „Дижон“. Париж.
Июнь 1930 года».
Давид Девдариани, Давид Девдариани, не ведал, не думал ты, в чьи руки попадет твое письмо, надеялся на Ивана Михайлова — приказал ему бежать, верил, он и побежит, не оглянется… И доставит твое письмо жене, а подрастет сын, мать призовет его однажды, посмотрит на него грустными глазами и скажет грудным голосом: «Тебе письмо, сынок». — «От кого?» — спросит равнодушно Отар. У него к той поре будет девушка, должно быть, и он подумает, что письмо от нее или от друга какого-то с поздравлением.
А мать ему скажет: «Письмо от отца. Нам было приказано открыть его сегодня, в день твоего рождения».
Они сядут вдвоем задолго до того, как начнут приходить гости, и мать прочитает ему письмо. Что подумает в эту минуту сын, что скажет?
Давид знал свою Нину и верил, что она сможет пробудить в сыне интерес к баскам… Теперь его отцовское письмо даст ему еще один толчок, пусть не забудет, не оставит, не отвергнет то, о чем пишет издалека в предсмертном письме отец!
Верил Давид Девдариани, когда видел, как согласно кивал головой Иван Михайлов, что он побежит не оглядываясь… И оставит его одного с двумя патронами в нагане. Не догадывался он, что Иван кивал согласно головой, чтобы не огорчать командира, не омрачать последние часы его жизни. Одного не имел права Иван Михайлов — помешать раненому другу самостоятельно распорядиться последним часом своим. И когда командир роты стрелял в Федорова-Лагинского, не знал он, что Михайлов рядом, на крыше, что целится в ту же минуту в предателя.
Не ведал командир красной роты, в чьи руки попадет его письмо сыну.
Не ведал.
Не догадывался.
Глава седьмая. Семен Лагинский
Волны русской революции расходятся по миру.
Ходят волны по Европе, смешивая нации и языки, делая врагами братьев и братьями врагов, которые еще недавно стреляли друг в друга из окопов мировой войны.
Колесит по Европе Семен Лагинский. Одна у него мысль, одно желание, одна заветная цель — забыть о России. Ведь живут же, не печалясь, вдали от родины итальянцы, немцы, турки, неужели он, молодой и сильный человек, не может заставить себя уподобиться им, начать жизнь, заново, неужели нет на свете силы, которая помогла бы ему вычеркнуть из памяти все, что берет за сердце в одинокие тоскливые ночи? Что за власть такая у России над человеком? Почему он не чувствовал, не ценил всего этого там, на родине?.. Лучше не иметь, чем иметь и потерять. Он верил, что ненадолго расстается с Россией. Что люди с мозолистыми руками, которые захватили власть, не продержатся, что им не дано справиться с великой и могучей страной, никогда ничьей не терпевшей узды. Они показали, что могут разрушать… Что смогут они воздвигнуть на разрушенном месте? В стране, которой в пору пускаться по миру с протянутой рукой.
России по миру… Господи, благослови отчизну мою и не дай погибнуть ей, укрепи, бог милосердный, всемогущий и справедливый, волю мою, помоги забыть, помоги забыть Россию… И помоги вернуться в нее!
Лагинский не обзаводился ни семьей, ни домом. Ждал.
Власть рабочих и крестьян держалась неведомым образом. Где и у кого они могли научиться строить, организовывать, править? Он читал о заводах, электростанциях и школах, читал заметки, набранные самым мелким шрифтом на задворках газет, и верил и не верил.
Перед глазами стояло его имение. Имение с большим садом, которое начал создавать дед и которое сделал образцовым отец Семена Лагинского, биолог и почвовед Афанасий Петрович Лагинский, имение, которым восхищались немцы, приезжавшие на всероссийскую выставку незадолго до войны, — это имение было разграблено, уничтожено и разнесено за несколько дней. А отец убит. Семен Лагинский не знал в точности, кто это сделал: анархисты ли, красные ли или банда атамана Чернова, хозяйничавшая в этих краях до прихода красных… Да не в этом было дело: он знал одно — пока не было революции, его имение стояло, росло, помогало ему жить безбедно и учиться живописи в Петербурге у известного баталиста.
Разнесенное имение казалось ему символом России.
Он знал, что в начале двадцатых годов большевистская Россия была одной из самых бедных стран в мире. Он знал о голоде в Поволжье, об эпидемиях, уносивших целые селения, и спрашивал себя: «Доколе? За что такое испытание России?»
Не дано было знать жившему далеко Семену Лагинскому о великом союзнике, которого имели большевики, о надежном союзнике по имени время.
Пока единственное, что имели на своей стороне большевики, было будущее.
Если бы было дано постичь это Лагинскому! Постичь Бунину, Шаляпину, Алехину… не потеряла бы их Россия в тяжелую и светлую пору многовековой истории своей.
Первые полтора года Лагинский жил собственными сбережениями и теми ссудами, которые выделяли офицерам бывшей русской армии верные союзническим обязательствам Англия и Франция. Рана в животе время от времени напоминала о себе, за тяжелую работу браться не решался. Снимал комнату на шестом этаже, недалеко от Святой капеллы, где по преданию в стародавние времена хранился терновый венец Христа, купленный за баснословную сумму Людовиком Святым у византийского императора. Однажды, в предутренний час, снедаемый бессонницей, он подошел к окну покурить и вдруг увидел купол, позолоченный солнцем, а внизу у забора бедно одетого пожилого человека, молившегося на коленях.
Солнце всходило, свет и тени образовывали на узорчатых стенах капеллы сочетания, напоминавшие давно забытый рисунок к детской сказке. Ему вдруг захотелось написать все это и передать в картине то, что испытал он так неожиданно в этот ранний час… Не было бы теней, свет не казался бы таким ярким… Не было бы несчастий, боли, горя, испытаний — кто знал бы, что такое радость и счастье! И если судьба улыбнется вдруг тому одинокому и, судя по всему, несчастному мужчине, не сможет ли он оценить счастье больше и глубже, чем тот, кто не знал горя?
И сам он, Лагинский, испытавший потерю, какая только может быть у человека, потерю родины, не должен ли он верить и думать, что придет час, когда возместятся ему все горькие думы в часы одиночества, все несчастья, которые испытал он в чужой, гостеприимной и дружелюбной, но все же чужой стране? Не должен ли он сам что-то сделать? Не должен ли хотя бы попытаться понять тех, кто совершил переворот в самой большой стране мира, не должен ли попытаться трезво посмотреть на вещи?
Около трех месяцев он писал капеллу. К нему возвращалось рабочее настроение, он снова чувствовал себя способным заняться делом. Не столько сама картина, сколько эта возвращавшаяся способность сделала его счастливым, а когда картина была готова, он равнодушно выслушал комплименты знакомых и малознакомых ценителей искусства и продал ее не торгуясь владельцу книжного магазина на Монмартре.
Когда картина была готова, он равнодушно выслушал комплименты знакомых и малознакомых ценителей искусства и продал ее не торгуясь владельцу книжного магазина на Монмартре.
Планшет Давида Девдариани с письмом к сыну лежал на самом дне походного офицерского сундучка. Время от времени Лагинский разворачивал письмо, перечитывал его и переносился в давно минувшие дни. Автор казался Лагинскому непонятным, загадочным человеком. В самом деле, какую правду искал он в революции, почему пошел против своего класса, что разглядел он в революции такого, ради чего жертвовал жизнью?
Лагинский не знал пока, как поступит с письмом; то, что на конверте были слова: «Открыть 21 октября 1930 года», давало ему возможность не торопиться с принятием решения.
Недалеко от Оперы, там, где улица Четвертого сентября смыкается с Бульваром капуцинов, был в двадцатые годы маленький уютный ресторанчик «Гусиная лапка». Содержал его старый и добродушный вояка, помнивший бесчисленное множество разных фронтовых историй и рассказывавший о них с легкой иронией человека, который хорошо знает, что скрывается иногда за героическими сводками с переднего края. Но о своей медали, завоеванной в какой-то неожиданной стычке с немецким патрулем, повествовал не без гордости; эту историю знали едва не наизусть завсегдатаи «Гусиной лапки». Старику прощали небольшую слабость и охотно приходили к нему, ибо никто в этом уголке Парижа не мог лучше готовить жареного гуся с яблоками и соусом, манящим своим запахом самых далеких прохожих.
Старик с одинаковым достоинством носил медаль, бакенбарды и фамилию Бизе, прославленную на веки веков его далеким родственником Жоржем Бизе. Морис Бизе, дабы подчеркнуть кровную связь с автором «Кармен», повесил у входа метровый цыганский бубен, на котором был изображен белоснежный гусь, высоко задиравший лапку и гордо взиравший на мир.
Как и многие другие небольшие парижские ресторанчики, «Гусиную лапку» содержала и обслуживала одна семья: сам Морис, его деловитая, приветливая и вечно занятая жена и их дочь — говорливая полногрудая двадцатилетняя Софи.
Занимал ресторан три просторные комнаты в полуподвале старого толстостенного кирпичного дома; в той, что была поменьше, стояли два бильярдных стола — один для пирамиды, другой — без луз — для карамболя. Сюда охотно заглядывали игроки со своими мелками в кармане — профессионалы высшего качества, — и их сражения затягивались, случалось, до утра.
Любил заходить в «Гусиную лапку» и Лагинский. Когда-то в имении его отца стоял бильярд, выписанный из Берлина; Семен считался хорошим игроком и не раз в офицерском собрании принимал вызовы самых азартных мастеров. В дни, когда сбережения стали подходить к концу, старое искусство начало приносить ему небольшой, но весьма сносный доход.
Однажды в бильярдной провел вечер отчаянно ухаживавший за Софи адъютант генерала Аксенова — дерганый-передерганый Зураб Чхенкели, человек, которому в разное время суток можно было дать и двадцать пять, и сорок лет. Лагинский знал его по русскому землячеству. Рассказывали, что год назад он выиграл в Ницце в рулетку двести тысяч франков, ставя всю ночь только на две цифры: 19 и 21. После этого он надолго запил и теперь только-только «возвращался в норму».
Чхенкели играл с Лагинским в пирамиду, проигрывал, горячился, много говорил и все увеличивал и увеличивал ставки. Лагинский молча и хладнокровно принимал предложения, хорошо понимая, что может давать партнеру по меньшей мере десять очков.
Адъютант спустил около десяти тысяч, положил проигрыш в лузу и, многозначительно глядя на Софи, с интересом следившую за поединком, сказал с дурным французским прононсом:
— Я все время думал о том, что если повезет в игре, то не повезет в любви.
Софи, однако, пропустила эти слова мимо ушей, давая понять щеголеватому офицеру, что он ее ничуть не интересует, а Лагинскому улыбнулась искренне.
Этот немногословный и уверенный в себе человек со светлыми волнистыми волосами, зачесанными на пробор, показался Софи симпатичным.
Больше она ничего не знала о Лагинском, да, кажется, и не испытывала желания знать. На следующий день Лагинский принес ей в подарок маленький флакон духов, Софи поцеловала его и сразу же закрыла щеки ладонями, виновато заглядывая в лицо Лагинскому, как бы раскаиваясь в невольном проявлении чувств.
Софи ответила на любовь Лагинского гораздо быстрее, чем он мог предполагать, сделав это с истинно французской непосредственностью и ясным умом.
Лагинский проводил дни в бильярдной, а ночи в спальне Софи; хозяин и его жена делали вид, что ничего не замечают. Всю первую неделю Софи клялась в вечной любви, в перерывах говорила о том, что давно мечтала выйти замуж за иностранца и поехать в свадебное путешествие на Мадагаскар, где живет ее закадычная подруга, бежавшая с одним чернокожим князем. Лагинский сумел выяснить также, что его приятельница любит цирк и не очень любит книги. К исходу первого месяца они не знали, о чем говорить друг с другом.
Лагинский не писал, не работал, новая профессия бильярдиста требовала не только меткого глаза, но и известной изворотливости. Лагинский все хуже и хуже думал о себе, не зная, долго ли будет продолжаться такая жизнь и сможет ли он изменить ее.
Их пылкая любовь довольно быстро остыла. Софи ни разу не заговаривала с ним о женитьбе, а он не знал, как оборвать этот тяготивший его все более роман. Его сбережения давным-давно кончились; Софи время от времени ссужала его деньгами. Делала она это тактично, и все же, выходя иногда по ночам на пляс Пигаль и встречая на углах щеголеватых мужчин с тонкими усиками и помятыми физиономиями, Лагинский спрашивал себя: намного ли он лучше их?
Лишь в 1924 году он почувствовал вдруг какой-то интерес к жизни. По просьбе Мориса Бизе Лагинский сделал эскиз новой витрины ресторана, вписав цыганский бубен в одно из пяти переплетенных олимпийских колец: в Париже начиналась Олимпиада.
В дни игр этот скромный ресторан благодаря случаю приобрел особую популярность. Здесь обедали всей командой жившие неподалеку, на улочке святого Августина, футболисты Уругвая. Сперва никто не придавал этому значения, но после того, как уругвайцы выиграли несколько игр, их тренер заявил полушутливо в одном интервью, что секрет успехов команды в покрытых лаком гусиных лапках с цепочкой, которые вручил им в виде талисмана потомок знаменитого композитора. На следующий день Морису Бизе пришлось нанимать трех официантов и посудомойку.
Когда же уругвайцы побили в финале Швейцарию, они устроили в «Гусиной лапке» банкет, пригласив сюда своих наиболее верных почитателей, Среди приглашенных оказался Зураб Чхенкели. Он был запанибрата с монументальным и широкоскулым футболистом. Увидев Лагинского, Чхенкели пригласил его разделить компанию:
— Знакомьтесь, слава и гордость уругвайского футбола, защитник Насадзи. Я ему говорю, что он грузин, а он говорит мне, что он баск. Вы случайно не говорите по-испански, нет? Очень жаль. Что мне с ним делать? Откуда у него такая фамилия? У меня живет в Тифлисе один родственник, артиллерийский полковник Вахтанг Насадзе. Ну спроси его, пожалуйста, откуда у него такая фамилия?
— Одну минуту, — сказал Лагинский, сразу вспомнив письмо, лежавшее на дне его офицерского сундука, — я постараюсь объясниться с тренером, кажется, он говорит по-немецки.
Ему пришлось довольно долго ждать, пока тренер, ошалевший от счастья, поздравлений, тостов, окажется на секунду свободным. Тренер переключался долго и трудно и, наконец, поняв, что от него хотят, подошел к Насадзи и о чем-то спросил его. Потом улыбнулся Лагинскому:
— Он говорит, что родом из Бискайи. У него в селе многие были с такой фамилией. Но он баск… О… это настоящий спортсмен. — И, чокнувшись с Лагинским и Чхенкели, тренер улыбнулся футболисту.
— Послушайте, господин Чхенкели, если это вас интересует… такое вот совпадение имен, я мог бы вам кое-что показать. У меня некоторым образом, совершенно случайно, оказалось письмо одного вашего земляка. Может быть, оно заинтересует вас.
— Все это ер-рр-унда, — пропел уже изрядно захмелевший адъютант.
Через несколько дней за партией с Чхенкели Лагинский как бы между прочим напомнил про случайно попавшее к нему письмо одного красного офицера, грузина, который рассказывает любопытные вещи про басков.
— Как фамилия? — партнер сосредоточенно намеливал кий, готовясь использовать подставку.
— Давид Девдариани… Командовал ротой, а до того в университете учился, в Москве… Мне удалось под видом вестового проникнуть в его отряд. Вот эти часы за то самое дело. Кстати, нет ли среди ваших знакомых любителей такого рода безделиц?.. Кто согласился бы приобрести. За весьма умеренную плату. Как-никак подарок самого Деникина.
Чхенкели неторопливо положил четырнадцатый шар в лузу, вытащил и любовно разглядел его, мельком взглянул на часы и сделал вид, что не расслышал предложения, не достойного офицера — продать именную награду.
— Интересно, не родственник ли это нашего Георгия Девдариани? Весьма возможно, родственник.
— Да, он был Давидом Георгиевичем.
— Почему «был»?
— Его расстреляли.
— А, вот какое дело? А с отцом встречались?
— Нет, я с ним незнаком.
— Принесите мне это письмо, я прочитаю, может быть, и отнесу отцу.
— М-да, — говорил на следующий день Чхенкели. — Старик Девдариани плох. Жену потерял вскоре после переезда. Не знает, что Давид погиб, все мечтает встретиться с ним. Как сказать ему об этом письме, еле ходит человек. А с другой стороны — как не сказать? Можешь дать мне письмо на несколько дней? Я посоветуюсь со своими земляками, вместе решим, как быть…
Возвращая через несколько дней конверт, Чхенкели хмуро пробурчал:
— Лучше все же было бы не показывать, — и больше к разговору о письме не возвращался.
Тоскливыми вечерами, сидя в душной прокуренной бильярдной, часто спрашивал себя Лагинский, долго ли это будет продолжаться, долго ли еще будет он так вот убивать вечера и годы… Он завидовал продавцу газет, мусорщику, почтальону, даже старому одноногому шарманщику с его глупым важным попугаем завидовал: у каждого из них было хоть и маленькое, но свое дело, была семья и ответственность, без которой мужчина перестает быть мужчиной.
У Лагинского не было семьи, не было забот и не было сил порвать со своей опостылевшей, изъедающей душу жизнью и давно опостылевшей любовью.
Однажды зимой, когда у него кончился уголь и из всех щелей дул мерзкий ветер, Лагинский, не побрившись, вышел на улицу, не зная, куда себя деть. Ноги сами понесли его к Бульвару капуцинов. Не найдя Софи в ресторане, он поднялся к ней и застал ее в объятиях Чхенкели. Софи с безразличным видом подошла к зеркалу, давая возможность мужчинам самостоятельно выяснить отношения. Адъютант вскочил, выпятил грудь, как бы говоря, что в любой момент готов принять вызов; Лагинский молча подошел к кровати, вытащил свои шлепанцы, единственное, что принадлежало ему в этом доме, и, пробормотав первое пришедшее на ум: «Желаю приятного времяпрепровождения», направился к двери.
Он заложил в ломбард главные свои ценности — часы и цейсовский бинокль; часы — награду от его превосходительства Деникина пропил за два дня, а деньги за бинокль дал слово растянуть никак не меньше чем на неделю, надеясь за это время найти работу.
Ему повезло: компания «Клебер-Коломб», открывавшая новые междугородные автобусные линии, объявляла набор на шоферские курсы, предоставляя принятым небольшую долгосрочную ссуду. Через пятьдесят дней он вместе с инструктором первый раз повел быстрый и послушный многоместный автобус в горы, в Байонну.
Вообще компания открывала три новых рейса из Парижа: прямо на восток — в Страсбург, на запад — в Сан-Брие и на юго-запад — к границе с Испанией — Байонну. Наиболее удобными водители считали первые два маршрута, и за право попасть на них бросали жребий — две большие игральные кости. Лагинский, когда назвали его имя, взял кости в руки, но не торопился бросать их — подошел к карте, внимательно посмотрел на нее и с удивлением обнаружил, что Байонна — совсем рядом со Страной Басков. Будучи по натуре человеком, верящим в предопределения, он, к немалому удивлению товарищей, сказал, что бросать кости не будет, а возьмет себе Байонну добровольно.
После трех пробных рейсов Лагинскнй освоился с трассой и скоро стал на ней своим человеком.
Он уже хорошо знал многих пассажиров, и многие хорошо знали его. Иногда, чтобы удружить знакомому из Байонны, он доставлял его прямо домой. Лагинского приглашали пообедать или переночевать, он чувствовал, что эти приглашения искренни, и принимал их запросто. Он научился довольно быстро отличать баска от испанца или француза.
Теперь Лагинский все реже виделся с земляками, чтил, как и в былые времена, церковные праздники и только в русском соборе встречался с дряхлеющими генералами, спесивыми адвокатами и промотавшимися помещиками, которых знал уже много лет. Каждый из них (так казалось Лагинскому) старался скрыть полнейшую никчемность и безбудущность свою многозначительной важностью; каждый хотел показать, что значит и стоит гораздо больше, чем об этом думают окружающие…
Весной 1930 года в русском соборе в Париже шла необычная заутреня. С хором пел Шаляпин.
Под сводами, заполняя собор, беря в плен слушателей, звучал голос певца; Лагинский почувствовал легкий озноб; он давно не испытывал ничего похожего, думал, что огрубел и зачерствел, и обрадовался, когда почувствовал этот озноб. Он скосил глаза в сторону, стараясь по лицам догадаться, что испытывают в эту минуту другие, и увидел старого человека с седыми усами, который показался ему знакомым. Все лицо старика состояло из одних впадин и глубоких морщин; он напоминал Лагинскому иллюстрацию к «Боярину Орше» из старого-старого лермонтовского однотомника.
Едва шевеля губами, старик повторял за хором, слегка отставая от него. Показалось Лагинскому, что мыслями тот далеко от этого собора, от этой толпы.
Лагинский посмотрел на старика. Тот, словно почувствовал взгляд, неторопливо повернул лицо. Лагинский знал, что с этим лицом, с этими глазами под густыми бровями связано какое-то важное событие в его жизни, он клял себя за то, что не может вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах встречался с этим человеком… и не мог вспомнить, и у него испортилось настроение: стареет… Стареет. А что он сделал в жизни, какую память о себе оставит?
И, словно вторя этим мыслям, издалека долетал до слуха Лагинского голос проповедника:
«Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, ты препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь».
Эти знакомые с детства слова евангелия наполнились вдруг для Лагинского новым смыслом. Он подумал, что не хотел бы кончать счеты с жизнью, как этот человек с густыми бровями и глубокими морщинами на щеках. Раз он пришел в такой день в собор один, значит, у него нет близких, значит, он потерял все, что дано потерять человеку, а что нашел на чужой земле?
«В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь».
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Где она, истина? Там ли, где искал ее Лагинский и где искали все эти постепенно уходящие в другой мир люди?
Лагинский снова посмотрел в сторону старика и вдруг увидел, как тот качнулся, неловко упал на колени словно для того, чтобы воздать молитву, не удержался на коленях и тяжело опустился на подкосившиеся руки.
Вскрикнула стоявшая невдалеке женщина, прервал проповедь священник, несколько мужчин бросились к лежавшему, силясь помочь ему. Кто-то подложил под голову пиджак, кто-то поднес ко рту стакан воды. Все смотрели на того, кто пытался нащупать пульс. Он стоял на коленях, приложив палец к губам, будто это могло помочь ему уловить пульс. Потом он встал и, помедлив немного, сказал:
— Все, господа, все. Удар и мгновенная смерть. Счастливая мгновенная смерть.
Кто-то, нервически моргая и неестественно поводя плечами, пробирался сквозь толпу к покойнику. Люди почтительно расступались.
— Это что, сын? — услышал Лагинский.
— Нет, у Георгия Николаевича сын остался в Советах. Это его земляк, адъютант генерала Аксенова Чхенкели. Смотрите, плачет. Эти грузины слишком уж чувствительные и впечатлительные люди.
Лагинский протиснулся ближе к говорившим. Только сейчас понял он, почему казалось ему таким знакомым лицо старика.
— Простите, — тихо спросил он, — это не Георгий Николаевич Девдариани?
— Да, Георгий Николаевич Девдариани, профессор словесности Петербургского, Московского и Берлинского университетов. Упокой, боже, душу раба твоего.
Вскоре после похорон Лагинский отправил письмо Давида Девдариани по адресу, который был указан на конверте. О смерти Георгия Девдариани Лагинский решил не сообщать.
Глава восьмая. Синяя папка
Нина не торопилась показывать сыну синюю папку: пусть подрастет, станет умнее и самостоятельнее. Это была обыкновенная канцелярская папка с матерчатым корешком и тремя парами тесемок. На ней было написано: «Баски». И чуть пониже: «Отар! Мой отряд уходит в тыл врага. Если не вернусь, открой в день 16-летия. Постарайся, чтобы все это не пропало!»
— Ну вот и дожили мы с тобой до этой самой поры, — сказала Нина, кладя папку на стол.
Отар посмотрел на косой размашистый твердый знак в конце своего имени и вдруг увидел отца так ясно, будто и не было этой дальней дали. Мама вышла за дровами, а отец подсел к столу, вытащил из планшета тетрадь, положил ее в папку и начал торопливо писать.
Почему тогда написал эти строки отец: «Если не вернусь…»? Быть может, сам чувствовал что-то, и это предчувствие передалось Отару, охватило его тревогой, которую он запомнил на всю жизнь.
— Отец был бы рад, узнав, что ты получил право открыть эту папку. Прочти внимательно. Не торопись. Уедем завтра дневным поездом; в твоем распоряжении целая ночь.
Нина, взглянув в зеркало, увидела, как по шахматной привычке сын закрыл уши ладонями, отключаясь, и подумала, что Отар с каждым годом становится все больше и больше похож на отца и взглядом, и голосом, и привычками. И лицо его было чуть асимметрично; Нина улыбнулась, вспомнив чье-то изречение: «асимметрия — признак незаурядности», и подумала, что пока эта незаурядность проявляется у Отара в одном: если что-нибудь вобьет себе в голову, сидит это у него крепко. Казалось ей, что там все полки заполнены уже основательно: баскетбол, археология, шахматы… Смогут ли что-нибудь вытеснить баски?
Отар бережно листал страницы. На первой было написано:
«Опыт баскско-грузинского словаря, предпринятый двумя не в меру любопытными гражданами, а именно Луисом Эчебария (Иберия Пиренейская) и Давидом Девдариани (Иберия Кавказская), встретившимися в одна тысяча девятьсот двенадцатом году от рождества Христова в Бильбао (да будет благословен этот город во веки веков!). Сие робкое исследование предоставляется безвозмездно в распоряжение любителей всевозможных исторических закавык.
Одновременно обращаем просвещенное внимание публики на ряд баскских и грузинских слов, обозначающих понятия друг к другу близкие и имеющие общие корни:
Авторы провозглашают обязательство со временем доказать случайность данных совпадений. В самом крайнем случае — если не доказать, то опровергнуть. Преисполненные веры в успех данного предприятия и будучи убежденными в том, что:
а) слово объединяет нас с далекими предками (хотели они того или нет);
в) все, что они сотворили, выдумали, изобрели — нарекли именем-словом, — мы торжественно призываем членов великого ремесленного братства лингвистов поразмыслить над всем этим, говоря более доступно, поварить Своими Котелками.
Замечания, пожелания, дополнения и опровержения достопочтенных коллег принимаются со снисходительной благодарностью.
Данный документ составлен в двух экземплярах на баскском и грузинском языках, имеющих одинаковую силу.
К подготовке его были привлечены в качестве консультантов благочестивые родители авторов, профессора лингвистики Мелитон Эчебария и Георгий Девдариани».
«Документ» скрепляли две нарочито размашистые подписи.
Отар несколько раз перечитал баскские и грузинские слова и только потом перешел к другому листку. Он поймал себя на том, что с трудом воспринимает написанное. Он не понимал, почему так подчеркнуто шутливо писали о своем словаре отец и Луис.
«Не торопись! Постарайся внимательно читать дальше».
Отар заставил себя погрузиться в текст, отпечатанный на машинке.
«26 марта 1913 года. Тифлис.
У меня нет никаких сомнений в том, что подобными лингвистическими сопоставлениями занимались и до нас. Возможно, это было в весьма отдаленные времена. Почему так думаю?
Вчера был принят профессором Хомерики.
Он считает, что никакого переселения не было, просто в древнейшее время коренное население Передней Азии было однородным. Около пяти тысяч лет тому назад хетто-иберийские народы распространились на запад, в Южную Европу. Они создали высокоразвитую культуру: пелазги на Балканах, этруски на Апеннинах, иберы в Пиренеях; их могущественное культурное воздействие испытали позднейшие пришельцы — индоевропейцы. Хетто-иберийские языки — как грунтовка на холсте, на которую наносятся краски.
— Нельзя соскабливать краску только в одном месте, — говорит профессор. — На картине, которая создавалась тысячелетиями, надо взяться за работу в разных концах. Вы попробовали только царапнуть ее, и видите, какие интересные вещи нашли.
(Профессор Хомерики весьма внимательно читал наш с Луисом „словарик“, сделав, однако, существенное замечание: „Вам еще предстоит доказать, милостивый государь, что слова, которые похожи сегодня, были уже в том баскском и уже в том грузинском языках… Ну как, задал я вам работенку?“)
Перед тем как мы попрощались, профессор спросил:
— Не позволите ли вы мне переписать эти слова? Я обещаю вам не публиковать их и никому не показывать без вашего разрешения.
— Публикуйте на здоровье. Чем больше людей будет знать об этом, тем лучше.
— М-да, видимо, вы человек наивный и расточительный. Истинный исследователь так не поступает. Или, может быть, эта работа для вас, как бы это сказать, любопытства ради?
Профессор только-только начал подниматься после свирепой простуды; в кабинет время от времени заходила его супруга. Стараясь, чтобы профессор ничего не замечал, она спрашивала глазами: скоро ли я удалюсь восвояси? А профессор все не отпускал меня.
— Ну ладно, — сказал он. — Вашим разрешением я не воспользуюсь все равно. Хотя бы потому, что у вас есть соавтор, а его соизволения я не получил. И все же хочу вас одарить в ответ. Я вам кое-что покажу. Сейчас, минуту, найду… Вот… Поглядите, что пишет грузинская хроника одиннадцатого века. Прочтите внимательно и запомните эти строки, — профессор торжественно протянул мне книгу, в которой был воспроизведен древний текст.
„И взял благочестивый отец наш Иванэ Мтацминдели сына своего и некоторых учеников своих и отправился с ними в Испанию, ибо пребывал в убеждении, что там, в Испании, живет народ, родственный грузинам, и дошел он до Авидоса, чтобы сесть там на корабль“.
На том текст прерывался.
Профессор аккуратно закрыл книгу и поставил ее на полку.
— Значит, уже в ту пору знали, что есть где-то, в самом дальнем углу Европы, народ, близкий грузинам. И конечно же, многим хотелось узнать, как он туда попал. Что заставило его покинуть родные места? Повторяю, я не причисляю себя к тем, кто верит в переселение. Впрочем, были в древности авторы, и весьма достойные, которые писали о нем… Иберия — там, Иберия — здесь… Много было догадок… (Тут снова появилась мадам Хомерики.) Если могу быть когда-нибудь полезным, прошу без стеснений…
Постараюсь воспользоваться этим предложением профессора.
Судя по всему, Иванэ Мтацминдели был человеком с характером. Путь неблизкий через Европу в Испанию. Скольких месяцев требовал? Сколько терпения и отваги?
Был Мтацминдели из монастыря на Святой горе Мтацминда. Успел, наверное, немало пожить на свете и немало прочитать. Он, без сомнения, знал языки. Знакомство с трудами античных историков и побудило его к путешествию.
Известно, что Мтацминдели имел учеников. Хроника сообщает, что они последовали за учителем, как и его сын. Сын мог сделать это просто по слову отца. По приказанию. Но обязаны ли были поступать так ученики? Ведь каждый из них, надо думать, понимал, каким невероятно трудным будет путешествие.
Из грузинских церквей и монастырей многие отправлялись в Иерусалим — тот путь был хорошо известен. Но не таинства небесные, а таинства земные заставили Мтацминдели свернуть с проторенной тропы.
Говорят, многое из того, что проливает свет на древнейшую нашу историю, хранится в библиотеках Ватикана.
Но и в памяти народной живы отголоски далекого события, заставившего часть грузинского, или, говоря точнее, прагрузинского, племени покинуть родину и уйти на запад.
Отец мой в отличие от профессора Хомерики верил в возможность переселения.
Легенда, которую он записал в конце прошлого века, кажется в высшей степени интересной. Если бы легенды объясняли нам историю!»
Далее шло несколько страничек из брошюры, изданной в Петербурге:
«Легенда, записанная профессором Георгием Николаевичем Девдариани в 1899 году в селении Парцхнали из уст священника Парнаоза Харадзе, имеющего от роду 72 года и услышавшего эту легенду от своего деда, преподобного Михаила Харадзе, настоятеля Шорапанского монастыря.
В том краю, где три горные реки — Квирила, Дзирула и Чхеримела, соединяясь, дают начало неторопливому Риону, было в стародавние времена большое поселение, по сравнению с которым нынешнее Шорапани все равно что лист ежевики по сравнению с листом ореха.
Жили здесь мастера, одинаково славившиеся искусством, терпением и веселостью; каждый знал свое дело и старался делать его с любовью, никто никому не завидовал, каждый почитал за честь помочь другому и чему-то научить не знающего ремесла.
Эти люди добывали в земле металл и были великими выдумщиками. Они презирали тех, кто мог только повторять чужое, ничего не привнося от себя. Делали они разные вещи из металла, который был известен еще их прапрадедам, — заступы, тяпки, копья, топоры, ножи. Никто из близких соседей не думал ничего плохого об этом металле, а выдумщикам не нравилось, что он трудно плавится, что некрепок и недолго служит. Начали они ломать голову над тем, что бы с ним сделать. Стали соединять его с разными металлами и смотреть, что из этого получается. Долго пробовали. И однажды кто-то первым сказал: „Вот оно!“
И скоро из разных мест потянулись сюда люди. Они приводили с собой лошадей, быков, коз. А получали взамен новые ножи, лопаты, вилы, наконечники для стрел.
Был в этом племени мастер Ило. Он хорошо знал горы и словно мог видеть, что под землей. Он бродил с тоненькой, очищенной от коры ореховой веточкой и, заставляя ее балансировать на лезвии ножа, следил, когда она слегка наклонится, как бы давая знак: здесь есть руда. Многие другие мужи этого племени пробовали уходить в горы с палочкой, но у них ничего не получалось, и тогда они объявили Ило колдуном и изгнали его.
Ило ушел в горы. И однажды высоко в горах нашел цветок, распустившийся ярко-красным бутоном, и увидел вдруг стадо коз, пугливо пронесшихся рядом, и услышал, как гудит земля. Ило почувствовал опасность и поспешил к людям, чтобы предупредить их. А они подумали, что он ищет повод вернуться обратно, и не послушали его. И было великое трясение земли, от которого разрушились многие жилища и погибли весьма многие.
Тогда вспомнили про Ило и начали искать его и не нашли. Потому что он ушел в горы постичь тайну цветка, которого, сколько ни ползал по горам, раньше не встречал.
Тот цветок не имел названия. Только много времени спустя назвали его пурисулой — королевской примулой, а тогда не было названия у цветка. А обладал он чудным даром. Распускался лишь перед извержением или землетрясением и, предупреждая других от опасности большим прекрасным, видимым издалека бутоном, погибал. Язык его понимали животные и птицы. И долго не понимали люди.
Много ли, мало ли лет прошло с тех пор, но однажды снова увидел Ило, как распустилась пурисула. Он поспешил к людям. Теперь они поверили ему.
Уходила часть племени, издавна обитавшего в этих горах. И уходил бевр — больше тысячи человек, но по пути к ним присоединялись новые и новые семьи. Ило спешил, он уводил племя все дальше на запад. Но быстрее, чем шло племя, распространялась весть о великой битве огня, воды и земли в горах, которые издавна назывались Иберийскими. Много эджей осталось позади, но даже старики иберы, прикладывавшие ухо к земле, слышали отзвуки битвы: гудела и дрожала земля, небо над горизонтом было алым, пронзительно кричали птицы, а пугливые лани искали спасения у людей.
Там, откуда ушло племя, вдруг стали расходиться в стороны две стоявшие рядом горных гряды; где были узкие ущелья, пролегли долины, а там, где была долина, образовалась впадина, и реки потекли к той впадине по-новому, пробивая себе путь без труда.
Многие из тех, кто остался и не послушался Ило, погибли. А племя уходило все дальше. Впереди шли воины. На их копьях и стрелах были острые блестящие наконечники, а за поясом — твердое оружие; его не знали в землях, которыми шли иберы.
А племя уходило все дальше. Впереди шли воины. На их копьях и стрелах были острые блестящие наконечники, а за поясом — твердое оружие; его не знали в землях, которыми шли иберы.
Не везде их встречали и пропускали мирно. Немало сражений пришлось им принять, немало воинов, женщин и детей потеряли иберы. Они могли не раз остановиться, оглянуться, осесть. Но словно неведомый инстинкт вел иберов. Они пересекли из конца в конец весь материк и остановились лишь тогда, когда нашли горы и долины, напоминавшие родные. В этих горах была такая же руда. Ореховая ветка Ило не обманула.
Племя поредело. Те, что дошли, а это были самые сильные и выносливые, дали новой земле имя своей родины — Иберия — и положили начало новому жизнестойкому племени — племени иберов пиренейских».
Не потому ли шел туда Иванэ Мтацминдели?
Это легенда. Но Марк Теренций Варрон, римский историк (116—27 гг. до Р. X.), пишет в научном трактате «Древности», что иберийцы, обосновавшиеся на крайнем западе Европы, пришли сюда с Кавказского перешейка. Откуда он это взял?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПО СЛЕДАМ МТАЦМИНДЕЛИ
Глава первая. Отар Девдариани
Однажды, примерно за год до того как пришло письмо Семена Лагинского, я услышал от дяди Петрэ:
— Видно, под конец жизни образумился Давид.
Что он хотел этим сказать? Я спросил. Он положил мне руку на плечо:
— Ничего, постепенно все образуется, постепенно все становится на свое место.
— Что «становится»?
— Подрастешь, узнаешь.
У Петрэ ровные белые и красивые зубы. Он знает это и, когда улыбается, показывает зуб мудрости. Двинуть бы кулаком по его артистической челюсти.
В углу на высокой тумбочке — ваза из старинного фарфора.
— Дядя Петрэ, — я кладу руку на вазу.
— Осторожно, осторожно! — испуганно восклицает Петрэ.
— Что случилось? — слышится из-за стенки голос любезной тетушки.
— Ничего, ничего, родная, — успокаивает ее Петрэ, а сам бледнеет.
— Дядя, что тебе известно о моем отце? Почему разговариваешь намеками. Для этого пригласил? Если не скажешь, ваза может нечаянно упасть.
Много раз в своей жизни я жалел о сказанном и пока — очень редко — о несказанном. Конечно, все это выглядело глупо… Но я уже начал и остановиться не мог.
— Что, с ума сошел? — Петрэ независимо положил ногу на ногу. — Ну поломаешь, потом что? Придется платить. Откуда, из какого кармана?
— Умные люди говорили, что ты должен мне из тех денег, которые получил за дом в Мелискари. Как-никак это был дом и моего отца.
— Глупости, глупости. Все это было до переворота, а те торги и те деньги давно признаны недействительными.
— Куда же ты дел их?
— Ах, Варлам наболтал… Пропил, прокутил, проел… устраивает?
Петрэ встал и заходил по комнате, заложив руки за спину. Я знал, что не хватит у меня силы духа стукнуть о пол чертову вазу. Надо было плюнуть на все, хлопнуть дверью и никогда больше сюда не приходить.
Я хотел сыграть на скупости этого человека, переборщил. Но в этот момент Петрэ незаметно посмотрел на вазу, и я понял, что он беспокоится, как бы я не привел угрозу в исполнение.
Если я сделаю это, он не удержится, ударит меня. Тогда можно будет ответить. И уйти с чистой совестью.
Я взял вазу в руки словно для того, чтобы рассмотреть надпись на дне.
— Слушай, не действуй на нервы. Хочешь знать, знай! Не маленький, все равно когда-нибудь скажут… Твоего отца считали предателем. Считали предателем, разумеется, красные. А некрасные считают героем. Что он погиб как герой, приведя в условленное место свой отряд. Вот и все, что мне рассказывали.
— Кто рассказывал? Кто этому верит?
— Невольно поверишь. Во главе красного отряда был сын дворянина.
— Кто рассказывал?
— Того давно нет. Умер. Перед самой смертью послал за мной. Служил он в одном полку с Давидом и все знал.
Петрэ хотел, чтобы я поверил ему. Он делал вид, что исполняет не очень приятную, но крайне важную обязанность. На его постном лице была написана скорбь.
— Знаешь, дядя? Я хотел бы спросить. Тебе… не противно жить на свете с таким характером? Думаешь, все, как ты? Прощай, больше не приду к тебе.
Петрэ обхватил лицо руками и несколько раз притворно всхлипнул:
— Лиана, что мы будем делать? Что мы теперь будем делать?
Вечером мы поднялись с Тенгизом на фуникулер, и я рассказал ему о разговоре с Петрэ.
Тенгиз мой друг, и секретов от него нет… или почти нет.
Тенгиз задумался:
— Давай на минуту представим, что Петрэ достойный и благородный человек.
Я взглянул на Тенгиза, но он успокоил:
— Представим на минуту. Представить можно все, что захочешь, Так вот, возьмет ли на себя смелость достойный человек сказать племяннику об отце столь предосудительную вещь, о которой знает понаслышке? «Одна барыня в шляпке на базаре сказала…» Где факты, где имена очевидцев? Кто может утверждать, что Давид был предателем?.. А с вазой ты собирался поступить неразумно. Это не лучший способ выяснять отношения. Старайся следующий раз в таких ситуациях сдерживать себя. Потом сам о себе будешь лучше думать.
— В тот момент я не думал, как буду думать о себе после.
— Что касается отца, ты знаешь сам, сколько раз и куда писала Нина. И знаешь, что отвечали ей; отряд погиб при загадочных обстоятельствах. Никто не мог сказать, как это произошло. Может быть, когда-нибудь все и откроется.
Через неделю после того разговора с Тенгизом меня принимали в комсомол. Этого дня я ждал давно и готовился к нему и волновался как маленький.
Я написал в заявлении, что хочу быть честным гражданином своей страны и обещаю не посрамить звание комсомольца, что знаю, какие обязательства беру перед комсомолом. Мой друг Кукури посоветовал после слова «своей страны» написать о сияющих вершинах, к которым ока идет, — сказал так будет красивее, Я подумал, если все так пишут — зачем же и мне? Но наш секретарь вообще вернул заявление:
— Хочешь быть оригиналом? Есть форма. Пиши как пишут все.
Больше он о заявлении не говорил, поинтересовался, как я знаком с Уставом, а потом долго изучал биографию.
— Расскажи подробнее об отце. Вот не знал, что он у тебя красным командиром был. Чего раньше не говорил?
Еще не было письма от Лагинского, и я ответил, что отец погиб в бою. Я верил в отца, и все же маленький червяк не давал мне покоя. А вдруг и правда знал что-то такое Петрэ? Я гнал от себя эту мысль. Вспоминал белые ровные зубы Петрэ, когда он улыбался.
Ждал, что на комсомольском собрании спросят про отца. И когда пригласили на сцену, почувствовал себя как в первый раз на баскетболе: пересох рот и слышал, как стучит в висках. Разговаривали со мной дружески. Спросили о правах и обязанностях — я ответил скороговоркой, заставлял себя говорить медленнее и громче, но не мог. Потом спросили, порвал ли я со своим дедом Георгием Девдариани, находящимся в эмиграции. Деда я никогда не видел, как же мог с ним порвать? Я задумался, это было воспринято как признак нерешительности. Выручил секретарь, который сказал, что внук за деда не отвечает. Потом он вспомнил про другого харагоульского Девдариани — Гайоза, который был секретарем Центрального Комитета комсомола Грузии, и сказал, что все мы должны брать пример с этого Девдариани. При этом оратор преувеличил, назвав товарища Гайоза нашим родственником. Вспомнили, как я с Кукури участвовал в сельской самодеятельности, кто-то громко назвал меня тренером-общественником (я полгода без особого успеха тренировал мальчишек младших классов) и заявил, что я-де подготовил второго призера всехарагоульского школьного розыгрыша (оратор умолчал, что в нем всего участвовали четыре команды). Одним словом, я с каждой минутой чувствовал себя все лучше. И отвечал спокойнее.
Я был одним из шести, принятых в комсомол. Через три дня пятерым вручили билеты. А про меня забыли. Я переживал. Зашел в райком, мне хмуро сказали: «Когда надо будет, вызовем» — еще больше испортилось настроение. Наконец, через неделю пригласили. Я приготовился к разговору. А мне сказали: «Принесите, пожалуйста, еще одну фотокарточку. Потерялась». Все дело было в карточке. А я бог знает о чем думал.
И вот пришло письмо Лагинского.
Я ненавижу этого человека. Отец догадывался, что он предал отряд. Я снова перечитал письмо и пожалел, что тогда, на рассвете, у отца оставалось в нагане только два патрона. Но… Если бы он убил Лагинского… вряд ли кто-нибудь другой поступил бы так, как Лагинский, — написал сыну врага. Разве не Лагинский помог мне узнать об отце? Значит, значит… имею ли я право относиться к нему однозначно?
До того я делил весь свет на хороших людей (мама, Тенгиз, Циала, Пуни, Варлам, Перерва) и на плохих людей (Петрэ и его жена, еще раз Петрэ и его жена, пожалуй, Ачико, который ухаживал за Циалой, и еще, быть может, наш харагоульский фотограф, который испортил все мои пластинки — когда-нибудь я расскажу о нем; других плохих людей я не знал. Во всяком случае, пока). И в книгах, которые я успел прочитать, и в газетах положительные герои поступали только как положительные, а отрицательные только как отрицательные. К поступку Лагинского я не был подготовлен.
Я кончил читать письма и все, что было в синей папке, под утро. Только задремал, пришел мацонщик со своим облезлым ослом и начал кричать на весь мир; «Мацони, мацони!» Он, должно быть, надоел своему ослу, и тот (откуда силы взялись в этом хилом существе!) заревел гак, что сразу проснулся весь двор.
— Исчезни, исчезни! — послышались однотипные пожелания из разных окон. — Заглохни сам и заткни свою клячу, дай людям немного поспать.
Невозмутимый кахетинец вяло отбивался:
— Посмотри, какой хороший день, какое солнце, какой воздух, какое мацони, все добрые люди давно встали, не правда ли, виро?
В ответ на это обращение осел начал второе отделение концерта. За пятнадцать минут мацонщик продал лишь одну крынку и все же был доволен.
Потом пришел лудильщик и начал кричать на весь мир: «Лудим, лудим!» Все знали, что у лудильщика большая семья, и его никто не прогонял.
Вслед за лудильщиком пришел Петрэ: не выдержал.
— Ну что там, в письме?
Я ответил двумя словами.
Петрэ задумался.
— Ну что ж, все хорошо, что хорошо кончается. Выходит, дела твои в гору должны пойти. Как-никак сын красного командира, погибшего за власть рабочих и крестьян… А я — брат красного командира, погибшего в бою за власть рабочих и крестьян.
Последнюю фразу Петрэ произнес не очень громко — видимо, он прикидывал, чем это обстоятельство может для него обернуться.
— Письмо береги. Пригодится. Я бы на твоем месте копию снял и у нотариуса заверил. А что, мама еще спит? Лиана просила передать Нине сердечный привет. Почему не приходите в гости? Ну, мне пора на работу. Счастливо. Заходи!
Петрэ поглядел на часы. Он еще о чем-то хотел спросить. В его кроличьих глазках было написано любопытство. Не решился. Ушел. Потом вернулся.
— Правда, что у тебя будет брат или сестренка? Если брат — хорошо. Не собираетесь переезжать в Тифлис? Я слышал, Тенгизу предлагали место в железнодорожном диспансере. Я бы не раздумывал долго. Тифлис — это Тифлис. Ну, побежал, побежал. Опаздываю.
Мама не поднималась, ждала, пока этот тип выкатится. Приготовила завтрак, спросила:
— Ну а ты кого хотел бы — брата или сестру?
— Сестру.
Если появится сестра, все будут думать, что я так хотел, и не станут огорчаться. Но брат мне нужен больше.
Мы еще никогда не говорили об этом ни с мамой, ни с Тенгизом. Догадался я об этом месяца два назад. Тенгиз и мама пошли в выходной на базар в Харагоули. Вернулись они часа через четыре, мама тяжело ступала и опиралась о руку Тенгиза. Тенгиз нес две корзины и большую сумку с припасами. Мама была бледной и трудно дышала. Тенгиз уложил ее на тахту, я спросил, не нужно ли лекарства, он ответил, что скоро все пройдет — было жарко и мама устала по дороге в гору.
Тенгиз чему-то радовался. Весь день напевал себе под нос, что бывало с ним редко. Я видел, как мама гладила его рукой по волосам.
Незадолго до того Тенгиз получил приглашение переехать в Тифлис — его старый товарищ по институту стал главным врачом железнодорожного диспансера, там объявилось место невропатолога. Тенгиз сомневался — стоит ли бросать насиженное место и переезжать в город, от которого немного отвык. Он не торопился с ответом.
…Я быстро перекусил и отправился к Пуни. До отхода поезда оставалось около четырех часов, в плацкартном вагоне ехал знакомый проводник, и я мог не обременять себя заботами о билете.
Я рассчитывал вернуться часа через два. Оказалось, что в еркоопе дают леденцы — полкило леденцов и кило соевых конфет. И идти к Пуни, и возвращаться в деревню без подарков было неудобно, и я занял очередь. Когда вышел из магазина, со стороны моста послышалась песня, на площадь вступила колонна красноармейцев. За ней бежали мальчишки. Сапоги и гимнастерки красноармейцев были пропитаны пылью. Судя по всему, шагали они издалека.
Маленький солдатик (он шел в одной из последних шеренг, лихо отбивал шаг, вовсю размахивал руками и вообще старался казаться выше, чем был на самом деле) пел голосисто, не жалея легких:
Ухнула колонна:
Недалеко от запевалы вышагивал Михаил Перерва.
Я догнал колонну:
— Дядя Миша, дядя Миша!
Он увидел меня, улыбнулся, но ничего не сказал. Он был в строю, а в строю разговаривать не положено. Военная форма сидела на нем так, будто он всю жизнь ее носил. На его петлицах было три треугольника.
Я пошел по самому краешку тротуара.
— Я теперь в деревне, дядя Миша. Тренирую малышей. Мы все вас помним. Мне вашу записку принесли, но я ее прочитал поздно. Пришел в зал, вас уже не было.
Мне хотелось сказать еще что-то этому человеку.
— Я никогда не брошу играть в баскетбол. Обещаю вам.
Он кивнул понимающе.
Снова поплыло над колонной:
У входа во двор, где жил Пуни, в маленькой фанерной будке под вывеской: «Чиним керосинка, каструль и продаем питилэ» — сидел черноусый гражданин с огромными заплатами на коленях и кричал на ухо дряхлому старику, не выпускавшему из рук керосинки:
— Сями гляни ему питилэ, для эта машинка!
— Какой питилэ, чего голову морочишь?
Судя по всему, этот разговор продолжался уже долго и успел надоесть не одному только старику. Окошко над будкой отворилось, и в нем показался знакомый мне человек, который несколько раз приезжал к нам в Харагоули на раскопки. Он был другом профессора Инаури, и звали его… звали его, вспомнил — Керим Аджар. Это был, как говорил Инаури, известный лингвист, когда-то учившийся в Москве. Я не знал, что он живет рядом с Пуни. Мастер вышел из будки и поклонился Кериму Аджару. Тот улыбнулся:
— Ну разве непонятно? Мастер говорит, что самое главное для любой керосинки, в том числе и для вашей, — хороший фитиль. Будут хорошие фитили, будет гореть керосинка. Купите у него пару. У него самые лучшие во всем городе фитили — не так ли, дядя Ньютон?
— Не Ньютон, а Невтон, — беззлобно поправил мастер. — Конечно, сами лучши.
— Так купите, купите фитили, не пожалеете.
Старичок порылся в кошельке и, поторговавшись в меру, купил фитили. Невтон прижал рублевку к щеке и послал воздушный поцелуй Кериму Аджару. Тот по-приятельски моргнул ему: мол, с нами не пропадешь.
— Када заниматься будим? — спросил мастер.
— Приходи вечером.
Я вошел к Пуни и рассказал про сценку, которую наблюдал.
— А наш Керим Аджар — большой оригинал. Дал себе слово научить этого Невтона нормально разговаривать. Невтон знает три языка и на всех говорит одинаково. Мечтает стать проводником. Вот наш профессор и занимается с ним. Учит грамоте. Надолго в Тифлис? Как родные? Не надоело в этом вашем Харагоули?
— Дядя Диего, вчера мы получили одно письмо. Из Парижа. В нем написано о моем отце.
И я рассказал обо всем, что узнал за эту ночь.
Кристин, услышав о письме, вышла к нам. Она сказала, что я сильно изменился и вырос. Мне об этом говорили многие тифлисские знакомые. Но сегодня я и сам чувствовал, что вырос.
— Ты знаешь, о каком письме говорит Отар? — спросил Пуни.
Я во всем доверял этой семье. И дал им почитать письмо Лагинского. Еще я его покажу Тенгизу. И больше никому.
Пуни читал долго и внимательно, аккуратно переворачивал страницы и отдавал прочитанное Кристин.
— Я никогда в этом не сомневался… В том, что твой отец был абсолютно честным человеком. И рад, что теперь и другие узнают об этом.
Слегка прихрамывая и проклиная по привычке свой ревматизм, Пуни спустился в подвал и вскоре вернулся с кувшином, заткнутым кукурузным початком.
— Давайте выпьем.
Он первый раз налил мне столько же, сколько себе.
— Выпьем, Кристин, за молодого человека, который сегодня стал мужчиной. — Пуни положил мне руку на плечо.
Не знаю почему, но я вспомнил, как два дня назад хохотал над каким-то не очень смешным анекдотом, который рассказывал Ачико.
Два дня назад — это было давно.
Я засиделся у Пуни, и мы с мамой чуть не опоздали на поезд.
Если бы год назад меня спросили, кем я хотел бы стать, ответил бы не задумываясь. Лето, проведенное на раскопках, убедило меня в том, что нет на свете интересней науки, чем археология. Руководитель экспедиции Геронти Теймуразович Инаури был для одних учителем, для других профессором, а для меня богом. Теперь он мечтает о Колхиде, о какой-то горной деревеньке Вани. О Вани ходят разговоры! Во время большого дождя по улицам плывут старинные золотые монеты. Ребятишки играют на монеты в кочи — бабки. Рассказывают, что недалеко от деревни, под горой, древнее поселение. Еще не разгаданное и не раскопанное. Когда показали Геронти Теймуразовичу разные поделки из золота, он лишился сна. Вечера проводит в библиотеке, а часы, свободные от чтения лекций, отдает тому, что называет «пробить экспедицию» — настаивает, уговаривает, требует, убеждает. Ему говорят: «Откуда взять деньги?», а он отвечает: «Я вам такие ценности добуду, которые ни за какие деньги не купишь. И не продашь тоже, потому что, когда вы на все это своими глазами посмотрите… поймете, для чего аргонавты плыли к нам, за каким золотым руном».
Между прочим, дочь у Геронти Теймуразовича Циала — весьма своенравное существо. Для своих пятнадцати неполных лет слишком самостоятельна, Мать ее скончалась при родах, воспитывала Циалу сестра Геронти Теймуразовича. Племянница была для нее роднее дочери. Отец, занятый своей археологией, в воспитание Циалы не вмешивался, считал, что все само собой образуется. Дочь не знала ни в чем отказа… Я не позавидовал бы ее будущему мужу.
Циала окрестила меня Крошкой (я переходил в десятый класс, рост у меня был 178, а вес — 70). Она попросила меня принести из родника воду, я взял кувшин, а она сказала:
— Одну минутку, Крошка, — нырнула в палатку и принесла еще один кувшин, — чтобы не ходить четыре раза, лучше сходить два.
Она подумала, должно быть, что может командовать мной. Извиняет Циалу одно — работает со смыслом; у нее молено поучиться, как вести опись найденных вещей, как обращаться с черепками и как фотографировать — тоже.
Я немного отвлекся.
Филологом я стать не собирался. Мать говорила мне о том, чем занимались отец и дед. Я же не чувствовал в себе призвания к лингвистике. Мне казалось, что языковедами люди становятся только в старости, когда, намаявшись, тянутся к нехлопотливому делу, запирают себя в книгохранилищах и начинают искать какие-то исчезнувшие слова да сравнивать разные языки. Такая жизнь была не по мне. Пока я знаю, что люблю археологию, баскетбол и, кажется, немножко Циалу, хотя это существенного значения не имеет.
Между прочим, Циала играет в шахматы. Возит с собой партию, которую вместе с книгой «Вепхисткаосани» принесла в приданое мужу ее мать. Рассказывала, что был такой обычай в Грузии. Я не показал виду, что имею по шахматам вторую категорию. Она предложила сыграть. Чтобы доставить ей удовольствие, я решил первую партию проиграть. Мы только начали, как к нам присоединился Ачико Ломидзе, такой же, как я, практикант, человек, берущийся за что угодно, но ничего не умеющий доводить до конца. Он начал подсказывать Циале невпопад; делая вид, что поглощен шахматами, он клал руку на плечо Циале, она не обращала на это внимания, но я-то обращал.
Этот полный молодой человек, преисполненный чувства собственного достоинства, казался мне просто-напросто хвастуном. Циала, чтобы позлить меня, принимала его ухаживания.
— Крошка ошибся, Крошка ошибся, сейчас мы возьмем его коня, — победно затараторил Ачико, — бери же, бери!
— Пончик, не лезь. Возьмешь коня, получишь мат, — спокойно сказал я.
Я не знаю, как это получилось, что я назвал его Пончиком. Я никогда не думал, что он похож на пончик. Но Циала засмеялась, и этого было достаточно, чтобы Ачико возненавидел меня.
— Как это мы получим мат? — засуетился он.
— Очень просто, — ответила Циала, — даст шах, мы отойдем королем, он пожертвует ладью и через два хода заматует.
— А-а-а, — неопределенно произнес Ачико. — Ну хорошо, эту партию ты проиграешь, потом сыграю я.
— Не думаю, что это будет очень-очень интересно.
— Я тоже так думаю. Но мы можем сделать так, что будет интересно. Давай играть на рубль.
У меня до получки оставалось два рубля сорок копеек, жить надо было еще пять дней, но я решил, что не могу проиграть такому слабому партнеру, и согласился.
Циала, не доиграв, уступила нам.
Ачико начал белыми, к середине партии я выиграл пешку, дела его шли все хуже, он начал подолгу задумываться. Потом взял в руки ферзя, повертел его, поставил назад и сделал ход слоном. Я кашлянул, давая понять, что он обязан играть ферзем. «Тронул — ходи» — правило, которое должен уважать каждый шахматист.
Ачико сделал вид, что не понял намека. Я подумал: черт с ним, все равно у меня хорошая партия, я ее выиграю.
Но потом все больше думал об Ачико и все меньше о партии. Я понял, что он совсем не имеет самолюбия. Не понимает, как все это выглядит со стороны. Есть такие люди, которым на это наплевать.
Ачико сопел, кашлял, когда был ход за ним, и насвистывал, ужасно фальшивя, арию тореадора.
— Циала, прошу тебя как судью, скажи партнеру, пусть перестанет терзать несчастного тореадора и даст спокойно доиграть.
Мы разговаривали по-грузински. К той поре я довольно сносно владел языком, но вот твердое «к» и гортанное «г» удавались мне не очень.
— Моя твоя не понимает, — сказал по-русски Ачико и продолжал насвистывать.
Мне захотелось выиграть как можно быстрей. Я сделал один плохой ход, потом, стараясь тут же исправить его, сделал второй такой же плохой.
Ачико потирал руки. Циала сжала мне локоть и показала на белого коня, который мог после шаха сделать вилку. Ачико перехватил ее взгляд, посопел-посопел и сделал правильный ход. Мне предстояло расстаться с фигурой. Партия шла под откос. Но в этот момент ко мне пришла идея.
Я схватился за коня, задумался, поставил его на прежнее поле и сыграл королем. Я догадывался, что за этим последует. Он кашлянет и скажет: «Вам ходить конем».
Ачико кашлянул:
— Вы дотронулись до коня и обязаны ходить им.
Я только этого и ждал.
— Скажите, — спросил я по возможности спокойно, — а сами вы не поступили таким же образом в этой партии?
— Поступил.
— Почему же вы не сыграли фигурой, до которой дотронулись?
— А вы меня не попросили. Если бы вы потребовали это, я сыграл бы. А вот я требую, чтобы вы сыграли конем.
Не знаю, как это случилось, но шахматы — и доска и фигуры — взлетели на воздух. Циала осуждающе посмотрела на меня.
— Платите рубль, — тоном прокурора произнес Ачико.
— А этого не хочешь? — поинтересовался я, протянув к носу партнера фигу.
— Ты должен ему рубль, — сказала Циала.
Этого я не ждал, Что она понимала в нашем споре?
Или правда симпатизирует Ачико Ломидзе?
Я подумал о том, что вряд ли у меня когда-нибудь еще появится желание оказаться в одной экспедиции с этими двумя молодыми людьми.
Я достал рубль, положил его под доску и сказал, что всегда готов к услугам Ачико, если ему еще захочется сыграть со мной.
— Нет, мне вряд ли захочется, — беззастенчиво ответил тот, — тем более что мы уже выяснили, кто из нас играет сильнее. — И Ачико аккуратно сложил и спрятал рублевку в кошелек.
Это был единственный человек в нашей экспедиции, который имел кошелек. Он с охотой клал в него и смертельно огорчался, когда надо было из него что-либо вынимать. Чтобы никого не угощать, никогда не угощался. Все обедают за одним столом, а он сидит себе скромненько в уголке и ест свое мчади с сыром и запивает ключевой водой. От чего он был такой полный, не знаю. И как можно было симпатизировать такому человеку, не знаю тоже.
Теперь я разговаривал с Циалой только о самом необходимом, а Пончика вообще старался не замечать. Они вдвоем ходили купаться на Чхеримелу, ловили рыбу, но я делал вид, что это меня совершенно не занимает, Циала была не в меру оживленной и старалась показать, что счастлива безмерно. Пончика распирало от гордости. Ачико оказался натурой романтической; недели через две мы помирились, и он признался, что пишет поэму о Циале.
— Не совсем, правда, о Циале, героиня будет носить другое имя, я пока не подобрал, но каждый, кто прочитает, догадается, что это Циала.
— Ну а что будешь делать с поэмой?
— Сперва прочитаю Циале, потом перепишу, один экземпляр подарю ей, другой пошлю в журнал, а третий в издательство, хотя, говорят, в издательствах надо долго ждать очереди.
— Ничего, не смущайся, талантливым произведениям всегда дают первую очередь.
— Но все-таки пройдет много времени. Послушай, а что, если я напишу записку Циале? Поможешь мне в этом деле?
— Передать, что ли?
— Нет, написать. Ум, говорят, хорошо, а два лучше.
— Ну вот, не очень хорошо получается. Записку будем писать вдвоем, а на свидания будешь ходить один. Ведь не пригласишь?
— На свидания втроем не принято ходить, — мечтательно возразил Ачико. — Значит, не поможешь?.. Ну что ж, сами справимся.
— Я разве сказал, что не помогу? У тебя есть уже какие-нибудь мысли, какой-нибудь предварительный текст?
— Пока нет… Но я много думал…
— А когда бы ты хотел заняться этим делом?
— Можно прямо сейчас, у меня есть карандаш и бумага.
Мне пришла в голову одна мысль, поэтому я согласился не откладывать дела в долгий ящик:
— Надо, чтобы один диктовал, а другой писал и исправлял его.
— Давай, ладно уж, я буду писать, а ты диктуй, — предложил Ачико.
— Тогда начинай. «Ты свет очей моих, Циала. Если я не вижу тебя день, кажется мне, что этот день вычеркнут из моей жизни. Быть рядом с тобой, видеть тебя, слышать твою речь — высшее счастье, которое посылает человеку небо. Я не знаю, как жил раньше, вдали от тебя».
Ачико сосредоточенно писал, время от времени слюнявя карандаш и переспрашивая: «Не нужно поставить запятую?» Запятые были его слабым местом.
— Давай дальше, пока ничего, — поощрил он меня, внимательно прочитывая текст.
— «Лишь ты одна в моих мыслях. Юная, красивая и добрая. Благодарю судьбу за то, что мы встретились с тобой, И еще верю в то, что это не случайная встреча. Теперь я буду ждать твоего ответа. Ответь мне! Ты не бойся и не стесняйся. А если же девичий стыд не позволит тебе взяться за перо, дай мне понять, что записку прочитала и не отвергаешь моей дружбы. Радость моя, как я буду счастлив услышать твое „да“».
— Все? — спросил Ачико. — По-моему, очень складно у нас получилось. Только как подписать?
— Напиши: «К сему» — и поставь имя.
— Ты думаешь, «к сему» обязательно?
— По-моему, это придаст больше непосредственности и искренности. Кроме того, так принято, я лично всегда так делаю.
— А как передать записку?
— Ну для этого есть несколько способов. Можно из рук в руки, а можно просунуть в дверь, можно, наконец, положить в ее сумочку, когда Циала будет занята раскопками.
— Лучше уж под дверь. И убежать.
Весь следующий день Ачико ходил, как приговоренный к казни преступник, который ждет в последний момент вести о помиловании. Он старался не подходить близко к Циале, но быть все время в поле ее зрения. Циала не замечала его.
Когда уже солнце садилось, Циала подошла ко мне и сказал:
— Ты знаешь, этот Ачико куда смелее тебя.
— Знаю, и давно.
— Он прислал мне записку. Я еще никогда ни от кого не слышала таких приятных слов.
— Если тебя не затруднит, прочти первые буквы первых слов каждой фразы.
— «Те-бя лю-бит Отар»… Спасибо, спасибо, ты не нашел другого способа сказать это? Хорош товарищ! Ачико знал, на кого можно положиться.
Незадолго до конца сезона, перед знаменитыми харагоульскими дождями, Геронти Теймуразович попросил меня съездить в Тифлис — отвезти ящик с черепками для нового стенда в музее и привезти фотопластинки. Накануне Циала и Ачико ушли на реку без меня; уезжая, я не попрощался с ними.
Уже на второй день я заскучал, но решил проявить характер и не торопиться с возвращением. Обстоятельства мне благоприятствовали; пластинок в магазинах не было, предстояло дождаться возвращения из отпуска одного младшего научного сотрудника, у которого, как говорили, могут быть пластинки.
Я провел всю неделю с Диего и Кристин Пуни, помог приладить антенну над их домиком в Дидубе, наколол дров на зиму, привез из городка дюжину саженцев — яблони и вишни, — и мы посадили их во дворике. Пуни перешел на пенсию и стал завзятым садоводом; на его столе были разбросаны книги: «Как ухаживать за косточковыми», «Как консервировать фрукты», «Как делать прививки фруктовым деревьям». В каждой из этих книг было множество разноцветных закладок — Пуни любил порядок во всем. Кристин снисходительно относилась к пристрастию мужа: знала за Пуни одну особенность — не слишком долго увлекаться чем-нибудь.
Пуни продолжал ревниво следить за моими замятиями испанским. Он давал мне задания на каждый месяц. Переводами, которые я сделал в экспедиции, он остался доволен. Сказал, что если и дальше все пойдет так же хорошо, то через каких-нибудь пятьдесят или шестьдесят лет я буду вполне сносно объясняться.
В награду за терпение я получил в институте сразу две пачки пластинок; пока не размыло дождями раскопки, надо было успеть многое сфотографировать.
Когда я вернулся в Харагоули, шел дождь как из хорошей бочки, я боялся, как бы не промокли пластинки, и решил переждать ливень на станции. В зале, прокуренном до невозможности, увидел Варлама. Он сообщил мне печальную новость — два дня назад умер Мелко, из разных сел съезжаются его родственники и друзья. Я запрятал как следует за пазуху пластинки, сиял башмаки и затопал вверх, к дому Мелко. Сердце мое сжимала глухая тоска, я вспоминал, как добр был ко мне старик. В последние годы я редко приходил к нему и сейчас казнил себя. Его пистолет без курка и собачки лежал у меня среди давно позабытых игрушек, а ведь когда-то пистолет был моим главным богатством.
Я подумал о том, что еще один человек, помнивший моего отца, покинул землю и пожалел, что так мало спрашивал его об отце. Теперь он унес все это с собой.
Мелко лежал в гробу, большая борода его покоилась на груди. Лицо было серьезное и спокойное. Навзрыд плакали женщины, среди них были такие, которых я никогда не видел в этом доме.
Я не мог совладать с собой. Закусил губу, но нс помогло, потекли слезы. У гроба сидел Спиридон. Он подпер голову рукой и смотрел на Мелко. Глаза Спиридона были сухими. Я подумал: молодец — держится, ведь ему труднее, чем кому-нибудь другому. Наверное, к старости человек становится не таким чувствительным к горю и потерям. Я сказал себе: «Спиридон не плачет, и ты научись владеть собой». Еще крепче закусил губу и перестал плакать, но вдруг Спиридон спрятал лицо в ладонях, и плечи заходили у него, и я не выдержал, и, чтобы не показывать слез, вышел в другую комнату, и остановился у окна.
Кто-то нежно взял меня за руку. Оглянулся и увидел Циалу. Она была вся мокрая, дождь, как клеем, прилепил ее тонкое платье к телу, и я впервые подумал о том, какое красивое у нее тело. Она спросила тихо-тихо: «Где же ты был, Крошка?» И по тому, как спросила она, я почувствовал, что она меня ждала.
— Мне сказали, что ты приехал.
— Не могла переждать дождь? Посмотри на себя.
— Значит, не могла.
Дождь продолжал хлестать. Но мы не обращали на него внимания. Мы не спеша спускались к станции, чтобы там немного просохнуть и обогреться. Циала шла рядом, я взял ее за руку. Раньше она не позволяла этого делать. А теперь не вырвала руки, посмотрела на меня странно и прижалась мокрой головой к плечу. Мне захотелось ее поцеловать, но, немного зная ее характер, я боялся, что она убежит. Интересно, как поступают на моем месте? А разве я могу задавать такой вопрос? Разве кто-нибудь когда-нибудь шел с Циалой так, как иду я, кто-нибудь держал ее за руку, кому-нибудь смотрела она так в глаза?
Сердце билось, как будто мы не спускались с горы, а шли в гору. Я остановился.
Неожиданно для самого себя сказал:
— Ты не знаешь, Циала, что я сделаю. Потом ты можешь думать обо мне, что хочешь. Но ты такая… красивая и хорошая, что мне… что я сейчас тебя поцелую.
— Боже, какое долгое предисловие, — сказала она. — Хорошо, что успел предупредить. Мне полагалось бы стать серьезной и убежать. Но я не убегу. Мне хочется, чтобы ты перестал дуться на меня.
Я почему-то поцеловал ее в лоб. Она засмеялась, подставила щеку и сама поцеловала меня. Мне показалось, что у меня вырастают крылья, что я вот-вот куда-то полечу, я переносился в какой-то сказочный мир, я обнял Циалу и поцеловал. В это время чей-то скрипучий голос вернул меня на землю:
— Молодой человек, вот пластинки, которые вы оставили на подоконнике; разве можно разбрасываться таким богатством? Возьмите, пожалуйста.
Это был сосед Мелко — станционный фотограф Леван, жулик, каких свет не видел. Года два назад я привез в деревню свой новый «фотокор» (Тенгиз и мама подарили его на день рождения) и начал делать снимки мальчишек. Но мудрый Валико сказал:
— Тут многим нужны карточки — в город послать или на удостоверения. Леван на станции дерет семь шкур. Может, попробуешь?
— Попробую.
На следующий день ко мне пришли три соседки (в общей сложности им было лет за двести) и попросили снять их каждую в отдельности, а потом всех вместе. У одной в руке был цыпленок, у другой — несколько чурчхел, у третьей — дюжина яиц.
Я предупредил, что ничего не возьму, они посовещались и сказали, что так не годится, это они принесли не плату за фотографии, а просто подарок. Если я не возьму, они откажутся сниматься.
— Не обижай добрых женщин, — сказал Валико.
Я вынес большую простыню, прикрепил ее к стене дома, поставил три стула. Три старушки сели, положили руки на колени, я сказал: «Сядьте немножко посвободнее, не обязательно смотреть в аппарат. Руки можно положить по-другому».
Они опять посоветовались друг с другом:
— Ничего, снимай так.
Старушки собирались послать фотографии внукам в армию. Я отнес пластинки на станцию к Левану и попросил проявить их и напечатать карточки.
Леван сказал, что прейскурантом такая работа не предусмотрена, что он не возьмется за нее, но в конце концов я его уговорил, пообещав заплатить сколько потребуется.
Через день он дал мне карточки. Валико клялся, что еще никто никогда в жизни так хорошо не снимал. Старушки были тронуты. В ближайшую неделю ко мне пришли с просьбой сфотографировать два десятка крестьян из самых разных селений. Все это пахло коммерцией.
Я отнекивался, говорил, что у меня нет пластинок, нет бумаги, но какой-то старик упросил: «Пожалей нас, издалека пришли».
За один день я сделал фотографий двенадцать, а на следующий день еще двенадцать, потом понес все это на станцию. Леван недоверчиво посмотрел на меня, слишком быстро согласился обработать пластинки, не спорил, не торговался, мне это не понравилось; когда я пришел к нему через два дня, он встретил меня с притворным соболезнованием:
— Какая неприятность, у тебя оказались засвеченными все пластинки.
— Все до одной?
— Все до одной, шени чири ме! Так неудобно получилось. Что у тебя было снято?
— Да разные виды.
— Зачем обманываешь? — не выдержал Леван. — Ты снимал на удо-сто-вере-ния! Хотел моих клиентов отнять, да, думаешь ты один умный, а Леван дурак, а Леван глупый? Иди теперь разговаривай с ними.
— Завтра вечером я приду сюда с ребятами и подожгу твою фотографию, — спокойно пообещал я. — Хотя нет, завтра я занят. Я сделаю это дня через три.
— Как подожжешь? Как посмеешь? В милицию хочешь?
Я ничего не ответил. Какой-то червь сомнения все же закрался в душу Левана. Он две ночи не выходил из своей конуры, а потом, встретив меня на станции, холодно предложил в знак компенсации пачку пластинок. Я сделал вид, что не заметил его.
Когда до конца раскопок оставалось несколько дней, я привел Циалу в Мелискари, познакомил со своими. Нашим она понравилась; простодушная тетя Елена заметила, что лучше невесты мне и не надо, и поинтересовалась: правда ли, что ее папа профессор и много получает?
— Тетя Елена, Циала мой хороший друг. С учеником говорить о невесте непедагогично, а зарплаты ее папы не считал.
Елена обиделась:
— Какой ты ученик? Посмотри на себя в зеркало.
Вымахал — вон куда, «Не-пе-дагогично»! Ишь, какой нашелся педагог!
Опять со мной говорят о моем росте!
Во сне ко мне приходит Лагинский. На нем старый залатанный френч, в руке револьвер. Не то наган, не то маузер, напоминает тот дверной замок, который подарила мне в детстве соседка Марья Матвеевна, но имеет вместо скобы длинное дуло. Лагинский держит руку с револьвером за спиной, но я хорошо вижу дуло.
Он приближается с улыбкой и делает вид, будто хочет поздороваться со мной. Я пытаюсь убежать и не могу. У меня уже бывали такие сны: хочу убежать — и не могу: ноги становятся ватными и не держат меня, вот-вот провалюсь — знаю, что не смогу сдвинуться с места, и проклинаю себя за бессилие. Кричу, что есть силы, Тенгизу, Тенгиз рядом, но не слышит меня. Он занят своим делом и не слышит. Играет с Цербой, бросает палку, собака — за ней, я зову на помощь Цербу, она не слышит меня. И вдруг, не добежав до палки, останавливается, обнюхивает воздух, замирает, кидается к Лагинскому и, льстиво виляя обрубком хвоста, начинает ластиться к нему. Старая глупая собака. «Возьми его, возьми!» Она не понимает меня. Может быть, потому, что я кричу по-русски?
Лагинский прикладывает палец к губам и едва слышно говорит: «Тс-с-с». И делает несколько шагов в мою сторону.
К счастью, просыпаюсь. Долго лежу с открытыми глазами, медленно соображая, проснулся ли или продолжаю видеть сон. Если бы встретился с ним не во сне — наяву, смог бы убить его. Смог бы. Задушил бы его, если бы не было ничего под рукой. Он убил отца. Так испокон веков поступали в Мелискари — сын мстил за отца, не раздумывая, не говоря долгих слов. Думал разжалобить меня. Прислал письмо и вспомнил о присяге. Ненавижу и проклинаю его. Встретил бы, убил.
Рассказывал мне однажды Варлам, как лет сто двадцать назад в селе, что было выше нашего — у границ со Сванетией, — поссорились на свадьбе двое захмелевших мужчин — один из рода Мачавариани, а другой из рода Лежава; у них и раньше были споры из-за небольшого клочка земли, но до распри дело не доходило. А тут выпили, наговорили друг другу нехороших слов, и назад отступления не было. Схватились за кинжалы, женщины подняли крик, мужчины еле-еле рознили сцепившихся. Когда воцарилась тишина и видимость порядка и когда снова уселись рядом жених и перепуганная невеста, с дальнего конца стола раздался голос матери Мачавариани:
— Ты запомнил, сын, что сказал о нашем роде этот жалкий человек?
— Запомнил, дэда.
— Ты не забудешь?
— Не забуду.
Через несколько дней несчастного Лежаву нашли заколотым по дороге в лес. Еще через два года на том же месте нашли самого Мачавариани. В тот же самый день исчез из села один из сыновей Лежавы. Он уехал далеко на север, перед смертью его потянуло в родной край, он не удержался, приехал с женой и детьми, привез много денег. В первую же ночь он был убит. Его деньги никто не тронул.
Вот что бывало у нас в горах.
Нашел бы я в себе силы отомстить Лагинскому, если бы встретил его? Нашел бы, нашел бы, нашел бы! Во мне заговорили бы мои предки, я не раздумывал бы, как поступить. Но только не знаю, почему об этом думаю, — не отомстил ли Лагинский сам себе?
Мы в Тифлисе. С Варцихской переехали на улицу Ниношвили, в две небольшие комнаты на третьем этаже. В квартире — ванная, единственная на весь двор, мама говорит, что ради этого можно было пойти на жертвы. Наши ухлопали на новую квартиру все сбережения, а Тенгиз взял еще в долг довольно крупную сумму. Теперь он невропатолог в железнодорожной больнице, имеет бесплатный билет и раза два в месяц ездит в Мелискари за припасами. Он усердно обрабатывает виноградник и кукурузное поле, и у нас, как и у каждого почти тифлисца, дома всегда кукурузная мука, вино, деревенский сыр, лобио, — приходят гости, есть чем встретить.
Гостей последнее время много.
У нас прибавление. Молодой шумливый и жизнерадостный человек получил имя Дмитрий. Или попросту Мито. Аппетит у него слава богу а у мамы мало молока. До уроков я успеваю сбегать вверх, вверх, к самому верху улицы Грибоедова за молоком к одной кормящей матери, оттуда — вниз, вниз, к Кирочной — к другой кормящей матери, жизнь моя наполнилась новым содержанием.
Из Харагоули идут поздравительные телеграммы. Валико привез огромный бурдюк вина и поросенка. Спиридон прислал рог, оправленный серебром, и маленький кинжальчик с синенькими камушками в ножнах. Тенгиз немного обалдел от счастья. Малыш похож на него. Маме по заборной книжке выдали большое одеяло, которое мы разрезали на три части и сделали неплохой тюфяк для детской кроватки.
Однажды утром, совершив привычный рейс за молоком, я опоздал на урок. Погрустил в коридоре, потом подошли еще двое, день начинался неудачно, мы решили пойти на «шатало» — пошататься. Двинулись в кино.
Фильм «Три жизни» с Натой Вачнадзе я смотрел раз пять, мне нравилось, как мстят в этом фильме, я с удовольствием пошел еще раз.
Мне кажется, что Ната Вачнадзе чем-то похожа на Циалу, Скорее всего глазами — большими и чуть грустными. Нет, это Циала похожа на нее. Справедливости ради надо сказать, что на это первым обратил внимание Ачико Ломидзе. Теперь он студент-историк и чувствует себя важной фигурой, Пугал меня — говорил, что с моими математическими знаниями я вряд ли выдержу вступительные экзамены. Впереди был почти год, моя голова была забита разными тангенсами, котангенсами и косинусами, я бы многое дал, чтобы как можно быстрее на всю жизнь проститься с ними. Циала, хотя и учится на класс ниже, разбирается в точных науках куда увереннее. Иногда мы вместе занимались. Она помогала мне тем, что не разрешала отвлекаться и расставаться с учебниками раньше срока, который мы заранее сами намечали.
На приемных экзаменах я не выглядел героем. Приняли меня «как сына красного командира, погибшего на фронте борьбы за победу революции». Так было написано в решении приемной комиссии. Я чувствовал себя не очень удобно перед двумя другими ребятами, стремившимися на филологический факультет: один был сыном нэпмана, а у второго оказались родственники за границей. Рассказал Тенгизу, попросил его объяснить, чем эти башковитые и усердные юноши виноваты?
— Нам с тобой выпало жить на изломе… На изломе всякое бывает. Приготовь себя к неожиданностям. Но если посмотреть на вещи шире, революция хочет привести в науку людей, которые будут честно служить ей. Вот тебе и весь ответ.
— Значит, это я не по способностям, а по происхождению попал?
— Видишь, как бывает в жизни… Отец погиб, а продолжает делать доброе дело. Продолжает служить тебе по-отцовски…
Я оказался самым младшим в группе. И самым высоким. Тенгиз купил мне портфель (вообще, он был не слишком нов и честно послужил старому хозяину, должно быть, банковскому работнику). Портфель был из свиной кожи, с двумя замками, в него вместе с тетрадями хорошо помещались тапочки, шерстяные носки — меня сразу же пригласили в баскетбольную команду.
Итак, теперь я студент филологического факультета. Фотографию на удостоверение сделал сам, на меня смотрит молодой человек достойной наружности, с бровями, сходящимися над переносицей, вполне приемлемым носом и несимметричными щеками, как будто под правую во время съемки язык подложил. Мама говорит, это оттого, что я в детстве сосал палец и она ничего не могла со мной поделать. Когда я смотрю на себя в зеркало, то лицо кажется мне вполне нормальным, а вот фотоаппарат, оказывается, наблюдательнее. Надо будет попробовать жевать на левой стороне, может быть, удастся развить левую сторону лица.
В нашей группе тридцать три человека, среди них четырнадцать девушек. Почти все в группе знают два языка — грузинский и русский, — будем изучать еще немецкий или французский, латинский и старославянский. Среди преподавателей — доктор филологических наук Хабурзания, знает двенадцать языков, ведет античную литературу и не признает экзаменов. Во время сессии, вместо того чтобы, как это делают другие, задать три-четыре вопроса, выслушать ответы и поставить отметку, он тратит на каждого по два-три часа, старается среди прочего узнать собеседника — как он мыслит, как спорит, как отстаивает свое мнение. Ему за семьдесят, пальцы на его руках скрючились, а сам прямой и независимый. Говорят, у него одна из лучших в стране коллекций монет Древнего Рима, он начал собирать ее полвека назад и, бывало, из-за одной монеты мог поехать чуть не на край Европы.
Говорят, что в свое время Хабурзания не раз бывал в Испании. Бывал ли он в Басконии?
Есть еще один интересный преподаватель, Керим Аджар, тот, который живет рядом с Пуни. Лингвист. Ученик академика Теребилина, сопровождал его в экспедициях, помогал собирать и обрабатывать материалы. Рассказывают, что один месяц в году из своего отпуска Керим Аджар проводит в Ленинграде, в гостях у академика, и они продолжают давно начатое исследование, связанное с диалектами.
Другие преподаватели молодые. Курс обществоведения читает милейший кахетинец Бухути Придонишвили, который разрешает во время лекций заниматься чем угодно, лишь бы не шумели и не мешали ему аккуратно пересказывать своими словами то, что написано в учебнике. Немецкий язык ведет Густав Пальм, розовощекий, застенчивый молодой человек. Он сам предложил мне после третьей или четвертой лекции не приходить на занятия, возможно, я когда-нибудь и воспользуюсь этим предложением, пока неудобно.
А вообще во всем вузе нет человека, который знал бы баскский. И учебников нет. И нет ни одного словаря. И ни одной книги. Не знаю, как буду изучать язык. Тенгиз и мама говорят, что при желании можно достичь всего, что угодно. Но так слишком часто взрослые говорят детям.
Я пошел на филологический факультет, чтобы продолжить дело отца. Я говорил себе так, и эта фраза не казалась мне напыщенной. Но я подумал, что не слишком лестно судил бы о человеке, который произнес бы такие слова вслух. Есть вещи, о которых можно думать. Говорить о них нельзя.
Все пять лет учебы я отдам тому, чтобы узнать басков. Я постараюсь проследить их историю, понять их характер, познакомиться с обычаями. Соберу все, что могу, о басках. Тенгиз убежден, что никакая работа не остается бесследной. Физическая дает мускулы. Мыслительная — новые извилины. Он заговорил об этом, отвечая на мой вопрос: «А не может ли случиться, что все легенды прошлого, связывающие басков и грузин, — прекрасная сказка, не более, и все мои так называемые поиски и исследования окажутся никому не нужными, ибо выяснится в один прекрасный день, что баски пришли в Пиренеи не с Кавказа, а из Африки или откуда-нибудь еще?»
— Все может быть, — рассудительно ответил Тенгиз. — Весьма вероятно, что тебе ничего не удастся открыть или доказать. Но ты приобщишься к научной работе, И мой совет — никому — до поры до времени не говори… О работе лучше говорить после того, как она закончена: пусть о ней судят другие. Я бы на твоем месте начал с самого простого: пришел бы в библиотеку и попросил подобрать книги, в которых упоминаются баски. И в энциклопедические словари заглянул бы…
— Сынок, — послышался из-за стены голос мамы, — говорят, в еркооп привезли мыло и завтра будут выдавать. Неплохо бы занять очередь.
Наш еркооп — единый рабочий кооператив — на Плехановском проспекте, в самом его начале. Значит, надо будет подняться часа на полтора раньше обычного. Я займу очередь, дождусь, пока начнут ставить на ладонях номерки, сбегаю за молоком, успею вернуться к пересчитке, после этого меня сменит мама, я сбегаю за второй порцией молока, а с Мито будет в это время приехавшая из деревни сестра Тенгиза Елена. С тех пор как ее сын Кукури получил на переэкзаменовке по русскому языку «пять» (строгий учитель спросил у него не тот рассказ на сотой странице, который Елена попросила выучить с ним наизусть, а совсем другой), Елена стала относиться к маме с необыкновенным уважением. Теперь Кукури учится на машиниста, и Елена вот уже третью неделю гостит у нас.
…Голос мамы, послышавшийся из-за стены, вернул нас с Пиренеев на Кавказ, в город Тифлис, в тридцатые годы двадцатого века.
Была дождливая октябрьская ночь, и мне вовсе не хотелось подниматься в шестом часу и занимать очередь. Я бы еще с удовольствием поспал. Но теперь я был старшим братом.
Я не знаю, сколько книг в университетской библиотеке — может быть, сто тысяч, а может быть, и триста тысяч, но знаю одно — нашей библиотекарше тетушке Маро, седой, тихой и доброй женщине, доподлинно известно, где находится каждая из этих книг и что в ней написано. Всю свою жизнь она проработала в библиотеках — сперва в дворянском собрании, потом в рабочей воскресной читальне, вела занятия в железнодорожных мастерских, была знакома с Калининым и Орджоникидзе, прятала у себя Алешу Джапаридзе, одного из двадцати шести бакинских комиссаров… Ее портрет висит на красной доске. Она приветлива и немногословна. Опекает первокурсников.
— О басках можно прочитать у Пискорского в «Истории Испании и Португалии». У Гумбольдта — название длинное, сейчас, минуту… «Исследование в связи с языком древнейшего населения Испании — басков». Издана в Берлине в 1821 году. С немецкого не переводилась… Может, пригодится?
— Если не очень трудный текст, постараюсь сам…
— Владеете немецким? — Тетя Маро заговорила по-немецки и сказала, что язык Гейне — самый прекрасный язык на земле, но я ответил, что недостаточно хорошо знаю его, чтобы иметь право судить об этом.
Я почувствовал, что у меня в библиотеке появился союзник, а это совсем неплохо для начала.
Еще тетя Маро предложила мне познакомиться с книгой Ранке «Человек» и принесла несколько дореволюционных словарей, успев сделать закладки на словах «Баски» и «Иберия».
Я имею обыкновение писать на первой странице новой тетради аккуратным неторопливым почерком. И вторая страница бывает сносной, более или менее. А с третьей или четвертой меня покидает аккуратность. Я не знаю, куда она испаряется, исчезает, улетает, выветривается, нет такой силы, которая заставила бы ее вернуться назад до той поры, пока я не начну новую тетрадь. Эта привычка со школы.
Едва я вывел почерком, которому мог бы позавидовать любой канцелярист: «Свидетельства о басках», вошла в читальный зал тетя Маро и сказала:
— Совсем я стара стала, память никуда не годится. Ведь о басках писал академик Марр Николай Яковлевич. Он путешествовал по Басконии, изучал язык и обычаи. Изъясняется академик мудреным языком, вам, наверное, не все понятно будет, но советую познакомиться.
Так все началось.
Не очень веря в какие-то обнадеживающие результаты и не очень представляя конечную цель, я взялся за басков. Признаюсь, я пересиливал себя, когда отправлялся в библиотеку вместо того, чтобы поиграть в баскетбол или в шахматы или пойти с мальчишками в кино. Я делал и то и другое, но все же каждый день отдавал баскам по два часа. Завел такое правило и старался не отступать от него. Иногда на меня дулась Циала. Она за последний год заметно выросла. Любила кино и считала своим долгом ходить на каждый новый фильм. Собирала киноленты, были у нее в коллекции одни только «головки» — лица артистов крупным планом, с ней охотно менялись разные молодые люди, и у меня создавалось впечатление, что при обмене ей делали скидку на обаяние, чем она с удовольствием пользовалась. Неожиданно начал увлекаться коллекционированием лент и Ачико Ломидзе. Его избрали в профком, и он стал еще более важным.
Меня Циала называла профессором кислых щей. Причем в записках все три слова начинала большими буквами.
В самом конце 1932 года я заглянул в свои баскские тетради и подумал, что теперь, отправляясь в библиотеку, я не делаю над собой усилий. Привычка? Возможно. Но главное не в этом. Работа, которая казалась мне поначалу немного пресной, неожиданно потянула за собой. Мне хотелось узнать о басках как можно больше; движимый честолюбивыми планами, я уже видел себя в роли автора монографии «Баски. Откуда они?», которая привлекла пытливый интерес выдающихся лингвистов мира.
Что я успел узнать о басках?
Узнал, что они считаются древнейшими обитателями Пиренейского полуострова. Значит ли это, что баски первыми пришли сюда или только то, что сюда пришли первыми их предки? Их предками некоторые считают иберов. Но о них особый разговор. Итак, в самой Испании около шестисот тысяч басков: четыре баскские провинции. Плюс сто восемьдесят тысяч на юго-западе Франции: три баскские провинции. Итого семьсот семьдесят — семьсот восемьдесят тысяч. Да еще тысяч двести тридцать — двести сорок переселилось в разные времена в Южную Америку — Аргентину, Перу, Чили, Колумбию. Да и в Северной Америке, в Мексике их немало. Итого на свете один миллион, или чуть меньше, или чуть больше басков. Что они сами знают о себе?
О чем говорят их легенды и их хроники?
Свою страну баски называют Эускади, а свой язык — эускара. «Ты слаще меда и ярче восковой свечи, эускара наш, эускара» — поется в старой песне. Древние письменные памятники на языке басков не сохранились, известно несколько фрагментов, относящихся к концу XIV и началу XV веков. Самая старая из дошедших до нас книг принадлежит перу священника Бернардо Дечепарре и написана в 1545 году. Называется книга серьезно «Начатки языка басков» и открывается церковными стихами. Но, судя по всему, приходский священник из Наварры был человеком жизнелюбивым и веселым и потому вместе с церковными стихами писал любовные стихи и помещал их тут же, рядом.
Были баски знаменитыми мореплавателями и первыми в мире начали промысел китов (не забыть этот последний довод, когда все другие доказательства родства басков и грузин окажутся исчерпанными). Флот их был не очень могучий, но быстрый. Они хорошо знали свой беспокойный Бискайский залив, его ветры, течения и рифы, во время войн он служил надежной защитой флоту — враги не осмеливались вводить сюда свои корабли.
«Мы воюем ровно столько веков, сколько существуем. Мы ни на кого никогда не нападали первыми», — пишет современный историк. Воевали баски с римлянами, вестготами, арабами, франками. Много раз имели возможность расширить свою территорию за счет соседних земель, но настоящей землей признавали только свои горы, и от приобретения чужих земель что-то отвращало их.
…Я остаюсь после лекций в библиотеке и начинаю заполнять свои карточки. На одной написал: «Язык», на другой: «История», на третьей: «Музыка и песни».
Есть у меня и еще совсем не заполненные карточки: «Свидетельства древних историков о басках», «Нравы», «Обычаи»… Пишу мелким аккуратным почерком, все, что было в тетрадях, перенес на карточки, так посоветовала тетя Маро и принесла целую стопку плотных библиотечных листков. «Только не говорите, что от меня, а то нагорит», — заговорщически шепчет она.
За соседним столом в библиотеке после лекций устраивается мой однокурсник Шалва Дзидзидзе. Он близорук, носит очки с чудовищно толстыми стеклами, неповоротлив и ехиден. Ехидство — его оружие и сила. У каждого должно быть свое оружие: у одного мускулы, у другого память, а у Шалвы ехидство. Он считает себя самым остроумным, начитанным и просвещенным человеком на всем втором курсе. Иногда его характеристики бывают меткими, и мы смеемся над ними. А иногда хочется плюнуть ему под ноги и уйти. Он единственный сын в семье художника Буду Дзидзидзе. Художник занят своими делами: месяц пишет картину, а одиннадцать месяцев уговаривает кого-нибудь купить ее. Когда мы познакомились с Шалвой достаточно близко, он сказал о совете, который дал отцу — лучше одиннадцать месяцев писать картину, тогда легче будет «спустить» ее за месяц. Но его отец человек нрава общительного и веселого и не может надолго приковать себя к одному делу. Шалва рано почувствовал свое превосходство над непоседой-отцом и постарался с годами перенести это превосходство на все человечество. Ему все дается легко, кроме немецкого произношения. Поэтому ко мне он относится терпимо.
После лекций Шалва остается в библиотеке, потому что у него договор с отцом: за каждый час самостоятельных занятий немецким языком — пятьдесят копеек. Учителю полагалось бы давать рубль. Шалва предложил режим экономии, он получает свои пятьдесят процентов, приходит в читальный зал, берет немецкий учебник, минут пять рассматривает грузинский или русский юмористический журнал и начинает выписывать понравившиеся ему остроты. Потом он их слегка переделает и будет выдавать за свои. Закончив занятие, он для очистки совести снова открывает учебник немецкого языка.
Однажды я вышел в коридор, а когда вернулся, увидел за моим столом Шалву, с интересом разглядывавшего карточки. Мне это не понравилось, я попросил Шалву отодвинуться, но он был не в меру любопытен, и избавиться от него было не так-то просто.
Он завалил меня вопросами, я отвечал односложно, а он сказал: «Пожалуйста, не фасонь, не думай, что мне это очень интересно, но прошу тебя, скажи, для чего тебе все это нужно?» Я постарался ответить двумя словами, но он попросил выйти в коридор и уговорил рассказать подробнее. Мне польстил этот повышенный интерес просвещенного гражданина Дзидзидзе к моей персоне и моей работе, разговор пошел таким образом, что он без особого труда выпытал у меня все, что желал, я сказал себе: «Ну подумаешь, что произошло, для чего я должен был изображать великую таинственность? Посмотрим, как завтра поведет себя Шалва, наверное, подшутит надо мной…»
Но Шалва был серьезен, Он относился ко мне с такой же преданностью, с какой Санчо Панса к Дон-Кихоту, Он дал мне слово, что ни за что никогда не расскажет никому, чем я занят. «Подумать только, если бы удалось найти целый миллион наших родственников! Когда у тебя три хороших родственника, ты счастливый человек, а тут целый миллион!»
Через несколько дней Шалва подошел ко мне и, преданно заглядывая в глаза, сказал:
— Послушай, Отар, ты знаешь, у меня куча свободного времени… я просто не знаю, куда его девать. Я хочу предложить тебе одно дело. Давай я начну тебе помогать. Я буду твоим помощником, и никем более — сегодня, завтра, через год… Я всегда всем буду говорить, если нам удастся что-нибудь открыть, что это все начал ты, а я тебе только помогал. Я чувствую, что способен на многое. Только у меня беда — я не знаю, чем заниматься… Давай попробуем, а?
— Ну знаешь, — преисполненный чувства собственного достоинства, ответил я, — все это не так просто, и об этом следует хорошо подумать. С чего ты решил, что мне удастся что-нибудь открыть? Кроме того, к каждому делу надо иметь призвание, оно с потолка не падает… Как это ты вдруг сразу загорелся? Кто быстро загорается… сам знаешь, быстро и остывает, я положусь на тебя, а в один прекрасный день ты скажешь: «Извини, дорогой, это не по мне оказалось, займусь-ка чем-нибудь другим». К тому же мы очень мало знаем друг друга.
— Клянусь тебе, у Шалвы твердое слово. — И он в волнении поправил очки, сползшие на нос.
Говорил Шалва убедительно, и мне показалось, что глаза его не врали, я подумал, что, может быть, и неплохо иметь верного помощника в важном деле.
— Ну что ж, давай попробуем, вдруг у нас что-нибудь получится.
Произнес я эту фразу обыденно, прозаично, но Шалва порывисто пожал мою руку и сказал:
— Ты никогда не пожалеешь, что положился на Шалву Дзидзидзе. Мы таких с тобой дел понаделаем! Никогда не пожалеешь, запомни!
Первые недели я присматривался к Шалве, каков он в деле, не ленив ли. Мне казалось, что он немного изменился, солидность, что ли, в нем появилась и степенность. Он приходил в библиотеку вместе со мной, вежливо кланялся тете Маро, набирал книги, которые мы заказывали накануне, и начинал как бы вынюхивать их, водя носом по строчкам и выясняя, есть ли в них что-нибудь достойное его внимания.
Мы условились, что Шалва постарается отыскать все, что писали о басках древние историки. Делал это мой новый товарищ с добросовестностью, которой я в нем не подозревал.
— Только не спрашивай меня, чем я занимаюсь, что выписываю, дай мне немного самостоятельности, прошу тебя, а вот через месяц я покажу тебе, что сделал, и тогда мы все вместе и обсудим.
Ровно через месяц аккуратный Шалва принес тетрадь, исписанную бисерным почерком. Но прежде чем показать ее, сказал торжественным тоном:
— Прежде всего я желал бы обратить ваше высокоценное внимание на свидетельство одного весьма достойного дипломатического работника.
— Что за чушь, какой еще там дипломатический работник?
Публику убедительно просят быть терпеливой. Так вот, вышеназванный дипломатический работник, а говоря иными словами, посол Помпея в Испании, Марк Варрон, живший в первом веке до нашей эры, пишет специально для вас:
«Пятнадцать веков назад иберийцы пришли с Кавказа на Пиренеи через Северную Испанию. Жили они вначале в Каталонии, Арагонии, а затем переселились в те провинции, которые занимают и поныне».
— Значит, все это произошло примерно три с половиной тысячи лет тому назад, — добавил Шалва. — Осталось совсем немного — доказать, что Варрон прав, это во-первых, и что баски — прямые потомки иберов, это во-вторых.
— Послушай, все это давно известно, давай без комментариев, а то я уже не знаю, где слова Варрона, а где твои… Что там у тебя еще?
— Кое-что есть, — не без самодовольства ответил Шалва и вытащил из портфеля сложенную вчетверо карту Европы, вырванную из какого-то старого красочного и дорогого атласа. Шалва шел на жертвы ради науки. — Посмотри внимательно на эти горы — Кавказские и Пиренейские. Видишь значки? И там и здесь есть руда. Может быть, не случайно иберов считают древнейшими металлургами?
Прочитав об иберах у Варрона, я решил узнать, когда и кто первым произнес это слово «иберы», — продолжал Шалва. — Тетушка Маро посоветовала посмотреть у Вахушти, в его «Географии Грузии».
Мне не понравилось, что он один бегает за консультациями, не советуясь со мной.
— Ну и что ты прочел у Вахушти?
— Не у самого царевича, а в примечании Джанашвили. Понимаешь, какая вещь, оказывается, впервые слово «Иверия», или «Иберия», встречается в воспоминании о походе на Кавказ… кого бы ты думал?
— Не испытывай терпения, говори.
— В воспоминаниях о походе на Кавказ того самого Помпея в 65 году до нашей эры, послом которого в Испании был Марк Варрон.
— Ты думаешь, что с тех пор и начали называть Грузию Иберией?
— Ну об этом надо будет спросить у ученых. Во всяком случае, я не думаю, что это Помпей дал ей имя. Скорее всего оно было издавна закреплено за страной. Но Помпей первым упомянул это название в письменном источнике…
— Или, говоря более точно, в источнике, который в наши дни считается наиболее древним… Ведь могли же быть и другие авторы, которые писали об Иберии Кавказской, возможно, просто не дошли до нас те рукописи.
— А что, если спросить у Павла Варфоломеевича Хабурзания, что он думает обо всем этом? По-моему, на него можно положиться.
— Хабурзания скажет: «Дорогие друзья, все это очень интересно и заманчиво. Но прежде чем сравнивать что-нибудь с чем-нибудь, надо овладеть методикой сравнения, надо знать теорию языка, надо знать сравнительное языкознание. Сперва вы должны подготовить себя к работе. Сразу начинать серьезную работу без тылов, без знаний, на одном энтузиазме… э-э-э, предосудительно».
На следующий день Хабурзания так примерно и сказал. Только добавил:
— Что касается ваших иберов и Иберий, то на этот счет есть одно довольно известное положение: «Весь Пиренейский полуостров насквозь пропитан древнейшими иберизмами». Если это вас заинтересует, возьмитесь за топонимику, за название рек, гор, древних сел. Только поверьте, одного энтузиазма для всего этого мало. Нужны серьезные и глубокие знания. А вообще, если когда-нибудь понадобится моя помощь, не стесняйтесь.
— Ну что я говорил тебе, гражданин Шалва? Иди грызи гранит науки, знай, что только после того, как прогрызешь этот самый гранит, испортишь зубы и они начнут у тебя выпадать, когда ты будешь не разговаривать, а шамкать, тебе дадут возможность высказать свое мнение. Потом против твоего мнения ополчатся другие такие же шамкающие старцы. В один прекрасный день ты схватишься за сердце и с небольшим опозданием скажешь себе: зачем я за все это взялся? Преподавал бы себе спокойно и прожил бы, возможно, лет до семидесяти… Давай, давай изучай, овладевай, грызи…
— Умерь свой пыл, — невозмутимо перебил Шалва, — Научись спокойно выслушивать советы. Ты не уловил одного — Хабурзания говорил благожелательно. По-моему, он вовсе не отговаривает нас бросать работу. Он просто хочет, чтобы мы не спешили сразу все доказать. Так не бывает, и я с ним согласен.
В спорах со мной Шалва начинал постепенно брать верх. У него было одно золотое качество, которое я смог оценить в полной мере гораздо позже. Он не горячился в столкновении, уважал (или делал вид, что уважал) мнение оппонента, в самые трудные минуты его не покидала рассудительность. Когда он нервничал, лишь слегка покашливал да поправлял без надобности очки, дотрагиваясь указательным пальцем до дужки над переносицей.
— Так, ну а что нового у моего коллеги? — спрашивал Шалва, заглядывая по привычке в мой блокнот. Его любопытство не имело границ.
— Я решил узнать, какого мнения были о басках люди, которым приходилось с ними сталкиваться.
— Ну и к какому заключению ты пришел?
— Я подумал, что иметь таких родственников вовсе не грех.
— Не бери на себя слишком много, говори о деле. Что у тебя там? — нетерпеливо спросил Шалва.
— Видишь ли, жил в самом конце пятнадцатого века армянский епископ Мартирос Ерзынский, который совершал путешествие по Европе, в разных странах побывал и писал в своих тетрадях, где что увидел и где как его встречали. И вот попал к баскам. И чуть не стихами начал писать. Его приютили, накормили, приодели и долго не хотели отпускать. Узнал епископ, что так издавна встречают в стране басков чужеземцев, и написал: «Прекраснее людей, чем баски, встречать мне не доводилось». Специально для тебя сноска, тетрадь вторая, страница восьмая. Запиши в блокнот «Источники».
Так, теперь что писал о басках Сервантес. Хочу верить, что тебе знакомо это имя.
В новелле «Сеньора Корнелия» есть любопытное место. Экономка говорит одной знатной и красивой сеньоре: «Мне не приходилось жаловаться на своих сеньоров, ибо они у меня, если только не вспылят (обрати внимание, — сказал я Шалве, — „если только не вспылят!“), сущие ангелы, и в этом смысле они настоящие баски, каковыми они, судя по их словам, действительно и являются. Ну а в отношении тебя, сеньора, они могут оказаться настоящими галисийцами: это люди совсем другого разбора и, по общему отзыву, ни щепетильностью, ни особыми доблестями, свойственными баскам, не отличаются».
— Теперь посмотрим на. примечание к этой странице. Издание академическое, ему можно доверять: «Баски, жители пиренейских областей Испании в эпоху Сервантеса, пользовались славой безукоризненно честных и благородных людей: галисийцы, обитатели провинции Галисии, пограничной с Португалией, имели репутацию продажных и жадных».
Я заговорил на эту тему с тетушкой Mapo, она подумала и сказала, что, если ей не изменяет память, французским баском был и Д’Артаньян из «Трех мушкетеров». Я возразил, заметив, что он из Гасконии.
— А что такое Гасконь? — спросила тетушка Маро. Нырнула в свои лабиринты и вернулась с картой Франции, попросила найти Гасконь, потом нырнула еще раз, вернулась с книгой Думезиля. Гасконь оказалась департаментом на юго-западе Франции, примыкающим к Пиренеям. «Название происходит от слова „Баскония“», искажено в далекие времена германскими племенами: «Баскония — Гваскония — Гаскония».
Перелистав толстенную книгу, библиотекарша сказала:
— Вот смотрите, что пишет один историк и путешественник: «В жилах каждого гасконца течет кровь басков».
Шалва что-то пометил в тетради карандашом и рассеянно спросил:
— Ну что там у тебя дальше? Все?
Ко всему, о чем я рассказывал, он относился со снисходительной вежливостью, как бы говоря: «Все это интересно, несомненно интересно, но, конечно же, не так интересно, как то, о чем рассказываю я».
Эта его манера, пока я к ней не привык, иногда ставила меня в тупик и заставляла пересиливать себя в беседах с высокопросвещенным коллегой. Коллега был на два месяца старше меня и на этом основании требовал к себе особого почтения. Я не помню случая, чтобы он позволил мне первому войти в дверь или первому купить билеты в трамвае. Он разрешал мне только покупать билеты в кино, куда мы все чаще начинали ходить втроем. В присутствии Циалы он становился похожим на Ачико — как сказала Циала, — «хотел создать впечатление» — ходил с гордо закинутой головой и многозначительно щурил глаза.
— Кое-что об игре в мяч, — менторским тоном начал Шалва. — Есть несколько высказываний относительно того, как баски любят играть в мяч. В игру, называемую «пелота». Высказывание первое. Оно принадлежит гражданину, хорошо известному любому пятикласснику, а именно, гражданину Лисаррабенгоа…
Шалва мстил мне за реплику о Сервантесе. Я остановил его и признался, что первый раз слышу это имя. Шалва недоуменно посмотрел на меня и поучительно изрек:
— Надо больше читать художественную литературу, Ома развивает и помогает не чувствовать себя лишним, когда находишься в интеллигентном обществе…
Я начал слегка жалеть, что взял в компаньоны этого фразера… Хотя, если говорить честно, работа с ним идет веселее.
— Послушай, тебе не подходит произносить больше пяти слов подряд. Если ты это осознаешь, станешь вполне приемлемым индивидуумом.
Шалва пропустил реплику мимо ушей:
— Так, значит, Хосе Лисаррабенгоа, был такой баск Хосе в книге Проспера Мериме «Кармен», очень достойное произведение, рекомендую прочитать, говорит: «Я слишком любил играть в мяч, и это меня погубило. Когда мы, наваррцы, играем в мяч, мы забываем все».
— Не могут ли то же самое сказать о себе итальянцы, аргентинцы, венгры, шведы? Такая уж это вещь — мяч. На рисунке одного венгерского карикатуриста даже полководец на постаменте не удержался и стукнул по пролетавшему мимо мячу, которым играли мальчишки на бульваре…
— У басков особая игра в мяч. Несколько лет назад у басков побывал Карел Чапек. Он пишет о пелоте:
«Ловить такой мяч — все равно что ловить ложкой пули, выпущенные из ружья, а эти пелотарис ловят каждый мяч, где бы и как бы он ни летел, с такой завидной меткостью, с какой касатка ловит мух. Вытянут руку — и готово дело. Взметнутся в воздух — и готово дело. Загребут позади себя корытцем — и готово дело. Играть в теннис по сравнению с пелотой — все равно что хлестать мух полотенцем. При этом все эти прыжки, ухватки и развороты делаются без малейшей рисовки, без всякого напряжения… Только и слышно „бум“. Мяч хлопается об стенку — вот и все; даже не чувствуется, какая атлетическая сила нужна, чтобы его бросить. Вот какая это фантастическая игра!
И играют в нее только баски и наваррцы с гор… те самые баски, которые…»
— Мигде кури, слушай внимательно, — посоветовал Шалва, — дальше будет самое интересное:
«Те самые баски, которые, как уверял в разговоре со мной профессор Мейе, были праобитателями всего Средиземноморья, родственники некоторых племен высокогорного Кавказа. Язык их так сложен, что еще не изучен до сих пор… Быть может, это выходцы с исчезнувшей Атлантиды? Грешно было бы допустить, чтобы когда-нибудь исчезла и эта доблестная горстка оставшихся».
— Теперь посмотрим, кто такой профессор Мейе, на которого ссылается писатель, можно ли ему верить? Вот справка: Мейе Антуан — видный французский языковед, профессор сравнительного языкознания в Коллеж-де-Франс. Запиши это имя, может пригодиться.
Когда мы перешли на третий курс, у нас была уже довольно внушительная картотека. Баски крепко брали в плен — чем больше узнавали их, тем больше хотелось узнать.
Новый мир открывался в трудах академика Николая Яковлевича Марра. Он знал кавказские языки, много лет изучал баскский и был убежден в том, что кавказские баски (так академик называл грузин) и пиренейские баски «некогда находились в непосредственном общении, составляя часть одного и того же яфетического народа… словом, были расположены на одной и той же территории…».
Где эта территория, где ее искать?
«Вопрос об этой общей стоянке — проблема, а наше утверждение есть готовое научное положение».
Академик восхищался языком басков «с его изумительными формами вежливости» и называл басков «скрещенным культурным народом своей эпохи».
Какой эпохи? Неолита? Медного века? Бронзового? А может быть, железного, во что, собственно, трудно верить? До каких пор баски пиренейские и кавказские были расположены на одной территории?
«Добыча и разработка металлов в начальной стадии развития прошла еще при тесном общении басков с яфетидами Кавказа».
Эта мысль академика возвращала к синей папке и к легенде, услышанной Георгием Девдариани от одного монаха много лет назад.
О, как привлекательно было бы найти следы этой «общей стоянки», скажем, в С арки нети. Это большой район в Западной Грузии — в ущелье рек Джеджори и Кведрула. Саркинети — значит «место железа». Это уже не легенда, это исторический факт — объединенные в товарищества «железные люди», а иными словами, кузнецы, задолго до нашей эры добывали в горах железную руду и вырабатывали железные изделия; знали эти изделия и на Востоке, и на Западе — путешественники из дальних земель с уважением писали об искусстве здешних мастеров. Они добавляли к руде различные примеси, в том числе и паша — марганец, и подвергали сырье сложной и длительной обработке, которую держали в секрете; их металл был тверд и прочен.
Сюда бы, на поиски, экспедицию Геронти Теймуразовича Инаури. Вот бы где покопать! Геронти Теймуразович говорит, что дойдет черед и до Саркинети. Пока же он приковал себя к Вани. Стремится доказать, что греческий географ Страбон ничуть не преувеличивал, когда писал, что в стране колхов и сванов «потоки несут с собой золото… собирают его при помощи просверленных корыт и косматых шкур. Говорят, что отсюда сложился миф о золотом руне».
За первые полгода раскопок экспедиции профессора Инаури удалось разыскать такие изделия из золота, которые украсили главный зал государственного музея. Этим изделиям куда больше двух тысячелетий. А что там еще, в Вани?
На лето Циала приглашала к отцу, но мы всем факультетом поехали в Бакуриани строить лыжную базу. Зимой получили приглашение на ее открытие. Шалва, боящийся любой физической работы, придумал какую-то причину и остался в Тифлисе. Мы поехали с Циалой. Теперь она студентка второго курса медицинского института, и у нее новое увлечение — фотоаппарат. В Бакуриани она сделала довольно неплохой фотомонтаж «Памятка начинающему спортсмену — как не надо ходить на лыжах». Героем этого фотопроизведения был я. Через неделю Циала уехала к отцу, я собирался возвращаться в Тифлис, но однажды к нашему общежитию подкатил здешний почтальон на санях и протянул телеграмму. Меня срочно вызывали в Мелискари к Варламу. Там было событие — Варлама разыскал старый окопный друг Трофим, которого он защитил от Винта. Я не имел права не ехать. Не раздумывая долго, сел в «кукушку», бесстрашно петлявшую по немыслимым заснеженным кручам, через несколько часов был в Боржоми и в конце дня добрался до родных краев.
Теперь в Мелискари быков нет. Их упразднили в связи с открытием километровой автомобильной дороги, начинающейся у самой Чхеримелы. Мне с непривычки показалось, что самый искушенный автоинспектор лишился бы дара речи, если бы хоть раз попытался подняться по этой корявой, размытой дождями, не огороженной предохранительными столбиками дороге. По ней еще кое-как можно ездить, когда нет дождя. А когда льет… Быков упразднили как пережиток феодального прошлого. Куда торопились?
Варлам дружески встретил меня, познакомил с Трофимом Борейко и его степенными неразговорчивыми сыновьями — агрономом и техником. Приехали они из-под Иркутска, на Кавказе оказались впервые и медленно-медленно приходили в себя. Трофим был бригадиром в МТС, орденоносцем. Каждый считал своим долгом внимательно рассмотреть орден Трудового Красного Знамени на лацкане его пиджака и подробно расспросить, за что и когда получен он. Гость отвечал обстоятельно и терпеливо.
Вдоль столов, выстроившихся в комнатах и на балконе, тянулись неширокие доски, уложенные на табуретки. Стульев на таких праздниках не признают — на них помещается меньше гостей. На балконе стоял большой стол, сколоченный моим прадедом и купленный Варламом у Петрэ при распродаже. Это фундаментальное сооружение подпирало своими могучими боками два хилых, не очень уверенно державшихся на ногах стола местпромовского производства.
Сибиряки пили неторопливо, деловито, не пропуская тостов и косясь на штофы с водкой, до которых никто не дотрагивался. Тамадой был Спиридон. Когда он произносил какой-нибудь особенный тост, шел по кругу канци — чудовищных размеров турий рог.
Пили за Трофима, его семью, его детей и внуков, за его Сибирь, по чаще всего пили за дружбу, которая возвышает человека, делает его счастливее. Спиридон провозглашал тосты по-русски, Трофим смотрел на него соболезнующе: «Что ты, милый человек, так много говоришь и так медленно пьешь?»
Кто-то затянул «Мравалжамиер», старинную застольную песню:
Я слушал песню, слушал тосты и вспоминал надпись, высеченную на стене древней грузинской академии в Гелати: «Блажен народ, умеющий пить, возвеличивать и славить».
Потом пошли тосты за гостей, приехавших из более близких краев. Я постарался прикинуть, когда дойдет очередь до меня, — успею ли немного поспать (была уже глубокая ночь). Оглянулся. Увидел двух агрономов, инженера-мелиоратора, учителей — старых товарищей мамы по школе, и врачей — старых товарищей Тенгиза. Был здесь весь цвет колхоза «За образцовый труд», который действительно постепенно-постепенно становился образцовым; был здесь и жуткий индивидуалист Иоба, недавно выдавший замуж свою перезрелую дочь и начавший снова понимать, как прекрасна жизнь.
Раньше считалось событием, когда кто-то из Мелискари выезжал в Тифлис. Отъезду предшествовала солидная подготовка, в которой не самое последнее место занимали тосты за благополучную дорогу. К концу подготовки сердце путника наполнялось отвагой, и ему были не страшны крутые спуски и Чхеримела, которую надо было перейти на быках, чтобы попасть на тракт, Я начал считать, где побывали потомки тех лихих путешественников. И в Москве, и в Харькове, и в Днепропетровске, учились в техникумах, на заводах, в колхозах.
Я понял, что если и дойдет до меня очередь, то никак не раньше девяти часов утра, и незаметно удалился поспать. Пришла жена Варлама Нана и тихо расспрашивала про наших, жаловалась на свои хвори, на усталость, а в глазах была написана радость и гордость за Варлама — вот какой у нее муж, вот какое доброе дело сделал в войну.
На рассвете Валико разбудил меня. Наскоро ополоснув лицо под краном, я появился в обществе; все сидели на своих местах, а Спиридон провозглашал новый тост.
На дворе был трескучий мороз. Температура в Мелискари колеблется с такой же страшной силой, как на Марсе: днем было пятнадцать градусов выше нуля, а сейчас пятнадцать градусов ниже нуля. Сибиряки держались, но чувствовалось, что их силы на исходе.
Днем, когда немного пригрело солнышко, начались танцы. Степенно входили в круг старцы. Долго крепилась Нана, не выдержала, вошла в круг, музыканты — флейтист, зурнач и барабанщик — вспомнили молодость, выпрямились, словно стряхнули годы, и заиграли…
Через два дня Варлам укатил со своими сибиряками в Иркутск. Отказывался, клялся, что не дойдет и до вокзала, вспоминал существующие и несуществующие болезни, но укатил. Вернулся он через три недели помолодевшим и привез подарок — ижевскую двустволку. Ружье повесили на видном месте, и Варлам охотно рассказывал о том, как приветили его в далекой Сибири, какими угощали пельменями— прямо с мороза — и как эти пельмени не идут к натуральному грузинскому вину.
Еще Варлам привез два номера газеты с фотографией, на которой был запечатлен в обнимку с Трофимом. Под фотографией шла заметка, которая называлась: «Дружба не имеет границ». Вскоре ее перепечатали в харагоульской газете.
В нашей семье растет молодой человек по имени Мито, имеющий одну отличительную особенность: ради любого нового впечатления он готов свернуть себе шею. Научился разговаривать довольно рано и теперь портит нам жизнь своими «почему». Больше всего на свете любит лимонад. Ради стакана лимонада способен изменить самой верной дружбе.
С нами живет тетя Елена, без нее мы бы не сладили с Мито. Мама стала завучем, а Тенгиз занялся диссертацией. Мне нравится его тема. Единственное, что нам пока не удается, — это сформулировать ее. Связана работа с энергетическими ресурсами человека, которые до поры до времени таятся где-то в тайниках и выходят из них в минуту высочайшего напряжения. Тенгиз собрал довольно много примеров на этот счет. Он убежден, что босоногий воин-коротышка из африканского племени убегает от разъяренного льва со скоростью, которая не снилась мировым рекордсменам. Все эти запасы хранятся в нас за семью замками, ибо рассчитаны на наших далеких потомков, которым предстоит осваивать иные миры. Говоря проще, природа побеспокоилась о том, чтобы и на долю наших внуков остались кое-какие открытия, чтобы человечество не остановилось в один прекрасный, нет, совсем не прекрасный день. Тенгиз считает, что психология должна помочь человеку наших дней черпать из запасов, рассчитанных на далекое будущее. Все зависит от умения узнать человека, определить, где и в чем он сможет полнее всего проявить себя.
Интересно было бы знать: а где мои резервы?
Я провел шесть месяцев на военных сборах, гоняли нас нещадно, спали мы во время учений самую малость, но чувствовал я себя превосходно. Может быть, потому, что был хороший командир? Звали этого командира товарищ Перерва. Мой старый тренер носил два кубика и учил бритоголовую студенческую братию, как бегать, колоть, стрелять… Под началом такого человека я готов был бы служить всю жизнь. Шалву по причине его близорукости на сборы не отправили. Он уехал с отцом в кахетинскую деревню. Отец взялся за роспись колхозного Дворца культуры. Шалва размешивал ему краски.
Когда я вернулся со сборов, узнал, что у нас во дворе появился новый жилец — бывший матрос Черноморского флота Федор Завьялов. В поисках более подходящей работы он нанялся на небольшую станцию проката велосипедов. Машины были в его полном распоряжении, и мы нередко устраивали с ним по выходным дням прогулки. Федя был мастером на все руки, но слишком обременять себя не любил. Говорил, что теплый климат его размягчает. Мито привязался к Федору. Одинокий Федор отвечал ему дружбой на дружбу.
На четвертом курсе Шалву избрали в комитет комсомола филологического факультета. Когда кто-то предложил его кандидатуру, все немного удивились, а потом вспомнили, должно быть, что учится он хорошо, ровен с товарищами, не жаден и не привередлив.
Шалва покраснел от неожиданности, несколько раз порывался взять слово и отвести свою кандидатуру, но председатель (это был находчивый и громкоголосый сван — аспирант, про которого говорили, что он может кого угодно в чем угодно убедить) сказал, что комсомолу нужны не только умеющие хорошо говорить, но и умеющие хорошо молчать, а так как в новом составе комитета таких не слишком много, кандидатура Шалвы Дзидзидзе представляется ему достойной.
…В конце семестра общее студенческое собрание выбирало кандидата на Пушкинскую стипендию.
После жарких споров и долгих обсуждений осталась единственная кандидатура моего старого знакомого Ачико Ломидзе, члена студенческого профкома, ставшего с годами бойким и деловитым активистом. Учился он не слишком хорошо, но имел один неоценимый дар, который в ту пору весьма почитался: неведомо каким путем Ачико удавалось выбить лишнюю путевку в студенческий дом отдыха в Цагвери, или талон на пальто, или еще что-нибудь такое же заманчивое.
Делал он все это бескорыстно, движимый любовью к близким, и мы решили, немного покривив душой, предоставить стипендию не какому-нибудь сверхотличнику и осоавиахимовскому активисту, а нашему Ачико. Теперь оставалось только утвердить его кандидатуру на студенческом собрании.
Во время большой перемены в коридоре накрыли красным ситцем длинный стол. Кто-то успел написать плакат: «Выберем в пушкинские стипендиаты наиболее достойных представителей студенческой массы».
За столом заняли места руководители гуманитарных факультетов; Шалва, которому поручили назвать фамилию Ломидзе и охарактеризовать его, начал торжественным тоном;
— Товарищи, все вы знаете, что благодаря заботам о подрастающем научном поколении у нас в стране созданы все условия для овладения данным поколением основами современной науки…
Он говорил долго и скучно, он не умел выступать перед аудиторией, считал, что обычные слова и обычные фразы не годятся для объяснений с публикой, он на ходу придумывал немыслимые фразы, из которых иногда не знал, как выбраться.
Он никак не мог дойти до сути дела, наконец кто-то крикнул:
— Перемена кончается, называй наконец Ломидзе, не томи душу.
Шалва растерялся. В то время, пока он делал тяжкую попытку перейти к Ломидзе, меня кто-то потянул сзади за рукав. Это была Люся, дочь железнодорожника-сцепщика, девушка блеклая, ходившая все три курса в пальтишке с чужого плеча.
Она сказала, ужасно волнуясь, что неделю назад Ломидзе получил в университетском профкоме талон на женское пальто. И тайно передал его помощнику ректора Паписмеди.
— Это пальто полагалось студентам, А жена помощника сама пошла и купила его. Мне продавщица в кооперативе сказала. Тогда я узнала, что за последний месяц Ачико получил два талона на костюм и два талона на ботинки, но скрыл это. Куда делись вещи? Как можно выбирать такого человека?
— Слушай, так возьми скажи об этом.
— Да у меня сердце разорвется. Не смогу. Но сейчас начнут голосовать.
— Ты точно знаешь, не могли напутать?
— Клянусь тебе, клянусь мамой и папой тоже, — по старому тифлисскому обычаю начала клясться близкими Люся.
Я сказал себе, что не имею права вмешиваться в такое дело. А вдруг что-нибудь не так. Как я могу судить человека и подвергать сомнению честность и неподкупность старого служаки — помощника ректора?
Так говорил я себе, но знал, что с секунды на секунду незнакомая чужая сила заставит меня сделать то, о чем я скорее всего буду жалеть, но я не смогу не сделать этого… Я обернулся к Люсе и услышал, как она что-то нашептывает на ухо тетушке Маро, и та осуждающе качает головой.
В это время вслед за Шалвой бросились на трибуну заранее подготовленные ораторы, спешившие поведать миру о переполнявших их чувствах к энергичному общественному деятелю товарищу Ломидзе.
Когда они кончили говорить, председатель спросил для порядка:
— Нет ли еще желающих?
Я сказал:
— Дайте мне, пожалуйста, слово.
Аудитория загалдела:
— Не надо, и так все ясно, давайте голосовать.
— В том-то и дело, что не все так ясно, — сказал я, выйдя на сцену и безуспешно пытаясь подавить волнение, сдавливавшее горло.
Шалва недоуменно посмотрел на меня: что это мне приспичило вдруг?
— Не шумите, дайте сказать человеку! — крикнул он.
— Где человек, это человек? — громко спросил какой-то остряк.
— Пусть наконец успокоит наши головы, чего галдите?
— Пожалуйста, — обратился ко мне председатель, — говорите.
— Мне сейчас, сию минуту сказали одну неприятную вещь. Сказали такую неприятную вещь, что я не верю в нее. И если это недоразумение, заранее прошу меня извинить. Но я буду голосовать за Ломидзе только в том случае, если он скажет, кому отдал талон на пальто, которое предназначалось студентке.
Я посмотрел на Паписмеди, сидевшего в зале. Стало жаль его, но только на минуту. Потому что уже в следующую минуту у меня исчезли последние сомнения в его безгрешности.
Он вскочил с юношеской прытью и принялся доказывать, что все это чудовищная ошибка и поклеп на товарища, заслуги которого на общественной ниве известны всему вузу.
И тут заговорил Шалва:
— Я не хочу верить ни одному слову своего товарища Отара Девдариани, Все, что он сказал, серьезно и ответственно. Товарищ Девдариани хочет сказать, что комитет комсомола и деканат выдвигают на Пушкинскую стипендию не слишком достойного человека. Но это надо доказать. Поэтому я хочу спросить у комсомольца Девдариани: знает ли он, кому передан талон на пальто?
Мне не хотелось называть имя Паписмеди. По-прежнему было жаль его. Я на минуту задумался. И вдруг с места раздался голос Люси:
— Продавщицы магазина сказали, что пальто получила жена товарища Паписмеди. — Люся расплакалась, кто-то попробовал успокоить ее, а кто-то поспешил отодвинуться подальше.
— Новое дело, — негромко сказал председатель. Потом, совладав с собой, предложил: — Сейчас осталось мало времени для выяснения весьма щепетильных обстоятельств. Поэтому я предлагаю перенести собрание, скажем, на два или на три дня. К этому времени мы все выясним и сможем доложить вам.
— Не надо переносить собрания. Пусть товарищ Паписмеди скажет — было это или нет. Если скажет, что это неправда, все будет ясно, — предложил кто-то.
Паписмеди смотрел себе под ноги и не мог оторвать глаз от пола.
Поднялся Шалва:
— Товарищи, я прошу забыть все те слова, которые я произнес по адресу Ачико Ломидзе. Лично я предлагаю не выдвигать его на стипендию. Я думаю, что мы сможем найти более подходящего человека.
Я обернулся и увидел, как торопливо покидал собрание Ачико.
…Вспоминаю тост, который слышал от Варлама. Он говорил про Тенгиза вскоре после того, как врачу удалось примирить двух давних врагов:
— Ты, дорогой Тенгиз, непохож на других и готовься к тому, что у тебя будет нелегкая жизнь. Я знаю, у тебя будут верные друзья. И пожелаем им — пусть они так живут, как мы хотим. Выпьем, Но раз у тебя будут верные друзья, то почти наверняка у тебя будут и враги. Как у каждого достойного человека. Так вот, пусть эти враги тоже так живут, как мы хотим. Выпьем.
Я знаю, что у меня тоже будут враги. Потому что я временами плохо владею собой и не всегда говорю то, что надо. Но мне не страшны эти враги, пока есть у меня такой друг, как Шалва Дзидзидзе.
Совершенно напрасно с таким шутливым высокомерием относится к нему Циала. Шалва достойный человек.
Шалва убежден, что никогда не женится. Стесняется своей фигуры, своей неповоротливости, своей близорукости. Я все чаще думаю о том, что природа, лишив человека каких-то качеств, слуха например, старается компенсировать свой промах. Если это действительно так, то Шалва получил взамен два весьма важных качества: память и характер.
Память у него чертовская. Он помнит легкие шахматные партии, которые мы играли неделю назад. Он колотит меня безжалостно, но в турнирах играть не любит — считает это нерациональной тратой нервной энергии и времени. Я с ним не соглашаюсь и охотно играю в турнирах. Он ходит за меня «болеть» и помогает анализировать отложенные партии. Время от времени повторяет при этом: «Вот куда стал, но это не значит, что водку достал». Эндшпиль называет рашпилем, короля — стариком, а пешки — дровами. Играет вслепую — мне это искусство упорно не дается: я могу запомнить первые семь-восемь ходов, а потом все начинает путаться. Шалва никак не может понять, как это не запомнить хотя бы двадцать — двадцать пять ходов. Иногда он играет с Циалой, ему приятно, что его слушает такая стройная и симпатичная девушка; но, зная, как минимальны его шансы, он не пробует теперь казаться умнее и лучше, чем есть на самом деле. Однажды Циала сказала, что это придает ему определенную прелесть.
Вскоре после истории с Ачико меня избрали редактором факультетской стенной газеты. Я согласился, не зная, сколько времени будет отнимать эта нагрузка. Две первых недели занимался тем, что уговаривал других о чем-нибудь писать. Мне обещали. С некоторой долей наивности я ждал, когда принесут заметки и рисунки. Но никто не спешил приносить. Несколько раз я напоминал. Потом надоело. Подумал, подумал и написал сам: передовую статью «О достоинстве»; критическую корреспонденцию «Кому нужна такая стенгазета?» и подписал ее «Зоркий глаз»; письмо в редакцию — о том, как студенты, пришедшие на субботник в паровозное депо, потеряли полдня в ожидании инструментов; письмо из редакции — «Когда наладится работа буфета?»; заметку «Наша тетя Мотя» — в связи с шестидесятилетием гардеробщицы тети Моти, фамилию которой никто не знал.
Мне помог Шалва: специально для стенгазеты он придумал шахматный этюд и нарисовал две карикатуры.
В общеинститутском смотре газета взяла второе место, меня начали ставить в пример и однажды избрали в президиум собрания. Шалва говорил, что еще немного, и я дорасту до его общественного положения.
Может быть, это и случилось бы, если бы не одно чрезвычайное событие…
Играл в нашей студенческой баскетбольной команде Жора Воронько, долгорукий вихрастый оптимист. Цены ему как спортсмену не было. Как бы плохо ни складывались дела у команды, он не вешал носа. Его любили за ровный и дружелюбный характер и старались, как могли, помочь ему.
Был Жора из Грозного, жил трудно — на стипендию. Учился он на третьем курсе параллельного четырехгодичного литературного отделения. Языки ему не давались. В его группе немецкий вела Тереза Карловна, преподавательница лет семидесяти, подтянутая, чопорная. Она плохо видела, но отметки ставила строго. Жора боялся провала, он высказал опасения капитану Серго Патарая. Капитан спросил меня, не мог бы я помочь. До экзамена оставалось слишком мало времени, капитан это знал и не просил, чтобы я позанимался с Жорой. Он попросил просто-напросто пойти и сдать за него экзамен.
— Дело серьезное, подумай как следует, если поймают, накажут строго. Тем более после твоего выступления тогда, на собрании.
— Честно признаться, я не горю желанием… Мне не очень хотелось бы это делать. Что, нет другого выхода?
— Другого нет.
— Надо подумать.
Через день капитан подошел ко мне.
— Ладно, попробую, — сказал я. — Но с условием. Ты и еще несколько человек будете стоять в коридоре у дверей, и, если покажется кто-нибудь, сделаете мне знак, я объясню, что зашел в эту аудиторию случайно.
— Договорились. Завтра в десять. Не опоздай. И не отвечай слишком хорошо, а то не поверит.
Я пришел ровно в десять, но мы решили дождаться, пока не сдадут экзамен все остальные; оставили на конец самых преданных товарищей и в третьем часу вошли в аудиторию. Места в карауле заняли долговязый Серго Патарая, который только по недоразумению носил эту грузино-баскскую фамилию, обозначающую в обоих языках нечто маленькое; Жора и его подруга Вера, дрожавшая мелкой дрожью.
Я подсел к Терезе Карловне третьим. Она слегка оттянула пальцем кончик правого глаза, чтобы лучше меня разглядеть. Бедная старушка силилась припомнить, когда и где видела меня. Это предприятие не увенчалось успехом, и тогда она спросила, бывал ли я на ее лекциях.
— Конечно, бывал, — с готовностью ответил я. — Вот только последнее время немного болел.
— Ну попробуйте перевести мне этот рассказ. — И Тереза Карловна показала пальцем на крохотную подпись под картинкой. — Можете подготовиться…
Студентам третьего курса литературного факультета в ту пору предлагался следующий текст для перевода с немецкого на русский:
«Пионер по имени Петя Иванов шел домой по полотну железной дороги и увидел, что не в порядке рельс. Он быстро сообразил, как поступить. Он сиял с себя красный галстук и бросился бежать вперед. Когда показался поезд, Петя дал сигнал машинисту, и тот остановил пассажирский поезд в нескольких метрах от лопнувшего рельса. Пассажиры горячо благодарили находчивого Петю Иванова. А Петя говорил: „Я пионер и только выполнил свой долг“.
Я помнил этот рассказ еще с третьего класса. Мама читала его вслух, и я мечтал быть таким же большим и храбрым пионером, как Петя Иванов, и так же предотвратить крушение. Только я не понимал, почему он шел по полотну железной дороги — ведь это запрещается делать, — а еще не понимал: почему он побежал вперед, разве он знал, откуда появится поезд?
Теперь мне предстояло сдать этот текст за моего товарища Воронько.
Я постарался изобразить глубокое раздумье, вытащил карандаш и бумагу и, когда в аудитории осталось два человека, поднял руку.
Тереза Карловна пригласила меня, и я, не очень уверенно читая немецкий текст, начал переводить его. Тереза Карловна слушала с удовольствием, изредка кивая головой, чтобы поощрить меня на новые подвиги. Я благополучно подбирался к тому моменту, когда бесстрашный Петя Иванов бросился с галстуком вперед, как вдруг дверь отворилась, я увидел испуганное лицо Жоры, который торопливо прошептал „зекс!“, единственное, кажется, немецкое слово, которое мог произносить правильно, и тотчас скрылся.
„Зекс“ означал высший вид опасности. Но что я мог поделать? Не бежать же мне. Приложив правую руку козырьком к глазам, я постарался спрятать лицо от кого-то, чьи шаги уже слышались в коридоре. Надо было как можно быстрее расправиться с текстом. Еще немного, и я мог бы повторить слова Пети Иванова: „Я пионер и только выполнил свой долг“. Но Тереза Карловна не торопилась отпускать меня. Ей было приятно встретиться со студентом, который заставлял думать, что не напрасны ее труды на ниве приобщения студентов к прелестям ее родного языка.
Отворилась дверь, и вошли Джотто Паписмеди и заместитель нашего декана. Паписмеди стал быстро перебирать в уме варианты, как лучше отомстить мне за выступление на собрании; ему хотелось извлечь максимум удовольствия.
— Ну и как наш товарищ… э… эээ? — спросил он у Терезы Карловны.
— Товарищ Воронько? О, за последнее время он сделал приятные успехи. Хотя при его способностях он мог бы добиться гораздо большего, — сказала Тереза Карловна, будто отлично знала меня.
— Да, я согласен с вами, он мог бы добиться гораздо большего, — со значением повторил Паписмеди.
„Сто тысяч чертей на твою голову с прилизанным пробором, — подумал я. — Нашел время, когда явиться. Как теперь быть?“
Снова открылась дверь. Зашел Шалва. Он был, видимо, вызван экстренным способом с лекции. Шалва извинился перед преподавательницей, наклонился к уху Джотто Михайловича и что-то прошептал ему. Тот кивнул головой и вышел.
Тереза Карловна поставила в зачетную книжку четверку.
В коридоре Шалва и Серго уговаривали Джотто Михайловича проявить милосердие. Они говорили о том, как важно быть в хорошей спортивной форме Жоре Воронько, ведь предстоит вузовский турнир. Они врали с три короба, будто я давно занимаюсь с Жорой языком и помогаю ему и что пошел на экзамен по своей глупости.
Жора и его подруга Вера стояли у окна, и Вера спрашивала:
— Что же будет, что же теперь будет с тобой?
Что будет со мной, ей было безразлично. Благодарность человеческая!
Паписмеди слушал внимательно, а потом отчеканил:
— И уговаривать не стоит. За такие вещи исключают. Думаю, что для товарища Девдариани исключения сделано не будет.
— Не исключат? — с надеждой спросил Шалва, прикинувшийся дураком.
— Не будет сделано никакого исключения по поводу исключения, — ответил находчивый помощник. — Я буду вынужден доложить… — Одним глазом он смотрел на меня. Он хотел, чтобы я подошел, и повинился, и сказал, как скорблю по поводу случившегося. Если бы не то собрание, я, может быть, так и поступил. Но сейчас этого делать не имел права. Будто вызвал его на дуэль, выстрелил, а теперь очередь за ним, и я прошу у него извинения — мол, не стреляйте!
Шалва и Серго остались уговаривать Паписмеди.
Я ждал у выхода.
Шалва высказывал предположение, что кто-то донес Паписмеди о готовящейся операции.
— Дело скверное. Он пошел докладывать. Так что давай подготовься. Что делать будем, если исключат?
— Я с детства мечтал быть пожарным.
— Дубина, — приветствовал меня на прощание Шалва.
Много позже я узнал, что тот вечер он провел у Керима Аджара.
На следующий день секретарша пригласила меня к декану.
В кабинете Гурама Эрастовича сидел, положив ногу на ногу, Керим Аджар и читал газету.
— Я должен с вами поговорить. — Гурам Эрастович вынул из стопки бумаг листок и уткнулся в него.
Я подумал, что это докладная о вчерашнем происшествии. Я уже был подготовлен к разговору, знал, что он произойдет, и дал себе слово не оправдываться, не раскаиваться и не говорить, что это последний раз. Интересно только, что меня ждет: выговор, снятие со стипендии или… нет, исключить меня вроде бы не должны. Не было других прегрешений… Кроме того, скажут, что Паписмеди свел со мной счеты. Все же интересно, кто мог столь заботливо и точно известить его, когда я зайду сдавать экзамен за Воронько?
— Так вот, — продолжил Гурам Эрастович, — я хотел бы посоветоваться с вами о студенческом немецком кружке. То, что будущие филологи получают по программе, крайне недостаточно. Мы хотим создать несколько кружков иностранных языков и привлечь в помощь преподавателям студентов. Вы не возражали бы? Вашу кандидатуру предложил Керим Аджар.
— Право не знаю, справлюсь ли? У меня нет никакого педагогического опыта.
Я с трудом выдавил из себя последнюю фразу, потому что не хотел показать сразу, как обрадован неожиданным для меня поворотом разговора.
— Справитесь, справитесь, — оторвался от газеты Керим Аджар.
— Ну, благодарите Керима Аджара, — сказал декан. — И Паписмеди тоже. Если бы дело дошло до ректора, были бы большие неприятности. Вы все поняли?
— Все, Гурам Эрастович.
В коридоре меня ждал Шалва. Получилось немного сентиментально, но я пожал ему руку.
Во всей этой истории, кажется, не последнюю роль сыграло и то обстоятельство, что Воронько был хорошим баскетболистом, как-никак предстоял городской чемпионат, а у нас ревниво относились к выступлениям спортивных команд.
Работая над диссертацией, Тенгиз привлекает в помощники студентов последнего курса мединститута. У него сохранились добрые отношения с бывшими преподавателями, и те идут навстречу.
Тенгиз проводит небольшое статистическое исследование, выясняя, какие события последних пяти лет оставили наибольший след в памяти студентов, иными словами, какие события заставляли их включать свои психофизические резервы. Был немало удивлен, когда оказалось, что об экзаменах и о связанных с ними переживаниях написали лишь очень немногие… Анкеты были анонимные, на чистосердечность авторов следовало полагаться, „Шел с девушкой. Ее задели. Дрался. Знал, что меня караулят. Трое суток не выходил из дому. Потом пересилил себя“. „Потерял чужие промтоварные карточки, поступил в грузчики. Работал два месяца на железной дороге, месяц был весовщиком. Отдал долг“. „Моя девушка ушла к другому. Перестал верить себе. Перестал верить всем“.
Тенгиз считает, что, накопив к семнадцати-двадцати годам первые запасы опыта, человек начинает сперва импульсивно, эмоционально, а потом все более осмысленно реагировать на жизненные обстоятельства, В эти годы он совершает наибольшее количество ошибок, каждая из которых, запечатлеваясь в каких-то уголках памяти, предостережет его от ошибок последующих. В те же годы человек полнее всего проявляет свой характер; не научившийся противостоять неудачам, утверждать свое „я“, имеет мало шансов стать достойным гражданином — будет ходить бледной тенью по земле.
Я буду, конечно, много лет помнить, что испытывал, когда после первой же сессии не обнаружил в своей зачетной книжке троек, с которыми не расставался все школьные годы; как уверенно чувствовал себя на лекциях по языку (могу только предполагать, сколько здоровья и нервов стоило это в свое время маме!); какой проникался симпатией к профессору Хабурзания, когда во время двух- или трехчасовых собеседований-экзаменов узнавал себя чуть больше и понимал, как много еще должен осмыслить, запомнить.
Но, конечно же, больше всего запомню я то студенческое собрание, на котором выступил против Ачико Ломидзе и Паписмеди. Тенгиз считает, что та ситуация давала возможность многозначных решений. Но если бы я поступил иначе, то, по теории Тенгиза, открыл бы далеко не всего себя. Тогда уже сразу следовало причислить себя к получеловекам и не рыпаться всю жизнь.
— Неприятности, которыми оборачиваются на первых порах некоторые поступки, продиктованные честью, ничто по сравнению с великим правом хорошо думать о себе и „хорошо нести свою голову“.
Между прочим, нечто похожее высказал Шалва, Он никогда ничего не говорил мне о визите к Кериму Аджару, но я-то знаю со слов Пуни, сколько часов он у него провел и чем обернулась бы для меня история с немецким экзаменом, если бы не Керим Аджар.
Я ни на минуту не жалею, что взялся за басков с таким человеком, как Шалва Дзидзидзе.
Когда мы были на последнем курсе, произошло событие, которое заставило меня еще выше оценить рыцарский характер Шалвы.
Поздним майским вечером мы втроем — Циала, Шалва и я — возвращались пешком с фуникулера. Шли в прекрасном расположении духа — светила луна, под нами лежал большой, молчаливый и прекрасный Тифлис, Шалва читал чужие и свои стихи. Он нарочно выбирал плохие чужие стихи, чтобы казались лучше его собственные. Мы прощали ему эту маленькую хитрость. На полпути мы остановились на площадке у церкви.
— Вы знаете, где-то здесь, наверное, бывал Иванэ Мтацминдели. Тот самый благочестивый Иванэ Мтацминдели, который много веков назад пошел к баскам, — сказал Шалва. — Он выходил рано утром молиться, и перед ним открывался Тифлис, еще сонный, медленно просыпавшийся город. Так же текла Кура, на улицах появлялись первые продавцы с огромными деревянными тарелками на головах, и развозили на осликах свои горшочки мацонщики, и кто-то заспанный отпирал засов на воротах и начинал вместо утренней зарядки отчаянный торг с мацонщиком из-за медной полушки. Под крышами начиналась жизнь; там были свои радости и печали; как в каждом городе, кто-то кого-то ненавидел, кто-то ревновал, кто-то страдал, а кто-то наслаждался, а Иванэ Мтацминдели был над всем этим. И горести, и радости людские не задевали его сердце, он был над всем этим, на Святой горе, он знал, как преходящи и слезы и улыбки, и знал, что истинную цену имеет только истинное дело, и жил этим делом, и готовился к расставанию с Грузией и встречей с новой страной, и молил бога укрепить его душу и дать ему силы.
В это время мы услышали шаги.
Сверху спускались три подвыпивших молодых человека. Они остановились недалеко от нас и начали шептаться.
Мне это не понравилось.
Сверху спускались три подвыпивших молодых человека. Они остановились недалеко от нас и начали шептаться. Мне это не понравилось.
Ночь была лунная, последний вагон фуникулера ждал своего часа, я знал, что еще не один путник спустится с горы пешком, такая прогулка неплохо возвращает бодрость. Но все равно мне не понравилось, что те трое остановились и словно ждали, пока не кончит свой монолог Шалва.
Шалва продолжал говорить. Но что, я уже понимал не так хорошо.
Среди тех трех был один верзила с расстегнутым воротником, я покосился в его сторону и подумал, что не хотел бы встретиться с таким типом в темном переулке.
Я еще не успел додумать эту мысль до конца, как верзила подошел ко мне и по-приятельски спросил, не найдется ли у меня закурить.
Я сказал, что не курю, и, показав на Шалву, добавил, что он не курит тоже.
— Ва, такие молодые и жадные. Что, на папиросах экономите? Экономите и что покупаете?
У всех троих руки были в карманах. Они передвигались ленивой походкой. Подойдя ко мне, один из них сказал, что я экономлю на папиросах и покупаю часы.
— Ва, клянусь честью, не видел в жизни таких красивых часов, наверное, идут минута в минуту.
— И даже секунда в секунду, — лениво пробормотал второй. — Я лично очень хотел бы иметь что-то от такой приятной встречи на память. На всю жизнь.
У Циалы сделались большие глаза. Она испуганно прислонилась к церковной стене и переводила взгляд с меня на верзилу. Верзила нехотя посмотрел на нее и сделал вид, что красота сразила его. Он сказал:
— Миша, мне сейчас будет плохо. Ты посмотри, какой там стоит мандарин.
Я пожалел, что у меня в кармане нет даже перочинного ножа. Шалва молча засунул руку в карман и подошел к Циале.
Он тихо сказал ей несколько слов… я расслышал их, но не придал им в ту минуту значения, а потом часто вспоминал: „Пока жив… с тобой ничего не случится. Знай“.
Обернувшись к верзиле, Шалва произнес ледяным тоном:
— Что нужно уважаемой компании? Мы сейчас тронемся в путь и не хотим, чтобы наше расставание было бы неприятным.
— Что, брезгуешь, да? — поинтересовался тот, которого звали Мишей. Он вытащил из бокового кармана папиросу и закурил. Мне первый раз стало страшно, Я посмотрел наверх — не спускается ли кто-нибудь. Кругом не было ни души. Луна зашла за тучу. Я подумал, как поступить, если они бросятся на нас. У меня были легкие туфли, на Шалве ботинки с крепким тупым носком. Один удар таким носком мог бы сразу сравнять наши силы. Я подумал, что с верзилой справился бы. Но мне надо было защищать Циалу. Думать о ней. Быть рядом с ней. Что у них в карманах? Догадается ли Шалва ударить носком. Жаль, я не преподал ему ни одного урока, хотя бы для такого случая.
Решил: если будут отбирать часы, отдам без сопротивления. Если попробуют тронуть Циалу, вцеплюсь в горло.
— Так попросим что-нибудь на память? Ну хотя бы эти часы. Говоришь, не отстают?
Подошел Шалва и сказал негромко:
— Я прошу тебя, отдай, — и добавил еще тише: — Я верну их тебе, даю слово. Ни о чем не спрашивай, отдай.
Я стал неторопливо расстегивать ремешок.
— А ну быстрее, гад! — подошел верзила и больно обхватил пальцами мою шею. — Ждешь, пока не появится кто-то. У-у-у, смотри, пикнешь, убью.
Я отдал часы.
Недалеко послышалась песня.
Возвращалась последняя подвыпившая компания. Трое растворились в темноте. Циале стало плохо, и она бессильно опустила голову на мою грудь. Я поцеловал ее и похлопал по плечу.
Мы присоединились к компании. Циалу била мелкая дрожь. Я чувствовал свою беспомощность и бессилие и знал, что не должен ничего говорить.
— Ну вот, Иванэ Мтацминдели был, без сомнения, человеком, умевшим верить в свою звезду. Ради большой цели он не замечал малых неприятностей. Без них жизни не бывает…
— Да заткнись ты!
Мне было жаль часов, подаренных мамой и Тенгизом к моему двадцатилетию. Их купил Тенгиз на Дезертирке у какого-то спившегося интеллигента; часовой мастер, к которому Тенгиз пошел за советом, долго и любовно осматривал часы и сказал, что таких теперь не делают и за них не жаль никаких денег. Часы были позолоченные, шестигранные и заводились ключиком. Ключик оставался дома, и мне немного было жаль похитителей — за часы без ключика им много не дадут. Но себя мне, разумеется, было жаль несколько больше.
Циала говорила, что я реагирую на все неровности жизненного пути с чуткостью велосипеда на перекачанных камерах. Просто иногда надо затормозить и проехать ухаб на малой скорости. Но это мне не удается. Так же как не удается объезжать ухаб или рытвину стороной. Какая-то неведомая сила тянет меня в эпицентр событий, иногда не очень приятных. И когда Шалва заметил, что, кажется, знает немного человека по имени Миша, что он будто бы живет на спуске Элбакидзе, рядом с домом школьного товарища Шалвы, я понял: в ближайшее время не будет для меня ничего важнее и желаннее, чем встреча с этим достопочтенным гражданином с глазу на глаз.
— Не вздумай связываться, не подумай только искать его, ведь потом в город один не сможешь выйти. Ради бога, Шалва, не фантазируй, не может быть, чтобы человек жил чуть не в центре и занимался такими делами, — сказала Циала.
— По-моему, он раньше работал в мясном магазине и недавно вышел из тюрьмы.
— Тем более, тем более. Плюнь на эти часы, прошу тебя, дай слово.
— Насколько я знаю Отара, ему такого слова лучше не давать. По-моему, нам все же есть смысл встретиться с Мишенькой.
— Ты с ума сошел! — Циала дышала негодованием. — Что за глупая мысль пришла тебе в голову? Вы что, хотите, чтобы я боялась с вами выйти в город?
— Послушай, доченька, — покровительственно сказал Шалва, — возможно, это действительно не тот Миша. Что мы будем раньше времени волноваться? Разве я не мог ошибиться? Прошло столько лет.
Мы дошли до дома Циалы, дождались, пока она не поднялась к себе и не просигналила светом в окне.
Условились, что ночевать Шалва будет у меня, нам предстоял неблизкий путь, шли мы неторопливо по засыпанным кирпичным песком дорожкам Александровского сада, и, когда вышли к мосту, Шалва сказал:
— Нет, я не ошибся. Это именно тот самый Миша. Мы как — прямо утром к нему с визитом или перенесем его на день?
Шалва не бравировал. Я знал, он думал, как бы помочь мне быстрее забыть об унижении, которое мы испытали. Шалва говорил однажды — не беда, что у нас немного денег, нет хороших костюмов и не всегда бывает обед, мы не можем считать себя бедными и обделенными судьбой, потому что у нас есть одно богатство, не имеющее эквивалента. Это богатство называется чувством собственного достоинства. Как только мы начинаем терять его, делаем первый шаг к самой разнесчастной бедности. Надо больше всего бояться этого первого шага. Вот и сейчас он тоже боялся. За меня, за себя. Мы могли бы сказать себе — черт с ними, с часами. Циала права, возможно, это на самом деле бандиты, потом беды не оберешься. Не знаю, как объяснить, но мы не были приспособлены к тому, чтобы взять в союзники этот довод. И вот Шалва предложил нанести утренний визит в дом на спуске Элбакидзе.
Тут я вспомнил о бывшем моряке Феде Завьялове, человеке отзывчивом, бесшабашном и разгульном. Посоветовавшись, мы с Шалвой решили взять его с собой.
Федя внимательно выслушал нас, буркнул несколько раз самому себе „вот какое дело“, наскоро умылся и сказал, что не надо ничего с собой брать, у него есть палка с набалдашником, которой хватит. Федя надел для бодрости духа тельняшку, и ни свет ни заря мы подошли к тому дому на спуске Элбакидзе, в котором жил школьный товарищ Шалвы. Он подтвердил, что Миша недавно вернулся издалека и теперь пьет напропалую.
— Если что-нибудь случилось, лучше с ним не связываться.
— Ты, приятель, покажи, где он живет, а мы уж сами решим, стоит или нет, — хмуро заметил Федя.
Сперва из дому вышла сестра Миши, которая поклялась, что его дома нет, а уже потом вышел он сам и угрюмо спросил, чего от него надо.
Сердце радостно и тревожно забилось — главное, это был он, и теперь уже не от нас зависело, как развернутся события. Мы имели право действовать только так, как должны были действовать.
— Этот рахитик, что ли, вчера пришвартовался к вам? — лениво осведомился Федя, должно быть, неплохо владевший искусством сразу же ставить противника на место. Он оглядел Мишу с ног до головы и для порядка спросил: — Сейчас начнем или погодим?
— Погодим, погодим. — Шалва подошел к Мише и, неожиданно присев, сделал вид, что хочет нанести удар под дых. Миша машинально отпрянул, закрылся рукой, выдал себя: значит, не такой смелый, каким казался вчера.
— Ну, ну, не шали, думаешь, я помню, с кем был вчера и что вчера было?
— Так, может, напомнить ему? — нетерпеливо спросил Федя, который флотским нутром своим не выносил несправедливости и обмана. И он слегка подкинул палку с набалдашником и ловко поймал ее.
— Где часы? Где его часы? Если успели продать, пожалей свою голову, мы ходить и жаловаться в милицию не будем. Так ли я говорю? — обратился к нам Шалва.
— В самый раз, — с готовностью откликнулся Федя.
Я боялся, что Шалва запсихует. Вообще на моей памяти это с ним случалось не часто. Но если на него нисходил псих, то удержать его можно было лишь с великим трудом. В такие минуты ему было на все наплевать, он не думал о последствиях, он давал волю чувствам, не совсем ладно у него это получалось, хотя отказать в искренности было нельзя.
— Боюсь, что Захари уже спустил часы. Насколько я помню, у него не оставалось ни копейки, а он после такой ночи не может обойтись без хаши. Инвалидом становится. — Миша посмотрел на нас, ища сочувствия.
— А ну пошли к Захари! — потребовал Федя.
— Ты что, в уме, разве его сейчас найдешь? Его только вечером можно найти.
— Где найти?
— Газированную воду продает. В Муштаиде.
Шалва слегка пришел в себя. Теперь оставалось набраться терпения и дождаться вечера. Мы отправились прямо в Муштаид, заказали три хачапури и три бутылки лимонада. Миша сидел в стороне, мы и не думали его угощать. Он сидел, глотал слюну и смотрел куда-то в сторону. Шалва крепился-крепился, не выдержал и сказал:
— Иди сюда, садись, тетя Маша, еще одно хачапури и один лимонад. Федя, подвинься немножко.
Федя с удивлением посмотрел на меня, молча подвинулся.
Миша не заставил повторять приглашения. Хачапури он слопал в два счета, но до лимонада не дотронулся. Подошел к буфетчику и пошептался с ним. Потом как ни в чем не бывало вернулся.
Минут через десять тетя Маша принесла на подносе три бутылки вина, зелень, сыр и колбасу.
— Что за новость? — вспылил Шалва.
— Дорогой, ты мне уважение сделал. Ты что, думаешь, я ничего не понимаю, да? Ты, наверное, решил, что я думаю, что одни старые часы лучше трех новых друзей, да? Вот твои часы, возьми. Выпьем за наше знакомство.
Под вечер рядом с нами оказался верзила. Его звали Захари. Первым делом он выпил за наше здоровье, О вчерашнем никто не вспоминал. Федя говорил, что никогда не привыкнет к этому городу.
Мито особый человек. Быть его старшим братом — искусство. Для этого надо иметь кое-что еще, помимо звания студента и приятельских связей с управдомом. Например, навыки укротителя, гипнотизера и пожарного, который не теряет присутствия духа в самых острых переделках и смело бросается туда, где горит.
Могучая и непобедимая наука педагогика, которую мне втолковывают вот уже какой год, сталкиваясь с поступками и взглядами пятилетнего гражданина Мито, выкидывает белый флаг.
Семейный совет постановил определить Мито в детский сад.
Позже я узнал, что в тот день основательно тряхнуло Галапагосские острова; самый главный остров был похож на старый полосатый тюфяк, из которого выбивают пыль. В другом конце земного шара ожил некогда грозный вулкан, который считали погасшим навеки. Из жерла вырывались тучи пепла. Посрамленные вулканологи, слетевшиеся к подножию знаменитой горы, глотали скупые мужские слезы и, сняв шляпы, подставляли головы под пепел.
Но это были не главные мировые неприятности. В тот день Мито начал ходить в детский сад.
Накануне был разговор с мальчиком.
— Мито, — проворковала Елена, — я купила лимонад, и как только ты придешь из детского садика…
— Хочу паровоз, — заявил Мито и задумался, не продешевил ли он.
— Подумаешь, завтра пойдем и купим, — пообещала мама.
— Хочу настоящий паровоз, — уточнил абитуриент.
— А по одному месту не хочешь? — осведомился Тенгиз.
— Тогда сам ходи в свой сад, а я не пойду.
— Еще как пойдешь! — не выдержал я.
Я постарался придать этим словам как можно больше убедительности. Я произнес их неторопливо и отчетливо, мысленно выделил и сделал на слове „пойдешь“ ударение.
Мито подумал и сказал:
— А вот давай поспорим об рубль, что не пойду.
Я мог бы доказать ему, как вредно заключать легкомысленные пари, но потом решил, что это не лучший педагогический прием. Поэтому просто-напросто сказал, что выпью его лимонад.
В то же мгновение завибрировали все три этажа нашего фундаментального дома. В двери постучали. Мито на мгновение умолк, но, увидев в дверях свою приятельницу и защитницу Циалу, набрал полную грудь воздуха и заревел: „Отар меня оскорбил“. Циала постаралась заверить его, что мои педагогические способности не стоят выеденного яйца, Мито догадывался, что его шансы на паровоз возросли. Елена обещала пустить в ход все свои связи и раздобыть его, наивно думая, что наутро Мито забудет об этом.
Утром Мито деловито справился о паровозе с гудком. После этого ревел ровно столько, сколько надо было, чтобы выклянчить в качестве компенсации будильник, двух черных коней из шахмат и килограмм пряников.
Будильник и шахматы были дома.
— Надо бы сходить за пряниками, — сказала мама, протягивая мне деньги. — Сдачу положи на шкаф.
Когда мы пришли в детский сад, воспитательницы начали спорить, в какую группу его определить. Надо сказать, что с первого взгляда Мито производил вполне сносное впечатление. Каждая говорила, что у нее в группе есть свободное место. Это были симпатичные наивные девушки.
Интересно, что скажут они через неделю.
Вот уже три дня мы ходим в детский сад. Сад открывается в восемь. Тенгиз отправляется на работу в семь. Мама в семь тридцать. В это время к нам поднимается Федя. До садика тридцать шесть ступенек и сто семьдесят девять метров. Каждый наш шаг точно вымерен, каждое движение рассчитано.
Федя держит Мито за руки, а я за ноги. На первой же лестничной клетке мы меняемся. На следующей клетке делаем небольшой перерыв перед решающим броском. Федя вытаскивает папироску и несколько раз жадно затягивается. Потом аккуратно гасит пальцами бычок, прячет его в жестяную коробку и говорит:
— Ну, с богом!
Я с трудом разжимаю окаменевшие кисти, выпускаю Мито, Федя сгребает его в охапку, я распахиваю дверь и слежу, чтобы Мито не упирался ногами в косяки. Федя просит посмотреть, что у него с левым ухом, и говорит вроде бы сам себе: „Кабы знал, ни в жисть не взялся“, — в конце концов Феде изменяют силы, он на долю секунды выпускает Мито, и мы, как в детской игре с фишками, оказываемся на этаж выше.
В садик мы приходим в восемь тридцать.
Прошла неделя. Или сто шестьдесят восемь часов. Или десять тысяч минут. Из этих десяти тысяч Мито подкинул нам на сон… Не помню, спал ли кто-нибудь вообще в ту неделю. И когда одного из нас пригласили в детский сад, я долго не мог понять, происходит ли это во сне или наяву. Догадался лишь тогда, когда увидел натуральные слезы на глазах Маргалите.
— Я хочу поговорить с вами по вопросу о Мито, — сказала она тоном человека, разочаровавшегося в жизни.
— По этому вопросу плакать не надо, — заверил я, вспомнив, как декан успокаивал однажды кандидата педагогических наук Татьяну Николаевну, от которой ушел муж.
— Не могли бы вы взять Мито из нашего детского сада по собственному желанию? — спросила Маргалите с надеждой во взоре. — Если бы знали, как он ведет себя!
Я обещал подумать.
В тот же день было созвано чрезвычайное заседание семейного совета. Лучший выход предложила многоопытная Елена. Она сказала, что купит воспитательнице шелковый платок.
После месячного перерыва, связанного с этими чрезвычайными обстоятельствами, мы с Шалвой вернулись к баскам.
Мы постепенно находили все больше и больше сведений о басках в старых и новых книгах. Разные историки по-разному писали о мореплавателе Хуане Себастьяне Эль-Кано (или дель Кано, как называл его Стефан Цвейг). Одни возносили его подвиг и считали высшие почести, которые оказала ему Испания, лишь малой частицей того, что он заслужил. Другие подозревали его в том, что он, движимый честолюбием, поднял бунт против своего командира португальца Магеллана и был повинен в гибели его. Что на самом деле произошло у далеких Филиппин с экспедицией Магеллана, так и осталось тайной. Известно, что из всей экспедиции после схваток с местными жителями уцелел лишь корабль Эль-Кано. Экспедиция вернулась в Испанию, обогнув с юга Африку. Это был первый в мире корабль, который, уйдя на юго-запад, вернулся с юго-востока. Эль-Кано доказал, что земля имеет форму шара и что мировой океан един.
Был баском Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, малосимпатичный, но волевой и одержимый борец за восстановление позиций католической церкви.
Был баском Симон Боливар, один из вождей борьбы за независимость испанских колоний в Америке. Его предки, гонимые испанской короной, вынуждены были покинуть родину и пересечь океан. Симон Боливар стал вождем в двадцать семь лет. В его честь было названо Боливией государство, образовавшееся в Верхнем Перу. Он стремился превратить всю Южную Америку в одну федеративную республику и стать во главе ее.
Был баском Морис Равель, знаменитый композитор, автор „Испанской рапсодии“ и „Болеро“. И еще мы думали, что не случайно „Баскское каприччио“ Пабло Сарасате — одно из самых популярных у грузинских скрипачей произведений.
Были в отцовской тетради слова, услышанные им в Басконии: „Про нас, басков, говорят, что мы рождаемся с песней. Поверьте, сердечный друг, сколько бы вы ни ездили по свету, прекрасней песен вам не найти“.
Мечты унесли меня далеко-далеко. Я подумал, а вдруг настанет такой день, когда пригласят в Басконию грузинских певцов. И когда приедут к нам певцы из Басконии. Пока я знаю, что наши песни очень похожи. Был такой немецкий музыковед профессор Надель, который изучал баскские и грузинские песни и писал, что их мелодии имеют „одну основу“.
„Есть в Басконии и в наши дни бродячие певцы и музыканты, которые помнят и хранят старые мелодии и поют их на площадях и базарах. Это желанные гости на свадьбе или на празднике по случаю рождения сына. Певцам аккомпанируют их спутники в черных беретах: звучит систу — свирель с тремя дырками, как саламури у грузин; большим пальцем и мизинцем левой руки музыкант держит систу, три других пальца прыгают над дырочками. Правой рукой аккомпаниатор бьет по барабану — атабела, подвешенному на красной веревке. Атабела — это копия доли, который можно увидеть в любом грузинском национальном оркестре. И делают атабелу так же точно, как доли“.
Что еще знали мы к той поре о басках?
Ученых, исследующих происхождение басков, можно разбить на четыре воинственные и непримиримые группы. Отстаивая свои взгляды, „отдельные представители отдельных групп“ в пылу полемики затмевали воинственностью гордого и независимого баска и, случалось, сходились врукопашную. Единомышленники создавали ассоциации, союзы и фонды. Их противники открывали в противовес специальные издания и устраивали конференции.
— Баски — прямые потомки жителей легендарной Атлантиды, погребенной под водами океана, — говорили одни. — Только наша гипотеза дает исчерпывающее объяснение уникальности басков. Если вы с этим не согласны, то остается предположить, что баски свалились с неба. Не хотите ли вы сказать, что эта версия более правдоподобна?
— Так могут рассуждать только филистеры, ничего дальше собственного носа не видящие, — говорили другие. — Просто наши оппоненты слишком ленивы для того, чтобы поискать какое-либо другое не столь абсурдное пояснение. Что они знают об Атлантиде и вообще кто и что о ней знает? Две тысячи лет назад Платон вспомнил, что кто-то когда-то писал о такой загадочной стране, но кто докажет, что это не выдумка? На самом деле баски прямые потомки кроманьонского человека, заселившие еще в доисторические времена побережье Бискайского залива и никогда не уходившие отсюда. Искать их родственников в иных землях просто-напросто бессмысленно. Они ниоткуда не приходили и никуда не уходили. Им всегда было хорошо здесь.
— Позвольте не согласиться с вами, — вступали в спор представители третьей группы. — Баски являются прямыми потомками иберов, некогда населявших весь Пиренейский полуостров, часть Франции и Италии. Просто-напросто им повезло — они жили высоко в горах, до них было трудно добираться и римлянам, и маврам, и франкам, их и оставляли в покое. Никому не мешали, ни с кем не спорили, ни с кем не дрались, просто были умнее других, в награду и сохранились.
— Как это ни с кем не дрались? А знаете ли вы, что Эскуаль Эрриа — земля басков — казалась лакомым куском и вестготам, и франкам, и особенно римлянам, которые в этих горах несли большие потери. Все дело в том, что баски умели драться. А научились они драться от своих предков, которые некогда пришли сюда с Кавказа. Нелегок был путь этого племени, оно шло через земли, населенные враждебными племенами, но дошло, потому что могло постоять за себя.
Случилось так, что в девятнадцатом веке две последние группы стали одерживать верх в споре, они как бы вышли в финал, выбив из игры своих противников.
Как завершится спор финалистов?
Представители четвертой группы ведут родословную от благочестивого отца Иванэ Мтацминдели, отправившегося из Грузии в Испанию. Это было… это было каких-нибудь девятьсот лет назад.
Партию Киазо в „Даиси“ исполняет брат Заури Кокашвили, моего старого товарища по баскетбольной команде. Заури ужасно гордится этим и приносит нам билеты на открытие сезона; он отпустил длинные усы и стал похож на запорожца. Окончил географический факультет» преподает в старших классах. Одержим гипотезой немецкого ученого Альфреда Вегенера о перемещении материков. Считает, что эта гипотеза — основа науки о географии, которая помогает понять и объяснить многие загадки Земли. Если ее разработать как следует и превратить в теорию, она сможет помочь в поисках полезных ископаемых. Скажем, если нашли золото и алмазы на юге Африки, значит их надо искать и на юге Америки, в районе Огненной Земли. Он вырезает из цветного картона макеты материков и островов и иногда приглашает нас на любопытный спектакль — сдвигает свои материки и острова, и они отлично сходятся, как картинки в детской головоломке. На картонках тушью обозначены полезные ископаемые — те, что уже обнаружены, и те, которые с точки зрения Заури предстоит обнаружить на той или иной оконечности какого-либо материка.
Весьма возможно, что это блажь. Но я начинаю все лучше и лучше думать о своем старом товарище. Потому что убежден — каждый должен иметь свою цель, если хотите, свой пунктик. Говоря другими словами, должен быть одержим какой-то идеей. Чтобы не заниматься только тем, что предусмотрено его служебными обязанностями — отсель и досель. Иначе жизнь однообразна и скучна. Иначе человек не включает своих резервов.
Последнее время я все чаще думаю об этом: что такое наши резервы? Тенгизу попал в руки немецкий журнал пятилетней давности «Опыты психологии», и он попросил меня перевести статью, обведенную красным карандашом. Один профессор Иенского университета писал, что есть основания предполагать в нашем «котелке» (так и было написано в серьезном журнале — «котелке») более двенадцати миллиардов клеток, из которых, увы, человек использует в повседневной практике не более семи процентов. Значит, в нашем «сером веществе», которое только по недомыслию названо так прозаично, есть запасы, рассчитанные на самых далеких наших потомков.
Я спросил, не кажется ли Тенгизу, что тот профессор из Иенского университета не очень высокого мнения о своих современниках?
— Возможно, ты и прав, но обрати внимание на предпоследний абзац: люди трудолюбивые, ищущие, пытливые используют до десяти процентов своих мозговых ресурсов. Конечно, подтвердить этот тезис нелегко, но я убежден, что наш автор не так уж далек от истины.
Я вспомнил о нашем Петрэ, который продолжает занимать все тот же пост, все в той же многоотраслевой, многострадальной, дважды прогоревшей артели, и подумал: интересно, а сколько процентов использует он? Должно быть, все так же дрожит над своим капиталом. И ждет не дождется лучших времен.
Мы встретились с Петрэ и Лианой на «Даиси».
…Два воина становятся врагами из-за женщины, выходят на поединок. Киазо пронзает своего друга и, только в этот момент почувствовав, что сотворил, вдруг откидывает в сторону щит и кинжал и подставляет оголенную грудь Малхазу — убей меня. Молодец брат Заури, эмоциональную деталь нашел — откинул щит и кинжал. Артисту долго аплодировали: смог человек сказать свое слово в спектакле, который знаком каждому грузину с детских лет. И пел здорово. У меня по спине ползли мурашки, а я доверяю им больше, чем десятку рецензий, — значит, задело меня глубоко.
Дали занавес, в фойе мы попали в водоворот, едва не потеряв маленького Шалву, и тут я увидел Петрэ и Лиану. Быстро перечислив всех наших и справившись, как они живут, Петрэ сказал, что нехорошо забывать родного дядю и не приходить к нему так долго. «Невеста?» — тихо спросил он, показав глазами на Циалу. Не дождавшись ответа, приблизился и спросил: «Чья дочь, из какой семьи?»
Похоже, что этот гражданин начинал напрашиваться ко мне в родственники. Помню, как он встречал меня когда-то. Что это с ним случилось?
Петрэ поинтересовался, почему я не прихожу к ним. Он знал, чем занимаемся мы с Шалвой, и многозначительно сказал, что у него что-то есть для нас.
На следующий день я пошел к Петрэ. Он показал письмо, полученное много лет назад его отцом от одного английского ученого по имени Харрисон, Джекоб Харрисон.
Глава вторая. Кавказ и Пиренеи
Это было письмо с маркой английского короля Георга V, опущенное в Лондоне 17 февраля 1914 года. Конверт хранился в шкатулке с семейными фотографиями и письмами, среди которых было и извещение о кончине старшего Девдариани Георгия Николаевича, пережившего ненадолго свою жену.
Письмо Харрисона было написано на бумаге с фамильными инициалами. Хотя прошло двадцать лет, бумага не пожелтела, лишь чернила выцвели чуть-чуть.
Петрэ сказал:
— Отец с интересом читал это письмо. Несколько дней писал ответ, копия у нас хранилась долго, но потом исчезла. Было еще одно письмо от Харрисона, он сообщал, что получил письмо, и благодарил. Вскоре обещал написать подробно, но началась война. Возможно, они продолжали переписываться после революции… Не знаю… Во всяком случае, прочитай…
Письмо было написано на русском языке.
«Девдариани Георгию Николаевичу, профессору.
Многоуважаемый господин!
Я хочу иметь веру, что Вы не будете чрезвычайно осуждать меня за смелость писать письмо русским языком. Я сожалею, что недостаточная практика не позволяет мне полностью изъяснять свои мысли на богатейшем русском языке. Тем не более я не хочу утруждать Вас переводом с англицкого языка, даже если Вы его знаете, Вам понадобились бы дополнительные старательства, чтобы прочитать мое англицкое письмо; ближние говорят, что это дает определенное затруднительнее. Прошу извинить за погрешности.
К Вам обращается профессор лингвистики Лондонского его королевского величества института словесности, имевший честь быть познакомленным с Вами в 1912 году на конференции в Бордо. На протяженности длинного времени я изучаю язык басков, народа, который, как мне известно, привлекает Ваше внимание. Побывав это лето в Бильбао и Сан-Себастьяне, я имел приятную цель прояснения их лингвистического родства.
Эта цель есть сбор диалектов, которые (великое опасение) могут забыться, так как горы имеют много железа и сюда приезжают копать железо и из Испании, и из Каталонии, и из многих других мест тоже.
Вы знаете не хуже меня, как есть богат диалектами язык басков, это его счастье — несчастье для ученых, ибо собрать и записать их есть дело нелегкое, и пока из местных ученых этим занимаются не очень.
Будучи убежденным в том, что баски как единица нации (национальная единица) возникла и зародилась в стороне, далекой от Пиренеев, я, следуя версии античных ученых (не имеет смысл перечислять этих мужей, их имена, отсутствие сомнений Вам известно достаточно хорошо), искал и хочу продолжать искать корни басков на Кавказе. Я много бы дал, чтобы изучить язык грузин, абхазов и сванов, но мне не хватит теперь на это годов. Я подумал, что мы можем помогать друг другу советами, консультациями и взаимообменом знаний. Я предлагаю Вам сотрудничество.
Первое, что есть, на мой взгляд, важное, — это возможность установить, действительно ли современные баски являются суть потомками иберов. Мои скромные наблюдения дают основание это предполагать.
Эта гипотеза, высказанная еще пол века назад Ф. Мюллером, подвергается критике, которая имеет столь много шуму, сколь мало доказательств. Мюллер носит убеждение, что языки Кавказа, как язык басков в Пиренеях, есть не что другое, как наследие, или, более точно, пережиток некогда многочисленной семьи языков, распространенных не только на Кавказе, но и к югу от Кавказа задолго до той поры, когда здесь появились и утвердились языки индоевропейские и семитские.
За эти полвека баскский язык упорственно сравнивали структурно и лексически с исконно кавказскими языками. Увы, люди, касавшиеся этого дела, или не знали ни одного из этих языков, или с трудом владели одним лишь.
Говоря о связях басков и иберов, я полон желания быть солидарным с В. Гумбольдтом, который обратил внимание на баскский характер самого термина „иберы“. Но противники этой версии считают, что термин „иберы“, будучи сохранившимся от древнейшего населения Пиренейской Иберии, мог относиться в дороманское время к народу, который был отличен от басков и говорил на языке, далеком в самых высших степенях от языка басков.
Не будем обращать внимания на эти споры. На мой, не слишком просвещенный взгляд, выяснению, кто правый и кто не правый, может служить сравнение древнейших названий поселений, рек и вершин в Иберии Кавказской и Пиренейской. Это одна из консервативнейших сторон человеческого существования, имеющая способность сохраняться в неизменяемом виде на протяжении жизни многих поколений; это свидетель на суд истории, призванной прояснить истину, следы которой затеряны в глубине тысячелетий.
Не могли бы мы с вами составить кооперацию, чтобы выяснить происхождение слова „Иберия“? Возможно весьма, это есть интересное совпадение, не больше того — „Иберия“ на Кавказе и „Иберия“ на Пиренеях. Но мне рассказывал князь Дадиани, с которым я имел счастье один раз жить в Ницце, что у грузин есть слово „бари“, обозначающее долину. Но и у басков оно тоже обозначает долину. Я сперва подивился, почему у горных народов общность названий долины, побережья, но потом я с удовольствием убедился, что и вершина, высота тоже имеет общее слово — „магал“ у басков и „магали“ у грузин.
Вернемся к „бари“. Не значит ли это тождество, что племя пришло по побережью? Каким мог быть его путь? Как велико было племя? Если событие происходило на рубеже второго и первого тысячелетий до нашей эры, оно могло насчитывать примерно тысяч пятнадцать — двадцать пять. В ту пору всего было на нашей тихой земле миллионов сорок. Судя по всему, это были непоседливые джентльмены, какая сила и куда влекла племена и народы? За время своих поездок в Басконию я не раз слышал в самых разных провинциях легенду, которая, на мой взгляд, не имеет ничего общего с библейской. Баски передавают из поколения в поколение легенду, по которой старый мир был уничтожен во время гигантской битвы между огнем и водой, Это столкновение являлось таким страшным, что герой легенды, находившийся на вершине горы, от ужаса забыл родной язык. Он отдаленно помнил лишь какие-то слова, и пришлось ему находить, если так можно сказать, изобретать язык новый. Поразительно, но все легенды, собранные и записанные мною в баскских провинциях Испании и Франции, сходятся в одном — этот новый язык стал языком племени, покинувшего свою родину и пришедшего на новое место.
Если бы наука способствовала так просто находить ответы на старые, как наш мир, вопросы, мы были бы, без сомнения, куда счастливее… Но жить было бы уже не так интересно. Я хочу сказать Вам в дополнительство, что на протяжении нескольких лет имею честь состоять в переписке с достойным немецким ученым — фольклористом и геологом господином Джозефом (Йозефом) Риемом, который готовит к изданию труд „Земные катастрофы в сказаниях и в науке“. По той куче писем, которые я получил, и по той множественности вопросов, которые господин Рием задал мне, можно без труда составить представление об авторе. Это, как и все немцы, усидчивый и добросовестный исследователь, которому можно, без сомнения совести, доверять. Вам, возможно, будет интересно узнать, что у Джозефа Риема есть несколько самостоятельно собранных им баскских легенд, которые отличны от приведенной мною лишь самыми незначительными деталями. Нам остается удивляться, с какой точностью, с какой упрямой точностью пересказывают современные баски легенды далеких предков. А еще нам остается глубоко сожалеть, что до наших дней не дошло письменных источников, письменных документов иберов. Возможно, Вы слышали о металлических пластинках на неведомом (возможно, иберийском) языке, обнаруженных под Бильбао. Если это не миф, то расшифровка письмен могла бы дать поистине безграничный материал. Имея фотокопии текста, я как прилежный ученик положил язык на край губы и начал делать попытку расшифровать».
Я прочитал первую половину письма и, чтобы продлить удовольствие, сделал небольшой перерыв. Подумал о Петрэ: что это — раскаяние человека, ощущение вины перед памятью погибшего брата или более прозаическое желание приблизить к себе взрослого племянника, когда катит в глаза старость.
— Почему покраснел? — спросил Петрэ. — Что-нибудь интересное?
— Послушай, дядька. Я продам тебе душу, понял меня, я забуду все, что было раньше. Но ты обязан разыскать письмо деда, разыскать ответ деда на это письмо. И вспомнить все, что было связано с ним. Не может быть, чтобы не оставалось ответа, понимаешь, не может быть.
— Глупые слова говоришь. Отец уезжал не торопясь. У него было время все хорошо собрать. Он оставил многое из того, что было дорого ему, даже семейные фотографии, семенное серебро и картины, которые перешли от деда. Но все, что было связано с басками, он взял с собой. Я думаю, что он хотел поразить Грузию издалека. Увы, он рано ушел из жизни и довести до конца работы не сумел. Говорят, что свое наследство он завещал грузинской колонии во Франции. Ну а ответ его, без всякого сомнения, должен был получить этот, как его, профессор Харрисон… Почему бы тебе не написать ему? — криво усмехнулся Петрэ. — Когда-то при проклятом прошлом это было проще, чем сварить лобио… Ну умолкаю, умолкаю, не смотри на меня так. Что, не правду говорю?
Кто и как мог помочь мне разыскать Харрисона?
Я взял в руки второй лист письма.
«Сделав столь длинное отступление, я имел бы желание сказать Вам об одном своем убеждении. Я верю, что в далеком прошлом иберы оставили свои следы во многих географических названиях не только Иберийского полуострова. Следы их пребывания запечатлены в имеющих протобаскскую основу названиях многих горных поселений Франции и Северной Италии. Значит, не таким уж мимолетностным было пребывание здесь переселенцев. Значит, шли они не торопясь, пока не обосновались в Пиренеях.
Одно предположение, связанное с этой догадкой, я выскажу позже, пока же перейду к делам топонимическим, которые, возможно, заденут Ваше внимание. Эта работа была проделана мною сравнительно быстро при любезном содействии Королевского альпийского клуба, предоставившего в мое распоряжение крупномасштабные карты горных районов Грузии.
На небольшом квадрате территории Сванетии есть названия, которые никак не дают покоя.
Я хочу сказать Вам, глубокочтимый коллега, что очень трудно думать о том, будто эти совпадения имеют одну только случайность. Теперь я много читаю о Сванетии и мечтаю, как совсем молодой человек, побывать там. Я бы с удовольствием побывал в Сванетии вместе с моим сыном, который считается сравнительно неплохим альпинистом. Лазить по горам так, как Стивен, я бы, наверное, не мог, немножко не те годы, по думаю, что эта экспедиция не была бы бесполезной и для меня. Я бы собрал местные сказания и постарался бы сравнить их с теми, которые слышал в Басконии. Но это путешествие, я жалею, приходится немного перенести, так как Стивен приглашен в армию и готовится стать офицером альпийского отряда, Ему служить еще целых восемь месяцев, но я пока официально обращусь с помощью нашего института к Российскому послу с просьбой содействовать нашей поездке.
Буду чрезвычайно рад переписываться с Вами. Если Вам это не покажется скучным и бесполезным занятием, напишите мне, пожалуйста.
С пожеланием счастья Джекоб Харрисон,
Кингстоун, 12, Лондон, Англия».
— Лиана хотела все это выкинуть, — сказал Петрэ, — как-никак переписка с заграницей: мало ли что подумают, если найдут. Но я запретил. В таких делах мое слово закон, всегда будет так, как я захочу, — торопливо продолжал Петрэ, пользуясь тем, что Лиана задерживалась на кухне. — Ну что, прав я был, когда говорил — не годится забывать родственников и воротить от них нос при встрече? Молодой ты еще, горячий, многого не понимаешь.
— Ты всегда был любвеобильным родственником.
Всегда было приятно знать, что ты где-то рядом и чувствовать твое тепло.
— Ладно, ладно, знаешь поговорку — кто старое помянет, тому глаз вон.
— А я и не собираюсь вспоминать старое. Ты мне можешь помочь, а я в долгу не останусь. Поищи в своих шкафах и комодах, вдруг осталось что-нибудь от переписки деда.
— Приходи, приходи, может быть, найдем, — загадочно сказал Петрэ.
— А это письмо я могу взять с собой?
— Лучше бы снял копию, вдруг пригодится… А впрочем, бери.
Несколько следующих дней мы с Шалвой занимались топонимикой. Мы взяли большую карту Испании и большую карту Грузии и положили их на пол, и маленький круглый Шалва, то и дело поправляя очки, шариком медленно-медленно передвигался по карте Испании, время от времени называя местности, реки и поселения, которые казались ему заслуживающими внимания.
Мы взяли большую карту Испании и большую карту Грузии и положили на пол; и маленький круглый Шалва шариком передвигался по карте Испании, время от времени называя местности, реки и поселения…
— Река Арагон, — говорил он.
— Есть, — отвечал я, как на перекличке. — Арагви. Подойдет?
— Весьма возможно. Кстати, если мне не изменяет память, Страбон называет Арагоном одну из рек Кавказской Иберии. Не имеет ли он в виду Арагви?
— Гениста, — продолжал Шалва, мусоля карандаш. Карандаш был химическим, губы у Шалвы стали синими-синими, я несколько раз просил его не брать карандаш в рот, он обещал и тут же забывал. Тогда я легким усилием вытянул карандаш из его руки и заменил простым — пусть сосет себе на здоровье.
— Что ты там даешь взамен Генисты?
— На карте у меня ничего похожего нет. Но рядом с Сухуми есть местечко Гумиста. Сгодится?
— Предположим. Поехали дальше. Называю: горное плато Месета, высшая точка 2316 метров.
— Ну тут вполне достаточно иметь даже такую сообразительность, как у тебя, чтобы назвать хребет Месхети в южной Грузии.
— Возбуди свою единственную извилину и припомни что-нибудь похожее на Рио-Тинто, реку в Андалузии.
— Рио… рио… Риони.
— Браво, старикашка, а теперь что-нибудь похожее на Эбро, реку, омывающую с юга землю басков.
— Эбралидзе Арчил, — в темпе блица назвал я чемпиона Грузии по шахматам и получил линейкой по затылку.
— Ты когда-нибудь научишься заниматься чем-то серьезно более пятнадцати минут? — менторским тоном спросил Шалва, Его медом не корми, дай только порассуждать о ближнем и его недостатках.
Свой следующий визит Петрэ я нанес вместе с Шалвой, Шалва по причине близорукости имел обыкновение, прежде чем вступить в разговор, как бы обнюхать собеседника, решая, стоит ли иметь с ним дело. Судя по всему, Петрэ не слишком повезло. Шалва независимо и холодно протянул ему руку.
Петрэ совсем некстати спросил — не родственник ли он того Дзидзидзе, который до революции имел табачную лавку на Кирочной, выдавал обыкновенный имеретинский табак, примешивая к нему что-то, за турецкий самсун и был однажды нещадно бит, Петрэ обладал даром непринужденно завязывать знакомства. После этого, по-моему, он окончательно опротивел Шалве.
— Нет, я не имел чести иметь таких родственников, — ледяным тоном ответил великий стилист Шалва Дзидзидзе.
Вошла Лиана в парчовом халате, подпоясанная хевсурским кушаком. Сердечно поздоровалась, она все теперь делала сердечно, сердечно поставила на стол чай и вазочку с кизиловым, слегка засахаренным вареньем и приветливо сказала «Угощайтесь». После чего налила себе в блюдечко чай и начала пить его, отставив мизинец в сторону.
— Так вот, оказывается, тут было еще одно письмо из Лондона от Харрисона. Я думал, что оно запропастилось, но вчера пошарил в сундуке и нашел его. Прочитал. Любопытно, любопытно. Я пожалел, что стал экспедитором, а не историком или даже писателем. Написал бы…
— О, у Петрэ большой литературный талант, — скрывая восхищение, сказала Лиана. — Он показывал мне некоторые свои заметки, прежде чем отправить их в «Тартароз», было очень живо написано… Даже письмо прислали. На бланке. Просили писать еще. Значит, понравилось.
— А опубликовали? — не совсем тактично поинтересовался Шалва.
Петрэ перевел разговор на Харрисона:
— Посмотрите, оно пришло уже после того как началась война, в сентябре 1914 года. И шло два месяца.
— Что уткнулся? — спросил меня Шалва. — Читай вслух.
«Многоуважаемый господин. Я в чрезвычайной степени благодарен Вам за ответ, а также за те сведения о современных взглядах на историю грузинского языка, которые меня заинтересовали весьма и заставили еще раз подумать о том, как важна кооперация в нашем деле. Я молю бога, чтобы он помог мне встретиться с Вами и повести дело, значение которого в наши дни не очень легко оценить.
Попытаюсь высказать свой не очень просвещенный взгляд на то, каким образом могли оказаться на большом пути от Кавказа до Пиренеев топонимические следы пребывания иберов.
Увы, я не имею дар излагать свои мысли сжато, прошу извинить меня за столь длинное послание, способное утомить самого терпеливого читателя.
Научная традиция причисляет грузин к потомкам хетто-иберийских племен, сложившихся на территории Грузии примерно в восьмом веке до Рождества Христова. Но к восьмому веку уже закончилось сложение племен, а когда началось? Ведь появление хеттов на горизонте истории относят к четырнадцатому веку до Рождества Христова, и связывают это появление с борьбой за овладение тайной изготовления железа.
В самом деле, истории известно, что в четырнадцатом веке до Рождества Христова несколько южнее границ современной Грузии жило племя кизвадан (киттватна), которое умело выплавлять железо. Оно не изобрело этот способ, и Месопотамия и Египет уже достаточно долгий срок знали железо. Все дело в том, что в этих двух краях — Месопотамии и Египте — еще не знали дешевого способа производства железа, и ценилось оно выше золота. Племя кизвадан постигло тайну дешевого способа изготовления железа в больших количествах. Согласитесь, что тем самым кизвадан обрек себя. Племя берегло свой секрет с величайшей тщательностью, но рано или поздно о нем должны были узнать в других землях и рано или поздно должно было появиться племя, которое имело бы силу вырвать тайну. В подобных случаях история не заставляет себя долго ждать. Такое племя нашлось, оно покорило кизвадан, но не истребило их, как было модно в ту пору, да и в последующие поры тоже. Оно удовольствовалось тем, что вырвало тайну плавления железа.
Этим племенем были хетты.
С четырнадцатого по двенадцатый век до Рождества Христова хетты были единственным племенем в этом краю земли, владевшим искусством выработки железа в больших количествах.
Не дает ли это нам право предположить, что век или другой спустя им овладело и новое, родственное хеттам племя иберов?
Я думаю, эту версию можно считать вполне реалистичной.
Совершить миграцию с берегов Черного моря до берегов Бискайского залива могло только сильное племя, имевшее сильное оружие, — как бы иначе прошло оно земли, где привыкли видеть в каждом пришельце врага? Ни в одном краю не встречали путешественников (да простится мне это несколько ироническое слово, другого, более точного, подобрать не могу) с музыкой, песнями и приветствиями. Наоборот, мигрантам приходилось с боями пробиваться на запад. Да, они теряли воинов, теряли женщин и наименее приспособленных и выносливых членов племени. Но они дошли!
Говоря обо всем этом, я вспоминаю высказанность вашего ученого Николая Марра о том, что „добыча и разработка металлов в начальной стадии развития прошла еще при тесном общении басков с яфетидами Кавказа“.
Сожаление, я не имею полного собрания сочинений Николая Марра и вынужден порой делать ссылки на ссылку, при переводе с русского на французский, а с французского на английский возможны незначительные лексические ошибки. Николая Марра следует переводить (и читать!) с величайшей тщательностью. Но фраза, приведенная выше, о „тесном общении басков с яфетидами Кавказа“ взята мною из русского академического издания.
Не могли бы Вы переслать мне несколько последних изданий трудов Николая Марра, связанных с проблемой басков? В ответ я готов содействовать Вам в приобретении любой интересующей Вас книги, изданной в Англии.
Моему Стивену осталось служить несколько месяцев, моим маленьким подарком ему за производство в офицеры будет поездка на Кавказ.
С искренним чувством к Вам Джекоб Харрисон.
Лондон. 14 июля 1914 года».
На полях письма рукой Георгия Девдариани было сделано несколько пометок:
«Иосиф Флавий: пиренейские иберы — народ Тубала».
«Версия о связи кавказского мира с потомками Каина — Тубалкаином и др. „Каин“ значит „кузнец“. Искусство иберов в обработке металлов (железо, серебро, золото)».
«О военном искусстве иберов (свидетельства древних)».
— А ответа на письмо не сохранилось? — с надеждой спросил Шалва.
— Больше ничего не сохранилось. — Петрэ с удовольствием потягивал чай. — Все, что было, отдал… Все, что было для меня самого дорогого.
По мере того как наши дела двигались вперед, мы все острее чувствовали скудость своих лингвистических и методических познаний. Нужен был серьезный консультант. Долго думали, на ком остановить выбор. Шалва предложил Керима Аджара. Посоветовались с Пуни. Он был самого высокого мнения о своем соседе. Сказал, между прочим:
— Иногда я выхожу ночью покурить… Кругом темно, все спят. И только в окне Керима Аджара горит свет. Зеленая лампа… Значит, работает. Человек, который так много работает, редко бывает плохим.
Глава третья. Керим Аджар
По материнской линии Керим Аджар принадлежал к азербайджанскому роду Ахундовых, по отцовской — к аджарскому дворянину Зурабу Халваши, кутиле, рубаке и при всем том заботливому семьянину.
Дед Керима Аджара — Зураб Халваши был самолюбив, быстр в решениях, был готов открыть душу первому попавшемуся собеседнику и ссудить деньгами первого встречного, если тот говорил, что попал в стесненное положение.
В молодости, когда он служил в Петербурге в уланском полку, цыганка нагадала ему по трем ромбикам на горизонтальной линии левой ладони, что у него будет трое детей, он рассмеялся и щедро одарил гадалку, не придав значения ее словам, но, когда у него родился третий мальчишка, стал фаталистом. Старшего сына он послал в офицеры, хотя тот хотел выучиться на юриста, среднего заставил стать юристом, хотя тот мечтал о карьере врача, но потом, устав от поединков с двумя старшими детьми, сказал младшему; «Стань кем хочешь, вот тебе пятьсот рублей, встретимся через пять лет, пиши, не забывай».
Младшего сына звали Автандилом, он явился к отцу через полгода и, показав на девушку, скромно стоявшую у двери и прикрывавшую черным платком половину лица, сказал:
— Благослови, отец, я привел к тебе невесту.
«Бог мой, как стройна и красива, — подумал старый рубака, а потом в рубаке заговорил отец и, признав с первого взгляда в девушке иноземку, забеспокоился; — Не всякой женщине дано постичь характер грузина… Принесет ли сыну счастье эта девушка, воспитанная в иных обычаях?»
— Где ты нашел ее?
— Украл.
— Сумасшедший, я разговариваю с тобой серьезно. Где ты взял ее?
— Ее хотели отдать за другого. Я украл ее. Ты видишь, она не плачет и не жалуется на судьбу. Она просто ждет, когда ты позовешь ее и поцелуешь. Ее зовут Солмаз.
— Подойди ко мне, дочь, — сказал слегка дрогнувшим голосом Зураб Халваши. Пока девушка несмелым шагом приближалась к нему, он подумал, что и сам в дни молодости пошел бы хоть на край света ради такой.
Девушка подошла и сказала по-грузински:
— Не сердитесь на меня. Я знаю, виновата. Но виновна только в том, что люблю Автандила.
— Где же ты научилась грузинскому?
— А я выросла в Тифлисе. — И девушка назвала улицу, на которой жили известные азербайджанские семьи.
— Ты играешь на сазе? — спросил Халваши.
— Немного.
Халваши больше всего на свете любил игру на сазе, теперь ему оставалось убедиться еще в одном достоинстве девушки, входившей в его дом, он попросил:
— Дай, пожалуйста, твою левую руку.
Солмаз несмело протянула ее, отец повернул руку ладонью вверх, и по широкому лицу его разлилась улыбка.
Великий фаталист Халваши заключил, что Солмаз принесет ему четырех внуков.
— Да, кстати, гм… гм… твои родители знают Автандила?
— Мама знает.
— А папа, папа знает?
— Узнает, — спокойно ответила Солмаз.
— Что говоришь? Как это узнает? От кого узнает, когда? Зачем отца обижаешь, почему не сказала, что он тебе плохого сделал?
— Он сам украл мою маму и не должен сердиться на Автандила.
В тот же день Халваши, прихватив с собой нескольких друзей из наиболее достойных родов, направился на переговоры с отцом Солмаз.
О чем говорили два родителя за стеной, не знал никто, даже самые близкие друзья Халваши.
Только часа через три отец Солмаз, дернув за шнур, вызвал прислугу и попросил принести шербет, медовый напиток на лимоне. Это было хорошим признаком.
…Шли годы, но у Автандила и Солмаз не было детей, старый Халваши с грустью убеждался, что все же бывают отклонения от предсказаний, записанных на левой руке. В 1894 году Автандил повез жену на азербайджанский грязевый курорт Нафталан, где один предприимчивый немец наладил производство маленьких брикетов из чудодейственной грязи (позже эти брикеты находили в ранцах пленных японских солдат). Через три недели супруги вернулись в Тифлис, и однажды (Солмаз в это время было около тридцати) Автандил услышал от жены то, что много раз слышал в сладких снах:
— Кажется, к нам кто-то хочет прийти.
Солмаз сказала об этом утром после бессонной ночи, после долгих сомнений — говорить или не говорить, а вдруг ошиблась. Автандил вскочил с кровати и, как был, босиком, в длинной немецкой ночной рубашке, бросился к Солмаз, подхватил ее и целовал, и носил по комнате, и не знал, кому сказать о своей радости. Его истосковавшаяся по ребенку душа, вспыхнувшее вдруг новое, неведомое ранее чувство к жене, нежность, тревога, благодарность — все это слилось в торжественном радостном выкрике:
— Роди мне мальчишку и проси, что хочешь! Роди мальчишку и дай ему имя, какое хочешь! Роди мальчишку, и я буду твоим рабом до конца жизни, не опечалю никогда, не обману, слышишь, клянусь, никогда, ни мыслью, ни словом не обману, попроси своего бога, и я попрошу!..
Солмаз родила мальчика. Автандил сдержал слово. Мать пожелала назвать сына Керимом.
Рос мальчишка среди людей, спокойных, доверявших друг другу. Его холили, но не баловали, уступали в малом, но в серьезном умели настоять на своем. Он рано научился читать — по-грузински, по-русски, а чуть позже и по-азербайджански, постигая с помощью родных матери тайны арабской вязи. Оказалось, что у мальчишки хорошая память, ему легко давались языки и счет. В гимназии он был и младше, и смышленее одноклассников.
В те годы развился его интерес к языкам, и после окончания гимназии он уговорил отца отвезти его в Москву. Он не сразу сказал отцу, что хочет попробовать себя на экзамене в Московский университет, отец сделал бы все возможное, чтобы отговорить сына. Знал Керим, какой трудной будет для отца разлука с ним. И все же сказал, как бы между прочим, что еще давно послал прошение о допуске к вступительным экзаменам и такое разрешение получил.
Экзамен Керим сдал довольно сносно, отец прожил с ним около месяца, подыскал комнату с пансионом и уехал с разбитым сердцем. Зимой он снова приехал к сыну и привез ему огромный узел с теплыми вещами.
Сына Автандил не узнал. За полгода то ли в плечах стал шире, то ли вырос, не сразу смог отец определить, что изменилось в сыне, потом догадался — не вырос, а повзрослел, стал серьезнее, реже шутил. Зимой четырнадцатого года в Москве стояли лютые морозы. Керим пробовал заставить себя полюбить лыжи и коньки, да ничего у него не получилось. Однажды он встал на коньки, но те повели себя странно, он несколько раз неуклюже плюхнулся, стал презирать себя, но силы духа снова надеть коньки не нашел.
Вечера Керим проводил в библиотеке, погружаясь в сладостный мир первых наивных студенческих лингвистических изысканий. Ему повезло с учителем, как везло обычно всем знаменитым ученым. Евгений Генрихович Теребилин, филолог и историк, был убежден, что лингвистике должно принадлежать одно из первых мест в исследовании происхождения племен и народов, Еще в студенческие годы он исколесил многие деревни русского Севера, собирая диалекты, поговорки, сказания. Он рисовал сказочные русские церкви и встречался с мастерами-иконописцами. Уже став преподавателем, он мог, никому ничего не объясняя, весь год обедать в дешевой студенческой столовой, откладывая деньги на давно задуманную летнюю поездку куда-нибудь под Вологду. Он поражался тому, как мало знает Россия свой Север, и очерки его, опубликованные в журнале «Природа и люди», довольно быстро снискали ему репутацию солидного и серьезного исследователя. Был Теребилин последователем французского материалиста Шарля Монтескье, считавшего, что облик нации, ее обычаи и законы определяются климатом и почвой того края, где эта нация обитает. На Севере, где хлеб свой насущный людям приходилось добывать в суровой борьбе с неподатливой природой, выкристаллизовался с веками облик человека немногословного и волевого. Часто вспоминая о Ломоносове, о том, какую роль в его судьбе сыграли воля и упорство, полученные от далеких предков, Теребилин с горечью думал о том, как много других неоткрытых талантов Севера приходится на один чудом открывшийся талант.
Помимо курса лингвистики, Теребилин вел семинар по диалектологии и, распределяя семинарские темы, поручил Кериму исследовать восточную лексику «Хаджи-Мурата».
Через два месяца Керим поразил учителя работоспособностью, представив около двухсот карточек с подробным разбором на трех языках каждого из восточных слов, встретившихся в повести. Одному только слову «сакля» было посвящено около дюжины карточек. Керим связывал это слово с азербайджанским «саглык» — жизнь, «саг ол!» — будь здоров, грузинским «сахли» — дом, и «сахели» — имя, и «саконели» — то, что при доме, — скот. В других карточках он высказывал свои предположения, откуда могло прийти это слово в два языка, как видоизменялось, в каком контексте встречалось у Александра Казбеги, Ильи Чавчавадзе, Мирзы Фатали Ахундова.
— Так, так, так, — только и сказал Теребилин, просматривая карточки Керима. Похоже, учитель начинал вносить какие-то не резкие пока коррективы в свое невысокое мнение о южанах.
Через несколько дней Теребилин пригласил Керима и сказал ему:
— Кафедра решила рекомендовать вашу работу для публикации в студенческом вестнике. Просмотрите ее еще раз и сократите до пятнадцати страниц.
Вскоре работа была опубликована. Керим подписал ее псевдонимом Керим Аджар. Работа попала на глаза профессору Николаю Яковлевичу Марру; человек не очень склонный к похвале, он тем не менее написал несколько теплых слов о Кериме. Людей, близко знавших Марра, этот отзыв приятно обрадовал: Марр был похож на великого Тициана — тот признавал только тех художников, которые писали в его манере, выдвигал их и помогал им, а инакопишущих угнетал всеми имеющимися в его распоряжении немалыми средствами.
Тем более необычным показался отзыв Марра на работу никому не известного студента.
Когда началась мировая война, Керим подал заявление о добровольном вступлении в действующую армию. Результатом его «анабазиса» было легкое ранение и знакомство с медицинской сестрой Анной Смирновой, женщиной не очень видной, но заботливой и преданной. Он вернулся с войны, имея отметину на теле и много отметин на душе. Керим знал, что назревают большие перемены в жизни страны, но боялся новых жертв, крови, разрушения всего того, что страна создавала веками… Весь семнадцатый он провел под Батуми, ухаживая за больным дедом; деду не говорили о том, что сын его Автандил погиб в стычке с бандитами, сопровождая обоз с продовольствием из деревни.
В двадцать третьем году Керим и Анна решили взять на воспитание малыша. Они обратились в отдел надзора за приютами, им посоветовали поехать в Озургеты, где был детский приют. Аджары думали взять девочку, но к ним подошел чумазый карапуз лет четырех, схватил Керима за руку и спросил:
— Ты мой папа, да? Почему так долго не приезжал?
Малыш погладил Керима по руке и прижался к ладони щекой. Керим представлял себе все это совсем по-другому. Они неторопливо зайдут к заведующему приютом. Попросят, чтобы им разрешили присмотреться к детишкам. Кого-то заприметят, постараются узнать все, что смогут, о родителях. Потом снова приедут через несколько дней и назовут имя.
Кериму хотелось, кроме всего прочего, увидеть, как поведет себя малыш, когда они дадут ему или ей нехитрые подарки: яблоки и конфеты — поделится ли с товарищами или прижмет к груди и поднимет рев, если попросят угостить других.
Но все вышло по-иному — чумазый мальчишка, который видел, должно быть, как кто-то нашел однажды своих родителей и который жил ожиданием, что его найдут тоже, этот сопливый мальчишка прижимал ладонь Керима к своей щеке, а кругом голосили дети, завистливо поглядывая на счастливца: «К Кояве папа приехал!», «Коява нашел папу и маму!»
В это время на крыльцо вышла толстая и сонная воспитательница в давно не стиранном халате, в стоптанных туфлях на босу ногу. Она деловито подошла к Кояве, схватила его за руку, строго приговаривая:
«Это не твои папа и мама, ишь фантазер какой, а ну все марш по местам», повела мальчишку за собой.
Коява успел посмотреть на Керима. Керим еще ничего не решил. Он еще не знал, даст ли волю чувству, охватившему его, но он перехватил взгляд малыша, посмотрел на Анну, его Анна понимающе кивнула головой, и уже ничего не могло остановить Керима. Он знал, понимал, чувствовал, что когда-нибудь сможет пожалеть о своем поспешном решении, но знал и то, что нет на свете силы, которая заставила бы его расстаться с этим мальчуганом. Керим сказал воспитательнице:
— Вы ошиблись, дорогая, это наш сын, мы его давно искали и привезли ему маленькие гостинцы.
Воспитательница удивленно посмотрела на Керима и перестала жевать.
— Да это наш мальчик, наша фамилия Коява, — сказала спокойно и решительно Анна.
— Чудно, а говорили, что ваша фамилия другая…
Но Керим уже не слушал воспитательницу. Анна протянула мужу платок, он вытер нос мальчишке и все думал, как узнать его имя, все здесь называли друг друга по фамилии.
— Приятель, мы тебе кое-что привезли. — И Керим отдал мальчишке кулек с тремя яблоками и дюжиной леденцов.
Кояву моментально обступили. Коява вытащил одно яблоко, посмотрел на него со всех сторон, поискал глазами девочку, которую звали Беридзе, и сказал:
— На откуси, Беридзе, и отдай Авакяну.
Маленький огрызок вернулся обратно к Кояве. Он впился в него острыми зубами, и как мышка, обкусал все, что там еще оставалось.
Второе яблоко он передал Анне. Третье положил за пазуху и сказал: «Это на вечер». А леденцы роздал сразу все, честно оставив себе последний красный леденец.
— Как же его зовут? — силилась вспомнить воспитательница. — Все из головы вылетело. С этими хулиганами скоро инвалидом станешь. Придется пройти в канцелярию.
В канцелярии сказали:
— Коява Павле. Сын рабочего железнодорожного депо. Отец погиб на гражданской войне; мать умерла от тифа.
В дни молодости Керим Аджар изучал высказывания древних о Кавказе. Историки, путешественники, географы, военачальники, послы приезжали на Кавказ иногда с добрыми целями, а иногда и не очень; щедрая эта земля манила воображение чужеземцев ничуть не меньше, чем в иные годы Индия. Разумные и терпеливые повелители древних государств слали сюда одиночек, владевших пером и воображением. Другие — не столь разумные и терпеливые правители — полчища владеющих мечом. Случалось чужеземцам покорять Кавказ, но владение им приносило куда больше потерь и куда меньше дохода, чем планировалось при утверждении смет на снаряжение легионов.
«А народ здесь живет не боязливый, воины его умеют владеть мечом и копьем и совершать долгие переходы на лошадях; в бою и лишениях они терпеливы и почитают честью пасть за землю отцов».
«А народ здесь живет не боязливый, воины его умеют владеть мечом и копьем и совершать долгие переходы на лошадях; в бою и лишениях они терпеливы и почитают честью пасть за землю отцов».
На этом сходились чужеземные полководцы и послы. И еще не всем нравилось, что на Кавказе так много языков. «Слов наших не понимают, как и мы не понимаем их», «А в одном месте говорят на одном языке, а в месте, до коего полперехода, на языке ином». Называли Кавказ горой языков, но, когда пробовали доискаться, откуда и как появилось в небольшой горной стране такое великое множество языков, бессильно опускали перья.
«И нет иного толкования явлению сему, кроме как предположить, что во времена далекие нашли приют и убежище на вершинах, склонах и в теснинах великие народы, остатки коих жизнь свою продолжают ныне от других обособленно весьма».
Картотека у Керима Аджара была обширная, вел он ее с увлечением коллекционера, радуясь каждой новой находке. К нему обращались за консультацией известные ориенталисты, имя его стало широко известно благодаря публикациям в трудах Академии истории материальной культуры. Один из таких сборников посвящался юбилею научной деятельности академика Н. Я. Марра и был издан с необыкновенным для тех лет размахом — на отличной бумаге, с красочными иллюстрациями; на последней странице рядом с фамилией редактора стояли имена всех наборщиков, верстальщиков, печатников (хорошее и забывшееся со временем, к сожалению, дело).
Последние годы Керим Аджар усердно занимался диалектологией и, как его учитель Теребилин, проводил летние месяцы в экспедициях, забирая с собой быстро взрослевшего сына Павку.
Слушать лекции Керима Аджара приходили не только с других факультетов, но из других институтов. Начинал он лекции неторопливо, но постепенно воодушевлялся, завораживал аудиторию и увлекал ее вместе с собой в далекие, манящие дебри лингвистики.
Память полиглота словно бы механически отбирала все, что относилось к языку, к науке о языке и бесконечному числу сопредельных наук, самостоятельно раскладывала все это по полочкам в своей камере хранения. Для того чтобы вспомнить какое-либо поучительное изречение на персидском, грузинском или арабском языках, он слегка похлопывал себя по затылку, словно поощряя специальную извилину, управляющую всем этим хозяйством. Читая лекцию, он забывал порой, что перед ним студенты. И только потом, вдруг спохватившись, он возвращался назад и начинал особенно тщательно растолковывать некоторые мысли, не самые доступные их малоразвитому воображению.
Это был лингвист высшего свойства.
К Кериму Аджару мы и пришли однажды за советом. Был у него часовой перерыв между лекциями, мы извинились за беспокойство. Он отложил какую-то потрепанную брошюрку, снял очки и без видимого удовольствия произнес:
— Да, слушаю вас, молодые люди.
Если он был чем-нибудь недоволен, это чувствовалось за версту. Нам показалось, что мы отвлекли его от интересного чтения, и этим объясняется его прохладный прием. Он не пригласил сесть, думая, очевидно, что у нас минутное дело. В преподавательской было еще несколько человек, мы спросили, не мог бы профессор пройти с нами в соседнюю свободную аудиторию.
Он нехотя собрал пожитки.
Шалва крепко сжал мне локоть.
— Не стоит ли перенести нашу встречу? — но Керим Аджар уже вышел в коридор, спрашивая на ходу:
— Ну, что у вас там, какими глобальными идеями вы хотите поделиться?
Керим Аджар выслушал нас, два или три раза кивнул головой, сухо спросил:
— У вас все? Вы хотите знать мое мнение? — и надолго задумался, словно бы позабыв о нас.
Потом посмотрел на нас не очень дружелюбно:
— Вот что, господа хорошие. Все, о чем вы говорите, в высшей степени интересно и достойно. Но мне еще не приходилось встречать ни одного полуграмотного человека, который бы взял на себя смелость писать учебник о грамматических правилах. Вы не сердитесь, но напоминаете мне того самого полуграмотного, несколько самоуверенного гражданина, который за такую работу все же взялся. Через год он почувствовал, что ему малость, ну, самую малость недостает знаний, но дела своего не забросил, ибо имел самолюбие, и решил пойти за помощью к профессору.
— И что профессор? — спросил, насупив брови, Шалва. Я знаю — в этот момент он проклинал меня за идею обратиться к Кериму Аджару.
— А профессор ничего. Он просто-напросто сказал тому гражданину, что ничуть не удивляется его просьбе, ибо лично знаком с двумя студентами, которые взялись доказать родство языков, то есть доказать то, над чем ломали головы и копья ученые еще много столетий назад. Сидите, Дзидзидзе, и вы сидите, Девдариани. Я повторяю, не хотел вас обидеть. Это хорошо, что вы честолюбивы, может пригодиться в жизни. Но я сказал то, что должен был сказать. Вся ваша работа — дело далекого будущего… Футурум-цвай. Вы должны знать это и ответить себе на вопрос: а хватит ли у вас сил, терпенья?..
— Можно, мы придем к вам в другой раз и принесем свою картотеку? — спросил я.
— Что за картотека?
— Мы хотим, чтобы вы немного по-другому начали думать о нас, — добавил Шалва.
— Ну что ж, приходите. Давайте условимся о дне.
Мы пришли к профессору через пять дней, дома у него сидел за букварем сосед «Чиним керосинка», он тотчас поднялся и стеснительно простился.
Нам предложили чай, это было хорошим предзнаменованием. Павка демонстрировал нам коллекцию марок, мы делали вид, что очень интересуемся ею, а Керим Аджар терпеливо ждал, пока сын не закончит своего дела. Супруга профессора налила нам по третьей чашке, когда Павка перевернул последнюю страницу.
Разговор перешел к иберам:
— Что вы думаете, профессор, о них? Мы хотели бы показать вам письмо одного английского ученого. — И мы рассказали о Харрисоне.
— Ну, во-первых, если мне не изменяет память, трудно найти хотя бы двух древних авторов, которые сходились в вопросе о происхождении народов Кавказа… Есть легенды, сказания, предположения. Да, языков много, но при всем том картвельский похож на менгрельский, на сванский, а абхазский похож на адыгейский и немного на черкесский. Что же касается письма Харрисона и его вопроса — кто откуда?.. Видите ли, язык басков непохож ни на один из окружающих его. И внешностью своей они непохожи ни на испанцев, ни на французов, среди которых живут: скулы у них чуть пошире, а формой головы баски напоминают грузин. Если мы вспомним высказывания древних об иберах: какие иберы откуда пришли — кавказские ли с Пиренеев или пиренейские с Кавказа, я бы стал на сторону тех, кто высказывал вторую гипотезу.
Я ничуть не хочу расхолаживать вас. Но вы должны совершенно трезво понимать ограниченность своих возможностей. Ваш материал — на другом конце континента. Имеете ли вы право строить работу, не имея ясной надежды побывать у басков, познакомиться с их языком, с их бытом, с их характером на месте? Я думаю, что у вас не слишком много шансов. Наконец, эти знаменитые баскские диалекты. Как можно приступить к языку, не изучив их? А диалект недолговечен, эти прекрасные образцы народного словотворчества могут исчезнуть на глазах. Жизнь наша столь быстра и так бурлива, что в этой бурливости своей стирает грани и, приобщая деревню к городской культуре, дает ей новый ритм, и новые понятия, и новые слова, заставляя постепенно забывать те, что были рождены в далекие, неторопливые времена. Так вот, мои диалекты под моей рукой, а где ваши? Как вы доберетесь до них?
— Конечно, мы хорошо знаем, как мало у нас надежд, — возразил Шалва. — Да, баски далеки от нас, но может же еще при нашей жизни что-то измениться и открыть двери в Басконию. Вот мы и хотим подготовить себя к этой поре. Мы думаем и о тех, кого после нас завлечет эта тайна: то, что не удастся нам, может удастся им… Впрочем, не такие еще мы старики, чтобы заботиться только о потомках. А что думает мой юный и неопытный друг? — Шалва посмотрел на меня.
Шалва, когда это ему бывало нужно, подчеркивал разницу в возрасте и требовал, чтобы я относился к нему с почтением, которого заслуживают опыт и мудрость. Иногда он позволял себе свысока называть меня юным другом. На первых порах все было по-другому, но, когда он почувствовал себя равноправным членом нашей корпорации, гонора у него прибавилось, но я не сердился. В конце концов это настоящий товарищ, а настоящему товарищу можно многое прощать.
— Я думаю, что мой достопочтенный коллега абсолютно прав. Мне особенно запомнятся его слова о грядущих поколениях исследователей, во имя которых он собирается жить, творить и дерзать. Вы пока не знаете, профессор, какой бескорыстный и самоотреченный человек рядом с вами. Он настолько весь устремлен в будущее, что я иногда кажусь самому себе по сравнению с ним кроманьонцем. В такую минуту мне хочется взять какое-либо каменное орудие собственного производства и слегка дать ему по башке, чтобы вернуть назад. При всем том Шалва прав — многое может измениться. И я в это верю. Думаю, придет такое время, когда и в Басконии появятся лингвисты, которые захотят протянуть нам руку. Вот мы и хотим быть готовыми к той поре.
— Я убежден, что и сейчас есть у них люди, которые этой проблемой занимаются, — перебил Керим Аджар, — просто мы пока мало знаем о них. Кстати, я только сегодня первый раз услышал о металлических пластинках, найденных при раскопках. Сколько лет пролежало письмо Харрисона? Если это действительно иберийские надписи и если их действительно удалось расшифровать…
Керим Аджар не докончил фразы.
В дверь постучали.
На пороге с букварем под мышкой стоял застенчиво улыбавшийся сосед «Чиним керосинка». Он пришел узнать, не освободился ли профессор.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВСТРЕЧА
Глава первая. Джекоб Харрисон
Вечером 12 июля 1936 года в гости к Джекобу Харрисону, профессору Лондонского института лингвистики и этнографии, пришли его коллеги, друзья и ученики. Профессор был в прекрасном расположении духа. Круглолицый, широкоплечий, он и внешностью, и зычным, с хрипотцой голосом больше напоминал шкипера, прошедшего огонь, воду и медные трубы, чем ученого-лингвиста, корпевшего над расшифровкой каких-то странных надписей.
Гости были приглашены к семи, к семи часам десяти минутам прибыли последние запоздавшие, и тогда Харрисон, успевший переброситься с каждым парой слов и найти для каждого интонацию, улыбку и взгляд, широким жестом пригласил в зал, где был накрыт стол на сорок персон. Это был длинный диковинный стол, державшийся лишь на четырех ножках, гости по давно заведенному ритуалу приподнимали скатерть и дивились его хитроумной конструкции, так же как дивились и десять, и пятнадцать лет назад, а Джекоб Харрисон как ни в чем не бывало говорил, что его можно раздвинуть еще, и тогда за ним смогут усесться шестьдесят человек.
— О, шестьдесят человек, кто же придумал и сделал этот стол? — удивленно спросила самая молодая гостья, и ближайшие соседи стали рассказывать ей, что этот стол уже много лет назад соорудил сам мистер Харрисон, что после этого чертежи были опубликованы в журнале «Госпожа Смекалка», что они привлекли внимание одного министра и двух лордов, но ни одному из них не удалось смастерить такой стол, какой смастерил Джекоб Харрисон в день рождения сына Стивена, это было… это было в сентябре 1894 года, за этим столом сидел ректор Лондонского университета сэр Арчибальд Крэг.
— Да, да, я хорошо помню этот день, — вздохнула соседка слева, — на миссис Харрисон, на бедной миссис Харрисон было розовое платье, и она казалась такой счастливой.
— О, и старый приятель здесь, — сказал кто-то из гостей, поглаживая длинноногого и надменного сиамского кота, на морде которого застыло выражение превосходства над всем кошачьим миром. — А где же твой сиамский близнец?
— Вы разве не слышали? Его подруга погибла под машиной год назад. О, это ужасное лондонское движение! Столько развелось автомобилей. Скоро вообще будет опасно высунуть нос на улицу.
— А кот две недели ничего не ел…
— Как Цитра… Была у профессора такая овчарка… В самом конце шестнадцатого года она вдруг стала выть по ночам, а утром ложилась у кровати, на которой спал до отъезда на фронт Стивен… Ничего не ела, а из глаз текли слезы. Никого не подпускала к себе, кроме мистера Харрисона. А еще через несколько дней пришло это ужасное извещение о Стивене.
— Бедная миссис Харрисон, она не перенесла этого.
— Да, и мистер Харрисон не перенес бы тоже… Но в те дни в жизни профессора произошло то, что помогло притупить боль…
— Да, ему удалось расшифровать пять слов из иберийской таблицы.
— Я сгораю от любопытства, — сказала молодая гостья и, положив подбородок на пальцы (она знала, что ей шла эта поза), приготовилась слушать.
— Мистеру Харрисону удалось расшифровать с помощью современного баскского языка пять слов на одной из иберийских таблиц: «Мы пришли из земли, лежащей…»
— Шестое слово сделало бы его известным всему миру, — сказал до того молчавший гость… — Все дело было в этом шестом слове. Быть может, он и нашел бы его… Да смерть миссис Харрисон надолго выбила его из колеи.
— И потом еще этот несносный оппонент из Бордосского университета. Нет, что ни говорите, среди этих французов попадаются иногда ужасно невежливые экземпляры. Он написал несколько лет спустя статью, в которой утверждал, что попытка расшифровать язык иберов с помощью современного языка басков столь же заманчива и интересна, как, например, попытка расшифровать письменность этрусков с помощью самоучителя игры на гитаре.
— Мне приходилось давно слышать одним ухом о той статье. Что же он хотел ею сказать?
— Он просто-напросто не считал басков потомками иберов.
— Это его право, но что он мог противопоставить мистеру Харрисону? Человеку, столько лет изучавшему баскский язык? Исколесившему Басконию вдоль и поперек? Вы знаете, как начинают свои письма к нему совершенно незнакомые люди: «Здравствуй, брат басков!» А после этого пишут ему о своих делах, делятся радостями и горем, просят совета.
— Чем же сподобился ваш коллега?
— Ну это был бы долгий разговор. Видите ли, баски хотят знать свою родословную. Да непросто ее проследить. Вот и приходят к баскам на помощь ученые разных стран, И баски ценят их усилия. И считают их своими друзьями и даже братьями, как мистера Харрисона…
В этот момент поднялся мистер Харрисон, Он поднялся со своего старого протертого кресла, но не стал от этого намного выше.
В этот момент поднялся мистер Харрисон. Он поднялся со своего старого, протертого кресла, но не стал от этого намного выше.
Держа в левой руке бокал с вином, он правой стряхивал воображаемые крошки со стола, как делал обычно, когда хотел привести в порядок мысли, а потом торжественно начал:
— Сегодня ко мне пришли те, с кем я работал много лет. Пришли самые близкие друзья. Думаю, что могу так называть вас. Мы собрались в день двенадцатого июля… Мне дорога эта дата. Когда-то именно в этот день я впервые прочел сообщение о таинственных иберийских таблицах, найденных в Басконии, и написал в своем дневнике: «Расшифровать их, и как много нового узнала бы о себе Европа!»
Коллеги, привыкшие видеть Джекоба Харрисона неизменно хладнокровным и полным достоинства в самые трудные минуты, подумали, что неспроста собрал сегодня гостей старый профессор, что-то важное собирается сказать…
— Я был в ту пору самонадеян и молод, как всякий молодой человек, мне только исполнилось сорок, и я сказал себе, что поеду к баскам и постараюсь посмотреть на эти таблички своими глазами. Я поехал и посмотрел. И, посмотрев, сказал себе: «Ты изучал много языков и занимался разными лингвистическими исследованиями, и не было у тебя своего главного дела в жизни, своей темы, своей цели. Ты становишься похожим на человека, который хочет все знать обо всем…
Это было возможно в век энциклопедистов. Теперь иные времена. Слишком много знаний накопило человечество, чтобы постигнуть их за одну жизнь. Слово „энциклопедист“ вовсе не так почетно, как в былые времена. В этих табличках несколько десятков слов. Попытайся расшифровать их. Сколько у тебя уйдет на это лет? Десять, а может быть, и пятнадцать… Загляни на эти пятнадцать лет вперед. Что ты видишь там, вдали?»
О, я был молод и самонадеян, — продолжал профессор. — Я был убежден, что достаточно изучить еще один язык, баскский, и, прибавив его к тем, которыми владею, приступить к делу. Я отвел себе пятнадцать лет. Потом еще пять лет. И еще… За эти годы я много раз бывал в стране басков. Благодарю бога за то, что он помог мне узнать ее людей, их обычаи, их добрые сердца. И за то, что он помог мне, филологу, узнать их язык. Язык удивительный, не похожий ни на один из европейских языков. Но я не хочу, друзья, злоупотреблять правом хозяина. И пригласил я вас не для того, чтобы принудить вас прослушать короткий курс из истории басков. Когда-то я мечтал о том, что смогу доложить о результатах своих долгих и скромных трудов на ученом заседании в институте лингвистики и этнографии. Я верил, что перевод поможет найти ответ на вопрос, когда и откуда пришли предки басков на Пиренеи. И вот настал день, когда я должен сказать себе и другим. Я должен сказать…
Последние годы я все больше понимал, что шел не тем путем, несколько раз ловил себя на мысли, что готов принести в жертву своей заранее заданной идее законы объективного научного исследования. Я не смог перевести до конца ни одной фразы. Мне кажется, я могу сказать — баскский ключ не для иберийской загадки. Я говорю об этом потому, что не хочу, чтобы кто-нибудь еще пошел путем, который казался таким соблазнительным. Я хочу предостеречь… Говоря проще… Я пришел к финишу ни с чем.
Об этом надо говорить так же прямо и так же убежденно, как говорят об открытиях.
Еще я хочу попрощаться с вами, господа. Я получил приглашение в Бомбейский университет и скоро уезжаю. И хотел бы перед расставанием сказать спасибо всем, кто работал со мной эти годы, кто помогал мне и кто спорил со мной и опровергал меня. Спасибо.
Голос Харрисона пресекся.
Долго длилась тишина. Наконец, поднялся пожилой мужчина с длинным некрасивым лицом, изрезанным морщинами, и, глядя в свою тарелку, неторопливо подбирая слова, произнес то, что, наверное, было важнее всего услышать Джекобу Харрисону в эту минуту от старого друга:
— Вы сказали нам сейчас, профессор… что дано сказать только истинному ученому. Вы знаете не хуже меня, что, ступив на научную стезю, каждый исследователь делает… делает большую ставку и идет на риск. Та ставка — многие годы. Иногда жизнь. Он может прийти к цели, и эта мысль ведет его, помогает преодолевать сомнения, часто нужду. Но он может и не прийти. Важно, чтобы это знал каждый вступающий в науку. Чем больше противников будет у него, тем лучше для него. И для науки. И если человек знает все, что ждет его на тропе исследователя, куда она может привести, и все же ступает на эту тропу, я говорю: пусть поможет ему бог.
За свою не такую короткую жизнь я встречал немало людей, которые пришли к финишу с пустыми руками и ожесточенным сердцем. Среди них бывали мои хорошие знакомые. Мне жаль их. Но я понимал, что это закон, неумолимый закон, имеющий нечто общее с теорией больших чисел и теорией вероятностей, и думал, что мне-то легко и просто философствовать со стороны. Побыл бы я на их месте — хватило ли у меня духу признаться во всем?
Но я глубоко убежден, леди и джентльмены, и хотел бы поделиться этим убеждением с вами — для науки, для мировой истории, если хотите, для прогресса нужны не только находки и открытия и связанные с ними радости и почести. Нужны и печали и разочарования, несбывшиеся надежды и развеянные мечты. И годы, отданные несостоявшемуся открытию, я бы считал великими годами. Все дело в том, что другой человек уже не пойдет этим путем, он будет искать по-своему, может быть, найдет, тогда должен будет сказать спасибо своему предтече, а может быть, и не найдет, тогда ему скажет спасибо потомок, которого он предостерег своей работой.
Я хотел бы сказать своему старому другу и коллеге спасибо от имени филологов, живущих в разных концах земли, которых привлекает и манит загадка языка басков. Им будет работать легче.
Я хотел бы выразить вам благодарность и от себя. За вашу честность, за то, что вы только что сказали. Знаю, что такое право дает себе только талантливый и смелый человек. И позвольте сказать мне, я глубоко верю, что эти качества помогут вам в новых ваших трудах. Сейчас, когда мы услышали о вашем отъезде в Индию, я хочу верить, что вас привлекает новая языковая идея. Я не сержусь на вас за то, что вы не открыли мне своего желания раньше. Что ж, лучше говорить о работе тогда, когда она завершена. Я верю, что мы услышим о ней. Я желаю этого себе. Ваше здоровье, профессор!
Все молча и бесшумно поднялись с мест и торжественно, как это обычно бывает при расставании с дорогим человеком, протянули в его сторону бокалы.
Никто ни о чем не спрашивал Джекоба Харрисона. Потеряв сына и жену, он стал нелюдимым и нечасто рассказывал о своих делах. По внешнему его виду трудно было определить, хорошо или плохо идут они.
За столом продолжалась чинная негромкая английская беседа; разговор шел о разных посторонних вещах — Харрисон оценил такт гостей, оставлявших его наедине со своими мыслями: слова утешения в такие минуты кажутся фальшивыми.
Мысли уносили Харрисона далеко от этой большой комнаты с камином и высоким резным потолком.
Эту четверть века профессор Харрисон молча и терпеливо нес свой крест. Он мог бы давно стать, подобно некоторым своим сверстникам, членом Королевской академии, если бы посвятил жизнь какой-нибудь иной — не такой туманной и архисложной проблеме. Друзья советовали ему принять участие в лингвистических экспедициях по Экваториальной Африке, потом приглашали его возглавить обработку их результатов… То были комплексные, по-английски добротно оснащенные экспедиции, они возвращались с богатейшими материалами, которые публиковались в четырех номерах «Вестника института лингвистики и этнографии», — случай исключительный в истории института. Большинство участников тех экспедиций получило высокие ученые степени и широкую известность в мире филологии… И он бы получил известность и почет…
Но у него была своя цель: «Баски. Их язык. Их происхождение».
Джекоб Харрисон мог поначалу судить о басках только по свидетельствам чужих историков. А так как все или почти все «Истории» с древнейших времен прославляли в основном собственных воинов и полководцев (к этому профессор привык давно и сделал себе правилом критически относиться к любому свидетельству и проверять его «показаниями противоположной стороны»), Джекоб Харрисон не мог не обратить внимания на одно исключение — историки самых разных времен писали о басках с уважением. Это был народ, история которого не укладывалась в привычные рамки и стадии. Баски не знали рабовладельческого строя (один норвежский ученый объяснял это просто: «виноградная лоза в Пиренеях требовала исключительной заботы и бесчисленного множества обработок; рабский труд был не для этих виноградников»); считались по всей Испании дворянами (и богатые и бедные); высшей властью был сход, а высшим законом — слово старейшины.
Временами Харрисон спрашивал себя: а долго ли еще смогут баски хранить верность патриархальным традициям? В страну басков, богатую железной рудой, вторгалась новая жизнь со своими темпами, суровыми расчетами, прижимистостью и модами на характеры и одежду… А баски, даже те, что работали по десять и по двенадцать часов на рудниках и заводах, обладали способностью не замечать перемен… Или им удавалось делать вид, что не замечают их.
На первых порах древние одежды басков — короткие куртки, красные или голубые пояса, береты — вызывали у Харрисона улыбку, он на минуту представил, как выглядели бы улицы Лондона, если бы жители его облачились в наряды своих предков, но потом он привык к ним и начал понимать баска Хосе из «Кармен», который говорил: «Я был молод тогда, я все вспоминал родину и считал, что не может быть красивой девушки без синей юбки и ниспадающих на плечи кос».
В юности Харрисон был неплохим футболистом и слыл вторым в колледже вратарем, он хорошо знал, что такое страсть англичанина к футболу, и считал ее неким эталоном, пока не приехал первый раз в Басконию. Приехав и попав на матч команд двух провинций по пелоте, он вдруг почувствовал, что в жизни еще не видал такого азарта и ажиотажа. Во время игры, на которую пригласили Харрисона, вдруг полил дождь, словно для того, чтобы охладить страсти; на ливень никто не обратил внимания. Харрисон призвал на помощь все свое английское терпение и невозмутимость, он сказал себе, что ни за что первым не уйдет с этой переполненной деревянной трибунки, все равно сейчас игра прекратится, но две соперничающие пары продолжали как ни в чем не бывало, с новым ожесточением бить небольшим мячом в стенку и ловить его стручкообразной лопаточкой и снова бить, бить по несчастной и гулкой стене. Каждый удачный удар своих — наваррцев — сопровождался приветственными восклицаниями, а каждый промах — стоном, который разом вылетал из трех или четырех тысяч грудей.
Тогда Харрисон спросил, долго ли они еще будут играть, а Луис Эчебария ответил ему…
Луис Эчебария «болел» за пару из Алавы, в которой играл один его дальний родственник; алавцы бились молча и самоотверженно, словно бы не догадывались, что против них «болеет» вся публика, и их смелость не осталась незамеченной, сперва робко, а потом все громче стали звучать аплодисменты в их адрес, и, когда один из алавцев бросил мяч так, что его не смог отбить противник, Эчебария захлопал громко и радостно, не обращая никакого внимания на сидевшего рядом хмурого соседа. Сосед, судя по всему, долго крепился, но потом его прорвало, и он сказал что-то быстро-быстро Луису; тому понадобилось всего две-три секунды, чтобы успеть сформулировать все, что он думает о соседе. Еще через несколько минут уже никто не смотрел на площадку, все смотрели в ту сторону, где сидел Луис. Два удара, которыми он успел обменяться с обидчиком, сразу погасили страсти, бушевавшие вокруг пелоты. Игроки сделали перерыв и, вытирая лица, взмокшие под дождем, подошли к площадке рядом с трибуной, к которой хладнокровно спустились Луис и его сосед. Это был плотно сбитый молодой мужчина с чубом, выбивавшимся из-под красного берета. Он шел, как идет человек на не совсем приятное, но неотвратимое дело, отмахиваясь, как от мух, от тех, кто приличия ради собирался удержать его, И те, кто пробовал удержать Луиса, тоже понимали всю бессмысленность своих попыток.
— Куда вы, Луис? — сказал ему по-английски Харрисон. — Я вас никуда не отпущу, поглядите на этого быка, неужели нельзя без кулаков, ведь это же…
Тоном, который был Харрисону раньше незнаком, Эчебария ответил;
— Надо проучить наглеца. Все равно кто-то должен был заняться этим делом. Он не умеет себя вести. Подождите, пожалуйста, немножко, только ни в коем случае не вмешивайтесь.
— Боже, что они собираются делать! Их надо остановить! — Джекоб Харрисон, мешая английские, испанские и баскские слова (он думал, что так его лучше и быстрее поймут), искал союзников среди публики, но публика, должно быть, лучше его знала, как следует поступать в таких случаях, и делала вид, что не слышит и не замечает чужого человека со своими представлениями о чести.
Харрисон увидел вдали верзилу в жандармской форме, ему очень хотелось побежать, но он пересилил себя и пошел быстрым шагом. Жандарм спокойно ответил, что у него свободный день, что он явился сюда отдохнуть и полюбоваться пелотой и что ему нет никакого дела до ссоры двух незнакомых ему людей. После этого жандарм перевел разговор на погоду и сказал, что, по всей видимости, дождь скоро прекратится и пелота продолжится.
Пока же все четыре игрока стояли в плотной массе людей, окруживших площадку между двумя трибунами.
— Не бойся этого дылду, Агустин, пересчитай ему ребра! — кричали своему товарищу из толпы.
Агустин, как истинный наваррец, поднял вверх правую руку, выставил вперед правую ногу и мелкими-мелкими шажками тореадора стал приближаться к Луису, ловя мгновение для удара. Луис же принял стойку боксера и, едва наваррец приблизился к нему, ударил под грудь, ударил несильно, как бы молча предлагая не доводить поединок до ожесточения и свести счеты без крови.
Но, получив первый удар, наваррец бросился вперед, молча стиснув зубы. У него были большие руки с большими ногтями, словно бы обведенные иссиня-черной тушью. «Наверное, рудокоп, — подумал Харрисон, — у них тяжелые кулаки, не стоило связываться с ним!»
Луис Эчебария был сыном Мелитона Эчебария, ученого из Бильбао; еще в раннем детстве он увлекся книгами и легендами о баскской старине; отцу нравилось это увлечение, он подбирал ему книги и видел в мечтах сына знаменитым историком или лингвистом. Экзамен в Сан-Себастьянский университет Луис сдал сносно, но, проучившись два года, заявил о желании переехать в Мадрид, где «больше умных учителей» (и где больше красивых женщин, подумал Мелитон).
За два года Харрисон близко сошелся с младшим Эчебария, видел в нем исполнительного и заинтересованного помощника, несколько раз приглашал его в Лондон, и вот теперь сам снова приехал в Басконию, чтобы записать легенды. Он давно хотел посмотреть на пелоту, на тех, кто играл, и на тех, кто смотрел, и думал, что его, старого спортсмена, увлечет это зрелище, но оно оставило равнодушным — игра показалась хоть и быстрой, но однообразной, он не чувствовал ее соли, он мог бы воспользоваться правом гостя и уйти, и тогда не было бы этого скандала и этой драки.
Харрисон чувствовал, как пересохли губы. Он ощущал полнейшее бессилие свое, ибо те двое подчинялись неведомым ему законам.
Агустин ударил сильно и зло, давая понять, что компромисса в поединке не будет. Он знал, что на него смотрят товарищи, знал, что завтра об этом поединке будет говорить весь город, и понимал, что вся прошлая его жизнь ничто по сравнению с тем, как он поведет себя сегодня.
Нет, Луис был не так прост, как думал англичанин. Он был баском, а это значило, что его в детстве учили — и дома, и в колледже, и на улице, — как постоять за честь, на кулаках так на кулаках, на макилах[8] так на макилах.
Кошачьим шагом Луис шел вперед, высоко приподняв локоть левой руки и закрывая им лицо. В католическом колледже ему давали уроки бокса и дзю-до, и это должно было пригодиться сейчас — все, чему обучал его падре, ездивший на специальную стажировку в токийский институт дзю-до.
Харрисон с похолодевшим сердцем увидел, как кинулся к его другу наваррец, ударил, сбил с ног и, тяжело дыша, остановился. Глаза его горели гневом. Вокруг стало тихо-тихо.
Луис поднялся, снял пиджак, деловито стряхнул его, а потом бросил в толпу, давая понять, что поединок не закончен. В груди его клокотали обида и ярость, он уже не помнил ни о чем, не видел ничего, кроме широкого лица и приплюснутого носа наваррца и его широких рук с грязными ногтями.
Он ударил наваррца по лицу, тот зашатался, и в следующий удар Луис вложил всего себя. Противник застонал, казалось, на этом кончился бой. Но в этот момент кто-то из друзей наваррца бросил ему короткий нож с длинной изогнутой рукояткой. Луис первым увидел нож и наступил на него ногой, но противник бросился к нему, оттолкнул, схватил нож и всадил его Луису в бок. Агустин замахнулся для второго удара, но тут, не помня себя, к нему бросился Харрисон. Схватив что было мочи наваррца за кисть, он спросил громко по-английски, чтобы все сразу признали в нем иностранца:
— Что вы делаете, безумец? Вы убьете его. Уйдите, уйдите немедленно. Я позову полицию.
Увидев, что дело дошло до крови, люди начали расходиться. Один из игроков-алавцев пригнал машину и, втиснув в нее Луиса, вместе с Харрисоном помчался в лазарет.
В лазарете промыли рану и сказали, что легкое не задето.
Через час в лазарете появилась Эмилия, жена Луиса; деловито осведомившись, опасна ли рана, и узнав, что все произошло на пелоте, она заметила, что ничего более глупого на свете, чем эта игра, она не видела, и тогда, собрав силы, Луис открыл глаза и негромко произнес:
— Если ты скажешь еще два слова о пелоте, я встану и выдеру тебя.
В испанском языке нет такого слова «выдеру», но то, что произнес Луис, было очень близко к нему. Вместо того чтобы возмутиться, Эмилия подсела к мужу на краешек кровати, ласково поправила волосы и сказала:
— Это я нарочно, милый. Просто хотела знать, насколько у тебя все это опасно. Ну раз ты заговорил о пелоте и о своей любимой жене, значит, все не так страшно, скоро пройдет. А с тем, кто это сделал, мы еще успеем рассчитаться, не так ли, милый?
Женщина со смуглым точеным лицом и умными, преданными глазами жестко улыбнулась. Все в ее плотно обтянутой платьем фигуре, в жестах и интонациях говорило: «Я испанка, этим горжусь и поступлю как испанка». Харрисон вдруг вспомнил одну юную англичанку, одну симпатичную надменную и немногословную англичанку, за которой ухаживал его сын и которая должна была вот-вот стать госпожой Харрисон… если бы…
На следующий день Эмилия пришла с целой корзиной разных припасов и бутылкой вина, которую она неведомо как пронесла через проходную.
После первых вопросов — как провел ночь, какая была температура, по-прежнему ли болит бок, — после первых предупредительных вопросов, ответы на которые, как показалось Харрисону, Эмилия слушала, делая усилия над собой, ибо ей не терпелось кое-что сказать, женщина открыла сумочку.
Оказалось, она не теряла времени зря и узнала все, что полагалось узнать о человеке, пустившем в дело нож. Она принесла его адрес, записанный на полях газеты с отчетом о матче пелотистов, и показала, как пройти до этого дома от улицы святого Хуана. Как бы между делом Эмилия заметила, что ночевать домой Агустин не приходил, опасаясь визитов («откуда и каким образом она обо всем узнала и зачем ей это было? — думал Джекоб Харрисон и все спрашивал себя: — А как поступила бы на месте Эмилии любая англичанка?»)
Соседом Луиса по палате оказался сельский учитель по имени Серхио, человек лет пятидесяти пяти, с маленькой бритой головой, узкими, как у подростка, плечами и натруженными руками садовника. Учитель заново учился ходить после того, как однажды возвращался со свадьбы в стареньком «форде», за рулем которого сидел хмельной шофер. Водитель слегка не рассчитал поворота при въезде на мост и сам отделался парой синяков, а вот учитель поломал ногу, срасталась она медленно и неохотно… Познакомившись с английским профессором, который специально прибыл в Басконию, чтобы изучить баскский язык, Серхио уже не спешил покинуть госпиталь. Тихий и скромный учитель считал высшей для себя честью беседовать со знаменитым профессором. Харрисон проникся симпатией к этому, судя по всему, одинокому человеку. Посетители к Серхио приходили редко: ученики да родители учеников приносили нехитрые подарки, рассказывали о школьных делах и, если бывал в это время в палате Харрисон, робели и спешили попрощаться, обещая скоро прийти еще и рассказать обо всех школьных новостях. Новости в этой школе, как мог впоследствии догадываться Харрисон, бывали не чаще, чем раз в пять или семь лет, когда преподавание баскского языка разрешали доводить до шестого года обучения или вдруг неожиданно сокращали этот срок до третьего года, после чего вся школа дружно объявляла забастовку, как и школы других баскских провинций. На эти демонстрации в Мадриде смотрели как на дань баскскому национализму, не принимали их всерьез, присылали «для расследования» второстепенных чиновников из министерства просвещения, и те обещали разобраться, добавляя при этом, что проводимые министерством мероприятия преследуют цель оказания помощи подрастающему поколению басков, с тем чтобы оно лучше освоило испанский язык, дающий возможность получить работу в любом месте страны.
Дон Серхио не спорил с этим, он понимал, что человек, владеющий испанским, может чувствовать себя свободно чуть не на всех континентах, что на испанском — богатейшая литература, что все книги просто невозможно перевести на баскский: знание испанского — благо! Но почему большой сосед не хочет, чтобы маленький народ, приютившийся на самом краю Пиренеев, знал язык своих предков, хранил обычаи, которым были верны деды и прадеды?
Дон Серхио уговаривал англичанина:
— Если вы хотите увидеть, как живут баски, езжайте не в Бильбао, не в Сан-Себастьян, а в села. К нам приезжайте. В селах все сохранилось лучше: и обычаи и язык, и песни, и весь уклад. Приезжайте, не пожалеете.
Старый учитель начал ходить чуть раньше Луиса и ухаживал за ним с ненавязчивой заботой.
Мелитону Эчебария ничего не сообщили. Когда же он узнал о происшествии и примчался в госпиталь, Луис был уже на ногах.
К великой радости Харрисона, наваррец, ранивший Луиса, из города исчез. Особо рьяных попыток разыскать его Луис не предпринимал. Но с тех пор, выходя на улицу, брал с собой нож.
За столом, во главе которого сидел Харрисон, давно воцарился тот милый беспорядок, который придает особую прелесть послеобеденной беседе даже за чинным английским столом, делая ее непринужденной. Джекоб невольно вспомнил строгий ритуал баскского застолья, который делал сидящего за столом пленником одного оратора. Года через два после знакомства с доном Серхио Харрисон и Луис получили от него письмо с приглашением в гости.
В небольшом селе дальний родственник дона Серхио праздновал рождение сына. У крестьянина был неказистый дом, давно нуждавшийся в новой крыше, скромная обстановка: грубые табуреты вместо стульев, длинный стол на многих ножках.
У крестьянина — отца трех дочерей — родился сын, и Джекобу Харрисону казалось, что счастливый отец задался единственной целью — спустить за вечер все свои сбережения, все движимое и недвижимое имущество.
— Послушайте, дон Серхио, почему бы отцу не положить все эти деньги в банк на имя сына, вместо того чтобы прокутить их за два-три дня? — спросил Джекоб Харрисон.
— Вы знаете, он, наверное, никогда об этом не думал. И мне это тоже не приходило в голову. Хотите, я спрошу у него.
— А это удобно, отвлекать человека от его хозяйских дел? Если удобно, спросите.
— Только я должен сказать ему, что это ваш вопрос, что это интересует вас, чужестранца.
— Разумеется, разумеется.
Серхио подошел к хозяину, и Харрисон видел, как недоуменно тот развел руки, словно бы говоря; «А что я ему могу ответить?» Серхио снова наклонился к его уху, как бы упрашивая не отказать гостю. Тогда крестьянин встал, оправил куртку и двинулся к Харрисону, на ходу обдумывая ответ.
Крестьянин был смущен, он хотел обратить все в шутку, но Харрисону очень важно было постичь его философию, и он бесхитростно сказал, что англичанин поступил бы иначе потому, как кажется Харрисону, что умеет смотреть далеко вперед. А если уж у него семейное торжество, то он пригласит только самых близких родных и друзей.
— А это мои самые близкие друзья и родные… Через три дня приедут еще.
— Еще? — изумился Харрисон. — Сколько же их будет?
— Немножко больше, чем сейчас, там у них (крестьянин назвал соседнее селение) священник недавно умер, они соблюдают траур, скоро срок пройдет, и они приедут.
— Но не лучше ли было бы, не лучше ли было все эти деньги положить в банк на имя вашего сына, пусть они росли бы вместе с ним, и к восемнадцати или двадцати годам он бы уже имел кое-что. Они бы ему, конечно, пригодились.
Крестьянин крепко задумался. Начал теребить скатерть, потом заметил, что в одном из кувшинов осталось мало вина, жестом подозвал дочь и показал глазами в сторону кувшина, после чего сказал:
— Если бы мой сын рос в городе один среди чужих, ему бы нужны были деньги. Там деньги — все. А у нас не совсем все.
— Как «не совсем все»? Я еще недостаточно хорошо понимаю по-баскски. Не могли бы вы сказать это по-испански?
— Нет, нет, вы все поняли правильно, — сказал хозяин. — Там, в городах, люди мало знают друг друга. И редко приходят на помощь. Там свои законы. У нас свои. Человеку, который имеет дело с землей, достаточно быть трудолюбивым и таким же честным, как и другие, которые работают с ним рядом и тоже имеют дело с землей. У него могут быть свои потери и несчастья — неурожай, болезнь или, скажем, пожар… В прошлом году был пожар, три дома сгорело. Ну мы всем селом построили два дома.
— Почему не три?
— В третьем жил несчастный человек…
— Что же не помогли ему?
— Тот несчастный человек имел много денег и давал их в рост.
— То есть приходил людям на помощь в трудную минуту?
— Ну это как рассуждать. Мы все приходим друг к другу на помощь. Но только такого обычая нет, чтобы из этого выгоду себе извлекать.
Вообще Джекоб Харрисон любил споры и считал, что умеет спорить, отстаивать свое мнение, опровергать доводы противника. Это искусство он начал постигать на первых студенческих диспутах, а потом оно не раз помогало ему, когда приходилось сталкиваться с людьми, равными по положению и по знаниям. Но тогда, разговаривая с крестьянином, он не без огорчения понял, что в этом споре перевешивает не его чаша, он вдруг почувствовал, что вынужден пасовать перед бесхитростной житейской правдой немолодого баска.
…Праздник в доме крестьянина длился несколько дней.
Харрисон и Луис много бродили по деревне, и Харрисон делал записи в большом блокноте, еще хранившем торопливые предотъездные лондонские заметки: что не забыть купить, что взять с собой, кому нанести прощальные визиты.
«Дома у басков прямоугольные, первый этаж каменный, второй — деревянный. Крыши черепичные. По дому не отличишь — бедный или богатый человек живет в нем (странная особенность, к которой следует приглядеться). Кукурузу хранят в деревянных амбарах на высоких столбах. Поднимаются в амбары по бревнам, в которых вырублены ступеньки».
«Дома — кассерио — лежат разбросанно; в центре — церковь, Луис говорит, что и другие селения выглядят так же: в середине, на холме или пригорке церковь, а вокруг нее кассерио».
«На некоторых домах — фамильные гербы, некая композиция из четырех картинок. Часто встречается котелок на цепочке над очагом, символ домовитости. Церковь (в этом селении ее называют „иглесия“, в других — „елиза“) украшена каменным орнаментом, выполненным, должно быть, шесть или семь веков назад (постараться расспросить старосту и крестьян, когда построена церковь). Космические мотивы баскских орнаментов; солнце с изогнутыми лучами, луна в различных фазах. Кстати, луна по-баскски „илларги“, а смерть — „ил“. По преданиям души басков после смерти переселяются на луну. У кого читал об этом предании? Проверить».
Время от времени Харрисон просил у Луиса извинения, тот молча подставлял спину; положив на нее блокнот, Джекоб аккуратным неторопливым почерком вписывал наблюдения. Однажды они остановились недалеко от мальчишек, игравших в чехарду. Те сразу забыли про игру и, окружив незнакомцев, молча уставились на них. Мальчишки стояли вокруг Джекоба Харрисона и Луиса и с каким-то равнодушным любопытством слушали, о чем они друг с другом говорили.
— Приятель, — сказал одному из них Харрисон, — так долго смотреть на меня бесплатно нельзя. Вон там, за углом, продают билеты, пойди купи и тогда смотри сколько хочешь.
Прежде чем произнести эту баскскую фразу, Харрисон несколько раз повторил ее про себя, чтобы не ошибиться, была у него такая симпатичная привычка.
Но мальчишка, к которому он обратился, продолжал стоять как ни в чем не бывало.
Тогда самый старший из ребят сказал:
— Он вас не понял. Он из другой деревни, вон оттуда. — И показал на вершину крутой горы, увенчанной полуразрушенной крепостью.
— А что, разве в той деревне живут не баски? — спросил Харрисон.
— Баски, баски, но они говорят по-другому, там начинается другая провинция.
Луис с улыбкой слушал беседу. Потом сказал:
— Этот малыш из Герники. Из той самой Герники, где рос дуб…
— Неужели это так близко, я много слышал о вашем знаменитом дубе, почему бы нам не сходить туда? А разве там говорят на другом языке?
— Нет, на другом диалекте. Но к нему можно быстро привыкнуть. Я думаю, что хозяин, если его как следует попросить, отпустит нас туда на день, на два.
Харрисон хорошо помнил ту поездку.
Пара быков безропотно и отрешенно тащила коляску в гору по неширокой каменистой колее. Шли быки со скоростью трех или четырех километров в час, повозка немилосердно подпрыгивала и скрипела. Харрисон попробовал было пойти пешком, но метров через шестьсот остановился перевести дух, быки величественно прошли мимо него; Луис подвинулся, освобождая место для англичанина.
Был жаркий октябрьский день, после недолгого своего путешествия Харрисон вспотел и сейчас, полулежа на свежей соломе, мечтал о прохладной ванне или душе. Харрисон не любил жары, с трудом переносил ее; он начал уже жалеть о поездке, как вдруг за поворотом открылась деревушка, утопавшая в садах, поворот кончился, повеяло свежим ветерком.
Луис показал на церквушку, видневшуюся в километре, и заметил, что в той церкви можно встретить одного просвещенного монаха, с которым было бы. небезынтересно познакомиться Харрисону.
Старец сидел в тени за деревянным столом, на котором были четыре тарелки, кувшин с вином, круг белого сыра, огурцы, вареные яйца и еще не остывшая кукурузная лепешка размером с хорошую сковороду.
Харрисону показалось, что они приехали не вовремя, что хозяин кого-то ждет, и он спросил по-английски Луиса, удобно ли им останавливаться здесь.
— Вполне удобно, — как ни в чем не бывало ответил монах, — это я вас жду.
— Как же вам сообщили? У вас что, радио или телефон?
— У нас свое радио, — с улыбкой ответил монах. — Старое, старое радио, которому не нужно электричества. Мне просвистели снизу, что к нам едет Луис, к кому же он должен был приехать первым делом, как не ко мне? Он сам виноват, что никого не послал предупредить… А теперь буду угощать вас чем бог послал.
Звали монаха, как и отца Луиса, Мелитоном.
«Старику лет за семьдесят», — подумал поначалу профессор. Но оказалось, что монаху почти девяносто, потому что он, между прочим, упомянул, что помнит первую карлистскую войну и сам участвовал во второй. Харрисон хорошо знал, чем обернулось поражение карлистов в 1876 году для басков, потерявших все свои фуэрос — привилегии: таможенные, налоговые и прочие — и слегка удивился, увидев книгу, которую читал хозяин, ожидая гостей. «Жизнь и деяния Альфонса Двенадцатого» — было написано на обложке. Альфонс и был тем королем, который, мстя баскам за преданность Карлу, лишил их старых вольностей.
Словно бы прочитав его мысли, монах сказал:
— А он был большой пройдоха, нет, нет, я не о короле, король само собой, я о достославном отце Игнасио, который взял на себя труд описать жизнь короля. Если верить отцу Игнасио, ни до, ни после Альфонса не было на земле столь просвещенного, гуманного и прозорливого правителя. Все его поступки продиктованы высшими идеалами, а все его речи — благородными побуждениями. Сам же Игнасио был пьяницей, какого свет не видел. Но имел почет и уважение при дворе. А сейчас его книга читается как веселый анекдот. Люблю такие книги.
Мелитон подождал, пока погонщик распряжет быков и задаст им корм, пригласил его к столу, тот из-за приличия несколько раз отказался, давая понять, что не место ему за одним столом с такими высокочтимыми господами. Луис недовольно буркнул: «Ну бросай свои церемонии, дай кусок хлеба съесть, не томи, присаживайся». Погонщика уже дожидался стакан белого вина, гость, не зная, куда девать большие руки, положил их на стол, убрал, преодолевая стеснение, взял стакан, приподнял его и со словами: «Да будет мир в твоей обители, отец», неторопливо выпил.
— Заспиак бат, — проговорил монах и пригубил из стакана.
— Заспиак бат, — откликнулся Луис.
— Ваше здоровье, — произнес Харрисон, не зная, пристало ли ему, чужеземцу, повторять баскскую здравицу.
Этот древний клич: «семь как один!» — родился когда-то здесь, в Гернике, и был связан с национальной святыней басков — Герникским дубом.
Харрисон вспомнил гимн:
После трапезы они направились к месту, где когда-то рос дуб.
— Пять человек с трудом обхватывали его, а лет ему было много раз по сто, — произнес Мелитон. — Вот здесь когда-то, под ветвями, собирались старейшины нашего рода — вырабатывали законы, судили, и их суд был для басков высшим на земле. Теперь времена немного не те, но и сейчас сходятся здесь старики, когда надо всем миром что-то решить. И из дальних краев приезжают баски поклониться святому месту. В прошлом году из Мексики приезжали. Некоторые плакали. Взяли с собой землю. Щедрую лепту оставили церкви… Эх, где только не живут сегодня баски… Разнесло по свету. Пусть будут вместе душой. Заспиак бат!
Они беседовали за кувшином вина до позднего вечера, а утром проснувшийся раньше других монах принес весть о том, что приехал отец Луиса Мелитон Эчебария с двумя незнакомыми людьми. Кажется, из России…
Тогда и познакомился Харрисон с профессором Георгием Девдариани и его сыном Давидом.
Помнил Харрисон, как удивленно говорил молодой гость монаху:
— Ну почему зовут Мелитоном моего друга Эчебария, я еще могу догадаться… У него в роду были рудокопы и мастера-металлисты… Ну откуда, извините меня, это имя у вас, у служителя церкви? Дело в том, что по-нашему, по-грузински «мелитоне» — «человек, имеющий дело с металлом».
— Если судить по церковным книгам, мои не такие уж далекие предки тоже добывали железо. Собственно, как и большинство жителей этих мест. Баскония — это железо.
…С Эчебария Харрисон поддерживал связь все последние годы. А от Девдариани-старшего получил только одно письмо. Узнал, что он эмигрировал во Францию, а сын его стал революционером и погиб в гражданскую войну.
Харрисону были нужны союзники на Кавказе. До войны он мечтал о широкой комплексной экспедиции, в которой были бы антропологи, этнографы, лингвисты… Эта экспедиция должна была провести несколько лет в Грузии, а потом несколько лет в Басконии… Далеко уносили мечты.
У него не осталось сына. Не осталось жены. Дело, которому он служил столько лет, не дало плодов.
Старый друг, чтобы скрасить горечь его поражения, сказал, что науке нужны и такие бесплодные труды. Какое дело ему, Харрисону, до других! Чем жить ему, во что верить?
Он собирался в Бомбей, в университет, где открылась вакансия на кафедре английского языка.
Он хотел плыть морем, потом раздумал и решил первый раз в жизни полететь самолетом.
В тот самый день, когда он обратился в контору, занимающуюся перевозкой вещей на большие расстояния, радио сообщило из Испании: 16 июля 1936 года там вспыхнул мятеж. Харрисон читал сообщения агентства Гавас о том, что немецкие летчики разбомбили несколько деревень в баскских провинциях. Харрисон вспомнил монаха Мелитона и ребятишек, игравших на площадке у церкви.
Через несколько дней в английской газете появилось обращение, подписанное священниками, художниками, писателями, — помочь сиротам Испании.
Профессор Харрисон позвонил в транспортную контору и вежливо уведомил ее, что раздумал уезжать в Индию. Путь его лежал в Испанию, где шла гражданская война.
Глава вторая. Ожидание
Через два дня после сдачи государственных экзаменов я переехал к старикам Пуни. У дядюшки Диего что-то с сердцем, а у Кристин — с ногами: распухли, ходит с трудом. Диего держался, крепился и вдруг сдал, слег в постель.
Мы с Шалвой приглашены в аспирантуру, у нас около двух свободных месяцев. Старики обрадовались: не так им будет одиноко. Они преданы друг другу, как Филемон и Бавкида из древнего мифа, и не смогут друг без друга. Мне жаль их старость без детей. У Пуни неплохой приемник, в первую же ночь мы слушали французское радио.
Париж сообщал, что в испанский порт прибыли советские корабли с медикаментами, продовольствием, самолетами, танками и пушками. А еще прибыли добровольцы, которые поведут эти танки и самолеты в бой.
Я знал, что придет такой час. Рад, что он пришел. Итальянские и немецкие фашисты послали свои войска на помощь Франко. «Что же мы? Когда же мы?» — думал не раз.
Я оттягивал принятие окончательного решения до той поры, пока не узнаю, что кто-то из наших поехал туда. Теперь такая пора пришла.
Меня принял заместитель военкома и, когда узнал, по какому я делу, посоветовал прийти поздно вечером, когда военком будет менее занят делами.
Военком сказал мне так, как говорил, должно быть, уже многим:
— Я не могу ничего обещать. Я не имею на этот счет никаких указаний. Я советую написать вам в Москву, в «Правду» или в «Известия» и высказать свой про-тест против фашистского вмешательства в Испанию. Больше ничем помочь не могу.
Я ответил, что мог бы быть полезен там.
— Все так говорят, — хмуро парировал военком.
— Да, но я знаю испанский, немного, но знаю и уже давно изучаю историю басков…
— Для того чтобы сражаться в Испании, нужно владеть не языком, нужно владеть оружием, там насмерть бой.
— Знаю об этом. Что вам показать — значки Ворошиловского стрелка, ГТО или, может быть, ПВХО? Но, если бы я сказал вам, что владею немецким, вы бы приняли от меня заявление?
— Не знаю… может быть, и принял бы… если бы получил указание.
— Послушайте, товарищ военком… Я с вами разговариваю как комсомолец с коммунистом. Я потерял в гражданскую войну отца, он был командиром красной роты. Другим я не рассказывал об этом… Но вам, товарищ военком, говорю, чтобы вы поняли, что привело меня сюда. Я должен поехать в Испанию, и я поеду туда. Посоветуйте, что я должен сделать… Я могу принести рекомендации…
— Так какими языками владеешь?
— Немецким, думаете, не будет нужды в переводчике? Ведь там батальон немецких антифашистов, и испанским.
— А как испанский изучал?
— С одним испанцем. И по учебникам.
— А знаешь что, давай-ка твой адрес, а вдруг удастся.
— Можно зайти к вам, дорогой товарищ военком?
— Сам вызову, если понадобишься. Пока никому не говори, да и потом тоже.
Через неделю я получил повестку. Военком вызвал меня и долго беседовал в присутствии незнакомого человека с двумя шпалами на петлицах. Попросил ненадолго выйти. Минут через пять пригласил снова и предложил пройти медицинскую комиссию. Во всех графах-медицинской карты стояло: «Здоров, жалоб нет».
Военком сказал, что мои дела идут нормально.
Был первый час ночи, мама стирала на кухне, Мито сладко посапывал в кроватке, по радио передавали сообщения о битве под Мадридом. Тенгиз отвинтил один наушник, протянул его мне. Диктор читал кольцовские строки:
«На фронте у Мадрида относительная тишина. Зато фашисты снова перенесли огонь прямо на город. Сегодня ночью артиллерийский обстрел, какого уже не было добрых два месяца. От полуночи до двух с половиной часов утра я подсчитал свыше двухсот пятидесяти разрывов, на этот раз в центре города… Никогда еще артиллеристы не имели перед собой такой огромной и выгодной мишени, как в 1937 году, в Испании».
— Слышишь, — негромко произнес Тенгиз, — какой город уничтожают. Что же там творится такое? Немцы со своими танками, итальянцы со своими пушками, а мы что смотрим? Двинуть бы туда пару дивизий…
Незадолго до того прошли маневры Белорусского военного округа, два или три раза мы видели их в киножурналах, танки бесстрашно и стремительно шли на «вражеские» укрепленные пункты и сметали их огнем и гусеницами; много других фильмов о маневрах я видел, но никогда еще не испытывал такой уверенности, что нет в мире армии, которая могла бы сравниться с нашей. Стране нужны были такие фильмы и такая уверенность. И не один Тенгиз думал, а почему не двинуть те танки и тех танкистов в Испанию на помощь братьям-испанцам.
Диктор продолжал читать корреспонденцию Михаила Кольцова: «Один взрыв сверкнул где-то совсем рядом; в нашем доме вылетело несколько окон; утром невозмутимые мадридские уборщицы, оживленно болтая, убирали щебень от непрочной штукатурки.
В мадридских больницах и моргах новая сотня раненых и убитых. Безвинные жертвы, они отдали свою кровь и жизнь только за то, что осмеливаются жить и дышать в республиканском антифашистском Мадриде».
Я положил на стол наушник и сказал негромко, чтобы не разбудить Мито и чтобы не услышала мама:
— Я еду туда, Тенгиз. Кажется, еду. Только никому ни слова.
Тенгиз никогда ничему не удивлялся, будто слово такое дал — не удивляться, не изумляться, не волноваться — не к лицу это невропатологу, который должен уметь успокаивать других. Он и сейчас не удивился. Неторопливо снял с головы дужку с наушником, подошел к розетке, вытянул штепсель, спросил:
— Мама знает?
— Нет.
Ему было приятно услышать это «нет». Значит, доверяю, и не матери родной, а ему говорю первому о своем решении.
— Все хорошо взвесил? Значит, наши все же там есть? — огорчился вестью о возможной разлуке и обрадовался неожиданной мысли: «Значит, наши там есть!» — А что будешь делать?
— Главное, умею стрелять… Кроме того, испанский и немецкий… Там в интернациональных бригадах полно немцев из разных стран, язык может пригодиться.
— И давно начал это самое?.. Давно подал заявление?
— Примерно месяц назад, но не хотел говорить до поры до времени никому, пока не получу ответа.
— А как отнесется к этому делу мама?
— Поймет меня. Смогу убедить.
— Да… То есть нет… Дело, по-моему, предстоит тебе не из самых легких. А что, надолго собираешься?
— Разве знаю? Хочу верить, что до победы, что мне доведется попасть к баскам.
— А как Шалва?
— Он не едет, со зрением у него сам знаешь как. Но на меня не в обиде.
Предстояла долгая разлука с дорогим человеком, ставшим мне вторым отцом. Хотелось сказать Тенгизу, как давно вынашивал эту мысль, откуда узнал о наших добровольцах, с кем беседовал. Хотелось сказать многое…
— А Циала? Как с Циалой?
С Циалой предстоял нелегкий разговор.
За несколько месяцев до того, в ноябре 1936 года, мы получили приглашение на ртвели — сбор винограда — к Варламу. Приехали гости из Кутаиси, Тифлиса, Хашури. Ртвели — повод для встречи старых друзей и родственников. Мы с Циалой привезли нехитрые подарки детишкам. Оказалось, что приехали позже других. Гости, собрав первые корзины, сидели за столами, накрытыми во дворе под большим ореховым деревом. Нас встретили старым приветствием: «Пусть здравствует, кто прибыл», дали по стакану вина и по куску хачапури: мы выпили, но не присели, и никто нас не уговаривал — обычай есть обычай, — каждый прибывший должен собрать свою корзину винограда.
Мы взяли корзины и отправились в виноградник.
Солнце садилось. Мы срезали по нескольку гроздей, положили их в корзину и уселись рядом. Я молча протянул Циале большую гроздь, она, не взяв ее из рук, потянулась к ней губами, я отодвинул гроздь и поцеловал ее. Я сделал это не очень смело. Помнил день, когда поцеловал ее первый раз. Это было перед похоронами Мелко, мы шли к станции под проливным дождем, платье Циалы словно было приклеено к телу. Я поцеловал ее, и она поцеловала меня. Нас догнал жулик-фотограф Леван, мы обменялись с ним двумя-тремя фразами, отстали от него. Циала еще раз поцеловала меня и бросилась бежать. Я догнал ее. Она посмотрела на меня строго и приказала не подходить. После этого она долго не разговаривала со мной. С тех пор у меня был условный рефлекс, я много раз целовал ее во сне и ни разу наяву, я подумал, что сейчас она убежит опять… Сердце запрыгало. Циала не отпрянула, не закрыла лица рукой.
Я вспомнил старую песенку;
Меня уносило далеко, далеко. Я слишком любил, слишком дорожил этим человеком, я не имел права переступить какой-то черты, я понимал это. Но где мне было взять силу не переступить ее?
Я первый раз увидел, нет, почувствовал тугие груди Циалы. Вдали пролетел светлячок. Циала гладила горячей и чуть влажной рукой мое лицо, шею. На противоположном склоне под крепостью зажглись огоньки. Начали концерт цикады. Время проносилось мимо. Над нами было светлое лунное небо, и на его фоне таинственно темнела крепость Мелискари. Прогрохотал поезд. Где-то далеко послышалась песня. Время постепенно обретало привычный ход. Мы ничего не говорили друг другу. Мне хотелось плакать. Или петь. Циала гладила меня.
Откуда-то сверху раздался голос Наны:
— Циала, Отар, где вы там пропали, не заблудились?
Приставив руки рупором ко рту, я прошептал:
— Мы пропали, мы пропали!
— Мы заблудились, — в тон мне ответила Циала. — Люди, помогите нам…
— Помогите нам собрать эти две корзины винограда. Что вы подумаете о нас, если увидите, что наши корзины пусты?
— Боже, на кого я похожа? — с ужасом спросила Циала.
— На богиню, — ответил я.
В театре Руставели — «Отелло» с Хоравой и Васадзе. У меня два билета в партер. Первый раз в жизни я буду сидеть в партере. На дальних подступах к театру нас с Циалой встречают заискивающими улыбками.
— У вас, конечно, нет лишнего билета.
— Вы, разумеется, не хотите никому продать билет.
В нашем городе просят без вопросительных интонаций: чтобы не огорчаться отказом, спрашивающий заранее настраивает себя, да и вам приятней сказать «да», чем «нет».
Ко мне подошло человек пятнадцать. Я раз пятнадцать сказал;
— Да, я не имею билета, — и сожалеюще пожимал плечами.
Когда играли два знаменитых тезки, Акакий Алексеевич Хорава и Акакий Алексеевич Васадзе, когда они играли один — Отелло, а другой — Яго, Тбилиси немного сходил с ума.
Сзади нас сидел Керим Аджар с женой, мы приветливо поздоровались и уступили им место, те никак не соглашались наконец с миллионом извинений пересели вперед.
Я не думаю, что в мире есть много таких театров, где переживания, боль, ревность и ненависть Отелло принимаются к сердцу столь близко, как в тбилисском театре.
Не только пылкие юноши — самые степенные и рассудительные граждане, привыкшие держать в узде свои страсти, готовы крикнуть Отелло: не верь этому поганцу Яго, Дездемона не виновата, понимаешь, не виновата! Это все Яго подстроил с платком!
Когда играют Хорава и Васадзе, мне тоже хочется помочь этому несчастному Отелло, любовь ослепляет так же, как и ненависть. Когда Отелло душит Дездемону, Циала тайком вытаскивает платок.
— Смотри, — говорю я тихо, — я скоро могу уехать, чтобы с этим платком ничего не произошло.
Я долго думал, как начать разговор с Циалой об отъезде; ее платок неожиданно помог мне.
Циала ничего не ответила, но, когда мы вышли из театра, она взяла меня под руку и, глядя снизу вверх в глаза, спросила:
— Куда ты собрался, милый? Один? Без меня?
— Я не сказал тебе, что обязательно уеду. Я сказал, что могу уехать. И если уеду один, без тебя, ты лучше, чем кто-нибудь другой, сможешь понять…
— Куда же ты?
— Не могу говорить.
— Кому, мне не можешь?
— Ни тебе, ни маме. Я связан обязательством.
— То есть ты хочешь сказать, что принял решение единолично, ни с кем не посоветовавшись, никому ничего не сказав. По-моему, так поступают только самонадеянные и, не сердись, очень самолюбивые люди. Ты что, в Испанию собрался?
— Я могу никуда не поехать. Меня могут никуда не взять. Но если возьмут, я буду счастливым человеком. Как бы тяжела ни была разлука с тобой.
— Слова… А с Шалвой ты говорил?
— С Шалвой говорил. Еще до того, как написал заявление.
— Ну и что он?
— Он считает, что один из нас должен был сделать это. Он знал, что у него с его… этой самой близорукостью было меньше шансов.
Мы шли по проспекту Руставели, и молодые люди, подпирающие стены домов (поэтому так долго держатся дома на этом проспекте), провожали ее взглядами и с завистью посматривали на меня; мне всегда было приятно так вот ходить с ней, чувствовать ее руку, ее тепло, ее обволакивающий взгляд. Это друг. Как друг она должна понять, что есть причина, заставляющая меня поступить так, как я поступил.
Циала шла большими плавными шагами, стараясь подстроиться под мой шаг. Она плотно прижалась ко мне и спросила топом тихим и спокойным:
— А как бы ты поступил, если бы я сказала тебе, что жду ребенка? Мне кажется… возможно, это и не так (она постаралась произнести эти слова с моей интонацией), но, мне кажется, я жду ребенка.
Я хотел сказать: «Циала, жизнь моя, радость моя!»
Но ничего не сказал. Я подхватил ее на руки, она отчаянно замахала ногами, стараясь высвободиться; на нас с удивлением смотрели прохожие, милиционер попробовал сделать мне внушение, я поцеловал Циалу крепко-крепко и опустил на землю.
— А если тебя убьют?
Я почему-то никогда не думал об этом. Знал, что еду туда, где бой, где стреляют, где разрываются снаряды и где бомбы падают с неба на мирных жителей. Но только сейчас, только в эту минуту, посмотрел на себя со стороны, начал думать не о том, что будет со мной, если меня тяжело ранят. Что будет с Циалой, не стану ли я ей обузой на всю жизнь? А если убьют?
Может быть, сейчас, в эту минуту, я был бы счастлив, если бы мне отказали в поездке? Так спросил я себя и ответил без раздумий — нет, я не был бы счастлив, я сделал бы все, чтобы поехать. Это мой долг, моя обязанность перед тем, что для меня свято, что составляет мою сущность, я могу так думать и не имею права никому об этом говорить. Не потому только, что моя поездка засекречена. А потому еще, что есть вещи, о которых нельзя говорить громко.
— Меня не убьют, Циала. Я знаю, не убьют.
— Успокаиваешь меня или себя?
Когда мы вернулись из Харагоули, я спросил: «Мог бы я поговорить с твоим отцом?» — «О чем?» — спросила она. «Ну, как по-твоему, о чем я собираюсь поговорить». — «Перестань, я не хочу связывать тебя семьей. Ты мой, и этого мне достаточно… Пока…»
Я не думаю, что многие так поступают на ее месте.
— А если тебя убьют? Что будет со мной, что будет с малышом?
— Циала, мы завтра пойдем с тобой в загс.
— Разве загс дает охранную грамоту? Разве эта грамота защищает от пуль?
В загсе было торжественно. За коричневой скатертью из марли сидел пожилой, исполненный достоинства субъект в дореволюционном пенсне. Он, не сказав ни слова, протянул два бланка, пока мы писали, сменил воду в блюдце с бумагой-мухомором, потом, получив бланки, подозрительно оглядел нас и предложил пройти в соседнюю комнату.
В соседней комнате сидела пучеглазая дама, водившая пальцем левой руки по разграфленному листу, а правой щелкавшая на счетах. Она что-то шептала про себя. Чувствовалось, что это была натура цельная, способная с головой окунаться в работу. Из таких часто вырастали гении.
Мы вошли и сиротливо выстроились у стены, не считая удобным отрывать человека от работы. Всем своим видом пучеглазая дама показывала, какое у нее важное и неотложное дело. Она подсчитала числа сверху вниз, под чертой написала сумму, потом стала складывать те же числа снизу вверх, я подумал, хорошо бы, сошлось. Но у нее что-то там не сошлось. Дама слегка чертыхнулась и, обведя нас невидящим взглядом, снова принялась за подсчеты. Она водила пальцем сверху вниз, не дождавшись, пока палец упрется в последнюю цифру, к ней подошел Шалва (я не могу сказать, что это был самый выдержанный член нашей компании; он вечно торопился и старался показать всему миру свою принципиальность в борьбе с бюрократизмом и волокитой). Он с трудом сдерживал себя.
— Эти граждане пришли сюда, чтобы с вашей помощью засвидетельствовать самое приятное и значительное событие в своей жизни. Мы уже пятнадцать минут ждем, когда вы кончите считать. Если у вас что-нибудь не получается, я с удовольствием вам помогу.
— Мне не требуется ничьей помощи, — в тон ему ответила дама. После этого она стала еще важнее; — Я не занимаюсь личным делом. До вас приходило шесть человек регистрировать браки и смерть, и никто не торопил меня.
Циала начала слегка постукивать носком туфли по полу.
— Но вы могли бы завершить эту работу, когда мы уйдем? — неприязненно спросил Шалва. Он явно шел на скандал.
— У меня квартальный отчет: понимаете, я не в игрушки играю, — отчеканила дама.
— Сколько же нам ждать?
— Послушайте, вы кто, жених?
— Нет, я невеста, — торопливо ответил Шалва.
— Пришли хулиганить? Кто здесь жених?
Я сделал несмелый шаг вперед.
— Вот вы и останьтесь с невестой. А остальных прошу выйти.
— Я лично никуда не выйду, — вызывающе произнес Шалва.
— Ах не выйдете? Прекрасно. А я не буду оформлять брака, пока вы не уйдете.
В комнату начали заглядывать посторонние. Пока шли подсчеты и дебаты, выстроилась очередь человек из восьми, им не терпелось быстрее покончить с делами, напрасно искал среди них сочувствия Шалва. Идя в бой, он никогда не думал о тыле и о своих резервах. Вот и сейчас он обратился к тем, кто был за нами, ища сочувствия.
Народ зароптал и вылил на голову бедного Шалвы ушат презрения.
— Чего человека зря от работы отвлекаете? Вы что здесь, одни, что ли? Не обращайте на него внимания, гражданка. Он не виноват, это родители виноваты, что так его воспитали, — произнес квадратный гражданин с огромной палкой и перстнем — череп и кости — на среднем пальце.
Я боялся испорченного вечера. Я хотел быть миролюбивым и терпеливым, надеясь, что эти качества пригодятся определенным образом в семейной жизни. Я многое бы дал, чтобы быстрее уйти отсюда. Но, видимо, в моей книге судеб было предначертано иначе.
— Шалва, неужели ты его не знаешь? Это бригадир носильщиков на вокзале. Рекомендую тебе не связываться с ним. При мне он нес три чемодана и два мешка.
— Ах это я носильщик? Я сейчас этой палкой твою пустую голову пробью. Ты знаешь, кто я? — оппонент полез в карман за удостоверением.
Пучеглазая гражданка ничуть не жалела, что события приняли такой оборот. В ее глазах появилось нечто отдаленно напоминающее интерес к жизни. Она четко, определила свою роль в начинавшемся конфликте и, как показалось мне, многое бы дала, чтобы он не заглох. Вздохнув, она обратилась к компании квадратного человека:
— Вот в такой обстановке я вынуждена работать. Руки опускаются, ей-богу.
— А вы не регистрируйте их, — посоветовала очередь. — Давайте, проходите следующие.
— Нет, нет, не держите меня, — уговаривал неизвестно кого гражданин с палкой. Я никак не мог понять, какая роль принадлежит ему в той компании. Он не был похож годами на отца и не был похож на жениха.
До этой минуты стоявший недалеко от меня Федя был молчалив и задумчив, но тут не выдержал, подошел к квадратному гражданину и, дыхнув ему в лицо, чтобы лишить сил и уверенности в себе, угрожающе прошептал:
— А ну пойдем, товарищ носильщик, я немного поучу, как вести себя в интеллигентном обществе. — Не ожидая согласия оппонента, Федя дернул его за лацкан.
Тот обвел беспомощным взглядом тех, перед кем так хотел покрасоваться, но среди ближних не нашлось желающих вступиться за него. Увидев якорь на руке Феди и признав в нем бывшего представителя Военно-Морского Флота, квадратный гражданин сник:
— Да вы что? Вы словами говорите, а рукам воли не давайте. Я ведь рукам воли не давал. Посмотрите на этого джигита. — И оппонент льстиво глянул на Федю.
Федя стушевался. Он подготовил себя к иному обороту и теперь просто не знал, как быть. Он вопросительно посмотрел на меня, я взглядом попросил его подойти к даме за столом.
— Гражданочка, я убедительно прошу вас зафиксировать по всем правилам брак моего близкого друга и его невесты. — Федя проговорил эту фразу сквозь зубы, но приятно улыбнулся.
— Я не буду регистрироваться у этой дамы, — сказала Циала.
Я знал, что она суеверна, и видел, что она готова разрыдаться. Я слегка сжал ее локоть и попросил не обращать внимания на все это.
— Я не буду регистрироваться в этом загсе, — упрямо повторила Циала. Дама снова уткнулась в свою ведомость. У Феди оставался неизрасходованный запас эмоций. Он подошел к даме, вытащил у нее из-под руки ведомость, наклонился к уху и что-то сказал.
У дамы вытянулось лицо. Федя аккуратно сложил ведомость и спрятал ее в боковой карман.
— А вас ни в каком другом загсе не зарегистрируют, — сказала женщина. — Вы оба имеете местожительство в моем районе, и вас нигде не зарегистрируют. Все равно придете ко мне.
— А вас ни в каком другом загсе не зарегистрируют, — сказала женщина. — Вы оба имеете местожительство в моем районе, и вас нигде не зарегистрируют. Все равно придете ко мне.
Мы отправились к нам домой, и, хотя в этот день никого не приглашали, пришло много соседей, и друзей, и просто знакомых. Те, кто пришел поздно и не знал некоторых подробностей нашего визита в загс, сердечно поздравляли нас с вступлением в законный брак.
— Отар, а кому нужен законный брак? — спросила Циала, когда мы остались одни. — Что, мы разве будем больше любить друг друга? Я просто возьму твою фамилию и попрошу, чтобы с завтрашнего дня называли меня Девдариани.
— Ты об этом не думай, я что-нибудь сделаю, — ответил я, не зная еще, что смогу сделать.
Через несколько дней нас по знакомству зарегистрировали в другом загсе.
Глава третья. Гости из Басконии
В июне 1937 года на товарищеские игры в Тбилиси приехали футболисты Басконии. Это было событие! При мне за билет на стадион отдали новенький велосипед с динамиком.
Оказалось, что надо достать ни много ни мало восемь билетов на матч басков с динамовцами и семь билетов на матч со сборной Грузии. Эти билеты были нужны: мне, Тенгизу, маме, Шалве, Циале, папе Циалы и другу Тенгиза, какому-то терапевту, приезжавшему специально ради матча из Кутаиси.
Я просил, уговаривал, унижался, был противен сам себе, потому что чувствовал в своем голосе новые, не очень симпатичные ноты. Мне отказывали, от меня отворачивались, меня не считали за человека. Меня посылали от одного окошечка к другому, от меня требовали заявок, скрепленных печатью и тремя подписями, и я аккуратно приносил эти липовые бумажки. Передо мной была Великая Цель.
Все другие события в городе как-то сами собой отступили на второй план. Предстоял футбол. С басками, которые побили сильнейшие московские команды и о которых уже ходили легенды.
Рассказывали, что они располагаются на поле странно. У наших впереди, например, играют пять человек, добросовестно ожидая, пока им преподнесут мяч, и тогда они покажут, как могут обводить защитников и какие кружева комбинаций плести. А баски привезли новую систему, именуемую загадочно и непонятно — дубль вэ. У них впереди лишь три нападающих — и каких нападающих! Очевидцы, побывавшие на матчах в Москве, клялись, что не видели еще в жизни форвардов, как эти, — мяч словно на шнурке, бьют так, что рвутся сетки в воротах и трещат штанги, — чего только не выдумывали футбольные страдальцы из Баке и Сололак, из Авлабара и Сабуртало. Интерес к матчам подогревался разговорами о том, что тбилисские футболисты сумели изучить манеру игры басков, кое-что подготовили и рвутся в бой.
Баски выдвигали вперед трех форвардов, но за то, укрепив линию полузащиты, брали под контроль середину поля и отсюда затевали атаки, неторопливые поначалу и грозные в конце.
Любой международный матч у нас — событие! На встречу зарубежных гостей выезжали к границе специальные корреспонденты центральных газет. Представляясь гостям, они уверенно произносили на немецком или французском языках старательно выученную фразу: «Очень рады с вами познакомиться», после чего сразу же переходили на русский и обращались к помощи переводчиков. Ответы на вопросы специальных корреспондентов публиковались как сенсации под вершковыми заголовками, мы были рады приезду любой зарубежной команды, а тут ехали баски! Футболисты, которые издавна слыли искуснейшими на Пиренейском полуострове. Лучше бы они были не так известны. Тогда, быть может, я чуть легче достал эти разнесчастные билеты.
Первые два, полученные ценой нечеловеческих мытарств и унижений, я отдал маме и Тенгизу и заклял их спрятать так, чтобы ни одна живая душа, и я в том числе, не догадывалась, где они находятся. Третий билет принадлежал Циале. За четвертый отдал портфель из свиной кожи. На этом мои моральные, финансовые и товарные возможности были исчерпаны. Как человек, как индивид, как гражданин, я уже не был способен ни на что. Не было путей. Не было перспектив. Будущее рисовалось в мрачных тонах.
Но вот по аудиториям и коридорам прошел слух, что для тех, кто выйдет на субботник — строить набережную, — приготовлено шесть входных билетов. На субботник пришло шестьсот восемьдесят человек. Мы работали как лошади, а когда распределяли билеты, были немного похожи на ишаков. Никак не могли выработать справедливую систему розыгрыша билетов. Но потом все стало на место потому, что декан сказал, что один билет берет себе, никто против этого не возражал, к тому же шестьсот восемьдесят легче делилось на пять, чем на шесть.
У меня не было никаких сомнений, что Шалва выиграет, он бы выиграл, если бы даже разыгрывался один билет на миллион, и ничуть бы тому не удивился. Маленький камень свалился с моих плеч. Но, выиграв, Шалва нагло заявил, что это был «не считанный» билет, поэтому он имеет право распорядиться им по-своему. Он взял и отнес билет Феде, который не собирался нафутбол и весьма равнодушно отнесся к царскому презенту. Однако он все же решил пойти на футбол для того, чтобы хоть раз в жизни посмотреть, из-за чего люди сходят с ума.
Со стороны Шалвы это был, без сомнения, благородный жест.
Я подумал, что приятно быть благородным за счет другого, но ничего Шалве не сказал. Обидится, чего доброго. Последнее время он стал вспыльчивым и возбудимым.
За несколько дней до матча Шалва сказал, что ему пришла идея. Идеи приходили к нему, как правило, в двух случаях — вовремя и не вовремя. Сейчас был как раз второй случай. Я сказал, что у меня и так голова идет кругом. Единственная идея, которую я готов рассматривать в настоящий момент, связана с приобретением билетов, других идей для меня не существует.
— Слушай внимательно и не перебивай, — приказным тоном пропел Шалва, — Ты бы, разумеется, об этом все равно сам не догадался, и я тебя не виню. Каждый мыслит в пределах, отпущенных ему природой. Но это между прочим. Так вот, я хотел бы поставить тебя в известность о том, что завтра, в два часа дня, нас с тобой ждет в гостинице товарищ Лангара.
— Повтори, что ты сказал, — я не поверил ушам.
— То, что слышал. Пока ты напрягал свою единственную извилину для того, чтобы правдами или неправдами приобрести какой-то билет, я не сидел без дела и договорился через администраторов с симпатичным форвардом по имени Лангара.
— Как тебе это удалось?
— Просто я сказал кое-кому, что мы с тобой несколько лет изучаем басков и нам приятно было бы встретиться с футболистами. Мне посоветовали Лангару, он рос под Бильбао и хорошо знает несколько диалектов. Кроме того, говорит по-немецки.
Последнюю фразу Шалва произнес едва слышно, так как по-прежнему был в весьма натянутых отношениях с немецким языком.
— Буонес диас, адискиде лагуна, — говорили мы на следующий день, здороваясь с Лангарой и пожилым переводчиком, которого звали Себастьяном.
— О, адискиде лагуна, сердечный друг, откуда вам известны эти баскские слова?
Так началась беседа. Встретили нас радушно. Я говорил по-немецки, изредка позволяя вставить испанскую фразу; иногда в беседу тактично вступал переводчик.
Я рассказал о древнем интересе грузин к стране басков, о легендах, которые дошли до наших дней, об Иванэ Мтацминдели.
— Скажите, — вступил в разговор Шалва, — не имеет ли ваша фамилия «Лангара» чего-то общего с пшеницей, с тем, куда насыпают пшеницу?
— Видимо, имеет, гари, гери — по-нашему пшеница.
— А по-нашему — большая тарелка. Иногда тарелка для зерна — пшеничного или кукурузного. Называется «лангари».
— Позвольте спросить вас, давно ли играют у вас в футбол, нет, я не то хотел спросить, давно ли у вас, в Басконии, известны игры в мяч? — сказал я.
— О, игры в мяч известны давно. Говорят, что пелота существует столько же веков, сколько существуют баски. К этой игре иностранцы равнодушны. Но баск готов душу заложить, чтобы только ему дали поиграть или, в крайнем случае, посмотреть на нее. А вообще по преданиям в древности мячи делали из шкур священных животных.
— Один наш ученый, побывавший в Басконии, писал о том, что, борясь за победу, игроки часто выкрикивали имя «Лело! Лело!» Ученый — это был академик Николай Марр — не случайно обратил внимание на это слово. Дело в том, что так называется древняя грузинская игра в мяч.
…Отрывок из пиренейских очерков Н. Я. Марра, о котором заговорил Шалва, я помнил хорошо:
«Мяч — это священный предмет, игра в мяч — это переживание культа, какова бы ни была техника игры, стоит ли перед играющим специально сооружаемая высокая стена, как у басков, или борцы состязующиеся стремятся довести мяч до своего предела, заключая достижение победным кликом „Лело“, собственно выкрикиванием имени божества, решаюсь думать, того и баскского божества, которое оставило свое имя Лело уже в единственно сохранившемся фрагменте баскского эпоса: фрагмент о борьбе с римским императором Октавианом так и начинается четверостишием: „Лело! Ил Лело!“ и т. д., так же мало понимавшимся доселе, как к ряд интереснейших мест дальнейшего текста. Все это особенно надо помнить в стране неумирающего культа игры в мяч, „божественной игры“, в Басконии, некогда игры самих басков в мяч…».
Будучи убежденным в родстве яфетических языков Кавказа и Пиренеев, академик Марр находил и брал себе в союзники примеры, до которых никогда бы не снизошли другие лингвисты, даже футбол, даже «Лело». Он не расшифровывал и не приводил доказательств некоторых своих доводов, считая их само собой разумеющимися. Так писал, рассказывают, Эйнштейн. Фраза, начинающаяся словом «следовательно», приводила в уныние самые светлые умы; автор мало заботился о том, поймут или нет его современники, он не утруждал себя разжевыванием истин, которые казались ему прописными и которые были доступны немногим. В том же очерке «Из Пиренейской Гурии» Н. Я. Марр вспоминает, что повесть о доблести баскской в борьбе с римлянами начинается прелюдией о сраженном герое Лело. Следовательно… О чем все это говорит? Почему не доводит до конца свою мысль академик? Считает, что все и так ясно? А может быть, сомневается? Не зря говорят, что сомнение — первое качество всякого исследователя…
Себастьян вспомнил, что, наблюдая за игрой в пелоту, не раз слышал выкрик «лело», которым игроки подбадривали себя и которым венчали победу. Шалва сказал, возможно, что это просто совпадение, но лело — наиболее распространенная грузинская народная игра, в которой сходятся, как правило, село против села.
— И у нас играют село на село. Все спорят, переживают. Те, которые ставили на победителей, ликуют… иногда радость по случаю победы выливается в настоящий праздник — с песнями, танцами, веселым застольем.
— Скажите, а преподают ли сейчас баскский язык в школах? Многие ли говорят на нем в городах? Правда ли, что в баскском языке много диалектов, и случается, что жители одного села не очень хорошо понимают жителей другого, расположенного за небольшой горой?
— Ну, вы догадываетесь, я не большой специалист языка, — сразу стал серьезным Лангара. — Баски много лет боролись за автономию, за право говорить, писать, учиться на родном языке. В 1923–1930 годах, при военной диктатуре Примо де Риверы, наше бело-красно-синее знамя нельзя было вынести на улицу. Это могли приравнять к мятежу. Национальное движение было в подполье, но баски не сдавались. Вообще они не мирились никогда с попытками подчинить их язык, их образ мышления испанскому языку, испанскому образу мышления. Баски издавна с симпатией относятся к испанцам. И хотят иметь право на взаимность. А нам запрещали учить своих детей родному языку и издавать учебники и газеты на родном языке.
— И что же, они не выходили?
— Выходили все время. Только подпольно. И много раз при жандармских налетах разгорались настоящие сражения.
— Ну а после того, как республика предоставила баскам автономию?
— После этого у басков не оставалось времени думать об учебниках. Надо было защищать республику, защищать автономию, — ответил Себастьян.
Шалва вынул из портфеля газету с очерком Михаила Кольцова. Это была газета пятидневной давности. Кольцов рассказывал о встрече с президентом Басконии Агирре.
«Он так же мил и элегантен, как и раньше, он даже стал еще любезнее. Горячо благодарил за устройство баскских детей в Советском Союзе, особенно был растроган тем, что из Москвы напомнили о присылке баскских букварей и учебников для маленьких беженцев.
— А что вы думаете, мы их хотим русифицировать? Они у нас в гостях, но они баски и останутся басками.
— Да, да, это очень трогательно, очень чутко!»
Я перевел с приблизительной точностью эти несколько строк.
— Я не думаю, чтобы успели выпустить много учебников и букварей, — сказал Лангара. — В типографиях выпускают листовки и боевые плакаты. Враг под Бильбао. Баск защищает свой дом. Взяли винтовки рабочие и крестьяне, и священники тоже вступили в роты, только они не взяли винтовок — бог запрещает им убивать. Они воюют словом. Есть в ротах настоящие комиссары, коммунисты. И священники с ними рядом. Сегодня в боях под Бильбао решается судьба нашего народа. Мы не хотели уезжать, мы, футболисты, могли послужить родине с ружьем. Мы приехали в Советский Союз, чтобы сказать нашим советским друзьям, сказать миру: Баскония жива, Баскония борется, Баскония верит в победу… Франко бросил на Бильбао свои лучшие силы. Мы с тревогой ждем известий.
В те дни Михаил Кольцов писал:
«Взятием Бильбао Франко, несомненно, хочет заменить взятие Мадрида. С военно-политической точки зрения у него на это есть немало резонов. Сдача или захват Бильбао, сдача или захват, или бегство баскского правительства могли бы нарушить и без того неустойчивое международное равновесие вокруг Испании…
Сюда, на Бискайю, брошены основные и самые боеспособные фашистские силы. За последние месяцы они, правда, сильно поредели. Франко лишился лучших своих кадров. Погибли старые марокканцы, великолепные бойцы, яростные в атаках и упорные в обороне. Они были втянуты в борьбу насильно или обманом, не знали, за что и для кого дерутся, но дрались отлично и всегда служили слепым, безотказным наступательным тараном, за которым следовали главные силы. Много погибло легионеров, много кадровых солдат и унтер-офицерских чинов.
Под Бильбао появились более молодые призывные возрасты, обученные уже во время гражданской войны, сколоченные, вымуштрованные германскими инструкторами. Части более современные, более боеспособные, настойчивые, пока операция развивается, и совсем рыхлые, нестойкие в случае неудач и малейшего расстройства управления. Наступать или обороняться отдельными группами, как это делают марокканцы и легионеры, они не умеют.
Здесь же действуют, на правом фашистском фланге, итальянские экспедиционные дивизии, растрепанные в свое время на Гвадалахаре и затем приведенные в порядок. Лучше они не стали.
В сравнении со своим противником баскская пехота показала себя с самой лучшей стороны. Это храбрые, стойкие люди, неутомимые в трудных горных условиях, гораздо более организованные и менее впечатлительные, чем, например, кастильцы. В боях сказались национальные качества басков — их уравновешенность, упорство, хладнокровие, иногда даже флегматичность. Вооружение и обученность баскских частей тоже на приличном уровне».
Меня заинтересовала предпоследняя фраза из этого отрывка. Дело в том, что авторы, писавшие в разное время о характере басков, не ставили на первое место их уравновешенность и хладнокровие, считали их людьми эмоциональными, взрывными, экспрессивными.
В введении к этой главе Кольцов заметил, что провел с басками на секторах первой линии обороны Бильбао, в траншеях его внутреннего укрепленного пояса два дня. Он мог ошибиться, первое впечатление бывает иногда обманчивым.
— Нет, вы знаете, по-моему, это точно подмечено, — сказал Лангара. — Перед лицом опасности баск преображается… Упорство, уравновешенность, хладнокровие, то, о чем пишет ваш корреспондент, помогают сегодня баскам в бою.
Сегодня там, под Бильбао…
Из репортажа Михаила Кольцова с внутреннего укрепленного пояса Бильбао:
«…Многие тысячи рабочих и крестьян басков с воодушевлением трудятся над созданием и переделкой укреплений осажденного Бильбао. Каждую ночь в темноте колонны людей напряженно копошатся в горах — строят, копают, заграждают. Нельзя сказать, что их оборудование богато. Грузовик сюда не перебросишь. Крохотный осел, деревянные носилки, корзины — все пущено в ход, все служит для укреплений, все помогает борьбе. Как и зимой в Мадриде, женщины, подростки, дети помогают строить и обороняться.
Но борьба вокруг Бильбао совершенно не похожа на борьбу вокруг Мадрида. Она вообще ни на что не похожа.
Здесь, на северном фронте, воюет авиация. Притом авиация только фашистская. А республиканской почти нет.
То, что мы видим и переживаем здесь теперь, не может служить прообразом будущих войн. Если изобразить все это на картине, то под ней можно подписать: „Горе стране, которая не может обороняться в воздухе!“ Фашистские интервенты используют на бискайском фронте свое полнейшее превосходство в воздухе. Вернее, не превосходство свое, а почти полное отсутствие республиканской авиации, в котором они ясно убедились, обшарив побережье. С наглостью трусов фашистские командиры раскричали в своих сводках, что на севере теснят противника в воздухе. Им почти некого теснить: здесь действует маленькая горсточка самолетов, переброшенная с огромными трудностями и международными осложнениями с центрального фронта. Фашистам же не пришлось почти менять своих авиационных баз. Из одного и того же района Бургоса они летают и на Гвадалахару, и в Каталонию, и на Бильбао, и на Сантандер…
Авиация интервентов вдесятеро превосходит числом бискайскую, республиканскую. Многим ли она после этого рискует? Немцы устроили себе на Бискайе настоящий полигон. Они пробуют здесь свои новейшие марки, как сверхскоростной „хейнкель-123“, или двухмоторный бомбардировщик „хейнкель-111“. Они сбрасывают все виды бомб, от однокилограммовой (пучком по десять штук) до трехсот- и пятисоткилограммовых. Они бросают артиллерийские бризантные снаряды и наблюдают действие, они ведут массовые опыты с зажигательными термитными бомбами, с теми самыми, которые приготовили еще к концу империалистической войны для Парижа, но тогда не решились применить.
Этими бомбами жгут леса и кустарники, душат зловонным дымом людей и скот, постепенно переходя к химическим средствам борьбы.
Рассматриваешь какую-нибудь лощину после бомбометания — все изрыто, исковеркано огромными воронками. С земли клочьями содраны ее зеленые покровы, тлеют обгорелые пеньки деревьев. И вот постепенно неизвестно откуда начинают выползать люди. Они сначала молчат — не хочется слов. Они как будто задумчивы — на самом деле оглушены. Прошло немного времени — они уже опять двигаются, хлопочут, шутят, а главное, опять воюют. Даже во время самих воздушных атак солдаты сохраняют боевой дух. Несколько раз, и вот сегодня опять, когда воздушные пираты совсем обнаглели, во время низких виражей пехотинцы из винтовок подбили двух фашистских летчиков-истребителей».
«Несколько раз, и вот сегодня опять, когда воздушные пираты совсем обнаглели, во время низких виражей пехотинцы из винтовок подбили двух фашистских летчиков-истребителей».
…Уже первой своей победой футболисты Басконии взяли в плен весь Тбилиси. Они играли так, как никто еще у нас не играл. Они выиграли у «Динамо» — 2:0 и у сборной Грузии 3:1, и все же те пять мячей, которые забили баски, помнились не так хорошо, как единственный гол, который забил знаменитому Бласко с пенальти Пайчадзе.
В диких дворовых футбольных командах появились свои Лангары, Регейро, Бласки и вместе с дворовыми командами «Динамо», «Локомотив», «Стрела» — команды «Баскеби Бильбаодан» — «Баски из Бильбао».
…Мы с Шалвой о многом не успели спросить Лангару. Но знали — ему приятно, что кто-то в далекой стране интересуется языком и историей его парода.
У Себастьяна был небольшой баскско-испанский словарь. Когда мы прощались, он подарил его нам. Это был бесценный подарок. А Лангара протянул два билета: «Берите, берите, все равно других знакомых у меня здесь нет».
Мы вышли из гостиницы и прямо у подъезда открыли словарь на первой же попавшейся странице. И увидели баскское слово «эрри». Оно означало народ. И означало войско.
Вечером по радио объявили о том, что фашисты форсировали реку Нервион под Бильбао. Утром пал Бильбао. В тот же день была ликвидирована автономия басков.
На следующий день меня пригласили в военкомат. Я третий раз заполнил анкету и четвертый раз написал автобиографию. Сказали, что, кажется, будет все в порядке.
Глава четвертая. Старый сосед
Диего Пуни не признавал медицины. Он считал всех врачей шарлатанами, «умеющими врать с важным видом». Единственный представитель медицинской науки, для которого испанец делал снисходительное исключение, был Тенгиз. И то только потому, что он не тщился разубедить Пуни, когда тот начинал перечислять дальних и близких знакомых и рассказывать, «как они чувствовали себя до обращения к врачам и как — после».
Свою Кристин, пока еще мог ходить, Пуни водил к одной старушке. Та варила отдававшую мятой траву в воде из семи родников и при этом шептала заклинания.
Диего имел влияние на свою жену, она верила ему во всем, и в то, что этот отвар поможет лучше, чем лекарство, верила тоже. У Диего был неотразимый довод: «Посмотри, какие умные и добрые глаза у этой старушки, разве похожа на обманщицу? И потом о ней пол-Тбилиси говорит. Теперь мы с тобой сделали все, что надо, и дела должны пойти на поправку».
Кристин убеждала себя, что не так чувствует боль и что ходить ей легче. Но у нее по-прежнему опухали ноги. Когда же после сердечного приступа надолго свалился Диего, дела Кристин действительно пошли на поправку. Тенгиз считал эго вполне закономерным, подтверждающим его гипотезу о резервах человеческого организма, которые дремлют до поры до времени и приходят на помощь в час испытаний. Мне кажется, что Тенгиз собрал столько материала, что в пору писать докторскую диссертацию, а он никак не может сладить с кандидатской. По нескольку раз переписывает главы, спорит сам с собой, сомневается… Он дал слово не ссылаться на авторитеты, никого не цитировать, сказать в диссертации то, о чем думает сам; более искушенные в этом деле коллеги говорят, что в таком виде работа недостаточно диссертабельна и дает слишком много поводов для критики. Тенгиз «слушает, да не слушается». Он считает, что человек должен входить в науку со своим «я». А ему советуют слово «я» вообще исключить из диссертации. Заменить его местоимением «мы», которое больше выражает дух коллективизма и свидетельствует о скромности автора.
Вот если бы можно было вдвоем писать диссертации… И если бы когда-нибудь удалось это сделать нам с Шалвой, писали бы всюду «мы»… Если суждено нам будет что-то открыть и доказать… Впрочем, теперь эго дальше чем когда бы то ни было. Еду в Испанию… Мне будет тяжко расставаться с Циалой и с гем человеком, которого еще нет и которого я вижу пока только во сне; с мамой, с Тенгизом, с Мито, важно вышагивающим с раннем за плечами в ту самую школу, в которую когда-то топал и я с Варламом, с Шалвой… И по-особому тяжко с тетей Кристин и Диего. Он прикован к постели. И не признает докторов. Тенгиз привел к нему профессора из медицинского института, знаменитого специалиста по сердцу. Пуни сказал — не надо… И не было сил отговорить его. Дядя Диего осунулся, побледнел, я еще больше привязался к нему. Кажется, про него можно сказать — человек, который пронес свой принцип через всю жизнь. Хоть это не принцип, а какой-то заскок, все равно он во мне вызывает уважение… Впрочем, все зависит от того, какие качества ты ищешь в том или ином человеке и что хочешь в нем найти.
Раз или два в день к Диего и Кристин приходит Керим Аджар. Его жена готовит обед для Пуни. Уезжая, я думал, что оставлю Пуни рядом с надежными людьми, с семьей Аджаров. Я думал, что оставляю. Я так думал раньше. Но тут произошло событие, главным действующим лицом которого оказался старый сосед Пуни — мастер примусов и керосинок по имени Невтон.
Был Невтон главой многоголосой семьи: большой нос, слезящиеся добрые глаза и руки, как на плакате «Вступил ли ты в Осоавиахим?». Им правила сварливая жена; у него было полно дочерей. Отец наградил их такими носами, что они стеснялись появиться в обществе, вечера проводили дома и ссорились на весь двор. Жила семья худо.
Соседу было немногим за пятьдесят, а выглядел он стариком. Чинил керосинки и продавал фитили. Вместо «здравствуйте» говорил:
— Сами гляни ему питиле.
Это означало: «Самое главное для керосинки — фитиль», мол, без настоящего нового фитиля эта штука ничего не стоит. Это была его маленькая хитрость, у него покупали новые фитили, с ним никогда не торговались и всегда платили за ремонт чуть-чуть больше: весь двор знал, что туго старику.
Была у Невтона одна страсть. В старой беседке, опутанной виноградной лозой, стоял столик для домино. По вечерам у столика вырастала очередь. Сосед занимал очередь и, когда подходил черед, искал глазами партнера. Но с ним не любили играть, потому что он спешил первым делом избавиться от крупных камней и, как правило, вылетал после первой же партии. Сам он молча подчинялся участи и не обращал внимания на ворчание партнера. Он занимал очередь, снова искательно заглядывал в глаза, приглашая компаньона, снова проигрывал и, оправдываясь, ссылался на вечное свое невезение.
С наступлением вечера центр интеллектуальной жизни двора переносился к окнам тети Паши. Из подвального ее окна выводили длинный шнур с яркой лампочкой на конце, и на этот сигнал, как рыба на свет, неторопливо выплывали старики и сухопарые сидидомицы с низенькими скамейками и мешочками, наполненными лобио, пуговицами или просто копейками. Скоро на весь двор раздавалось мощное контральто тети Паши: «барабанные палочки», «бублики», «отметка Хачика».
Это значило «одиннадцать», «восемьдесят восемь», «двойка» — начиналось вселенское сражение в лото.
Невтон не любил игру на деньги. Он к ним относился слишком серьезно и не мог допустить, чтобы просто так, волей случая деньги переходили из одного кармана в другой.
И он покупал за пятак одну карту только для того, чтобы получить право выкрикивать цифры, когда дойдет до него очередь. При этом преображался. Деловито встряхивал мешок, нараспев произносил число. Это бывали те нечастые минуты, когда к его словам относились с вниманием; он казался себе значительным человеком.
Когда кто-нибудь выкрикивал: «кончил!», сосед, не говоря ни слова, сгребал бочонки, чтобы отправить их обратно в мешок, и в ответ на вопли: «проверить, проверить!», говорил:
— Зачем проверять? Челавеку верить нада.
И таким тоном произносил он это, что с ним не спорили.
По выходным, когда Пуни был еще здоров, Невтон выкраивал час-другой, приходил попить чай. Жаловался:
— Маленькая дочка тупли пакупать нада. За квартиру платить нада. А у старший дочка нехароший челавек появился — лубовник. Санитар. Она радий ходит, а мне ее жалка-жалка. Нови платье купила. Деньги адну копейку домой не приносит. Эх…
Тяжело вздыхал, брал в долг и всегда аккуратно отдавал.
Кериму Аджару доставляло удовольствие помогать этому человеку. Невтон готовился в проводники. Он старательно выводил огромными руками корявые буквы и через силу ладил с пером. Но он был упорен, этот старик. И Керим Аджар был упорен тоже. Ему помогали старые учебники Павки, начиная от букваря. Он по слогам неторопливо диктовал:
— «Вот моя деревня, вот мой дом родной» — и терпеливо ждал, когда сосед осилит эту фразу. А сосед был впечатлительным. Он вспоминал свою деревню в горах, дом неподалеку от родника, и слеза мешала ему докончить фразу.
Однажды он вдруг сказал:
— Вот занимаемся, занимаемся, а начнется война, и все зря. Сколько шпионов паймали, а сколько не паймали…
Кругом говорили о вредителях.
Старик рассматривал в увеличительное стекло обложки тетрадей, рубли, почтовые марки, поворачивал их: «Говорят, здесь такие знаки…»
Когда взяли старого слесаря, мужа тети Паши, сосед перестал искать партнеров в домино, бросил лото, которое теперь перешло от окон тети Паши к другим окнам. Стал хмурым, замкнутым, но на занятия являлся аккуратно.
Иногда по просьбе отца с Невтоном занимался Павка. Он был завзятым филателистом и искренне жалел о часах, которые, по его глубокому убеждению, пропадали зря. Но отца он чтил беспредельно и пересиливал себя.
Они переходили к прозаическим вещам:
«Красный флаг служит для…»
«Тормозное устройство состоит из…»
«Предупредительный сигнал является средством…»
Старику никак не удавалось слово «предупредительный». Он, кляня себя и переживая, произносил и писал «придипридительный». Он никак не мог иначе. И радовался, когда однажды наконец написал верно.
Все пункты неподвластного его разумению хитрого железнодорожного устава он заучивал наизусть, и Керим Аджар, хотя и понимал все несовершенство подобной педагогической системы, догадывался, что иначе тому экзамена не сдать.
Когда сосед через полгода все же стал проводником, он первым же рейсом привез из Батуми два огромных апельсина, которые едва умещались в его ручищах, и стыдливо протянул их Павке и мне. Мы отдали апельсины младшей дочери Невтона. Она заперлась в уборной. После этого в уборной долго пахло цитрусами. Ночью старик рассказывал о шпионах, которых поймали в Батуми.
Постепенно дела в семье проводника пошли на лад.
Жена поправилась и начала торговать на рынке фруктами, которые привозил муж. Старшую дочь бросил любовник, а вторая уехала на заработки в деревню.
Как-то в выходной мы сидели у Керима Аджара, пили чай, слушали радио.
Постучали в дверь. Почтальон принес письмо, и не простое, а заграничное. Это было письмо от жившей в Персии родственницы Керима Аджара — дочери старшего сына Зураба Халваши, которая после долгих лет молчания подала о себе весть.
Мы не понимали, почему нахмурился Невтон, засуетился, сослался на боль в пояснице и увел своих. Ночью я слышал сквозь стенку, как он о чем-то взволнованно разговаривал с женой.
Через два дня поздней ночью к Аджарам постучали. При расставании Керим Аджар сказал своим, что это ошибка, и утром Павка пошел в школу. Он вернулся домой и с удивлением рассказал мне, что его старый товарищ — староста класса — почему-то пересел на другую парту. «Сказал, что на парту падает солнце. Как будто солнце не падало на нашу парту все годы до этого».
Поздно вечером к Пуни пришла жена Керима Аджара — Анна. Заперла за собой дверь и показала смятый кусочек бумаги, который нашел дворник у мусорного ящика. Это был черновик какой-то записки, начинавшейся словами: «Считаю обиазанастью придипридить про связь с заграницей…»
Я, кажется, первый раз увидел слезы на глазах Пуни.
Когда соседка ушла, Пуни подозвал меня к себе и задал какой-то странный вопрос. Он спросил, знаю ли я, почему стал великим Александр Македонский. Я вспоминаю, что он один раз уже спрашивал меня об этом давно-давно и рассказывал какую-то историю… Стараюсь припомнить ее и вдруг понимаю, почему задает мне этот вопрос старый, благородный, немного сентиментальный человек по имени Диего Альварес Пуки.
Работая еще в книжном магазине, он нашел несколько строк у Плутарха. Они поразили его, и он написал новеллу, которую раз или два стеснительно читал в кругу близких друзей.
Александр Македонский бредил. Жизнь едва теплилась в нем. Тени скользили в покоях. День — ночь, день — ночь, день — ночь. Люди не спали. Сон смыкал веки, а страх размыкал их. Никто не осмеливался подходить близко к Великому вождю. Никто, кроме одного Молчаливого человека.
На четвертые сутки вождь, приподнял желтые веки:
— Где Филипп?
Ему никто не ответил.
Вождь приподнялся на локте и повторил вопрос. Теперь в нем звучали грозные ноты:
— Я спрашиваю: где мой врач?
И тогда вперед вышел Молчаливый человек. Он склонился и прошептал:
— Я не хотел говорить тебе об этом, повелитель, я не хотел растравлять твои раны. Твой друг спешит к тебе, но знай, он изменник, он подкуплен Дарием. Он подаст тебе не лекарство, а яд. У меня письмо от надежного человека.
— Подай письмо, — глухо приказал вождь, — и уходи. Уходите все.
Великий вождь остался один. Он думал горькую думу. Он не имеет права рисковать собой. Ему верят как богу и поклоняются как богу, судьба повелела ему стать вождем великой армии и повести ее далеко-далеко.
Может ли он рисковать собою? А что, если его друг предатель? Ведь Молчаливый человек не ошибается.
— Но как ты мог подумать об этом? Ты, которого считают прозорливым? — с презрением спросил тихий голос. — Ведь он твой друг, разве он не доказывал это всей жизнью, или хоть раз ты мог усомниться в нем? Или кто-нибудь знает его лучше, чем знаешь его ты? Не верь навету, не верь!
— Верь, верь, верь! — опасливо предупредил второй голос. — Помнишь, что было год назад, помниш-шь? Все славили твой знаменитый закон и твою мудрость, только он один молчал, молчал даже тогда, когда другим стало страшно за него. Ты сказал: «Подойди-ка, Филипп, или тебе не нравится мой закон? Ты один не сказал о нем ни слова, ты один не одобрил его. Что это значит?» А как он ответил? «Великий вождь, слушая речи, я подумал — похвала подозрительна там, где порицание недозволено. Я перестану уважать себя, если что-нибудь заставит меня говорить не то, что я думаю». Ты помнишь, — продолжал шептать второй голос, — как огорчили тебя эти слова? И ты хочеш-ш-шь, и ты хочеш-ш-шь доверить такому человеку жизнь. О-ду-май-ся!
— А кому ты можешь тогда верить? — спросил первый голос.
— Ты не должен верить никому, — перебил его второй голос. — Никому. Только себе! Только мне! Все обязаны верить тебе!
— Но если тебе изменит такой человек, такой друг, может быть, вообще не стоит жить на свете? Для чего тогда жить?
И вдруг он услышал:
— Прибыл врач!
— Пусть войдет!
У врача дрожали пальцы. Только отчего это волнение?
— Он опасается за твою жизнь, — говорил первый голос.
— Он знает, что идет на черное дело, — убеждал второй.
Врач неторопливо осматривал вождя. А вождь старался заглянуть ему в душу. Много мыслей сталкивалось в его утомленной болезнью голове.
Врач удалился и вскоре вошел с чашей:
— Ты должен выпить это, — сказал он.
У двери появился Молчаливый человек, делавший опасливые жесты. Вождь посмотрел на него. Посмотрел на Филиппа и поднес чашу к губам.
Отпил первый глоток, второй, третий, сказал врачу:
— Пока я допью до конца, ты успеешь прочитать вот это, — и протянул врачу письмо. — Только мы двое будем знать, где настоящая отрава.
Врач читал медленно-медленно. Закрыл лицо руками и беззвучно зарыдал. Он плакал, а вождь небольшими глотками допивал чашу.
— Только мы двое будем знать, где настоящая отрава.
Врач закрыл лицо руками и беззвучно зарыдал. Он плакал, а вождь небольшими глотками допивал чашу.
— Он плачет потому, что раскаивается в измене, — гремел второй голос. Этот голос разносился по залам и возвращался обратно не умолкая, не умолкая.
— Он изменил! Он изменил! Я предупреждал — не верь, не верь! Я советовал — убери его, поручи заботам Молчаливого человека. Теперь ты будешь слушать меня. Нет, теперь ты уже не будешь слушать. Ни меня, ни кого другого. Поздно. Поздно. Поздно.
И вдруг раздался другой голос:
— Ты будешь настоящим вождем. Ты будешь великим человеком. И вознесут тебя не только победы. Ты поверил человеку. Поверил человеку! Ты стал в эту минуту непобедимым. Вытри слезы врача. Загляни ему в глаза. Слышишь, найди в себе силы. Приподнимись. Вот так. Теперь взгляни в глаза. Что я тебе говорил?
Завтра ты будешь здоровым. Ты будешь сильным и неустрашимым как бог!
…Из опочивальни Александра Македонского медленными тяжелыми шагами уходил Молчаливый человек.
Так было…
Я показываю ресницами дяде Диего, что понимаю его вопрос и понимаю все. Я знаю, почему назван Великим Александр Македонский. А еще я хочу сказать, что верю: через день, через два вернется, вернется Керим Аджар — иначе не может быть…
Меня вызывают в военкомат и объявляют, что ровно через неделю я должен быть в Батуми. По адресу, обозначенному на пакете. Военком крепко жмет мне руку.
Мама умеет владеть собой. Я говорю ей просто:
— Мама, я призван в армию. И уезжаю на выполнение боевого задания. Может быть, долго не будет писем… Не волнуйся.
— Когда-то мне говорил то же самое Давид.
— Именно потому, что тебе говорил это отец, ты должна понять меня.
Рядом стоял Мито. Ом сказал, между прочим, что двое восьмиклассников из его школы бежали три дня назад в Испанию. Их поймали в Мцхете и вернули обратно, но они дали слово все равно убежать.
— Раз долго не будет писем… значит, и ты? — мама с грустью посмотрела на меня.
— Я не имею права ничего говорить никому. Это такое дело.
— Значит, туда. Я догадывалась, все думала, не возьмут, обойдется… Ты сам попросил? Ну ладно, ладно… раз и от матери тайна. Об одном прошу — береги себя. Подумай, что будет со мною, с Циалой, со всеми, если что-то случатся.
— Обещаю, мама!
Перед отъездом на вокзал мы с Шалвой заехали за Циалой. Геронти Теймуразович встретил меня неприветливо и сказал, что Циала уехала на вокзал.
Там ее не оказалось.
Я пропустил свой поезд. Шалва помчался домой к Циале, а я остался на всякий случай, вдруг приедет.
Шалва вернулся опечаленный. По дороге на вокзал Циала почувствовала себя плохо, и ее взяли в больницу.
Следующий поезд уходил через полчаса. Я доехал до Мцхеты. Сошел. Вскочил в товарный состав, шедший в Тбилиси, и через час с небольшим был в больнице. В приемной сидел мрачный Шалва. Он сказал, что к Циале не пускают. Я пошел к дежурному врачу. У меня был большой соблазн сказать, куда и зачем я еду, — знал, что это открыло бы двери к Циале. Сдержался. Написал записку.
Шалва сказал:
— Не волнуйся. Все обойдется, езжай спокойно.
Мы поцеловались.
Почему он вернулся с вокзала прямо в больницу? А разве он не настоящий друг, разве на его месте я не поступил бы так же? Но почему он не обрадовался, увидев меня? Хотя это могло просто показаться.
Раз в моей голове начали копошиться такие мысли, неплохо было бы заснуть. Но до Харагоули я не сомкнул глаз. Я выглянул в окно, увидел на станции важно вышагивающего Спиридона, открыл окно: «Дядя Спиридон», — он обернулся, сделал удивленные глаза.
— Куда ты? Почему не сходишь? Почему не предупредил?
За те три минуты, что стоял поезд, Спиридон собирался рассказать все деревенские новости. Мы беседовали недалеко от станционного колокола, и Спиридон опасливо косился на дежурного, то и дело подносившего к глазам огромные карманные часы. Можно было подумать, что от него зависит весь ход времени на Земле.
Когда мой собеседник почувствовал, что не успевает рассказать все, он подошел к дежурному и что-то шепнул ему на ухо. Тот сделал большие от удивления глаза, подумал немного, еще раз важно взглянул на часы и в конце концов утвердительно кивнул головой;
— Хорошо, высокоценимый Спиридон!
Старец вернулся и продолжал скороговоркой:
— Варлам и Валико поставили вам забор. Теперь у вас новые соседи: Кукури привел жену — из города! — и построился.
Был оползень. У Иобы чуть не полдвора в речку снесло. Но зато на единственную свою облигацию он выиграл тысячу рублей. На пятьсот закатил пирушку, а другие пятьсот отдал в помощь испанским сиротам.
Слушая бесхитростные деревенские новости, я чувствовал, как все это дорого мне, и думал, что буду долго помнить эту встречу, этот разговор. Сам был готов просить дежурного по станции: «Ну не торопись, что тебе стоит!»
Хотя, насколько я мог догадываться, он уже и так задерживал поезд.
Спиридон перешел к вопросам:
— Как Циала? Как мама и Мито, как чувствует себя на новом месте Тенгиз, правда ли, что скоро будет защищать диссертацию? Не собираетесь приехать с Циалой? Всей деревней читали заметку о том, что ее отец раскопал древнее поселение в Колхиде, не был там? К кому едешь в Батуми? Почему все же не предупредил? Варлам и другие могут обидеться, лучше ничего не скажу им.
Протяжный гудок электровоза заглушил мои слова.
Мы со Спиридоном обнялись, и я подивился тому, какие еще крепкие у него руки. Поезд тронулся. Добрый мой старик еще долго махал вслед.
На повороте увидел Мелискари.
Уже смеркалось, но крепость освещало солнце.
Я подумал, что это хорошая примета.
Глава пятая. Мадрид
Этот странный, похожий на русского человек с баскским именем Ирибуру приехал в Мадрид в начале июля 1937 года. Он одинаково свободно владел и французским и русским, у нас в ту пору к гражданам подобного рода было не слишком много доверия, что уж говорить о тех семнадцати советских добровольцах, только-только привыкавших к новым своим именам, новым обычаям и не понимавших беззаботного легковерия, которое царило в Мадриде после того, как он отбил первый натиск фаланги.
Ирибуру жил с нами на одном этаже в старой и скромной гостинице с громким названием «Интернациональ», что на улице Аренал недалеко от Пуэрта дель соль, В начале века это были обыкновенные меблированные номера, их комнаты не были рассчитаны на долгое житье, В конце коридора находились общий умывальник, небольшая ванная комната и два шикарных просторных помещения, помеченных художественно исполненными нулями.
На третье или четвертое утро мы встретились у входа в умывальню. Он, хотя и был лет на двадцать старше меня, остановился в дверях и сделал вежливый жест рукой. Я, вместо того чтобы пропустить незнакомца, шагнул вперед.
Он сказал:
— Здравствуйте, товарищ, как там Москва?
Я посмотрел на него без нежности во взоре, слегка помедлив, ответил:
— Здравствуйте, чудесная погода.
— О, эти великие конспираторы, — улыбнулся незнакомец. — Они убеждены, что всюду за ними следят шпионы. И если вдруг кто-нибудь, не дай бог, узнает, что они не Хуаны, Педро и Себастьяны, а обыкновенные Вани, Пети и Севы, будет невообразимый международный скандал. Словно весь мир и без того не знает, что красная Россия помогает республиканцам…
Молчать было невежливо, и я просто, для того чтобы сказать что-нибудь, спросил, выдавливая пасту на зубную щетку:
— Ну а что думаете обо всем этом вы?
— Долгий разговор. Между прочим, вы первый, кто вступил со мной в беседу на эту тему… на русском языке. Другие ваши стараются меня не замечать. Им это удается с восхитительной непринужденностью. Так что поговорите с вашим комиссаром, а вдруг и вам не следует этого делать тоже. Вы новичок и еще многого не знаете.
Я посмотрел на него, рассчитывая уловить снисходительную улыбку. Он не думал, что я повернусь: лицо его было серьезным. Может быть, действительно стоило поговорить бы с командиром и расспросить об этом человеке. «По лицу видно — что-то придавило его, а ходит, широко расправив плечи, хочет показать, что независим и волен распоряжаться своими поступками». Это был человек лет сорока пяти, выше среднего роста, с русыми волосами, аккуратно уложенными на английский манер.
— Мы тут навели кое-какие справки, — сказал мне на следующий день наш командир, который вполне мог бы сойти за наваррца Артемио Хуареса Акосту, если бы… Тут можно было вспомнить его широкое лицо с очками, которые никогда не сползали с переносицы — некуда; наш славный Артемио Хуарес Акоста был курнос; можно было вспомнить его привычку в крутые минуты жизни произносить иногда тихо, а иногда и не очень, в зависимости от обстоятельств, два слова «ядрена кочерыжка», смысл которых, возможно, не сразу постигнет истинный наваррец; еще наш командир окал, можно было подумать, что он провел лучшие годы не на берегах славной и воспетой поэтами разных стран реки Эбро, а на берегах Волги, тихих и задумчивых, с садами, спускающимися к реке, да дивными дивами — церквами на всякой малой возвышенности. Чтобы подумать так, не надо было чрезмерно напрягать фантазию.
И только одним был наш командир похож на настоящего наваррца Артемио Хуареса Акосту — сердцем: горячим и рисковым, бесстрашным и благородным, хорошо знающим, когда, в какую минуту в беде истинный друг и когда в какую минуту надо прийти ему на помощь, хотя и придется для этого вытащить нож с длинной рукояткой и принять боевую стойку наваррца — левая рука вверх, нож в кулаке у правого бедра, острием книзу.
— Мы тут навели кое-какие справки. Интересный, понимаешь ты, господин. Из русских. Бывший беляк.
— Шпион какой-нибудь, тварь продажная, — с презрением заключил заместитель Артемио товарищ Педро Сантамария (где ему выкопали такое имя, никто точно не знал, но он гордился им и одного только боялся, как бы невзначай не забыть).
— Ты погоди, не торопись. Этот беляк семнадцать последних лет прожил в эмиграции. Не надо всех под одну гребенку. Видать, не очень сладко ему было, видать, что-то в его котелке переварилось, раз он одним из первых добровольцев на помощь к республиканцам приехал.
— Ну и о чем это говорит на сегодняшний день? Разве мало конкретных фактов имеем мы по части использования вражеской агентурой любых методов с целью проникновения в ряды республиканцев?
— Ну ты погоди, — скрывая легкое раздражение, перебил командир. — Точно установлено, что он до последнего дня вместе с басками Бильбао защищал, а когда фашисты взяли город, с остатками отряда ушел в горы. Их окружили, только половина пробилась. Теперь они все здесь, в этом отеле. И видно, власть у него есть над этими басками. Несколько дней назад один из них вон туда махнул, — и командир показал на красный фонарь, горевший у входа в дом через улицу. — Он исключил его из отряда. И баски поддержали его. Значит, выходит, он их командир… Это, брат, не просто — постороннему у басков командиром стать и заставить их родные края покинуть, какой-то чужой город защищать. Их надо знать, это не просто…
— Ну и о чем данный факт говорит? Что мало известно шпионов и диверсантов, которые для того, чтобы внедриться, жизнью рисковали. Что-то на тебя, командир, мне кажется, испанский климат не в том направлении действует.
— Ну я и не говорю, что это наш человек… Тут среди республиканцев кого только не встретишь, у них свои анархисты, свои зеленые, своих махновцев полным-полно, это я с тобой согласен. Но испанские товарищи верят этому, как его, Ирибуру. Говорят, проверен на сто процентов. Да и когда фашисты Мадрид бомбили, он вместе со своими здесь вот рядом, на этой, на Пуэрта дель соль, из-под обломков здания людей вытаскивал. Все по подворотням и подвалам разбежались, помнишь сам, фашисты в небе себя полными хозяевами чувствовали, все над площадью, и все над площадью, сколько погибло, а он не уходил…
— Командир, сам знаешь, лучше семь раз проверить, а один раз поверить…
— Ну, наверное, есть смысл еще подробнее узнать о нем. И если окажется, что человек своим умом к революции пришел, это, брат, тебе не пустяк, ее из головы колом не выбьешь. И не надо такого терять. Вот к чему я все это.
Так я познакомился с Ирибуру.
Через несколько дней встретились снова, я пропустил его, он заметил, что, если бы не знал, кто я, легко мог принять меня за испанца.
— Комплимент?
— Нет, просто вижу, что вы с Кавказа. Когда-то бывал в ваших краях.
— Ну и остались довольны друг другом?
— О боже мой, счастливая пора, которую я никогда не забуду. Мы путешествовали с отцом, у нас было много денег… Нет, нет, не подумайте, что я хочу сказать, что в деньгах все счастье. Но когда их нет или когда их мало, поверьте, самые яркие краски природы теряют свою прелесть.
— Философское наблюдение.
— О, я все забываю, что разговариваю с бессребрениками. Дайте им только идею, правильно укажите путь с сияющей вершиной в конце, и они пойдут по этому пути босыми ногами и с пустыми желудками.
— Где вам удалось так основательно изучить теорию? Поразительно, как все верно вы подмечаете и излагаете. С вами чрезвычайно интересно беседовать на эту тему. Скажите, кто был вашим учителем? — беззлобно поинтересовался я.
— Дорогой друг. Разрешите дать вам один совет. Старайтесь реже произносить слова со звуком «ы». Надо говорить не «чрезвичайно», а «чрезвычайно»… И не «ви», а «вы»… Научитесь, пожалуйста, это не так трудно. А то вы сами выдаете себя. Между прочим, так в Тифлисе и русские говорят. Пристает со страшной силой. Когда я с батюшкой вернулся в Москву, мама ужасалась моему произношению.
Я сосредоточенно чистил зубы, думая, что бы сказать ему в ответ, но ничего подходящего не нашел и благодарно закивал головой.
В те дни в Мадриде был раскрыт новый заговор. Весь город говорил об аресте директора мадридского телеграфа Пино, человека, пользовавшегося широкими правами и полномочиями. Этот господин разработал оригинальный способ быстрейшей переправки всех секретных сведений в штаб фашистов. Для этого проводился прямой провод до… самых позиций франкистов. По этому проводу в обратном направлении должны были передаваться инструкции, что и когда обязаны предпринять сторонники Франко, засевшие в Мадриде. Оказалось, что заговорщики имели свое оружие и хранили его до поры до времени на республиканских складах.
Педро Сантамария кипел. Он узнал о том, что половина заговорщиков уже арестовывалась ранее и была с отеческим внушением выпущена на свободу.
Внезапное исчезновение Ирибуру он объяснял по-своему. Я подумал: не слишком ли был доверчив? Стоило ли вообще заводить знакомство с таким человеком, правильно ли поступил, оставив без ответа его реплику о моем тбилисском произношении? Не следовало ли рассказать об этом нашему Педро Сантамария? Ведь он, кажется, за тем сюда и приехал, чтобы обезопасить нас от такого рода знакомств.
Вечером вернулся злой командир. Принес французские газеты. На первой странице «Фигаро» был снимок советских летчиков, сошедших с корабля «Курск». На другом снимке был изображен момент сборки истребителей, доставленных на советском пароходе. На третьем снимке стояли Артемио Хуарес Акоста, Педро Сантамария, еще несколько наших специалистов и я, «Русские военные советники после возвращения с передовых позиций» — было написано под фотографией, сделанной французским агентством Гавас.
Через несколько дней вернулся Ирибуру. С ним вместе возвратились его баски. Но их было не девять человек, а только шесть. Они долго стирали свои рубашки и носки и не решились выставить ночью в коридор покрытые засохшей грязью башмаки. Один из басков, тот, который помладше, связал все башмаки и отнес на угол чистильщику.
Баски были возбуждены. Они говорили только друг с другом, но о чем, никто не догадался бы. Ирибуру, не брившийся несколько дней, вступил в кровопролитное сражение с собственной щетиной. При этом он напевал романс «Гори, гори, моя звезда». Вечером все они собрались выпить. Ирибуру, не настаивая и не упрашивая, как бы между прочим, спросил, не согласились бы мы скоротать вечер в компании с басками. Мы вежливо поблагодарили. Чем они занимались последние дни, Ирибуру не говорил. Но Педро Сантамария, вернувшийся поздно вечером, сообщил, что в бывшем жандармском управлении в отдельной, строго охраняемой камере находится фашистский полковник Берилья, заместитель командующего франкистскими войсками в Бискайе. За месяц до того распоряжением Берильи было расстреляно двенадцать басков, среди них два священника. Как удалось похитить Берилью — загадка. Известно только, что это дело Ирибуру и его небольшого отряда. Отряд потерял несколько человек.
Я вспомнил Ирибуру, который скреб свою бороду и напевал старый романс «Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда».
Пожалел, что мы не пошли в гости.
Под Аранхуэсом, недалеко от Мадрида, стояла резервная часть, в которой проходили подготовку перед отправкой на фронт артиллеристы. В часть поступили новые противотанковые орудия, и наш командир известил, что утром в субботу мы едем в Аранхуэс. Мы узнали по приезде, что в этой части служит самая разношерстная публика — клерки и металлисты, студенты и железнодорожники, что среди них есть и коммунисты и анархисты; все они не понимают, почему их так долго не отправляют на фронт, и считают, что лучшая учеба — на передовой. Энтузиазма у бойцов было несколько больше, чем боевого умения, и, как выразился наш командир, «задача состояла в том, чтобы второе подтянуть до уровня первого».
Через неделю в часть прибыл генерал Энрике Листер, командир 5-го полка, находившегося в самом пекле. Он попросил построить часть и спросил: «Кто хочет ко мне, прошу сделать шаг вперед». Вся часть сделала шаг, кроме нескольких анархистов-галисийцев, которые не хотели воевать под командованием коммуниста.
Наш командир Артемио Хуарес Акоста, прошедший гражданскую войну и хорошо помнивший отечественных анархистов, был убежден, что с такими порядками, с такими отношениями между командиром и бойцом трудно выиграть сражение. Он постарался выразить эту мысль генералу Листеру в максимально тактичной форме.
Листер ответил, дружески положа руку на плечо командиру:
— Мне нужно восемьдесят самых лучших и преданных артиллеристов. Перевоспитывать их у меня просто не будет времени. Хорошо, что эти сами отсеялись. Мне нужно только восемьдесят. Самых метких. — И Листер попросил провести стрельбы, потому что сам хотел отобрать лучших.
Потом мы с командиром поехали на север, где шли большие бои.
Здесь же был Ирибуру, Не знаю, что произошло, но он расстался со своими басками. Ирибуру заметно осунулся, сказал, что спит четыре-пять часов в сутки и что в такой обстановке спать больше просто вредно для нервной системы: она должна быть все время в боевой форме, и давать ей долгое послабление не годится. Мне это не удавалось…
Мое новое имя Эндо. Ирибуру называет меня то сеньор Эндо, то господин Эндо, говорит, что с трудом привыкает к слову «товарищ». Поверить ему нетрудно.
— Вам интересно было бы побывать у басков, сень ор Эндо, — сказал мне однажды за чашкой кофе Ирибуру. — Любому кавказцу было бы что посмотреть. Великий конспиратор не сердится на меня за этот совет?
Я сделал вид, что пропустил последние слова мимо ушей.
— Мне приходилось встречать одного человека, — продолжал Ирибуру, — который был убежден, что предки басков пришли на Пиренеи откуда-то от вас. Я подумал: фантастика, но потом, немного познакомившись с басками во французских провинциях, тоже стал думать о том, что они откуда-то пришли. Так у них все не похоже ни на французское, ни на испанское.
— Да, мне приходилось слышать о каких-то общих чертах, — не знаю, почему я сделал вид, что это меня интересует постольку поскольку. — Говорят, будто есть даже похожие слова.
— Ну слова, похожие на баскские, в самых разных языках находили. Купил я в Париже книгу английского историка Коллингтона, который утверждает, что индейцы из Гватемалы говорят на языке басков. А один лингвист, не помню уже его имени, доказывал даже, что название японского города Иокогамы дословно переводится на баскский как «Город на берегу моря».
— Что, специально читали литературу о басках?
— Да так уж случилось, познакомился с ними, подружился, времени для чтения в ту пору у меня было чуть побольше, чем сейчас. Баски показывали мне свои древние святилища: пещеры на крутом склоне, рядом с родником и обязательно в стороне от поселений. Читал, что у грузин сохранился этот обычай и после принятия христианства, будто строят они, пардон, будто строили они церкви и храмы на местах языческих святилищ и тоже в отдалении от поселений.
— Ну это, кажется, на всем Востоке так строили храмы.
— Тем более интересно. Значит, что-то связывает басков с Востоком. Если позволите, я покажу вам одну книгу, довольно любопытную, в которой говорится о том же…
Ирибуру вышел и вскоре вернулся с книгой в толстом кожаном переплете. Это была книга Риема, о которой я слыхал: «Земные катастрофы в сказаниях и в науке».
— Полюбуйтесь, не угодно ли? — Ирибуру отыскал нужную ему закладку и открыл книгу на том месте, где говорилось о «великой битве земли, огня и воды», заставившей басков покинуть родной край, лежащий где-то в горах «на Востоке».
Я бы мог прочитать ему небольшую лекцию на эту тему, если бы он захотел и… если бы разрешил мне наш строгий Сантамария.
Только я подумал о Сантамария, как он появился в дверях и, удостоив Ирибуру легким кивком, сказал мне по-русски, не таясь:
— Есть дело, товарищ Эндо, прошу зайти ко мне.
Я поднялся, простился с Ирибуру до утра и пошел вслед за Сантамария.
В его комнате на третьем этаже шло заседание. По лицам я понял, что происходит нечто важное.
Обстановка на фронте осложнилась.
Утром мы выезжаем на передовые позиции. Только с какой целью, не знаем. Об этом скажут «там». Я еще никогда не видел Сантамария таким возбужденным и раздражительным.
На третий день пребывания Отара Девдариани под Теруэлем франкисты предприняли танковую атаку. Танки уничтожили орудийным огнем два расчета. Третий пустился в бегство. Танки могли беспрепятственно пройти к окопам. Командир наблюдал за боем в бинокль. Он забыл, что носит имя Артемио Хуареса Акосты, и ругался на родном языке. По его репликам Отар догадывался, что происходит на правом фланге в трехстах метрах от окопов. Там стояла без дела артиллерийская батарея, ее надо было срочно развернуть против танков. Пока находившийся рядом командир-испанец метал громы и молнии на головы бойцов, повернувших вспять, Отар выскочил из окопа и бросился к молчавшей батарее. Он не думал о том — хорошо или плохо делает, правильно или неправильно поступает, просто он был в ту минуту ближе всех к командиру и лучше чем кто-либо другой понимал его.
— Ну давай, ну давай, — напутствовал командир Отара.
Отар пробежал метров сто, рядом разорвался снаряд. Он залег, пополз, снова вскочил. Добежал до батареи и, задыхаясь, еле выдавливая из себя слова, показал на танки:
— Туда, быстро туда!
— Мы покинем наши позиции, а вдруг танки появятся здесь? Вдруг здесь появятся не эти, а другие танки, мы не имеем права оставлять позиции без специального приказа. Кто вы такой?
— Я русский. Я прошу вас. Я приказываю вам, если только могу приказывать.
— Поехали, Хесус! Отдай своим команду. — И, придавив сигарету каблуком, командир взялся за колесо орудия. Отар взялся за другое колесо. Бесшумно и деловито батарея меняла позицию. Через несколько минут она открыла огонь.
Она отвлекла на себя внимание танков. Отар увидел, как ползком-ползком движутся к третьему орудию первой батареи какие-то смельчаки. Они открыли огонь прямой наводкой и подбили один танк. Другой танк попробовал взять его на буксир. Из танка выскочил коротышка в шлеме по самые глаза, но его довольно быстро подстрелили, два танка повернули назад, а подбитый продолжал стоять на ничейной полосе.
Когда к нему попробовали подползти республиканцы, танк огрызнулся пулеметными очередями.
Отара кто-то тронул за плечо:
— Поздравляю с боевым крещением! Ну как, товарич болчевике, не очень страшно было? Ничего, к этому быстро привыкаешь.
Перед Отаром стоял Ирибуру.
Испанцы горячо поздравляли артиллеристов и на Отара не обратили внимания, из уст Ирибуру он услышал первый отзыв со стороны о своем поступке. Ирибуру приветливо улыбался, и Отару было приятно видеть эту улыбку. Да, ему было страшно, когда он побежал, и когда услышал близкий разрыв, и когда залег, но он знал, понимал, чувствовал всем существом своим, что есть действующая, помимо сознания, какая-то сила, которая поднимет его и заставит сделать бросок к орудийной батарее. Тогда он действовал, как ему казалось, спокойно, а теперь его била легкая дрожь, он испытывал настоятельную потребность в разговоре. Перед ним стоял Ирибуру, Отар с благодарностью подумал о нем и, чтобы не выглядеть нескромным, заговорил о постороннем:
— А как поживает ваш заложник, правда ли, что это важная птица?
— Заложник — негодяй, и по всем законам военного времени его полагалось бы расстрелять без суда и следствия за все то, что он натворил. Надо было пустить ему пулю в лоб, и дело с концом. Из-за него в операции трех бойцов потеряли. А каждый из них стоил трех, потому что это были баски. И не новички, а воевавшие с первого дня войны.
— А где другие ваши баски?
— Они вернулись домой.
— Домой?
— Да, в родные края. Их нельзя было заставить долго воевать вдали от Басконии. Да и там дел немало — надо создавать партизанские отряды, склады вооружения… Кроме всего прочего, там, если не ошибаюсь, готовится несколько довольно основательных диверсий.
— Скажите, пожалуйста, как случилось, что баски сделали вас… чужеземца, своим командиром? Мне они всегда казались независимыми и слишком самолюбивыми для этого.
— А я не был их командиром. Я был просто их старшим товарищем. Они знали, что за моими плечами был некоторый опыт… И кроме того, я старался не уступать им в деле. Вот они и назвали меня Ирибуру — капитаном.
— Где же вам пришлось приобретать тот опыт, если не секрет?
— Не секрет. В России. В гражданскую войну, — голос Ирибуру слегка дрогнул. — Вы мне напоминаете одного человека, которого я помню со времен войны… Вы мне очень его напоминаете… Я хочу попросить вас… Посмотрите внимательно на этот цветок. Он ни о чем вам не говорит?
И Ирибуру бережно вынул из бокового кармана и протянул Отару берет одного из погибших басков. На нем был вышит цветок с высоким стеблем и крохотными зонтиками-бутонами.
— Мне рассказывал о нем человек, на которого вы очень похожи. Вы должны знать этот цветок.
— Как называется?
— Он называется королевской примулой. По-вашему пурисулой. Это эмблема баскского отряда, в котором я воевал. Но что это, что это? Посмотрите! — И Ирибуру показал туда, где раньше стояла, обороняя фланг республиканцев, артиллерийская батарея. Та самая, к которой час назад бежал, не слыша ни выстрелов, ни взрывов, Отар.
Из-за небольшого холма к незащищенным окопам как бы нехотя, неторопливо выползали три франкистских танка. За ними бежали огромные марокканцы. Артиллеристы-республиканцы сноровисто подкатывали два уцелевших орудия. Артемио Хуарес Акоста залег у ручного пулемета. Отар, Ирибуру и еще с десяток бойцов открыли торопливый огонь из винтовок.
Едва заняв позицию, артиллеристы взяли на прицел передний танк. Танкисты довольно быстро обнаружили оба орудия и перенесли на них огонь. Как-то странно вскинув руку, заплясал на одной ноге командир батареи и рухнул, ударившись головой о колесо. Орудие, находившееся метрах в пятидесяти от окопов, замолкло. Танки приближались. Отар бросился к орудию. В метре от него увидел окровавленного заряжающего — он замер, прижимая к себе снаряд, как мать прижимает ребенка в минуту опасности. Отар поднял снаряд и сделал шаг к орудию.
И услышал воющий звук. И понял, что это стреляют из танка в него. И хотел увернуться, как увернулся тогда, у Мелискари, от пули ястреб. Не смог. Не успел. Рядом разорвался снаряд, и полетели по всему миру, по всей земле, по всей вселенной осколки.
Больше Отар Девдариани не помнил ничего.
И тогда бросился из окопа к Отару человек, которого звали Ирибуру. Прижался ухом к сердцу, замер, взвалил на плечи и пополз.
И тогда бросился из окопа к Отару человек, которого звали Ирибуру. Прижался удом к сердцу, замер, взвалил на плечи и потащил.
И когда дополз до окопа, снова прильнул ухом к груди. Отар с трудом приоткрыл глаза. Откуда-то издалека долетали до него слова:
— Вы не имеете права умереть! Вы должны стать моим свидетелем! Вы должны помочь мне вернуться в Россию!
И Семен Лагинский, низко пригнувшись, побежал за санитаром.
Помню, помню и до конца дней своих не забуду взгляда Давида Девдариани, когда он подковылял ко мне и выстрелил. Сколько же лет прошло с того рассвета под хутором Верхние Перелазы? Восемнадцать?
Всего-то лишь? Потому и помню этот взгляд? Потому и не ошибся, когда встретил первый раз в стареньком скромном отеле «Интернациональ» Отара? Что-то подсказало мне, чьим сыном он мог быть… Эти брови, сходящиеся над переносицей, этот взгляд исподлобья.
Не знаю, какая сила вытолкнула меня из окопа, когда увидел, как попали в Отара, не думал о том, что кругом стреляют, что могут убить. Пытались остановить меня, что-то кричали, я не понимал. Я видел, что впереди лежит раненый Отар.
Я приблизился к нему. Услышав стон, замолкло сердце. К нам подходил чужой танк. Он навел на нас пулемет. В этот момент наперерез панцирю бросились две наши легкие машины. Одну из них подбили, ее окутал черный дым, а другая, отстреливаясь, проскочила через все поле и исчезла вдали. Должно быть, ее водитель постеснялся вернуться к своим окопам.
Панцирь мятежников снова навел на нас пулемет. Я знал, что сейчас последует длинная очередь. И наступит конец. Все во мне говорило, убеждало, приказывало: «Беги, беги, беги, ведь у тебя одна жизнь, другой не дано, не будь безумцем, беги». Как же называлось то, что останавливало меня от постыдного бегства, заставляло действовать хладнокровно и неторопливо?
Не знаю, почему не стреляли из танка. Будто стрелок только и ждал, как я поступлю. Одна рука Отара волочилась по земле. Я тяжело шел по раскисшей земле, обходя трупы, делал вид, что не вижу танка. А всем существом своим чувствовал, как не отводит от меня пулемета танкист.
Наши окопы молчали. Там догадывались — один неосторожный выстрел, и с нами будет покончено.
Чего ждет танкист? Почему не стреляет?
Я продолжал идти. Начал верить в свою звезду. Чувствовал себя человеком, который ничего не боится. И с которым ничего больше не случится.
Когда до окопов оставалось метров пятьдесят, я уже не мог идти. Я полз. С Отаром на спине.
И в этот момент чужой танк дал очередь.
Длинную очередь.
В воздух. Как бы одобряя мой поступок.
Из окопов навстречу нам бросилось несколько человек.
Кто ты там, в танке? Испанец или немец? Быть бы тебе моим другом до конца дней. А твоим соотечественникам — друзьями моего народа.
Придет ли такой день? Придет ли такой час?
А если придет — когда?
Был двадцать четвертый день августа года неспокойного, возмущенного солнца.
В тот час, когда машина с красным крестом остановилась у монастыря святой Марии, превращенного в госпиталь, и когда два санитара бережно вынесли на носилках Отара Девдариани, в тот самый час…
…В одном из восточных портов Испании можно было встретить пожилого англичанина по имени Джекоб Харрисон, руководившего эвакуацией испанских детей. Среди тех, кто шел по трапу, перекинутому с парохода «Пионер», был десятилетний сын Луиса Эчебария — Мелитон. Расставаясь, Харрисон растормошил его волосы и убежденно произнес:
— Выше нос, старина! Мы скоро с тобой встретимся. Папе будет приятно узнать, что ты уезжал как настоящий мужчина.
Сам Луис находился в тот час в горах, на перевале, за который шел многодневный бой. Поручив сына заботам Харрисона, поехала к мужу медицинской сестрой Эмилия. Во время одного из налетов на Мадрид был разрушен дом, в котором жили Эчебария. В тот час маленький Мелитон находился в канцелярии Харрисона и не пострадал. Вернувшись на день с фронта, Луис получил разрешение на эвакуацию сына в Москву.
…Умирал Диего Пуни, а Кристин, сидевшая рядом с ним, не плакала — у нее не осталось больше слез. Диего был в здравом уме и сердцем догадывался, куда и зачем уехал его старый друг Отар Девдариани.
…Нина, Тенгиз и Мито готовились к отъезду из Мелискари в Тбилиси. Валико прислал за ними колхозный грузовик, и, если бы Нина приняла все подарки, которые нанесли ей, грузовик бы не тронулся с места.
— Мама, — стеснительно попросил Мито, — пожалуйста, не отказывай тете Нане. Ей будет неприятно. В ее корзинке такие вкусные чурчхелы. — И Мито тяжко вздохнул.
…Поезд, не обозначенный в расписании, увозил Керима Аджара на восток.
…Вышла из больницы Циала. Ее встретил хмурый отец — профессор Геронти Теймуразович Инаури и робко улыбавшийся Шалва Дзидзидзе. Радостно прыгало в груди сердце Шалвы. Он не знал, что стало бы с ним, если бы что-нибудь случилось с Циалой. Циала была бледной и слабой, исчезли ямочки на ее щеках. Она оперлась о руку Шалвы и тихо произнесла:
— Спасибо.
…Хирург, оперировавший Отара, сказал ассистентам:
— Сохраните эти осколки для молодого человека, как будто неплохая коллекция. И сообщите иностранцу со шрамом на щеке, который ждет там, в коридоре… пусть не беспокоится: кстати, известите его, кто делал операцию.
И пожилой хирург с трудом выпрямил спину и победоносно оглядел своих помощников.