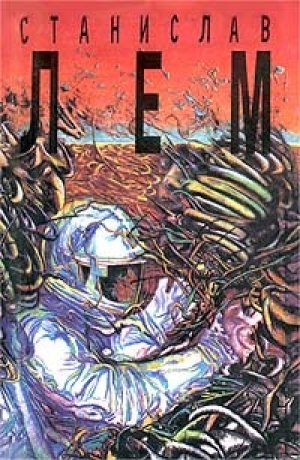
I
Я не взял с собой ничего, даже плаща. Мне сказали, что это не нужно. Позволили оставить черный свитер: сойдет. А рубашку я отвоевал. Сказал, что буду отвыкать постепенно. В проходе, под нависшим днищем корабля, где мы стояли в толчее, Абс протянул мне руку и многозначительно улыбнулся.
– Только тише…
Об этом я и сам помнил. Осторожно сжал его пальцы. Я был совершенно спокоен. Он хотел еще что-то сказать. Я избавил его от этого, отвернувшись, словно ничего не заметил, и поднялся по ступенькам внутрь корабля. Стюардесса повела меня вперед между рядами кресел. Я не хотел отдельного купе. Успели ли ее предупредить об этом? Кресло бесшумно раздвинулось. Она поправила спинку кресла, улыбнулась мне и отошла. Я сел. Подушки были бездонно мягкие, как и всюду. Спинки такие высокие, что я еле видел других пассажиров.
К яркости женских нарядов я уже привык, но мужчин без всяких на то оснований все еще подозревал в маскараде и все еще питал робкую надежду, что увижу нормально одетого человека – жалкий самообман. Посадка закончилась быстро, ни у кого не было багажа. Даже портфеля или свертка. У женщин тоже. Женщин было как будто больше. Передо мной сидели две мулатки в накидках из взъерошенных перьев попугая. Видно, такая теперь была птичья мода. Дальше – какая-то супружеская пара с ребенком. После ярких селенофоров перрона и тоннелей, после невыносимо кричащей, фосфоресцирующей растительности на улицах свет вогнутого потолка казался еле тлеющим. Руки мне мешали, я пристроил их на коленях.
Все уже сидели. Восемь рядов серых кресел, ветерок, несущий запах хвои, стихающие разговоры. Я ожидал предупреждения о старте, каких-нибудь сигналов, приказа пристегнуться ремнями – ничего подобного, однако, не произошло. Какие-то неясные тени, словно силуэты бумажных птиц, поплыли назад по матовому потолку. «Что за чертовщина с этими птицами? – беспомощно подумал я. – Может, это что-нибудь означает?»
Я словно одеревенел от постоянного старания не сделать чего-нибудь неподобающего. Так было уже четыре дня. С первой минуты. Я неизменно отставал от событий, и постоянные усилия понять какую-нибудь беседу или ситуацию превращали это напряжение в чувство, близкое к отчаянию. Я был убежден, что и остальные чувствуют то же самое, но мы не говорили об этом, даже наедине. Мы только подшучивали над собственной мощью, над тем избытком сил, который у нас сохранился: ведь и впрямь приходилось все время быть начеку. Поначалу, например, пытаясь встать, я подпрыгивал до потолка, а любая взятая в руки вещь казалась мне пустой, бумажной. Но управлять собственным телом я научился быстро. Здороваясь, уже никому не причинял боли своим рукопожатием. Это было просто. Только, к сожалению, не так важно.
Слева от меня сидел плотный загорелый мужчина с неестественно блестящими глазами, возможно, от контактных линз. Внезапно он исчез: его кресло разрослось, поручни поднялись вверх и соединились, образовав нечто вроде яйцевидного кокона. Еще несколько человек исчезло в таких же кабинах, похожих на разбухшие саркофаги. Что они там делали? Впрочем, с подобными загадками я сталкивался на каждом шагу и старался не показывать удивления, если они меня непосредственно не касались.
Интересно, что к людям, которые пялили на нас глаза, узнав, кто мы такие, я относился довольно безразлично. Их изумление не задевало меня, хотя я сразу понял, что в нем нет ни капли восхищения. Раздражали меня скорее те, кто заботился о нас, – сотрудники Адапта. А больше всего, пожалуй, доктор Абс, потому что он обращался со мной, как врач с необычным пациентом, довольно удачно прикидываясь, что имеет дело как раз с вполне нормальным человеком. А когда притворяться становилось невозможно, он острил.
Мне надоели его остроты и притворная непосредственность. Любой встречный (так по крайней мере я полагал), если его спросить, признал бы меня или Олафа себе подобным – ведь не столько мы сами должны были казаться ненормальными, сколько наше прошлое, действительно необычное. Но доктор Абс, как и все в Адапте, знал, что и сами мы другие. В нашем отличии от других не было ничего почетного, оно было лишь помехой для понимания, для самого простого разговора, да что там – мы даже не знали, как теперь открывать двери, поскольку дверные ручки исчезли лет пятьдесят—шестьдесят назад.
Старт наступил неожиданно. Тяжесть не изменилась ни на йоту, ни один звук не проник в герметическую кабину, тени все так же мерно плыли по потолку – может быть, многолетний опыт, выработавшийся инстинкт внезапно подсказали мне, что мы находимся в пространстве, и это была уверенность, а не предположение.
Впрочем, меня занимало совсем другое. Уж слишком легко мне удалось настоять на своем. Даже Освамм не очень-то возражал. Доводы, которые выдвигали они с Абсом, были неубедительны, я сам мог бы придумать лучше. Они настаивали только на одном – что каждый из нас должен лететь отдельно. Они даже не ставили мне в вину то, что я подбил на эту поездку и Олафа (если б не я, он, наверно, согласился бы остаться у них подольше). Это наводило на размышления. Я ожидал осложнений, чего-то такого, что в самую последнюю минуту сведет весь мой план на нет, но ничего не произошло – и вот я лечу. Это последнее путешествие должно закончиться через пятнадцать минут.
Совершенно ясно: то, что я задумал, и то, как я добивался досрочного отъезда, не было для них неожиданностью. Подобные реакции, по-видимому, были внесены в их каталог, значились в их психотехнических таблицах под соответствующими номерами, как стереотип поведения, свойственный именно таким молодчикам, как я. Они позволили мне лететь – почему? Опыт подсказывал им, что я все равно не справлюсь сам? Ведь вся эта «самостоятельная» эскапада сводилась к перелету из одного порта в другой, где меня должен был ждать кто-то из земного Адапта, и все, что мне предстояло самому совершить, это отыскать нужного человека в условленном месте.
Что-то случилось. Послышались возбужденные голоса. Я выглянул из своего кресла. Женщина, сидевшая через несколько рядов от меня, оттолкнула стюардессу, и та, словно от этого не такого уж сильного толчка, пятилась по проходу медленно, как-то автоматически, а женщина повторяла: «Я не позволю! Пусть это ко мне не прикасается!» Лица женщины я не видел. Сопровождавший ее мужчина, схватив ее за руку, что-то успокаивающе говорил ей. Что означала эта сцена? Остальные пассажиры просто не обратили на нее внимания. В который уж раз меня охватило ощущение неимоверной отчужденности. Я поглядел снизу вверх на стюардессу. Она остановилась как раз возле моего кресла все с той же неизменной улыбкой. Девушка улыбалась искренне, явно не ради того, чтобы скрыть огорчение. Она не притворялась спокойной – она действительно была спокойна.
– Выпьете что-нибудь? Прум, экстран, морр, сидр?
Мелодичный голос. Я отрицательно покачал головой. Мне хотелось сказать ей что-нибудь приятное, но я решился всего лишь на банальный вопрос:
– Когда посадка?
– Через шесть минут. Съедите что-нибудь? Вам незачем спешить. Можно остаться и после посадки.
– Нет, благодарю.
Она отошла.
В воздухе, прямо перед глазами, на фоне спинки стоявшего передо мной кресла, возникла словно вырисованная быстрым движением кончика тлеющей папиросы надпись: СТРАТО. Я наклонился, чтобы посмотреть, откуда она взялась, и вздрогнул – спинка моего кресла последовала за мной и мягко обняла меня. Я уже знал, что мебель предупредительно реагирует на любое изменение позы, но все время забывал об этом. Это было неприятно – словно кто-то следил за каждым твоим движением. Я попробовал вернуться в прежнее положение, но, видно, сделал это слишком энергично. Кресло неправильно поняло мои намерения и раскрылось, совсем как кровать. Я вскочил. Что за идиотизм! Больше самообладания. Наконец уселся снова. Буквы розового СТРАТО задрожали и превратились в другие: ТЕРМИНАЛ. Никаких толчков, предупреждений, свиста. Раздался далекий звук, напоминавший рожок почтальона, четыре овальные двери в конце проходов между сиденьями широко распахнулись, и внутрь ворвался глухой, всепроникающий шум, словно гул моря. Голоса пассажиров бесследно потонули в этом шуме.
Я продолжал сидеть, а люди выходили. Один за другим мелькали на фоне льющегося снаружи света их силуэты – то зеленым, то пурпурным, то лиловым – настоящий бал-маскарад. Наконец все вышли. Я встал. Машинально одернул свитер. Как-то нелепо так идти, с пустыми руками. Из дверей тянул прохладный ветерок. Я обернулся. Стюардесса стояла у перегородки, не касаясь ее спиной. На лице ее застыла все та же радушная улыбка, обращенная теперь к пустым рядам кресел, которые начали неторопливо свертываться, складываться, словно какие-то мясистые цветы, одни быстрее, другие чуть медленней – и это было единственным, что двигалось под аккомпанемент плывущего через овальные двери всепроникающего протяжного шума, напоминавшего о море. «Не хочу, чтобы это ко мне прикасалось!» В улыбке вдруг почудилось мне что-то зловещее. Подойдя к двери, я сказал:
– До свидания…
– Всегда к вашим услугам.
Значение этих слов, таких странных в устах молодой красивой женщины, я осознал не сразу, лишь когда отвернулся и уже стоял в дверях. Я хотел поставить ногу на ступеньку, но трапа не было. Между металлическим корпусом и краем перрона зияла щель метровой ширины. Теряя равновесие от неожиданности, неловко прыгнул и уже в воздухе почувствовал, как меня будто подхватывает снизу какой-то невидимый поток, переносит через пустоту и мягко опускает на белую, упруго прогнувшуюся поверхность. Наверно, в полете у меня был довольно нелепый вид, потому что я поймал несколько веселых взглядов, брошенных в мою сторону. Я быстро повернулся и пошел вдоль перрона. Ракета, на которой я прилетел, лежала глубоко в выемке, отделенной от края перрона ничем не огороженной пустотой. Я словно невзначай приблизился к этой пустоте и снова почувствовал, как что-то упруго оттолкнуло меня от белого края. Я хотел было выяснить, где источники этой странной силы, и вдруг словно очнулся – ведь это уже Земля.
Поток людей увлек меня, я брел в толпе, меня толкали со всех сторон. Я даже не разглядел как следует, до чего громаден этот зал. Впрочем, был ли это один зал? Никаких стен, белый, сверкающий, взметенный ввысь размах неимоверных крыльев, между ними – колонны, созданные головокружительным смерчем. Что это? Стремящиеся вверх гигантские фонтаны какой-то густой жидкости, просвеченные изнутри разноцветными прожекторами? Нет. Вертикальные стеклянные тоннели, по которым проносились вверх вереницы расплывавшихся в стремительном полете машин? Я уже ничего не понимал. Меня непрерывно толкали, поворачивали, я пытался выбраться из этой муравьиной толчеи на свободное место, но свободного места не было. Я был на голову выше всех и потому смог увидеть, что опустевшая ракета удаляется, – впрочем, нет, это мы уплывали от нее вместе с перроном.
Вверху сверкали огни, в их блеске толпа искрилась и переливалась. Теперь площадка, на которой мы сгрудились, начала подниматься, и я увидел далеко внизу двойные белые полосы, забитые людьми, и черные зияющие щели вдоль беспомощно застывших огромных корпусов ракет, подобных нашей. Их здесь были десятки. Движущийся перрон поворачивал, ускорял бег, подымался к верхним ярусам. По ним, как по немыслимым, лишенным всякой опоры виадукам, шелестя, взвивая внезапными вихрями волосы людей, проносились округлые, дрожащие от скорости тени со слившимися в сплошную светящуюся ленту сигнальными огнями; потом несущая нас поверхность начала разветвляться, делиться вдоль невидимых швов, моя полоса проносилась сквозь помещения, заполненные сидевшими и стоявшими людьми, их окружало множество мелких искорок, будто они жгли разноцветные бенгальские огни.
Я не знал, куда смотреть. Передо мной стоял мужчина в чем-то пушистом, как мех, переливавшемся металлическим блеском. Он держал под руку женщину в пурпуре. Ее платье было усеяно огромными, как на павлиньих перьях, глазами, и эти глаза мигали. Нет, мне не показалось; глаза ее платья в самом деле открывались и закрывались. Полоса, на которой я стоял за этой парой среди еще десятка людей, все набирала скорость. За дымчато-белыми, стекловидными плоскостями то и дело возникали разноцветно освещенные проходы с прозрачными потолками, по которым неустанно шли сотни ног на следующем, верхнем этаже; всепроникающий шум то растекался, то сливался вновь, когда очередной тоннель этой неведомо куда ведущей дороги сдавливал тысячи людских голосов и непонятных лишь мне одному звуков; в глубине пространство прорезали мчащиеся полосы каких-то непонятных машин – быть может, летающих, – иногда они шли наискось вверх или устремлялись вниз, ввинчиваясь в пространство. Но нигде не видно было ни рельсов, ни несущих опор воздушной дороги. Когда же эти вихри останавливали на миг свой стремительный бег, из-за них появлялись огромные величественно-медлительные платформы, заполненные людьми, – словно парящие пристани, которые двигались в разных направлениях, расходились, поднимались и, казалось, пронизывали друг друга, но это было уже обманом зрения. Трудно было остановить взгляд на чем-нибудь неподвижном, потому что все кругом, казалось, состояло именно из движения, и даже то, что я сначала принял за крыловидный свод, оказалось лишь нависавшими друг над другом ярусами, над которыми теперь возникли другие, еще более высокие. Внезапно, просочившись сквозь стеклистые своды, сквозь эти загадочные колонны, отразившись от серебристо-белых плоскостей, заполыхало на всех изгибах пространства, на всех проходах, на лицах людей тяжелое, пурпурное зарево, как будто где-то далеко, в самом сердце гигантского здания запылал атомный огонь. Зеленый свет пляшущих без устали неонов помутнел, молочные параболические контрфорсы порозовели. Этот багрянец, внезапно заполнивший все вокруг, казалось, предвещал катастрофу, но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Я даже не заметил, когда он исчез.
У краев нашей полосы то и дело появлялись вращающиеся зеленые кольца, словно повисшие в воздухе неоновые обручи; тогда часть людей переходила на подплывающие ответвления другой полосы или лестницы; я заметил, что сквозь зеленые кольца этого огня можно было проходить свободно, словно они были нематериальны.
Некоторое время я безвольно позволял белой дорожке уносить меня все дальше, затем вдруг подумал, что я, быть может, уже за пределами порта и этот неправдоподобный пейзаж изогнутого, словно рвущегося в полет стекла и есть уже город, а тот город, который я когда-то покинул, существует лишь в моей памяти.
– Простите, – я коснулся плеча стоявшего впереди мужчины, – где мы находимся?
Мужчина и его спутница посмотрели на меня. Их поднятые ко мне лица выразили удивление. Я все же надеялся, что причиной тому только мой рост.
– На полидуке, – сказал мужчина. – Какой у вас стык?
Я не понял ни слова.
– Мы… еще в порту?
– Конечно, – сказал он, помедлив.
– А где… Внешний Круг?
– Вы его уже пропустили. Придется дублить.
– Лучше раст из Мерида, – вмешалась женщина. Казалось, все глаза ее платья подозрительно и удивленно вглядывались в меня.
– Раст? – повторил я беспомощно.
– Вон там… – Она показала туда, где сквозь подплывающий зеленый круг просвечивало пустое возвышение с серебряно-черными полосатыми боками, похожее на корпус странно размалеванной, лежащей на боку ракеты. Я поблагодарил и сошел с дорожки, но, видимо, не там, где полагалось, потому что резкий толчок едва не опрокинул меня. Мне удалось удержаться на ногах, но меня так закрутило, что я не знал, куда идти. Пока я размышлял, как быть, место моей пересадки далеко отошло от серебряно-черного возвышения, на которое показывала женщина, и я уже не мог его отыскать. Большинство людей, стоявших рядом, переходило на наклонную полосу, устремлявшуюся вверх, и я сделал то же самое. Уже став на полосу, я увидел огромную, неподвижно пылавшую в воздухе надпись: ДУК ЦЕНТР – буквы были такие громадные, что начало и конец надписи не умещались в поле зрения. Меня бесшумно вынесло на гигантский, чуть ли не километровый перрон, от которого как раз отделялся веретенообразный корабль. По мере того как он поднимался, становилось все виднее его продырявленное освещенными окнами днище. Кто знает, может быть, именно этот корабль-левиафан и был перроном, а я находился на «расте» – даже спросить было некого, вокруг было безлюдно. Видно, я попал не туда. Часть моего «перрона» была застроена какими-то сплюснутыми помещениями без передних стен. Подойдя, я увидел что-то вроде низких, слабо освещенных боксов, в которых рядами стояли черные машины. Я принял их за автомобили. Не успел я отойти, как две ближайшие ко мне машины выдвинулись из своих ниш и обошли меня, с места развивая огромную скорость, – и прежде чем они исчезли вдали на параболических склонах, я увидел, что у них нет ни колес, ни окон, ни дверей. Они казались обтекаемыми, как огромные черные капли. «Автомобили или нет – во всяком случае, какая-то стоянка, – подумал я. – Может быть, как раз тех самых „растов“?» По-видимому, лучше всего было обождать, пока не появится кто-нибудь, и отправиться вместе с ним или по крайней мере что-нибудь разузнать. Однако мой перрон, слегка приподнятый, словно крыло невиданного самолета, продолжал оставаться безлюдным, и лишь черные машины одна за другой вырывались из своих ниш и уносились в одну и ту же сторону. Я подошел к самому краю перрона, и упругая невидимая сила снова оттолкнула меня. Перрон и впрямь висел в воздухе, ни на что не опираясь. Подняв голову, я увидел множество таких же перронов, так же неподвижно парящих в пространстве, слабо освещенных; на других перронах, к которым швартовались ракеты, сверкали большие сигнальные лампы. Но нет – это были не ракеты. Это даже не походило на тот корабль, который доставил меня сюда с Луны.
Я стоял долго, пока не увидел, как на фоне каких-то следующих залов (впрочем, не могу с уверенностью сказать, что это были не зеркальные отражения того зала, в котором я стоял) мерно поплыли в воздухе огненные буквы СОАМО СОАМО СОАМО. Перерыв, голубоватая вспышка и потом НЕОНАКС НЕОНАКС НЕОНАКС – быть может, названия станций или реклама продуктов. Мне это ни о чем не говорило. «Сейчас как раз самое время. Мне давно пора найти этого парня из Адапта», – подумал я, повернулся на каблуках, отыскал идущую в обратную сторону дорожку и спустился вниз. Я оказался совсем не на том ярусе и даже не в том зале, где был раньше, – здесь не было тех огромных колонн. Впрочем, может быть, эти колонны куда-нибудь исчезли, мне уже все казалось возможным.
Я очутился среди целой рощи фонтанов, потом попал в бело-розовый зал, где толпились женщины. Проходя мимо одного из фонтанов, я от нечего делать сунул руку в его подсвеченную струю – может, потому, что приятно было встретить что-нибудь хоть немного знакомое. Но рука не ощутила ничего, эти фонтаны были без воды. Потом мне почудился запах цветов. Я поднял руку – она пахла, как тысяча кусков туалетного мыла сразу. Я невольно начал вытирать ее о брюки. Это было как раз перед залом, где находились женщины, одни только женщины. На коридор перед туалетом это не походило. Впрочем, разве тут разберешься? Спрашивать не хотелось. Я повернул обратно. Какой-то юноша, одетый так, словно на нем застыла растекшаяся по телу ртуть, раздувшаяся буфами – или вспенившаяся? – на плечах и в обтяжку на бедрах, разговаривал со светловолосой девушкой, прислонившейся к чаше фонтана. Девушка в светлом платье, совершенно обычном – что приободрило меня, – держала в руках букет бледно-розовых цветов и, пряча в них лицо, глазами улыбалась юноше. Но, остановившись возле них и уже открыв рот, я увидел вдруг, что она ест эти цветы – и на миг у меня перехватило дыхание. Она спокойно жевала нежные лепестки. Ее взгляд скользнул по мне. Застыл. Но к этому я уже привык. Я спросил, где находится Внешний Круг.
Мне показалось, что юношу неприятно удивило или даже разозлило, что кто-то осмелился прервать их беседу. Видно, я совершил бестактность. Он посмотрел вверх, потом опустил глаза, словно думая, что разгадка моего роста в каких-то ходулях. И даже не ответил.
– О, вон там, – воскликнула девушка, – раст на вук, ваш раст, быстрее, вы еще успеете!
Я пустился бегом в указанную сторону, сам не зная куда, ведь я по-прежнему понятия не имел, как выглядит этот проклятый раст. Пробежав шагов десять, я увидел серебристую воронку, спускающуюся сверху, основание одной из тех огромных колонн, которые так поразили меня, – неужели это были летающие колонны? – люди спешили туда со всех сторон, и внезапно я столкнулся с кем-то на бегу. Я даже не покачнулся, лишь остановился как вкопанный, но тот, приземистый толстяк в оранжевом костюме, упал, и с ним произошло нечто невероятное: его костюм завял на глазах, съежился, как проколотый воздушный шарик. Я стоял над ним, совершенно ошеломленный, не в силах даже пробормотать извинения. Он поднялся, посмотрел на меня исподлобья, но ничего не сказал, отвернулся и отошел широким шагом, манипулируя руками перед грудью, – костюм его снова как бы наполнился и стал красивым.
На том месте, которое указывала девушка, уже никого не было. После этого приключения я махнул рукой на поиски всех этих растов, дуков, стыков, Внешнего Круга и решил выбраться из порта. Приобретенный опыт не располагал к разговорам с прохожими, поэтому я поехал наугад – вверх, вслед за голубой, наискось проведенной стрелой, без особых волнений пронизав собственным телом одну за другой две пламенеющие в воздухе надписи: ВНУТРЕННИЕ ЛИНИИ. Я попал на эскалатор, довольно многолюдный. Следующий этаж был выдержан в приглушенных бронзовых тонах с прожилками в виде золотых восклицательных знаков. Плавные переходы потолков и вогнутых стен. Коридоры, лишенные сводов, словно тонущие наверху в светящемся пухе. Стало казаться, что близко жилые помещения, все окружающее чем-то напоминало систему гигантских залов какой-нибудь гостиницы: оконца, никелированные трубы вдоль стен, ниши, где сидели какие-то чиновники, – не то обменные пункты, не то почта, не знаю, я шел дальше. Теперь я был почти уверен, что эта дорога не выведет меня к выходу и что, судя по длительности подъема, я нахожусь уже в надземной части порта. Несмотря на это, я продолжал идти в том же направлении. Неожиданное безлюдье, малиновые плиты с искрящимися звездочками, шеренги дверей. Ближайшая дверь была приоткрыта. Я заглянул. Одновременно со мной с противоположной стороны заглянул какой-то огромный плечистый человек – я сам в зеркале во всю стену. Я распахнул дверь. Фарфор, серебристые трубки, никелировка. Туалет.
Хотелось смеяться, но в общем я чувствовал себя довольно глупо. Я быстро повернул обратно – другой коридор, молочно-белые дорожки, плывущие вниз. Поручни эскалатора мягкие, теплые, я не считал уходящие этажи, людей становилось все больше, они останавливались возле покрытых эмалью ящиков, выраставших из стен на каждом шагу, – прикосновение пальца, что-то падало в руку, они прятали это в карман и шли дальше. Не знаю зачем – я сделал точно то же, что шедший впереди человек в просторном фиолетовом одеянии: нажал кончиком пальца на едва заметную вогнутость клавиша, прямо в подставленную руку упала цветная, теплая полупрозрачная трубка. Я потряс ее, поднес к глазам – какие-то пилюли? Нет. Пробка? Нет, никакой пробки не было. Зачем это? Что с этим делали другие? Просто прятали в карман. На автомате надпись: ЛАРГАН. Я стоял, меня толкали. Внезапно я показался сам себе обезьяной, которой протянули авторучку или зажигалку; на мгновение мною овладело слепое бешенство; я сжал зубы, сощурил глаза и, чуть сгорбившись, включился в текущий мимо поток. Коридор расширялся, это уже был зал. Огненные буквы: РЕАЛ AMMO РЕАЛ AMMO.
Сквозь суетящуюся толпу, поверх голов, я увидел издали окно. Первое окно. Огромное, панорамное.
Словно вся глубина ночи раскинулась на одной плоскости. Из светящегося тумана по самый горизонт – разноцветные галактики площадей, скопления спиральных огней, дрожащее зарево над небоскребами; на улицах копошение, извилистое ползание светящихся бусинок, и над всем по вертикалям – хаотическая пляска неонов, огненные плюмажи и молнии, кольца, самолеты и бутыли, багровые одуванчики сигнальных огней на причальных мачтах, вспыхивающие на миг солнца и выпрыгивающие с механической стремительностью огненные жилы реклам.
Я застыл и смотрел, слыша за собой мерное шарканье сотен ног. Внезапно город исчез и появилось огромное трехметровое лицо.
– Мы передавали монтаж хроники семидесятых годов из цикла «Виды старых столиц». Сейчас Траппстель начинает передачу из школы космолитов…
Я почти бежал. Это было не окно, а какой-то огромный телевизор. Я ускорял шаги. Немного вспотел. Вниз! Скорее вниз! Золотые квадраты света. Внутри – толпы людей, пена в стаканах, почти черная жидкость, нет, нет, не пиво, поблескивает ядовито-зеленым, и молодежь, парни и девушки, в обнимку, вшестером, по восемь сразу, перегораживая коридор, шли на меня, им приходилось разнимать руки, чтобы меня пропустить. Меня тряхнуло. Оказывается, сам того не заметив, я вступил на движущуюся дорожку. Совсем близко мелькнули удивленные глаза – красивая темноволосая девушка в чем-то блестевшем, как фосфоресцирующий металл. Ткань облегала ее, она казалась нагой. Лица – белые, желтые, несколько высоченных черных парней, но я был по-прежнему выше всех. Передо мной расступались. Вверху, за выпуклыми стеклами, мелькали неясные тени, играли невидимые оркестры, а здесь продолжался этот странный променад. В темных коридорах – безликие фигуры женщин, светились только припорошенные блестками волосы да пух, прикрывавший их плечи, – только шеи белели в нем, как странные белые стебли. Фосфоресцирующая пудра?..
Узкий проход вел в галерею каких-то гротескных – подвижных, даже вертлявых – статуй; коридор широкий, как улица, с приподнятыми краями, гудел от смеха. Что их так веселило? Эти статуи?
Огромные фигуры в лучах прожекторов источали густое, как сироп, медовое, рубиновое, насыщенное цветом сияние. Я шел, сощурив глаза. Крутой зеленый коридор, павильончики, пагоды с переброшенными к ним мостиками, полным-полно ресторанчиков, острый, назойливый запах жареного, бренчание стекла, повторяющиеся металлические звуки. Толпа, втянувшая меня сюда, смешалась с другой толпой, потом стало просторней, все садились в открытый настежь вагон, нет, он просто был прозрачный, словно отлитый из стекла, даже сиденья стеклянные и все-таки мягкие. Незаметно для себя я очутился внутри него; мы уже мчались. Вагон летел, люди перекрикивали громкоговоритель, повторявший: «Меридионал, Меридионал, стыки на Спиро, Атэйл, Блэкк, Фросом». Весь вагон словно таял, пронизанный светом; за стенами проносились огненные цветные полосы, параболические арки, белые перроны. «Фортеран, Фортеран, стыки Гале, стыки внешних растов, Макра», – бормотал микрофон. Вагон останавливался и мчался дальше. Удивительное дело: ни торможение, ни ускорение не ощущались, словно инерция была уничтожена. Как же так? Я проверил это на трех очередных остановках, чуть подгибая ноги в коленях. На поворотах тоже ничего. Люди выходили, входили, на передней площадке появилась женщина с собакой – в жизни такого пса не видел. Он был огромный, с шарообразной головой, очень некрасивый, в его светло-карих спокойных глазах отражались уносящиеся назад микроскопические гирлянды огней. РАМБРЕНТ, РАМБРЕНТ. Замелькали синеватые и белесые светящиеся трубки, лестницы, отливающие кристаллическим блеском, черные фонтаны, постепенно блеск застывал, каменея, вагон остановился. Я вышел и растерялся. Над амфитеатром перрона вздымалось многоэтажное знакомое сооружение – все тот же космопорт, другое место того же самого гигантского зала, разделенного крыльями белых плоскостей. Я подошел к краю геометрически правильной чаши перрона – вагон уже отошел – и испытал очередное потрясение: я находился не внизу, как полагал, а, наоборот, очень высоко, этажах в сорока над проносившимися в бездне лентами дорожек, над серебряными палубами мерно двигающихся перронов. В их расщелины вползали продолговатые молчаливые громады, и шеренги люков выбрасывали наружу людей, как будто эти чудовища, эти хромированные рыбины откладывали на перрон на равных расстояниях кучки золотой и черной икры. И над всем этим, далеко, как сквозь дымку, я различал ползущие по невидимой строчке сверкающие буквы:
ГЛЕНИАНА РУН, ВОЗВРАЩАЮЩАЯСЯ СЕГОДНЯ СО СЪЕМОЗАПИСИ МИМОРФИЧЕСКОГО РЕАЛА, ВОЗДАСТ В ОРАТОРИИ ЧЕСТЬ ПАМЯТИ РАППЕРА КЕРКСА ПОЛИТРЫ. ГАЗЕТА «ТЕРМИНАЛ» СООБЩАЕТ. СЕГОДНЯ В АММОНЛИ ПЕТИФАРГ ДОБИЛСЯ СИСТОЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭНЗОМА. ГОЛОС ЗНАМЕНИТОГО ГРАВИСТА МЫ БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ В ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЧАСОВ. РЕКОРД АРРАКЕРА. АРРАКЕР ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ ЗВАНИЕ ПЕРВОГО ОБЛИТИСТА СЕЗОНА НА ТРАНСВААЛЬСКОМ СТАДИОНЕ.
Я отошел. Значит, даже счет времени изменился. Огромные буквы, как шеренги пылающих канатоходцев, плыли над морем голов, в их свете женские одежды внезапно вспыхивали холодным металлическим блеском. Я шел, ничего не замечая, а во мне все звучали слова: «Значит, даже счет времени изменился». Это добило меня. Хотелось только одного: выйти отсюда, выбраться из этого дьявольского космопорта, очутиться под открытым небом, на воле, увидеть звезды, ощутить ветер.
Меня привлекла аллея продолговатых огней; замкнутый в прозрачном алебастре потолка острый язычок пламени выписывал какие-то слова: ТЕЛЕТРАНС ТЕЛЕПОРТ ТЕЛЕТОН; стрельчатая арка входа – неимоверная, лишенная опор арка, словно перевернутый нос ракеты, – вела в зал, крытый окаменевшим золотым пламенем. В нишах стен – сотни кабинок, люди вбегали в них, поспешно выбегали, швыряли на пол обрывки лент, нет, не телеграфных, каких-то иных, с выдавленными на них бугорками, другие ступали по этим обрывкам. Я попробовал выйти, по ошибке забрел в темную нишу, не успел отступить, что-то забренчало, вспышка, будто фотолампа, и из щели, окаймленной металлом, как из почтового ящика, выпал сложенный вдвое листок блестящей бумаги. Я взял его, развернул, из него выскочила человеческая голова с полураскрытыми, слегка искривленными тонкими губами, уставилась на меня, сощурив глаза: это был я сам. Я снова сложил листок, и объемное видение исчезло. Я осторожно начал раскрывать его – ничего; шире – изображение появилось опять, как будто выпрыгнуло из ниоткуда, – без тела, висящая над листком голова с глуповатым выражением лица. Я всматривался в нее – что это такое, объемная фотография? Потом сунул листок в карман и вышел.
Золотой ад, огненная лава потолка, иллюзорная, но пышущая настоящим пожаром, казалось, низвергалась на головы толпы, но никто не смотрел вверх, все хлопотливо бежали из одних кабинок в другие, в глубине прыгали зеленые буквы, колонки цифр сползали по узким экранам; еще кабины, вместо дверей жалюзи, стремительно свертывающиеся при чьем-либо приближении, – наконец-то я нашел выход.
Изогнутый коридор; наклонный, как в театре, пол, на стенах – стилизованные букеты раковин, вверху стремительно проносились слова: ИНФОР ИНФОР ИНФОР, бесконечно.
Впервые я увидел ИНФОР на Луне и принял его за искусственный цветок.
Я приблизил лицо к салатовой чаше, она мгновенно, еще ничего от меня не услышав, застыла в ожидании.
– Как мне выйти? – не очень-то вразумительно спросил я.
– Куда? – тотчас откликнулся теплый альт.
– В город.
– В какой район?
– Безразлично.
– На какой уровень?
– Все равно, я хочу выйти из порта!
– Меридионал, расты: сто шесть, сто семнадцать, ноль восемь, ноль два. Тридукт, уровень АФ, АЖ, АЦ, уровень окружных мигов, двенадцать и шестнадцать, уровень надир в любом южном направлении. Центральный уровень – глидеры, красный – местный, белый – дальний А, Б и В. Уровень ульдеров прямого сообщения, все шкалы с третьей и выше… – мелодично перечислял женский голос.
Мне хотелось вырвать из стены этот микрофон, так заботливо склонившийся ко мне. Я отошел. «Идиот! Идиот!» – отзывался во мне каждый шаг. ЭКС ЭКС ЭКС ЭКС, твердила проползавшая вверху, обрамленная лимонно-желтым туманом надпись. Может быть, «Эксит»? «Выход»?
Огромная надпись: ЭКСОТАЛ. Стремительно налетел поток теплого воздуха, даже штанины захлопали. Я оказался под открытым небом. Но мрак ночи сразу же отпрянул, оттесненный бесчисленными огнями. Огромный ресторан – столики, сверкавшие всеми цветами радуги; над ними – освещенные снизу, чуть жутковато, лица в глубоких тенях. Низкие кресла, черная жидкость с зеленой пеной, лампионы, сыплющие мелкие искры, нет, вроде светлячков – волны пылающей мошкары.
Хаос огней затмевал звезды. Подняв голову, я увидел лишь черную пустоту над собой. И все-таки удивительно, в эту минуту ее слепое присутствие приободрило меня. Я остановился, почувствовав запах духов, резкий и в то же время нежный. Мимо скользнула пара. Плечи и грудь девушки тонули в пушистом облаке, она укрылась в объятиях мужчины: они танцевали. «Еще танцуют, – подумал я. – И то хорошо». Пара сделала лишь несколько шагов, тусклый, отливающий ртутью круг поднял танцующих, темно-красные их тени мерно шевелились под его огромной, медленно вращавшейся плитой, она была без опор, даже без оси, просто кружилась в воздухе под звуки музыки. Я побрел среди столиков. Мягкий пластик под ногами оборвался, упираясь в шершавую скалу. Сквозь световой занавес я вошел внутрь и оказался в скалистом гроте. Словно множество готических нефов, сооруженных из сталактитов, жилистые натеки сверкающих камней охватывали выходы из пещеры. Там, свесив ноги с обрыва, сидели люди. Возле их колен покачивались слабые огоньки. Внизу простиралось невозмутимое черное зеркало озера, отражая нагромождения скал. На сколоченных кое-как плотиках тоже сидели люди, все лица были обращены в одну сторону. Я спустился к самой воде и увидел на песке, по ту сторону, танцовщицу. Она казалась нагой, но белизна ее тела была неестественной. Мелкими неуверенными шажками она подошла к воде, отразилась в ней, внезапно развела руки, поклонилась – это был конец, но никто не аплодировал, она стояла мгновение неподвижно, потом медленно пошла вдоль воды по неровной линии берега. Она была шагах в тридцати от меня, как вдруг с ней что-то произошло. Мгновение назад я еще видел ее усталое, улыбающееся лицо, и вдруг как будто что-то заслонило ее, силуэт задрожал и исчез.
– Не угодно ли плаву? – раздался сзади предупредительный голос.
Я обернулся – никого, только круглый столик, смешно перебиравший согнутыми ножками; он переминался, бокалы с шипучкой, стоявшие на боковых подносиках, дрожали – одна лапка услужливо подсовывала мне бокал, другая уже тянулась за тарелкой, похожей на маленькую, вогнутую палитру с дырочкой для пальца сбоку. Автоматический столик, за стеклом центрального оконца я видел тлеющий огонек его транзисторного сердца.
Я увернулся от этих услужливо протянутых ко мне членистых ручек, от лакомств и быстро вышел из искусственного грота, стиснув зубы, словно мне нанесли непонятное оскорбление. Прошел через всю террасу мимо причудливо расставленных столиков, сквозь аллеи лампионов, обсыпаемый невесомой пылью распадающихся, догорающих в воздухе черных и золотых светлячков. У самого края, выложенного замшелыми камнями, я почувствовал наконец настоящий, холодный, чистый ветер. Рядом стоял свободный столик. Я уселся за него, не очень удобно, спиной к людям, глядя в ночь. Внизу, неожиданная и бесформенная, простиралась темнота, и только далеко, очень далеко, на самом горизонте тлели слабые, зыбкие огоньки, какие-то неуверенные, словно это и не электричество было, а еще дальше в небо вонзались холодные тонкие шпаги света, не знаю, то ли дома, то ли какие-то колонны, их можно было принять за лучи прожекторов, если б они не были подернуты мелкой сеткой – так выглядел бы вбитый основанием в землю и уходящий в облака стеклянный цилиндр, слой за слоем заполненный выпуклыми и вогнутыми линзами. По-видимому, они были невероятной высоты, вокруг них роились какие-то огоньки, то вспыхивая, то угасая, так что по временам их охватывал слабый оранжевый, а иногда почти белый ореол. И это все, и это был город; я пытался отыскать улицы, угадать их, но мрачная и, казалось, мертвая пустыня внизу простиралась во все стороны, не освещенная ни единым проблеском света.
– Коль? – услышал я слово, произнесенное, видно, уже не в первый раз, но лишь теперь понял, что обращались ко мне.
Кресло повернулось раньше, чем я. Передо мной стояла девушка лет двадцати, в голубом, плотно облегавшем ее наряде, плечи и грудь тонули в темно-синем меху, который книзу становился все прозрачнее; красивое, гибкое тело напоминало статуэтку из дышащей бронзы. Что-то светящееся, большое закрывало мочки ушей; маленький, растерянно улыбающийся рот, крашеные губы, ноздри тоже красные изнутри – я уже успел заметить, что именно так красится большинство женщин. Схватившись обеими руками за спинку стоявшего напротив кресла, она воскликнула:
– Что с тобой, коль?
Присела.
Мне показалось, что она немного пьяна.
– Здесь скучно, – заговорила она, помолчав. – Правда? Давай махнем куда-нибудь, коль?
– Я не коль… – начал было я.
Поставив локти на столик, она бесцельно проводила рукой над налитым до половины бокалом, так что кончик золотой цепочки, навернутой на ее пальцы, погрузился в жидкость. Она качалась и наклонялась все ниже. Я почувствовал ее дыхание. Если она и была пьяна, то вряд ли от вина.
– Как же так? – сказала она. – Ты коль. Должен быть. Каждый ведь коль. Махнем, а?
Хоть бы знать, что это означает?
– Хорошо, – ответил я.
Она встала. Встал и я с этого чертовски низенького кресла.
– Как это у тебя получается? – спросила она.
– Что?
Она посмотрела на мои ноги.
– Я думала, ты стоишь на цыпочках…
Я молча усмехнулся. Она подошла ко мне, взяла под руку и снова удивилась:
– Что у тебя там такое?
– Где? Здесь? Ничего.
– Поёшь, – сказала она и чуть подтолкнула меня.
Мы пошли между столиками, а я размышлял, что бы это значило, «поёшь», – может, «сочиняешь»?
Она подвела меня к темно-золотой стене, где светился знак, отдаленно напоминавший скрипичный ключ. Стена раздвинулась, когда мы подошли. Я ощутил дуновение горячего воздуха.
Узкий серебряный эскалатор уходил вниз. Мы стояли рядом. Она не доставала мне до плеча. Круглая кошачья головка, черные, с голубым отливом волосы, профиль, быть может, несколько резкий, но красивый. Вот только эти пурпурные ноздри… Она крепко держала меня тоненькой рукой, зеленые ногти глубоко впились в плотную материю свитера. Я невольно усмехнулся, самым краешком рта, припомнив, где побывал этот свитер и как мало общего он имел до сих пор с женскими ногтями. Пройдя под крутым сводом, который, словно дыша, переливался из розового в карминовый, из карминового в розовый цвет, мы вышли на улицу. Точнее, я подумал, что это улица, но темнота над нами действительно таяла с каждым шагом, словно близился стремительный рассвет. Поодаль проплывали продолговатые низкие силуэты, как будто автомобили, но я уже знал, что автомобилей нет. Это, по-видимому, было что-то другое. Будь я один, я отправился бы по этой широкой магистрали, потому что вдали светилась надпись: В ЦЕНТР; только, наверно, это совсем не означало центра города. Впрочем, я все равно разрешил себя вести. Чем бы ни кончилось это приключение, я нашел провожатого, и мне вспомнился – теперь уже беззлобно – тот горемыка из Адапта, который сейчас, спустя три часа после моего прилета, должно быть, мечется в поисках по этому городу-порту от одного Инфора к другому.
Мы миновали несколько почти опустевших ресторанов, прошли мимо витрин, в которых группа манекенов непрерывно повторяла одну и ту же сцену, и я охотно остановился бы поглядеть на них, но девушка шла быстро, постукивая каблучками, и вдруг воскликнула, увидев неоновое лицо с пульсирующим румянцем, которое все время облизывалось комично высунутым языком.
– О, бонсы! Хочешь бонс?
– А ты? – спросил я.
– Кажется, да.
Мы вошли в маленький сверкающий зал. Вместо потолка там тянулись длинные ряды огненных язычков, вроде газовых, сверху хлынул теплый воздух, – наверное, это и вправду был газ. В стенах виднелись небольшие ниши с пюпитрами; когда мы подошли к одной из них, по обеим сторонам выдвинулись сиденья, будто выросли из стены, сначала неразвернутые, как бутоны, они распластались в воздухе и, прогнувшись, застыли. Мы уселись друг против друга, девушка ударила двумя пальцами по металлической крышке столика, из стены выпрыгнула никелированная лапка, бросила перед каждым из нас маленькую тарелочку и двумя молниеносными движениями наполнила обе тарелочки белесоватой массой, которая тут же начала бронзоветь, вспенилась и застыла; одновременно потемнели и сами тарелочки. Девушка свернула свою тарелочку, как блинчик, и принялась есть.
– О, – проговорила она набитым ртом, – я и не подозревала, что так проголодалась.
Я последовал ее примеру. Бонс не походил по вкусу ни на что знакомое. Он хрустел на зубах, как свежевыпеченная булка, но тут же рассыпался и таял во рту; коричневая масса, завернутая в него, была приправлена острыми специями.
– Еще? – спросил я, когда она справилась со своим бонсом.
Она улыбнулась, покачав головой. Проходя к выходу, она сунула по дороге обе руки в маленькую нишу, выложенную кафелем, – внутри что-то шумело. Я сделал то же самое. Щекочущий ветерок скользнул по пальцам; руки стали чистыми и сухими.
Теперь мы отправились по широкому эскалатору наверх. Я не знал, вышли ли мы из порта, но предпочитал не спрашивать. Она провела меня в небольшую кабину – здесь было темновато, казалось, что над нами проносятся какие-то поезда, так дрожал пол. На мгновение стало совершенно темно, глубоко под нами что-то тяжело вздохнуло, словно металлическое чудовище с шумом выпустило воздух из легких, посветлело, девушка толкнула дверь.
Это, пожалуй, была настоящая улица. Мы были на ней совершенно одни. Невысокие подстриженные кусты росли по обеим сторонам тротуара, немного дальше сгрудились плоские черные машины, какой-то человек вышел из темноты, скрылся за одной из них – не видно было, как он открывал дверцу, он попросту исчез, а машина рванула с места на такой скорости, что его должно было бы расплющить на сиденье; не видно было домов, одна только гладкая как стол проезжая часть, покрытая полосами матового металла; на перекрестках, паря над мостовой, двигались лезвия оранжевого и красного света, похожие на свет военных прожекторов.
– Куда пойдем? – спросила девушка. Она все еще держала меня под руку. Замедлила шаги. Полоса красного света скользнула по ее лицу.
– Куда хочешь.
– Тогда идем ко мне. Не стоит брать глидер. Это близко.
Мы двинулись прямо. Домов по-прежнему не было видно, а ветер, летящий из темноты, из-за кустов, был такой, словно там расстилалось открытое поле. Возле космопорта, в самом центре? Странно. Ветер нес слабый запах цветов, я жадно вдыхал его. Черемуха? Нет, не черемуха.
Потом мы оказались на движущейся дорожке; встали рядом – странная пара. Проплывали огни, иногда проскальзывали машины, словно отлитые из цельного куска черного металла, у них не было ни окон, ни колес, ни даже огней, и мчались они словно вслепую, с необычайной скоростью. Те движущиеся лезвия света били из узких вертикальных щелей, расположенных низко над землей. Я никак не мог разобраться, имеют ли они что-нибудь общее с уличным движением и его регулировкой.
Время от времени высоко над нами, в невидимом небе, нарастал и затихал тоскливый свист. Девушка внезапно сошла с плывущей полосы только затем, чтобы перейти на другую, которая помчалась круто вверх. Я вдруг взлетел куда-то высоко, воздушная поездка длилась с полминуты и закончилась на площадке, полной слабо пахнущих цветов, – мы будто по приставленному к стене конвейеру поднялись на террасу или балкон погруженного в темноту дома. Девушка вошла в глубину этой лоджии, а я, уже свыкшись с темнотой, улавливал в ней огромные силуэты соседних домов, лишенных окон, темных, словно вымерших, потому что не хватало не только света – не было слышно ни малейшего звука, кроме резкого шипения, с которым проносились по улице эти черные машины; после неоновой оргии космопорта меня поражало это, по-видимому, нарочитое затемнение и отсутствие неоновых реклам, но размышлять было некогда. «Где ты там? Иди!» – донесся до меня шепот. Я видел лишь бледное пятно ее лица. Она поднесла руку к двери, дверь открылась, но это была не комната, пол плавно поплыл вместе с нами. «Тут и шагу самому ступить нельзя, – подумал я. – Странно, что у них еще сохранились ноги», – но это была жалкая ирония, ее порождало мое непрекращающееся ошеломление, ощущение нереальности всего, что происходило со мной вот уже несколько часов.
Мы оказались не то в большом зале, не то в коридоре, широком, почти темном, – слабо светились только углы стен, покрытые полосами люминесцирующей краски. В самом темном углу девушка снова прикоснулась распластанной ладонью к металлической плитке в двери и вошла первой. Я зажмурился; почти пустая комната была ярко освещена – девушка шла к следующей двери; когда я подошел к стене, она внезапно раздвинулась, обнажая полки, заставленные множеством каких-то металлических бутылочек. Это произошло так неожиданно, что я невольно застыл на месте.
– Не пугай мой шкаф, – сказала девушка из соседней комнаты.
Я вошел вслед за ней.
Мебель казалась отлитой из стекла: креслица, низенький диванчик, маленькие столики – в их полупрозрачном материале медленно кружились рои светлячков, временами рассыпаясь, потом вновь сливаясь в ручейки, которые циркулировали внутри ножек, спинок, сидений, как бледно-зеленая, пронизанная розовыми отблесками лучистая кровь.
– Ну что же ты?
Она стояла в глубине комнаты. Кресло раскрылось, чтобы услужить мне. Я не выносил этого. Эта стекловидная масса не была стеклом – казалось, что садишься на надутую подушку, а посмотрев вниз, можно было неясно увидеть пол сквозь вогнутый толстый лист сиденья.
Когда я вошел, мне показалось, что стена напротив двери стеклянная и я вижу сквозь нее следующую комнату, заполненную людьми, словно там шел какой-то прием, но люди эти были неестественно высокими – и вдруг я понял, что передо мной телевизионный экран во всю стену. Звук был выключен; теперь, сидя, я видел огромное женское лицо, как будто гигантская негритянка заглядывала в комнату через окно; губы ее шевелились, она что-то говорила, а серьги величиной с тарелку дрожали бриллиантовым блеском.
Я устроился поудобнее в кресле. Девушка, опуская руку вдоль бедра – живот ее и в самом деле казался отлитым из голубого металла, – внимательно смотрела на меня. Она уже не казалась пьяной. Может быть, и раньше мне просто померещилось.
– Как тебя зовут? – спросила она.
– Брегг. Эл Брегг. А тебя?
– Наис. Сколько тебе лет?
«Интересные обычаи, – подумал я. – Ну что ж, видимо, так принято».
– Сорок, а что?
– Нет, ничего. Я думала, сто.
Я улыбнулся:
– Пусть будет сто, если ты так хочешь.
«Самое смешное, что это правда», – подумал я.
– Что выпьешь?
– Спасибо, ничего.
– Как хочешь.
Она подошла к стене, и там открылось нечто вроде небольшого бара. Она заслонила собой полки. Потом обернулась, неся поднос с бокалами и двумя бутылками. Чуть нажав бутылку, она налила мой бокал до краев – жидкость выглядела совершенно как молоко.
– Спасибо, – сказал я, – я ничего не хочу.
– Но ведь я тебе ничего и не даю?! – удивилась она.
Увидев, что я снова сделал ошибку, хоть и не понимая, какую именно, я пробурчал что-то себе под нос и взял бокал. Она налила из другой бутылки себе. Жидкость была маслянистая, бесцветная, она слегка пенилась и быстро темнела, будто от соприкосновения с воздухом. Наис села и, касаясь губами края бокала, равнодушно спросила:
– Кто ты?
– Коль, – ответил я. Поднял бокал, чтобы присмотреться к нему, – это молоко было совершенно без запаха. Я не стал к нему притрагиваться.
– Нет, серьезно, – сказала она. – Ты думал, я втемную, да? Ничего подобного. Это просто кальс. Была с шестеркой, понимаешь, только вдруг дно стало отвратительным. Особенно-то стараться было не к чему и вообще… я уж собиралась выйти, когда ты подсел.
Кое-что я все-таки улавливал: видимо, я случайно сел за ее столик, пока ее не было; может быть, она танцевала? Я дипломатично промолчал.
– Ты издали выглядел так… – Она не могла найти нужного слова.
– Солидно? – подсказал я.
Ее веки дрогнули. Неужели и на них металлическая пленка? Нет, это, наверно, краска. Она подняла голову.
– А что это значит?
– Ну… э… внушающий доверие…
– Ты странно говоришь. Откуда ты?
– Издалека.
– Марс? Дальше.
– Летаешь?
– Летал.
– А теперь?
– Вернулся.
– Но будешь снова летать?
– Не знаю. Наверное, нет.
Разговор как-то угасал – казалось, она уже немного раскаивалась в своем легкомысленном приглашении, и мне хотелось облегчить ее положение.
– Может, я пойду? – спросил я, так и не прикоснувшись к напитку.
– Почему? – удивилась она.
– Мне казалось, что тебе… так будет приятнее.
– Нет, – сказала она, – ты думаешь… нет, отчего же… почему ты не пьешь?
– Я пью.
Это все же было молоко. В такую пору, при таких обстоятельствах! Я был изумлен, и она, наверное, заметила это.
– Что, не нравится?
– Это… молоко, – проговорил я. Наверно, вид у меня был совершенно идиотский.
– Да нет же! Какое молоко? Это брит…
Я вздохнул:
– Слушай, Наис… я, пожалуй, пойду. Правда. Так будет лучше.
– Так зачем же ты пил? – спросила она.
Я молча смотрел на нее. Язык не так уж изменился – только я все равно ничего не понимал. Ничего. Это они изменились.
– Как хочешь, – сказала она наконец. – Я тебя не держу. Но сейчас… – Она смутилась. Хлебнула свой лимонад – так я мысленно назвал этот пенистый напиток, – а я опять не знал, что сказать. Как это все было сложно!
– Расскажи о себе, – предложил я, – хочешь?
– Хорошо. А потом ты расскажешь?
– Да.
– Я в Кавуте второй год. Последнее время разленилась, не пластовала регулярно и… так как-то. Шестерка у меня неинтересная. По правде говоря, у меня… никого нет. Странно даже…
– Что?
– Что никого нет…
Снова сплошной мрак. О ком она говорила? Кого нет? Родителей? Любовника? Знакомых? Абс был прав – без восьмимесячной подготовки в Адапте я тут ничего не пойму. Но сейчас мне тем более не хотелось пристыженным возвращаться за парту.
– Ну а дальше? – спросил я и, вспомнив, что держу в руке бокал, снова отпил из него. Ее глаза расширились от изумления. Что-то вроде насмешливой улыбки скользнуло по губам. Она допила свой бокал до дна, протянула руку к пуху, покрывавшему плечи, и разорвала его – не отстегнула, не сняла, а просто разорвала и выпустила обрывки из пальцев, как ненужный мусор.
– В конце концов, мы мало знакомы, – сказала она.
Теперь она, казалось, чувствовала себя свободнее. Улыбалась. Временами она становилась красивой, особенно когда щурила глаза и нижняя губа, поднимаясь, обнажала сверкающие зубы. В лице ее было что-то египетское. Египетская кошка. Очень черные волосы, а когда она сорвала с плеч и груди этот пушистый мех, я увидел, что она совсем не так худа, как мне показалось. Но зачем она это сделала… Это что-нибудь значило?
– Ты собирался рассказывать, – сказала она, глядя на меня поверх бокала.
– Да, – ответил я и почувствовал волнение, будто от моих слов бог весть что зависело. – Я пилот… был пилотом. Последний раз я был здесь… только не пугайся!
– Нет. Говори!
Ее глаза были внимательными и блестящими.
– Сто двадцать семь лет назад. Мне тогда было тридцать. Экспедиция… я был пилотом рейса на Фомальгаут. Это двадцать три световых года. Мы летели туда и обратно, сто двадцать семь лет по земному времени и десять – по бортовому. Мы вернулись четыре дня тому назад… «Прометей» – это мой корабль – остался на Луне. Я прилетел оттуда сегодня. Это все.
Она молча смотрела на меня. Ее губы шевельнулись, раскрылись, снова сжались. Что было в ее глазах? Изумление? Восхищение? Страх?
– Почему ты молчишь? – спросил я. Мне пришлось откашляться.
– Так… Сколько же тебе на самом деле лет?
Я заставил себя улыбнуться; улыбка получилась невеселой.
– Что значит – «на самом деле»? Биологических – сорок, а по земным часам – сто пятьдесят семь…
Долгое молчание, и вдруг:
– Там были женщины?
– Подожди, – сказал я. – У тебя найдется что-нибудь выпить?
– Что?
– Ну, что-нибудь покрепче, понимаешь. Одурманивающее. Алкоголь… или теперь его уже не пьют?
– Очень редко… – ответила она совсем тихо, словно думая о чем-то другом. Ее руки медленно опустились, коснулись металлической голубизны платья.
– Я тебе дам… Ангеен, хочешь? Ах, ты же не знаешь, что это такое?
– Да. Не знаю, – ответил я с неожиданным ожесточением.
Она подошла к полке и вернулась с маленькой пузатой бутылочкой. Налила. Там был алкоголь – немного – и еще что-то; странный, терпкий аромат.
– Не сердись, – сказал я, выпив бокал, и налил еще один.
– Я не сержусь. Ты не ответил. Может, не хочешь?
– Почему же? Могу ответить. Нас было всего двадцать три человека, на двух кораблях. Второй был «Одиссей». По пять пилотов, остальные – ученые. Не было никаких женщин.
– Почему?
– Из-за детей, – объяснил я. – Нельзя растить детей на таких кораблях, и даже если б можно было, никто бы этого не захотел. До тридцати лет не брали. Нужно окончить два факультета, плюс четыре года тренировки, всего двенадцать лет. Словом, у тридцатилетних женщин обычно уже есть дети. Ну… и другие причины.
– А ты? – спросила она.
– Я был один. Выбирали одиночек. То есть добровольцев.
– И ты хотел…
– Да. Разумеется.
– И ты не…
Она оборвала фразу. Я понял, что она хотела сказать. Я молчал.
– Это, должно быть, жутко… так вернуться, – сказала она почти шепотом. Содрогнулась. И вдруг посмотрела на меня, щеки ее потемнели, это был румянец. – Слушай, то, что я сказала, просто шутка, правда.
– Что мне сто лет?
– Я просто так сказала, ну, чтобы что-нибудь сказать, это совсем не…
– Перестань, – пробормотал я. – Если ты еще станешь извиняться, я и вправду почувствую себя столетним.
Она замолчала. Я заставил себя не смотреть на нее. В глубине комнаты, в той второй, не существующей комнате за стеклом, огромная мужская голова беззвучно пела, я видел дрожащую от напряжения темно-багровую гортань, лоснящиеся щеки, все лицо подрагивало в неслышном ритме.
– Что ты будешь делать? – тихо спросила она.
– Не знаю. Еще не знаю.
– У тебя нет никаких планов?
– Нет. У меня есть немного – такое… ну, премия, понимаешь. За все это время. Когда мы стартовали, в банк положили на мое имя – я даже не знаю, сколько там. Ничего не знаю. Послушай, а что такое Кавут?
– Кавута? – поправила она. – Это… такие курсы, пластование, само по себе ничего особенного, но иногда оттуда можно попасть в реал…
– Постой… так что же ты там, собственно, делаешь?
– Пласт, ну, разве ты не знаешь, что это такое?
– Нет.
– Как бы тебе… чтобы проще, ну, делаю платья, вообще одежду… все…
– Портниха?
– Что это такое?
– Ты шьешь что-нибудь?
– Не понимаю.
– О небеса, черные и голубые! Ты проектируешь модели платья?
– Ну… да, в определенном смысле, да. Не проектирую, а делаю…
Я оставил эту тему.
– А что такое реал?
Это ее по-настоящему удивило. Она впервые взглянула на меня как на существо из иного мира.
– Реал – это… реал, – беспомощно повторила она. – Это такие… истории, на них смотрят…
– Это? – Я показал на стеклянную стену.
– Ах нет, это визия…
– Так что же? Кино? Театр?
– Нет. Театр, я знаю, такое было – это было давно. Я знаю: там были настоящие люди. Реал искусственный, но это нельзя отличить. Разве только если войдешь туда, к ним…
– Если войдешь…
Голова великана вращала глазами, качалась, смотрела на меня, будто он испытывал истинное наслаждение, созерцая эту сцену.
– Послушай, Наис, – сказал я вдруг, – или я пойду, потому что уже поздно, или…
– Предпочла бы второе «или».
– Ты же не знаешь, что я хочу сказать.
– Так скажи.
– Хорошо. Я хотел тебя еще спросить кое о чем. О самом основном, самом важном я уже немного знаю: я просидел в Адапте на Луне четыре дня. Но там все было чересчур торжественно. Что вы делаете, когда не работаете?
– Можно делать массу всяких вещей, – сказала она. – Можно путешествовать, по-настоящему или мутом. Можно развлекаться, ходить в реал, танцевать, играть в терео, заниматься спортом, плавать, летать – что угодно.
– Что такое мут?
– Это вроде реала, только до всего можно дотронуться. Там можно ходить по горам, всюду – сам увидишь, это невозможно рассказать. Но, мне кажется, ты хотел спросить о чем-то другом…
– Тебе правильно кажется. Как сейчас… у мужчин с женщинами?
Ее веки затрепетали.
– Наверно, так, как всегда было. Что могло измениться?
– Все. В те времена, когда я улетел – только не обижайся, – девушка вроде тебя не пригласила бы меня к себе в такое время.
– В самом деле? Почему?
– Потому что это имело бы вполне определенный смысл.
Она помолчала.
– А почему ты думаешь, что это не имело такого смысла?
Мой вид развеселил ее. Я смотрел на нее; она перестала улыбаться.
– Наис… как же это, – пробормотал я, – ты приглашаешь совершенно незнакомого парня и…
Она молчала.
– Почему ты не отвечаешь?
– Потому что ты ничего не понимаешь. Я не знаю, как тебе объяснить. Понимаешь, это ничего не значит…
– Ах вот как. Это ничего не значит, – повторил я.
Я не мог усидеть. Встал. Забывшись, почти подпрыгнул – она вздрогнула.
– Прости, – буркнул я и начал шагать по комнате. За стеклом простирался парк, залитый утренним солнцем; по аллее, среди деревьев с бледно-розовыми листьями, шли трое ребят в рубашках, сверкавших, как доспехи.
– Браки существуют?
– Ну конечно.
– Ничего не понимаю! Объясни мне это. Вот ты видишь мужчину, который тебе подходит, и, не зная его, сразу…
– Но что же тут рассказывать? – неохотно сказала она. – Неужели действительно в твое время, тогда, девушка не могла впустить в комнату никакого мужчину?
– Нет, могла, конечно, и даже с такой именно мыслью, но… не через пять минут после знакомства…
– А через сколько минут?
Я взглянул на нее. Она спросила вполне серьезно. Ну, конечно, откуда ей было знать; я пожал плечами.
– Дело не во времени, просто… просто она должна была сначала что-то… ну, увидеть в нем, узнать его, полюбить. Сначала гуляли…
– Подожди, – перебила она. – Ты, кажется, ничего не понимаешь. Ведь я же дала тебе брит.
– Какой брит? Ах, это молоко? Ну так что?
– Как что? Разве… тогда не было брита?
Она улыбнулась, потом расхохоталась. Внезапно замолчала, посмотрела на меня и отчаянно покраснела.
– Так ты думал… ты думал, что я… нет!!
Я присел. Пальцы меня не слушались. Я вытащил из кармана папироску и закурил. Она широко открыла глаза:
– Что это такое?
– Папироса. А вы не курите?
– Первый раз в жизни вижу такое… и это папироса? Как ты можешь втягивать в себя дым? Нет, постой – то важнее. Брит вовсе не молоко. Я не знаю, что там, но чужому всегда дают брит.
– Мужчине?
– Да.
– Ну и что из этого?
– То, что он будет… он должен вести себя хорошо. Знаешь… Может, тебе какой-нибудь биолог объяснит это.
– К черту биологов. Так это значит, что мужчина, которому ты дала брит, ничего не может?
– Разумеется.
– А если он не захочет выпить?
– Как он может не захотеть?
Тут кончалось всякое взаимопонимание.
– Ты же не можешь его заставить, – терпеливо начал я.
– Сумасшедший мог бы отказаться, – медленно сказала она, – но я ни о чем таком не слыхала, никогда…
– Это такой обычай?
– Не знаю, что тебе сказать. Ты из-за обычая не ходишь раздетым?
– Ага. Ну, в некотором смысле да. Но на пляже можно раздеться.
– Догола? – спросила она с внезапным интересом.
– Нет. Купальный костюм… Но в наши времена были такие люди, они назывались нудисты…
– Знаю. Нет, то другое, я думала, что вы все…
– Нет. Значит, этот брит, это… как платье? Такое же обязательное?
– Да. Когда вдвоем.
– Ну а потом?
– Что потом?
– Во второй раз?
Идиотский это был разговор, и я себя отвратительно чувствовал, но должен же я был наконец узнать!
– Потом? По-разному бывает. Некоторым… всегда дают брит…
– Пустая похлебка, – вырвалось у меня.
– Что это значит?
– Нет. Ничего. А если девушка идет к кому-нибудь, тогда что?
– Тогда он пьет у себя.
Она смотрела на меня почти с жалостью. Но я упорствовал:
– А если у него нет?
– Брита? Как же может не быть?
– Ну, кончился. Или… он ведь может солгать.
Она засмеялась.
– Но ведь это… неужели ты думаешь, что я все эти бутылки держу здесь, в комнате?
– Нет? А где же?
– Я даже не знаю, откуда они берутся. В твое время был водопровод?
– Был, – хмуро ответил я. Конечно, могло ведь и не быть; я мог прямо из пещеры влезть в ракету. На мгновение меня охватила ярость; потом я спохватился – в конце концов, это была не ее вина.
– Ну вот, ты разве знал, откуда берется вода, прежде чем…
– Я понял, можешь не продолжать. Ладно. Значит, это такое средство предосторожности? Очень странно.
– Мне это совсем не кажется странным. Что у тебя там белое, под свитером?
– Рубашка.
– Что это?
– Ты что, рубашки не видела? Ну, такое – белье в общем. Из нейлона.
Я засучил рукав свитера и показал.
– Интересно, – сказала она.
– Такой обычай, – беспомощно ответил я.
Действительно, мне ведь говорили в Адапте, чтобы я перестал одеваться, как сто лет назад; а я заупрямился. Однако я не мог не признать ее правоты – брит был для меня тем же, чем для нее рубашка. В конце концов, людей никто не заставлял носить рубашки, а все их носили. Видно, с бритом обстояло так же.
– Сколько времени действует брит? – спросил я.
Она слегка покраснела.
– Как тебе не терпится. Ничего еще не известно.
– Я не хотел сказать ничего плохого, – оправдывался я. – Мне только хотелось узнать… почему ты так смотришь! Что с тобой? Наис!
Она медленно поднялась. Отступила за кресло.
– Сколько, ты сказал? Сто двадцать лет?
– Сто двадцать семь. Ну и что?
– А ты… был… бетризован?
– Что это значит?
– Не был?!
– Да я даже не знаю, что это значит. Наис… девочка, что с тобой?
– Нет… не был, – шептала она. – Если б был, ты бы, наверно, знал.
Я хотел подойти к ней. Она вскинула руки:
– Не подходи! Нет! Нет! Умоляю!
Она попятилась к стене.
– Ведь ты же сама говорила, что это брит… сажусь, сажусь. Ну, сижу, видишь, успокойся. Что это за история с этим бе… как это там?
– Не знаю подробно. Но… каждого бетризуют. При рождении.
– Что же это?
– Кажется, что-то вводят в кровь.
– Всем?
– Да. Потому что… брит… как раз не действует без этого. Не двигайся!
– Девочка, не будь смешной.
Я погасил папиросу.
– Я ведь все-таки не дикий зверь. Ты не сердись, но… мне кажется, что вы здесь все чуточку тронутые. Этот брит… это же все равно что сковать всем до единого руки, а вдруг да кто-нибудь окажется вором. В конце концов… можно ведь и доверять немного.
– Ты великолепен. – Она будто успокоилась немного, но продолжала стоять. – Почему же ты так возмущался раньше, что я привожу к себе незнакомых?
– Это совсем другое.
– Не вижу разницы. Ты наверняка не был бетризован?
– Не был.
– А может, теперь? Когда вернулся?
– Не знаю. Делали мне разные уколы. Какое это имеет значение?
– Имеет. Тебе делали? Это хорошо.
Она села.
– У меня есть к тебе просьба, – начал я как можно спокойней. – Ты должна мне это объяснить…
– Что?
– Твой страх. Ты боялась, что я на тебя наброшусь, да? Но ведь это же чушь.
– Нет. Если подумать, конечно, чушь, но все это слишком, понимаешь? Такой шок. Я никогда не видела человека, которого не…
– Но ведь этого же нельзя распознать!
– Можно. Еще как можно!
– Как?
Она помолчала.
– Наис…
– Да я…
– Что?
– Боюсь…
– Сказать?
– Да.
– Но почему?
– Ты понял бы, если б я сказала. Видишь ли, ведь это не из-за брита. Брит – это только так… побочное… Дело совсем в другом…
Она побледнела. Губы ее дрожали. «Что за мир, – подумал я, – что за мир!»
– Не могу. Ужасно боюсь.
– Меня?!
– Да.
– Клянусь тебе, что…
– Нет, нет… я тебе верю, только… нет. Этого ты не можешь понять.
– Ты мне не скажешь?
Видно, было в моем голосе нечто такое, что она переборола себя. Ее лицо стало суровым. Я видел по ее глазам, каких усилий ей это стоило.
– Это… для того… чтобы нельзя было… убивать.
– Не может быть! Человека?!
– Никого…
– И животных?
– Тоже. Никого…
Она сплетала и расплетала пальцы, не сводя с меня глаз, – будто этими словами спустила меня с невидимой цепи, будто вложила мне в руки нож, которым я могу ее пронзить.
– Наис, – сказал я совсем тихо. – Наис, не бойся. Правда… не надо меня бояться.
Она пыталась улыбнуться.
– Слушай…
– Что?
– Когда я тебе это сказала…
– Ну?
– Ты ничего не почувствовал?
– А что я должен был почувствовать?
– Представь, что ты делаешь то, что я тебе сказала…
– Что, я убиваю? Я должен это себе представить?
Она содрогнулась.
– Да…
– Ну и что?
– И ты ничего не чувствуешь?
– Ничего. Но ведь это же только мысль, я совсем не собираюсь…
– Но ты можешь? Да? Действительно, можешь? Нет, – шепнула она одними губами, словно самой себе, – ты не бетризован…
Только теперь до меня дошло значение этого, и я понял, что для нее это могло быть потрясением.
– Это великое дело, – пробормотал я. Немного погодя добавил: – Но может, лучше было бы, если б люди отвыкли от этого… без искусственных средств…
– Не знаю. Может быть, – ответила она. Глубоко вздохнула. – Теперь ты понимаешь, почему я испугалась?
– По правде говоря, не совсем. Так, немножко. Ну не думала же ты, что я тебя…
– Какой ты странный! Как будто ты совсем не… – Она запнулась.
– Не человек?
У нее затрепетали веки.
– Я не хотела тебя обидеть, только, понимаешь, если известно, что никто не может, – понимаешь, даже подумать не может никогда, и вдруг появляется такой, как ты, и уже сама возможность… то, что есть такой…
– Но ведь это невозможно, чтобы все были – как это? – а, бетризованы?
– Почему же? Все, уверяю тебя!
– Нет, это невозможно, – упорствовал я. – А люди опасных профессий? Ведь они должны…
– Опасных профессий нет.
– Что ты говоришь, Наис? А пилоты? А разные спасатели? А те, что борются с огнем, с водой…
– Таких нет, – сказала она.
Мне показалось, что я не расслышал.
– Что-о?
– Нет, – повторила она. – Это делают роботы.
Наступило молчание. Я подумал, что не легко мне будет переварить этот новый мир. И вдруг мне пришла в голову мысль, удивительная мысль: мне показалось, что эта процедура, уничтожающая в человеке убийцу, в сущности… калечит его.
– Наис, – сказал я, – уже очень поздно. Я, пожалуй, пойду.
– Куда?
– Не знаю. Ах да! В порту меня должен был ждать человек из Адапта. Я совсем забыл! Никак не мог его отыскать, понимаешь. Ну, тогда… я поищу какую-нибудь гостиницу. Они еще существуют?
– Да. Ты откуда?
– Отсюда. Я родился здесь.
С этими словами вернулось ощущение нереальности всего происходящего, и я уже не мог понять, существовал ли вообще тот город, который теперь был только во мне, и этот, призрачный, с комнатами, в которые заглядывали головы великанов. На миг мне показалось, что я еще на корабле и все это только еще один, особенно отчетливый, кошмарный сон о возвращении.
– Брегг, – будто издалека донесся до меня ее голос. Я вздрогнул. Я совершенно забыл о ней.
– Да… слушаю.
– Останься!
– Что?
Она молчала.
– Ты хочешь, чтобы я остался?
Она молчала. Я подошел к ней, обнял ее холодные плечи, нагнувшись над креслом. Она безвольно встала. Голова ее откинулась, зубы заблестели, я не хотел ее, я хотел лишь сказать: «Ведь ты же боишься», – и чтобы она сказала, что нет. И больше ничего. Глаза ее были закрыты, и вдруг белки сверкнули сквозь ресницы, я склонился над ее лицом, заглянул в остекленевшие глаза, словно хотел познать этот страх, разделить его. Она вырывалась, задыхаясь, но я не чувствовал этого, и лишь когда она начала стонать: «Нет! нет!» – я ослабил объятия. Она чуть не упала. Стала у стены, заслонив часть огромного одутловатого лица, которое там, за стеклом, непрерывно говорило что-то, неестественно шевеля громадными губами, мясистым языком.
– Наис… – сказал я тихо, опуская руки.
– Не подходи!
– Ты же сама сказала…
Ее взгляд был совершенно бессмысленным.
Я прошелся по комнате. Она водила за мной глазами, как будто я… как будто она стояла в клетке.
– Я пойду… – сказал я. Она не ответила. Я хотел было еще что-то добавить – слова извинения, благодарности, только бы не выходить просто так, – но не смог. Если б она боялась меня просто так, как женщина мужчину, незнакомого, пусть страшного, неизвестного, – это бы еще полбеды, но тут было совсем другое. Я взглянул на нее и почувствовал, что меня охватывает гнев. Схватить эти обнаженные белые плечи, встряхнуть…
Я повернулся и вышел; наружная дверь поддалась, когда я ее толкнул, большой коридор был почти не освещен. Я никак не мог найти выход на террасу, но натолкнулся на просвечивавшие блеклым, синеватым светом цилиндры – кабины лифтов. Тот, к которому я приблизился, уже поднялся навстречу, может быть, достаточно было того, что нога ступила на порог. Кабина спускалась медленно. Передо мной чередовались слои темноты и разрезы этажей – белые, с красноватой прослойкой внутри, как прослойки жира в мускулах, они поднимались вверх, я потерял им счет, кабина опускалась, все опускалось, это походило на путешествие на самое дно, как будто меня швырнуло в канал стерилизационной сети и этот гигантский, погруженный в сон и беспечность дом избавлялся от меня. Часть прозрачного цилиндра отошла в сторону, я шагнул вперед.
Руки в карманы, темнота, твердый, широкий шаг, я жадно вдыхал холодный воздух, чувствуя, как шевелятся ноздри, как четко работает сердце, разгоняя кровь. В щелях у самой земли трепетали огни, то и дело заслоняемые бесшумными машинами; ни одного прохожего. Среди черных силуэтов едва рдело зарево, я подумал, что это, может быть, гостиница, но это был всего лишь освещенный тротуар. Я ступил на него. Надо мной проплывали бледные пролеты каких-то конструкций, где-то далеко над черными ребрами домов мерно семенили светящиеся буквы газетных новостей, внезапно тротуар выехал в освещенное помещение и тут окончился.
Широкие ступени текли вниз, серебрясь, как окаменевший водопад. Меня поражала пустота – выйдя от Наис, я не встретил еще ни одного человека. Эскалатор казался бесконечным. Внизу опять широкая освещенная улица, по обеим сторонам – дома; под деревом с голубыми листьями – а может быть, это было не настоящее дерево – я увидел парочку, приблизился к ним и отошел. Они целовались. Я пошел на приглушенные звуки музыки, какой-то ночной ресторан или бар, ничем не отделенный от улицы. Там сидело несколько человек. Я хотел войти и спросить гостиницу. И тут же всем телом натолкнулся на невидимую преграду. Это было совершенно прозрачное стекло. Вход был рядом. Внутри кто-то засмеялся, показывая на меня другим. Я вошел. У столика боком сидел мужчина с бокалом в руке, в черном трико, немного походившем на мой свитер, но воротник весь в буфах, как будто вспененный, и смотрел на меня. Я остановился перед ним. Смех замер на его полуоткрытых губах. Я стоял. Стало тихо. Только музыка продолжала играть, словно за стеной. Какая-то женщина издала странный, слабый звук, я провел взглядом по замершим лицам и вышел. Только на улице спохватился, что собирался спросить гостиницу.
Я вошел в пассаж. Полно витрин. Бюро путешествий, спортивные магазины, манекены в разнообразных позах. Собственно говоря, это были даже не витрины, потому что все это стояло и лежало прямо на улице, по обеим сторонам приподнятой дорожки, бежавшей посредине. Несколько раз я принял шевелившиеся в глубине силуэты за людей. Это были рекламные куклы, повторявшие без конца одно и то же действие. Одна кукла, величиной с меня, карикатурно надув щеки, играла на флейте – я засмотрелся на нее. Она так здорово это делала, что мне захотелось заговорить с ней. Потом пошли залы каких-то игр, там вращались большие радужные колеса; ударяясь, как колокольчики на санках, звенели подвешенные во множестве под потолком серебряные трубки; перемигивались призматические зеркала, но внутри было пусто. В самом конце пассажа в темноте сверкнула надпись: ЗДЕСЬ ХАХАХА. Исчезла. Я направился к ней. Снова зажглось: ЗДЕСЬ ХАХАХА, и исчезло, словно его задули. При следующей вспышке я успел разглядеть вход. Послышались голоса. Я вошел сквозь заслон теплого воздуха.
В глубине стояли два бесколесных авто, горело несколько ламп, трое мужчин быстро жестикулировали, как будто спорили друг с другом. Я подошел к ним:
– Хэлло!
Они даже не оглянулись и продолжали быстро говорить. Я ничего не понимал. «Тогда сапай, тогда сапай», – пискляво повторял самый маленький, с брюшком. На голове у него была высокая шапка.
– Послушайте, я ищу гостиницу. Где здесь…
Они не обращали на меня внимания, как будто меня не было. Меня охватила злость. Уже совершенно молча я вошел в их круг. Ближайший ко мне – я видел его глуповато поблескивающие белки и прыгающие губы – зашепелявил:
– Што я должен шапать? Ты шам шапай!
Как будто он обращался ко мне.
– Что вы строите из себя глухих? – спросил я и внезапно с того места, где я стоял – точно из меня, из моей груди, – вырвался пискливый крик:
– Вот я тебе! Вот я тебе сейчас!
Я отскочил, и тогда появился обладатель голоса, этот толстяк в шапке, – я хотел схватить его за плечи, пальцы прошли насквозь и сомкнулись в воздухе. Я застыл, словно оглушенный, а они продолжали болтать; вдруг мне показалось, что из темноты над автомобилями, сверху, кто-то смотрит на меня, я подошел к границе светлого круга и увидел бледные пятна лиц; там, наверху, было что-то вроде балкона. Ослепленный светом, я не мог рассмотреть его как следует, но и этого было достаточно, чтобы понять, каким ужасным шутом я выглядел. Я выбежал, будто за мной гнались.
Следующая улица шла вниз и кончалась у эскалатора. Я подумал, что там, может быть, найду какой-нибудь Инфор, и отправился по тускло-золотой лестнице. Лестница кончалась небольшой круглой площадью. Посреди стояла колонна, высокая, прозрачная, как из стекла, что-то танцевало в ней, пурпурные, коричневые и фиолетовые силуэты, ни на что не похожие, как ожившие абстрактные композиции, но очень забавные. То один, то другой цвет сгущался, концентрировался, формировался комичнейшим образом; даже лишенная лиц, голов, рук, ног, вся эта путаница форм не лишена была очень человеческого, даже карикатурного выражения. Присмотревшись, я понял, что фиолетовый – это хвастун, надутый, чванливый и в то же время трусливый; когда он разлетелся на миллион пританцовывающих пузырей, за дело взялся голубой. Этот был словно неземной, сама скромность, само смирение, но все это было чуть ханжеское, будто он сам на себя молился. Не знаю, сколько я так простоял. Я никогда не видел ничего подобного. Кроме меня, здесь никого не было, только движение черных машин усилилось. Я не видел даже, есть в них люди или нет, потому что все они были без окошек. С этой круглой площади расходилось шесть улиц – одни вверх, другие вниз, они уходили вдаль нежной мозаикой цветных огоньков, чуть ли не на милю. И ни одного Инфора.
Я изрядно устал, не только физически – мне казалось, что я переполнен впечатлениями. Иногда я спотыкался на ходу, хоть вовсе не засыпал; не помню, как и когда забрел в широкую аллею; на перекрестке замедлил шаги, поднял голову и увидел отсвет городских огней на облаках. Это удивило меня, потому что мне казалось, что я нахожусь под землей. Я шел дальше, теперь уже среди моря пляшущих огней, лишенных стекол витрин, среди жестикулирующих, крутящихся юлой, ожесточенно дергающихся манекенов; они протягивали друг другу какие-то сверкающие предметы, что-то надували – я даже не смотрел в их сторону. В отдалении показалось несколько человек; но я не был уверен, что и это не куклы, и не стал их догонять.
Дома расступились, и я увидел большую надпись: ПАРК ТЕРМИНАЛ – и светящуюся зеленую стрелу.
Эскалатор начинался в проходе между домами, потом вошел в серебряный тоннель, в стенах которого бился золотой пульс, как будто под ртутной кожей стен действительно плыл драгоценный металл; пронесся горячий ветерок, все померкло – я стоял в застекленном павильоне. Он имел форму раковины, в складках гофрированного потолка брезжила туманная, едва уловимая зелень – это был блеск тончайших жилочек, словно фосфоресценция одного огромного подрагивающего листа; во все стороны расходились двери, за ними темнота и маленькие, ползущие по полу буковки: Парк Терминал, Парк Терминал.
Я вышел. Это в самом деле был парк. Невидимые во мраке, протяжно шумели деревья, ветра не было, должно быть, он несся высоко вверху, а мерный, торжественный голос деревьев отделял меня от всего невидимым сводом. Впервые я почувствовал себя одиноким, но не так, как в толпе, – мне было хорошо в этом одиночестве. Наверно, в парке было много людей, доносились шепотки, временами чье-то лицо мелькало бледным пятном, один раз я чуть не задел кого-то. Вершины деревьев сплелись, и звезды видны были только в просветах листвы. Я вспомнил, что к парку я поднимался, а ведь уже там, на площади пляшущих цветов и улице витрин, надо мной было небо, явно хмурое. Как же могло случиться, что теперь, поднявшись этажом выше, я вижу чистое звездное небо? Этого понять я не мог.
Деревья расступились, и, не успев еще увидеть, я почувствовал дыхание воды, запах ила, гниющих корней, намокших листьев – и замер.
Заросли черным кольцом охватывали озеро. Я слышал шелест камышей и тростника, а вдали, на другой стороне озера, над ним, вздымался единой громадой массив стекловидно светящихся скал, полупрозрачная гора над равнинами ночи; едва заметное голубоватое призрачное сияние наполняло вертикальные бойницы, бастионы и башни, застывшие многогранники зубцов, рвы и пропасти, и этот светящийся колосс, невероятный и неправдоподобный, отражался бледным удлиненным двойником в черных водах озера. Я стоял, потрясенный и восхищенный, ветер доносил тончайшие, тающие отзвуки музыки; напрягая зрение, я разглядел этажи и террасы этого титанического сооружения, и вдруг, словно в озарении, понял, что снова вижу космопорт, гигантский Терминал, в котором блуждал накануне, и, может быть, даже смотрю на то самое место, где встретил Наис, со дна поразившей меня тогда мрачной равнины.
Что это – еще архитектура или уже состязание с природой? По-видимому, они поняли, что, перейдя определенный рубеж, необходимо отказаться от симметрии, от правильности форм и идти на выучку к величайшему мастеру – смышленые ученики планеты!
Я пошел вдоль озера. Колосс, застывший в сияющем взлете, словно сопровождал меня. Да, это было мужеством – задумать такую форму, воплотить в ней жестокость пропастей, безжалостность и шершавость обрывов и пиков и не скатиться до механического копирования, ничего не утратить, не сфальшивить. Я вернулся к стене деревьев. Бледная, проступающая на черном небе голубизна Терминала еще виднелась сквозь ветви, потом погасла, заслоненная чащей. Я раздвигал руками гибкие ветви, колючки цеплялись за свитер, царапали брюки, слетевшая с листьев роса, как дождь, осыпалась на лицо, я взял в губы несколько листков, пожевал, они были молодые, горчили, в первый раз по возвращении я испытывал такое: мне ничего не хотелось, я ничего не искал, ни в чем не нуждался, только бы идти вот так, сквозь шелестящую чащу, куда глаза глядят. Так ли все это представлялось мне в течение целых десяти лет?..
Кусты расступились. Извилистая аллея. Мелкий гравий хрустел под ногами, слабо светясь, я хотел бы вновь в темноту, но продолжал идти по аллее – туда, где под каменным кругом стояла человеческая фигура. Понятия не имею, откуда брался свет, окружавший ее, вокруг было пусто, какие-то скамейки, креслица, перевернутый столик, песок, сыпучий и глубокий; я чувствовал, как ноги погружаются в него, какой он теплый, несмотря на ночную прохладу.
Под сводом, возведенным на потрескавшихся, изъеденных колоннах, стояла женщина, словно ожидая меня. Я уже различал ее лицо, мерцание искорок в бриллиантовых пластинках, закрывавших уши, белую, серебрящуюся в тени ткань. Я не мог поверить. Сон? Я был в нескольких десятках шагов от нее, когда она запела. Среди слепых деревьев ее голос казался слабым, почти детским; я не различал слов, может быть, их и не было – губы ее были полуоткрыты, словно она пила, в лице ни малейшего напряжения, ничего, кроме задумчивости, она, казалось, загляделась, словно видела что-то, чего нельзя увидеть, и об этом пела теперь. Я боялся спугнуть ее, шел все медленней. Я был уже в световом кругу, охватившем каменную беседку. Ее голос усилился, она призывала мрак, умоляла, замирая, руки упали, как будто она забыла о них, как будто в ней не осталось ничего, кроме голоса, с которым она уносилась и таяла, казалось, она отрекалась от всего и все отдавала и прощалась, зная, что вместе с последним, замирающим звуком умрет не только песня. Я не знал, что такое возможно. Она умолкла, а я все еще слышал ее голос. И вдруг за моей спиной какая-то девушка пробежала к беседке, за ней кто-то гнался, с коротким гортанным смешком она сбежала по ступеням вниз и пронеслась сквозь стоявшую, и уже летела дальше, догонявший мелькнул черным силуэтом рядом со мной, они исчезли; снова раздался зовущий смех, и я остался, как пень, вросший в землю, не зная, смеяться мне или плакать; призрачная певица снова затянула что-то тихонько. Я не хотел слушать. Я отошел в темноту с окаменевшим лицом, как ребенок, которому раскрыли, что сказка – ложь. Это казалось профанацией. Я шел, а ее голос преследовал меня. Я свернул в сторону, аллея шла дальше, слабо светились кусты живой изгороди, мокрые фестоны листьев свисали над металлической калиткой. Я отворил ее. Там было как будто светлее. Изгородь оканчивалась широкой вольерой, из травы торчали каменные глыбы, одна из них шевельнулась, приподнялась, на меня глянули два бледных огонька глаз. Я замер. Это был лев. Он встал тяжело сначала на передние лапы; теперь я увидел его целиком, в пяти шагах, – грива у него была небольшая, кудлатая, он потянулся раз-другой, неторопливо, покачивая бедрами, подошел ко мне, не издавая ни малейшего шороха. Я уже пришел в себя.
– Но, но, не пугай, – сказал я.
Он не мог быть настоящим – призрак, как та певица, как те там, внизу, возле черных автомобилей, – он зевнул, стоя в одном шаге от меня, в темной пасти сверкнули клыки, челюсти клацнули с лязгом стального засова, я почувствовал его смрадное дыхание, что за…
Он фыркнул. Я ощутил капельки слюны, и, прежде чем успел ужаснуться, он толкнул меня своей огромной головой в бедро, ворча, начал тереться об меня, я почувствовал идиотские спазмы истерического смеха в груди…
Он подставил мне горло, обвисшую, тяжелую шкуру. Почти не сознавая, что делаю, я начал почесывать, теребить его, он мурлыкал все громче, сзади сверкнула вторая пара глаз, еще один лев, нет, львица, она толкнула его плечом. В горле у него заклокотало, это было мурлыканье, не рев. Львица настаивала. Он ударил ее лапой. Она яростно фыркнула.
«Это плохо кончится», – подумал я. Я был беззащитен, а львы такие живые, такие настоящие, каких только можно себе вообразить. Я ощущал тяжелый смрад их тел. Львица продолжала фыркать; вдруг лев вырвал свои жесткие патлы из моих рук, повернул к ней свою огромную голову и заревел; львица распласталась по земле.
– Мне пора, – сказал я, обращаясь к ним, беззвучно, одними губами и стал отступать к калитке, осторожно пятясь – малоприятная минута, но лев, казалось, вообще не замечал меня. Он тяжело лег, снова превратившись в продолговатый камень, львица стояла над ним и толкала его мордой.
Я с трудом удержался, чтобы не броситься бегом, когда закрыл за собой калитку. Колени подкашивались, в горле першило, и вдруг мое покашливание сменилось неудержимым смехом: я вспомнил, как говорил ему «но, но, не пугай», будучи уверен, что это только призрак…
Вершины деревьев отчетливо выделялись на небе; светало. Я был даже рад этому, потому что не знал, как выбраться из парка. Парк уже совершенно опустел. Я прошел мимо каменной беседки, где раньше увидел певицу, в следующей аллее набрел на робота, подстригавшего траву. Он ничего не знал о гостинице, но объяснил мне, как пройти к ближайшему эскалатору. Я спустился вниз, на несколько этажей, не меньше, и, выйдя на улицу нижнего горизонта, удивился, снова увидев над собой небо. Но и моя способность удивляться была на исходе. Я был сыт по горло. Я куда-то шел, помню, что сидел возле фонтана, а может быть, то был не фонтан, встал, пошел дальше в нарастающем свете нового дня, пока не очнулся от забытья прямо против огромных сверкающих окон с огненными буквами ОТЕЛЬ «АЛЬКАРОН».
В белом холле, напоминавшем перевернутую вверх дном гигантскую ванну, сидел робот, великолепно стилизованный под портье, полупрозрачный, с длинными тонкими руками. Ни о чем не спрашивая, он подал мне книгу, я вписал свое имя и, получив маленький треугольный жетон, отправился наверх. Кто-то – я уж не помню кто – помог мне открыть дверь, точнее, открыл ее вместо меня. Стены словно из льда; в стенах – блуждание огоньков; из-под окна, к которому я подошел, появилось из ничего кресло, сверху уже спускался плоский лист, чтобы образовать что-то вроде бюро, но мне нужна была кровать. Я не мог ее найти и даже искать не пытался. Я упал на пенистый ковер и тотчас заснул в искусственном свете этой комнаты без окон – то, что я принял сначала за окно, было, конечно, телевизором, я уходил в сон, ощущая, что оттуда, из-за стеклянной стены, гримасничает какая-то огромная рожа, оценивает меня, смеется, болтает, брюзжит… Сон был спасителен, как смерть; даже время в нем остановилось.
II
Еще не открыв глаз, я коснулся рукой груди. На мне был свитер; если я спал не раздеваясь, значит, была моя вахта. «Олаф!» – чуть было не позвал я и вдруг вскочил.
Это был отель, а не «Прометей». Я сразу вспомнил все: лабиринты порта, девушку, посвящение в тайну, ее страх, голубоватую глыбу Терминала над черным озером, певицу, львов…
В поисках ванной я случайно обнаружил кровать; она сливалась со стеной и выпадала жемчужным, набухшим квадратом, если что-то там нажать. В ванной не было ни ванны, ни кранов, ничего, одни лишь блестящие плитки в потолке и небольшие углубления для ног, выложенные губчатым пластиком. На душ это тоже что-то не походило. Я почувствовал себя неандертальцем. Быстро разделся и застыл с одеждой в руках – вешалок тоже не было, зато был небольшой шкафчик в стене, я втиснул туда все свои вещи. Рядом три кнопки – голубая, красная и белая. Нажал белую. Погас свет. Красную. Зашумело, но это все-таки была не вода, просто какой-то мощный вихрь, отдающий озоном и еще чем-то; он охватил меня с головы до ног, на коже оседали мелкие блестящие пузырьки, они шипели и исчезали, не ощущалось даже влажности, а так, словно покалывание маленьких электрических иголочек, массирующих мускулы. Я нажал на голубую кнопку, и вихрь как-то изменился – теперь он как будто пронизывал меня насквозь – очень странное ощущение. Я подумал, что если привыкнуть, то это может даже понравиться. В Адапте на Луне такого не было – там были обыкновенные ванны. Понятия не имею почему. Кровь теперь бежала быстрее, я чувствовал себя отлично, недоставало только одного – чем и как вычистить зубы. В конце концов я решил махнуть на это рукой. В стене была еще одна дверца, с надписью: «Купальные халаты». Я заглянул внутрь. Никаких халатов, какие-то три металлические фляжки вроде сифонов. Но я был абсолютно сух, и мне не нужно было вытираться.
Я открыл шкафчик, в который вложил одежду, и остолбенел: он был пуст. Хорошо хоть, что плавки бросил на шкаф. Я вернулся в комнату в плавках и принялся разыскивать телефон, чтобы разузнать, что случилось с одеждой. Все это было, пожалуй, слишком хлопотно. Телефон я нашел в конце концов у окна – так я продолжал называть телеэкран, – он выскочил из стены, когда я начал во всеуслышание ругаться; наверно, реагировал на голос. Идиотская мания прятать все в стены. Отозвались из приемной. Я спросил об одежде.
– Вы вложили ее в чист, – ответил мягкий баритон. – Будет готова через пять минут.
«И на том спасибо», – подумал я. Сел за столик, крышка которого предупредительно подсунулась под локоть, едва я нагнулся. Как это делалось? Стоит ли интересоваться; большинство людей пользуется техникой своего времени, абсолютно не понимая ее.
Я сидел в одних плавках и обдумывал различные возможности. Можно было пойти в Адапт. Если бы дело было только в ознакомлении с техникой и обычаями, я бы не стал раздумывать, но я уже на Луне приметил, что одновременно они стараются навязать определенный подход, даже готовую оценку явлений; они предлагали готовую шкалу ценностей и, если видели, что вы с ней не соглашаетесь, объясняли это – и вообще все ваше поведение – консерватизмом, подсознательным сопротивлением, рутиной, старыми привычками и так далее. А я и не собирался отказываться ни от своих привычек, ни от своего консерватизма, по крайней мере до тех пор, пока сам не решу, что мне предлагают нечто лучшее. Но уроки сегодняшней ночи нисколько не убедили меня в этом. Не нуждался я ни в их наставлениях с первой же минуты, ни в их заботливой снисходительности. Интересно, почему они не подвергли меня этой бетризации? Нужно обязательно узнать.
Можно было бы поискать кого-нибудь из наших, Олафа например. Правда, это выглядело бы как нарочитое нарушение инструкций Адапта. О да, ведь они ничего не приказывали, они все время твердили, что действуют в наших интересах, что я могу поступать как мне заблагорассудится, даже прыгнуть с Луны прямо на Землю (шуточки доктора Абса), если мне так не терпится. Я не собирался подчиняться им, но Олафу это могло не понравиться. Во всяком случае, я ему напишу. Адрес есть.
Работа. Искать работу? Какую, пилота? И что, гонять на линии Марс – Земля – Марс? Это я бы смог, но…
Я вдруг вспомнил, что у меня есть какие-то деньги. То есть это были не деньги, они как-то иначе назывались, но я не мог понять, в чем тут различие, если все равно на них все можно было достать. Я попросил соединить меня с городом. В трубке зазвучал далекий мелодичный сигнал. На телефоне не было ни диска, ни цифр, может быть, следовало произнести название банка? Оно было у меня записано на карточке. Карточка? Там, в одежде… Я заглянул в ванную, одежда уже лежала в шкафу, будто свежевыстиранная, в карманах всякая мелочь и эта карточка. Этот банк вовсе не был банком, он назывался Омнилокс. Я назвал это слово, и тотчас же, будто моего вызова ждали, отозвался низкий голос:
– Омнилокс слушает.
– Меня зовут Брегг, – сказал я. – Эл Брегг, и кажется, у вас есть мой счет… я хотел бы узнать, сколько там?
Что-то щелкнуло, и другой, более высокий голос произнес:
– Эл Брегг?
– Да.
– Кто открыл счет?
– Управление космической навигации по распоряжению Планетологического института и Космической комиссии ООН, но это было сто двадцать семь лет тому назад…
– У вас есть какие-нибудь удостоверения?
– Нет, только карточка из лунного Адапта, от доктора Освамма…
– Отлично. Ваш счет: двадцать шесть тысяч четыреста семь итов.
– Итов?
– Да. Что вас еще интересует?
– Я хотел бы получить немного де… этих самых итов.
– В каком виде? Не хотите ли кальстер?
– Что это такое? Чековая книжка?
– Нет. Вы сможете сразу платить наличными.
– Ах, вот как! Отлично.
– На какую сумму открыть вам кальстер?
– Понятия не имею – тысяч на пять…
– Пять тысяч. Хорошо. Выслать в отель?
– Да. Одну минутку, я забыл, как он называется, этот отель.
– Это тот, из которого вы звоните?
– Тот самый.
– Это «Алькарон». Мы вышлем сейчас же. Только вот что: не изменилась ли ваша правая рука?
– Нет… а что?
– Ничего. В противном случае нам пришлось бы изменить кальстер. Вы сейчас его получите.
– Благодарю, – сказал я, кладя трубку. Двадцать шесть тысяч, сколько это? Я понятия не имел. Что-то забренчало. Радио? Телефон? Я поднял трубку.
– Брегг?
– Да, – ответил я. Сердце ударило сильней, всего один раз. Я узнал ее голос. – Откуда ты узнала, где я? – спросил я, потому что она не сразу отозвалась.
– По Инфору. Брегг… Эл… послушай, я хотела тебе объяснить…
– Нечего объяснять, Наис.
– Ты злишься. Но пойми…
– Я не злюсь.
– Эл, правда? Приходи сегодня ко мне. Придешь?
– Нет, Наис, скажи, пожалуйста, сколько это – двадцать с лишним тысяч итов?
– Как это сколько? Эл… ты должен прийти.
– Ну… сколько времени можно на это прожить?
– Сколько угодно, мы ведь ничего не тратим на жизнь. Но не надо об этом. Эл, если бы ты захотел…
– Подожди. Сколько итов ты тратишь в месяц?
– По-разному. Иногда двадцать, иногда пять, а то и вообще ничего.
– Ага. Спасибо.
– Эл! Послушай!
– Я слушаю.
– Это не может так кончиться…
– Что кончится? – сказал я. – Ничего не начиналось. Благодарю тебя за все, Наис.
Я положил трубку.
На жизнь почти ничего не тратят?.. Это в данную минуту интересовало меня больше всего. Что же, значит, какие-то вещи, какие-то услуги бесплатны?
Снова телефон.
– Брегг слушает.
– Приемная. Вам прислан кальстер из Омнилокса. Высылаю его в ваш номер.
– Благодарю… Алло!
– Слушаю?
– Нужно платить за номер?
– Нет.
– Скажите, а ресторан… есть в гостинице?
– Да, четыре. Прислать вам завтрак в номер?
– Хорошо, а за еду… платят?
– Нет. Кальстер уже наверху. Завтрак будет через минуту.
Робот отсоединился, и я не успел спросить его, где мне искать этот кальстер. Я не имел ни малейшего представления, как он выглядит. Встав из-за столика, который тотчас съежился и увял в одиночестве, я увидел что-то вроде подставки, вырастающей из стены, возле двери; на ней лежал плоский предмет, завернутый в полупрозрачный пластик и похожий на небольшой портсигар. С одной стороны шел ряд окошечек, цифры в них образовывали 1001110001000. Ниже две малюсенькие кнопочки с цифрами «один» и «ноль». Я смотрел, ошарашенный, и вдруг понял, что это записано 5 тысяч в двоичной системе. Я нажал кнопку с единичкой, и на ладонь вывалился крохотный пластмассовый треугольничек с выдавленным на нем «1». Значит, это было нечто вроде устройства, печатающего или отливающего деньги, в пределах суммы, обозначенной в окошках, – число уменьшилось на единицу.
Я оделся и уже собирался выйти, но тут вспомнил об Адапте. Я позвонил туда и объяснил, что не смог найти их человека в Терминале.
– Мы уже беспокоились о вас, – отозвался женский голос, – но сегодня с утра узнали, что вы поселились в «Алькароне»…
Они знали, где я нахожусь. Почему же они не разыскали меня в порту? Несомненно, нарочно: рассчитывали, что, заблудившись, я пойму, как неуместен был мой «бунт» на Луне.
– У вас великолепно поставлена информация, – ответил я с изысканной вежливостью. – Пока что я отправляюсь осматривать город. Позвоню вам позже.
Я вышел из комнаты; серебряные движущиеся коридоры плыли здесь целиком, вместе со стенами – для меня это было новостью. Я отправился вниз по эскалатору; на каждом этаже мелькали бары, один был совершенно зеленый, словно погруженный в воду, каждый этаж имел свой цвет – серебро, золото, – все это начинало понемногу надоедать. Всего лишь за день! Странно, что им это нравилось. Впрочем… я вспомнил ночной вид на Терминал.
Нужно немного привести себя в порядок, с таким решением я вышел на улицу.
День был пасмурный, но облака светлые, высокие, и солнце временами пробивалось сквозь них. Только теперь с бульвара, где в два ряда стояли огромные пальмы с розовыми, как языки, листьями, я увидел панораму города. Дома располагались отдельными островками, кое-где в небо вонзались иглы небоскребов, словно взметнувшиеся на невероятную высоту и окаменевшие в полете струи. Они вздымались не меньше чем на километр. Я знал – кто-то мне говорил еще на Луне, – что их теперь уже не строят, что мода на них скончалась естественной смертью именно после постройки этих гигантов. Они высились памятниками быстро угасшей архитектурной эпохи – ведь, кроме высоты, изуродованной худосочностью, они ничем не радовали глаз. Темно-коричнево-золотые, бело-черные в поперечную полоску или серебряные – словно трубы, которые не то поддерживают, не то ловят облака; выступавшие на фоне неба посадочные площадки на трубчатых опорах напоминали этажерки.
Несравненно красивее были новые дома. В них не было окон, и это позволяло целиком расписывать стены. Весь город казался одним гигантским вернисажем, на котором соперничали мастера цвета и формы. Не скажу, что мне нравилось все, что украшало эти двадцати– и тридцатиэтажные сооружения, но, учитывая мой почти стопятидесятилетний возраст, меня, пожалуй, нельзя было обвинить в излишнем консерватизме. Больше всего мне понравились здания с висячими садами, часто пальмовыми. Полосы буйной зелени этих садов-оранжерей как бы рассекали на части фасады домов, их прозрачные стены создавали впечатление легкости. Верхние этажи словно покоились на воздушных подушках.
По бульвару мимо мясистых пальм, которые мне как-то особенно не понравились, неслись два потока черных машин. Я уже знал, что они называются глидерами. Над домами появились летающие машины, но не похожие ни на самолеты, ни на геликоптеры. Больше всего они походили на заточенные с двух концов карандаши.
Поток пешеходов на тротуарах был куда реже, чем в мое время. Движение вообще было в значительной мере разгружено, особенно пешеходное, может быть, благодаря увеличению количества горизонтов; ведь под тем городом, который я сейчас видел, простирались его следующие, более глубокие, подземные этажи, с улицами, площадями, магазинами; Инфор на углу как раз сказал мне, что покупки лучше всего производить на уровне Сереан. То ли этот Инфор был какой-то гениальный, то ли я уже научился немного лучше изъясняться, во всяком случае, я заполучил здесь в собственность пластиковую книжечку с четырьмя раскладывающимися страницами – схемами городских коммуникаций. Если нужно было куда-нибудь попасть, достаточно было коснуться названий улицы, уровня, площади – и на карте сразу же вспыхивал план всех необходимых маршрутов. Можно было также отправиться на глидере. Или на расте. Наконец пешком; поэтому карт было всего четыре. Но я уже на собственном опыте знал, что пешеходные маршруты (даже по движущимся тротуарам и эскалаторам) отнимали слишком много времени.
Сереан, по-видимому, был третьим по счету горизонтом. И снова меня поразил вид города: выйдя из тоннеля, я оказался не на подземной магистрали, а на улице под ясным небом, в полном свете полуденного солнца. Посреди площади росли огромные пинии, вдали голубели полосатые небоскребы, а дальше, через площадь, за бассейном, в котором дети взбивали воду, разъезжая на пестрых аквапедах, возвышался разрезанный поясами зелени белый многоэтажный дом, на крыше которого сверкал, как стекло, какой-то странный колпак. Жаль, некого было спросить, каким чудом я вместо подземелья оказался вновь под открытым небом! Но тут вдруг желудок напомнил, что я еще не завтракал; совсем забыв, что завтрак должны были принести в номер, я вышел из отеля, не дождавшись обещанного. А может, робот из приемной что-нибудь перепутал?
Итак, к Инфору; теперь я уже ничего не предпринимал, не расспросив сначала толком, что и как; через Инфор можно было даже заказать глидер, но об этом я еще не решался просить, потому что не знал, как в него садиться и вообще что с ним делать; впрочем, это было не к спеху.
В ресторане, едва лишь взглянув в меню, я понял, что для меня это китайская грамота, и решительно приказал принести завтрак, обычный завтрак.
– Озот, кресс или герма?
Будь официант человеком, я попросил бы его принести что-нибудь по собственному выбору, но это был робот. Ему было все равно.
– А кофе у вас есть? – опасливо спросил я.
– Есть. Кросс, озот или герма?
– Кофе и это… ну, то, что больше всего подходит к кофе… этот, как его…
– Озот, – сказал он и отошел.
Удача!
Не иначе как все это было у него заранее приготовлено, потому что он тотчас же вернулся, неся такой заставленный поднос, что я заподозрил было какой-то подвох или насмешку. Но, взглянув на поднос, отчетливо ощутил, что, кроме вчерашнего бонса и бокала пресловутого брита, у меня ничего не было во рту с самого приезда.
Все блюда казались совершенно незнакомыми, кроме кофе, напоминающего отлично приготовленную смолу. Сливки в крохотных голубых крапинках наверняка не имели никакого отношения к корове. Жаль, не было никого, чтобы подсмотреть, как со всем этим управляться, – время завтрака, по-видимому, миновало, потому что я был здесь один. Серповидные тарелочки с дымящейся массой, из которой торчали вроде бы кончики спичек, посреди как будто печеное яблоко; понятно, это оказалось не яблоко и не спички; а то, что я принял за овсяные хлопья, вдруг начало разрастаться, когда я его коснулся ложечкой.
Я был безумно голоден и проглотил все, без хлеба (которого не было и в помине). Моя хлебная ностальгия, носившая скорее философический оттенок, появилась лишь потом, почти одновременно с роботом, который остановился в некотором отдалении.
– Сколько? – спросил я.
– Благодарю, ничего, – ответил он.
Пожалуй, он походил все-таки больше на прибор, чем на человека. Единственный, круглый, кристаллический глаз. Что-то шевелилось внутри него, но я не отважился заглядывать ему в брюхо. Даже чаевые некому было дать! Неизвестно, поймет ли он, если я попрошу газету. А может, газет уже и не существует. Я решил сам отправиться на поиски. Но сразу же наткнулся на Бюро Путешествий, и меня словно осенило. Я вошел.
Под изумрудными арками огромного серебристого зала (всем этим обилием расцветок я уже был сыт по горло) было почти пусто. Матовые стекла, гигантские цветные фотографии каньона Колорадо, кратера Архимеда, ущелий Деймоса, Палм-Бич, Флориды – все это было сделано так, что ощущалась глубина, даже волны катились, как будто это не фотографии, а окна, распахнутые в открытые просторы. Я подошел к окошку с табличкой ЗЕМЛЯ.
Там, разумеется, сидел робот. На сей раз золотого цвета. Точнее, позолоченный.
– Чем могу быть полезен? – спросил он. Голос был глубокий. Закрыв глаза, можно было бы поклясться, что говорит крепкий, темноволосый мужчина.
– Мне бы хотелось чего-нибудь примитивного, – сказал я. – Я только что вернулся из длительного путешествия. Чрезмерного комфорта я не требую. Спокойное место, вода, деревья, могут быть горы. Чтобы было примитивно и по старинке. Как лет сто назад. Нет ли чего-нибудь в этом роде?
– Раз вы заказываете, у нас должно быть. Скалистые горы. Форт Плумм, Майорка, Антильские острова.
– Поближе, – сказал я. – Так… в радиусе до тысячи километров. А?
– Клавестра.
– Где это?
Я заметил, что с роботами мне легче разговаривать: они ничему не удивляются. Они не умеют. Это было мудро придумано.
– Старинный горняцкий поселок вблизи Тихого океана. Рудник, неразрабатываемый вот уже четыреста лет. Увлекательные путешествия подземными эскалаторами. Удобное сообщение ульдерами и глидерами. Дома отдыха с медицинским персоналом, сдаются виллы с садом, купальным бассейном, климатической стабилизацией. Местный филиал нашего бюро организует всевозможные развлечения, экскурсии, игры, дружеские встречи. На месте – реал, мут и стереон.
– Да, это, пожалуй, для меня, – сказал я, – вилла с садом. И чтобы была вода. Бассейн, не так ли?
– Разумеется. Бассейн с трамплином, искусственные озера с подводными пещерами, прекрасно оборудованный район для аквалангистов, подводные феерии…
– Ладно, феерии мы оставим в покое. Сколько стоит?
– Сто двадцать итов ежемесячно. Но если вместе еще с кем-нибудь, то всего сорок.
– Вместе?
– Виллы очень просторны. От двенадцати до восемнадцати помещений – автоматическое обслуживание, приготовление еды на месте, питание стандартное или экзотическое, на выбор…
– Мда. Пожалуй, действительно… хорошо. Моя фамилия Брегг. Я согласен. Как это называется? Клавестра? Платить сейчас же?
– Как угодно.
Я протянул ему кальстер.
Оказалось – я этого не знал, – что только я могу его включать, но робот, разумеется, нисколько не удивился моему невежеству. Эти роботы начинали мне нравиться все больше. Он показал, как сделать, чтобы изнутри выпадал только один жетон с необходимой цифрой. Ровно на столько же уменьшалось число в окошечках наверху, показывающее состояние счета.
– Когда я могу выехать?
– Когда пожелаете. В любую минуту.
– Ах да, а с кем я буду делить эту виллу?
– Марджеры. Он и она.
– Кто они такие?
– Могу сообщить только, что это молодожены.
– Хм. Я им не помешаю?
– Нет, поскольку половина виллы сдается. Весь второй этаж будет принадлежать исключительно вам.
– Ну хорошо. А как я туда попаду?
– Лучше всего ульдером.
– Как это сделать?
– Я закажу вам ульдер на тот день и час, который вы укажете.
– Я позвоню из отеля. Это возможно?
– Как вам будет угодно. Плата насчитывается с той минуты, как вы войдете в виллу.
В моей голове начинал неясно вырисовываться некий план. Накуплю книжек и всякой спортивной всячины. Первым делом – книги. И еще нужно подписаться на специальные журналы. Социология, физика. Они, наверно, сделали кучу дел за эти сто лет. Ах да, нужно еще купить какой-нибудь костюм.
И снова что-то спутало мои карты. Повернув за угол, я вдруг, не веря собственным глазам, увидел автомобиль. Настоящий автомобиль. Ну, может быть, не совсем такой, какие я помнил, – кузов, казалось, состоял из одних только острых углов. Но это был самый настоящий автомобиль, с надувными шинами, дверцами, рулем, и за ним стояли другие автомобили. Все за большой витриной; на ней огромными буквами – АНТИКВАРИАТ. Я вошел. Хозяин – или продавец – человек, не робот. «Жаль», – подумал я.
– Нельзя ли купить автомобиль?
– Разумеется. Какой вам угодно?
– Сколько они стоят?
– От четырехсот до восьмисот итов.
«Солидно!» – подумал я. Ну что ж, за древности приходится раскошеливаться.
– А на нем можно ездить?