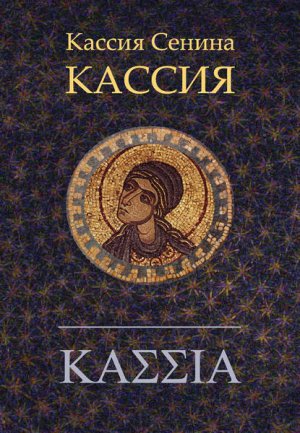
© Сенина Т. А. (монахиня Кассия), 2003–2010, 2015
© Юшманов Б. Ю., оформление, обложка, 2015
Племя женское сильнее всех, И тому воистину свидетель – Ездра.
Св. Кассия Константинопольская
Часть I. Зёрна
Отелъно не родится ни добро, ни зло, Всегда они в смешенъе.
Еврипид
1. Монах из Филомилия
Кто в надежде на победы домогается всё большего, не рассуждая о шаткости и неизвестности счастья, того это самомнение вовлечет в дела безрассудные.
(Менандр Византиец)
Вечером третьего июня одиннадцатого индикта, когда красноватое солнце уже садилось, уступая место долгожданной прохладе, монах Варсисий, совершив обычное молитвенное правило, покинул келью: его хижина из обмазанного глиной тростника, крытая соломой, была тесна и темновата, и в теплую пору отшельник чаще проводил время снаружи, под хлипким навесом. Оглядев пересохшие грядки с чахлыми листьями свеклы, бобов и сельдерея, Варсисий вздохнул и вышел за покосившийся плетень. Ясный безоблачный закат говорил о том, что жара вряд ли спадет в ближайшие дни, – а значит, дождей не стоило ждать до самых июльских календ. Вдали, на пологом склоне холма, на вершине которого стояла Филомилийская крепость, возле белых домиков копошились земледельцы. Сощурившись, Варсисий поглядел на вившуюся в долине дорогу, ожидая, впрочем, что она будет пуста и безлюдна, – путники редко посещали Филомилий. Однако на дороге виднелось облако пыли; оно быстро приближалось, и вскоре монах различил четырех всадников, которые свернули не в сторону крепости, а на тропу, ведшую к хижине Варсисия. Отшельник на всякий случай ретировался под защиту своей убогой изгороди и скрылся в хижине, но вскоре услышал снаружи знакомый голос:
– Отче, открывай! Свои!
Монах поспешно отворил калитку и поклонился:
– Здравствуй, господин Вардан! Чем обязано наше смирение дорогому гостю?
– Здравствуй, отче! Мне нужно поговорить с тобой… только не на улице, – ответил высокий темноволосый мужчина в богатом одеянии, входя во двор к отшельнику.
Вардан Турк, стратиг восточных фем, недавно назначенный на эту должность императором Никифором, страстно мечтал о царской короне. В народе, особенно среди монахов, любили и почитали свергнутую Никифором императрицу Ирину, а нового василевса не жаловали: бывший логофет геникона уже в начале своего правления показал себя человеком жестким, более всего заботясь о пополнении казны, – упразднил налоговые льготы, в том числе для монастырей, ввел несколько новых пошлин, и, как говорила молва, готовился отяготить граждан и другими поборами, чтобы поскорей умножить государственные средства, растраченные при прежней императрице – как утверждали одни, на благотворительность, как злословили другие, на личные нужды придворных евнухов. Усиление поборов вызвало в народе недовольство, которым и решил воспользоваться Вардан, тем более что в войсках тоже роптали на императора по причине задержки жалования, и мечта о порфире, поманившая стратига, с каждым днем казалась все более осуществимой. Филомилийский отшельник был давним знакомым Вардана, стратиг по временам обращался к нему за духовными советами, а теперь приехал, чтобы открыть свои намерения и попросить благословения и молитв.
В хижине монах предложил Вардану сесть на крышку сундука, служившего обитателю кельи и сиденьем, и хранилищем для сухарей, бобов и фиников, а сам присел на край покрытого рогожей деревянного ложа. Стратиг заметно нервничал. То и дело переменяя позу, он рассказал о своих замыслах и, склонив голову, просил молитв. Ужас отразился на лице отшельника, и Варсисий, резко встав, сказал, простирая к стратигу худые, почти костлявые руки:
– Господин, не замахивайся на такое дело! Ничего из этого не выйдет, ты потеряешь не только имущество, но и глаза и в несчастьях проведешь остаток дней! Молю тебя, послушай моего совета – отступись! Отступись скорей от твоего намерения и даже не думай о царской власти!
Ответ монаха, слывшего прозорливцем, настолько сильно отличался от чаяний стратига, что Вардан, изменившись в лице, вскочил и выбежал из хижины. Когда он вышел за плетень, двое его спутников, которые, спешившись, ожидали стратига, подвели ему коня.
Третий спутник Турка гарцевал верхом на вороном жеребце тут же неподалеку. Самый высокий и широкоплечий из всех, с густой шевелюрой жестких волос цвета воронова крыла, горбатым носом и черными глазами, он был родом из Армении; густые брови придавали его лицу несколько угрюмое выражение. Впрочем, он действительно был неразговорчив, хотя умел при случае выражаться красиво и изящно – сын патрикия Варды, родственника Турка, он получил неплохое образование. Отвагой в сражениях Лев вполне оправдывал это имя: покинув родину, как только ему исполнилось восемнадцать, он приехал в фему Анатолик, поступил на военную службу и вскоре стяжал славу неустрашимого храбреца. Вардан, получив в управление восточные фемы, сразу включил его в число своих приближенных. Лев уже два года был женат на Феодосии, дочери патрикия Арсавира, и не так давно у них родился сын.
Два других спутника Вардана лишь недавно стали известны местным военачальникам. Один был моложе Льва, звали его Михаил, а из-за врожденного порока речи он получил прозвище Шепелявый. Среднего роста, коренастый, с небольшими темными глазами и волнистыми, но жидковатыми волосами, он был уроженцем Амория. Его мать была дочерью владельца постоялого двора на городской окраине, а отец добывал пропитание земледелием, но по настоянию жены бросил его и стал плотничать. Михаил с детства жил в бедности и, повзрослев, решил во что бы то ни стало выйти в люди. Шепелявый едва умел читать и писать, зато отличался выдающимися познаниями в скотоводстве, научившись им частью от отца, а более всего от своих дядек, отцовских братьев-земледельцев: с ходу указывал, какие из мулов пригодны для перевозок, а какие хороши для седоков и не пугливы, ловко погонял непокорных ослов и мог с одного взгляда сказать, какие из коней сильны и быстры в беге, а какие выносливы в бою; последним умением он и приглянулся Вардану.
Что касается третьего спутника Турка, то светлые волосы, круглое лицо и сероватые глаза выдавали в нем славянское происхождение. Он был старше и Михаила, и Льва, прихрамывал на одну ногу, но был очень крепок телом и силен. Молодость его прошла довольно бурно: устроившись на службу к одному стратигу, он вступил в связь с его женой, а быв уличен, сбежал к арабам и провел там несколько лет, изучив тамошний язык и обычаи. Однако разбогатеть ему не удалось, и, возвратясь в Империю, он добрался до Амория, где в трактире познакомился с Михаилом и решил вместе с ним попытать счастья на военной службе. Звали его Фома.
Когда Варсисий, выбежавший вслед за своим гостем, увидел этих троих, он на несколько мгновений остановился, как вкопанный, с широко раскрытыми глазами, а потом бросился к стратигу со словами:
– Господин Вардан, постой! Мне надо сказать тебе кое-что важное! Прошу тебя, выслушай, Христа ради!
Стратиг возвратился, думая услышать что-то новое и – как знать? – благоприятное для его планов: монах был настолько взбудоражен, что можно было подумать, будто ему внезапно открылось нечто из ряда вон выходящее. Но когда он вновь оказались в келье Варсисия, отшельник, не садясь, повернулся к Вардану и подрагивающим от волнения голосом произнес:
– Молю тебя, господин, оставь свои замыслы! Ты почтен высоким саном, богат, знатен, тебя уважает сам император… Не меняй все это на грядущие беды! Знай, что не ты, а твои слуги, которые ждут тебя там, завладеют престолом, сначала высокий и черный, а за ним – тот, что с отвисшей губой. Третьего тоже ждут провозглашение и славословия, но престола он не получит и погубит свою бедную душу…
– Да что ты несешь?! – вскричал стратиг. – Вот дьявол!
Стремительно развернувшись, он покинул хижину, понося монаха отборной руганью, и вскоре только следы копыт на тропе напоминали отшельнику о необычном посещении. Варсисий долго стоял у калитки, провожая взглядом четырех всадников, и по его впалым щекам текли слезы.
По дороге Вардан, громко и нервно хохоча, рассказал своим спутникам о пророчествах «шельмы-черноризца» насчет них.
– Еще один прорицатель выискался! – по суровому лицу Льва скользнула пренебрежительная усмешка.
– Вот-вот! – подхватил Фома с ухмылкой. – Им же скука смертная, отшельникам этим, сидят целыми днями одни, вот при случае и развлекаются, как могут…
– Да наврал он все, господин Вардан! – воскликнул Михаил. – Ты не волнуйся! Ну, посмотри на меня – какой из меня император?! Этот отец тут, наверное, пьет много с тоски, вот и мерещится всякое! Спьяну, знаете, и мне иногда такое привидится…
Но несмотря на эти издевки, во взглядах, которыми обменялись Михаил с Фомой, проскользнул огонек: они уже во второй раз слышали в свой адрес пророчество о царстве. Год назад, еще до назначения Вардана главнокомандующим на восток Империи, они оба, тогда состоявшие на службе у патрикия Сисиния, стратига фемы Анатолик, однажды были приглашены к нему на ужин, и, что самое странное, стратиг стал пировать наедине с гостями, выгнав всех слуг, а других приглашенных не было. Друзья исподтишка недоуменно переглядывались, но ели с аппетитом. Когда был выпит уже второй кувшин вина, Сисиний с торжественным видом поднялся с места и сказал:
– Вы, конечно, гадаете, что это я вас позвал. А вот, слушайте! Вчера возвращаюсь я в Аморий и заезжаю в трактир по дороге… А там недалеко от села этого живет мой знакомый монах, я его навещаю иногда… советуюсь, знаете, то-се… Мне говорили, он еще и пророчествует, и верно предсказывает, но сам-то я никогда не слышал, а тут… Стою на дворе, гляжу – мой черноризец идет. «О, – говорю, – приветствую, отче!» И что вы думаете? Он ничего не ответил, даже не кивнул, подошел и смотрит на меня так, смотрит… Мне прямо не по себе стало. «Ты чего, – говорю, – отче?» А он вдруг бух на колени! И шепчет: «Не прогневайся, господин, но выслушай меня, грешника! Хоть и стратиг ты, а императоров на службе у себя имеешь!» Я ему: «Ты что, отче?! За такие речи, сам знаешь…» А он: «Истинно, истинно говорю тебе! Михаил амориец и Фома хромой, что у тебя служат, корону носить будут!» – и руки к небу поднял… А потом поклонился и пошел. Совсем будто не в себе был, точно и впрямь Духом охвачен. Хорошо, разговора никто не слыхал… Так что, выходит, друзья мои, я сейчас пирую с будущими императорами! Ну, за судьбу!
Ошарашенные Михаил и Фома подняли кубки. Не шутка ли всё это?.. Но даже если и так, попировать они всегда не прочь! Ешь, пока дают, а там видно будет… Вино лилось рекой, и захмелевший стратиг, посмеиваясь, поднимал тосты «за будущих государей». Фома пил молча, улыбаясь и как будто не пьянея; Михаила, напротив, совершенно развезло, и он уже собрался запеть еврейскую песню – одну из тех, что ему частенько приходилось слышать в детстве в бедняцких кварталах Амория, – когда Сисиний пригласил в залу своих дочерей Агнию и Феклу и объявил их и своих сотрапезников женихами и невестами. Все четверо лишились дара речи. Фома сидел, как деревянный, с Михаила тотчас слетел весь хмель; оба растерянно взирали на нежданных невест. А девушки, то краснея, то бледнея, искоса взглядывали то на свалившихся на их головы женихов, то на отца, гадая, не шутка ли это не в меру развеселившегося родителя, который на днях рассуждал о том, как выдать дочерей замуж повыгоднее, а теперь задумал породниться с простыми стратиотами, – да еще один хромой, а другой косноязычный… Но Сисиний не шутил, и когда прошло первое удивление, Михаил, повнимательнее взглянув на предложенную ему в невесты Феклу, обнаружил, что она замечательно хороша собой, и поднявшись, торжественно заявил:
– Господин Сисиний! Думаю, сегодня Сам Бог говорит через тебя, а можно ли противиться Богу! – и они с Фомой согласились на внезапное предложение.
Тут же были позваны остальные домашние, и застолье превратилось в пир по поводу помолвки, затянувшись глубоко за полночь. Правда, невесты хранили гробовое молчание и никакой радости не выказали, но Сисиний всегда был в семье полновластным господином, все его трепетали, от супруги, теперь уже покойной, до слуг, и какое-либо непослушание представлялось немыслимым…
– Если черноризец и наврал, так это нас не касается, – тихо сказал Михаил Фоме, когда они уже под утро уходили от стратига. – Дурак или не дурак Сисиний, что поверил ему, но мы-то с тобой точно не в проигрыше!
– Угу, – пьяно улыбнулся Фома.
Однако не прошло и трех месяцев после того, как друзья стали зятьями стратига, и судьба обошлась с ними самым вероломным образом. Было перехвачено некое «мятежное» письмо Сисиния к низложенной императрице Ирине, и василевс лишил стратига всех имений и отправил в далекую ссылку. Потеряв сразу и тестя, и покровителя – Сисиний умер в изгнании спустя пять месяцев, – Михаил и Фома с супругами уже приготовились к бедности и скитаниям, но тут им опять повезло: они попались на глаза Вардану, который, затевая мятеж, собирал вокруг себя всех так или иначе обиженных императором. И вот, сейчас пророчество подтверждалось, хотя в несколько иной версии, не слишком благоприятной для Фомы. Зато Михаил сильно задумался…
Между тем, Вардан, вдоволь насмеявшись над «обезьяной в рясе», махнул рукой на предсказание. Мечта о пурпуре уже настолько завладела стратигом, что расстаться с ней было трудно, а пророчество монаха казалось совершенной нелепостью. «Ну, положим, представить льва на троне еще можно, – думал Вардан. – Но император шепелявый и полуграмотный… что за чушь! А я, дурак, еще считал этого враля Божиим человеком!»
На следующий день стратиг принялся собирать против императора Никифора большое войско – за ним пошли четыре восточные фемы, за исключением отказавшегося повиноваться Арменьяка, – и 19 июля начал восстание.
…Впоследствии Вардану не раз пришлось вспомнить пророчество «шельмы-черноризца». Когда мятежные войска подошли к Хрисополю, император послал к восставшим Иосифа, эконома столичного храма Святой Софии, и он, вступив от имени василевса в переговоры со стратигом, одновременно начал тайно уговаривать приближенных Турка сложить оружие, обещая прощение и всяческие милости. Шепелявый Михаил согласился сразу и убедил Льва последовать его примеру. Фома остался с Варданом, но после отхода значительной части войск провал восстания был очевиден. Мятежный стратиг отошел к Малагинам и вскоре, отчаявшись в успехе, покинул войско, постригся в монахи и удалился на остров Прот. Император в наказание лишил имений многих архонтов, поддержавших бунт, и оставил войско без жалования, зато не поскупился на награды тем, которые добровольно присоединились к нему до окончания мятежа: Лев получил должность начальника федератов и дворец Дагисфей к северо-западу от Ипподрома, а Михаил стал комитом шатра при стратиге Анатолика и владельцем небольшого дворца Кириан в районе Влахерн.
В Амории, главном городе Анатолика, Шепелявый приобрел особняк, и там в конце июня Фекла родила сына. Мальчика крестили на сороковой день, в праздник Рождества Богородицы, причем восприемником его от купели стал Лев, нарочно ради этого приехав в гости к другу. Михаил дал сыну имя Фео́фил – в память собственного отца, уже умершего.
Время шло, император Никифор, хотя постоянно опасался заговоров, всё же довольно прочно утвердился на престоле; казалось, ничто не предвещало смены власти, и слова монаха из Филомилия представлялись нелепой фантазией. Лев уже и думать о них забыл, тем более что не знал о той части пророчества Варсисия, которая касалась Вардана и сбылась спустя несколько месяцев после мятежа: несчастный Турк, несмотря на обещание василевса не карать его и позволить мирно жить в монастыре, был ослеплен по приказу Никифора. Михаил, однако, запомнил слова прорицателя. Тогда, знойным июньским вечером, стоя у подгнившего частокола, он успел рассмотреть монаха, прорекшего, как оказалось, ему царство: Варсисий отнюдь не походил на «шельму», и чем чаще Михаил размышлял о пророчестве, тем больше крепло в нем убеждение, что слова отшельника непременно сбудутся…
2. Брат и сестра
(Георгий Писида)
- Глупцам отрадно хвастовство крикливое,
- Но мудрому – молчанье и покой души.
8 сентября – в тот самый день, когда Вардан Турк решил сложить оружие и ночью тайно покинул мятежное войско, – Георгий, протоспафарий и член Синклита, сидел у себя дома за обеденным столом, отделанным слоновой костью, и с ожесточением расправлялся с внушительным куском жареной свинины, приправленной индийским перцем и корицей. Двое слуг стояли у него за спиной, готовые исполнить приказания господина, и время от времени многозначительно переглядывались: хозяин был явно не в духе. Георгий принадлежал к числу людей, которые никогда не могут почувствовать себя счастливыми: несмотря на то, что его жизнь была вполне благополучна и устроена, он постоянно находил поводы для гнева или зависти.
Он происходил из семьи обедневшего македонского землевладельца, который был вынужден продать большую часть своих поместий и жил, плохо сводя концы с концами; в довершение бедствий мать семейства умерла, оставив отца с двумя детьми на руках. Георгий был старше своей сестры Марфы на восемь лет и, когда ему пошел шестнадцатый год, с благословения отца отправился искать счастья в Царствующий Город. Константинополь поразил молодого провинциала: огромные площади и широкие центральные улицы, вымощенные мраморными плитами, где рядом с одетыми в шелка сановниками можно было встретить безобразных нищих в отрепьях; роскошные портики и высокие колонны; многочисленные статуи работы знаменитых античных мастеров, свезенные со всей Империи для украшения Нового Рима; поднимающиеся тут и там прекрасные храмы; величественные дворцы с золочеными крышами, облицованные мрамором и украшенные барельефами; особняки богачей, окруженные великолепными садами; шумные рынки, где можно было купить всё, что угодно, от простого ячменного хлеба до одежд из драгоценного шелка и багдадских узорчатых ковров; и, наконец, величественно плывший над Городом купол Святой Софии… Глядя на всё это великолепие, потрясенный юноша думал: «Надо обосноваться здесь во что бы то ни стало!» Теперь ему внушала тоску и ужас одна мысль о том, что в случае неудачи придется вернуться домой, к жизни среди виноградников и ячменных полей, в окружении земледельцев в вечно испачканной землей одежде, с грубыми манерами, часто неспособных связать двух фраз, поскольку их постоянным обществом были овцы, козы и собаки. Немало похождений и злоключений выпало на долю Георгия, однако юный честолюбец добился своего: умевший втираться в доверие к вышестоящим путем искусной лести и разных приемов, которым он Бог весть, у кого научился, экономный до скаредности и расчетливый, через семь лет он был женат на дочери богатого константинопольского купца, имел особняк рядом с форумом Феодосия, носил титул протоспафария и заседал в Синклите. Когда отец написал ему, что Марфу неплохо бы тоже устроить в столице, Георгий немедленно пригласил сестру к себе, собираясь выдать ее замуж так, чтобы этот брак мог упрочить его собственное положение при дворе.
Марфе в то время только что исполнилось пятнадцать. Ее нельзя было назвать красавицей, но было что-то запоминающееся в разрезе ее больших темных глаз и овале смугловатого лица, обрамленного темно-каштановыми волосами. Поселившись в доме брата, она жила почти затворницей, пряла лен, читала Псалтирь и по воскресеньям и праздникам, а иногда чаще ходила в церковь. Георгий обращался с сестрой со снисходительностью старшего, накопившего немалый жизненный опыт, воображая, как устроит ее брак, и как она потом будет до гроба ему благодарна за братскую любовь и заботу…
Но почтенного синклитика постигла неудача: пока он был выбирал подходящую партию для сестры, стараясь не прогадать, Марфа сама позаботилась о себе. Все началось со случайной встречи в воскресенье на выходе из Святой Софии. Народу было так много, что в толкотне Марфу оттеснили от ее служанок; она слегка растерялась и, отойдя в сторону, встала в простенке между дверьми из нартекса в храм, надеясь, что девушки отыщут ее, когда схлынет толпа. Но тут к ней, как назло, привязался оборванец, выклянчивая милостыню. Марфа дала ему обол, и он скрылся в толпе, однако вскоре появился в окружении десятка таких же попрошаек. Они окружили девушку, с жалобным нытьем протягивая к ней грязные руки, а один, видимо, чтобы вызвать побольше сочувствия, распахнул на груди лохмотья и показал ужасную незаживающую язву. Марфе стало дурно. Она беспомощно огляделась вокруг, уже готовая заплакать, и вдруг поймала взгляд выходившего из храма в нартекс высокого молодого человека. Она умоляюще посмотрела на него, а он, тут же оценив ее положение, быстро подошел, сунул в руку каждому попрошайке по мелкой монетке и строго сказал:
– А теперь брысь! И не сметь больше приставать к госпоже!
Оборванцы немедленно исчезли.
– Благодарю тебя, господин! – воскликнула Марфа. – А то я не знала, что и делать…
– Не стоит благодарности, госпожа, – молодой человек слегка поклонился, и девушка отметила, что у него густые вьющиеся волосы золотисто-русого оттенка, очень красивая осанка и изящные манеры.
«Придворный, наверное», – подумала она. А он несмело спросил:
– Но почему ты здесь одна, госпожа?
– Я не одна, я со служанками, но их унесло толпой, – улыбнулась девушка. – Я решила тут подождать, пока они разыщут меня… О, да вон они! Анфуса, Мира! – Марфа помахала им рукой.
Как только служанки подошли, молодой человек с улыбкой сказал:
– Вот вам ваша госпожа, в целости и сохранности! Не бросайте больше ее одну! – и, еще раз поклонившись Марфе, исчез в толпе.
По дороге домой девушка рассказала служанкам о своем «избавлении» от оравы нищих и вдруг всплеснула руками:
– А я ведь даже не спросила его имя! Как жаль! Не знаешь, за кого и молиться…
– Но можно ведь просто – «о благодеющих нам», госпожа, – сказала Анфуса.
– Ну, да, – кивнула Марфа. – А всё-таки с именем было бы лучше, – добавила она задумчиво.
Возможность узнать это имя неожиданно представилась всего неделю спустя, в Книжном портике, куда Марфа часто заходила после литургии, прежде чем отправиться домой. Своих денег на покупку книг у нее не было, а в доме брата книг почти не водилось, поэтому девушка подолгу задерживалась в портике, перелистывая рукописи. Особенно она любила смотреть книги с рисункам и орнаментами, вздыхая про себя: «Какая красота! Но мне такое никогда, верно, не купить, ужас, как дорого!..» И вот, осторожно перелистывая большую Псалтирь с миниатюрами, сделанными, впрочем, не слишком умелой рукой, Марфа вдруг услышала рядом голос, показавшийся ей знакомым. Повернув голову, она увидела того самого молодого человека: он что-то обсуждал с продавцом.
– Ах! – воскликнула она, быстро подойдя к нему. – Как хорошо, что я тебя встретила, господин!
Молодого человека звали Василий, он служил при дворе в чине кандидата. Они познакомились, разговорились, и встречи их в Книжном портике, как будто бы случайные, стали своего рода традицией.
– О, госпожа Марфа, какая неожиданность! – говорил он, входя под отделанные мрамором своды портика и видя девушку у прилавка.
– Вот так встреча, господин Василий! – чуть улыбалась она, и они церемонно раскланивались.
Правда, кое для кого из слуг не было секретом, что этими встречами молодые люди были обязаны вовсе не случаю, но никто из сопровождавших Марфу при ее выходах из дома или носивших ее письма к Василию, не донес Георгию о Марфином знакомстве: слуги понимали, что девушка вряд ли будет счастлива, если проведет всю жизнь в атмосфере, царившей в семействе протоспафария, а они успели полюбить ее, – не в последнюю очередь за то, что она, в отличие от их хозяина, никогда не обращалась с ними пренебрежительно и высокомерно. Наконец, через два месяца Василий сделал Марфе предложение, а еще через две недели она сообщила брату о своих намерениях. Георгий был в гневе – ведь он уже почти уладил дело с выдачей сестры замуж за одного патрикия, имевшего при дворе значительные связи и много друзей, – но отговорить сестру не смог. Девушка проявила неожиданную твердость.
– Знаешь, что? – сказала она брату. – Я не собираюсь служить тебе разменной монетой! И не хочу приносить себя в жертву твоему честолюбию! Ты устроил свою жизнь, как хотел, позволь и мне сделать то же!
– Ты… – Георгий задохнулся от возмущения. – Да как ты смеешь! Я тебя сюда пригласил, приютил, а ты!.. Как ты посмела так себя вести?! Это неприлично! Как ты вообще могла вступать в разговоры с незнакомым мужчиной? Это не пристало девушке из хорошей семьи! Так не выходят замуж приличные девицы! И этот Василий – где его только воспитывали?! Он должен был посвататься к тебе через твоих родителей, обратиться к отцу… а прежде всего ко мне! Разве не на моем попечении ты живешь? – протоспафарий всё более распалялся. – Вот погоди, я напишу отцу и расскажу ему, что ты учудила! Вот посмотрим, что он скажет!
Марфа рассмеялась:
– О, не беспокойся, папа уже всё сказал! – и с торжествующим видом она сунула брату в нос письмо отца, который давал родительское благословение на ее брак с Василием.
Оставив сестру в родном доме еще ребенком, Георгий совсем не знал ее характера. А Марфа, хоть и вела себя как можно тише, скромнее и незаметнее, очень быстро оценила обстановку в доме брата и поняла, что Георгий готовит ей, подыскивая жениха, ту же участь, что и собственной жене – довольно красивой, но бесцветной женщине, голоса которой почти не было слышно в доме и в чью голову даже не приходила мысль подвергнуть критике те или иные взгляды, устремления и привычки супруга. Но в сердце Марфы жила неосознанная тяга к чему-то большему, чем роль молчаливой и всегда покорной жены, которая нянчит детей, занимается домашним хозяйством, по воскресеньям ходит в церковь в пышных нарядах, а вечера проводит за прялкой. Василий открыл ей другой мир, в котором были книги с творениями святых отцов и произведениями древних поэтов, беседы о прочитанном… И этот мир осеняла живая вера в Бога, которую сохранила в душе Марфа, но давно утратил ее брат.
Сыграв свадьбу, молодые стали жить во Влахернском районе Города в доме Василия, перевезя туда и престарелого отца Марфы, который умер четыре года спустя. Георгий долго гневался на сестру за неудачный, на его взгляд, брак: придворный невысокого чина, Василий не имел большого состояния, а при его тихом и скромном нраве ожидать, что он постарается сделать карьеру, не приходилось. Самым милым местом для Василия был семейный очаг, а на придворные дрязги он смотрел с плохо скрываемым отвращением. При встречах брат не прочь был укорить сестру за «бестолкового» мужа, а та неизменно отвечала ему какой-нибудь колкостью, вызывая у него еще больший гнев. «Вот увалень! – думал Георгий о Василии. – Так всю жизнь и проходит ведь в кандидатах… Хорошо еще, не сорит деньгами, а то бы Марфа с ним по миру пошла! Но это у них пока нет детей, а когда они заведут хотя бы двоих?.. Ну, сестрица, ну и бестолочь!..»
Но внезапно всё изменилось. В течение года умерли родители Василия, оставив ему небольшое состояние, а еще через год скончался его дядя по отцу, богатый фракийский землевладелец; не имея детей, он завещал свои поместья племянникам, и треть земель досталась Василию. Не успел еще наследник сообразить, что ему делать со свалившимися на его голову имениями, как умер его дядя по матери, известный константинопольский аргиропрат, также бездетный вдовец, и почти всё его состояние отошло к Василию: помимо внушительных сумм, исчислявшихся в литрах золота, молодому кандидату достался целый сундук ювелирных украшений и драгоценностей, не выкупленных заложившими их некогда владельцами. Так вчерашние скромные супруги внезапно превратились в одних из самых богатых людей в Константинополе, не употребив для этого ни усилий, ни ухищрений, не лести, ни подкупа, не участвуя в дворцовых интригах и не заводя «выгодных друзей». Уже одно это выводило из себя брата женщины, которую он еще недавно укорял за брак, обрекший ее на «полунищее» состояние.
Но дальше поводов для зависти у Георгия только прибавлялось. Вскоре Василий и Марфа поселились в просторном двухэтажном особняке в центре столицы, вблизи форума Константина. Марфа вдруг проявила таившиеся в глубине души способности, и дом их был отделан с замечательным вкусом и великолепием. Приходя к сестре в гости, Георгий умирал от зависти: он сознавал, что, даже отделав собственный дом убранством по той же цене, он всё равно не смог бы добиться такой исключительной красоты, отпечаток которой лежал на всем, к чему прикасались проворные руки Марфы. Сестра теперь ходила в дорогих шелках и изящных украшениях, выходя на улицу в окружении свиты из рабынь и слуг, но при этом сохранила внутреннюю простоту бедной провинциалки. Жизнь с супругом сказалась на ней благотворно совсем не в том направлении, о котором мечталось Георгию: Василий был хорошо образован и любил читать, а с тех пор как нежданно разбогател, стал тратить значительные деньги на пополнение домашней библиотеки. Марфа тоже пристрастилась к чтению, и часто по вечерам после ужина супруги с увлечением обсуждали какую-нибудь трагедию Еврипида или размышляли над тем или иным святоотеческим писанием…
Время шло, и зависть к сестре в Георгии опять сменилась гневом. Во-первых, Василий даже и не подумал потратиться на то, чтобы купить себе какой-нибудь более высокий титул и приобрести влияние в известных кругах. Он так и остался при своем кандидатстве и по-прежнему избегал погружаться в придворную жизнь, – а значит, Георгий никак не мог использовать в своих целях внезапное обогащение сестры. Во-вторых, несмотря на двенадцать лет совместной жизни, у Василия и Марфы до сих пор не было детей, тогда как у Георгия родились уже три сына и дочь. Он не верил, что Марфа, его родная кровь, может быть бесплодной, а потому валил вину на ее мужа: «Вышла, тоже мне, за какого-то!..» Впрочем, под видом беспокойства о счастье сестры, Георгия куда больше беспокоила участь ее имущества: «Этак они еще поживут немного без детей, да и начнут жертвовать все на богадельни и на прокорм этих бездельников-монахов!..»
А Марфа с мужем по вечерам всё чаще грустили в своем красивом доме, хотя почти никогда не говорили о своем горе и ни в чем не обвиняли друг друга. Настойки и порошки, которые врач выписывал Марфе, ничем не помогли, и в конце концов она перестала их пить. Оставалось только молиться о даровании ребенка и в минуты уныния перечитывать библейские истории и жития, где говорилось о чудесном рождении дитяти у бесплодных родителей…
Георгий не очень-то верил в чудеса, а вот поворчать очень любил, особенно на сестру, что не преминул сделать и сегодня. После праздничного богослужения в честь Рождества Богородицы и Крестного хода из Святой Софии в Халкопратийский храм, протоспафарий, проводив императора во дворец, возвращался домой и под арками Милия встретил сестру, шедшую из церкви. Марфа, как всегда, изящно одетая, в темно-зеленой тунике и мафории более светлого оттенка, шла в сопровождении служанок, не глядя по сторонам, и если бы брат не подошел к ней, она бы его не заметила. Они поздоровались, и Георгий сказал:
– Ну, что, богомолка, все молишься?
– Да… Что же еще делать в храме? – Марфа поглядела на него слегка насмешливо.
Она знала, что брат, бывая в церкви, частенько был занят не молитвой, а обменивался новостями и обсуждал дела с друзьями и знакомыми. Георгий не замедлил с ответным ударом:
– А толку-то от твоих молитв? Нет, чтоб детей побольше вымолить!
Протоспафарий не отличался тактичностью и с завидным постоянством при встречах с сестрой заводил речь об одном и том же, как будто больше им не о чем было говорить… Впрочем, тем для бесед у них действительно давно не находилось. Георгий, поселившись в столице, заботился о деньгах и карьере, но не о собственном образовании, уверенный, что за деньги можно купить расположение и умных людей, а самый великий философ без денег будет вынужден ютиться по тесным квартиркам и зарабатывать на жизнь уроками. Поэтому он так и остался при знаниях, полученных в начальной школе, и часто даже не понимал шуток своей уже весьма начитанной сестры, за что тоже сердился на нее, а еще больше на Василия как виновника этого: «излишнее образование», по мнению Георгия, женщине могло только повредить. Марфа, со своей стороны, смотрела на брата со снисходительной жалостью, и его выпады уже давно не задевали ее. Но сегодня она была в унынии и потому ответила слегка раздраженно:
– Можно подумать, молитвы нужны, только чтобы выпрашивать земное благопо лучие!
– А что ж, – усмехнулся Георгий, – об одном спасении души, что ли, прикажешь заботиться? Вот сейчас, да, всё побросать, всё имущество разбазарить попрошайкам и жуликам в рясах, а самим жить в темном углу и душу спасать!.. Это, знаешь ли, там… для монахов! А мы с тобой люди мирские, как ни поверни, и должны думать…
– Вот и думай – сам за себя! А меня оставь в покое! – поморщилась Марфа. – Всё, что ты можешь мне сказать, я уже слышала не раз, и память у меня пока, слава Богу, хорошая, так что не стоит повторяться! До встречи!
Она повернулась и пошла прочь быстрым шагом, служанки едва поспевали за ней. «Эк побежала!» – неодобрительно подумал Георгий: по его представлениям, для знатной женщины так быстро ходить было неприлично.
И вот теперь, заедая свинину фригийской капустой, Георгий, вспоминая «дерзость» сестры, просто разрывался от гнева. Разве он не желает ей добра?! И разве он безбожник какой-нибудь? Но нельзя же, дьявол побери, впадать в такой… аскетизм!.. Всему есть мера… Правда, конечно, с его стороны было ошибкой год назад намекнуть Марфе, что ради продолжения рода не грех бы ей на время завести любовника. Сестра тогда так рассердилась на него, что несколько месяцев при встрече не здоровалась и даже, завидев брата, переходила на другую сторону улицы… Но разве есть толк во всех этих ее молитвах и хождении по городским святыням? Если до сих пор не помогло, так уж, верно, и не поможет… Еще, чего доброго, эти монахи, с которыми она якшается, убедят ее принять постриг – дескать, «не благословляет Господь детьми, и в этом указание…» Но ведь и лекарства тоже не помогают… Тьфу, проклятье! Проклятье!..
…Придя домой и едва прикоснувшись к поданному обеду, Марфа сидела на террасе, погрузившись в невеселые думы. Наконец, она позвала служанку и велела принести Евангелие, которая любила открывать наугад и читать, когда у нее было скорбно или уныло на душе. Раскрыв книгу, она прочла: «И жена некая, будучи в точении крови двенадцать лет, и много пострадав от многих врачей, и расточив всё свое, и не получив никакой пользы, но придя еще в худшее положение, услышав об Иисусе, подойдя в народе сзади, прикоснулась к ризам Его; ибо говорила: если прикоснусь ризам Его, спасена буду. И тотчас иссяк источник крови ее, и она уразумела телом, что исцелилась от язвы…»
«Христа окружало множество народа, – подумала Марфа, – а исцелилась только одна эта женщина! Потому что она верила… А мы? Что у нас за вера! Постоим на службе, помолимся утром и вечером, ну, пожертвуем что-нибудь бедным… А так – все время в суете, о Боге не помним… А ведем себя так, как будто Бог нам еще и должен что-то – как же, мы ведь потратили драгоценное время на несколько молитв или службу выстояли! Того и гляди начнем требовать у Него: “Отдай мне, что должен!” Наверное, потому и не получаем просимого…» Слезы навернулись у нее на глаза.
– Господи! – прошептала она, – неужели мы так и умрем бездетными?..
3. «Велика вера твоя»
…твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины; что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности?
(А. Грин, «Алые паруса»)
Марфа поднялась, приказала подать носилки и отправилась во Влахерны, по дороге предаваясь мрачным мыслям. Ее брат, с тех пор как покинул родительский дом и перебрался в столицу, постоянно варился в котле придворных интриг и сплетен, стараясь отхватить все новые куски от пирога жизненных благ, к вопросам веры был равнодушен, святоотеческих книг не читал и вообще не читал почти ничего, кроме хозяйственных счетов; его настоящей религией было следование взглядам власть имущих. Марфа любила богослужения – Георгий на них зевал; она много благотворила нищим и бедным – он называл их не иначе как «тунеядцами» и гнал от порога; она часто жертвовала деньги на монастыри и храмы, особенно в Студийскую обитель, – Георгий считал это пустой расточительностью… Хотя брат и ворчал на сестру, что ей следовало бы вымолить «побольше детей», на самом деле он не особо верил в силу молитв, а Евангелие, пусть и лежало у него в доме на почетном месте под иконами, открывалось крайне редко. Но Марфа совсем не так относилась к вере: она подолгу молилась, много читала Писание и святых отцов – всё это было пищей для души, без которой она не могла жить. К укором брата она давно привыкла и не воспринимала их всерьез, но очередная стычка внезапно привела ее почти в отчаяние: конечно, она не подвизалась так, как те монахи или благочестивые миряне, истории о которых можно было прочесть в «Луге духовном», но всё же она старалась исполнять заповеди, каялась в их нарушениях, молилась. «И получается, всё это для того, чтобы Георгий смеялся надо мной и укорял за “чрезмерное благочестие”! – подумалось ей, когда она входила во Влахернский храм Святой Раки. – Нет, я не хочу, чтобы он смеялся над нами, над моей верой! Не хочу, не хочу!.. Господи, помоги нам!»
Марфа подошла к раке с ризой Богоматери и стала молиться о даровании ей ребенка.
– Матерь Божия! – шептала она. – Умилосердись над нами! Я знаю, что для христиан не обязательно продолжение рода, но всё-таки раз я замужем… Почему у нас с Василем нет детей? И еще брат смеется над нами, думает, что молитвы это все пустое… Ты Сама всё знаешь и видишь! Умоли Сына Твоего даровать нам чадо! Мы грешные, недостойны милости и ничем воздать Тебе не сможем… Но если… если наш ребенок, когда вырастет, решит посвятить себя Богу, мы не будем противиться этому! Услышь молитву мою, Владычица! Ты всё можешь!..
Она молилась, стоя на коленях на прохладных мраморных плитах, и вдруг странное чувство охватило ее. Ей представилось, будто драгоценная рака словно бы исчезла, и какое-то бесконечное пространство открылось перед ней, и оттуда, из этого пространства, пришли и прозвучали в сердце слова: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе, как ты хочешь!» – и тут же всё как бы закрылось, и она ощутила себя по-прежнему стоящей на полу перед ракой. Марфа поклонилась до земли и поднялась, охваченная радостью и страхом, – в душе родилась непоколебимая уверенность, что молитва услышана.
Дома она ничего не сказала мужу, хотя он, чувствуя ее внутреннее ликование, несколько раз посмотрел на нее вопросительно… Но через два месяца, прохладным осенним вечером, когда они вместе вышли в сад поглядеть на звездное небо, Марфа, с легкой краской на щеках, сказала Василию: «Знаешь, кажется… у нас будет ребеночек!» – и тогда уже рассказала, как молилась Богородице и как Она услышала ее.
Долгожданное чадо родилось 11 июля следующего года. Радости супругов не было предела, так же как и удивлению родственников и врача. Когда новорожденная завопила, широко раскрыв большие синие глаза, Марфа, лежавшая на постели, слабо улыбнулась мужу и сказала:
– Ну, вот, слава Богу! Дождались…
– Как мы назовем ее? – спросил Василий. – Глаза-то какие…
Марфе хотелось чего-то необычного. Пока она перебирала в уме разные имена, Василий взял со столика Псалтирь, открыл наугад и прочел: «Престол Твой, Боже, в век века: жезл правости – жезл царствия Твоего. Возлюбил Ты правду и возненавидел беззаконие: сего ради помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости больше причастников Твоих. Смирна, и стакти, и кассия от риз Твоих…»
– Кассия! – сказала Марфа. – А помнишь, так звали одну из дочерей Иова, которые родились у него после испытания?
– Да, точно! И красивее их «не было в поднебесной», – Василий улыбулся. – Ну что, назовем Кассией?
– Да, давай! Красивое имя!
В честь крещения дочери они устроили пир, на который пригласили родственников и знакомых, и жизнь в особняке вблизи форума Константина потекла безоблачно и так счастливо, что можно было только позавидовать супругам, словно помолодевшим лет на десять после того, как дом их наполнился звуками голоса маленькой Кассии.
Однако и теперь Георгий нашел повод для постоянного недовольства сестрой: ему не нравилось, что она «якшается с монахами». Но особенно беспокоило протоспафария не само близкое знакомство Марфы с людьми в черном, а то, что эти монахи были «смутьянами», – любое противление высшей власти, церковной или светской, а тем более той и другой вместе, было для Георгия опаснейшим безумием. Главой этих «бунтарей» был человек, с которым Марфа состояла в переписке и у которого окормлялась духовно, – Феодор, бывший настоятель Саккудиона, а теперь игумен Студийский.
Знакомство Марфы со «смутьянами» произошло во время церковного разделения из-за второго брака императора Константина. Василий, обязанный каждый день участвовать в дворцовых церемониях и общавшийся с придворными, знал почти все подробности истории с новой женитьбой василевса и последующей смутой. Василий с Марфой относились к происходившему во дворце резко отрицательно; Марфа в очередной раз поругалась с братом, который, как всегда, целиком и полностью поддерживал императора и поносил монахов, которые протестовали против насильственного пострижения первой супруги василевса, осуждали его второй брак с любовницей, называя его «прелюбодейным», и из-за этого прекратили церковное общение с патриархом Тарасием и с императором. Узнав, где был заключен Феодор, Марфа послала ему дары и краткое письмо: она восхищалась его стойкостью и просила молитв о себе и о муже. Василий возмущался поведением патриарха:
– Он и сам побоялся обличить императора, и за своих собратий не вступился, когда с ними расправились! А ведь они защищают евангельские заповеди! Что же тогда защищает патриарх? Собственную шкуру?!
– Но ведь государь, говорят, пригрозил святейшему возобновить иконоборчество, – сказала Марфа.
– Ерунда! – Василий раздраженно махнул рукой. – Это всё слухи, ничего достоверного не известно, а то бы при дворе заговорили бы о таком… Но даже если и так – что, сразу пугаться, сразу на попятный? Не думаю, что государь мог осуществить такую угрозу. Если он и сказал такое, то просто в запальчивости… И если патриарх так поспешил этому поверить, то потому, что хотел поверить!
Когда через год после свержения императора Константина и восстановления церковного мира, Феодор и Платон с братией получили для жительства Студийский монастырь, Василий и Марфа были счастливы увидеться с исповедниками, чтобы попросить у них благословения и молитв, и после никогда не оставляли студитов пожертвованиями. Между тем, Георгий, когда заходила речь о церковных делах, не упускал случая, чтобы не заметить сестре несколько злобно:
– А я вот говорю, что наплачемся мы еще с твоим любимчиком, ох, наплачемся! Помяни мое слово!
…Темноглазый мальчик сидел на мягком персидском ковре, подогнув под себя ногу, и на стоявшей перед ним низкой скамеечке пытался воздвигнуть сооружение из деревянных кубиков и брусочков. Время от времени постройка, из-за какого-нибудь криво положенного брусочка, падала и рассыпалась, но строитель, с тем же сосредоточенным видом, начинал всё заново. Когда дворец рухнул в четвертый раз, мальчик нахмурился и закусил губу. Видно было, что ему хотелось разбросать кубики, однако он снова поставил четыре самых больших по углам будущего здания и возобновил строительство.
– Видите, госпожа, какой упорный!
– Да, характер!
Фекла и нянька наблюдали за Феофилом, которому недавно исполнилось полтора года.
Сын был единственным утешением и радостью для Феклы, которая, при всем своем почтении к отцу, никак не могла одобрить его выходки, в результате которой она стала супругой шепелявого Михаила. Между любителем лошадей и знатоком мулов, никогда не бравшим в руки книг, и хрупкой девушкой, зачитывавшейся проповедями Григория Богослова, действительно, не было почти ничего общего. Михаил поначалу повел себя с женой достаточно развязно, но, к своему смущению, натолкнулся на презрительную холодность: «красотка» проявила послушание отцу, вступив в брак, но пылких чувств к супругу выказывать не собиралась. Впрочем, после рождения сына ее отношение к мужу стало более теплым, но особенной симпатией к Михаилу она так и не прониклась. От природы утонченную, ее чаще не смешили, а раздражали его грубоватые шутки и страсть театрально «представляться»; его, в свою очередь, раздражала любовь жены к чтению, и он частенько посмеивался над ней, советуя «побольше глядеть не в книгу, а в зеркало, как все нормальные бабы». За два года они так и не нашли общего языка, и даже ночное «красноречие» мужа не действовало на Феклу, в результате чего он поостыл и махнул на жену рукой, сочтя про себя, что супружеская жизнь не задалась, а «все бабы дурны и злонравны». А она, просыпаясь по ночам, иной раз долго лежала с открытыми глазами и пыталась представить, как могла бы сложиться ее судьба, выйди она замуж иначе, но у нее плохо получалось. Все известные ей замужние женщины, были ли их мужья благородного происхождения или нет, жили примерно одинаково: дом, дети, походы в церковь и в баню, обмен сплетнями и обсуждения новых назначений мужей или собственных нарядов и украшений… У Феклы не было таких подруг, с которыми она могла бы обсудить прочитанную книгу или поделиться восторгом по поводу красоты солнечного заката, – не то, чтобы она боялась показаться смешной, но она чувствовала, что не встретит того отклика, какого желала ее душа. Да у нее и вовсе не было настоящих подруг: женское общество Амория не блистало изысканностью, а Фекла, с ее внешностью, которой чтение и раздумья придали еще больше изящества, с ее природной грацией и умом, выглядела среди местных матрон весьма чужеродно. Она внутренне тосковала, хотя смирялась: «Что ж, видно, воля Божия, и надо терпеть!» Но если б не сын, жизнь ее была бы совсем безотрадной.
«Что-то из него вырастет? – думала Фекла, глядя на Феофила, собиравшего рассыпавшиеся кубики. – Только бы не подобие отца!.. Надо непременно нанять ему лучших учителей, и как можно раньше!» Мальчик, между тем, водрузил деревянный конус на вершину своего дворца и торжествующе посмотрел на мать.
– Молодец ты у меня! – Фекла поцеловала сына.
Шелковая завеса на дверях раздвинулась, и в комнату вошел Михаил.
– В игрушечки играете? – сказал он. – А на свете кое-что происходит…
– Что-то случилось? – с беспокойством спросила Фекла.
– Патриарх позавчера помер, сегодня новость из столицы привезли!
– Ах! – Фекла перекрестилась на висевшую в углу икону Богоматери. – Вечная память!.. И кто теперь будет вместо него?
– Да уж, верно, тот, кого захочет император! Впрочем, пока ничего не известно. Гонец говорит: августейший расстроен. Кажется, не видит подходящего человека…
В комнате воцарилось молчание. Маленький Феофил перевел взгляд с матери на отца, затем на няньку и снова на мать. Он не понимал, что произошло, но, казалось, тоже проникся чувством, которое в этот момент охватило взрослых: смерть патриарха Тарасия, в течение двадцати одного года управлявшего Константинопольской Церковью, стала неким порогом – и что стояло за ним?..
4. Идеальный ставленник
Первое достоинство человека – знать то, что хорошо; второе – действовать, как должно. Настоящее время требует и того, и другого – и притом готовности к действию.
(Дексипп)
Патриарх Тарасий умер 18 февраля, в третий год царствования императора Никифора. Через две недели после того, как новопреставленного святителя с честью похоронили в храме Святых Апостолов, прохладным мартовским вечером в игуменских покоях Студийского монастыря за столом, на котором стоял медный светильник и лежали несколько исписанных листов пергамента, сидел старец-монах с морщинистым лицом, сложив на коленях слегка опухшие руки. Его небольшие темные глаза следили за другим монахом, лет сорока пяти, высоким и худым, с изжелта-бледным лицом и седеющими темными волосами, который молча ходил из одного угла в другой с озабоченным видом. Наконец, он остановился посреди кельи и устремил на старца пронзительный взгляд.
– Я не знаю, отче, что отвечать государю, – сказал он. – Сейчас нужен патриарх с железным характером, способный противиться вмешательству власти в церковные дела. Безусловно, из монахов, высокий по жизни, образованный, ревнитель канонов… Но где теперь найти такого? К тому же он должен быть избранником клира и монашества, а не просто ставленником императора…
– Но государь ведь с тем и разослал письма, чтобы выяснить, кого народ хочет видеть патриархом, – тихо проговорил старец.
– Да, но… может, это просто уловка? Спросить для вида мнение народа, а потом поступить по-своему…
– Зачем тогда рассылать письма? Он просто устроил бы совещание и предложил на одобрение своего ставленника, как покойная августа. Ведь и такое избрание легко представить всенародным.
– Пожалуй, ты прав… Но за кого подать голос? Я что-то не вижу никого действительно достойного… Этот хороший монах, но не умеет руководить; тот знает толк в управлении, но несведущ в канонах; а иной вроде всем хорош – но возникни какая-нибудь ересь, не сумеет отстоять православие… Нет пригодного к такому служению, «нет ни одного»! Печаль, печаль, отец Платон!
– Что ж, Феодор, ты ведь можешь просто написать государю, каким тебе видится идеальный ставленник, не предлагая никого определенно.
– Отче, ты читаешь мои мысли! Это единственное, что пришло мне в голову, – написать о качествах ставленника и о том, как должно проходить избрание, не указывая ни на кого лично. Я тут уже набросал письмо…
Феодор взял со стола два листа и протянул Платону. Тот, слегка щурясь, стал читать, время от времени кивая головой в знак одобрения. Дочитав до конца, он отложил письмо и сказал:
– Да, всё так… Пожалуй, и исправлять нечего.
– Значит, подписываем, отче?
– Подписывай и посылай от себя, а я отвечу государю отдельно.
– Разве у тебя на уме кто-то определенный?
– Да, – Платон чуть улыбнулся.
– И кто он?
– Позволь пока умолчать об этом.
– Гм!..
Феодор пристально поглядел на дядю. Платон сидел, прикрыв глаза, и по его лицу – спокойному и немного строгому лицу аскета – невозможно было прочесть его мысли; только присмотревшись, можно было по собравшимся в уголках глаз морщинкам догадаться, что внутренне старец продолжал улыбаться. Феодор опять заходил по келье.
– Всё равно, если император и впрямь желает, чтобы в патриархи был поставлен тот, кого захочет народ, вряд ли это возможно. Все назовут разных лиц, единства мнений не будет, и государь поступит по-своему…
– Не беспокойся, – старец поднял глаза на племянника. – Посылай свое письмо… А о единстве мнений я позабочусь.
Феодор, как вкопанный, остановился перед Платоном; в его уме промелькнуло ужасное подозрение.
– Уж не собираешься ли ты… – начал он и замолк.
Улыбающиеся глаза дяди превратили подозрение в уверенность. Феодор хотел что-то сказать, но Платон остановил его знаком руки.
– Отец игумен, – сказал он, – вот уже много лет я тебя слушаюсь, как отца, но ты постоянно называешь истинным отцом себя и братий мое смирение. Так послушай теперь меня и не противоречь. Ты сейчас описал идеального ставленника, не мешай же мне подать свой голос за того, кто, по моему мнению, этому образу соответствует. Понятно, что мы не избежим укоров, найдутся те, кто припишет нам грязные побуждения… Но против своей совести я идти не могу и постараюсь сделать всё, чтобы это избрание состоялось.
Феодор стоял перед дядей с таким же обреченным видом, как двенадцать лет назад, когда он, по воле заболевшего Платона и уступая просьбам братии, вынужден был согласиться на игуменство в монастыре.
– Что ж, – прошептал он, – да будет воля Божия!..
Платон поднялся со стула и сказал Феодору:
– Отче, повели выдать мне новое перо и побольше листов. Мне, видимо, придется много писать. И императору, и другим… Вчера я получил два письма, от игумена Стефана и от Халкидонского владыки.
– Чего они хотят?
– Они тоже получили запрос государя и спрашивают совета, за кого подать голос.
Феодор тяжело вздохнул.
– Хорошо, – сказал он, – тебе принесут всё, что нужно…
Он хотел что-то добавить, но махнул рукой и промолчал.
– Не горюй, отче, – ласково сказал Платон, глядя на смущенного племянника. – Может, мое начинание не будет успешным, но попытаться нам ничто не мешает. А там уж как Бог даст…
Когда Платон вышел из кельи, Феодор подошел к столу и, опершись на него рукой, некоторое время, не мигая, смотрел на огонь светильника.
– Отче, отче! – прошептал он, покачав головой. – Я не могу помешать тебе, но… принять вместо одного монастыря целую Церковь?! Нет, к этому я не готов!..
Он снова перечитал свой ответ императору, постоял еще немного и, наконец, решительно обмакнул перо в чернила и подписал: «Смиренный Феодор, игумен Студийский».
…На следующий день после обеда императору принесли письмо из Студия. «Наконец-то! Долго же они тянули с ответом!» – подумал василевс, нетерпеливым жестом развернул письмо и стал читать.
Игумен Феодор писал, что Бог привел Никифора на царство, «дабы не только мирское управление, находившееся в худом состоянии, было устроено хорошо, но и церковное управление, если в нем будет какой недостаток, было исправлено», что для первого император сделал уже много, и «остается теперь и другой части испытать подобное внимание и заботливость» – через избрание достойного патриарха. Студит не решался подать голос ни за кого, не видя такого, кто блистал бы среди прочих, «как солнце между звездами», – и потому осмеливался лишь дать совет о том, как богоугодно провести избрание нового предстоятеля: «Чтобы, делая выбор, из епископов, из игуменов, из столпников, из затворников, потом из клира и из самих сановников взяли тех, которые преимуществуют пред прочими умом, благоразумием и жизнью. Пусть же сойдут и столпники, пусть выйдут и затворники, потому что ищется полезное для всех, чтобы ты обсудил и вместе с ними избрал достойнейшего», – и тогда император будет блажен, и царство его утвердится, ибо «Бог даровал христианам эти два дара – священство и царское достоинство: ими врачуется, ими украшается земное, как на небе. Поэтому если одно из них будет недостойно, то и всё вместе с тем необходимо подвергается опасности».
– Столпники! Затворники!.. – пробормотал император. – Что могут понимать эти анахореты в церковном управлении? Довольно мнения епископов и игуменов… Впрочем, что-то святые отцы с ответами не торопятся… За столько времени всего с десяток писем, и в каждом – о новом лице! Этак, собравшись, они будут полдня спорить и ни на ком не сойдутся!.. Ладно, подождем всё же ответов от остальных…
5. Два Никифора
(Софокл)
- – Но государство – собственность царей!
- – Прекрасно б ты один пустыней правил!
15 марта, в Крестопоклонную Неделю, Василий вернулся домой взволнованный. Марфа укладывала спать дочь, и когда отец вошел в детскую, Кассия заулыбалась и протянула к нему ручки.
– Папа!
Василий взял девочку на руки и осторожно покачал.
– Какие новости? – спросила Марфа.
– Неожиданные! Государь гневался, что епископы и игумены, которым он писал по поводу ставленника в патриархи, не спешат отвечать, а теперь стали приходить ответы, и он гневается еще больше.
– Почему?
– Большинство подает голос за Студийского игумена!
– Но ведь это же чудесно! – радостно воскликнула Марфа.
– Чудесно-то чудесно… Конечно, о таком можно только мечтать! Но вряд ли государь согласится: патриарх с независимым характером, умеющий отстаивать свои убеждения… Император ведь любит, чтобы всё было по-его!
– Но если большинство за Феодора…
– Так что ж, разве императорам впервой навязывать Церкви свою волю? – с горечью сказал Василий. – Впрочем, государь, говорят, намерен соблюсти вид законности – воспользуется тем, что за Феодора голос подали не все… Хочет представить собору своего ставленника.
– И кто это будет?
– Пока неизвестно. По крайней мере, я не слышал, чтобы называли имя… Но говорят, кто-то из мирян.
Вскоре в столицу стали съезжаться епископы и игумены для избрания нового патриарха. В цветоносный понедельник император, созвав в Магнавре епископов, клир и синклитиков, произнес перед ними такую речь:
– Святейшие наши владыки, честные отцы и многочтимые граждане! Вам, без сомнения, известно, что я обращался к священным иерархам и настоятелям святых обителей с вопросом о том, кого они желали бы видеть своим новым предстоятелем, а нашим духовным первопастырем и отцом. К сожалению, ознакомившись с полученными ответами, я не нашел единства мнений, столь любезного для мира церковного: одни предлагали одного, другие другого; наконец, кое-кто – не буду называть имен, щадя немощь человеческую, – не постеснялся предложить самого себя. Поэтому я решился вынести на ваш суд, о боголюбезное собрание, свое собственное предложение. Многим из вас, думаю, небезызвестен почтенный Никифор, муж в высшей степени разумный, благочестивый, знакомый не понаслышке с книжной премудростью, сведущий в богословии и православный. Некогда он был асикритом, но с юности его тянуло к высшему жительству, и ныне он обитает в уединении монастырском. Хотя он еще не принял святой схимы, однако, житием своим – скажу без преувеличения – оставил позади многих схимников. Полагаю, он вполне достоин наречься «мужем желаний» для нашей овдовевшей Церкви.
Предложение императора не было полной неожиданностью для собравшихся. Кое-кто из синклитиков уже знал, кого прочит в патриархи государь, а многие епископы и клирики слышали, что василевс не одобрил ни одного из предложенных ими в ставленники лиц. Кандидат, названный императором, возражений у большинства не вызывал. Никифор происходил от славных и благочестивых родителей – отец его Феодор при императоре Константине Исаврийце служил нотарием при дворе, но был отправлен за иконопочитание в ссылку, где и умер; за ним в изгнание последовала и его супруга Евдокия, после смерти мужа она с сыном вернулась в столицу, где Никифор получил блестящее образование и был взят на службу при дворе. После единоличного воцарения Ирины Никифор удалился от придворной службы – из желания более совершенного жительства и, как поговаривали некоторые, потому, что не очень одобрял совершенный императрицей переворот, – и основал монастырь на одной из пустынных гор на берегу фракийского Босфора. Там он подвизался, изучал Священное Писание и творения отцов, но не бросал светские науки и пострига пока не принимал, хотя жил почти по-монашески. Император Никифор после воцарения вспомнил о бывшем асикрите, предложив ему занять должность попечителя при самом большом в столице приюте для бедных, и Никифор прекрасно справился с порученным делом. Этого-то человека император и хотел видеть на патриаршем престоле, и никто не мог упрекнуть его в том, что он избрал недостойного. Нарекание могла вызвать только принадлежность Никифора к мирскому сословию, но, хотя существовали каноны, запрещавшие подобное поставление, ради церковной пользы можно было сделать исключение, – спорить с императором представлялось делом бесполезным и даже небезопасным для мира Церкви.
И вот после недолгого молчания и перешептываний раздался голос епископа Лерского:
– Мы согласны, государь, с твоим предложением. Воистину, мы не найдем более подходящего избранника! Достоин!
– Достоин! Достоин! – раздались и другие голоса.
Император погладил бороду, чтобы скрыть усмешку: Лерский епископ был одним из тех иерархов, которые в ответ на запрос о ставленнике написали, что примут того, кого сочтет нужным предложить государь, «сердце коего в руке Божией»… Но что же несостоявшийся патриарх? Император быстро нашел глазами высокую фигуру Студийского игумена: Феодор стоял недалеко, у одной из колонн из зеленого фессалийского мрамора. Никифор смотрел внимательно: худое желтоватое лицо игумена было спокойным; Феодор глядел в пол, но, словно почувствовав, что на него смотрят, поднял глаза, и император не увидел в них досады – скорее, взгляд Студита выражал облегчение. Зато этого нельзя было сказать о стоявшем рядом с ним Платоне. Самообладание в этот момент явно изменило старцу: брови его были насуплены, лицо помрачнело. «Ничего! – подумал василевс. – Перебьетесь! Я не глупец, чтобы пускать Феодора на кафедру!»
Спустя два дня Никифор приехал в Константинополь и предстал перед императором.
– Господин Никифор, – сказал ему василевс в присутствии сановников, епископов и придворных клириков, – по моему совету священство, монашество и граждане нашего богоспасаемого государства, почтенное и честное собрание, сочло тебя достойным занять патриарший престол Царицы городов. Предо мною, богобоязненный, если б я ставил ни во что заповеди Божии и нерадел об их исполнении, открылся бы наклонный и широкий путь, идя которым я сделал бы архиереем не человека, достойного кафедры, а первого встречного, который бы изъявил на это желание. Но поскольку из божественного Писания я знаю, каков должен быть имеющий священнодействовать и других возводить в священные степени, – знаю, что он должен быть высок в добродетели, иметь чистые уста, быть стражем ведения, истолкователем закона и вестником Господа Всемогущего, – то боюсь, как бы, пренебрегши священной заповедью, я не подвергся бы осуждению и не навлек на себя грозное проклятие…
Император говорил долго – он был не прочь показать свои познания в риторике и любил, чтобы ему внимали. Он восхвалил добродетели Никифора и призвал его не предпочесть «любовь к блаженному уединению» возможности «стать глашатаем для других», и заботиться не только о своем спасении, но «стараться, чтобы спасение получили все», и ради этого обручить себе Церковь – «прекраснейшую невесту, послушно принимающую в свои уши жемчуг правых и чистых догматов». Когда он закончил свою длинную и напыщенную речь, те придворные, которые еще не успели изобразить на своем лице восхищение, поспешили его явить – впрочем, многим речь действительно понравилась, хотя иные и заскучали под конец. Избранному императором ставленнику, однако, было не до риторических красот, ведь решалась вся его дальнейшая судьба!
– Мне думается, государь, – подняв глаза на василевса, сказал он, и в его голосе послышалось сдерживаемое волнение, – что пасти словесное стадо способен только отрешившийся от земли и живущий одним небесным, готовый душу положить за паству. Вряд ли я, смиренный, способен к такому служению и…
Император прервал его:
– Нет у тебя основания противиться и отклонять священное иго Христово, ибо, как я сказал, Само Слово, приходя на помощь, будет сопастырствовать тебе и сделает легким для тебя всё, что казалось доныне трудным. Итак, принимаешь ли ты новое назначение?
Бывший асикрит едва заметно вздохнул и ответил:
– Принимаю.
…После монашеского пострига, при котором присутствовал сам император, Никифор за несколько дней прошел рукоположение во все степени священства и стал патриархом Константинопольским 12 апреля, на Пасху. Святая София в ту ночь сверкала тысячами огней; золотистый свет заливал собравшийся народ, облеченный в праздничные белые одежды; у всех лица сияли радостью. Никифор прочел перед всеми составленное им самим исповедание веры, обещая сохранить его незапятнанным, ни в чем не преступая церковных установлений, и когда хиротония была совершена, собравшийся народ трижды воскликнул: «Достойный после достойного!» – после чего новый патриарх возглавил пасхальную службу. Он ничем не разочаровал свою паству: аскетичного вида, высокий, с проницательным взглядом, седеющими волосами, величественной осанкой и хорошо поставленным голосом, он словно был создан для ношения патриаршего омофора. Все были до того восхищены новым архипастырем, что мало кто заметил отсутствие среди пришедших на торжество Студийского игумена и его дяди-подвижника.
В среду Светлой седмицы эпарх давал у себя в особняке ужин, куда были приглашены многие придворные, в том числе комит федератов Лев. За столом зашел разговор о новом предстоятеле Церкви.
– А ходят слухи, что большинство епископов поначалу предложили в патриархи Студийского игумена.
– Что-то сомневаюсь в этом… Я слышал, что Феодора предлагал его дядя Платон.
– Да, предлагал и даже, говорят, пытался повлиять на знакомых придворных!
– Что я знаю точно, так это что он ходил к монаху Феоктисту, родственнику государя, просил посодействовать избранию Феодора. Но это было уже после того, как все согласились на поставление Никифора, и государь очень разгневался на Платона…
– А кстати, где же они оба, эти почтенные отцы? Что-то я на пасхальной службе их не видел…
– Да, правда, я тоже удивился, что их нет.
– Э, да вы разве не знаете, что император, когда узнал о том, что Платон ходил к Феоктисту, посадил их с Феодором под арест? Они и сейчас в заключении. Наверное, еще недели две просидят, а то и больше – для острастки.
– Вот это да! Круто он с ними обошелся!
– Думаю, боялся выступления студитов при хиротонии патриарха и принял меры.
– А и то сказать – что это они надумали? Выступать против ставленника, который уже всеми одобрен – это не пустяк…
– Дураки они, вот что! Думали, император согласится поставить в патриархи Феодора! Этого-то смутьяна!
– Да, он со своими монахами много крови попортил покойному патриарху…
– Не попортил бы и нынешнему, – вдруг сказал до того молчавший Лев.
Патрикий Петр любопытно взглянул на него.
– А нынешнему-то с чего бы?
– Всякое бывает…
Лев залпом осушил очередной бокал золотистого муската и опять погрузился в молчание.
«Экий он! – подумал Петр, поглядывая на комита. – Молчит, молчит, а потом как скажет… А может, знает чего?..»
Но Лев ничего не знал. Он сказал просто то, что неожиданно пришло ему в голову в виде некоей мысли-озарения – с ним иногда случалось такое. Обычно он сам не придавал значения таким мыслям и чаще всего вскоре забывал о них. Так и теперь он совершенно не догадывался о том, что произнес пророчество.
6. Награда для эконома Великой церкви
Люди, издавна принявшие на себя управление важнейшими делами, не могут уже отказаться от опасностей и от войны, даже и тогда, когда этого пожелают.
(Дексипп)
Студийский игумен Феодор и старец Платон еще находились в заключении, когда император, призвав нового патриарха к себе, сказал:
– Святейший владыка, ты, конечно, помнишь о печальных событиях, происходивших десять лет назад, когда незаконный брак державного Константина возбудил смуту в Церкви и в обществе. Твоему святейшеству должно быть известно и то, что наша царственность никогда не одобряла этого брака, и мы не признали никаких прав за ребенком, родившимся от этого союза. Отец младенца вот уж несколько месяцев как преставился ко Господу, а мать искупает свой грех, приняв пострижение в святой обители…
«К чему он клонит?» – думал патриарх, слушая размеренную речь своего царственного тезки. Разумеется, он помнил о той смуте десятилетней давности, когда саккудионские монахи показали себя силой, перед которой склонились в конце концов и патриарх, и император. Никифор уже знал, перед кем император отдал ему предпочтение, когда происходили выборы первосвятителя. Заключение Феодора и Платона под стражу обеспокоило его, и он много молился о том, чтобы не произошло каких-либо возмущений в Церкви. Впрочем, студиты признали нового патриарха, а Феодор из заключения прислал ему письмо с поздравлениями и пожеланиями достойно проходить высокое служение, под письмом поставил свою подпись и Платон. Получив это письмо, патриарх вздохнул с облегчением, но вдруг разговор о прошлых смутах завел император – с какой целью?
– Итак, – продолжал между тем Никифор, внимательно следя за выражением лица патриарха, – все виновники беззакония получили должное наказание, в том числе и бывший пресвитер Иосиф, обвенчавший прелюбодейный брак. Вот о нем-то я и хочу ныне говорить с твоей честностью. Иосиф оказал мне огромную услугу три года назад, когда богопротивный Вардан замыслил зло против нашей державы. Бог знает, как долго пришлось бы нам усмирять этих безумцев, если б не Иосиф! Он вызвался быть посредником в наших переговорах с восставшими, и благодаря ему в самом начале мятежа значительная часть бунтовщиков перешла на нашу сторону. Это помогло быстро подавить мятеж и отделаться, благодарение Богу, весьма малой кровью. Можно сказать, что не только наша держава обязана благоденствием господину Иосифу, но и многие граждане наши обязаны ему жизнью своей или родных и близких! И вот какую мысль я имею с той поры. Иосиф уже достаточно был наказан за свое преступление. Да, то беззаконное венчание, которое он неосмотрительно совершил, привело к смутам в государстве, но теперь напротив – мы видим, что его стараниями государство было избавлено от мятежа и кровопролития. Поэтому мне представляется вполне справедливым возвратить ему священный сан.
Патриарх невольно вздрогнул. Возвратить сан изверженному? Невозможно!
– Не спеши возражать, святейший, – голос императора стал вкрадчивым. – Я понимаю всю сложность вопроса. Потому при жизни твоего предшественника по кафедре я и не заводил об этом речи. Но сейчас, думаю, мы не совершим ничего нового и хоть сколько-нибудь безрассудного, если изверженного одним примем сами. Напротив, мнится мне, мы исполним этим закон любви. Ведь Иосиф уже понес наказание за свой проступок, и его восстановление в сане станет лишь делом снисхождения, которое всегда дозволялось Церковью.
– Государь, – ответил патриарх, – я понимаю, ты хочешь отблагодарить оказавшего тебе услугу… Но пересмотреть дело Иосифа было бы можно, если б он был извержен неправильно. Увы, это не так. А нарушение канонов без особой нужды чревато новой смутой. Думаю, государь, ты согласишься, что церковной нужды в восстановлении Иосифа в сане нет никакой. Это взбудоражит и тех, кто выступал против патриарха Тарасия за его снисходительность к Иосифу, и тех, кто чтит память святейшего, потому что это будет отменой его решения по делу. Не думаю, что будет благоразумным отблагодарить Иосифа ценой спокойствия Церкви и государства.
Император слегка улыбнулся и в упор посмотрел на патриарха.
– Да, святейший, если бы дело было в одной благодарности, я нашел бы другой способ. Но Иосиф очень талантлив в проведении переговоров и вообще человек весьма умный. Он может мне еще пригодиться в делах. Однако на нем лежит пятно церковного прещения, и это очень плохо! Это снижает его влияние, и не всегда можно использовать его для поручений.
– Твои соображения понятны, государь. Но вряд ли те, кого взбудоражит восстановление Иосифа в сане, будут пытаться их понять.
– Мне кажется, святейший, ты опасаешься того, чего нет, и принимаешь тени за самую истину. Кому охота будет сейчас будоражить прошлое?
«Кому бы ни пришла такая охота, – думал василевс про себя, – они узнают, как идти против воли императора! Студиты? Что ж, если они взбунтуются, пусть пеняют на себя!» Никифор всё еще сильно был раздражен против студийских монахов и в глубине души отчасти даже хотел, чтобы они как-нибудь высказали недовольство новым патриархом – это стало бы поводом раз и навсегда отбить у них слишком сильное рвение к «борьбе за церковную правду»…
Взгляды императора и патриарха скрестились. Знавший Никифора еще тогда, когда тот был логофетом геникона, патриарх прекрасно понимал, что скрывалось за обтекаемыми и внешне мягкими словами василевса – непреклонное желание, чтобы всё было так, как он решил. И на этот раз он требовал нарушить каноны, которые патриарх всего несколько дней назад при хиротонии обещал блюсти нерушимыми… Какие цели преследовал император? Только ли отблагодарить Иосифа? Только ли снять с него пятно?..
«Он хочет показать, что воля императора – закон для Церкви! – промелькнуло в голове у патриарха. – Если я пойду у него на поводу, это будет явным знаком подчинения властям… Опять начнется смута… Но если я не соглашусь, смута тоже будет – ведь он не отступится…»
Молчание затягивалось. Наконец, патриарх сказал:
– Государь, я не могу решать такой вопрос единолично. Священника судит собор епископов, не менее шести. Извержение из сана – наказание необратимое. Если даже Иосифу можно вернуть сан по снисхождению, то в любом случае это должен решать собор.
– Так в чем же дело? Ты можешь в любое время собрать нужное число епископов. Государственная почта к твоим услугам. Полагаю, владыки не заставят долго себя ждать. Думаю, в целях большей представительности собора можно созвать… скажем, человек пятнадцать.
– Хорошо, государь. Собор будет созван в ближайшее время. Я же, со своей стороны, подчинюсь тому решению, которое он вынесет.
– Вот и прекрасно. Надеюсь, что они всё разрешат ко всеобщему удовольствию и благу.
В голосе императора патриарху почудилась усмешка. Но когда он взглянул в глаза василевсу, взгляд императора был прозрачен и ничего не выражал… нарочито ничего не выражал.
Патриарх возвращался к себе с тяжелым сердцем. Начало его управления Церковью грозило ознаменоваться не слишком красивым деянием. Но что делать? Ссориться с императором, благодаря которому он, в общем, и стал патриархом? Да, похоже, василевс и рассчитывает на то, что с благодетелем никто ссориться не станет… «никто из разумных», как любит он выражаться… С благодетелем? Но разве хотел Никифор быть патриархом? Насколько спокойнее и лучше была его жизнь на том берегу Босфора, в монастырском уединении, среди книг и немногих единомудренных друзей!.. А теперь… что ждет его теперь?
«Господи, – молился патриарх, – направь стопы мои, наставь меня на стезю заповедей Твоих!» Он вспомнил о Студийском игумене. Император очень разгневался на студитов за возмущение против его ставленника в патриархи; от решения разогнать обитель василевса удержали только увещания придворных советников, говоривших, что гонение на столь славный и большой монастырь, где подвизалось уже до тысячи монахов, вызовет общенародное недовольство не только против императора, но и против нового патриарха. И вот, император обещал на днях подписать указ о освобождении Феодора и Платона. Но что скажут эти прежние борцы против прелюбодейного брака императора Константина с Феодотой, если собор решит восстановить Иосифа в сане?.. Впрочем, уже прошло много лет… Быть может, всё обойдется? Ведь Иосиф понес наказание, девять лет жил без сана, а восстановление будет… ну да, делом снисхождения… Почему нет? Если на соборе всё будет сделано по-умному, без лишних поклонов в сторону василевса, то большой смуты, даст Бог, не будет… О, если бы вообще обойтись без смут!.. В конце концов, протест имел смысл в то время, когда существовал сам пререкаемый брак, который соблазнял народ, способствовал разврату среди подданных… Но Константин умер, бывшая императрица кается в монастыре, а Иосиф – ведь он и правда уже наказан… Феодор умный человек и должен понимать, что поднимать крик теперь – значит поступать не очень разумно…
В патриарших покоях стояла тишь. Келейник дремал на скамье перед дверью. Но не было тишины в душе патриарха. Увы, престол предстоятеля Царицы городов не был монашеской кельей.
«Ты знал, на что шел, – говорил патриарх сам себе. – И если ты теперь здесь, то будь на высоте. Император хочет показать, что его власть выше нашей, а мы должны доказать обратное… Но не обязательно это делать прямолинейно. Надо быть мудрее…»
Патриарх не сомневался, что намеченный собор возвратит сан эконому Иосифу, но, немного поразмыслив, он взглянул на дело несколько иначе. Снисхождение? Почему бы и нет? Виновные понесли наказание, и теперь кому какое дело до прошлого Иосифа? Кто может восстать против решения собора? Кто посмеет сейчас отложиться от патриарха, как тогда, при святейшем Тарасии? Если такие будут, кто бы ни были, они узнают, что патриаршая кафедра – это не пустое место… Студиты? Что ж, если они взбунтуются, пусть пеняют на себя!
…Фекла играла с сыном, когда Михаил вернулся с собрания архонтов у стратига Анатолика в приподнятом настроении.
– Прекрасный у нас император, скажу я тебе! – воскликнул Михаил с порога.
– К чему это ты?
– Да вот, помнишь ты того монаха, который приезжал к нам в лагерь во время восстания Вардана?
– Такой высокий, лысоватый… и с красивым голосом?
– Да-да, он самый! Иосиф. Он когда-то был и священником.
– И что?
– Это тот самый Иосиф, который обвенчал Константина с Феодотой.
– А, да, я слышала… Мой отец был против этого брака.
– Ну, конечно! Твой отец! Вы все фарисеи, вот что!
Феофил побросал игрушки и во все глаза смотрел на отца.
– Опять ты ругаться… – Фекла вздохнула.
– Потому что вот такие святоши, как вы, и мутят воду! Им, видишь ли, правила нужно соблюдать! Человек государственного ума, а они его такой острастке подвергли!
– С чего ты взял, что у него государственный ум?
– С того, что он обвенчал императора с его новой женой и избавил Империю от многих бед!
– Избавил?! Да ведь после этого как раз началась смута!
– Она началась из-за всяких дураков и святош! А если б не Иосиф, еще бы и не то было! Император, говорят, грозился вовсе патриарха с престола согнать… Так что у Иосифа ум государственный, как ни глянь. Недаром нынешний государь его отправил тогда к нам!
– Его направил император?
– Ну да, с предложением, чтобы мы перешли на его сторону.
– Ах, вот как…
– Да, и ты должна этому радоваться! Или ты была бы в восторге, если бы меня посадили на кол?
Феклу внутренне передернуло. Михаил любил иногда в грубовато-шутливом виде намекать ей, что понимает, как она к нему относится и как была бы рада, если б он исчез из ее жизни. Эти шутки всегда больно кололи, словно выставляя на вид ее грех: да, она не любила и не уважала мужа, и действительно иногда мечтала, чтобы он «куда-нибудь исчез»… Но, если задуматься, – что бы она делала без него, одна, с ребенком?.. Снова замуж? Эта мысль вызывала у нее еще бо́льшую тоску, чем те песни, которые Михаил иной раз распевал в пьяном виде за ужином. Всё-таки к мужу она худо-бедно привыкла, но потратила на это столько внутренних сил, что перспектива начинать всё заново ее попросту пугала. И всё же где-то в глубине души иногда позвякивало: а что, если бы представилась возможность выбрать?..
Она подняла глаза на насмешливо глядевшего на нее Михаила и тихо сказала:
– Может, и не посадили бы.
– Что, ты думаешь, Вардан стал бы императором? Как же! Не могло этого быть, не было на это воли Божией, и зря он тогда всё затеял! Сидел бы себе, вино попивал, как честный стратиг, так нет… Ну, так вот… Всё время ты меня перебиваешь!.. Говорят, в патриархии был собор, который вернул сан Иосифу. Так что он снова будет в Великой церкви служить.
– Признали, что его извергли несправедливо?
– М-м… Не знаю… Кажется, нет. Вроде просто решили по снисхождению его простить.
– А император тут при чем?
– Так по его же предложению было сделано! Он, верно, давно хотел, но ждал, пока патриарх сменится…
– Понятно…
– Ну вот, я рад, что такого достойного человека отблагодарили по достоинству!
Когда Михаил вышел, Фекла задумалась. Ей опять вспомнился мятеж против императора Никифора, столь плачевно окончившийся… Да, муж прав – зря Вардан тогда затеял это дело! Но в то время все были словно помешанные. Вардан замахнулся на царскую диадиму, а ее собственный отец – разве не в надежде на родство с будущим императором выдал ее тогда замуж вот так? И надо было!..
– Ма-а… – протянул Феофил.
Она стряхнула с себя задумчивость и, опустившись на ковер рядом с мальчиком, привлекла его к себе. Слава Богу, у нее есть сын!..
Тем временем в константинопольской Великой церкви шла вечерня.
– Ибо Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веко-ов! – раздавался под сводами голос пресвитера Иосифа.
Патриарх, стоя в алтаре, слушал этот голос, зазвучавший в Святой Софии после девяти лет молчания, и гадал, каковы же будут последствия соборного решения…
– О мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу помо-о-олимся!.. – выводил диакон.
Будет ли мир и благостояние? Или?..
Это должно было показать будущее. Но оно начиналось уже сейчас.
7. «Отщепенцы от Церкви»
Но напрасны, согласно пословице, были их песни: они натолкнулись на твердых людей.
(Продолжатель Феофана)
Василий вернулся из дворца обеспокоенный. Он принес тревожные новости, касавшиеся студитов и архиепископа Иосифа, родного брата Феодора, недавно занявшего Солунскую кафедру, который прибыл в столицу около полутора месяцев назад и жил в Студии:
– При дворе заметили, что владыка Иосиф, с тех пор как приехал сюда, не участвовал ни в одном соборном служении с патриархом, а ведь уже прошло несколько праздников – Успение, Новолетие… не говоря о воскресеньях. Вчера император послал через логофета дрома запрос владыке, почему он не сослужит со святейшим. Говорят, что ответ василевсу не понравился. Боюсь, скоро опять начнется смута…
Действительно, тучи на церковном горизонте сгущались. Со времени собора, возвратившего сан эконому Иосифу, прошло два года. Студийский игумен, посовещавшись с дядей и со всей братией монастыря, пришел к выводу, что принять решение собора со спокойной совестью невозможно. Если патриарх Никифор считал, что сейчас протест не имеет смысла «за давностью лет» и потому, что не предвидится большого соблазна для общества от возвращения Иосифу сана, то Феодор рассуждал иначе. Для игумена не имело значение время – для него был важен принцип, ведь снова поднимался вопрос о пределах церковного снисхождения. Собор, восстановивший Иосифа в сане, представил дело так, что эконом был прощен после должного раскаяния. Но возвращение сана даже после раскаяния было канонически невозможным – если только прощенный не был наказан несправедливо. Получалось, что Иосифа и вовсе не следовало извергать из сана, что извержение это было, в сущности, неправильным; этого не было сказано на соборе прямо, но это подразумевалось, и некоторые из соборян потом открыто говорили, что Иосифа с самого начала не за что было наказывать: он обвенчал брак императора Константина по молчаливому согласию патриарха Тарасия, чем избавил Церковь от возможных потрясений со стороны василевса, – что же в этом было ужасного?.. Игумен одного из никейских монастырей писал Феодору, что тамошний епископ прямо говорил, будто Иосиф был извержен не по делу, а студиты – просто любители смут, рвущиеся сделать себе имя на разного рода борьбе «за церковную правду» и готовые делать слона из каждой пролетевшей мухи.
– Они не умеют жить, вот и выступают, почем зря – чтобы все узнали, какие они удалые монахи! – таков был приговор Никейского преосвященного.
В этих условиях безропотно принять решение собора о восстановлении Иосифа в сане – значило признать всю прошлую борьбу, ссылки и страдания напрасными и ненужными, признать беззаконное венчание непредосудительным делом, признать неразумие ревнителей канонов. На это Феодор никак не мог пойти! Уже то, что храм Студийского монастыря был посвящен святому Иоанну Предтече, обличившему некогда беззаконный брак царя Ирода и за это обезглавленному, вдохновляло игумена и всю братию на новую борьбу. Однако студиты не сразу выступили с открытым протестом. Для начала Феодор прекратил общаться с экономом, патриархом, епископами, бывшими на соборе, который восстановил эконома в сане, а также с василевсом. Хотя в Студийском монастыре продолжали поминать патриарха и императора за богослужением, Феодор избегал являться во дворец и не приходил в Великую церковь на соборные служения.
– Собор, – говорил игумен, – это не просто собрание епископов и пресвитеров, хотя бы их и много было, поэтому премудрый Сирах учит нас, что «лучше один праведник», творящий волю Божию, «чем тысяча грешников». Собор должен быть собранием во имя Господне, для мира и соблюдения священных канонов, он должен связывать и разрешать не как случится, а как следует по правилам. Иначе это не святой собор, а бесчинное сборище!
Молчаливый протест студитов длился два года, но теперь, похоже, борьба вступала в новую стадию. Архиепископ Иосиф на запрос логофета о причинах его отсутствия на соборных службах, ответил, что ничего не имеет против императора и патриарха и избегает общения с ними исключительно из-за незаконного восстановления в сане эконома Великой церкви. «Пусть перестанет священнодействовать низложенный, – писал архиепископ, – и мы немедленно вступим в общение с императором и с нашим святейшим владыкой».
Последствия этого письма были самые отрицательные. Император, вообще ставший довольно подозрительным в последнее время, прежде всего в связи с несколькими заговорами против него, был готов видеть за каждым даже чисто церковным выступлением очередную политическую угрозу. Совсем недавно было подавлено восстание Арсавира, в котором оказались замешаны не только военные и светские лица, но и некоторые епископы и игумены, и даже клирики Святой Софии. И вот, не успел василевс расправиться с одними смутьянами, как появились другие…
– Нет, это уже слишком! – возмущенный император ходил из одного угла залы в другой. – Я не могу позволить, чтобы эти черноризцы оскорбляли меня и твое святейшество и возмущали государство и Церковь! Их дерзость не должна остаться безнаказанной!
Патриарх, стоя у мраморного стола, следил за василевсом. Вид его был суров – Никифор тоже не испытывал восторга от действий студитов. Но особенное его недовольство вызвал архиепископ Иосиф: он принял рукоположение на Солунскую кафедру, ни словом не обмолвившись о своем нежелании иметь общение с патриархом, а теперь, явившись в столицу, в чужую епархию, начинает тут какие-то выступления…
«Где логика? – думал патриарх. – Если для него мое поведение канонически небезупречно, то как он принял хиротонию? Правда, не от моих рук, но разве он не поминал меня всё это время? Разве он на что-то намекал хоть словом? Нет! Похоже, тут влияние его брата… Всё-таки игумен заходит слишком далеко! Что за страсть к бунтарству?!..»
– Государь, – сказал он, – я в целом с тобой согласен: студиты действительно выступили не по делу… Что до архиепископа Солунского, то его поведение вопиюще неканонично. Мне кажется, их выходки должны быть разобраны на соборе. Впрочем, нужно попытаться еще подействовать увещаниями…
– Да, святейший, да. Это вопиюще!
На следующий же день посланные от императора, придя в Студийский монастырь, заявили Иосифу, что «император не имеет в нем нужды ни в Солуни, ни в другом месте». Когда они ушли, архиепископ переглянулся с игуменом.
– Похоже, меня хотят лишить кафедры… и отправить на страну далече.
– Да… – проговорил игумен. – Видно, время молчать прошло. Настало время говорить!
– Что ты думаешь делать?
– Пока не знаю, брат… Как это всё печально! Они думают, что я смутьян и хочу сделать себе имя на церковных дрязгах… А я – с каким удовольствием я жил бы в тиши монастыря, общаясь со своей братией и не вмешиваясь ни во что другое! Но заповедь Божия принуждает говорить… Впрочем, для начала надо связаться с Симеоном.
Монах Симеон был родственником императора; к его-то посредничеству и решил прибегнуть Студийский игумен. Через четверть часа он уже сидел за столом и писал письмо. Строчки быстро ложились на папирус. Иногда рука игумена замирала, он обдумывал очередную фразу – и вновь перо летело дальше. Феодор уверял, что заповеди и каноны не позволяют ему и братии вступить в общение с экономом Иосифом и просил Симеона «поторопиться отклонить искушение» и успокоить императоров. «Ибо не против них наш отказ в общении, – писал игумен, – и при чина его – не любовь к распре»: причина в Иосифе, которому нельзя было возвращать сан. «Пусть он будет экономом, – Феодор не был против этого, – но для чего ему еще недостойно священнодействовать?» Все это может кончиться печально, потому что попытка представить беззаконника невинным не останется без возмездия свыше. Феодор просил Симеона донести эти соображения до императора и его сына-соправителя: если они «обуздают» Иосифа, «ангелы восхвалят их, все святые прославят, и вся Церковь возвеселится, и держава их получит великое приращение от Божест венной помощи свыше…»
Феодор решился написать и самому василевсу, прося принять их с братом-архиепископом и выслушать их объяснение. Но Никифор отказал им в свидании, а переписка игумена с придворными ни к чему не привела: мало кто из них искренне сочувствовал студитам, да и сочувствующие не решались противоречить воле императора, тем более, что патриарх, как стало известно, был раздражен не менее василевса и настроен весьма решительно на подавление смуты. Многие уже ожидали каких-то резких действий со стороны императора, когда с северо-западных границ пришла весть о наступлении болгар, и Никифор поспешил в лагерь, временно оставив «смутьянов» в неопределенном положении.
Слух о протесте студитов быстро распространялся, пошли пересуды, насмешки и клевета. «Раскольники», «ревнители не по разуму», «любители споров», «властолюбцы» – такими эпитетами награждали Феодора и его монахов. Игумену тут же попомнили попытку «пробраться в патриархи»: говорили, что он завел смуту просто из неприязни и ревности к святейшему, что он, добившись извержения Иосифа, будет добиваться и низложения патриарха Никифора, и осуждения покойного святителя Тарасия… Постоянно возникали всё новые слухи, Феодор уже не мог и понять, откуда они берутся: будто он издевается над братиями монастыря, считает православными каких-то еретиков… Константинополь весь исполнился пересудов, так что даже уличные мальчишки в Псамафийском квартале показывали пальцем на Студийскую обитель и рассказывали услышанные ими от родителей небылицы про тамошних монахов.
Наконец, «жестокое слово» вышло из уст самого патриарха.
– Это отщепенцы от Церкви! – сказал он про студитов на собрании столичного духовенства.
Эти же слова были сказаны и студийскому иеромонаху Иоанну при личной встрече. Узнав об этом, Феодор поспешил написать патриарху: «Блаженнейший! – говорилось в письме. – Какой скорби справедливо должна была предаться душа наша при этих словах? Как не высказать оправдания перед твоей святос тью, чтобы молчанием не подтвердить обвинения?..»
Отправив брата Феососта с письмом в патриархию, Феодор возвратился в свою келью, перекрестился на икону и прошептал:
– Что ж, я сделал все, что мог… А теперь да будет над нами воля Господня!
…Патриарх стоял у окна и читал только что принесенное письмо от Студийского игумена.
«“Разве закон наш, – говорится в Писании, – судит человека, если не услышит от него прежде и уразумеет, что тот творит?” Так следовало по ступить и тогда, когда твое блаженство услышало не что тяжкое и прискорбное о нашем смирении». Но, замечал Феодор, студиты «доселе ничего такого не слышали от свя той души твоей ни через посланного, ни лично, и не получали внушения, – и такой произнести приговор! Да рассудит твое совершенство, справедливо ли причинена эта скорбь чадам твоим?»
Игумен писал, что ни он, ни его братия, ни архиепископ Иосиф не являются «отщепенцами от Церкви», но православны, отвергают всякую ересь и принимают все святые соборы и каноны. «Ибо, – прибавлял он, – не вполне, а наполовину православен тот, кто по лагает, что содержит правую веру, но не руководст вуется божественными правилами». Он уверял, что ничего не имеет против патриарха, и нынешняя размолвка произошла исключительно из-за восстановления в сане эконома. Феодор пояснял, что заговорил об этом только теперь, а не сразу после принявшего беззаконное решение собрания епископов – «не знаю, как назвать его», добавлял он промежду прочим, – поскольку следовал словам Писания: «Человек премудрый умолчит до вре мени». Не имея епископского сана, он полагал, что для него «достаточно оберегать самого себя» и не общаться с экономом и с теми, которые служат вместе с ним, – «пока не прекратится соблазн». Но, подвергшись несправедливым нареканиям и видя, что никто и не думает о запрещении Иосифу служения, игумен вспомнил слова пророка: «Молчал я, но разве и всегда умолчу и потерплю?» – открыто высказал свое мнение о происшедшем и просит патриарха «обуздать этого человека», чтобы самому не подвергнуться укорам, и «чтобы не осквернялся божественный жертвенник служением низложенного». Если же патриарх и император не позаботятся об этом, писал Феодор, «то одному Богу известно, что будет с вы ступающими на защиту заповеди, а в Церкви на шей – свидетель Бог и избранные Ангелы Его – произойдет великий раскол».
Никифор раздраженно бросил письмо на стол.
– Нет, какова дерзость! За кого Феодор принимает меня? Кто я ему – архиерей или один из его монахов?!
Он обернулся и увидел у двери принесшего письмо секретаря, испуганно смотревшего на него.
– А, ты еще здесь? – недовольно спросил патриарх.
– Прости, святейший! – ответил асикрит. – Я обещал принесшему письмо монаху сказать, каков будет твой ответ.
Патриарх сдвинул брови.
– Передай ему, – сказал он, помолчав, – что ответа не будет.
8. «Стадо диких кабанов»
Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места покоя его, ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель.
(Притчи Соломоновы)
«О Боже, “что за край, что за племя”! Кого я поставлен пасти! Это не епископы, а… стадо диких кабанов!..»
Патриарх не мог сдержать гнева по поводу прошедшего в Святой Софии собора. Сам он не присутствовал там из-за приключившегося с ним недомогания, которому Никифор поначалу был в глубине души рад – не очень-то ему хотелось идти на собор, созванный утвердить волю императора, а не Церкви; даже раздражение против архиепископа Иосифа не перетягивало чашу внутренних весов. И патриарх поддался малодушию – конечно, он мог бы пойти на собор, не так уж он был болен, если честно признаться… Но если б он знал, что там произойдет! Жизнь опять показала, что взятую ношу надо нести, не пытаясь даже отчасти переложить ее на чужие плечи. Теперь, прочтя запись деяний собора и выслушав рассказ синкелла о том, как он проходил, Никифор был в высшей степени раздражен; пожалуй, он не мог и вспомнить, когда в последний раз был столь разгневан.
– Нет, Николай, ты представь, – сказал он, обращаясь к келейнику, – постановить такое на соборе!
– Но, владыка, – робко возразил монах, – по-моему, большой беды тут нет… Изверженный снова служит, и это признано снисхождением…
– А, да при чем тут он? Мне, честно говоря, мало дела до этого эконома! Знавал я его еще в ту пору, когда был асикритом… Услужливость, обходительность, способность убеждать… Да, за богослужением он хорош, голос красивый… Что ж, пускай служит… с паршивой овцы, как говорится… Но я не о том. Вот почитай-ка соборное определение!
Патриарх положил на стол перед келейником несколько листов пергамента.
– Читай вслух. Вступление не надо, смотри сразу сами решения.
– «Поскольку устремление императора ко вступлению в новый брак было упорным и не поддающемся убеждению, – начал читать Николай, – и предписания священных канонов святой нашей Церкви не могли быть исполнены, блаженнейший и святой владыка наш святейший патриарх Тарасий, благорассудительно пользуясь правом, неотъемлемо принадлежащим епископскому чину, ради предотвращения еще более тяжкого ущерба для святой Церкви, могущего произойти из-за противоречия императору, употребил временное снисхождение, следуя благочестивым примерам святых наших отцов, и позволил Иосифу, бывшему игумену Кафарскому, эконому Великой церкви, совершить бракосочетание императора Константина и Феодоты…»
Николай остановился и поглядел на патриарха.
– Вообрази, как студиты истолкуют это определение! – сказал тот. – Но, не говоря о прочем, я совершенно точно знаю, что святейший Тарасий не благословлял Иосифа совершать венчание, и игумен совершил его по собственной воле…
И вдруг он вспомнил.
Будущий патриарх, а тогда протоасикрит императора Константина, Никифор в тот июльский день разбирал документы в большом зале Консистории. Рядом за мраморным столом сидели два писца и переписывали документы, за которыми должен был вот-вот зайти логофет геникона. Один из писцов так торопился, что поломал перо и в сердцах отбросил его в сторону. Сосед молча протянул ему новое и покосился на протоасикрита. Никифор улыбнулся и уже хотел сказать какую-то шутку для ободрения заваленных работой и к тому же одуревших от жары писцов, когда завеса на дверях, ведших из Консистории в триклин Кандидатов, раздвинулась, и вошел логофет Никифор, разговаривая с сопровождавшим его экономом Великой церкви.
– Не соглашается? – спросил логофет.
– Нет, увы! Боюсь, что святейший недопонимает положение, а дело может обернуться скверно…
– Да… Добрый день, господин Никифор, – обратился логофет к протоасикриту.
– День добрый.
– Экая нынче жара стоит!
– Да, жарковато…
Логофет подошел к писцам.
– Ну что, готово?
– Да, господин, вот только последний лист дописать…
– А, ну, я подожду. Да не торопись, а то ошибок наделаешь!
Логофет снова повернулся к эконому.
– Да, дело серьезное…
– Святейший не учитывает, что здесь страсть, а страсть слепа и безумна… и способна на многое…
– Так что же! Думаю, тут может сослужить службу и кто-нибудь другой… Например, твоя честность.
Взгляды логофета и игумена встретились.
– Ты думаешь, господин? – нерешительно промолвил Иосиф. – Но что скажет святейший?
– О, думаю, он не будет сильно гневаться на тебя! Скорее, будет рад такому выходу из положения. А уж государь точно будет благодарен…
Писец докончил работу и протянул логофету пергамент.
– Отлично! Ну, теперь можете отдыхать.
– Да какое там! – уныло вздохнул писец. – Еще вон целая куча работы…
– А… Ну, справитесь, даст Бог… До свидания, господин Никифор!
– До свидания.
Протоасикрит раскланялся с логофетом и игуменом, и они пошли к выходу из Консистории, продолжая разговор.
– Так ты подумай над этим, отче, – говорил логофет Иосифу. – Хоть это и не совсем по чину будет, но что делать! Зато, даст Бог, всё успокоится и обойдется…
Вся эта сцена четырнадцатилетней давности вспомнилась теперь патриарху очень ясно. «Как это я забыл? – думал он. – Ведь сам Никифор и предложил тогда Иосифу совершить это венчание! Вот и еще одна причина, почему ему хотелось снять с него прещение…»
– Продолжай же! – обратился патриарх к келейнику.
– «Исходя из вышеизложенного, – читал дальше Николай, – мы подтверждаем, что упомянутый Иосиф действовал с полного благословения святейшего патриарха Тарасия и по принятому в Церкви снисхождению, а посему его восстановление в священном сане, совершенное святым собором, состоявшимся три года назад в этом богоспасаемом Городе Константина, было справедливым, и он может и впредь беспрепятственно совершать священнослужение».
Он опять остановился.
– Как тебе такое определение? – спросил патриарх.
– Сколько я помню, владыка, прошлый собор… признал, что Иосифу возвращается сан в порядке снисхождения… А тут уже выходит, что он поступал во всем хорошо…
– А значит и извержен был изначально несправедливо, потому что, обвенчав Константина с Феодотой, не сделал ничего плохого. Именно! Читай дальше!
– «Кто не признаёт снисхождения святых, да будет анафема…»
По решению собора, подкрепленному ссылками на соответствующие каноны, Феодор и Платон за учиненное «возмущение» и «непослушание своему епископу» извегались из сана и предавались анафеме, а архиепископ Иосиф, без благословения патриарха служивший в его епархии и «уничиживший лицо местного предстоятеля», лишался епископства.
– Д-да, – проговорил Николай после небольшого молчания, – кажется, они перестарались…
Патриарх заходил по келье.
– Говорят, будто Феодор мстит мне за то, что не стал патриархом… Я уверен, что это неправда, игумен выше этого, хоть и смутьян порядочный… Но теперь наверняка будут говорить, что во мне взыграла ревность за то, что его поначалу предпочли мне, а я попал на престол, в сущности, благодаря покровительству императора… Студийский игумен под анафемой! Что скажет народ?..
– И архиепископ Иосиф извержен…
– Ну, он-то наказан по делу. Он действительно вел себя недолжным образом… Хотя, может быть, стоило избрать более легкое наказание… Но как проходил этот собор! Святитель Григорий в свое время говорил о «стае галок»… Но тут даже не стая, тут… стадо!
«Баранов», – подумал патриарх про себя и нахмурился. Больше всего ему не нравилась во всем этом роль Иоанна Грамматика. По рассказу синкелла, именно слова Иоанна не только решили исход дела, но и повлияли, повидимому, на строгость приговора. Патриарх безотчетно недолюбливал этого монаха. Больно горд… и холодком каким-то от него… Но умен, да, очень умен, что правда, то правда…
Патриарх опять взял в руки деяния собора, постоял, бросил их на стол и сел. Как ни ужасно, но придется подписать это… Утром он получил от Феодора письмо, которое тот после оглашения приговора написал ему, в надежде, что патриарх не подпишет соборных определений… Но это невозможно. Если сейчас воспротивиться решениям собора, то надо уходить с кафедры – не самое разумное, что можно сделать. Кроме того, игумен пытался оправдать своего брата-архиепископа, а ему-то как раз патриарх не находил оправданий. Нет, теперь нет хода назад, придется идти взятым курсом. Но куда все это приведет?..
– Что же теперь будет? – спросил келейник робко.
Он был испуган, видя обычно сдержанного патриарха в таком гневе.
– Трудно и представить! Император намерен разогнать Студий. Это и само по себе вызовет недовольство в народе, а анафема игумену… Эх, не был бы Феодор так упрям!.. Но наши соборяне постарались, ничего не могу сказать! Боже! Что за времена, что за нравы!..
Собор, состоявшийся на галереях Великой церкви 8 января, действительно мало походил на церковное собрание, хотя там присутствовало несколько десятков епископов, игумены монастырей и трое императорских чиновников. Все, в том числе и император, вернувшийся к концу Рождественского поста из военного похода и хотевший поскорее покончить с неприятностями, вызванными студийскими «смутьянами», ожидали, что патриарх сам будет присутствовать на нем и руководить разбирательством. Но недомогание удержало Никифора в келье, а в его отсутствие соборное заседание приняло невиданно бурный и необузданный характер.
Но это было неудивительно: еще до собора атмосфера в столице накалилась до предела. По повелению императора, Студий в последних числах декабря был окружен воинским отрядом, так что никому из братии даже не позволялось выходить за стены. Патриарх, несмотря на раздражение против Феодора и его брата-архиепископа, постоянно ощущал себя между двух огней: ему не хотелось затевать гонений против студитов, он всё еще надеялся на их «благоразумие» – и в то же время в глубине души сознавал, что они в целом правы в своем протесте, а он, требуя от них уступок, идет против совести, сам уступая тому, чему уступать не должно… От мучительных раздумий Никифор даже осунулся; келейники с беспокойством поглядывали на него, но не осмеливались задавать лишних вопросов. 1 января после литургии патриарх, хмурый и не выспавшийся, вызвал к себе Никейского и Хрисопольского епископов и послал их в Студийскую обитель с требованием признать эконома Иосифа в сане.
– Напрасно вы противитесь, – сказал Игнатий, епископ Никейский, – и зря обвиняете Иосифа в беззаконии. Сам святейший Тарасий в свое время повелел ему совершить венчание императора Константина с Феодотой, это было всё равно, что венчание патриаршей рукой! Или вы не признаёте святости блаженного Тарасия?
– Прости меня, владыка, – ответил игумен, – но ты говоришь неправду. Святой Тарасий говорил мне лично: «Да будут отсечены руки мои, если они совершили прелюбодейное венчание! Разве я венчал?» И еще говорил, что никогда не одобрял действий Иосифа, но лишь уступал до времени, применительно к обстоятельствам. И он сожалел об этом! Как же вы, несчастные, смеете позорить память святейшего гнусными наветами на него?
– Слушай, Феодор! – воскликнул епископ Хрисопольский Стефан. – Ты еще долго будешь упорствовать и пустословить, корчить из себя героя и исповедника? Тебя послушать, так все остальные – просто сборище нечестивцев, не знающих ни Евангелия, ни канонов! Все епископы, клир, игумены и сам патриарх признали Иосифа! Ты что, один пойдешь против большинства?!
– Я буду стоять за соблюдение заповедей, даже если останусь один. И это вы рассуждаете о большинстве – вы, архиереи? Но с каким большинством была истина, когда толпа требовала у Пилата распятия нашего небесного Архиерея? Вашими речами о «большинстве» вы только являете свое нечестие! Вы, значит, ищете опоры не в истине, а в числе единомышленников. Горе, до каких времен мы дожили!
– Не знаю, до каких времен дожили мы, а вот ты, Феодор, рискуешь очень скоро дожить до тех времен, когда твой монастырь разгонят и сам ты окажешься далеко отсюда!
– Что ж, я готов! Сам Христос Бог наш не имел, где приклонить голову… А патриарху передайте вот что: «Ты уповаешь на жезл тростяной сокрушенный сей – на Египет, на который если обопрется муж, войдет в руку его и проткнет ее: таков и фараон, царь Египетский, и все уповающие на него»! А мы уповаем на Бога, и да будет с нами святая воля Его!
В ту же ночь Феодор, Платон, архиепископ Иосиф и Калогир, старший из студийской братии и заместитель игумена, были взяты под стражу и отведены в заключение в монастырь святых Сергия и Вакха. Дважды император посылал к ним для переговоров и увещаний монаха Симеона, но безрезультатно.
– Мы крепко держимся за Божий закон и побеждаем, как и раньше, – сказал посланному Феодор. – Мы перенесем любые испытания, если благоволит Бог, но не вступим в общение с Иосифом и сослужащими с ним, пока он не перестанет священнодействовать!
Под его взглядом Симеон стушевался и, не находя, что сказать, вздохнул и прошептал:
– Жаль мне вас, преподобнейшие отцы!..
– О, не нужно сожалений! – отвечал архиепископ Иосиф. – Не плачьте о нас, «но плачьте более о себе и о чадах ваших». Для нас же теперь – время борьбы и подвига, но также и венцов, и славы!
На второй день после праздника Богоявления четверо отцов предстали перед собором. Старца Платона, который от болезни не мог ходить, принесли туда на носилках. Один из сановников развернул хартию и прочел длинную речь императора, смысл которой сводился к тому, что Иосиф был восстановлен в сане вполне согласно «с практикой священного снисхождения и Божественным человеколюбием», а потому протесты неуместны. В таком же духе выступил и Хрисопольский епископ, призывая студитов к покорности, смирению, покаянию и послушанию священноначалию. Собравшиеся всячески выражали одобрение. Наконец, обвиняемые были призваны к ответу. На вопросы председателя собора они отвечали всё то же: пусть перестанет священнодействовать изверженный, и тогда они вступят в общение с патриархом и императором. Когда же епископы стали возражать, что эконом совершил венчание Константина и Феодоты по снисхождению, ради церковной пользы, а потому осуждать его не за что, Феодор ответил:
– Как можете вы, почтеннейшие, говорить, будто он не совершил ничего беззаконного? Он, богохульствовавший на Святого Духа в молитве венчания! Он, старающийся представить беззаконие правдой и показаться святее Иоанна Крестителя! Он, дерзнувший противоречить и Самому Христу, ведь Господь назвал прелюбодеем разводящегося с законной женой, а Иосиф такого прелюбодея поставил пред жертвенником и возложил на него брачный венец! Разве это не хула на Духа, которая «не простится ни в сем веке, ни в будущем»?
Эти слова вызвали против обвиняемых целую бурю. Их окружили и стали осыпать упреками и оскорблениями; в какой-то момент Калогиру, как он потом признался игумену, показалось, что еще немного – и их просто растерзают.
– Упрямцы!
– Безумные гордецы!
– Бунтари! Смутьяны!
– Они, видно, считают себя святее всех святых!
Феодор же повторял:
– Гибнет Предтеча! Нарушено Евангелие! Это не снисхождение, а прелюбодейство, и ваш Иосиф – сочетатель прелюбодеев!
– Ты не знаешь, что говоришь, что болтаешь! – кричали ему с разных сторон.
– Вы все идете на поводу у императора! – воскликнул архиепископ Иосиф. – Испугались за свои места и должности! И это – епископы Христовой Церкви!..
– Э, владыка, – вдруг раздался громкий, четкий голос, в котором звучали металлические нотки, – согласие с императором – вовсе не такой страшный грех, как тебе мнится!
Крики поутихли, и собравшиеся повернулись к говорившему – худощавому монаху лет тридцати. Его высокий лоб и проницательные глаза выдавали пытливый ум; на лице с резкими чертами, в обрамлении коротко стриженных черных кудрей, читалось некоторое высокомерие. Он сидел на скамье в стороне и холодно, но очень внимательно наблюдал за происходящим. Иоанн был не епископом и даже не игуменом, а всего лишь чтецом в Сергие-Вакховом монастыре, однако его пригласили на собор как человека очень образованного и начитанного – порой и епископы обращались к нему за разными справками. До пострига он занимался преподаванием, и за ним еще в то время закрепилось прозвище Грамматик. Когда взоры всех обратились к нему, он встал, чуть поклонился председательствовавшему и обратился к обвиняемым:
– Разве вы, почтенные отцы, не признаёте святости и мудрости великого императора Юстиниана?
– Почему же? – ответил Феодор. – Признаём.
– И ты, владыка, тоже признаёшь? – спросил Иоанн архиепископа Иосифа.
– Да. Но при чем тут…
– В таком случае, – продолжал Грамматик всё тем же спокойным и уверенным тоном, – вы должны согласиться, что непреклонная императорская воля есть обстоятельство, которое, если его невозможно примирить с канонами Церкви, следует признать достаточным для оказания снисхождения. Ведь великий и святой Юстиниан, среди прочих своих мудрейших законоположений установил и следующее: «Что угодно императору, то имеет силу закона». А никто из присутствующих, думаю, не посмеет сомневаться в православности этого великого василевса.
Архиепископ Иосиф хотел что-то ответить, но ему не дали. Крик поднялся пуще прежнего, уже не просто раздраженно-злобный, а злорадно-торжествующий:
– Эти смутьяны не признают и великого Юстиниана! На царя земного замахнулись, скоро замахнутся и на Царя Небесного!
– Наглецы и пустословы! Воздать им по заслугам!
– Анафема!
Обвиняемые переглянулись. Платон покачал головой и закрыл глаза, словно ему не хотелось даже видеть всех этих соборян; архиепископ Иосиф махнул рукой в знак того, что возражать или оправдываться бесполезно; Калогир скрестил руки на груди и опустил голову, показывая, что дальше он будет лишь молча ждать определения собора. Феодор тоже понимал, что участь их решена, и они хранили молчание до самого конца заседания, никак не отвечая на оскорбления и поношения.
Собор произнес анафему против не признающих «снисхождения святых», после чего Феодора, Платона и Калогира вывели вон и отвели под конвоем в Агафскую обитель, а архиепископа оставили для суда над ним – ему в вину вменялось, в частности, то, что он, по просьбе игумена Феодора, совершил литургию в Студийском монастыре без позволения патриарха. По окончании собора император отправил в Агафский монастырь спафариев, которые объявили узникам, что они преданы анафеме и низложены. Когда было зачитано соборное определение, Феодор тихо произнес, так что слышали только стоявшие рядом:
– «Меч их да войдет в сердца их, и луки их да сокрушатся!»
На что Калогир так же тихо ответил:
– «Не убоюсь от множества людей, окрест нападающих на меня».
Тогда Платон, лежавший в углу на рогоже, открыл глаза и произнес почти неслышно, так что Феодор и Калогир угадали, скорее, по движению его губ:
– «О Боге сотворим силу, и Он уничижит стужающих нам»…
…За окном давно стемнело. В гостиной царил мягкий полумрак, уютно мерцали светильники, но у Василия и Марфы, сидевших за столом друг против друга, на лицах отражалось беспокойство.
– Что же теперь будет? – проговорила Марфа.
– Студий император намерен разогнать. Игумена и первенствующих братий, видимо, сошлют… Думаю, будет смута.
– Да, если уж при святом Тарасии гонения на студитов возмутили всех, то сейчас тем более…
– Хуже всего не это. Я получил сегодня письмо от отца Феодора. Он пишет, что поскольку собор наложил несправедливые прещения и принял постановления, противные Евангелию, то его следует считать еретическим… со всеми вытекающими.
– Так что же, теперь… и причащаться нельзя с ними? С патриархом? Да?
– Получается, что так.
– Ох!.. Неужели собор и вправду еретический?
– Вот, читай, – Василий протянул жене письмо Студийского игумена.
«Они не просто какие-нибудь еретики, – писал Феодор об участниках собора, – но отступники от Евангелия Божия», поскольку «употребление имени Божия при бракосочетании прелюбодеев назвали снисхождением Божиим, благим и спасительным для Церкви. Какое неслыханное богохульство! И в свое оправдание они говорят, будто, когда речь идет об императорах, не нужно принимать во внимания евангельский закон». Последнее особенно возмущало игумена: «Кто же законодатель для императора? Разве из этого не ясно, что антихрист уже при дверях? Ибо и антихрист, став царем, станет требовать только того, чего он хочет и что приказывает», а «такой же произвол учинили и епископы на соборе»: они анафематствовали тех, кто не согласился с беззаконием, и этим «что иное сделали, как не анафематствовали святых, прежде всего Предтечу и, страшно сказать, Самого Владыку святых?» Игумен решительно утверждал, что участники собора, «дерзнувшие открыто нарушить Евангелие и предавшие анафеме не хотевших нарушать его», стали еретиками, поскольку ввели в Церковь лжеучение. «Итак, – писал Феодор, – зная, что это ересь, вам следует избегать ее и еретиков, чтобы не имел общения с ними и не принимать Святые Тайны там, где поминают их».
Марфа положила письмо на стол и посмотрела на мужа.
– Что ты думаешь делать?
– Не знаю, – Василий был в некоторой растерянности. – Честно говоря, я не готов к такому повороту… В любом случае, мне придется участвовать в церемониях при дворе и ходить вместе с государем в Великую церковь… Хотя если уж совсем строго подходить, то нельзя и этого, но к такой строгости я точно не готов. А вот не причащаться… Может быть, это и удастся… Может, не заметят, не знаю…
– Но где же тогда причащаться?
– Да, это вопрос. Кто последует за отцом Феодором?.. Придется устраивать тайные служения… Прямо как при иконоборцах, вот дожили!
– У нас тут часовня… Ведь в ней можно служить, в крайнем случае?
– Да, если придет священник с антиминсом… Но кто бы мог к нам придти, если студитов разгонят?
– Ох! Только бы удалось все это скрыть от Георгия – наше устранение от общения с ними! Если он узнает, опять будет крика…
– Ничего, будем надеяться, что не заметит. На меня он уже давно рукой махнул, а ты можешь и дома отсидеться.
– Отсидеться… Но сколько это всё продлится?!
– Это одному Богу известно…
9. Принцевы острова
Военный успех зависит обычно не столько от силы натиска на противника, сколько от мудрой прозорливости и умения вовремя и с легкостью одержать победу.
(Лев Диакон)
В конце января Феодор, Платон и Калогир были сосланы на Принцевы острова. Иосиф, «бывший архиепископ Солунский», как теперь называли его, провел некоторое время в дворцовой тюрьме, но потом и его отправили в ссылку.
Тяжело больной Платон попал на пустынный островок Оксию, где его заключили в деревянном сарае, приставив к нему прислужника, который приходил к старцу раз или два в день, но больше не услуживать, а издеваться: он отказывался переносить Платона ради нужды, не приносил ему лекарств, насмехался и всячески поносил старца, называя его «старым ослом». Порой в ответ на просьбы о лекарствах или услугах он, сплевывая на землю, говорил: «Перетопчешься, старый пес! Ты и так зажился на свете! Зачем тебе лекарства? Совсем ни к чему! Скорей подохнешь и перестанешь докучать миру своими стонами!..» Старец чувствовал себя все хуже и со дня на день ожидал конца. Он не роптал, ничего не отвечал на оскорбления прислужника, только непрестанно повторял молитву; даже когда он впадал в полузабытье, губы его шептали: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного…»
На острове Проти в тесной келье одного из местных монастырей томился архиепископ Иосиф. К нему приставили двух монахов, которые держали его взаперти и пищу выдавали мерой, так чтобы он только не умер с голода. Архиепископ ослабел и почти всё время лежал и молился; никаких книг и письменных принадлежностей ему не давали; стражи не отвечали на его вопросы и сами ни о чем не спрашивали. «Вот и сподобил Бог уйти в затвор», – подумал Иосиф и перестал ждать каких-либо вестей извне. Архиепископ потерял счет дням, а о времени суток узнавал только примерно, по положению солнца, которое около полудня заглядывало в маленькое окно под потолком кельи, и по скудному пайку из хлеба и воды, а иногда полугнилых овощей, которые приносили стражи ближе к вечеру. Но однажды, к его удивлению, страж-монах, с таким же суровым видом, как и всегда, войдя в его келью и поставив на расшатанный столик посуду с едой, положил рядом запечатанное воском письмо и, ни слова не говоря, вышел. Архиепископ вскочил с рогожи, но, почувствовав головокружение, прислонился к стене. Он сжал руками голову и постоял немного, потом взял письмо, распечатал его и поднял поближе к свету. Когда Иосиф увидел знакомый почерк, сердце его так забилось, что он вынужден был сесть на рогожу. Он совершенно забыл о еде и с жадностью принялся за чтение письма.
«Возлюбленный брат мой и владыка! Уже давно я стремился всей душой послать письмо твоей святости, но у меня не было удобного способа, ибо я, несчастный, находился под крепкой стражей и едва мог вздохнуть свободно…»
Игумен Феодор был заключен в тесной и темной келье монастыря Богородицы на острове Халки. Надзор за ним был поручен самому игумену монастыря Иоанну, знакомому и единомышленнику эконома Иосифа, и поначалу был очень строгим: к Феодору никого не пускали, еду ему приносил сам игумен, и только иногда – другие монахи; отправлять и получать письма узник не мог, книг ему не давали. Только через месяц после начала ссылки Феодора брат Дионисий, переодетый в мирскую одежду, тайно пробрался на остров, сумел связаться с одним из монахов монастыря, в котором содержался изгнанник, и передать игумену письмо с кратким описанием судьбы студийской братии.
Студиты не подвели своего настоятеля. Некоторое время после собора монастырь оставался оцеплен стратиотами, а затем, когда Феодор, Платон и Калогир с архиепископом Иосифом были сосланы, всех братий под конвоем препроводили в Елевфериев дворец, где с ними встретился сам император. Никифор попытался склонить студитов к общению с патриархом; в ход пошли и убеждения, и угрозы, и обещания разных милостей. Навкратию император предложил игуменство в Студийском монастыре, если он подпишется под определением собора, на что эконом заявил, что скорее даст отсечь себе руки, чем одобрит нечестивое постановление. Остальные монахи тоже были непреклонны. Наконец, император в гневе заявил:
– Если вы всё еще упрямитесь, то знайте, что все, кто не подпишется под определением, будут сей же час высланы вон из Города, без права проживания в монастырях, а особо упорных и дерзких, – император посмотрел на Навкратия, – ждут ссылки и тюрьмы! Итак, решайте! Кто согласен подписать определение, вставайте на правую сторону, кто не согласен – на левую!
То, что произошло затем, присутствовавшие запомнили надолго. Все студиты – все, как один, несколько сотен монахов – молча перешли на левую сторону, и в тишине, повисшей под сводами залы, раздался голос Навкратия:
– Мы не изменим церковным правилам и наставлениям нашего отца!
Император на несколько мгновений потерял дар речи – такого провала он не ожидал.
Кровь бросилась ему в лицо, и, повернувшись к эпарху, он произнес сквозь зубы:
– Взять их! Навкратия в тюрьму! Всех, кто там у них занимал руководящие должности – под стражу! Остальных – вон из Города! И чтоб духу их тут не было! Если кто в столице вздумает их укрывать… пусть пеняет на себя!
Узнав о подвиге братии, Феодор исполнился такого веселья, что пробыл почти целый день в молитве, благодаря Бога и прося укрепить братию на исповедническом пути. Однако игумена беспокоило то, что брат Епифаний, которого он еще до собора отправил в Рим с письмом к папе Льву, всё еще не возвращался и от него не было никаких вестей. Феодору удалось написать и передать через Дионисия новое письмо папе, которое должен был отвезти в Рим брат Еврепиан.
«Поступи по примеру Учителя твоего Христа, – взывал игумен к папе, – и протяни руку нашей Церкви, как и Он Петру: Он – начинавшему утопать в море, а ты – погрузившейся уже в бездну ереси…» Феодор совсем не был уверен, что папа Лев выступит против решений «прелюбодейного собора», однако понимал, что надо сделать всё от него зависящее ради торжества истины.
Надзор за узником не ослабевал, и передать следующее письмо возможность представилась не так уж скоро. От Дионисия Феодор узнал, что Иосиф и Платон содержатся на двух соседних островах; о судьбе Калогира Дионисий ничего узнать не смог. Феодор неустанно молился за своих сподвижников и за духовных чад и в молитве за других совсем забывал о себе, словно не замечая собственных лишений. Между тем кормили его плохо, в келье было сыро и темно, и, пожалуй, многих других, очутись они в подобном положении, всё это привело бы в уныние. Но Феодор и не думал унывать. Иногда игумен монастыря приходил и пытался читать ему наставления о вреде церковной смуты. Студит неизменно отвечал, что виновники смуты это эконом и возвратившие ему сан, а он, Феодор, никакой смуты учинять не собирался, но только желает всегда неизменно соблюдать божественные заповеди.
– Так что же, Феодор, по-твоему, только ты один соблюдаешь заповеди, а все остальные… патриарх, епископы, игумены… император… все они нечестивы и стоят на пути погибели?!
– Почтеннейший, я всего лишь овца, а овца не может отвечать за своих пастырей или за других овец. Но мы – овцы разумные, а не стадо свиней, которое под влиянием бесов готово нестись куда угодно, даже с крутизны в море. Я никого не сужу, но каждому из нас придется отвечать за себя перед Богом. Я забочуь лишь о том, чтобы соблюсти заповеди самому, и чтобы не нарушили божественного закона порученные моему руководству братия. Патриарх и все прочие, о ком ты говоришь, имеют ум и сами пусть рассуждают о правильности своих поступков, а я буду поступать так, как кажется мне согласным с Евангелием.
Каждый раз Иоанн уходил из кельи опального игумена в смутных чувствах. Этот «смутьян и наглец» на поверку оказался совсем не таким, как расписали Феодора привезшие его сюда. Он производил впечатление исключительной цельности – никакого внутреннего смятения, разногласий с самим собой. Ни разу Иоанн не видел его в раздражении или гневе, даже когда нарочно оскорблял или приносил испорченную пищу. Игумен всегда кротко благодарил, ни в чем не упрекал своего стража и никогда не роптал. Феодор почти постоянно пребывал в ровном и – что более всего поражало – радостном настроении. Иоанн не мог понять, как этот человек, глава знаменитейшего столичного монастыря с огромными имениями, начальствовавший над почти тысячью монахов, имевший свободный доступ ко двору императора, умный, образованный, влиятельный, – вдруг так запросто решился проститься со всем этим, обменять монастырские помещения с мраморными полами на убогую келью, общество любимых братий – на одиночество, почет и общественную значимость – на изгнание, поношения и, страшно сказать, церковную анафему. И всё из-за чего? Из-за какой-то мелочи – восстановления в сане этого Иосифа! Безумие! Но Феодор не походил на безумца…
Иоанн вновь и вновь шел к узнику в надежде разгадать эту загадку – и не мог. Иногда он, подходя к келье Феодора, прислушивался, приложив ухо к двери, и слышал, что игумен молится: Феодор время от времени читал вслух псалмы – Псалтирь он знал наизусть, как и почти все службы суточного круга, ему не требовались книги, чтобы служить часы, вечерню или полунощницу… Но большей частью узник молча молился про себя, стоя на коленях или, при утомлении, сидя в углу кельи. И это – «отщепенец от Церкви»!.. Да, Феодор считал осудивший его собор еретическим и не хотел иметь общение с признавшими его решения епископами и игуменами, но при этом в нем не было видно никакого превозношения. Своих противников, при всех пылких обличениях в их адрес, он, кажется, жалел и скорбел обо всем случившемся. «Сеющий ветер пожнет бурю», – качал он головой, и взгляд его становился печальным: он словно прозревал в будущем какие-то гораздо более ужасные события, чем нынешняя церковная смута…
Правда, Феодор умел и язвить. Однажды, после очередной попытки Иоанна внушить ему «покорность вышестоящим», опальный игумен сказал, усмехнувшись:
– Я охотно выкажу покорность, если твое преподобие укажет мне, где в Евангелии и канонах сказано, что венчать прелюбодеев – не грех. Или у вас какое-то другое Евангелие?
– Наглец!
Иоанн в сердцах даже топнул ногой. Ему захотелось ударить упрямца, но он сдержался – хотя Феодор по его лицу и по невольному движению руки понял, что он хотел сделать, – и вышел из кельи, хлопнув дверью, однако тут же остановился от поразившей его мысли: «А ведь, может, он сейчас… молится за меня… как за оскорбившего!..» Иоанн поколебался и возвратился в келью узника. Феодор стоял лицом к востоку и молился про себя – слов не было слышно.
– Феодор!
Тот слегка вздрогнул, обернулся – и Иоанн на миг закрыл глаза. В этот момент у Феодора было такое светлое лицо, что на него было почти невозможно смотреть – всё равно что на солнце. Но это длилось лишь мгновение; взглянув на узника вновь, Иоанн уже не увидел ничего необычного.
– Феодор, ты… ты сейчас молился за меня? Ответь!
– Да, – тихо ответил игумен, он словно был слегка смущен.
Иоанн сел на край деревянного низкого ложа, покрытого драной рогожей и указал узнику место рядом с собой. Феодор сел. Они помолчали.
– Феодор, – сказал Иоанн, не глядя на него, – тебе… что-нибудь нужно? Книги или, может быть, пергамент, папирус, чернила?
– О, да! – лицо Феодора засветилось радостью. – Если бы ты был так любезен предоставить мне возможность писать письма! Я так беспокоюсь за моих чад…
– Твой брат Иосиф находится на соседнем острове. Думаю, ему можно будет передать письмо… Я принесу тебе всё необходимое.
Феодор встал и поклонился ему.
– Благодарю тебя, господин Иоанн! Да благословит тебя Бог за эту милость!
– Не стоит благодарности…
Иоанн тоже встал, смущенный. То, что он сделал, было неожиданностью для него самого. Идя по монастырскому двору, он думал: «Что за сила такая в нем?.. Непостижимо! Кажется, в его положении уже не на что надеяться… А между тем… между тем…»
Между тем в Иоанне крепла непонятно откуда взявшаяся уверенность, что этот худой изгнанник в старой и местами изодранной рясе, со свалявшейся бородой, анафематствованный и поносимый, заключенный в мрачной келье на хлебе и воде, этот «отщепенец» и «мятежник» – победит. Что он уже победил.
…Патриарх отдыхал после праздничной службы в честь Новолетия, когда келейник доложил, что пришел эконом Иосиф. Никифор поморщился и чуть заметно вздохнул. Он никогда не питал особых симпатий к Иосифу, даже еще до начала всей этой церковной смуты; теперь же, когда из-за «дипломатических способностей» эконома начались неприятности, конца которым пока не предвиделось, как ни надеялся патриарх на обратное, Иосиф вызывал у него чувство, сходное с зубной болью. Чего ему надо?.. Никифору очень хотелось сказаться больным и не принимать эконома, но он понимал, что это малодушие. Что такое в сущности Иосиф? Игрок? Нет, игрушка, разменная монета в руках императора! Несчастный человек, сам не знающий, скорее всего, о своем несчастье…
– Хорошо, пусть войдет.
Поприветствовав патриарха, эконом сказал:
– Святейший, тут у меня гостит Халкитский игумен Иоанн…
У патриарха сжалось сердце. Настоятель монастыря, где уже восемь месяцев содержится под стражей Студийский игумен!..
– И что же? – спросил он ровным голосом.
– Он хотел бы поговорить с твоим святейшеством. Он будет здесь еще два дня.
– Хорошо. Пусть придет завтра после обеда.
Спустя четыре дня Феодор неожиданно получил завтрак, чего не бывало с начала его ссылки – до сих пор ему приносили еду только раз в день, ближе к вечеру, – и завтрак тоже небывалый: вареные овощи, мягкий хлеб и даже чашу вина. Монах, принесший пищу, глядя на узника, чье лицо отражало невольное изумление, улыбнулся и сказал:
– Это еще не все неожиданности. Сегодня тебя переведут в другую келью.
Действительно, спустя примерно час к Феодору пришел игумен Иоанн.
– Ну что, Феодор, ты готов к переходу на новое место жительства?
– Готов… Но что случилось?
– Да ничего особенного… Просто я только вчера вернулся из Константинополя. Там, в общем, всё по-старому… Я виделся с патриархом.
– И?
– Вот, следствием является то, что ты уже видел и еще увидишь… Идем! Отныне ты будешь жить в помещении посуше… и посветлее, – Иоанн улыбнулся. – Удобнее будет письма писать… Но я святейшему про письма не говорил, не беспокойся!
– Он, думаю, и так знает, – улыбнулся и Феодор.
С тех пор, как Иоанн предоставил ему возможность вести переписку, игумен извел немало листов, и его послания уже читались и переписывались не только в Царствующем Городе, но и в других местах Империи. Посещавшие Феодора братия, в том числе Григорий, покидая Халки, всегда уносили с собой по несколько писем. Настало время говорить – и Феодор не умолкал.
– Святейший, – сказал Иоанн, – велел передать тебе поклон и такие слова: «Бог да простит тебя. Мы нуждались в твоей помощи здесь, но ты ушел и обосновался там. Я тебе завидую».
– Он так сказал?
– Да, именно так, я запомнил слово в слово.
– Ха! – Феодор помолчал. – Завидует… Если завидует, так пускай и сам уходит!
– Ну, Феодор, – с упреком сказал Халкитский игумен, – владыка велел позаботиться о тебе, расспрашивал, как тебе тут живется… А ты насмехаешься над ним!
– Нет, я не насмехаюсь, – Феодор вдруг стал серьезным и немного печальным. – Но я говорю то, что есть. Патриарх предпочел жить, уступая императору, я же предпочел не уступать. Теперь он мне завидует… Я понимаю, ему тяжело… с такими-то епископами! О, я видел на соборе, что́ это за епископы! Но что посеет человек, то и пожнет… Куда повернет, туда и пойдет… «Сеющий ветер пожнет бурю».
– Ты что-то часто это повторяешь, Феодор… Какую бурю ты еще нам пророчишь?
– Не знаю, отче, не знаю… Я не пророк. Но одно я знаю точно: никогда преступление заповедей и гонение невиновных не проходило бесследно, и нелживо Писание – «сеющий ветер пожнет бурю»!..
10. Полуденный бес
Причина войны должна быть законной.
(Св. император Маврикий)
Когда северный ветер сменился на южный, и настало самое знойное время года – несмотря на близость моря, воздух иногда был душен до невозможности, – в сердце архиепископа Иосифа тоже воцарились тяжесть и духота. Получив в июне первое письмо от брата, он обрадовался и внутренне воспрянул: возможность хоть изредка получать весточки от Феодора делала заключение не таким тяжелым. Стражи не сразу согласились принести Иосифу письменные принадлежности, но все же переговоры, которые он упорно изо дня в день в течение недели вел с ними, наконец, увенчались успехом, и ответ Феодору был отправлен. Архиепископ ожидал, что чернила и перо у него отберут, но этого не произошло. Тогда на оставшихся листах пергамента он стал записывать свои мысли о снисхождении в церковных делах. Уже давно в душе архиепископа жило некое сомнение, которому он до сих пор, однако, не давал хода, зная, что если будет много думать об этом, то только разорит свое душевное устроение, и тогда пребывание в заключении станет невыносимым. Но теперь Иосиф, наконец, решился изложить свои мысли, тем более что в письме Феодора прозвучало слово «ересь».
Правомерно ли было считать еретическим осудивший их собор? Не следовало ли все же согласиться, что по снисхождению восстановление эконома в сане было возможно? Стоило ли поднимать такое возмущение? Стоило ли дело эконома того, что архиепископ покинул свою кафедру, оставив паству неизвестно кому – быть может, «наемнику, а не пастырю», – и отправился на этот остров в бессрочную ссылку?..
Иосиф вспоминал те доводы, которыми брат убеждал его в свое время в необходимости протеста, – но сейчас они почему-то не казались ему столь же убедительными, как тогда. Что это? Малодушие? Он испугался лишений? Испугался умереть здесь, в этой убогой келье, лишенным сана, с клеймом «отщепенца»?.. Нет, но…
Иосиф думал о патриархе. Этот человек – умный, образованный, благочестивый, вроде бы не рыхлого характера, – он тоже испугался императора? Ведь он подписал соборные определения, хотя Феодор и надеялся, что патриарх такое не одобрит… А может быть, святейший думал, что так нужно для пользы Церкви – и был прав?..
Мысли архиепископа возвращались в детство. Тогда он и Евфимий с сестрой жили в полном послушании у матери, всегда ощущая себя рядом с ней, как за каменной стеной: на все вопросы у нее были четкие ответы, всё было разложено по полочкам… Они читали жития святых, исправно молились по утрам и вечерам, ходили в храм по воскресеньям и праздникам, учились в школе, и жизнь была такой простой и понятной… Только с Феодором тогда творилось неладное, и мать не знала, что с ним делать, молилась и плакала по ночам… А затем – приезд дяди, и всё так внезапно изменилось! Иосиф помнил, как Феодор убеждал его и брата, что нет ничего лучше монашеской жизни, а они слушали, раскрыв рот, вчерашнего гуляку, который вдруг совершенно переродился. Как это произошло? Здесь была какая-то тайна, известная только троим – дяде, матери и самому Феодору. И потом жизнь в монастыре… В послушании, в смирении, в мужественном перенесении лишений не было в обители никого, равного Феодору. Братия дивились ему, многие советовались с ним в духовных вопросах; Иосиф тоже обращался к Феодору с различными недоумениями и получал такие точные и ясные ответы, которые могли быть только плодом собственного опыта, а не одних книжных знаний… Иосиф всегда совершенно искренно считал брата высшим себя во всем, не завидовал ему, а только удивлялся. С тех пор как Феодор стал помощником настоятеля, а потом и игуменом, братия всегда ощущали себя рядом с ним, как в крепости, «в огражденном граде», куда не проникнет враг, а если и проникнет, тут же убежит вон посрамленный… То, что Феодор три года назад не стал патриархом, а Иосиф вскоре после этого получил епископство, казалось ему недоразумением: он безусловно считал брата более достойным архиерейского сана. Но так распорядился Бог, и Иосиф покинул монастырь и вступил на Солунскую кафедру. Что же, теперь он жалел о потерянном месте?.. Нет, не о месте он жалел. Если бы дело было только в этом, он отогнал бы эти мысли, как явно греховные, и успокоился бы. Но…
Правомерно ли восстановление эконома в сане – деяние, в общем, случайное – представлять как нечто принципиальное, влекущее за собою обвинение в ереси? Не преувеличение ли это?.. Архиепископ написал брату в ответном послании некоторые свои соображения на эту тему и, отправив письмо, погрузился в смутные мысли. Впрочем, умом он понимал, что на него просто нападает уныние – тот самый «полуденный бес», искушающий отшельников. Иосиф чувствовал себя больным и разбитым, от постоянного голода и грубой пищи начались рези в желудке и головные боли. В конце концов стражи сжалились и стали кормить его лучше, даже приносили целебный травяной отвар, но заключенному это уже мало помогало. Впрочем, при бодрости духа он легче терпел бы телесные лишения, но поселившиеся в его душе сомнения постепенно сгрызали остатки мужества. Иосифу не хватало поддержки брата, а о судьбе Платона он боялся и думать – старец был уже так болен, когда над их головой прогремели анафемы… Впрочем, какая смерть лучше принятой в борьбе за истину? Но… действительно ли они во всем правы? – и мысли архиепископа возвращались к тем же вопросам. В то же время он неожиданно резко ощутил нехватку книг. Голова болела все чаще и мучительней, и он порой не мог вспомнить того, что раньше знал наизусть. Архиепископ лежал на рогоже, закрыв глаза, молился, но то и дело молитву перебивала мысль: «Скорей бы, что ли, смерть!..»
В таком положении его и нашел брат Григорий, пробравшийся на остров и сумевший подкупить стражей – Василий с Марфой, которых он тайно посетил, узнав, что он собирается навестить принцевских изгнанников, снабдили его деньгами и вещами. И вот он, с большим мешком за плечами, появился на пороге покосившейся кельи, стоявшей между старыми корявыми деревьями. Архиепископ приподнялся на рогоже и несколько мгновений всматривался в посетителя.
– Владыка, это я, благослови!
– Григорий!
Иосиф с трудом поднялся, и они бросились друг к другу в объятия.
Вечером Григорий и Иосиф – одетый в новую рясу и башмаки, накормленный и снабженный тетрадкой, куда были переписаны «Увещательные главы» святого Иоанна Карпафского, – сидели рядом на рогоже и обсуждали положение дел. Архиепископ пожаловался на свою жизнь, но про сомнения распространяться не стал, чтобы не смущать брата: Григорий был полон воодушевления и отчасти ободрил Иосифа, особенно сообщением о том, что никто из студийской братии до сих пор не отрекся от исповедания, но все стоят твердо, хотя некоторые монахи содержатся по одному или по двое-трое в крепостях и монастырях, терпя притеснения от тамошнего начальства, а другие вынуждены скрываться и сообщаться друг с другом тайно, больше по ночам. Архиепископу стало стыдно: «Если все братия, даже самые юные, так стойко терпят лишения, то как я могу ныть и унывать?!..»
Наутро Григорий покинул архиепископа – он держал путь на остров Оксию, собираясь навестить старца Платона, а потом хотел посетить и игумена. На обратном пути с Халки он обещал завернуть опять к архиепископу. Они расцеловались и расстались со слезами на глазах.
Золотые номисмы сделали свое дело: у Иосифа появилось деревянное ложе, и ему не приходилось лежать на земле; расшатанный стол починили, и на нем стоял светильник, в который ежедневно подливали масло; пищу стали приносить дважды в день, а после обеда узника выводили на час-полтора погулять по острову. Архиепископ взбирался повыше и, опершись на суковатую палку, стоял и смотрел, как волны Пропонтиды разбиваются внизу о прибрежные камни. Он вглядывался в остров Халки, возвышавшийся за соседней Антигоной: монастыря, где был заключен Феодор, не было видно отсюда, но даже сам вид острова, где жила родственная душа, доставлял архиепископу утешение. Скоро Григорий будет уже там и, наверное, принесет ему письмо от Феодора…
Монах появился опять спустя две недели. Он побывал на Оксии, но увидеться с Платоном ему поначалу не удалось. Злонравный страж, взяв у Григория деньги и нагло улыбнувшись, заявил:
– А теперь, дорогой, убирайся-ка отсюда подобру-поздорову, и чем быстрее ты это сделаешь, тем умнее будешь! – и, в ответ на протесты Григория, расхохотался: – Не думаешь ли ты, что зря потратил деньги? Экий ты, братец, пень! Если б не они, так я бы уж тебя связал и передал властям! Так что давай, чеши отсюда, дружище! А старик ваш обойдется и без вас, эка невидаль!
Григорий приуныл, но решил не отступаться. Он выследил, где жил человек, стороживший Платона: это был местный, обитавший на острове с семьей. Григорий сумел познакомиться с его супругой Мелитой и, расписав ей бедственное положение Платона, его старость и болезнь, быстро вызвал у нее сочувствие старцу. Женщина согласилась помочь Григорию проникнуть к узнику, на другой день подпоила мужа, подмешав в вино снотворную настойку, и когда он уснул, стащила ключ, который стражник всегда носил на шее на веревке. Так Григорий, наконец, пробрался к старцу. Платон был едва живой. Мелита, тоже пришедшая посмотреть на узника, была в ужасе, увидев его – истощенного, в лохмотьях, с ранами на ногах… Она сбегала домой и принесла масла, и Григорий принялся смазывать старцу раны. Платон тихо плакал от радости – он уже не чаял увидеть кого-нибудь из своих. Когда Григорий рассказал ему о братии, о том, что виделся с Феодором и с архиепископом, старец совсем воспрянул духом и сказал:
– Слава Богу, укрепляющему рабов Своих! Теперь и умирать не страшно – мои чада оказались верны и достойны получить венец жизни!
– Отче, милостью Божией, ты еще поживешь, не умрешь, – сказал Григорий и вдруг совсем по-детски воскликнул, жалобно глядя на старца: – Не умирай, отче!
– На всё воля Божия, брат, – Платон слабо улыбнулся.
У него не было сил писать письмо, и он устно сказал Григорию то, что нужно было передать Феодору. Узнав о том, что архиепископ, похоже, приуныл, Платон посоветовал Феодору составить подборку из творений святых отцов относительно послабления и строгости в соблюдении церковных правил, – благо Халкитский игумен предоставил узнику возможность пользоваться книгами из монастырской библиотеки. На рассвете Григорий простился со старцем и в то же утро покинул остров, дав Мелите денег и взяв с нее обещание позаботиться о том, чтобы ее муж окончательно не уморил Платона.
У Феодора на Халки Григорий пробыл несколько дней. Иоанн был к нему весьма любезен, хотя и не разрешал много разговаривать с узником.
– Иоанн на словах одобряет эконома и прелюбодейный собор, – рассказывал Григорий архиепископу, – но видно, что наш отец произвел на него такое впечатление… Если бы ты, владыка, видел отца! Он сияет!
– А как его здоровье?
– Жалуется на слабость. Условия там не очень… Но он – сияет! Понимаешь, владыка?
– Понимаю…
Григорий принес и ответ от Феодора на письмо. Выразив радость о получении весточки от брата и похвалив его за «ревность о должном», Феодор постарался разрешить возникшие сомнения. Архиепископ читал и думал, что брат всегда был силен в логике, и вообще, в отличие от Иосифа с Евфимием, науки с юности давались Феодору легко, и он без труда заучивал наизусть целые отрывки из книг. Игумен был верен себе: «Какое может быть снисхождение к тем, кто служит вместе с сочетав шим прелюбодеев и председательствовал на собо ре, утвердившем прелюбодеяние?» К письму он прилагал несколько листов со святоотеческими цитатами, которые должны были убедить Иосифа в правильности избранного ими пути. Архиепископ просмотрел их: вроде бы всё было верно… Но не давала покоя мысль: почему же патриарх, этот благочестивый, как все о нем говорили, образованный и начитанный не менее, если не более Феодора человек, рассудил иначе?..
Григорий сказал архиепископу, что поселится на Халки вблизи монастыря – там нашлась подходящая пещера, – будет по мере возможности навещать Феодора и заботиться о переправке писем. Он даже надеялся со временем выпросить у Иоанна позволения поселиться вместе с игуменом.
Иосиф собрался с мыслями и написал Феодору более подробно о своих сомнениях, не утаив ни одного помысла; в сущности, это было письмо-исповедь. Когда Иосиф его закончил, на душе сразу стало легче. Он отправил письмо с Григорием, передав также для Феодора и несколько листов со своими рассуждениями о пределах церковного снисхождения – Григорий рассказал игумену о том, что архиепископ написал некий «труд», и Феодор хотел прочесть его.
Ответ от брата Иосиф получил только в середине сентября. На этот раз письмо было более пространным. Игумен писал, что они уже достаточно и в нужной мере применяли снисхождение до прелюбодейного собора, но оно привело лишь к тому, что противники стояли на своем, а эконом Иосиф беспрепятственно служил с патриархом. «Одни ре чи до войны, и другие – после войны», а потому теперь настало время строгости, и нужно терпеливо переносить лишения и молиться за гонителей. Феодор соглашался братом в том, что «из-за падения одного человека нельзя разделять Церковь», но разъяснял это так: «Из-за одного человека мы не отделяемся от Церкви, которая “от запада, и севера, и моря”, и даже от здешней Церкви – конечно, кроме одобривших прелюбодея ние. Ибо они – не Церковь Господня», – напротив, как раз они и отделились от Церкви, приняв в общение эконома. Легко и логично Феодор разрешал все недоумения архиепископа, а по поводу скорби его о своей пастве сообщал, что среди солунцев тоже есть противники решений «прелюбодейного собора», претерпевающие гонения, как и студиты, и писал: «Что же касается города твоего, то в нем ты возжег высокое пламя благочестия, которого человек не погасит вовеки. Нужно не печалиться, но радоваться этому, как и я, окаянный, радуюсь рассеянию смиренного монас тыря моего, ибо это рассеяние – ради Господа».
Но самое большое впечатление на Иосифа произвели слова патриарха, переданные Фео дору через Халкитского игумена, – Студит процитировал их в письме к брату. На следующий день во время прогулки архиепископ долго смотрел на маячивший в дымке константинопольский берег. Теперь в душе его был покой. «Я завидую тебе»! В этой краткой фразе патриарха было, в сущности, разрешение всех недоумений архиепископа: Никифор сознавал, что пошел на поводу у василевса и потерял в лице Феодора верного помощника, способного отстаивать независимость Церкви пред лицом императорской власти.
…Книги в дальних шкафах были сложены довольно небрежно, кое-где их уже погрызли мыши. Слежавшиеся страницы с трудом разлеплялись, некоторые рвались в руках. Вдохнув очередную порцию пыли, Иоанн громко чихнул.
– Вот варвары! – пробормотал он. – Так относиться к книгам!
Патриаршая библиотека была его излюбленным местопребыванием. Он имел разрешение еще от патриарха Тарасия приходить сюда для занятий и это право усердно использовал. Книги были его страстью: он не мог равнодушно пройти мимо рукописи, даже самой неказистой на вид, – напротив, такие-то еще больше привлекали его внимание. Всё свободное время Иоанн тратил на чтение и занятия науками. С юности привыкший довольствоваться немногим, он мало ел, а спал от силы часа два в сутки. Он был крепок телом и никогда не болел; зрение его, несмотря на многие часы, проведенные за книгами, было острым и ничуть не притуплялось. С годами Грамматик научился быстро разбирать почти любой почерк и легко восстанавливал по смыслу полустершиеся или неграмотно переписанные слова, а потому читать даже те книги, за которые никто не брался по причине плохого почерка переписчиков или многочисленных ошибок, для него не представляло особого труда.
Неудивительно, что в патриаршей библиотеке его внимание привлекали чаще всего самые дальние углы, самые пыльные сундуки и полки, где попадались рукописи, годами никем не раскрывавшиеся. Библиотекари порой и не знали, что за книги там хранятся, и Иоанн попросил у патриарха благословения самому смотреть и брать рукописи, хотя от должности помощника библиотекаря отказался. Впрочем, неофициально он всё равно, можно сказать, занимал ее: главный библиотекарь, увидев его интерес к старым рукописям, был даже рад этому и попросил Иоанна составить список непронумерованных и неучтенных книг, если таковые будут ему попадаться, а когда ему или его помощникам нужно было отлучиться, они смело оставляли в библиотеке Грамматика, который при необходимости мог не хуже них найти для пришедшего читателя нужную книгу.
Иоанна интересовало всё, от гомилий Григория Богослова до медицинских трактатов Галена и Гиппократа. Хотя в библиотеке хранились в основном книги церковного содержания, но попадались и исторические, и по медицине, и творения эллинских философов и поэтов…
В особых сундуках содержались еретические книги. Здесь были сочинения Оригена, Евагрия Понтийского, Нестория, Диоскора, Феодора Мопсуэстского, Филоксена Маббугского, Севира Антиохийского, Дидима – всё это было внимательнейшим образом изучено пытливым книгочеем. Особенно заинтересовали Иоанна богословские полемические сочинения времен императора Юстиниана. Часто Грамматика можно было видеть сидящим над очередной книгой, с полуприкрытыми глазами, погруженным в раздумья, так что иной раз он даже не отзывался, когда библиотекарь окликал его. О чем он думал? Иоанн ни с кем не делился своими мыслями…
11. «Слово Божие не вяжется»
(Виктор Цой)
- Хочешь ли ты изменить этот мир,
- Сможешь ли ты принять как есть,
- Встать и выйти из ряда вон,
- Сесть на электрический стул или трон?
9 июня третьего индикта, около двух часов пополудни, у ворот опустевшего Студийского монастыря стояли два высоких широкоплечих стратиота, вооруженных щитами и копьями, один белокурый, а другой рыжий, с усыпанным веснушками лицом. Солнце палило нещадно, и пот тек со лбов стратиотов, подозрительно и грозно глядевших на всякого, кто приближался к обители.
– Экое пекло! – сказал рыжий.
– Да уж… Скорей бы смена!
– Еще часа полтора нам тут торчать, – рыжий сощурился на солнце, пытаясь определить, сколько времени.
– Эва! Глянь, какие мулы!
Двухколесная повозка, запряженная парой красивых черных мулов с белыми звездами во лбу, остановилась перед обителью. Женщина в зеленой тунике и легком шелковом мафории, выйдя из повозки, подошла к монастырской стене чуть левее ворот. Солдаты, повернув головы, наблюдали за ней, а она прошептала, проведя рукой по шершавой каменной кладке:
– Господи! Не посрами упования нашего! Ты знаешь, что за заповеди Твои страдают исповедники, укрепи их и вразуми противных!
На мгновение она прижалась к нагретой солнцем стене, потом перекрестилась и пошла к повозке.
– Эй, женщина! – крикнул рыжий стратиот, решив показать, что они не просто так торчат у ворот монастыря. – Ты здесь, давай, не шатайся! Смутьянов отсюда выкинули в два счета, смотри, и тебя заметут!
Женщина остановилась и взглянула на стратиотов.
– Молитвами этих «смутьянов» да смилуется Бог над вами и над теми, кто разогнал святую обитель!
– Чего-о-о? – грозно крикнул рыжий, слегка оробев под ее взглядом и от этого еще больше раздражившись.
Марфа ничего не ответила и вновь забралась в повозку. Где-то сейчас игумен Феодор, владыка Иосиф, братия? Вернутся ли они вновь в опустевший Студий? Кончится ли когда-нибудь эта смута?.. Пока что она только ширится… Разогнав монастырь, император рассчитывал покончить с возмущением, а это стало только началом. Он думал, что «смуту» затевают одни студиты, но протесты нарастают, и теперь гонения на противников беззаконных решений собора идут уже по всей Империи… Ох, чем-то все это кончится?..
Когда Марфа вернулась домой и прошла в гостиную, из боковой двери навстречу ей выбежала Кассия.
– Мама! Вот и ты!
– Да, вот и я, – улыбнулась Марфа, ласково потрепав дочь по голове. – На улице жарко… Чем ты занималась с утра? Господин Власий приходил?
– Да, мы сегодня читали третью песнь, про Елену, как Александр и Менелай за нее сражались.
Кассия с важным видом сложила руки на груди и принялась читать наизусть:
– Ты что, это прямо сейчас выучила?
– Да… То есть нет… Я не учила, оно само запомнилось! А Власий сказал… Он сказал, что это «поразительно»! Только вот я не знаю, что в этом такого… поразительного?
– Ну, просто редко бывает, чтобы маленькие дети так вот сразу запоминали такие стихи…
– А-а… Значит, как ты с папой живешь – это тоже поразительно?
– Почему?
– Вы не кричите никогда, не ругаетесь… А Мелания говорит, я слышала, что мужья с женами почти всегда ругаются…
– Это она тебе говорила? – Марфа слегка нахмурилась.
– Нет… Она это на кухне с Анфусой… А я просто… я мимо проходила!
– Ах ты, любопытная, везде успеваешь!
Беспрепятственное хождение Кассии по всему дому и то, что девочка совала нос везде, в том числе и на кухню, и на задний двор, с точки зрения ее дяди-протоспафария, было «верхом неприличия»: он был страшно возмущен, узнав об этом, когда случайно, зайдя к сестре в гости, услышал от прибежавшей Кассии веселый рассказ о том, как на кухне слуги спорили о приправах для жаркого. Но Марфа не хотела ограничивать Кассию и слишком подавлять ее стремления – ведь она сама выросла на свободе, среди садов и полей, при отце, который не особенно следил, в каком углу дома его дочь читает книгу или пытается поймать залетевшую бабочку, чтобы выпустить в сад… Василий был согласен с женой, и потому Кассия получала не такое воспитание, как многие девочки из богатых семей, которых растили с одной целью – выгодно выдать замуж. Иной раз, глядя на дочь, Марфа вспоминала о своем обещании, данном Богородице, и гадала, может ли выйти так, что Кассия действительно захочет пойти в монахи, когда вырастет. Пока об этом трудно было судить. С одной стороны, девочка была очень живая, всем интересовалась, любила читать и рассуждать вслух о разных занимавших ее вещах, – и в то же время могла подолгу сидеть одна где-нибудь в углу с игрушками или в саду под деревом, о чем-то думая… Иногда она капризничала, но это случалось редко; в целом Кассия росла послушной, родителям было не на что жаловаться. Но иной раз неясное ощущение чего-то особенного, что ждет Кассию в будущем, охватывало Марфу. Что ни говори, а девочка умна не по возрасту… В ее годы Марфа еще и не открывала великого поэта, а дочь рассказывает целые куски из поэмы, даже не уча нарочно!.. И красивая растет – в кого только такая?..
Родители думали, что замечательный синий цвет глаз дочери со временем сменится на другой, как бывает у младенцев, но этого не произошло. Кассия росла темноволосой, белокожей, с огромными глазами цвета лазурита. Ни Василий, ни Марфа не помнили, чтобы у кого-то в их родстве были глаза такого редкого цвета.
– А ты где была, мама? – прервала Кассия ход ее мысли.
– Ездила за город передать еду и одежду для одного монаха.
– А почему у него нет одежды в его монастыре?
– Потому что его выгнали из монастыря. Вообще их монастырь разогнали, и они скитаются и прячутся по разным местам, а некоторые сидят в заточении…
– Ой! Бедные!.. А ты им помогаешь, да? За что же их разогнали?
– За то, что они стоят за Божию правду, против тех, кто нарушил заповеди Христа.
– Но если они за Христа, то Он должен Сам помогать им!
– Конечно! Он дает им силы всё терпеть… И помогает через людей.
– Через тебя, да?
– И через меня… Но гораздо больше через других. Я-то мало делаю для этих исповедников, увы!..
– Но тогда мы можем делать больше! Мы можем… – Кассия задумалась, наматывая на палец кончик своей косы. – Мы можем кого-нибудь поселить у нас дома! У нас тут много места. А они скитаются… Вот им пока и будет, где жить! Ведь их должны оправдать, если они за правду?
– О да, я верю в это!.. А в твою маленькую голову пришла большая мысль! Надо поговорить с папой!
Василий вернулся из Священного дворца хмурый.
– Император думал убедить мир, что только одни студийские монахи такие смутьяны, любители побуянить из-за пустяков! – начал он, едва войдя в дом. – Думал, что после их изгнания протесты прекратятся, что никто не посмеет поднять голос против решений собора… Как он просчитался! А теперь не хочет этого признать, воздвигает всё новые гонения! Это походит уже на безумие.
– Кого-то еще взяли? – с беспокойством спросила Марфа.
– Говорят, игумен Стефан и его монахи – представь, все пятьдесят! – предали анафеме прелюбодейный собор и покинули монастырь, некоторых уже арестовали. Но они не одни – вместе с ними прокляли этот собор еще больше сотни монахов и местный епископ!
– Ого!
– И это еще не всё. Ходят слухи, что Херсонский епископ удален с кафедры, а тамошний игумен Антоний и несколько монахов заключены под стражу…
Василий достал из кармана сложенный лист пергамента и протянул жене.
– Это копия письма игумена Феодора к брату Навкратию, господин Феодот дал мне почитать… Воистину, «слово Божие не вяжется»! Подумай: он в заточении, отрезанный от братии и от всех, – а его голос звучит повсюду!
– Да, уже одно это вселяет надежду!
Марфа развернула письмо и стала читать про себя.
– Боже! – в ужасе прошептала она. – Почти семьсот ударов!
– Это кому? – раздался сзади испуганный голос.
Василий с Марфой обернулись. Кассия, неслышно вошедшая в залу во время их разговора, стояла и вопросительно смотрела на них.
– Так бичевал нечестивый епископ исповедника Христова, – сказал Василий.
– Семьсот ударов? Бичом?.. Ведь это больно?
– Да, очень больно! Можно запросто умереть даже от гораздо меньшего числа…
– А за что он его? – спросила опять Кассия. – За то, что он за правду Христову, да?
– Да, – Василий удивленно взглянул на дочь.
– Я ей кое-что рассказала сегодня, – пояснила Марфа. – А она знаешь, что сказала?.. Но погоди, дочитаю…
– Мама, читай вслух, я тоже хочу знать!
Марфа вопросительно посмотрела на мужа.
– Ладно, читай. Ребенок тоже должен знать, что творится в нашем «богоспасаемом» отечестве… Тем более, что она у нас умненькая… Читай, пожалуй, с начала.
В письме Студийского игумена рассказывалось о том, как в Фессалонике после изгнания архиепископа Иосифа назначенный вместо него архиерей расправлялся с теми, кто не хотел его поминать и не признавал решений «прелюбодейного собора». Евфимия, игумена одного из солунских монастырей, отказавшегося признать нового епископа, бичевали прямо в храме почти до смерти, но он все равно отказался поминать «прелюбодействующего» епископа. После истязания «некто, подражавший Христу, взял Евфимия в свой дом и, приложив к кровавым ранам и язвам телесным свежую кожу убитого ягненка, оживил этого мужа», вылечил и тайно отпустил. «Кто из православных когда-нибудь поступал так с еретиком? – восклицал Феодор. – Воззри, Господи, Господи, на такое бедствие и пощади народ Твой, устроив мир православия в нашей Церкви!»
Когда Марфа закончила читать, Кассия бросилась к отцу и ухватила его за плащ, который он еще не успел снять.
– Папа! Там сказано, что «подражавший Христу взял его в дом свой»! Нам тоже надо так!
– Вот видишь, – сказала Марфа. – Она еще днем предложила сделать из нашего дома странноприимницу для гонимых.
– Что ж, «из уст младенцев»… – Василий положил руку на голову Кассии, зарывшейся лицом в его плащ.
Кассия подняла голову; в ее глазах блестели слезы.
– Не плачь, – сказал Василий решительно. – Мы им поможем, насколько это в наших силах.
– И пусть Бог довершит остальное! – тихо сказала Марфа.
– Аминь! – ответил ей муж.
…Когда учитель ушел, Фекла спросила сына, уже готового бежать в сад играть:
– Ну, чем вы сегодня занимались?
Вместо ответа мальчик, заложив руки за спину и выставив вперед подбородок процитировал:
– Какой же ты у меня молодец!
Феофил, поковыряв носком башмака узор на ковре, сказал:
– Когда я вырасту, я тоже буду ездить на коне!
– Конечно, будешь!
– И воевать с врагами!
– Да, если будут войны…
– И еще буду совершать суд по правде!
– Ну, для этого надо работать судьей или быть эпархом… или императором…
– А как стать императором?
Сердце Феклы глухо стукнуло: на память ей пришли речи мужа о будущей порфире – Михаил частенько поминал пророчество монаха из Филомилия и был уверен, что когда-нибудь обуется в красные сапоги. У Феклы его разговоры на эту тему всегда вызывали досаду и испуг, и она не раз просила мужа «забыть это несчастное пророчество», – но тот лишь посмеивался и говорил жене, что пурпур ей очень пойдет…
– Императором становится тот, кого выберут знатные люди, войско и народ, – ответила она на вопрос сына.
– Значит, им может стать кто угодно?
– В общем, да, если Бог благоволит, – она опять вздрогнула внутренне. – Вот великий Юстиниан, который построил храм Святой Софии, был из семьи простых земледельцев…
– Да? А где про него можно прочесть?
– О, про него многие писали… Например, его современник историк Прокопий.
– А у нас есть эта книжка?
– Да.
– Я хочу почитать ее!
Фекла ненадолго задумалась. Не рановато ли ребенку читать Прокопия?..
Их домашняя библиотека была совсем небольшой: Михаил книг вообще не открывал, а книги, принадлежавшие Сисинию, пропали почти все при изъятии его имущества; Фекла и Агния сумели припрятать только несколько рукописей. Когда Михаил получил должность комита шатра и у них появились некоторые лишние деньги, Фекла стала покупать книги, но не часто, чтобы не вызывать лишний раз недовольство мужа. Список «Войн» Прокопия преподнес им Лев – это был его подарок по случаю крещения Феофила.
– Пусть растет воином! – сказал крестный.
С тех пор Фекла не один раз перечитала произведение историка из Кесарии. А вот и сын дорос… Дорос ли? Что он там поймет? Впрочем, там всё больше про войну, как и у Гомера… Да, наверное, можно… Учитель говорил, что мальчик сильно опережает в развитии своих ровесников, и Фекла радовалась, что наняла сыну грамматиста, не дожидаясь, пока Феофилу исполнится семь лет.
– Да, милый, вечером я дам тебе книгу.
– Ура! – Феофил подпрыгнул, кинулся к матери, обхватил ее и, когда она наклонилась к нему, чмокнул в щеку. – А теперь я пойду гулять, ага? – и он вприпрыжку выбежал из комнаты.
Фекла, улыбаясь, смотрела ему вслед. «Но что за странный вышел разговор! – подумала она. – Как стать императором!..» Ей вдруг пришло в голову, что всем занятиям люди учатся: как переписывать книги, как выращивать скот, как обрабатывать землю, как воевать, как чеканить монеты, как делать украшения или посуду, как шить одежду, – и только как быть императором, не учит никто… кроме Бога? «Мною цари царствуют», – сказано в Писании. Что же? Ужели любого, стоит ему только быть коронованным, Бог умудряет царствовать? Но ведь в истории бывали и плохие цари… Говорят, это попущение Божие: Бог попускает плохих царей, а хороших посылает по благоволению… Неожиданно ей подумалось: каким бы правителем стал ее собственный муж, если бы сбылось то, о чем он постоянно мечтает, – императором по попущению или по благоволению? Но что за мысли ей приходят в голову сегодня!..
Она подошла к окну и снова заулыбалась: Феофил уже залез на росшую во дворе смоковницу и дразнил оттуда толстого полосатого кота, который, сидя под деревом, взирал на мальчика то ли удивленно, то ли с возмущением. Несмотря на рано пробудившуюся в нем страсть к чтению и ко всяческим познаниям, Феофил с не меньшей охотой предавался играм, забавам, физическим упражнениям, так что иной раз совершенно замучивал своих друзей – сыновей живших по соседству нотария и хартулария, – вызывая их бегать наперегонки, метать камни или прыгать через препятствия. И внешностью, и умом мальчик пошел совсем не в отца, за что Фекла неустанно благодарила Бога. К счастью, Михаил, хотя сам не стремился к образованию, не мешал учить Феофила. Правда, поначалу, когда мальчику было всего четыре года, а Фекла уже решила нанять ему учителя, муж недовольно сказал:
– Что-то рановато ты это…
– Ничего не рановато. Он у нас умный, такие вопросы нянькам задает, что они и не знают, что отвечать! И всё меня спрашивает, что за книги я читаю, – тоже хочет…
– Книги, книги… Дались вам эти книги! Смотри, не вздумай превращать ребенка в книжного червя!
– Нет, что ты, я вовсе не думаю об этом! Но образование никому не повредит. Подумай, ведь у образованного больше возможностей преуспеть по службе и при дворе…
Последний довод убедил Михаила. Он никогда не забывал о пророчестве филомилийского монаха и рассудил, что сыну будущего императора образование, действительно, не помешает. За себя Михаил не беспокоился: он верил, что будет царствовать и без образования, – ибо так хочет Бог.
12. Чаша для болгарского хана
Бога, в руке Которого дыхание твое и пред Которым все пути твои, ты не прославил. За это… исчислил Бог царство твое и положил конец ему.
(Книга пророка Даниила)
Шел к концу второй год пребывания Феодора на острове Халки. Телом заключенный в келье, духом Студийский игумен обтекал все концы Империи, куда только могли доходить письма. Его послания переписывались адресатами и передавались дальше, ободряя соратников по борьбе, заставляя задуматься равнодушных, приводя в гнев противников. Студийскую братию игумен наставлял и письменно, и устно – более всего через брата Гайана, который тоже поселился на Халки, недалеко от места заключения Феодора, и по его поручению обходил почти всех монахов, передавая им наставления. Из Рима возвратился Епифаний, привезя от папы письмо, благословение и богатые дары, которые игумен тут же велел разослать нуждающимся братиям. Папа сочувствовал Феодору и хвалил его ревность о соблюдении священных канонов, но вместе с тем выражал недоумение по поводу дошедших до него слухов о том, что Феодор будто бы признаёт православными неких еретиков-акефалов.
– Наши супостаты со своими сплетнями добрались и до Рима, – вздохнул Феодор, выслушав рассказ Епифания и прочтя письмо папы. – Придется тебе, брат, снова отправляться туда… Я напишу письма, а ты действуй благоразумно, постарайся рассеять сомнения на наш счет!
«Ты, по примеру Христа, воззвал к нам, смиренным, – говорил игумен от имени своего и Платона в новом письме предстоятелю Рима, – и оживил дух наш, укрепил немощь, утвердил слабость…» Послание вышло длинным. «У нас, блаженнейший, состоялся всенародный собор, где заседали и начальствовали сановники, собор для нарушения Евангелия Христова», – писал Феодор и доказывал, что решения собора были «нечестивыми предприятиями и действиями прелюбодейной ереси». В конце игумен опроверг возводимые на него обвинения, анафематствовав еретиков, в сочувствии которым его подозревали. Написал он также письмо влиятельному игумену Василию, настоятелю греческого монастыря в Риме, с просьбой о молитвах и о воздействии на папу – Феодору хотелось, чтобы Римский первосвятитель осудил решения прелюбодейного собора.
Епифаний, прочтя оба письма, покачал головой.
– Я-то поеду, отче… Готов хоть завтра в путь. Но только, думаю, святейший не пойдет дальше слов и писем. Он жаловался мне, что до сих пор не получил обычного послания от патриарха Никифора, хотя уже идет пятый год, как тот на кафедре, да и государь наш ему враждебен… С Карлом-то он мир заключил, а вот папе и приветствия не послал…
– Думаешь, на осуждение прелюбодейников он не пойдет?
– Почти уверен, что нет… Тут большая политика, а мы кто? Для папы – люди маленькие, и от Рима до нас далеко. Ты пишешь одно, от наших противников доходит другое… Разберись тут! Хорошо уже, что папа нам сочувствует, а на большее вряд ли можно рассчитывать…
– Да… Как он выразился об истории эконома, это всего лишь «вопрос о грехах одного священника»…
– Не стоящий его забот! Да, так он на это и смотрит в целом. И потом, отче, у них Карл уже сменил несколько жен, так что папе по такому вопросу выступать как бы даже и не к лицу…
– Но ты всё равно поезжай! Надо стараться, чтобы он сохранял о нас благоприятное мнение, даже если вмешиваться в это дело не будет, – Феодор помолчал. – Да, благоприятное о нас мнение. Оно нам скоро понадобится.
Как бы ни обстояли дела на западе, на востоке письма Феодора и стойкость его братии постепенно меняли положение. У опального игумена появилось немало открытых сторонников, и многие из них уже поплатились ссылкой за поддержку студитов. Еще больше было приверженцев тайных, в том числе среди придворных. Большую роль сыграло то, что студиты и их единомышленники прекратили молитвенное общение с признававшими прелюбодейный собор. Это заставляло многих, поначалу равнодушно отнесшихся к восстановлению в сане эконома Иосифа, задуматься о том, что вопрос не так маловажен, как могло показаться на первый взгляд. Для тех, кто обращался с вопросами к студитам, наготове были разъяснения, убеждения, копии с писем Феодора, цитаты из святоотеческих творений, – борцы выступали во всеоружии, и число приверженцев Студийского игумена росло с каждым днем.
Влияние императора между тем с такой же быстротой падало: одни роптали на него за гонения на студитов и их единомышленников, другие – за то, что он отяготил граждан налогами. С течением времени положение лишь обострялось. Даже монах Симеон, эта «трость, всяким ветром колеблемая», как называли его за глаза, как-то раз в беседе с глаза на глаз сказал императору:
– Не прогневайся, государь, на то, что я скажу! Боюсь, что напрасны были наши надежды подавить церковный бунт… Это надо было предвидеть с самого начала, но мы часто думаем, что другие так же рассуждают, как мы. А оно не всегда так…
– Что ты хочешь сказать? – император теребил бороду.
– Государь… Люди делятся на тех, кто руководствуются одними земными соображениями, тех, кто руководствуется земными, вспоминая в то же время и о небесных, и тех, кто руководствуются в целом небесными, не забывая при этом и о земных… Но есть еще один род людей – их мало, но они встречаются, – которые руководствуются одними небесными соображениями, совершенно пренебрегая ради них всем земным… Студийский игумен – из этого рода, и потому… – Симеон остановился в некоторой нерешительности.
– И потому?
Монах вздохнул и сказал совсем тихо:
– И потому, государь, скорее небо столкнется с землей, чем мы убедим его уступить. Он будет бороться до смерти… или до победы.
– Глупости! – раздраженный василевс поднялся. – Не думаю, что он настолько безумен, чтобы не хотеть, к примеру, вернуться в Студий вместе со своей братией… Еще увидим, чья возьмет!
Когда император расстался с Симеоном, монах покачал головой. Он давно знал Никифора и понимал, что скрывалось за его бравадой: император был напуган и растерян.
Идя быстрым шагом по переходам Священного дворца, василевс размышлял о том, как выйти из создавшегося положения; он уже давно подумывал об этом, но… Патриарх! В последнее время он задавал императору загадки. Никифор явно уклонялся от обсуждения скользкой темы. Василевс уже не раз в той или иной форме намекал, что неплохо было бы как-то уладить дело со студитами, но патриарх словно не хотел понимать намеков.
– Тяжелые времена настали для нашей державы, святейший, – говорил император. – «Вовне свары, внутри раздоры»…
– О, да, государь! – отвечал патриарх озабоченным тоном. – Что может быть хуже внутренних смут! Враг нашего спасения не дремлет и не дает покоя ни государству, ни Церкви! – и он неизменно переводил разговор на павликиан, намекая, что неплохо было бы принять против этих еретиков крутые меры.
«Он что, издевается?» – думал император, поглядывая на своего тезку. – Затевать новое преследование из-за веры, когда еще не расхлебаны последствия предыдущего?!..
Но как ни пытался император проникнуть в мысли патриарха, это ему не удавалось. За пять лет, проведенных Никифором на престоле Царицы городов, бывший асикрит сильно изменился. Он и раньше умел владеть собой, но теперь научился это делать столь хорошо, что даже келейник патриарха, с пристрастием и угрозами допрошенный императором, не мог сказать относительно тайных мыслей и настроений святейшего ничего определенного.
– Владыка почти всегда ровен, только иной раз выглядит усталым от трудов… Нет, он ничем не возмущается… Разве что недоволен выходками павликиан…
– Дались ему эти павликиане! – прошипел император.
Когда испуганный келейник пересказал в тот же вечер патриарху свой разговор с императором, заметив, что василевс, кажется, очень обеспокоен и даже растерян, Никифор слегка улыбнулся и произнес только:
– «Сеющий ветер пожнет бурю!»
Наконец, император сдался. На следующий день после разговора с монахом Симеоном он вызвал к себе патриарха и открыто заговорил о том, что на болгарской границе неспокойно и скоро придется идти в военный поход, а потому, в целях внутренней безопасности и укрепления тылов, хорошо бы уладить дело со студитами.
– Я понимаю твою озабоченность, государь, – ответил патриарх, – но не вижу, какой тут можно найти выход при настоящем положении дел. Мы должны блюсти соборные решения, которые единолично я отменить не вправе. Их может отменить только новый собор и лишь в том случае, если они были неверны.
Патриарх умолк, ощущая, как глубоко внутри в нем закипает гнев. Император сначала добился того, чтобы соборно – и будто бы по желанию патриарха! – вернули сан Иосифу, а теперь хочет, чтобы и первый шаг к примирению с отколовшимися сделал патриарх… Но не будет этого, нет! Хватит уже императору навязывать ему свою волю! Хочет примирения – пусть первый признает свою неправоту! Пусть сам упрашивает о созыве собора, пусть сам скажет, что Иосифа не нужно было восстанавливать в сане… что его требования нанесли вред Церкви… Пусть объявит об этом сам! А он, патриарх, не заговорит об этом первым, нет! Сначала император осудил студитов руками патриарха, а теперь хочет послать его на поклон к ним… Нет, нет!
Император расстался с патриархом в раздражении и растерянности. К вечеру им овладели тоска и даже страх: мерещилось, что где-то, быть может, в самом дворце, уже зреет заговор против него, ведь недовольных теперь – хоть отбавляй… Никифору вспомнился старец Платон, осужденный на злосчастном соборе два года назад. Каково ему сейчас там, на Оксии? Ведь он жив еще… удивительно!.. А Феодор! Он уже всю Империю заполонил своими воззваниями… Так-то его там стерегли всё это время, дьявол бы их побрал! Сколько неприятностей может причинить один игумен!.. Почему патриарх не хочет примирения? Неужели ему нравится эта смута?.. А ведь он предупреждал с самого начала, что смута будет… Но император не поверил, понадеялся на силу власти, на человеческую слабость, на то, что студиты не пойдут на разрыв, не захотят расстаться со своим огромным и богатым монастырем, а если и произойдет возмущение, его легко будет подавить… Как он просчитался! Ему вспомнился тот момент, когда студиты, все как один, перешли на левую сторону… Да, уже тогда надо было понять… Но, Боже, что за человек этот игумен, если он смог воспитать их так?! Да что их – он уже кучу народа перемутил, помимо студитов! Неужели он не уступит, не согласится?.. И еще эти болгары… Как уйти в поход, оставляя за спиной такое?..
…Феодор только что вычитал по памяти службу шестого часа, когда двери его кельи распахнулись и вошли два спафария. Опальный игумен уже несколько дней жил вместе с Григорием в большой светлой келье одного из монастырей в предместье Константинополя – Студита перевели сюда в начале мая приказом императора. Тогда же Платон был переправлен с Оксии в один из столичных монастырей, и отныне узникам предоставлялись все условия для нормальной жизни, хотя под надзором.
– Ну вот, – сказал Феодору при прощании игумен Иоанн, – государь, похоже, смягчился.
– Или испугался.
– Испугался? Чего же он мог испугаться?
Вместо ответа Феодор чуть заметно улыбнулся. Халкитский игумен не очень разбирался в положении дел и, хотя поддерживал связь с экономом Иосифом и монахом Симеоном, получал от них далеко не все сведения о происходивших событиях; Феодор знал о них гораздо лучше своего стража и прекрасно понимал, что означал жест императора. Теперь, когда шел уже третий год после разгона Студийского монастыря, их положение было далеко не таким, как после «соборища прелюбодействущих». Сейчас у них была сильная поддержка, и не из какого-то сброда, а из людей достойных и благочестивых; за ними стояли исповедники, бичеванные за протест против решений пресловутого собора; им открыто сочувствовали не только многие монахи и игумены, но и некоторые епископы; неявных же сторонников их взглядов, в том числе из знатных лиц, у них было еще больше. Императору, пережившему за годы царствования уже несколько заговоров против своей власти, было чего опасаться.
– Благодарю тебя, господин Иоанн, за все твои услуги и благодеяния нам! – сказал Феодор. – Но жаль, что ты так и не понял неправоты прелюбодейного собора и этим лишил себя тех венцов, которые мог бы стяжать в борьбе за истину Божию. Впрочем, да не лишит тебя Господь той награды, обещанной за чашу холодной воды, поданную во имя ученика!
Иоанн в изумлении посмотрел на Студита.
– Феодор! – воскликнул он. – Вот уже два года я наблюдаю за тобой и не перестаю удивляться… Скажу правду: я восхищался тобой, хоть и не понимал тебя! Из-за такой мелочи пойти на такие лишения!.. Да, я восхищался тобой и даже… не раз испытывал ощущение, что ты действительно победишь, как ты говоришь… Хотя это противно всякой логике!
– «Соглашаюсь, душой несогласный»? – с улыбкой спросил Феодор.
– Да… Да! Несогласный! Ты всегда, с самого начала и до сего дня держался так, будто не ты, а мы являемся осужденными Церковью! Но подумай, ведь и сейчас ты идешь не на свободу, а на новое место ссылки, пусть и ближе к Городу… Неужели ты думаешь, что император с патриархом признают твою правоту?
– Да, господин, пока я и правда иду опять в ссылку, но приближается время, когда не только ты, но и вся вселенная увидит, кто был прав пред Богом. А решения собора, которыми ты прикрываешься, «исчезнут с шумом, и память их погибнет». Что же до императора…
Феодор замолк и, сощурившись, посмотрел вдаль. Они с Иоанном стояли на монастырской пристани, у которой покачивалось небольшое судно, которое должно было доставить Феодора и брата Григория на константинопольский берег. Стратиоты ожидали, пока узник простится с Халкитским игуменом, а случившиеся тут же несколько братий, только что воротившиеся с рыбной ловли, кто с любопытством, кто с жалостью, кто с тайным сочувствием, смотрели на Феодора. Григорий стоял чуть поодаль и прислушивался к прощальному разговору своего игумена с Иоанном. Перед Феодором расстилалась морская гладь, небо было ясным и прозрачным – и так же ясно было в душе узника. Он вновь взглянул на Иоанна и сказал:
– «Видел я нечестивого, превозносящегося и возвышающегося, как кедры ливанские, и прошел мимо, и се, нет его, и поискал его, и не нашлось место его»! Настанет время, и оно уже близко, когда ты, господин Иоанн, вспомнишь эти слова. Прощай!
Поклонившись игумену, Феодор взошел на судно; Григорий тоже простился с Иоанном и последовал за Студитом. Когда они заняли указанные им стратиотами места, Григорий спросил:
– Отче, а откуда это: «Соглашаюсь, душой несогласный»?
– Из «Илиады».
– А!.. Ты и оттуда…
– Да, – ответил игумен. – Я многое помню с молодости… Хотя кое-что предпочел бы забыть.
Халкитский игумен некоторое время смотрел вслед уплывавшему судну, а потом повернулся к своим монахам и сказал чуть раздраженно:
– Что столпились? А ну, быстро на послушание!
Братия вернулись к сетям и рыбе, а Иоанн стал подниматься по дорожке в гору, к монастырю, и тут вспомнил о пергаменте, который вручил ему Феодор «на память», покидая келью, где провел много месяцев. Небольшой лист, свернутый трубочкой, Иоанн так и нес в руке. Он остановился, развернул лист и прочел:
Попутный ветер надувал паруса судна, уносившего Божия странника к очередному месту жительства; остров Халки быстро уменьшался в размерах, и всё ближе сверкал на солнце купол Великой церкви…
И вот, теперь прибывшие к Феодору спафарии, говорили всё те же речи, которые он слышал еще до злополучного собора от монаха Симеона и иных доброжелателей: его призывали уступить, то пугая новой ссылкой, то обещая в случае согласия возвратить игуменство в Студии…
– Напрасно вы трудитесь, господа, – ответил игумен. – Я остаюсь при своем мнении, которое вам хорошо известно. Вы говорите, государь отбывает в военный поход? Что ж… Жаль, что он и сам не хочет раскаяться в своем заблуждении, и других продолжает склонять к тому же. А потому передайте ему: «Не возвратишься тем путем, каким идешь ты ныне»!
Вечером 26 июля четвертого индикта запыленный гонец на взмыленном коне принес в Константинополь новость, потрясшую всех граждан и вызвавшую переполох во дворце: ночью во время сражения с болгарами ромейское войско было разбито, причем враги учинили страшную резню – были убиты несколько знатных патрикиев, стратиг Анатолика, доместик экскувитов, друнгарий виглы, многие архонты фемных отрядов и множество простых стратиотов; часть воинов попала в плен, и лишь немногие смогли спастись бегством. Император Никифор пал, а его сын и соправитель Ставракий был тяжело ранен.
Никифор стал первым со времен Валента императором ромеев, убитым на войне с варварами, – уже одно это наводило на всех ужас и уныние. Константинополь огласился воплями вдов и сирот. А спустя немного времени до столицы дошла еще одна ужасная новость: болгарский хан Крум сделал из черепа убитого императора чашу, оковал серебром и пил из нее со своими военачальниками. И тогда же по Городу распространился с быстротой молнии новый слух – видимо, его источником были те самые спафарии, которых император посылал перед походом на переговоры к Студийскому игумену: Феодор предсказал императору, что тот не вернется с войны – и это будет карой за гонения на студитов!
Монах Симеон, страшно напуганный, каждому встречному говорил:
– Увы нам, увы и горе! Господь покарал нас за гонения на угодников Его! Не будет к нам благоволения Божия, пока длится церковный раскол!
Сам же Феодор, узнав о том, какая судьба постигла императора, перекрестился и сказал:
– Да помилует его Господь и да простит согрешения его за скорбь кончины… Но это – возмездие Божие и урок прелюбодейникам!
13. «Злой недуг»
(Софокл, «Антигона»)
- Нам следует поддерживать законы,
- И женщине не должно уступать.
- Уж лучше мужем буду я повергнут,
- Но слыть не стану женщины рабом.
2 октября пятого индикта рано утром Ставракий был разбужен испуганным шепотом:
– Государь! Государь, проснись!
Ставракий открыл глаза, приподнял голову и увидел перед собою смущенное лицо монаха Симеона.
– Государь, – задыхающимся голосом сказал инок, – я должен тебе сообщить, что… ты уже более не император…
– Как?!
– Только что на ипподроме Синклит и всё войско провозгласили Михаила Рангаве, и сегодня же будет коронация!
– А! – выдохнул Ставракий, откидываясь на подушки. – Предатели! Стефан донес… Сестрица добилась-таки своего! Ну, посмотрим, долго ли она будет наслаждаться порфирой… Но Боже мой!..
Ставракий с трудом повернулся, засунул руку под перину и достал оттуда длинный узкий кинжал с рукояткой из слоновой кости. Симеон охнул и сделал было движение к нему, но Ставракий усмехнулся и проговорил:
– Не бойся, я не для этого… Лучше пойди поскорей, раздобудь мне рясу!
С этими словами Ставракий обрезал себе волосы, отбросил в сторону кинжал и спутанные темные пряди и опять упал на подушки. Симеон всё понял и мгновенно исчез за дверью. А бывший император сжал кулаки, ударил ими несколько раз по ложу и заплакал от злости и бессилия.
В ту ночь, когда император Никифор погиб от рук болгар, его сын был ранен копьем в спину и, едва избежав смерти, с трудом добрался до Адрианополя. Доместик схол Стефан и магистр Феоктист немедленно провозгласили Ставракия самодержцем. Войско присягнуло императору, воодушевленное речью, которую он, морщась от боли в ране и часто останавливаясь передохнуть, сказал перед воинами, обещая исправить несправедливости, сделанные его отцом, выплатить задержанное жалование и уменьшить денежные поборы.
В числе прочих присягнул Ставракию и куропалат Михаил Рангаве, муж его родной сестры Прокопии. Однако друзья Михаила почти сразу предложили ему принять власть, говоря, что Ставракий тяжело ранен и вряд ли выживет, да и к царствованию не способен по причине недалекого ума и скверного характера. Но Михаил не соглашался, ссылаясь на данную императору присягу, и из-за этого у него вышла стычка с женой.
– Трус! – кричала Прокопия. – Ты предпочитаешь служить этому бездарному дурню, моему братцу – чтоб его вороны унесли! – вместо того чтобы взять власть, которую принесли тебе на блюде!
Злые языки передавали, что после этого разговора куропалат не досчитался многих волос в бороде… Но его поддержал доместик схол: Стефан надеялся, что Ставракий еще выживет, и не хотел идти на риск, зная, что Михаил – человек бесхарактерный, а значит, на деле править в Империи будут другие люди.
Между тем у Ставракия отнялись ноги, и в столицу он был доставлен на носилках. Патриарх, посетив его, советовал молиться Богу и поскорей утешить ограбленных покойным императором:
– Ты ведь знаешь, государь, что говорит апостол: «Хвалится милость на суде».
Намек был довольно прозрачен, но Ставракий не торопился утешать обиженных – он еще надеялся остаться в живых.
А Прокопия не теряла времени даром: в первую очередь, она склонила Феоктиста на сторону своего мужа, пообещав «во всем слушаться мудрых советов» магистра. Феоктист, размыслив о выгодах для себя при воцарении Михаила, с которым они были давними и близкими друзьями, причем дружба была неравной – Михаил почти всегда подчинялся суждениям Феоктиста, – не заставил долго себя уговаривать. К тому же он знал о почтении, которое Михаил и его родня питали к сосланному Студийскому игумену, и надеялся, что с восшествием на престол Рангаве, наконец, будет покончено с церковным расколом. Феоктист имел большое влияние при дворе и принялся увещевать синклитиков принять сторону Михаила, из-за чего сильно разругался с доместиком схол.
– Ты хочешь попасть под пяту к этой бабе! – гневно прошипел Стефан, который терпеть не мог заносчивую и властолюбивую Прокопию. – Тупица! Она нас всех сожрет и не подавится!
– Зря ты кипятишься, господин, – посмеиваясь, отвечал Феоктист. – К сестре легче найти подход, чем к братцу… Сам увидишь!
Действительно, император, и без того упрямый и несговорчивый, стал попросту несносен – может быть, от мучений, причиняемых ему раной. Он бранил и Феоктиста, и Стефана, и собственную сестру, которую в конце концов выгнал, повелев больше не впускать к себе, – до него дошли слухи, что Прокопия домогается царства. Тем временем императрица Феофано, жена Ставракия, отчаявшись в его жизни, принялась размышлять о том, как бы ей самой воцариться после его смерти, подобно покойной августе Ирине, хотя была бездетна. Она стала уговаривать мужа распорядиться, чтобы престол остался за ней. Узнав об этом, доместик схол возмутился:
– Ну, нет! «Не дам я женщине собою править!» Лучше уж Михаил с его бабой, чем опять баба на троне единолично!
Император заподозрив неладное, 1 октября призвал Стефана к себе и спросил, как бы устроить так, чтобы Михаил Рангаве из дворца Манганы, где он жил, был приведен в Священный дворец и ослеплен.
– Ибо я окончательно уверился, – сказал Ставракий, – что он злоумышляет против нашей державы.
Доместик возблагодарил Бога, что в покоях императора был полумрак – горел только один светильник, поскольку Ставракий, по своему болезненному состоянию, не выносил яркого света, и даже днем окна были закрыты тяжелыми занавесями. Едва справившись с волнением, Стефан сказал, что в настоящее время желание императора осуществить нельзя: Михаил окружен телохранителями, а дворец у него как крепость, так что лучше выждать до утра. Император согласился, хотя был очень недоволен, и просил доместика никому не говорить о его намерении. Стефан всячески успокоил Ставракия и, выйдя из его покоев, немедленно отправился к патриарху.
Никифор только недавно вернулся к себе из храма Святой Ирины, где служил вечерню. Стефан попросил его отослать келейника и наедине доложил патриарху обстановку во дворце.
– Да, – сказал Никифор, – государь не пожелал исправить ошибки отца, но, видно, готов еще и усугубить их… Увы!
Взгляды доместика схол и патриарха встретились. Стефан улыбнулся одними краями губ и подошел под благословение.
– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков! – тихо произнес патриарх.
Всю ночь доместик собирал войска и архонтов на крытом ипподроме, а утром Синклит собрался во дворце, и Михаил Рангаве был провозглашен императором.
Когда новый василевс вместе с супругой и патриархом пришли к Ставракию, они застали бывшего императора уже в монашеской одежде. Ставракий, хоть и жалобным тоном, разразился упреками в адрес пришедших. Патриарх принялся утешать низложенного василевса, уверяя, что случившееся – следствие того, что все отчаялись в его жизни. Он говорил, что новый император приложит все усилия, чтобы соответствовать высокому званию и поистине быть другом Божиим и отцом для подданных, и постарается разрешить те затруднения, с которыми не успели справиться Ставракий и его отец. Рангаве согласно кивал в такт речи патриарха.
– Государь надеется, – говорил Никифор, – справиться и с церковной смутой…
Тут Ставракий, злобно усмехнувшись, прервал речь патриарха:
– О, да, тут ты не найдешь друга лучше него!
Прокопия поджала губы, метнув в умирающего брата гневный взгляд. Михаил смутился и с беспокойством взглянул на патриарха. Намек Ставракия был понятен, ведь и семейство Рангаве, и магистр Феоктист благоволили к студийским изгнанникам, а значит, прекращение раскола могло обернуться не совсем желательным для святейшего образом…
«Ты не хотел уст упить моему отцу, когда он искал примирить тебя с Феодором, так теперь уступишь этому… да еще как уступишь!» – думал Ставракий, глядя на патриарха. Никифор, однако, никак не отозвался на выпад бывшего василевса. Сказав еще несколько общих фраз, он поспешил откланяться; Михаил и Прокопия тоже не задержались у Ставракия.
Спустя два часа Рангаве был коронован в Великой церкви, и начались обычные по такому случаю торжества, затянувшиеся до позднего вечера. Многие не спали в ту ночь, бодрствовал и монах Симеон. Сидя в своей келье, родственник двух императоров, из которых один доставил язычникам радость пить вино из своего черепа, а другой умирал от раны, всеми брошенный и почти забытый, шепотом читал при светильнике Книгу Екклесиаста, и слезы текли по его щекам, падая на шерстяную мантию: «Есть лукавство, которое видел я под солнцем, и часто оно бывает между людьми: муж, коему даст Бог богатство и имение и славу, и нет для души его лишения ни в чем, чего бы ни вожделел он; но не даст ему Бог власти вкусить от сего, ибо чужой муж вкусит всё сие. И сие суета и злой недуг есть…»
…На другой день после коронации император имел разговор с патриархом.
– Святейший, – сказал Михаил, – меня очень беспокоит церковное разделение, возникшее при прежних государях. Думаю, пора покончить с этой язвой на теле церковном. Надеюсь, вы с господином Феодором найдете общий язык!
– Не знаю, государь, – ответил патриарх. – Это зависит не только от меня.
Через неделю игумен Феодор явился во дворец с избранными из братий, постепенно возвращавшихся из мест ссылки в родную обитель. В Магнавре уже собрались император и высшие сановники, ожидали патриарха. Феодор и братия поклонились василевсу и по его приглашению молча встали на указанное им место. Казалось, их нисколько не смущало, что все собравшиеся буравили их взглядами – изучающими, подозрительными, любопытными, осуждающими, восхищенными… Патриарх, войдя, сразу прошел поприветствовать императора; придворные, в свою очередь, приветствовали главу Константинопольской Церкви. Студиты продолжали стоять, не двигаясь с места. Наконец, патриарх повернулся к ним и встретился взглядом с Феодором.
– Ты знаешь, – сказал император вечером жене, – я смотрел на них и не мог понять… Они оба такие… Подвижники, постники, духом горящие! Какие лица! Я смотрел в их лица… Нет, я не мог понять – почему?!
– Почему они поссорились? – спросила полулежавшая в низком, задрапированном пурпурным шелком кресле Прокопия, лениво потягиваясь. – Власть, дорогой мой! Самолюбие… Ты же знаешь, Феодор должен был стать патриархом, но не вышло, – вот он и хочет теперь заставить Никифора плясать под свою свирель, доказать, что есть и на первосвященника управа похлеще кесаря!
– Ты судишь о других по себе, – поморщился Михаил. – Глупо это… Нет, Феодор не такой! Он стоит за церковный закон…
Да, игумен стоял за каноны – и отступать не собирался.
– Охотно отвечу, трижды августейший, – сказал он, быв спрошен императором о том, каковы условия, на которых он и его сторонники согласны войти в общение с патриархом. – Эконом Иосиф должен быть лишен сана, как и подобает за совершенное им беззаконие. Невинно осужденные должны быть оправданы. Как ты понимаешь, государь, для этого нужен собор, который пересмотрит дело заново – по справедливости и законно.
Игумен обращался к императору, но на самом деле слова его были адресованы патриарху, сидевшему на золоченом кресле на возвышении рядом с Михаилом.
– Святейший, как ты смотришь на это? – спросил император.
Никифор немного помолчал; выражение его лица было суровым.
– Я должен подумать.
14. Бремя тяжкое
(Софокл)
- Когда бы оба вы взялись за ум,
- Я не желал бы ничего иного.
Патриарх сидел за письменным столом в своих покоях и поворачивал в пальцах костяное перо. Перед ним лежал лист пергамента, светлый, хорошей выделки, на котором было написано: «Всесвятейшему и блаженнейшему брату и сослужителю господину Льву, папе старейшего Рима, Никифор, Божиею милостью епископ Константинопольский, радоваться». Патриарх задумчиво смотрел перед собой, взгляд его был печален. Уже давно Никифор никому не мог поверить терзавшие его скорби и сомнения.
«Никто, никто, – думал он, – не знает, что это за иго несносное, что за бремя тяжкое возложено на меня! Феодор отстаивает каноны… Хорошо ему делать это так уверенно – у него в подчинении всего несколько сотен монахов, а не целая Церковь! Ему не надо думать о том, что скажет император, как посмотрит императрица, что подумают синклитики, как обернется то или иное слово… Нет, конечно, надо в какой-то мере, но что́ это по сравнению с тем, о чем вынужден думать я! И теперь он опять требует… Он всегда требовал! Интересно, что было бы, если б он стал патриархом вместо меня?.. Впрочем, что было бы с ним, неизвестно, а вот я избавился бы от многих зол! Господи, на какое служение призвал Ты меня, совсем к нему не способного! Должно быть, это наказание за мои грехи…»
Он обмакнул перо в чернила и написал: «Поистине велик и досточуден и всякой похвалы достоин тот верный и благоразумный раб, который описывается в притчах священных евангельских повествований. Поставленный от господина своего над имением его, он рассудительно управляет…» Да, если кто и мог понять скорбь его души, то разве что поставленный на столь же высокое служение… Да! Папа может понять его и подать совет… Патриарх вздохнул свободнее, и мысль его тоже потекла легче; строчки быстро ложились на пергамент. «Я же оказываюсь не из тех, кто может так управлять и направлять, а из имеющих нужду в руководстве…»
«Если бы патриархом стал Феодор, справился бы он?» – опять подумалось Никифору. Халкитский игумен тогда, в сентябре, приехав в Город, не мог скрыть своего восхищения узником и даже спросил у патриарха, бывают ли святые раскольники… Да, Феодор сумел собрать и воспитать единодушное и мужественное братство – ведь почти никто из его братий не уступил ни угрозам, ни уговорам, не поколебался в ссылках и притеснениях! У патриарха заныло внутри, когда он вспомнил о том, как старательно некоторые епископы и игумены взялись исполнять постановления собора, даже до крови преследуя противников. «Разве могу я сказать, что здесь нет моей вины? – с горечью подумал Никифор. – Разве не прав был Феодор, говоря, что мы действовали недостойно христиан?..» Конечно, будь игумен на месте патриарха, он не уступил бы императору ни на йоту… Но император, скорее всего, и не решился бы требовать у Студита того, что потребовал у Никифора – ведь Феодор не был бы обязан василевсу своим избранием…
«Но поскольку, по соизволению и по попущению Божию, я подклонил себя под иго Его и принял эту службу и обязанности вопреки своему желанию, даже некоторым образом по принуждению, то расскажу обстоятельства моей прежней жизни и до какого положения дошли они…»
Никифор отложил перо и закрыл глаза. Перед его мысленным взором потекли воспоминания. Родившись в Константинополе в начале царствования Константина Исаврийского, он был вынужден, еще не успев окончить школу, отправиться вместе с родителями в ссылку. После смерти отца девятнадцатилетний юноша побудил мать воротиться в столицу, которая всё время жизни в изгнании влекла его к себе неудержимо – блестящий Город, чье великолепие особенно ощущалось по сравнению с провинцией и где остались друзья детства и многочисленные родственники. По возвращении в Константинополь Никифор погрузился в светские науки, наверстывая упущенное за годы ссылки, упражнялся также и в каллиграфии, показав большие способности, и вскоре, по ходатайству родных, был взят на службу писцом в императорскую канцелярию. Как очень многие тогда, он чтил иконы, но в то же время старался «не давать повода ищущим повода», памятуя судьбу отца: Никифору хотелось учиться и жить в столице…
После того как его дядя, протоасикрит Тарасий, под началом которого он служил, неожиданно для него самого и для его многочисленных друзей и учеников, прямо из мирского состояния был избран на патриарший престол, Никифор продолжал служить императорским секретарем. Его любили при дворе. Он отличался немногословием и ясностью мысли, умея излагать главное в кратких словах, и хотя довольно хорошо изучил риторику, витиеватостями в речи не злоупотреблял и вообще вел себя скромно. С воцарением Константина и Ирины иконопочитатели осмелели и стали открыто излагать свои взгляды, и тогда Никифор стяжал известность, обратив довольно многих колеблющихся к православию. После восстановления иконопочитания на Никейском соборе его придворная служба продолжалась вполне безоблачно, пока не грянула смута, связанная со вторым браком императора Константина. Удаление августы Ирины от власти не особенно огорчило Никифора: взрослый сын-император хотел управлять самостоятельно, это было вполне естественно. При возникших сложностях из-за женитьбы василевса на Феодоте Никифор, хотя и не одобрял в душе этого деяния, решил дипломатично молчать и не брал открыто ничью сторону, всецело, впрочем, сочувствуя патриарху, которому пришлось нелегко…
Хотел ли император действительно восстановить иконоборчество в случае отказа признать его второй брак, как он в сердцах пригрозил Тарасию, или это было сказано просто в припадке гнева? Бог знает!.. Патриарх предпочел отнестись к обвенчавшему беззаконный брак Иосифу снисходительно, Никифор поддерживал позицию Тарасия. Но не так считали студиты…
Студиты! Они никогда не отличались излишней дипломатичностью! Как теперь, так и тогда, они требовали, не соглашались уступить, шли на лишения и ссылки… И в итоге добились того, что патриарх не только пошел на уступки, но и принес свои извинения, – впрочем, лишь после того, как император был свергнут с престола своею матерью.
Ослепление Константина произвело тяжелое впечатление на Никифора. Хотя императрица и объясняла случившееся государственной необходимостью, хотя ее сын действительно не проявил больших способностей к управлению, хотя его второй брак вызвал смуту в Церкви и падение нравов среди подданных, но… Никифор хорошо помнил «скверную прелюбодейку» Феодоту. Знала ли эта высокая красавица с волосами цвета опавших листьев, на что шла, когда побуждала императора развестись с Марией и жениться на ней? Предполагала ли она, чем все это кончится?.. Слепой Константин окончил свои дни в отведенном ему особняке, и Феодота преданно ухаживала за ним, а когда он умер, обратила особняк в монастырь и постриглась там. Она назвала его «Обителью покаяния». Никифор несколько раз встречал бывшую августу: в ней почти ничего не осталось от прежней блестящей женщины; теперь это была смиренная инокиня, редко поднимавшая глаза от земли, и только осанка выдавала в ней прежнюю императрицу…
Несчастная судьба императора Константина заставила Никифора по-иному взглянуть на жизнь, чье непостоянство обнаружилось перед асикритом самым наглядным образом. В то самое время, когда Платон и Феодор, по приглашению императрицы Ирины, переселились вместе с саккудионским братством в столицу и заняли Студийский монастырь, Никифор покинул Константинополь – как он думал, навсегда: насколько девятнадцатилетний юноша когда-то рвался из Никеи Вифинской к Царице городов, настолько императорский асикрит теперь стремился прочь от этого величественного и прекрасного, но одновременно надменного и безжалостного Города… И, кажется, годы, проведенные Никифором на суровой горе над Босфором, где только книги и несколько единомудренных мужей были его друзьями, стали самым счастливым временем в его жизни. Никифор предавался службам и келейным молитвословиям, строго постился, в свободное время занимался чтением божественных книг и светскими науками и понемногу готовился принять ангельский образ. Однако стать монахом ему пришлось совсем при других обстоятельствах.
«Но ведь невозможно, чтобы все происходило согласно с нашими намерениями, и бывают случаи, когда господствует необходимость и предприятия получают тот исход, которого хочет Бог. Это именно и случилось со мной. Я не достиг того, что предполагал», – писал патриарх и, рассказав, как волей императора, Синклита и общего церковного собрания он был поставлен на Константинопольскую кафедру, продолжал: «Итак, поскольку я подъял иго сие против желания и принял на себя заботы о душах недостойно – не так, как подобает по благодати, – то я боялся прежде всего разнообразных и хитросплетенных козней изобретателя зла…»
Он опять отложил перо и задумался. Студиты и вся эта история с восстановлением в сане Иосифа воистину были словно посланы ему как дьявольское искушение, с первых же дней патриаршества! И теперь приходилось честно признать, что он не выдержал испытания, как должно. Он вспомнил, как просил игумена Иоанна передать Феодору, что завидует ему… Впоследствии патриарх не раз жалел об этих словах, но в то же время понимал, что желание взять их обратно было плодом самолюбия. Игумен был правее патриарха – по абсолютной мерке. Но по относительной… Как поступил бы Феодор на его месте? Что из этого вышло бы?..
Эти вопросы мучили Никифора неотступно, и он не видел ответа на них. В конце концов, если бы Господу было угодно, чтобы патриарх жестко поставил себя перед императором, не уступая ни в чем требованиям власти, Он мог бы сделать так, чтобы патриархом стал Феодор… Что невозможно Ему? Но Он возвел в это достоинство Никифора, не обладавшего столь непреклонным характером, как Студийский игумен… Не должен ли был Феодор постараться помочь патриарху, вместо того чтобы выискивать сучки в его глазах и поднимать пыль до небес? Чего добился он своим бунтарством? Чего искал он, чего ищет до сих пор? Ждет, чтобы патриарх извинился перед ним, как некогда Тарасий? Что ж, извиниться недолго, игумен много претерпел и пострадал за эти годы… Император, затеявший всё это дело, мертв, и, в общем, можно безболезненно вновь извергнуть Иосифа из сана. Феодор требует собора… «Ожесточился ты, прося», но он прав: чтобы отменить решения того собора, нужен новый собор, всё верно… Но что взамен? Взамен… игумен откажется от обвинений патриарха и послушных ему епископов в ереси!
Никифор поднялся из-за стола и заходил по келье. Нет, всё-таки Феодор далеко зашел! «Прелюбодейная ересь» – так он называл решения собора, состоявшегося три года назад в столице… Патриарх взглянул на икону Спасителя в углу кельи и прошептал:
– Господи! Для того ли Ты свел меня с любезной мне горы и возвел на это служение, к которому я неспособен, на этот престол, которого я недостоин, чтобы в конце концов эти люди ославили меня как еретика, и не какого-нибудь, а «прелюбодейника»?!..
Он снова сел за стол и взялся за перо. Губы его сжались в суровую линию.
«А потом, увидав неприязненность начальства и враждебность ненавистников, я стал замечать коварство и злокозненность тех, кто весьма старательно следит за нашими делами, хорошо или нет обстоящими. Не видя в своих глазах бревен и не желая очищать с них гной, но усердно занимаясь чужими сучками, они ради дел совершенно ничтожных, пустых, не стоящих никакого внимания, нечестиво вооружают свои языки против предстоятелей и отовсюду нападают жестоко и в высшей степени несправедливо…»
Да, несправедливо! Патриарх хмурился всё больше. Пожалуй, студиты еще скажут – да ведь они и говорят, это известно! – что не их надо принимать в Церковь из раскола, а ему, патриарху, и поминающим его епископам, надо через покаяние вернуться в Церковь!.. Если они решили таким образом подражать прежним исповедникам веры, то они слишком много мнят о себе!
Прося у папы братских молитв, Никифор выражал надежду, что папа ободрит и укрепит его, «существо слабое и немощное», на борьбу с невидимыми врагами и подаст совет, как надо поступать, «чтобы успешно и смело противодействовать непокорным и противящимся и усыновить их как чад Церкви…»
Императорское посольство в составе митрополита Синадского Михаила и протоспафариев Феогноста и Арсафия, с посланием от Михаила Рангаве к Карлу Великому и от патриарха Никифора папе Римскому Льву, посетившее Ахен и Рим и принятое там с великой пышностью, вернулось в Константинополь в марте следующего года. Послы везли ответные письма папы Льва и Карла, чей императорский титул теперь, спустя двенадцать лет после коронации, был официально признан ромейским василевсом – в обмен на возвращение Венеции, Истрии и Далмации, подчиненных в последние годы франкам, под власть Империи. Папа советовал патриарху примириться с отколовшимися и постараться всячески уладить отношения с ними, «да не разрывается хитон церковный». Пошла уже пятая седмица Великого поста. После того как послы отчитались перед императором, тот, посовещавшись с ближайшими советниками, призвал к себе патриарха и снова завел разговор о церковном расколе.
– На следующей седмице мы будем праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, и мне бы очень хотелось в этот день видеть игумена Феодора в Великой церкви сослужащим тебе, святейший.
– Вряд ли это удастся сделать так скоро, государь, – ответил патриарх. – Ведь сначала нужно собрать собор. Разве что к Цветоносной неделе можно уладить дело, да и то…
– Что?
– Если Феодор не будет противиться, – мрачно ответил Никифор. – У него ведь тоже есть условия…
…Вечером в Фомино воскресенье в большой гостиной дворца Кириан было оживленно. В гостях у Михаила, который вместе с семейством время Великого поста и Пятидесятницы обычно проводил в столице, были Лев с женой и двумя сыновьями. Новый император не только быстро вернул Льва из ссылки, куда тот попал после заговора, организованного его тестем против прежнего василевса, но и записал его в число своих придворных равдухов, а несколько дней назад возвел в сан патрикия и назначил стратигом Анатолика. Злые языки поговаривали, будто император был неравнодушен к супруге Льва, но тем, кто ближе знал Феодосию и государя, было ясно, что это клевета. Правда, императрица, взбудораженная сплетнями, как говорили, устроила мужу очередной скандал с рукоприкладством и затаила зло на Феодосию… Лев, вернувшись из ссылки, сразу возобновил дружбу с Михаилом, сделав его своим поверенным и приближенным. И вот, друзья праздновали новое назначение Льва перед отъездом в Аморий. Лев рассказывал о своих прежних военных походах против агарян, и маленького Феофила было не оттащить от крестного – мальчик слушал его, раскрыв рот и не отходил ни на шаг, несмотря на то, что дети Льва Симватий и Василий то и дело звали его играть. Феофил присоединился к ним только тогда, когда Михаил завел речь о придворных интригах и церковных делах.
– Дивлюсь я на наших честных отцов, – усмехался Михаил, – то собирают соборы, пишут письма, анафематят друг друга, обвиняют в ереси, пыль столбом… А потом – раз! – и вот уже все помирились, целуются, хвалят друг друга… А виноват-то кто? Покойник император, конечно!
– А что ж? – сказал Лев, – Его вина тут действительно была самая большая. Не он ли всё это затеял – восстановление Иосифа, собор? Студий разогнал… Не умно!
– Слава Богу, теперь всё утихомирилось! – сказала Фекла.
– А всё-таки студиты это сила! – задумчиво произнесла Феодосия. – Подумать только, ведь они добились отмены соборных решений, господин Иосиф опять на Солунской кафедре… Вот что значит твердость духа!
– Сила, сила! – проворчал Михаил. – От таких упертых только одни беды! Чем им эконом помешал, спрашивается? Прямо там, преступника нашли… Умный человек, большую службу сослужил государству, а они заладили свое: «прелюбодейник»!
– Фарисеи они, эти монахи! – проворчал Лев. – Но император всё же совершил глупость. Надо было действовать не так прямолинейно.
– Легко тебе судить со стороны! – усмехнулся Михаил. – Вот посмотрим, как ты сам будешь управляться с преподобнейшими отцами, когда время придет!
– Я?.. – Лев удивленно взглянул на друга. – Чего это вдруг? Шуточки у тебя…
– А ты забыл, что сказал Вардану монах из Филомилия?
– Монах из Филомилия? – Лев наморщил лоб.
В его уме не сразу всплыло то давнее пророчество, о котором он и не вспоминал все эти годы. Лев чуть насмешливо поглядел на Михаила:
– Ты что, действительно поверил болтовне этого черноризца? Я уж и забыл давно про это, насилу припомнил!
– Ах, Лев, какой же ты замечательный! – воскликнула Фекла. – А Михаил… Если б ты знал! Он постоянно вспоминает об этом! Кажется, этот монах скоро будет мне сниться в страшных снах!
– Что, правда, что ли? – Лев переводил изумленный взгляд с Феклы на ее мужа и обратно.
– Зря вы глумитесь, – сказал Михаил. – Вот увидите, всё сбудется! Ты подумай, дружище, ведь мятеж Турка провалился? Провалился! А теперь вспомни: когда Вардан уходил от монаха, на нем лица не было. Что это могло означать? Что отшельник ему и предсказал провал мятежа! Так оно и вышло! Вардан нам не рассказал тогда, что отшельник напророчил ему, а только про нас передал, но думаю, пророчество было верным. А потому от пурпурной обувки никому из нас не уйти, вот увидите!
15. Когда восходит Пес
(Осип Мандельштам)
- Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
- И верещанье звезд щекочет слабый слух…
Майское солнце пробивалось сквозь переплетения виноградных лоз, зажигая яркой зеленью листья и вычерчивая на земле причудливую резную тень. Треск кузнечиков сливался с гудением пчел, аромат роз спорил с запахом свежескошенной травы, с ближнего поля слышалось мычание коров, а со стороны курятника – веселое квохтание. Под эти звуки, радовавшие его больше, чем иного аристократа благовония и звон кифары, седовласый, но все еще статный и крепкий селянин в белой рубахе до колен, подпоясанный веревкой, опершись на толстую суковатую палку, с важным видом говорил:
– И вот, слышь, как лето придет, он сказал, так священники, значится, все передерутся, и чума будет…
– Святый Боже! – воскликнула невысокая сухонькая женщина, испуганно возводя к небу темные, как маслины, глаза. – Да правда ли? Откуда ему известно?
– А вот, говорит, Пес ему так открыл! Говорит, ежели Пес восходит в Скорпионе, то всего этого, значится, и ожидать следует…
Панкратий был зажиточным земледельцем: он имел две пары волов, полсотни овец, большой виноградник и сад, взятое в аренду пшеничное поле, множество кур и гусей, всегда исправно платил налоги, и семья его никогда не голодала зимой; они даже частенько помогали бедным соседям. Но более всего питало тщеславие Панкратия то, что он умел читать, и известный в этих краях астролог, промышлявший составлением гороскопов для новорожденных детей суеверных богатых землевладельцев, проезжая иногда через их село, останавливался в его доме и удостаивал хозяина «ученой беседы». Беседы эти заключались преимущественно в том, что астролог, разгорячившись не то от пророческого экстаза, не то от выпитого вина – а вина в погребах у Панкратия всегда находились, и очень неплохие, – изрекал свои прогнозы, тыкая узловатым пальцем в разложенную на столе ветхую карту звездного неба и разглагольствуя про какие-то «дома», а Панкратий с умным видом поглаживал бороду, кивал и время от времени изрекал одобрительное «угу» или восхищенное «ого». После такой беседы Панкратий обычно преисполнялся чувства собственного достоинства, выпивал пару чаш вина и шел пугать свою набожную супругу. Феофания, как большинство селянок, была неграмотна и очень уважала и трепетала своего «ученого» мужа, почти с благоговением слушая пересказываемые им астрологические прогнозы, словно это было чтение Священного Писания за литургией.
И вот, этим теплым майским вечером, Панкратий, проводив астролога до калитки, подозвал жену, поливавшую в саду привитые виноградные лозы и яблони – в это время года их надо было поливать ежедневно, – и стал пересказывать ей очередные предречения звезд.
– Ох, беда-то какая, ежели чума! Не дай, Господи!
Феофания испуганно перекрестилась.
– Ежели звезды глаголют так… – начал Панкратий и умолк.
Он увидел с любопытством смотревшие на него из-за увитой плющом изгороди два синих глаза.
– Это кто тут к нам пожаловал? – Панкратий подошел к калитке и отворил ее. – Ну, заходи, милая, гостьей будешь.
В калитку вошла девочка лет восьми, стройная, немного худощавая, одетая в легкую шелковую тунику персикового цвета. Ее темно-каштановые с золотистым отливом волосы растрепались и кудрями падали на плечи, большие глаза цвета лазурита внимательно смотрели на Панкратия.
– Ты чья такая будешь? Не господская ли дочка?
Девочка молчала.
– Ты из того большого дома на холме? – спросила Феофания.
– Да.
– Ну, так и есть, господская! Да как ты сюда пришла одна? От ведь хватятся тебя!
– Не хватятся, – девочка улыбнулась. – Сейчас там все спят после обеда, и няньки тоже заснули.
– А ты и сбёгла? – Феофания всплеснула руками. – Еще такая малёхонькая, а гуляешь одна! Не страшно?
– Я не боюсь! Тут же люди везде.
– Людей-то пуще всего и надо бояться! – учительным тоном сказал Панкратий.
– Почему? – девочка удивленно взмахнула ресницами.
– Лукавый искушает, – вздохнула Феофания. – А ты, доча, такая хорошенькая! Тебе надо осторожнее с людями-то… С мужиками-то в особь…
– Да, мужчины любят красивых, я читала… Они из-за красоты даже войны затевать могут!
– Из-за красоты иной и глотку перережет! – сказал Панкратий.
– Бог с тобой! – испуганно замахала на него Феофания. – Ребенка напужаешь! Еще влетит от госпожи-то!
– Ты читать умеешь? Такая маленькая? – недоверчиво глядел Панкратий на девочку.
– Я не маленькая, – надулась она. – Мне уже девятый год. И меня уже четыре года учителя учат. Я взрослая! Читать могу и считать! Мы уже всего Гомера прочитали!
– Гоме-ера!.. – выдохнул Панкратий.
Это имя было для него почти священным: он знал, что Гомера читают образованные господа, – а значит, это нечто великое, недоступное простым смертным вроде него. Но что такая маленькая девочка уже прочла всего Гомера – это было совсем непостижимо.
– А как звать-то тебя? – спросила Феофания.
Она понятия не имела о Гомере и потому не была так потрясена, как муж.
– Кассия.
– Вишь! – сказал Панкратий. – Имя-то какое… тонкое! Чисто господское!
– Дык, они ж и есть господа, – сказала Феофания, – не чета нам, убогим… Господин-то Василий при дворе служит! Царя видит каженный день! Энто тебе не овец доить!
– Кто такой Пес? – спросила Кассия.
Панкратий приосанился. Хоть и господская дочка, и всего Гомера прочла, а всё-таки есть же вещи, которые она не знает, а он, простой земледелец, знает! Вот, что значит водиться с такими учеными людьми как астролог!..
– Это, дитя, звезда такая. Из созвездия Большого Пса. Ты знаешь, что такое созвездие?
– Знаю.
– Во. Пес восходит двадцатого июля, и восходит он, значится, в разных созвездиях, а от этого, значится, зависит, что у нас тут случится…
– Почему зависит?
– Ну… звезды… они нарочно для того служат, чтобы будущее предсказывать.
– Как они могут знать будущее? Ведь они не живые!
– Они… они встают так или этак… А будущее по ним предсказывают умные люди, которые, значится, понимают… Астрологи называются!
– А кто их этому научил, астрологов, – понимать по звездам?
– Ну… – Панкратий не находил, что сказать.
– Будущее только Бог знает! – упрямо сказала Кассия. – А все эти звезды… это… – она остановилась, вспоминая слово, которым отец называл астрологию, – суеверия! Вот.
– Да как это?! – воскликнул Панкратий. – Как же, милая, суеверия, ежели наш тутошний астролог в том году предрек, что у нас новый император будет? А Никифор-то государь как пошел на войну, так и не вернулся!
– Да какие еще страсти-то про него сказывают, – добавила Феофания, – будто болгарин-то энтот, Крум, из его головы себе чашу сделал и пил из ней, нехристь поганая! – она опять испуганно перекрестилась.
Девочка задумалась.
– Это совпадение, – сказала она, помолчав. – Совпало, вот вы и запомнили. А если б он прорек что-нибудь, а оно бы не исполнилось, то забылось бы, и всё.
– А и то! – оживилась Феофания. – Помнишь, Панкрат, энтот твой астролог сказывал в позапрошло лето, что будет недород? А у нас зерном-то все амбары были завалены… Значится, не всё сбывается… Може, и права девчушка-то? Може, и чумы никакой не будет?..
– Ты скажешь! – возмутился Панкратий.
Угрозу авторитету астролога он воспринимал как личное оскорбление – как это он, Панкратий, мог бы дружить с пустыми людьми и рассказчиками басен?!
– Может, Господь суд Свой отменил, по милости, а так бы и голод был, и всё, что хошь… Как с этой, как ее… Ниневией! Во!
Кассия опять задумалась.
– Если через звезды Господь указывает, то это может быть, – сказала она. – Вот как Рождество Христово было звездой указано… А если звезды сами по себе, то не могут они знать ничего!
– Так оно конечно, Господь! – сказала Феофания. – Куды ж без Господа-то?
– Ну, вот и славно! – обрадовался Панкратий: авторитет астролога удалось сохранить, и при этом вышло еще так благочестиво. – А ты, милая, коли зашла, так пойдем в дом, мы тебя молоком напоим, с лепешками!
Сидя на высоком табурете за столом, на котором стояло блюдо со свежеиспеченными лепешками, огромный глиняный кувшин молока и несколько стаканов и тарелок из красной глины, украшенных зелеными полосками, Кассия разговорилась. Панкратий с Феофанией и трое их малолетних внуков, с любопытством таращившихся на гостью из-за плетеной соломенной занавески, закрывавшей проход в соседнюю комнату, узнали, что Кассия с матерью и сестрой уже неделю живут в своем загородном доме и проживут, видимо, до конца лета… Как сестричка? Хорошо, растет, разговаривает много, веселая…
Рождение второй дочери, появившейся на свет через три года после Кассии, произвело небольшой переполох среди их родственников. Семейный врач развел руками, улыбнулся и сказал: «Хотел бы я знать, как вы это делаете…» – после рождения Кассии он говорил, что такое чудо вряд ли еще раз повторится, а никаких лечебных настоек Марфа не пила. Девочку назвали Евфрасией.
– Вот и славно, вот и слава Господу, что растет! – воскликнула Феофания. – А у нас тут разговоров было!.. Даже отец Нил раз на праздник-то Захарии праведного с Елисаветою, в проповеди и говорит: грешные мы, не веруем, не молимся, вот и не получаем ничего, а кто молится, тем Господь дает! Вона, говорит, господину-то Василию с госпожою Марфой уж второе дитя дарствовал, а долго как не было у них! Се, говорит, вера, она и горы движет! Так и сказал! Помнишь, Панкрат?
– Как не помнить, по-омню! Вишь, дитя, твои родители как, уж и в проповедь попали! Пример нам, грешным! Вот и ты с них пример бери! По молитвам-то Господь и подает, по вере…
Кассия слушала, ела лепешки. А Панкратий продолжал расспрашивать. Папа? Он приезжает навещать их, но не может надолго отлучаться из Города, потому что служит во дворце. Дворец? Да, Кассия много раз видела его, они гуляли мимо с мамой и с папой… Нет, внутри она не была, но папа рассказывал о том, как там всё устроено – очень красиво, много мрамора, золота, драгоценных мозаик, тканей, украшений… Государь? Его она видела только издали, во время службы в Великой церкви и еще на крестном ходе… Святая София? О, это очень, очень красивый храм, ужасно большой, как небо! Они живут недалеко и часто бывают там…
Часа через полтора Панкратий провожал Кассию домой. Они шли мимо огородов и виноградников, и Панкратий с важным видом объяснял:
– Вот, виноград выращивать – это штука не такая простая. Это не то, что ткнул в любое место, и он вырастет и вкусный будет. Не-ет, тут наука! До того, как сажать, надо, значится, перво-наперво узнать, какое вино даст земля. Потому как не всякая земля дает хорошее вино. И вот, значится, как это определить, что она дает? Тут наука! Сначала, значится, роешь яму глубиной… ну, фута этак два… Берешь оттудова комок земли и бросаешь его в кувшин с водой, в стеклянный… Взбалтываешь… А, забыл еще, важно что! Вода должна быть чистая, самая что ни на есть прозрачная… Дождевая должна быть вода. И вот, значится, болтаешь ты этот кувшин, чтоб замутилась вода-то. И ставишь на стол или там куда… В общем, оставляешь, пока, значится, не отстоится. Глядишь ее на свет, воду-то, кувшин-то этот, и вот, ежели видишь, что вода совсем прозрачная стала, значится, отстоялась. Можно пробовать! И вот, отпиваешь, значится, эту воду. И какой у ней вкус, такое и вино на этой земле уродится! Ежели, к примеру, вода дурно пахнет, или горькая, соленая, или привкус какой нехороший… значится, ни в коем разе виноград сажать нельзя. А вот ежели вода выходит вкусная, сладкая, ароматная, – смело засевай! Я так вот всю жисть делаю, и вино у меня!.. По всей округе славится!.. Да вот, хоть ты, дочка, можешь у родителей твоих спросить – даже в столице, говорят, такое вино не на каждом столе бывает! А все почему? Нау-ука!.. С головой все надо делать, а не так, что саженец воткнул – и тут тебе сразу и вина полные погреба…
Кассия шла молча, внимательно вслушиваясь в напевную речь селянина. Чудно́ как говорит, не так, как у них в доме…
Прилетевшая с поля большая золотистая бабочка на миг села Кассии на макушку. Она так красиво смотрелась на темных волосах девочки, что Панкратий загляделся. Кассия встряхнула головой, и бабочка взлетела, покружилась над ней и полетела вперед. Девочка провожала ее глазами.
– Наверное, это здорово – летать! – сказала она задумчиво. – Жаль, что люди не умеют…
– Э-э, дитя, люди-то умеют много чего другого, – сказал Панкратий, – чего не умеют бабочки! Не тужи! Эта бабочка всяко не такая красивая, как ты, дитя! Дай Бог тебе вырасти на радость родителям… и мужу будущему!
– Мужу? – Кассия посмотрела на спутника.
– А то ж! Вырастешь, выйдешь замуж…
– Зачем?
– Как – зачем?! – Панкратий даже остановился и почесал в затылке. – Потому что так все девицы делают… О муже чтоб заботиться, детей выращивать… Как твои мама с папой вот!
– Да, они хорошие. Они самые лучшие!.. Но я еще подумаю, – сказала Кассия серь езно.
Панкратий хитровато улыбнулся.
– Думай, дитя, думай… Учись… Ты еще малень… юная совсем. А вот подрастешь… У нас вона тут соседи, сын у них в монахи ушел… Дай, Господи, памяти… Да уж годов этак пять прошло… Вона как! Быстро время-то идет… Ушел, значится, в монахи, а моя дочь меньшая давай тож – и я, мол, хочу Богу угодить! Я ей говорю: на всяком, говорю, месте, Ему угодить-то можно, а из тебя – какая монашка, смех один… Куда! Заладила: хочу и хочу! Мать в слезы – любит она ее очень, меньшую-то. Хошь и Богу, а отдавать-то жалко… Ну, что делать? Стали, значится, ей жениха искать. В соседнем селе и нашли, из семьи крепкой, работящей… Малец-то видный, загляденье… Пригласили, значится, в гости… И как она, дочка-то, с ним спозналась, так и всё, про монастырь ни гу-гу! Скоро и свадьбу справили. Уж четвертый год живут, дитёв двое, славно! Вона как оно бывает! Вот и ты подрастешь, да как встретишь жениха, так и думать не будешь, там уж всё по-другому будет… Эх, дитя, дитя!
– Как же не думать? – удивилась Кассия. – Ум исчезнет?
– Эка ты сказала! А и впрямь – исчезает он от любви-то, да…
– Но это разве хорошо? Зачем мне быть без ума?
– Это, дитя, другое… Это не то, чтобы совсем без ума, а… другое там… Э, да что! Вырастешь, так узнаешь!
– Ну, всё, вот уже наш сад начинается, – сказала Кассия. – Дальше я сама пойду. Благодарствуйте!
Она слегка поклонилась Панкратию и, пройдя несколько шагов вдоль живой изгороди, нырнула в проход между кустами и вмиг оказалась на той стороне. Обернулась, помахала Панкратию рукой и стала подниматься к большому двухэтажному дому, стоявшему на вершине холма.
Панкратий смотрел ей вслед, поглаживая седеющую бороду.
– Касси-ия! – проговорил он напевно. – Бывает же… Всего Гомера!.. Дает же Бог людям ума!.. Не чета нам, убогим… Да хранит тебя Господь, прекрасное дитя!
…Невысокий худощавый юноша стоял на крыше дома и, запрокинув голову, смотрел сквозь осколок темного стекла на солнце, уже больше чем наполовину закрытое черным диском, который неумолимо захватывал все новые и новые кусочки света, и они словно исчезали в бездонной дыре. Внизу, на улицах, толпился народ самого разнообразного толка – от сановников и купцов до уличных торговцев и нищих.
– Исчезает! Исчезает! Скоро совсем закроется!
– Господи, помилуй нас, грешных!
«Интересно, – думал юноша, – какова тут закономерность? Ведь наверняка не случайно это происходит…»
Лев впервые наблюдал полное солнечное затмение. Он испытывал не страх перед грозным на вид явлением, но жгучий интерес, который вызывало у него вообще устройство видимого мира и его законы. Окружающий мир был полон тайн, но Лев был уверен, что к ним можно было подобрать ключ. Ведь как-то всё это устроено…
От солнца остался узкий сияющий серп. Над Городом повис полумрак; стало прохладно и неуютно.
– А-а! – раздался внизу истошный женский крик.
Юноша передернул плечами. Бедные люди, не понимают, что всё это легко объяснимо: просто луна закрыла солнце… Впрочем, он знал причину затмений только в общих чертах. Его интересовала периодичность, возможность предсказаний, и он знал, что нужно читать об этом у Птолемея, но пока ему так и не удалось даже подержать в руках книгу знаменитого ученого. И вот еще теперь… Как же всё неудачно вышло!
Льву на днях должно было исполниться шестнадцать. Окончив начальную школу, он прошел курс грамматики, стихосложения и риторики, и ему хотелось учиться дальше – математике, физике, астрономии, – но с учителями дело обстояло плохо. Хороших было мало, и они просили за уроки больших денег, а те, чьи уроки Лев мог оплатить, не удовлетворяли его. Последний его учитель, человек уже преклонных лет, прямо сказал Льву, что не может соответствовать его запросам, и что ему лучше найти себе более сведущего преподавателя или заняться самообразованием. Но для последнего нужны были книги, а денег на их покупку у Льва не было. Они с матерью с трудом сводили концы с концами. Отец погиб на войне, когда мальчику пошел только второй год; мать была очень нелюдима, ни с какими родственниками, кроме троюродной сестры и ее семейства, а также своего дяди со стороны матери, не общалась. Значит, нужно было искать преподавателя. Старик-учитель сказал Льву:
– Я не знаю, кто подошел бы тебе лучше, чем Иоанн Грамматик. Да вот только трудно тебе будет добраться до него, сынок. Он ведь из придворного монастыря, птица высокого полета. Да я слышал, и рода не безвестного, из Морохорзамиев… Но главное – горд очень, вряд ли будет учить просто так, а только если сам какой интерес тут возымеет…
Лев вздрогнул от удивления: Грамматик был из того же рода, что и его мать! Конечно, Лев слышал об Иоанне не раз, но даже и не думал об учебе у него: вряд ли этот ученый муж снизошел бы до безвестного и бедного юнца. Но вот если они родня, то… В тот же день Лев заговорил об этом с матерью. На вопрос юноши, не приходится ли ей родственником ученый грамматик Иоанн Морохорзамий, она ответила после краткого молчания, сильно побледнев:
– Это мой троюродный брат.
– Вот это да! Почему ты раньше мне об этом никогда не говорила? О, как замечательно! Значит, я смогу попросить его быть моим учителем!
– Нет, нет, Лев, только не это! – воскликнула мать, изменившись в лице. – Только не учеба у этого человека!
– Но почему, мама? – растерянно спросил Лев. – Ведь он один из самых ученых людей в Городе! И у него, говорят, есть доступ к патриаршей библиотеке, где столько книг… Разве ты не знаешь, что я ищу человека, который мог бы научить меня высшим наукам?
Мать смотрела на него скорбно. Помолчав, она тихо сказала, взяв сына за руку:
– Лев, я тебя прошу. Ради памяти покойного отца. Ради меня. Обещай мне, что ты никогда не будешь учиться у этого человека! Нет, не спрашивай меня ни о чем. Тебе лучше не знать, почему… Но поверь мне, поверь, этот человек ужасен! Да, он мой брат… к сожалению… Обещай мне, что ты никогда не будешь учиться у него! Обещай!
– Но, мама, – ошарашено сказал юноша, – я, конечно, не знаю, может, он и не очень хороший человек… Но ведь я буду учиться наукам, а не нравам… Если он станет склонять меня к каким-то порокам, я тут же брошу учебу у него, клянусь тебе! Но я не слышал про него ничего такого! Напротив, все его хвалят, я столько про него слышал, говорят, что он по жизни аскет и очень умен…
– Да, он очень умен. Но лучше б он таким не был.
– Но, мама!..
– Лев, мальчик мой, я тебя умоляю! Что угодно, только не учеба у этого человека! Погоди…
Она поднялась, быстро зашла за ширму, где стояла ее кровать, и принесла небольшой ларец из дерева, с резным узором из птиц и листьев. Сняв с шеи маленький ключик на веревке, она открыла ларец. Лев увидел там несколько золотых колец, большие тяжелые серьги, тонкой работы ожерелье, браслеты со вставками из красных камней… Гранатов? Лев сразу понял, что все эти вещи очень дорогие. Он взглянул на мать удивленно и вопросительно.
– Вот, это всё, что осталось у меня в память о твоем отце, Лев. Я никогда не надевала их с тех пор, как он погиб… Но и расстаться с ними не могла. Но теперь… я продам их, и пусть эти деньги помогут тебе получить образование! Поезжай на Андрос, сынок! Там живет мой двоюродный дядя. Он монах, уже старец, игумен монастыря, очень умный… В свое время он изучил много наук, до монашества преподавал тут в Городе, в монастыре у него большая библиотека… Мы с ним переписываемся изредка. И потом, у него есть знакомые ученые монахи, и он подскажет тебе, где можно найти книги… Поезжай, Лев! Только не ходи к Иоанну, нет, не надо!
Юноша молчал, пораженный. Значит, в прошлом между его матерью и ее братом что-то произошло? Или, быть может, мать знала про дядю нечто такое, чего больше никто не знал… Как бы то ни было, Льву пришлось пообещать матери не ходить учиться к Иоанну Грамматику. Фамильные драгоценности были проданы на другой же день. Аргиропрат с подозрением посмотрел на бедно одетую женщину, принесшую на продажу такие вещи, и, взвешивая и осматривая украшения, раздумывал о том, не надо ли донести эпарху, – а вдруг краденое? Потом неприятностей не оберешься… Но что-то в лице вдовы внушило ему доверие, и он, не задавая лишних вопросов, отвесил ей горку золотых номисм.
И вот, Лев готовился к отъезду на Андрос. Уже были куплены в дорогу необходимые вещи, мать написала письмо дяде-игумену, и сегодня юноша должен был пойти в порт и узнать, когда отходит нужное судно. Но случившееся затмение смешало планы. Народ всполошился и вывалил на улицы, побросав дела, а Лев полез на крышу дома, где они с матерью снимали комнату, и наблюдал величественную и жутковатую картину.
Темный диск полностью закрыл великое светило, так что только серебристая корона сияла вокруг пугающей черноты. Наступил мрак, и Лев увидел звезды, ясно обозначившиеся в потемневшем небе. У него захватило дух, и он улегся на теплую еще крышу, заложил руки за голову и предался созерцанию. На улицах между тем раздались крики ужаса. Но вскоре в небе вновь появился узкий сияющий серп, и словно огромное кольцо засверкало в вышине. Сияние быстро увеличивалось, исчезли звезды, сумрак начал отступать – всё повторялось в обратном порядке. Народ облегченно вздыхал, многие крестились. Какой-то спор внизу на улице привлек внимание Льва, и он, переместившись ближе к краю крыши, сел и прислушался к крикам. Граждане, убедившись в том, что солнце не погасло и небо не столкнулось с землей, обратились к текущим делам, пытаясь связать их с небесными знамениями.
– А я вам говорю: это всё потому, что потакают этим проклятым афинганам и павликианам, чтоб им пусто было! Господь гневается, вон и знамения посылает! И ведь государь начал их казнить, так нет, отговорили, чтоб им пусто было! А всё этот логофетишка дрянной, чтоб ему пусто было!
– Ну, ты и разошелся, господин, хе-хе! Логофет-то все ж пока он, а не ты! А то, поди ж ты, тебя вот не взяли в Синклит да в государевы советники, хе-хе!
– Да ты помолчи уж о Синклите! Нешто там все умные заседают? У кого деньги и знакомства, те там и заседают, чтоб им пусто было!
– И то! А ума у них, может, и с чернильный орех нет!
– Ха-ха-ха!
– Чего ржешь, дурак!
– А я вам говорю, что гнев Божий!
– Гнев-то гнев, да только на что? Может, не что павликиан не казнят, а наоборот, что казнить их стали?
– Вот-вот, и то! Я слыхал, что логофет не сам собой воспротивился казням, а так сказал отец Феодор, Студийский игумен, исповедник великий!
– Смутьян он великий, а не исповедник! Все б такие были исповедники, так у нас бы в государстве уже было бы действительно пусто!
– Не клевещи на святого! Он Божий человек, не чета вам! Вы только языком болтать можете, а он за правду сколько претерпел! Ты бы столько пострадал, так тоже был бы против казней! А то сегодня одних, завтра других… Господина-то Феодора тоже считали преступником, а теперь и государь его чтит, советы его слушает!
– Молчи, баба!
– Баба-то баба, но иной раз может поумнее мужа высказаться, хе-хе!
– Это кто тут такой умный нашелся, а?! А ну, как я сейчас твой череп вскрою, поглядеть, много ли там мозгов!
– Ш-ш-ш, вон эпарх едет с отрядом! Сейчас заметут вас, болтуны!
Спорщиков словно ветром сдуло. Верхом на пегом коне в сопровождении стратиотов проехал эпарх Константинополя, строго поглядывая по сторонам. Стратиоты имели нарочито лихой вид, стараясь показать, что им, в отличие от простого народа, никакие затмения не страшны. Улица пустела. Солнце снова начинало печь голову. Лев вздохнул и направился к спуску с крыши.
– Ну, что там? – спросила мать из-за ширмы, когда он вернулся.
Каллиста с утра лежала с приступом сильной головной боли.
– Да всё хорошо, мама! Солнце опять светит!
– Слава Богу!
Лев задумался. Павликиане, афингане… Император Михаил, по внушению патриарха и некоторых синклитиков, объявил этим еретикам смертную казнь. Решение поддержали и многие епископы, особенно в восточных провинциях, где павликиан было очень много. Но вскоре по этому вопросу возникли прения и в Синклите, и в патриарших палатах. С особенной силой против казни инакомыслящих выступали игумен Феодор и находившийся под его духовным руководством логофет Феоктист. Феодор сумел убедить патриарха; говорили, что он встречался и с императором, а логофет со своими сторонниками действовал в Синклите. Вспоминали Евангелие, слова Христа, что «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать»; вспоминали Дионисия Ареопагита и историю со святым Карпом; вспоминали Златоуста, который грозил христианам Божиим гневом и истреблением, если они вздумают убивать еретиков. Кажется, этот последний довод более всего устрашил императора – ведь болгары продолжали опустошать приграничные области Империи, и Крум, как было слышно, расхрабрившись от недавних побед над ромейским оружием, собирался двинуться вглубь Фракии и далее к Царствущему Городу…
Текущие новости Лев узнавал или от друзей, или на рынке, или в Книжном портике, куда часто заходил смотреть в лавках рукописи, на покупку которых у него не было денег. Позиция Студийского игумена была юноше более близка. Он даже не раз собирался дойти до Студия в какой-нибудь из праздников, чтобы побывать на службе и посмотреть на знаменитого исповедника, а может быть, и получить от него благословение, но так и не собрался. Теперь Льва ждал неизвестный Андрос, новые места, новые люди, а главное – долгожданный учитель философии и книги, книги! Скорей бы!.. Правда, боязно оставлять мать одну… Впрочем, ее сестра будет наведываться… И ведь он же не навсегда уезжает. Даст Бог, еще свидятся!
16. Кольца змеи
Вы относитесь к врагам с полнейшим презрением, как будто они уже окончательно побеждены; я же полагаю, что благодаря такой вашей уверенности мы подвергаемся несомненной опасности…
(Прокопий Кесарийский)
В субботу, на память святых Варфоломея и Варнавы, патриарх служил литургию в храме Апостолов. Храм был переполнен, народ толпился даже на улице, но мысли большинства собравшихся были заняты не праздником, а тем, что происходило во Фракии. После взятия болгарами Месемврии Город уже полгода бурлил, почти не переставая, то глуше, то сильнее, словно огромный котел, и пар вот-вот мог поднять крышку и вырваться наружу. Всё чаще там и сям слышались порицания в адрес императора и особенно императрицы, наглее становились торговцы, мрачнее смотрели рыбаки и каменщики, купцы кидали друг на друга обеспокоенные взгляды, придворные уже не так спесиво вышагивали по мостовым, знатные женщины опасались выходить на улицу без свиты из нескольких слуг, монахи больше не встречали в народе того почтения, к которому привыкли за прошедшие два десятилетия, – и всё чаще на улицах поминали «Константина, победителя болгар». Столица походила на натянутую струну, готовую вот-вот порваться. И над всем этим витал страх – почти непреодолимый, животный – страх перед потерей родных, разорением, осадой, голодом… И вот, люди собрались в храм не просто помолиться апостолам, но молить Бога о милости для державы – на литии прозвучали прошения о победе ромейского оружия, о мире, о благопоспешении благочестивому императору. Но всё это уже не умиротворяло душу, как прежде, не ободряло, не вселяло надежды. Угрюмое беспокойство читалось на лицах. Молились все, но по-разному: кто искренно, кто по привычке, кто с жаром, кто с тоской в глазах, кто сосредоточенно, кто рассеянно, кто надеясь, кто ропща…
Из-за страшной давки никто не замечал, как несколько человек уже долгое время возились у дверей в Юстинианову усыпальницу. Убого одетых, их можно было бы принять за обычных нищих, если бы не выправка, – за спиной этих бедняков, несомненно, была служба в войсках. Об их прошлом говорило и то, как слаженно они действовали, обмениваясь чуть заметными знаками и быстрыми взглядами. Теснившиеся рядом богомольцы ничего не замечали, а между тем ворота в усыпальницу уже были сняты с петель, и шестеро держали их, не спуская глаз с седьмого, высокого угрюмого армянина, который внимательно прислушивался к ходу богослужения.
И вот, с хоров послышалось медленное, прекрасное и торжественное:
– Херувимов тайно образующе…
Разговоры быстро стали стихать, переходя в шепот, и вскоре в храме настала почти полная тишина – казалось, он вдруг опустел. Когда певчие допевали «всякое ныне житейское», армянин чуть заметно кивнул, – и тут же все семеро с силой налегли на врата, и они со страшным грохотом упали внутрь усыпальницы. Взломщики, громко топоча, пробежали по створкам и устремились к высокому зеленому саркофагу, украшенному барельефами с изображением битв и военных трофеев. Припав к нему они хором завопили, так что услышали все собравшиеся в церкви:
– Восстань и помоги погибающему государству!
И тут же армянин громко закричал:
– Вот он! Смотрите! Великий Константин! Он восстал из гроба и пошел на болгар!
В храме поднялось неописуемое смятение. Стоявшие рядом с усыпальницей устремились туда, окружив саркофаг и виновников шума, которые продолжали выкрикивать:
– Великий Константин, победитель болгар! Непобедимый вождь! Он поможет нам! Он избавит нас от врагов! Он избавит нас от идольского нечестия! Да будут выкопаны кости икон!
Находившиеся в других концах храма пытались пробраться ближе и увидеть, что происходит; давка еще более усилилась, раздались крики – кого-то придавили; женщины свешивались с галерей, там и сям поднялся детский плач…
Умолкшие было певчие попытались продолжить «Херувимскую», но выходило нестройно. Патриарх в алтаре едва сдержал духовенство, рвавшееся взглянуть, что происходит, однако несколько свещеносцев и диаконов все-таки выбежали на солею.
– Дорогу, дорогу!
Эпарх с отрядом стратиотов сквозь толпу пробирался к усыпальнице. Взломщики были схвачены и со связанными руками выведены из храма. Но не опустив голову шли они, а дерзко глядя по сторонам и улыбаясь, точно герои…
Назавтра около полудня Никифор из окна патриарших палат наблюдал, как этих семерых, уже порядком исполосованных бичами и с трудом волочивших ноги, вели по Августеону к Милию, откуда должно было начаться их шествие по Средней улице. Эпарх самолично ехал впереди верхом на коне. Сразу после вчерашнего происшествия нарушители порядка были допрошены и сначала лгали, будто врата в усыпальницу отворились сами собой, но под угрозой пыток рассказали всё, как было. Эпарх приказал бичевать их и решил провести по Городу, причем они во всеуслышание должны были выкрикивать, за что наказаны и как пытались обмануть народ, – ведь за сутки слух о происшествии в храме Апостолов успел облететь весь Константинополь и обрасти самыми фантастическими подробностями. Говорили, будто Константин Исавриец поднялся из саркофага на белом коне, облаченный в золотые доспехи и сияющий пурпурный плащ, и, пройдя сквозь стену, отправился во Фракию воевать с болгарами; будто при этом в храме попадали ликами вниз все иконы, а духовенство онемело и от страха побежало из алтаря… Слова быстро перерастали в дела – в тот же день вечером на площади Быка двое бедных чернорабочих побили монаха. Рабочие рассуждали о происшедшем в храме и один во всеуслышание проклинал иконопочитание, говоря, что никогда при государях Льве и Константине Империя не терпела таких бед на войне с варварами, как при всех последних православных императорах, а второй рабочий поддакивал. Проходивший инок попытался образумить хулителей, но те набросились на него, злобно крича, что «от этих лентяев-черноризцев один вред», – и если бы не вмешательство окружающих, монаху пришлось бы худо…
Теперь стало ясно, что император совершил непоправимую ошибку, когда в начале царствования разжаловал множество стратиотов из константинопольских тагм под предлогом того, что они были нетверды в вере. Вспоминая те события, патриарх мучительно размышлял, не было ли здесь частично и его вины. Тогда он просил василевса объявить смертную казнь павликианам и афинганам и вообще строже смотреть за проявлениями ереси, но благодаря вмешательству Студийского игумена казнь была отменена. Однако Михаил, желая выказать ревность о православиии, решил «очистить от еретиков городские полки», – и в результате Константинополь наполнился разжалованными воинами, оставшимися без снаряжения, без занятий, без земли… Безумный шаг! – но полтора года назад он никому не показался таким. И вот они, плоды! Эти семеро все оказались из числа разжалованных. А их бывшие товарищи шатались по улицам и рынкам и всё громче заговаривали о том, что Империя терпит бедствия за «нечестивое идолопоклонство», что Константин, «победитель болгар», был великий пророк и угодник Божий, что в военных поражениях последних лет виновато православие и его защитники – монахи. Эти речи падали на подготовленную почву, ведь простой люд рассуждал прямолинейно: государство терпит беды от варваров уже много лет, и чем дальше, тем больше, и всё это при государях, чтущих иконы; при государях, которые иконы уничтожали как идолы, Империя отразила и арабское, и болгарское нашествия и одержала много блестящих побед, – значит, теперь Господь прогневался за идолопоклонство. И всё чаще, всё громче на улицах звучало: «Долой иконы!»
Положение стало угрожающим. Патриарх понимал, что еще одна победа болгар может вызвать катастрофу. Понимал это и эпарх – вчера вечером он ушел от Никифора крайне обеспокоенный, почти подавленный, и патриарху нечем было утешить его. Он не хуже эпарха сознавал, что столица стоит на грани гражданского мятежа: когда-то прасины, восставшие против Юстиниана Великого, призывали «откопать кости» императора и его сторонников, – теперь же народ грозился «сокрушить кости икон»…
Бессмысленно было закрывать глаза: ядовитая змея иконоборчества вновь поднимала голову, пока лишь медленно шевелилясь и поигрывая кольцами, но в этих движениях чувствовались злость и сила… Можно ли было еще упрятать гадину в клетку? – вот каким вопросам задавались православные, и вот почему так важна была сейчас победа ромейского оружия! Но что судит Бог?..
Патриарха томили тяжелые предчувствия. Отойдя от окна, он взял с полки книгу в коричневой обложке, украшенной узором из золотых крестов. Это были проповеди великого Богослова, которые Никифор любил перечитывать на досуге.
– Божественный Григорий, что скажешь ты ныне? – тихо проговорил патриарх, открывая книгу наугад.
Раскрылось «Первое обличительное слово на царя Юлиана» – там, где святитель рассуждал, почему Господь попустил воцариться гонителю христиан. «Одного еще недоставало, чтобы к нечестию присовокупить и могущество. Через несколько времени и то дают ему над нами умножившиеся беззакония многих, а иной, может быть, скажет: благополучие христиан, достигшее высшей степени и потому требовавшее перемены, – свобода, честь и довольство, от которых мы возгордились…»
– Да разве было оно – благополучие высшей степени? – прошептал патриарх.
Ему вновь вспомнились церковные смуты, которые сопровождали его патриаршество от первых дней и окончились лишь недавно. Какое там благополучие! Горький свиток Иезекииля-пророка!.. Но…
– Господь запретил выдергивать плевелы, чтобы не повредить и пшеницы, – сказал Феодор на совете в Магнавре, протестуя против казни павликиан. – Как же вы, богопочтенные, предлагаете истреблять еретиков? Ведь нам запрещено даже желать им зла! Послушайте не меня, убогого, но божественного Златоуста: «Еретика убивать не должно, – говорит он, – иначе это даст повод к непримиримой войне во вселенной». И еще: «Все неисцельно зараженные сами по себе подвергнутся наказанию. Поэтому если хочешь, чтоб они были наказаны, то ожидай определенного к тому времени», – Богом определенного, не нами! Не сказал ли Господь: «Все, взявшие меч, от меча погибнут»? Смотрите, почтеннейшие, как бы нас не покарали за то, что, зная Евангелие, мы пренебрегли им ради привременной выгоды! Богу такое убийство не угодно, и я никогда не одобрю этого!
Патриарх тогда согласился с ним и потом еще не раз размышлял об этом… Да, Феодор был прав, и происходившее сейчас подтверждало его правоту, хотя на первый взгляд казалось наоборот. Не далее, как позавчера патриарх получил письмо от Феофана, игумена Великого Поля: Феофан рассказывал о своем житье-бытье, о том, что хроника, которую он взялся дописывать за покойным синкеллом Георгием, близка к завершению, но ему в последнее время трудно стало писать из-за частых приступов почечной болезни, а в конце упоминал о дерзкой выходке местных павликиан, едва не запаливших обитель, и с раздражением замечал, что Феодор Студит и его единомышленники стали плохими советниками для императора. «Петр, глава апостолов, за одну ложь умертвил Ананию и Сапфиру, – писал Феофан, – великий Павел громко вопиет, что “делающие сие достойны смерти”, и это за один плотский грех! Так не противятся ли им те, которые освобождают от меча людей, исполненных всякой нечистоты душевной и телесной, служителей диавола?! К чему говорить об их покаянии? Пустые речи! Эти еретики уже никогда не могут раскаяться. Но Феодор, видно, считает себя умнее и святее первоверховных…» Патриарх покачал головой. Феофан ошибается… «Не знаете, какого вы духа», – сказал Господь ученикам, когда они хотели истребить небесным огнем самарян, не принявших Христа. Если единственным возможным доводом против инакомыслящих сочтен обнаженный меч, то это свидетельство слабости… Слабости, а не силы. Не потому ли еретики всё больше поднимают голову, что почуяли эту слабость?..
– Христиане заключают под стражу и бичуют тех, кто отстаивает Христа и Евангелие, – видано ли такое дело? Как бы не отмстил Господь за такой союз неправды! – говорил Феодор некогда по поводу смуты из-за эконома Иосифа.
Не предсказал ли он и погибель императору Никифору? Что ж, он был прав, когда предрекал какую-то бурю, как рассказывал Халкитский игумен Иоанн?..
«Когда мы были добронравны и скромны, – читал Никифор дальше у Григория Богослова, – тогда возвысились и постепенно возрастали, так что под водительством Божиим сделались и славны, и многочисленны. Когда же мы растолстели, тогда сделались своевольны, и когда разжирели, тогда доведены до тесноты. Ту славу и силу, какую стяжали мы во время гонений и скорбей, утратили мы во время благоденствия…»
Патриарх закрыл книгу. Змея ереси выгибалась перед ним, зловеще блестя чешуей, готовая к броску. Но может быть, еще обойдется? Что там во Фракии? О, если бы победа!..
Семерых «негодяев» между тем уже вели по Средней. Здесь было особенно людно, народ сбегался глазеть со всех сторон. Кто насмехался, кто хмурился, кто исподлобья оглядывал эпарха и стратиотов, кто поносил «нечестивых иконоборцев», а кто, спрятавшись за чужие спины, выкрикивал:
– Долой идолы! Они навлекли на нас гнев Божий!
Улыхав это, «негодяи» умолкли и перестали кричать о причинах своего наказания, но плетка эпарха быстро привела их в чувство.
– Мы хотели обмануть благочестивых граждан! – выкрикнул армянин, которого вели первым.
То же повторял второй и все остальные по очереди. Затем первый продолжал:
– Мы солгали, будто врата к гробнице нечестивого Константина открылись сами!
– Это мы хитростию открыли их!
– Мы дерзнули неправедно обвинять православных в бедствиях, которые терпит государство!
Пухлая торговка хлебом, смотревшая на процессию из-за своего прилавка, неодобрительно покачала головой:
– Ишь, складно как твердят! Эпарх-то, вон, слова подсказывает да плетку кажет! Бедняги, как исполосовали-то их!..
– Да-а, бичей не жалели! – хмуро проговорил стоявший рядом, с лотком на жилистой шее, торговец пирожками.
– Бичи не хлеб, чего их жалеть, – усмехнулся седой сутулый каменотес.
Он стоял, опираясь на суковатую палку грубыми мозолистыми руками и из-под насупленных бровей сурово глядел на процессию. Рядом с ним стоял подмастерье – юноша с только пробивавшемся на бороде золотым пухом, загорелый, с румянцем во всё лицо, – и с избитыми и истертыми руками.
– Они сейчас его нечестивым зовут да проклятым, – продолжал старик, – того государя… А я-то по-омню хорошо: при нем хлеб был дешевый, не то, что сейчас, и много было хлеба! Торговцы на рынке нищим, бывало, целые караваи кидали…
– Нда, а теперичи, поди, еще подорожает хлеб-то! – сказал оборванный мужик с мешком через плечо. – Болгары, слышно, уж пол-Фракии разорили и до самого Города грозятся дойти…
– А эти ироды, нет чтоб с варварами воевать, как надо, со своими же воюют, неймется им! Ико-оны им, вишь, кано-оны!
– И-и, чтоб им пусто было, канонистам этим! Их бы землю копать заставить, али кирпичи класть!
– Кости икон да сокрушатся!
– Ах ты, безбожник!
– Это вы безбожники, идолопоклонники треклятые!
– Да отсохни твой поганый язык, собака!..
Завязалась драка, и эпарх послал одного стратиота из отряда разнять ее.
Тем временем за всем этим следил внимательный взгляд – пожалуй, слишком внимательный, более цепкий, чем хотелось бы устроителям этого публичного шествия. Высокий худощавый монах только что вышел из Книжного портика с большим свертком в руках и, прислонившись к одной из колонн, пристально наблюдал за происходящим. Его взгляд успел охватить всё – и картину целиком, и мелкие детали, – заметить и беспокойство, прятавшееся за спесью эпарха, и неуверенность на лицах стратиотов, и угрюмые взгляды чернорабочих, и испуг в глазах прошмыгнувшего мимо черноризца; ухо улавливало разговоры в толпе, выкрики недовольные и одобрительные, и клич, который он уже не впервые слышал в последние дни:
– Да будут выкопаны кости икон!
Процессия давно ушла вперед, зеваки тоже разбежались – кто следом за ней, кто по своим делам, – Артополий опять погрузился в обычную суету, а монах всё стоял у колонны. Опустив сверток на землю и скрестив руки на груди, он глядел куда-то в пространство.
– Здравствуй, Иоанн!
Он вздрогнул и стряхнул задумчивость. Перед ним стоял невысокий монах с сокрушенно-просительным выражением лица, какое бывает у нищих, но при этом щеголевато одетый – ряса и мантия его были сшиты явно не где попало и стоили недешево.
– А, отец Симеон, приветствую! Как поживаешь?
– Помаленьку, милостью Божией, спасаемся… А ты о чем это тут так задумался? Я тебя еще вон от того угла заприметил, и всё иду, гляжу, а ты всё вот так стоишь да смотришь в одну точку, словно статуя!
Тонкая улыбка пробежала по губам Иоанна.
– Да так, задумался об образе нашего жития. Как говорили древние, «не довольствуйся поверхностным взглядом; от тебя не должно ускользнуть ни своеобразие каждой вещи, ни ее достоинство». Вот я и наблюдаю… Углубляюсь в сущее, так сказать.
– Хм… Да разве у каждой вещи есть достоинство? Взять хоть этих нечестивцев, которых тут провели, видал? Разрази их гром! Какую смуту они вчера устроили, проклятые еретики! Говорят, они из павликиан…
– У еретиков, – усмехнулся Иоанн, – есть одно очень большое достоинство: они заставляют православных думать. Прощай, господин Симеон, а то мне уже недосуг! – слегка кивнув собеседнику, Грамматик поднял с земли свой сверток и зашагал прочь.
– Эк ведь сказал-то! – пробормотал Симеон, провожая его взглядом. – Мудрит, всё мудрит чего-то… Э!.. – он махнул рукой и пошел своей дорогой.
…С улицы послышался взрыв детского хохота, визг, возня… Флорина выглянула в окно.
– Варда! – закричала она строго. – Ты что-то разошелся! Посмотри на себя, на кого ты стал похож! Ведь только всё чистое одел с утра, а теперь ты, что поросенок!
– Мама, мама! – раздался звонкий голосок. – Он опять дерется!
– Доносчица!
– Я не доносчица! Ты мне всю косу растрепал!
– Велика важность!
– Я тебе покажу, велика или нет! Вот тебе! Ха-ха! Догоняй!
– Ну, держись, Феодора!
Быстрый топот двух пар ног – и всё стихло. Флорина отошла от окна, качая головой.
– Вот сорванцы! Каждый день их приходится мыть – к вечеру всегда грязные, как эфиопы! Вы с Софией всё же не были такими неуемными. Да и Ирина не такая…
– Ну, мы ж не мальчики, – улыбнулась сидевшая в плетеном кресле молодая женщина. – И потом, я всегда была тихоней, ты знаешь. Феодора совсем другая!
– Да уж, не знаю, что из нее выйдет… Капризная, непредсказуемая… К тому же боюсь, как бы она не выросла толстушкой… Она и сейчас обижается, когда братья ее называют толстой, а что же будет, если она такой и вырастет?
– Ты погоди, дорогая, она ж еще мала. Рано судить, рано! Она еще первой красавицей у нас будет!
Обе женщины повернулись на голос. В дверях комнаты стоял высокий широкоплечий мужчина; черная шевелюра, крупный горбатый нос и густые брови придавали ему грозный вид, но темные глаза смотрели весело; он улыбался, сверкая зубами.
– Ах, Ма́рин, – сказала Флорина. – Ты всегда слишком снисходителен к детям, а Феодору баловать опасно, она такая своенравная…
Флорина являла разительную противоположность мужу: небольшого роста, миниатюрная, светловолосая, голубоглазая, с тонкими чертами лица, она в то же время обладала жестким характером, который совсем не вязался с ее внешностью. Марин впервые увидел ее в церкви в Афинах, куда приехал вместе с родителями навестить родственников. Флорине было тогда пятнадцать лет, и она показалась Марину похожей на ангела с фрески на стене храма. Всю службу он смотрел на это «чудное явление» во все глаза, а когда служба кончилась, понял, что уедет из Афин только вместе с девушкой, о чем тут же и сообщил матери с отцом. Те попеняли ему, что он в храме занимается не тем, чем нужно, но, расспросив родственников и узнав, что девушка из хорошей семьи и благочестивая, недолго думая, заслали сватов. В родную Эвиссу, городок в Пафлагонии, где семья Марина владела большими поместьями, юноша возвращался спустя три месяца, увозя молодую жену и немало приданого. С тех пор прошло восемнадцать лет. Марин уже давно был друнгарием, и в Пафлагонии его знали как одного из богатых землевладельцев, а жена его славилась в округе тем, что почти наизусть помнила весь Новый Завет и очень близко к тексту многие жития святых. В Эвиссе супруги владели двухэтажным особняком, который был виден издали и удивлял приезжих несколько тяжеловатым стилем – огромными мощными колоннами по бокам от входа, большим балконом, нависавшим над первым этажом вдоль боковой стены, и массивной крышей, крытой медью и сверкавшей на солнце так, что прохожие иной раз прикрывали глаза ладонью, глядя на этот дом, обсаженный яблонями и оливами и окруженный высоким каменным забором. У Марина и Флорины было шестеро детей: два сына – Варда и Петрона, и четыре дочери – Каломария, София, Ирина и Феодора.
Каломария, которой пошел семнадцатый год, была старшей и, оправдывая свое имя, самой красивой из сестер: черноглазая и высокая – в отца, правильные черты лица и золотистые волосы она унаследовала от матери; в ее движениях сквозила уверенность в себе. Она уже полтора года была замужем за молодым армянином по имени Арсавир, сыном одного синклитика. На три года ее старше, красавец подстать супруге, умный, состоятельный и со связями при дворе, он увез молодую жену в столицу, где она еще больше расцвела и, кажется, достигла предела земных желаний. Этим летом она приехала навестить семью, а заодно обсудить вопрос об обручении Софии, которой скоро должно было исполниться тринадцать лет: Каломария нашла ей жениха в столице – Константина, четырнадцатилетнего сына патрикия Феодосия Вавуцика. Патрикий был другом родителей Арсавира и, познакомившись с Каломарией и узнав, что у нее подрастают сестры, озаботился о будущем сына. Хотя Арсавир и шутил, что он «самую красивую уже отхватил», Феодосий, смеясь, говорил, что они люди скромные, да и сын у него не то, чтобы красавцем растет, а потому невеста будет в самый раз…
– Ты кстати зашел, – сказала Флорина мужу. – Мы тут на самом деле говорили не о Феодоре, а о Софии. Я что-то боюсь отпускать ее в Константинополь…
– Мама думает, – смеясь, сказала Каломария, – что столица это такое гнездо пороков!
– Гнездо, не гнездо, – возразила Флорина, – но суеты там побольше, чем тут, и соблазнов тоже. А София у нас такая тихая, смиренная… Боюсь, там такие не ко двору, как начнут «перевоспитывать», греха не оберешься…
– Ну, посмотри на меня! – воскликнула Каломария, вставая. – Разве я превратилась в «греховный сосуд»?
– У тебя всё же другой характер, чем у Софии. Она мягкая…
– Дорогая, – улыбаясь, сказал Марин, – порочный человек как свинья – грязи найдет. Посмотри на дочь наших соседей – она и не в столице, а влезла в такую историю, что не дай Бог. И кто тянул, а? Я вот совсем не боюсь за Софию. Мягкая-то она мягкая, но внутри – стержень железный!
– Да, мамочка, папа прав! Сколько я помню, она всегда брала верх над Ириной в играх, да и мне не спускала, хоть я гораздо старше! Мягко стелет, да жестко спать! – Каломария опять улыбнулась.
– И потом, – добавил Марин, – мы ведь ее туда ненадолго отпустим. Обручится, поживет месяц-два, да и назад. До свадьбы-то еще года два-три ждать придется.
– Уговорили! – вздохнула Флорина. – Присылайте сватов.
– Замечательно! – Каломария подошла к матери и поцеловала ее в щеку.
– Только надо подождать, чем кончатся фракийские дела, – вдруг нахмурился Марин. – Да и в Городе, ты говоришь, неспокойно…
– Не то, чтобы неспокойно… – поморщилась Каломария. – Просто некоторые бродяги мутят народ против икон. Но думаю, когда государь вернется из похода, он быстро усмирит их! Был такой Николай, пустынником прикидывался, а сам иконы поносил, даже при людях расколол образ Богоматери…
– Вот негодяй! – воскликнула Флорина.
– Да, – продолжала Каломария. – Так государь повелел его схватить и отрезать язык! Тот и умер после этого. Вот и с этими нечестивцами то же будет!
– А что говорит Арсавир? – спросил Марин.
– Ничего не говорит… Ничего особенного. Смеется даже.
– Смеется?
– Да, как начну спрашивать, что да к чему, так он улыбается: «Не квохчи, – говорит, – моя курочка, в нашем гнездышке всё спокойно!»
Каломария улыбнулась и, подойдя к окну, выглянула на улицу. Конечно, через знакомых до нее доходило много тревожных слухов; но раз Арсавир говорит, что всё спокойно, значит, беспокоиться не о чем. За время замужества она привыкла ощущать себя за ним, как за каменной стеной, он словно излучал надежность и ясность…
– А вот и дети бегут! – сказала Каломария, кивая в сторону окна. – В дом! Не к нам ли?
Вскоре за дверью раздался шум и в комнату влетели мальчик лет одиннадцати, крепкий на вид, загорелый, с темными вьющимися волосами, и девочка помладше, невысокая, круглолицая, пухленькая. Ее коса совершенно расплелась, и густые волнистые волосы глубокого черного цвета, даже темнее, чем у отца, словно плащ, покрывали ее почти до пояса.
– Ну что, сорванцы, всё носитесь? – весело спросил Марин.
– Голову не сверните! – сказала Флорина. – Ты, Варда, постарше, так хоть думай, где и как бегать!
– Да, мама! – ответил мальчик и лукаво поглядел на сестру. – Но больше всего приходится думать, как от нее убежать. Бегает она, как ветер, хоть и толстая!
– Я не толстая! – возмутилась девочка. – Я тебе дам, «толстая»! – и она ткнула брата в бок кулаком.
– Ой-ой! А-а! – Варда картинно схватился за бок и скривился, как от боли. – Она дерется!
– А ты не дразнись! – рассмеялась Каломария.
– Ладно, хватит шалить! – строго сказала Флорина. – Посидите вот, отдохните лучше! Феодора, иди сюда, я тебя заплету!
Девочка подошла к матери, а Варда уселся на скамью под окном и сложил руки на коленях, сделав постное лицо. Марин улыбнулся и погрозил сыну пальцем.
– Вот, Варда, – сказала Каломария. – Вы ведь еще не знаете… София скоро поедет ко мне в гости, я ей жениха нашла.
– Жениха? – вскричал Варда. – Да она еще маленькая! Тогда и мне невесту найдите, а то нечестно!
– Рано тебе еще думать о невестах, – строго сказала Флорина. – Придет время, и тебе найдем.
– Рано? – негодующе воскликнул Варда. – Софии не рано жениха, а мне невесту рано? Вот, так всегда…
– София умница и послушная, а на тебя никакой управы нет. Поумней сначала чуток, а там посмотрим, – сказала Флорина всё так же строго, однако, пряча улыбку.
– А-а, всегда вы так, – обиженно пробурчал мальчик. – Чуть что, так сразу: «непослушный», «поумнеть надо»… Да я еще умнее всех вас буду! Еще других буду учить!
– Вот хвастун! – воскликнула Феодора.
Она возмущенно всплеснула руками и тут же ойкнула от боли.
– Ну, не дергайся! – сказала Флорина. – Я еще не доплела.
Девочка вздохнула, опустила руки и спросила:
– И как его зовут, этого жениха?
– Константин.
– А сколько ему лет? – поинтересовался Варда.
– Четырнадцать, – сказала Каломария. – Они с Софией только обручатся, ну, а свадьба будет, когда подрастут. Года через три.
– Ой, как долго еще им ждать придется! – вздохнула Феодора. – А что, если… за это время Софии кто-нибудь другой попадется?
– Что значит – «попадется»? – нахмурилась Флорина.
– Ну… встретит какого-нибудь другого мальчика, и он ей больше понравится… чем этот Константин.
– Феодора! Что это за мысли у тебя в голове?
Флорина даже перестала плести дочери косу и, взяв ее за плечи, развернула к себе. Феодора стояла, опустив глаза.
– Ага, ага! – расхохотался Варда. – Каких житий святых ты начиталась, сестрица? Э, да ты ведь и читать еще не умеешь толком! Уж не наслушалась ли ты тайком захожих сказочников, а?
– Прекрати, Варда! – Флорина метнула на него грозный взгляд и обратилась к дочери: – Не смей и думать о таких вещах, слышишь? Вот еще притча!
– Ну да, – снова не удержался Варда, – святые все выходили замуж только по воле родителей!
– Варда!
– А Феодоре хочется, чтобы мальчик нравился, а не просто!
– Варда, пойди вон! – вскричала Флорина.
– Варда, ты и правда разошелся, – сказал Марин. – Пойдем, сынок, пусть женщины тут сами разбираются!
Взяв подскочившего мальчика за руку, Марин покинул комнату, улыбаясь в усы: в младшей дочери он узнавал себя. Когда отец с сыном ушли, Каломария упала в кресло и расхохоталась. Флорина строго взглянула на нее, но не выдержала и рассмеялась тоже. Феодора исподлобья поглядывала то на сестру, то на мать.
– Вот, вы смеетесь надо мной, – тихо сказала она. – Ну, и смейтесь, и смейтесь… А вот я так выйду замуж, что вы все завидовать мне будете, вот!
17. Версиникийский разгром
Если кто-то допустил промах в других делах, он через короткое время сможет его исправить; ошибки же, допущенные на войне, оборачиваются великим злом.
(Св. император Маврикий)
Вечером 20 июня, когда уже почти стемнело и стража заперла врата в лагерь, в палатке стратига Анатолика при тусклом свете небольшого светильника шел невеселый разговор.
– Подохнуть можно! – воскликнул Иоанн Аплаки, вытирая пот со лба. – Погода такая, что скоро из нас тут выйдет жаркое! Надо было идти в бой сразу, как пришли, а мы уже столько времени торчим без пользы! Еще немного – и стратиоты свалятся с ног… Где у государя глаза?! Да и вообще, я уже перестал понимать, зачем мы отправились в этот поход.
– И не говори, – мрачно ответил Лев. – Мы давно могли бы отбить Месемврию и задать болгарам перцу! Но разве с этой бабой в штанах чего-нибудь добьешься!..
Лев по вызову императора прибыл в Константинополь из Анатолика с большей частью фемного войска; оставшаяся треть должна была оставаться на месте, поскольку с весны могли опять начаться набеги арабов на приграничные области. Собрались также ополчения из других фем и расквартировались в Городе и окрестностях. Император встретил Льва очень хорошо, при дворе смотрели на него как на героя – он прославился с тех пор, как в августе минувшего года одержал знаменитую победу над вторгшимся в Империю Фефифом, побив две тысячи арабов и забрав множество оружия и коней.
С первых дней пребывания Льва в Царствующем Городе особенное расположение к нему выказывал родственник императора Феодот Мелиссин. Патрикий всячески обхаживал стратига Анатолика, чему Лев про себя дивился, однако вопросов не задавал. Правда, он попытался узнать у жены, которая вместе с детьми продолжала после его назначения стратигом жить в Константинополе, в чем тут может быть дело, но Феодосия тоже понятия не имела о причинах этой внезапной симпатии.
От Феодота Лев узнал все подробности относительно положения в Городе и хода войны с болгарами. Император явно не хотел и боялся вести военные действия. Еще в начале ноября, когда Крум осадил Месемврию и требовал заключения мира на его условиях, Михаил был согласен на всё – и установить границу с Болгарией там, где она проходила при императоре Феодосии и патриархе Германе столетие назад, и платить болгарам дань дорогими платьями и красными кожами, и выдать перебежчиков. Болгары, со своей стороны, тоже обещали выслать ромейских перебежчиков в Империю. Но именно вопрос о перебежчиках стал камнем преткновения: многие синклитики, в первую очередь магистр Феоктист, а также позванный на совет игумен Студийский были категорически против их выдачи, хотя за нее были и патриарх, и присутствовавшие на совете митрополиты Никейский и Кизический. Последние были так раздражены на Студита еще с того времени, как его мнение взяло верх в вопросе о казни павликиан, что даже не хотели, чтобы ему давали слово. Но император позволил, и игумен произнес речь, доказывая необходимость военных действий, причем как можно более решительных.
– Нам ли не знать, – говорил Феодор, – насколько болгары вероломны, и как они не усердны к соблюдению договоренностей, когда видят слабость или нерешительность противника? Сейчас Крум делает вид, что стремится к согласию и дружбе, но, я уверен, это лишь льстивые слова, которыми он хочет усыпить нас. Если мы уступим, это не даст уверенности в желаемом мире, а скорее всего, не даст и самого мира. Предложение выдать перебежчиков мне кажется особенно неприемлемым. Подумайте, кого выдадут нам болгары? Трусов и безбожников, кинувших нашу христианнейшую державу и переметнувшихся к этим нечестивым варварам, где многие из них без зазрения совести, забыв Бога и заповеди, предались тем же беззакониям, завели по несколько жен, принимали участие в скверных жертвоприношениях! И теперь они вернутся к нам не потому, что захотели покаяться в грехах, но вынужденно, высланные болгарами. Принять их значит только множить число нечестивцев в нашей державе и полнить государственные темницы. Взамен же болгары требуют выдать их перебежчиков. И кого же это? Людей, которые от скифской жестокости, от языческого нечестия и бедствий прибегли к Ромейской державе, как к неприкосновенному алтарю, и приняли здесь святую Христову веру! Не предадим ли мы Самого Господа, отдав малых сих на растерзание жестоким варварам? Ведь небезызвестно, что их может ждать – пытки, поругание, жертвенные костры! Можем ли мы быть столь бесчеловечны, обрекая их на верную смерть?
– Господин Феодор говорит дело! – поднялся с места логофет дрома. – Эти люди, которых мы обязаны выдать, если заключим мир с болгарами, из-за превратностей жизни отказались от родины – а как говорят, ничего нет ее слаще, – многие же оставили и родных, потому что не вынесли скифскую жестокость и дикость и бежали к нашей кротости и порядку. Болгарские начальники, как хорошо известно, очень обеспокоены таким бегством, ведь оно приобретает всё больший размах. Потому-то они издавна ведут с нами переговоры об этом. Но мое скромное мнение таково, что мы не должны уступать этим варварам наших – теперь уже наших – благочестивых граждан!
Синклитики одобрительно зашумели. По лицу императора было видно, что он колеблется, но страх перед военными действиями всё еще брал верх.
– Люди хотят мира, господа! – сказал он. – И условия мира нам известны. Исход же войны всегда неясен. Что, если нам не удастся сразу одолеть врагов? Ведь это опять приведет к разорению наших земель, а оно, в свою очередь, чревато народным возмущением. А в Городе и так неспокойно… Но что скажет господин эпарх?
– Августейший государь и всё боголюбивое собрание! – сказал эпарх столицы, выступив вперед. – Тут много говорилось о том, приемлемы или неприемлемы условия мира, выдвинутые болгарами, а я хочу сказать о другом. Ничто так не поднимает дух граждан, как военные победы. Наши поражения последних лет привели к тому, что в народе растет не только недовольство государем, но, что еще опаснее, непочтение к православной вере. Все вы знаете, что иконоборцы вновь поднимают голову. Если сейчас мы примем мир, то придется установить границы с Болгарией там, где они пролегали до воцарения государей Исаврийского дома. А это означает полный отказ от всех завоеваний, сделанных в царствование Константина. При нынешнем состоянии умов и брожении в войсках это чрезвычайно опасно! С другой стороны, всего одна, пусть даже не решающая, но достаточно внушительная победа над врагами не только прославит государя, но и успокоит умы простого народа, уймет ропот против иконопочитания. За это, думается, не жаль заплатить любую цену. А чтобы нам быть более уверенными в своих силах пред лицом этих варваров, нужно собрать войско не только из Фракии, но и из восточных фем, обеспечить хорошее вооружение и обучение, и тогда победа будет за нами!
Речь эпарха пришлась по душе синклитикам, раздались аплодисменты.
– Верно говоришь!
– Не позволим иконоборцам издеваться над нашей святой верой!
– Да дарует нам победу Господь Вседержитель!
Император еще сомневался и взял время на размышление. Решающую роль сыграло полученное спустя несколько дней известие о том, что Крум, не дожидаясь ответа на свое мирное предложение, взял Месемврию. Студийский игумен оказался прав – болгары действительно говорили о мире, но делали противоположное. Вновь собрался совет в Магнавре, и уже почти единогласно было решено готовиться к войне.
Поначалу события как будто развивались благоприятно для ромеев. В первых числах февраля двое сбежавших из Болгарии христиан сообщили, что Крум готовит новое вторжение во Фракию. Император быстро собрал войско, в середине месяца выступил к Адрианополю и в сражении победил Крума; болгары воротились в свои пределы ни с чем, потеряв немало воинов. Победа ободрила императора и, наведя в Адрианополе порядок и вернувшись в столицу, он вместе с супругой посетил обитель святейшего Тарасия и после торжественной литии возложил на гроб почившего патриарха великолепный серебряный покров.
С наступлением весны были организованы широкие приготовления и собрано большое войско. Правда, новонабранные стратиоты с востока Империи были не очень довольны тем, что их повели в столь дальний поход. Особенно роптали армяне и каппадокийцы, многие из которых к тому же оказались плохо обученными новобранцами. Но это было бы еще не так страшно, если б не амбиции императрицы. Когда в мае войско выступило в поход к Месемврии, Прокопия с огромной свитой сопровождала императора почти до самой Ираклии. Это вызвало сильное негодование в войсках: и простые стратиоты, и многие архонты стали поносить Михаила.
– Он шагу не может ступить без своей бабы!
– И этот неженка поведет нас в поход!
– Позор!
4 мая случилось небольшое солнечное затмение, и войско пришло в страх; император тоже пал духом и, если бы не ободрения со стороны стратигов, пожалуй, повернул бы назад. Войска целый месяц делали переходы по Фракии без видимой цели, не подходя к Месемврии и не предпринимая никаких действий против врагов. Архонты недоумевали, а простые воины начали грабить окрестные села и обижать жителей, для которых поэтому пришествие своих мало чем отличалось от варварских нападений. Императорские тагмы и вовсе проводили время в праздности – Михаил не был любителем военных учений.
– Августейший, – как-то сказал ему стратиг Македонии, – осмелюсь тебе напомнить, что блаженный государь Маврикий учил не оставлять стратиотов без дела, ведь праздность в войсках – источник мятежей и смятения. А у нас, да не прогневается на меня твое величество, происходит ровно противоположное. Я боюсь, как бы, выйдя против врагов, мы не оказались бессильными.
– Мне кажется, Иоанн, ты зря беспокоишься, – ответил император с улыбкой. – Войско в хорошей форме, мы упражняемся во время переходов, и этого, по-моему, достаточно. Тем более, что я надеюсь обойтись без сражения.
– Как тебе будет угодно, государь, – холодно ответил Аплаки, откланиваясь.
В конце концов ромеи встали лагерем в тридцати милях от Версиникии. Крум выступил со своим войском в начале июня, но донесения разведчиков о многочисленности противников и их хорошем вооружении привели его в нерешительность, и болгары расположились у города. Две недели оба войска стояли наготове друг против друга, но ни одна сторона не решалась напасть. Это томительное бездействие день ото дня становилось всё невыносимее: стояла жара, люди и животные страдали от жажды и к концу второй недели пришли почти в полное изнеможение; в таком же бедственном положении были и болгары. Лев и Иоанн Аплаки неоднократно приступали к императору, призывая дать болгарам решительное сражение; их поддерживали и другие архонты, но Михаил больше слушался почти не отходившего от него магистра Феоктиста и нескольких его единомышленников.
– Крум не решится вступить с нами в бой, государь, – говорил Феоктист. – Ведь разведка доносит, что болгары в смущении. Если мы еще немного продержим их так, они снимутся и уйдут, и так мы без боя одержим победу, усмирим врагов и сами избежим потерь, – а что может быть лучше этого? Ведь исход боя всегда неясен…
Император согласно кивал, и стояние на жаре продолжалось.
– Нет, это невыносимо, невыносимо! – воскликнул Аплаки. – Собрать такое войско, провести в походе два месяца, две недели прожариться на этом пекле – и вернуться, не дав ни одного маломальского сражения! Позор! Да нас собственные жены и дети засмеют! А что скажут граждане? Нет, видно, конец приходит всему миру, если ромейской державой правят зайцы вместо львов!
Лев хмуро разглядывал узор на рукояти кинжала, который вертел в руках.
– Завтра я попытаюсь еще раз поговорить с государем, – сказал он.
На следующее утро после обычного смотра Лев, заметив, что Феоктист почему-то отсутствует, решил немедля воспользоваться случаем и попросил императора принять его.
– Государь, – сказал он, когда они вошли в шатер василевса, – мои и не только мои воины ропщут от нашего бездействия, они горят желанием сразиться с врагом. Ждать дальше нельзя! Если мы еще простоим несколько дней на этой жаре, мы не только не сможем сражаться, но у нас не будет сил даже для возвращения домой, и враги, чего доброго, перережут нас, как ягнят. Да избавит нас Бог от такой беды! Но если ничего дурного и не случится, хорошо ли это, августейший, если при таком войске и численном перевесе над врагом мы вернемся в столицу, не дав ни одного сражения? Это позорным пятном ляжет на Ромейскую державу, унизит наше войско, вызовет ропот в народе – ведь в столице ждут, что мы возвратимся с победными трофеями. Недостойно для ромейского императора обращать спину врагу!
– Что ты предлагаешь, Лев? – спросил император; слова стратига, сказанные с глубокой убежденностью, казалось, подействовали на него.
– Двинемся на врагов, государь! Если завтра с утра мы вступим в сражение, то еще до полудня ты увидишь, как мы одолеем проклятых варваров и завоюем победу. Ведь мы надеемся твоими молитвами обрести мужество и, уповая на Божию помощь, пойдем в бой!
Император неожиданно был увлечен горячностью стратига, на его щеках показался румянец, глаза заблестели. Он хлопнул Льва по плечу и сказал:
– Хорошо, будь по-твоему! И да поможет нам Бог и Пречистая Богоматерь!
Михаил тут же вышел из шатра, окинул взглядом собравшихся у входа военачальников – видя, что стратиг Анатолика пошел разговаривать с императором, они поняли, какова могла быть тема разговора, и решили подождать результатов – и возгласил:
– Завтра утром мы выходим на врага! Всем готовиться к бою!
– Ур-ра! – раздались крики. – Да вознаградит Бог твое мужество, августейший!
Феоктист, явившийся к императору только после обеда, бледный и угрюмый, – он что-то не то съел накануне и всю ночь и утро промаялся животом, – тщетно пытался отговорить Михаила от сражения. Император упрямо повторял фразу, сказанную ему Львом:
– Недостойно для ромейского императора обращать спину врагу!
…Комит стен Иоанн Эксавулий, стоя на башне, из-под руки вглядывался вдаль. На дороге, ведущей к Адрианополю, виднелось облако пыли, постепенно превращавшееся в темную массу, растянутую по дороге.
– Кажется, войско возвращается! – воскликнул он. – Но… что-то их слишком мало…
Когда император со своими полками приблизился, к Адрианопольским воротам, Эксавулий с топотиритами и хартулариями вышел встречать его. По мере приближения возвращавшихся стало ясно, что это не триумфальное шествие, а позорное и беспорядочное бегство: полки шли почти без всякого строя, никто никем не командовал, никто никого не слушал, все были заняты лишь одной мыслью – скорее оказаться под защитой городских стен. Многие из тех, кто покинул Город верхом, теперь были пешими; едва ли не половина воинов шла вообще без оружия и без доспехов. Все были пыльными, грязными, почти при последнем издыхании. Император, зеленовато-бледный от усталости и расстройства, едва держался на коне.
Зазвучали привычные славословия, но василевс отчаянно махнул рукой, и всё стихло. Михаил окинул взором встречавших его и сказал только одно слово:
– Разгром!
Опустив голову, император проехал через ворота, за ним в Город вошли тагмы, точнее, то, что от них осталось, и процессия направилась ко дворцу в полном молчании. Народ на улицах сбегался приветствовать императора, но славословия сменялись ропотом, улюлюканьем и криками возмущения, по мере того как распространялась весть о позорном бегстве императорских отрядов с поля боя. Ко дворцу Михаил подъехал уже под свист и ругань огромной толпы, бежавшей за ним.
– Трусы! – кричал народ, и мальчишки кидали грязью в стратиотов.
На следующее утро император отправился к патриарху; с ним вместе пришли сын и соправитель Михаила Феофилакт, императрица, магистр, доместик схол и прочие синклитики. Василевс прерывающимся голосом кратко рассказал о бывшем при Версиникии, чуть помолчал и произнес:
– Полагаю, при таких обстоятельствах я более не могу царствовать над вами. Видно, за грехи мои Господь не благоволит к моему царствованию, как не благоволил Он и к царствованию тестя моего… Ведь нас было больше, чем врагов, и ни один не проявил усердия, но все побежали!
Тут император не выдержал, закрыл лицо руками и глухо зарыдал. Все молчали, потрясенные. Патриарх встал и сказал.
– Державнейший, прошу тебя, не убивайся так! Дело еще можно поправить…
– Нет, нет! – вскричал Михаил, отнимая руки от лица. – Не говорите мне льстивых слов! Ничего нельзя поправить! Войско разгромлено! Пока я ехал по Городу, меня освистали, как преступника! Могу ли я после этого царствовать?! Это невозможно, нет! Сядь, святейший! Я почитаю за лучшее, если вы изберете себе другого императора, способного защитить нашу державу от варваров и править справедливо и достойно. Мне же позвольте покинуть дворец и предаться молитвенной жизни под сенью монастырской.
Он умолк и откинулся на спинку трона, бессильно уронив руки на колени. Шепот пробежал по залу. Многие растерянно переглядывались, кто-то кивал, другие качали головой, но никто не решался первым выступить с порицанием или одобрением. Тогда с места поднялась императрица.
– Что же это?! – воскликнула она с гневом. – Что я слышу, мой августейший супруг? Ты отказываешься от царства, когда никто не гонит тебя? И кого ты предлагаешь провозгласить взамен? Ты подумал, что сейчас начнется, какая грызня? Ты сбежал с поля боя, а теперь и с престола хочешь бежать! Ты забыл, что не люди, но Бог поставил тебя василевсом, и ты в ответе пред Ним за державу и твоих подданных? Как же ты хочешь бросить всё на произвол судьбы? Нет, я не могу одобрить это!
– Бог свидетель, государыня говорит разумные речи! – воскликнул Мануил, императорский протостратор. – Мы не желаем другого государя, о трижды августейший! Что же, что наше войско потерпело поражение? Судьба переменчива, и завтра она улыбнется нам вновь!
– Благослови тебя Бог, господин Мануил! – сказала Прокопия. – Полагаю, что на государя нашло временное затмение ума по причине охватившей его скорби. Сейчас он успокоится, поразмыслит и поймет, что раз облекшемуся в пурпур подобает в нем и умереть, а не менять его на черные тряпки!
– Сядь, августейшая! – устало сказал император. – Ты не блаженная Феодора, а я не великий Юстиниан, и не подобает нам произносить речи подобно трагическим актерам! Судьба улыбнется, говорит господин Мануил?..
Император поднялся, подошел к центральному окну, распахнул его настежь и сказал:
– Послушайте, как она смеется!
С улицы донесся шум и крики толпы, собравшейся перед Святой Софией.
– Долой с престола эту трость, ветром колеблемую!
– Позор! Он отдал державу на растерзание врагам!
– Бежал с поля боя в постель к жене! Трус!
Император прикрыл окно и, пройдя мимо притихших синклитиков, снова уселся на трон. Прокопия тоже села, красная от гнева и стыда.
– Отец, – сказал Феофилакт, сидевший на другом троне рядом с Михаилом, – положение в Городе угрожающее. Уличный сброд грозится «сокрушить кости икон». Если мы сложим с себя власть, то как знать, не возведет ли эта толпа на престол иконоборца?
Тут взоры всех обратились к патриарху.
– Что скажешь ты, святейший? – спросил император.
Никифор поднялся и обвел взглядом собрание.
– Государь, – сказал он, – если ты настаиваешь на своем желании сойти с престола, то мы, конечно, не можем удерживать тебя силой… Но в таком случае следует обдумать заранее, как избежать того, о чем сейчас сказал твой августейший сын. Я, со своей стороны, возглашаю в уши всех здесь собравшихся, что новый император, кто бы он ни был, будет венчан мною на царство не прежде, чем даст клятву не колебать священных устоев нашей Церкви. Что до твоей царственности, то в случае передачи тобою власти достойному мужу я ручаюсь головой за сохранность жизни и твоей, и твоих детей. И пусть Бог и это боголюбивое собрание будут свидетелями моего обещания!
Собравшиеся одобрительно зашумели, лишь Прокопия сидела молча, мрачнее тучи.
– Твои слова хороши, святейший, и нам любезны, – сказал император. – Но я, право, затрудняюсь предложить взамен себя определенного мужа. Разве что…
Император умолк в раздумье.
– Осмелюсь сказать, государь, – подал голос Иоанн Эксавулий, – мне кажется, положение всё-таки еще можно исправить. Если бы мы могли одержать над врагами хотя бы и не решающую, но всё же победу… Ведь значительная часть войска всё еще во Фракии. Кто сейчас начальствует над ним?
– Я оставил командующим стратига Анатолика Льва, – ответил Михаил.
– Это разумный выбор, государь! – воскликнул эпарх. – Лев – храбрый воин и искусный полководец.
– Да, – горько вздохнул император. – Если бы не бегство тагм и увлеченных ими, мы, возможно, победили бы болгар…
Эксавулий покачал головой:
– Не приведет к добру его начальство над войском…
Император вопросительно взглянул на него, но не успел ничего сказать. Дверь в залу с шумом распахнулась, и вошел спафарий Феофан, один из турмархов фемы Македония. Он был весь в пыли – очевидно, только что проделав большой путь верхом. Поклонившись императору, он сделал несколько шагов вперед, остановился, оглядел собравшихся и произнес:
– Государь, я прибыл из лагеря. Вчера в полдень войско и архонты провозгласили императором Льва, стратига Анатолика!
18. Неволею василевс
Хотелось верить бы в удачный ход событий. Как бы ни было, не пропадет и без Атридов Аргос. Всё течет: глядишь – и царским станет новый род.
(Константин Кавафис)
Бегство ромеев было столь же быстрым, сколь и беспорядочным. Лишь к вечеру основная часть бежавших собралась в лагерь. Император так пал духом, что повелел Льву распоряжаться за главнокомандующего, а сам, не желая никого видеть, забился в свой шатер и всю ночь провел без сна, оплакивая позорное бегство войска и трепеща от страха за будущность. Действительно, хуже положение было разве что после злополучного болгарского похода императора Никифора, – и это вместо триумфа, на который надеялся Михаил и которого, самое главное, так ждали в столице!.. Но войско Никифора было окружено и заперто в горах, и потому разбито, а нынешний разгром не шел ни в какое сравнение с тем: ромеи имели все возможности для победы, а вместо этого…
Да, такого позора давно не видело ромейское оружие. Войско еще не успело сойтись с врагом, и едва были пущены первые дротики и стрелы, как вдруг императорские тагмы повернулись и обратились в бегство, увлекая за собой самого императора и арьергард. Болгары сначала даже не поняли, что происходит, и подумали, что ромеи нарочно отступают, чтобы завлечь их в ловушку, а потому не решились преследовать их. Воспользовавшись смущением противника, Аплаки, чьи турмы стояли в первой линии на левом фланге, вступил в бой с врагом. Задние ряды анатолийских турм, заметив, что императорские тагмы бегут, начала было поворачивать коней, но Лев, увидев это, в бешенстве крикнул: «Всех перевешаю, негодяи!» – и почти все те, кто собирался бежать, остановились и вместе со своим стратигом устремилась на противника. Болгары отступили под напором анатолийцев, и Лев ободрился, но тут увидел, что враги собираются зайти с тыла, – а тыл совершенно не защищен: всё остальное войско, кроме македонян, сбежало! Стратиг выругался и дал приказ отступать, сохраняя строй.
– Если кто побежит, прибью на месте!
Они отступили в горы. К счастью, болгары не стали долго преследовать их, а устремились вслед за бежавшими ромеями, которые не только убегали, сломя голову – причем всадники давили своих же пехотинцев, и каждый думал только о спасении собственной шкуры, – но к тому же бросали по дороге оружие и доспехи, на поживу противнику. Иоанну с его воинами пришлось совсем туго. С самого начала на него устремился сильнейший из вражеских отрядов, потом и другие, а помощи от ромеев не было никакой. Льву со своим войском приходилось обороняться, и он не имел возможности помочь македонянам. В конце концов Аплаки, раненный, упал с коня, а стратиоты, решив, что стратиг убит, обратились в бегство. Часть ромеев укрылась в одной горной крепости, но болгары, дойдя туда, взяли ее и захватили всех бывших там, после чего, уже утомленные, с богатой добычей отправились в Версиникию, не только собрав множество ромейского оружия, но еще и захватив почти весь обоз противника.
До поздней ночи стратиг Анатолика ходил по лагерю, отдавая распоряжения архонтам и солдатам, проверяя надежность охраны и ободряя воинов. Многие боялись, что болгары нападут ночью и добьют оставшихся в живых… Лев вошел в свой шатер, когда в лагере уже почти все спали, кроме стражи, ополоснул водой лицо и руки, упал на постель и, смертельно уставший, тут же заснул.
На рассвете устроили смотр. Оказалось, что убитых очень много. Иоанн Аплаки, которого сумели унести с поля боя, умер ночью, и его с честью похоронили. Лев, с комом в горле, смотрел, как стратиоты засыпают могилу, и у него сжимались кулаки, но в присутствии императора приходилось сдерживаться. Впрочем, Михаил торопился в столицу и вместе со своими тагмами оставил лагерь еще до полудня, приказав Льву подождать, пока соберутся прочие бежавшие, и тоже возвращаться в Город, если же болгары нападут – попытаться отразить их…
– Я надеюсь на тебя, Лев! – сказал император, положив стратигу руку на плечо.
Лев какое-то время смотрел вслед уходившим тагмам, потом сплюнул и пошел к своему шатру. Весь день ромеи приводили себя в порядок: залечивали раны, готовили для копий новые древки взамен сломанных, чистили лошадей, чинили одежду. И лошадей, и оружия, и имущества осталось мало, только анатолийские воины были в лучшем положении. Лев повелел всем, у кого есть запасное оружие, делиться с другими. Посланные Львом разведчики доложили, что болгары ушли в Версиникию и, судя по всему, нападать пока не собираются. Тогда Лев выслал на поле сражения – побоища, как он его в мыслях называл, – два отряда, чтобы по возможности похоронить убитых ромеев и доставить в лагерь оружие, которое не успели забрать болгары. Оружия удалось собрать не так уж мало, и все приободрились. Вечером Лев велел всему войску собраться и произнес краткую речь; ее основную часть составляли выдержки из книги, которую стратиг возил с собой во все военные походы: это был «Стратегикон» императора Маврикия, где повелевалось карать отсечением головы воинов, покинувших строй во время сражения, расстреливать каждого десятого из тагмы, обратившейся в бегство «без серьезной и очевидной причины», и наказывать побоями стратиотов, во время сражения бросивших оружие, «как обнаживших самих себя и вооруживших врагов».
– Как видно, – сказал Лев, закрыв книгу, – наше войско подзабыло эти наставления блаженной памяти государя Маврикия. Так вот, – он медленно оглядел всех предстоящих, – пока я остаюсь командующим, не советую никому их забывать. Здесь отсутствуют те, кто побежал первым, однако, согласно последнему прочитанному указанию, следовало бы покарать и очень многих из присутствующих. Но, принимая во внимание нынешнее положение, да будут виновные на этот раз прощены. Мы останемся здесь еще на день, а послезавтра утром снимаемся и правильным строем, – он сделал упор на эти слова, – идем к Городу. Приказываю господам архонтам напомнить воинам правила поведения во время похода. Все нарушители, если о таковых станет известно, будут наказаны без снисхождения.
Наутро стража доложила, что из отставших и бежавших больше никто не приходил, зато ночная разведка донесла, что болгары как будто бы готовятся к новому выступлению – быть может, узнав, что ромеи не ушли далеко, и надеясь сокрушить их окончательно. Разведчики не были до конца уверены, что правильно поняли намерения врагов, но, по крайней мере, надо было быть готовыми к такому обороту дел. Новость стала известна после утреннего смотра, когда Лев с несколькими архонтами находился у себя в шатре.
– Что будем делать, господин Лев? – спросил Феодот Мелиссин. – Дух войска упал, и если враги вздумают нанести удар, нам, боюсь, несдобровать. К тому же, император увел с собой свои полки…
– И хорошо, что увел, – мрачно проговорил Лев. – Будь моя воля, я бы обезглавил его стратиотов на месте!
Он вышел из шатра, раздраженный; остальные последовали за ним. Выйдя, Лев глубоко вздохнул, окинул взглядом лагерь. Стратиоты копошились у палаток. К счастью, небо было затянуто облаками, и солнце не так палило.
– Да, – сквозь зубы повторил Лев, – таких «воинов» надо расстреливать…
– Главная вина, по правде говоря, не на них, – сказал Максим, один из двух оставшихся в живых турмархов фемы Македония. – Думаю, если б их упражняли побольше, а не оставляли в праздности, этой беды не случилось бы.
– Ну да, как же, – усмехнулся Лев. – Упражняли! Чтоб учить других, надо самому уметь держать оружие в руках. Но император, видно, знает только одно оружие – которым не вражеские твердыни берут, а баб по ночам!
Вокруг захихикали. Феодот с усмешкой переглянулся с шепелявым Михаилом. Леонид, стратиг Каппадокии, смущенно крякнул.
– Что, разве не так? – взглянул на него Лев. – Пословица гласит, что не подобает лани начальствовать надо львами! А что у нас? Император бросил нас, свое войско, на растерзание врагу, а сам бежал на грудь к жене!
– Хорошо сказано! – воскликнул Мелиссин.
– Сказано справедливо! – громко сказал Михаил.
Окружающие одобрительно закивали; слова Льва стали передаваться дальше, от архонтов к солдатам, и вскоре весь лагерь загудел.
И вдруг у одной из палаток стратиотов фемы Анатолик раздался крик:
– Так пусть лань не начальствует над львами! Пусть правит нами Лев! Льва – императором ромеев!
Крик подхватили другие стратиоты, и вскоре по всему лагерю послышались возгласы:
– Да живет император Лев! Льва ждет Римское царство!
Все устремились к центру лагеря, где, окруженный архонтами, стоял бледный, как полотно, стратиг Анатолика.
– Глас народа – глас Божий! – взволнованно произнес Феодот.
– Воистину! – прошептал турмарх Максим.
– Но я… Как я могу? – еле выговорил Лев. – Ведь это мятеж!
И тут же у него под ухом раздался шепот его комита шатра:
– Не бойся, друг! – Михаил от возбуждения шепелявил сильнее обычного. – Поотказывайся сначала для вида, а уж мы всё устроим!
Но Лев и не думал притворяться только «для вида».
– Нет, нет! Я не могу! – воскликнул он и почти в ужасе скрылся в шатре.
Архонты переглядывались. Всем в этот момент показалось, что случившееся – прямо-таки подсказка неба, единственный возможный выход. Действительно, трудно было представить более разительную противоположность Михаилу Рангаве, чем Лев, – и по характеру, и по отношению к военному делу, и вообще по жизни.
– Нужно уговорить его во что бы то ни стало! – сказал Мелиссин. – Если за кем сейчас и пойдет войско, то за ним!
– Да, только он и несчастный Аплаки не побежали от болгар, – сказал Леонид. – Позор на наши головы! А я ведь видел, что и у Льва кое-кто повернул коней, но он сумел остановить их!
– А какую он речь произнес вчера! – воскликнул Максим. – Ничего лишнего, всё по делу.
– Да, господин Лев не любит пустых слов!
– Идем, попробуем уговорить его!
Лев сидел в шатре, обхватив руками голову.
– Лев, послушай, – начал Михаил, – это не мятеж, нет! Это провидение! Подумай, разве сможет Рангаве теперь царствовать? Можно представить, как встретят его в столице! А как войско смотрит на тебя, ты только что видел!
– Нет, нет! – повторил Лев, сидя всё в той же позе.
– Господин Лев, – Феодот сел рядом и положил ему руку на плечо, – Михаил говорит правду. Ведь за тебя сейчас не одна какая-нибудь фема и не две, а всё войско! Это редкостное везение… Нет, что я говорю – везение? Тут воистину не случай, а божественный знак! И как знать, когда мы вернемся в Город, не провозгласят ли к тому времени другого императора? Но войско сейчас единогласно призывает на царство тебя и не примет другого так скоро. Отсюда может произойти великий раздор, а в нынешнем положении для государства это равносильно самоубийству. Ты не можешь, не имеешь права отказаться!
– Думаю, Феодот прав, – сказал стратиг Каппадокии. – Такое быстрое и единогласное провозглашение может быть только свидетельством воли Господней!
– Да как же иначе! – сказал Михаил и, наклонившись ко Льву, прошептал ему на ухо: – Вспомни филомилийского монаха!
Лев вздрогнул и, подняв голову, оглядел стоявших перед ним архонтов.
– Но… если даже я приму власть… как мы войдем в Город? Ведь они наверняка будут сопротивляться…
– Вот это уже другой разговор! – Мелиссин одобрительно хлопнул Льва по плечу и встал. – Не беспокойся, господин Лев! Твое дело – принять скипетр, а уж наше – ввести тебя в Царствующий Город!
– Мы всё устроим, всё устроим, – сказал Михаил. – А если ты боишься, что тебя назовут узурпатором, то и этого можно избежать.
– Каким образом? – теперь, когда вера Михаила в филомилийское пророчество так неожиданно стала получать подтверждение, Лев больше стал прислушиваться к его словам.
– Проще простого! – воскликнул Шепелявый. – Мы разыграем небольшое представление.
Через четверть часа Лев снова вышел из шатра вместе с архонтами. Собравшиеся вокруг стратиоты бурно приветствовали своего главнокомандующего, опять раздались славословия, но Лев поднял руку, и шум быстро утих.
– Я благодарен вам, о воины, за оказанное мне доверие и честь, но я не вправе принимать власть. Ведь я, как и все вы, давал присягу государю Михаилу и не могу нарушить ее. Прошу всех разойтись и сохранять порядок, пока мы не вернемся в Город!
Войско и младшие архонты зашумели.
– Нет, мы не хотим больше служить этому трусу! Он сам освободил нас от присяги, бросив нас тут на растерзание врагу! Не хотим никого на царство, кроме Льва!
Мелиссин подошел ко Льву и, прижав руку к груди, громко воскликнул:
– О, господин Лев, не отказывайся от предложенной тебе чести! Видишь, как всё войско просит на царство тебя одного!
– Мы не хотим более служить Рангаве, господин Лев! – возгласил подошедший с другого бока стратиг Леонид. – Мы просим на царство тебя!
Но Лев упрямо затряс головой:
– Нет, не могу! Не имею права! Я не нарушу данной присяги!
И тут к нему подскочил Михаил и, как бы в гневе, закричал:
– Ты должен принять царство, Лев! Мы все хотим этого! Если ты не примешь царства, погибнет держава Ромейская! Но да не будет так! – Михаил молниеносно обнажил меч и приставил его к груди стратига. – Иначе не быть тебе в живых, как изменнику, не восхотевшему спасти гибнущее отечество!
Лев отступил на шаг, и тут его крепко схватили под руки Феодот и Леонид. Михаил по-прежнему держал перед ним обнаженный меч. Архонты кричали:
– Не дай, Лев, погибнуть державе Ромейской! Бог не простит тебе этого!
– Хорошо, – сказал Лев с обреченным видом, – идемте обсудим всё еще раз.
И они снова скрылись в шатре стратига. Перед тем, как последовать за ними, Леонид сделал знак турмархам, чтобы те построили стратиотов, как положено.
– Всё прошло отлично! – Михаил, войдя в шатер вслед за Львом, довольно потер руки. – Вот, друг мой, теперь никто не скажет, что ты наглый узурпатор!
Лев ничего не ответил.
– Итак, приступим! – сказал Феодот Мелиссин. – Я сейчас!
Он ненадолго покинул шатер и вернулся с небольшим холщовым мешком, откуда вынул пурпурные сапоги, расшитые жемчугом, и с поклоном поставил их на землю перед Львом. Тот побледнел.
– Откуда они у тебя? – спросил он очень тихо.
– Припас на случай, – так же тихо ответил Мелиссин. – Позволь, государь, я расскажу тебе.
При слове «государь» Лев вздрогнул.
– Да, говори.
Феодот приблизился и зашептал ему на ухо. Тут-то Лев и узнал о причинах столь внезапной симпатии к нему со стороны Мелиссина.
В апреле при дворе стало известно, что начиная с Благовещения некая служанка каждые два или три дня, не то спьяну, не то действительно охваченная каким-то духом, выходила на берег моря к Вуколеону и, глядя на Священный дворец, громко взывала:
– Сойди оттуда, Михаил, сойди, удались от чужих!
Это возбудило недобрые разговоры среди придворных, а вскоре весть дошла и до императора. Тот обеспокоился и, поделившись своей печалью с Феодотом, велел ему подстеречь ту служанку, когда она опять начнет прорицать, подойти и расспросить подробно об имени и роде того, кто должен стать императором вместо Михаила. Мелиссин так и сделал, это случилось одним утром в середине апреля. Девица, взглянув на Феодота черными глазами, так и горевшими на ее бледном осунувшемся лице, сказала, очень медленно выговаривая каждое слово:
– Когда сегодня ты придешь на Акрополь, господин, подожди там до полудня, и ты увидишь…
Она внезапно умолкла, как бы ушла в себя.
– Что же я увижу там? – спросил Мелиссин, которому невольно стало жутковато.
Девица молчала, закрыв глаза и не шевелясь. Феодот потряс ее за плечо.
– Эй, почтеннейшая!
Она устремила ему в лицо отсутствующий взгляд и так же медленно проговорила:
– В полдень придут туда два человека. Того, что будет на муле, зовут Лев, спутника его – Михаил. Первый и сподобится царства.
И, резко повернувшись, девица пошла прочь, бормоча:
– Уйди, уйди, Михаил, сойди, сойди оттуда!
Вряд ли она была пьяна – вином от нее не пахло. Мелиссин постоял в раздумье, поглядел на солнце и, прикинув, далеко ли до полудня, медленным шагом направился к Акрополю. Там, в тени портика, недалеко от солнечных часов, он принялся ждать, рассеянно оглядывая прохожих. Не очень-то поверив словам девицы, он уже представлял, как вместе с императором посмеется над ее баснями. Но в тот самый миг, когда часы показали полдень, на Акрополь действительно въехал высокий армянин на пегом муле, которого вел под уздцы коренастый мужчина, что-то оживленно говоря всаднику и жестикулируя свободной рукой. Их лица показались Феодоту знакомыми, но он не мог вспомнить, где встречал этих людей. Он немедленно подошел к ним и, поклонившись, сказал:
– Господа, приветствую вас! Не могу ли я чем-нибудь помочь? Вы, я вижу, прибыли издалека?
– Да, – ответил всадник, встряхивая копной черных жестких волос, – только вчера из Амория.
– Позвольте представить! – вмешался коренастый, слегка шепелявя, и, встав в картинную позу, возгласил: – Этот муж не кто иной, как господин Лев, стратиг славной фемы Анатолик и великий победитель нечестивого Фефифа и всескверного его воинства!
– И любитель же ты всяких представлений, Михаил! – усмехнулся Лев, слезая с мула. – Э, господин Феодот, а я тебя узнаю! Мы ведь встречались во дворце года полтора назад, забыл?
Они вместе пошли к храму святого Павла. Лев вошел в церковь и усердно помолился. Мелиссин сопровождал его, но от волнения молиться не мог, а Михаил остался на улице сторожить мула. Потом Лев с Михаилом отправились во Влахерны, а Феодот – во дворец. Императору Мелиссин сказал, что допросил девицу, но та плела какой-то пьяный вздор, и все эти ее «пророчества» – чушь, недостойная внимания…
Когда патрикий окончил рассказ и отошел, Лев несколько мгновений стоял, сквозь щель в пологе палатки глядя в небо. Перед ним всплыло давно забытое лицо – худое, желтоватое лицо монаха и темные, чуть навыкате глаза, так странно, странно глянувшие тогда на него, гарцевавшего на вороном коне у покосившегося плетня…
– Что ж, – прошептал стратиг, – значит, судьба!
И, наклонившись, он решительными движениями расшнуровал свои сапоги и отбросил их в сторону.
– Позволь, государь! – подскочивший Михаил склонился перед ним.
Лев сел, и Михаил быстро надел на его ноги пурпурные сапоги. В руках Феодота оказался красный плащ с золотой каймой, расшитый орлами, – тоже «припас»?.. Лев поднялся, Мелиссин и Леонид накинули на него плащ, и Максим застегнул его золотой фибулой.
– Да живет Лев, император ромеев! – воскликнул Мелиссин, и все бывшие в шатре упали ниц.
Лев опять побледнел, в голове у него зашумело. Поднявшиеся патрикии подхватили его под руки.
– Выйди к войску, государь, – сказал Феодот. – Оно ждет тебя!
Лев взял поданное Леонидом копье и шагнул вперед. Михаил и Максим распахнули перед ним полог шатра, и он вышел наружу. Всё войско было построено вокруг, наконечники копий, шлемы и щиты блестели на солнце. При виде Льва раздался общий крик:
– Да живет Лев, император ромеев!
Лев оперся на копье. Головокружение прошло, хотя он по-прежнему был очень бледен. И, глядя на тысячи склонившихся перед ним людей, он прошептал:
– Господи! Да будет воля Твоя!
…Марфа сидела в гостиной, уронив руки на колени, неподвижная, застывшая, будто полумертвая; казалось, в ней жили только глаза – обрамленные темными кругами, они словно занимали пол-лица. Ей вспоминалось, как еще недавно в этой комнате было так уютно и радостно: Марфа сидела за прялкой, и льняная нитка бежала в ее тонких пальцах, а Кассия, забравшись в кресло рядом с жаровней, обхватив руками колени и опустив на них подбородок, слушала отца, который сидел за столом и, положив перед собою книгу в кожаном переплете, читал вслух описание Святой Софии, сделанное Прокопием Кесарийским: «И всякий раз, как кто-нибудь входит в этот храм, чтобы молиться, – звучал в комнате низкий спокойный голос, – он сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но Божиим соизволением завершено такое дело; его разум, устремляясь к Богу, витает в небесах, полагая, что Он находится недалеко и пребывает особенно там, где Он Сам выбрал…» Потом приходила нянька с маленькой Ефрасией, и начиналась веселая возня…
В сущности, вся их семейная жизнь текла, словно один такой бесконечный уютный вечер, в тепле и тишине, явственной и сквозь льющееся чтение, и сквозь звуки прялки, и сквозь лопотание младшей дочери – мягкая, убаюкивающая тишина, покой, мир… Но вечер оказался не бесконечным. Закончилась книжка, оборвалась нить, и наставшая тишина – иная, звенящая и неожиданно жесткая – оглушила Марфу. Василия больше не было: сорокалетний кандидат был убит в битве с болгарами при Версиникии.
19. Шипы
(Владимир Высоцкий)
- Темнота впереди – подожди!
- Там – стеною закаты багровые,
- Встречный ветер, косые дожди
- И дороги неровные.
До возвращения турмарха Феофана, посланного как вестника в столицу, Лев решил не двигаться из лагеря. Тревога по поводу болгар оказалась ложной: они пока не собирались нападать, но устроили в Версиникии пышное празднество по случаю победы. Феофан возвратился в лагерь днем 27 июня и доложил обстановку в Константинополе: Рангаве отказывается от царства, сторонников у него немного, а патриарх не против нового императора – однако при условии, что Михаила и его семью не тронут и позволят им уйти в монахи, а новый василевс даст обещание ни в чем не колебать устоев Церкви. Вечером в шатре Льва собрался совет.
– Всё складывается как нельзя лучше, государь, – сказал Феодот Мелиссин. – Теперь надо написать патриарху.
Письмо было составлено в тот же вечер. Лев просил у святейшего благословения на царство и молитв, обещая, что сохранит жизнь всему семейству Рангаве и, воцарившись, будет хранить православную веру и церковные установления. Феодот хорошо владел витиевато-высокопарным стилем придворных посланий, и письмо получилось «что надо», как выразился Михаил. Шепелявый вообще был очень весел и возбужден, шутил, подбадривал нового императора и уверял, что в Город они войдут с триумфом. Лев в этом совсем не был уверен, волновался и плохо спал. Прочие архонты старались сохранять спокойный вид, но внутреннее напряжение ощущалось. Простые стратиоты с воодушевлением говорили, что у Рангаве всё равно нет войска, потому что его тагмы это «не войско, а бабы», и кричали, что если им не захотят открыть ворота, они возьмут Город штурмом.
Утром двадцать восьмого числа Феофан с двумя другими архонтами повезли письмо Льва в Константинополь, а на следующий день новый василевс с войском двинулся к столице. Продвигались довольно медленно: не хватало лошадей, и часть поклажи воинам пришлось нести на себе. 1 июля, в пятницу, войско встало лагерем у стен царствующего Города. Все ворота были закрыты. Множество людей смотрело со стен, но не слышалось ни проклятий, ни приветствий: все выжидали, как обернется дело. Поначалу, когда только распространилась весть, что во Фракии провозглашен новый император, константинопольцы пришли в ужас: в придачу к болгарскому разорению, перед ними вставала еще и угроза гражданской войны. Но патриарх, по просьбе императора Михаила, успокоил народ, сказав, что никто не хочет видеть государства, истекающего братской кровью, и что как только будут обговорены определенные условия, нового василевса немедленно впустят в Город.
Сам Михаил не хотел даже выходить к народу и проводил почти всё время у себя в покоях, в молитвах и посте. Императрица неистовствовала:
– Ты всегда был тряпкой, всегда! Другие государи на твоем месте использовали малейшую возможность, чтобы сохранить царство, а ты готов собственными руками открыть ворота этому мерзавцу! Да ведь ты еще и ноги ему будешь целовать! Ничтожество! Зачем только я вышла за тебя?..
Михаил слушал жену с олимпийским спокойствием. В прежние годы ее претензии немало его утомляли, но он не любил препираться и предпочитал уступать ее неуемной энергии. Однако сейчас, сделав самый важный за свою жизнь выбор, он внезапно обрел ту твердость и непреклонность, которых ему так не хватало раньше. Он даже – неслыханное дело! – осмелился язвить в адрес супруги:
– А что, дорогая, ты вышла за меня ввиду того, что я когда-нибудь буду повелевать Империей? Странно. Мне так долго казалось, что ты искала такого мужа, чтобы повелевать самой… Тебе это неплохо удавалось целых двадцать лет. А теперь пора тебе вкусить и иной жизни – в самоотвержении и послушании.
– Негодяй!
– Вот так-так. Я негодяй? Да, я стал негоден к тому, чтобы помыкать мною, это правда. В этом смысле я – негодяй. Но утешься: я и сам уже никем не смогу повелевать, мы в расчете, дорогая!
– Как будто ты раньше мог повелевать! Всегда тобой вертели другие!
– Ты, например.
– Если б только я! Этот твой Феоктист, чтоб его вороны склевали! И эти монахи…
– Да, и они. Не всё же одной тебе должно достаться. Надо и с другими делиться, при таком-то богатстве – шутка ли, владеть целым императором!
– Урод!
– Когда-то ты находила меня красивым… Но я старею, конечно.
– У! – Прокопия стиснула кулаки.
– Дорогая, – сказал Михаил, всё с тем же спокойствием и ясностью во взгляде, которые странным образом обезоруживали императрицу, – если б ты могла видеть себя со стороны, ты должна была бы понять, что случившееся было необходимо нужно – прежде всего для тебя… И для меня, конечно, тоже. Святой Давид говорит: «Благо мне, что Ты смирил меня, Господи!» Пришла пора и нам смириться. Это я совершенно серьезно. Возьми себя в руки. Пройдет время, и ты поймешь, что так было нужно. А сейчас просто возьми себя в руки.
Прокопия закусила губу, помолчала и опять взвилась:
– Нет! Нет, я не могу! Отдать корону Барке! Дочери этого негодяя Арсавира! Пять лет назад он хвалился, что костей не оставит от нашего рода, и вот – так оно и выходит! И по твоей милости, болван! Что за ужас! Что за позор! Позор!!
Михаил встал, подошел к ней, взял за плечи и встряхнул.
– Прекратишь ты или нет? – сказал он тихо. – Ты совсем обезумела! Будет Феодосия носить корону или не будет и кто вообще будет ее носить, нас уже не касается, понимаешь ты это или нет? Надо думать о будущей жизни. О будущей – не той, что начнется через несколько дней, когда Лев войдет в Город, а о той, которая будет после этой, временной. Ты о ней думала хоть когда-нибудь, а? Так подумай, пока не поздно!
Он слегка оттолкнул от себя жену, повернулся и вышел из комнаты. Прокопия постояла, глядя ему вслед невидящим взором, а потом упала в кресло и зарыдала.
Между тем патриарх отправил нескольких епископов в лагерь ко Льву со свитком, который новому императору предлагалось подписать. Текст этот был зачитан на совете архонтов в шатре Льва. Помимо исповедания веры, император должен был не просто дать обещание не отступать от православия, но поклясться вообще никак не затрагивать церковные установления и «не потрясать прекрасно установленные в Церкви святыми отцами священные догматы», – при этих условиях Льва обещали впустить в Город и короновать.
– Святейший боится, как бы я не привнес новшеств в нашу святую веру, а сам первый новшествует, – съязвил Лев. – Что-то я не знаю о таком, чтобы прежние государи приносили подобные клятвы в качестве условия венчания на царство.
– Никто не приносил, – подтвердил Мелиссин, – кроме Михаила Рангаве. Эта та самая присяга, которую патриарх составил к его коронации.
– И он поклялся?
– Да, весьма охотно.
– Но это не привлекло на него благоволения Божия, как мы видим, – усмехнулся Лев. – Ну, а я-то не Рангаве. Против веры я ничего не имею, разумеется, но и ставить себе условия тоже не позволю.
От Феофана и его спутников, отвозивших его письмо патриарху, Лев уже знал, что симпатии константинопольцев и Синклита склоняются на его сторону и это придало ему решительности. К тому же он менее всего желал хоть в чем-то подражать Михаилу и не собирался «быть тряпкой и ублажать черноризцев».
– Ставить условия Рангаве патриарх, может, и имел некоторое право, – сказал комит шатра Александр. – Ведь святейший сам дал добро на переворот против Ставракия, я знаю это из первых рук – от Стефана, доместика схол. Но сейчас совсем другое положение.
– Вот именно, – кивнул Михаил. – Сейчас налицо Божественная воля, и не патриарху противиться ей!
Ответ Льва посланцам патриарха был таков: довольно и тех обещаний, которые он уже изложил в письме к святейшему; более никаких присяг до коронации он приносить не намерен, ибо «Богом цари царствуют», а Бог уже явил Свою волю через поражение одного императора и всенародное провозглашение другого.
– Ведь и в столице, как нам известно, народ держится того же мнения, – добавил Лев, и епископы не нашлись, что ему возразить.
– А если они не откроют нам ворота? – спросил стратиг Леонид, глядя на удалявшихся патриарших послов.
– Можно подумать, что открытие ворот зависит от патриарха! – пожал плечами Феодот Мелиссин.
Ворота, однако, оставались закрытыми еще несколько дней, пока, наконец, из Фракии не пришла весть, что болгарское войско, получив значительное подкрепление в виде свежих отрядов, готовится идти на Константинополь. Когда император узнал об этом, он немедленно собрал совет, куда пришли патриарх с несколькими епископами, синклитики и начальники дворцовой и городской стражи.
– Завтра утром, – сказал Михаил, – вы откроете ворота и впустите Льва с войском в Город. Вы, господа, – обратился он к синклитикам, – встретите его подобающими славословиями. Всё дальнейшее, – он повернулся к патриарху, – пусть совершится своим чином и порядком.
– Государь… – начал было патриарх, но император жестом остановил его.
– Я знаю, что ты хочешь сказать. Сейчас уже не время. Через несколько дней болгары будут у стен Города. Довольно уже переговоров, посланий… В конце концов, господин Лев дал тебе обещание, а теперь да будет воля Божия. Я пока еще император, не так ли?
Патриарх склонил голову.
– А раз так, мои приказы должны быть исполнены. Завтра в полдень вы откроете ворота, а пока сообщите обо всем Льву и войску. Надеюсь, новый император окажется способнее меня к управлению вами и сподобится милости Божией. Простите же меня и не поминайте лихом!
С раннего утра 10 июля в лагере готовились ко входу в Город. К полудню палатки были свернуты, а войска выстроены. Из Константинополя доставили лошадей и доспехи, так что все стратиоты и архонты были при полном параде.
Льву казалось, что всё это происходит с кем-то другим, а он как будто наблюдает со стороны: как открылись Золотые ворота и оттуда вышли императорские тагмы и выстроились, чтобы сопровождать нового василевса во дворец; как войско вновь, уже официально, провозгласило его законным императором; как он в сопровождении тагм и остальных отрядов въехал в Город на великолепном белом коне, приведенном из дворцовых конюшен; как со стен раздались крики: «Да живет Лев, император ромеев! Льву жизнь, услыши Боже! Льва ждет римское царство! Христианское царство Бог да хранит!»; как синклитики, облаченные в парадные скарамангии и хламиды, встретили его у Студийского монастыря и запели по обычаю славословия; как, поклонившись в Студийской базилике мощам Иоанна Предтечи, он проследовал по Городу в сопровождении толп народа, приветствовавших его восторженными криками, и вошел в Священный дворец. Время до ночи пролетело быстро – в приемах, славословиях, знакомстве с придворными чиновниками и осмотре дворцовых помещений. К вечеру жена и дети Льва прибыли на новое место жительства. Феодосия, с тех пор как узнала, что войско во Фракии провозгласило ее мужа императором, пребывала в постоянном страхе, почти не могла спать, и только теперь, когда она очутилась во дворце и все вокруг приветствовали ее как будущую августу, ужас отпустил ее. Вечером Лев зашел проведать супругу. Она кинулась ему на грудь и заплакала:
– Боже мой! Лев, я так боялась!
– Ну, ну, – ласково сказал Лев, обнимая ее. – Как видишь, всё хорошо, слава Богу! Бояться больше нечего!
Она подняла на него глаза:
– Неужели всё это действительно происходит с нами?..
Коронация нового императора была назначена на следующее утро, перед литургией. После утрени, отслуженной в дворцовом храме Святого Стефана, Лев, одетый в скарамангий и легкий пурпурный плащ, с торжественной процессией проследовал в Великую церковь. Войдя в храм через южные двери, процессия остановилась. Здесь Льва торжественно переоблачили в шелковый дивитисий и расшитый золотом цицакий, после чего у центральных дверей в нарфике состоялась встреча императора с патриархом. Никифор был спокоен, хотя Льву показалось, что он несколько бледен и, быть может, устал. Взявшись за руки, они прошли по храму до царских врат, где после молитвы Лев принял от препозита зажженную свечу, а затем вместе с патриархом поднялся на амвон. Там на переносном престоле уже лежали стемма, хламида и фибула. Патриарх подал возглас, и началась литания.
– Паки и паки миром Господу помолимся! – высоким сильным голосом выводил ектению молодой архидиакон.
– Господи, помилуй! – привычно отзывались певчие.
Лев с высоты амвона оглядел Святую Софию. Море народа, все нарядно одеты. Синклитики, венеты и прасины выстроились полукругом справа от амвона.
– Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!
Патриарх чуть наклонился к императору и шепнул:
– После следующего прошения, государь, приклони голову.
Лев кивнул, и сердце – уже в который раз за эти дни – птицей затрепетало в груди.
– Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим!
«Всё!» – сказалось у Льва внутри, сердце стукнуло и провалилось куда-то. Наступало ожидаемое и неотвратимое – теперь уже точно и неизбежно. Он наклонил голову и, почти не дыша, слушал молитву патриарха:
– Господи Боже наш, Царь царствующих и Господи господствующих, чрез Самуила пророка избравший раба Своего Давида и помазавший того в царя над людьми Твоими Израиля, Сам и ныне услыши моления нас, недостойных, и призри от святого жилища Твоего, и верного раба Твоего Льва, его же благоволил воздвигнуть царем в народе Твоем святом, его же Ты стяжал честною кровию Единородного Сына Твоего, помазать сподобь елеем радования, облекая того силою свыше. Положи на главе его венец от камени честна, даруй ему долготу дней, подай же в десницу его скипетр спасения. Посади его на престоле правды, огради его всеоружием Святого Твоего Духа, утверди его мышцу, покори же ему все варварские народы, всади в сердце его страх Твой, к послушным же ему милость. Соблюди его в непорочной вере, покажи его строга хранителя Святой Твоей Соборной Церкви догматов. Да судит людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да спасет сынов убогих, и да наследник явится небесного Твоего Царствия. Ибо Твоя есть держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков!
– Аминь! – пропел хор.
Патриарх взял с престола тяжелую, расшитую золотом пурпурную хламиду и подал ее двум веститорам, а те накинули ее на Льва и застегнули на правом плече поданной им патриархом золотой фибулой.
– Мир всем, – возгласил патриарх, благословляя императора и предстоящих.
– И духови твоему, – ответили за всех певчие.
– Господу помо-олимся! – торжественно протянул архидиакон.
Патриарх, обратившись к престолу, на котором осталась только стемма, начал читать другую молитву:
– Тебе, единому Царю веков, земное царство от Тебе приемлющий подклонил выю, и молимся Тебе, Владыка всех: сохрани его под кровом Твоим, царствие его утверди и творить волю Твою во всем того сподобь, воссияй во днях его правду и множество мира, да в тишине его тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Ибо Ты – Царь мира и Спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков!
Когда певчие пропели «Аминь», патриарх взял с престола царский венец и возложил его на голову Льва со словами:
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В тот миг, когда прохладный золотой обруч коснулся его головы, Лев ощутил, как внезапно дрогнули руки патриарха и быстро опустились… слишком быстро… или ему почудилось? И тут он почти оглох от крика тысяч людей.
– Свят, Свят, Свят! – кричал весь собравшийся в храме народ. – Слава в вышних и мир на земле!
Лев выпрямился и взглянул в лицо Никифору. Губы патриарха чуть дрогнули, и император понял, что тот чем-то взволнован. Но в следующий миг патриарх уже справился с собой и спокойно и торжественно произнес:
– Слава в вышних Богу, и на земле мир!
Певчие повторили то же самое, и то же трижды прокричал народ.
– Се день Господень великий! – пели певчие. – День сей день радости и славы мира, когда венец царствия возложен достойно на главу твою!
Народ трижды повторял за певчими каждое славословие.
– Слава Богу, Господу всякой твари! Слава Богу, венчавшему главу твою!
Лев и слушал, и не слушал, у него слегка кружилась голова.
– Слава Богу, соделавшему тебя императором! Слава Богу, так тебя прославльшему! Да хранит Он тебя в пурпуре на многая лета!
Дальше всё было впервые: императорская молельня рядом с алтарем, каждение, ношение свечи на Великом входе и, наконец, причастие в алтаре… Иногда Льву хотелось потрогать самого себя за руку: «Может быть, я сплю?..» Потом были поздравления, подношения, праздничный обед… Коронация Феодосии августой была назначена на следующий день.
К вечеру Лев так устал от суеты и волнения, что еле передвигал ноги. Зато детям не сиделось на месте: Константин, Василий и Григорий носились по дворцу, совали нос везде, и понять, где они будут через четверть часа, было совершенно невозможно. Младшего сына Феодосия оставила на попечение кувикуларий, а сама готовилась к завтрашней коронации. В этот вечер императорское семейство уснуло далеко за полночь.
…Патриарх вернулся к себе в покои довольно поздно, молча просмотрел принесенные письма, после вечернего правила благословил келейника, пожелав ему доброй ночи, и затворился у себя в келье. Но, засыпая, Николай сквозь дрему слышал, как святейший всё ходит и ходит по келье туда-сюда, время от времени останавливается – молится?.. думает?.. – и опять ходит и ходит… Утром Николай принес патриарху воды умыться и несмело спросил:
– Ты плохо спал, владыка?
– Вообще не спал.
– Что-то случилось?
Никифор помолчал, опустив голову, взглянул на келейника и сказал:
– Вчера, когда я возложил корону на голову императора, я ощутил боль, как от уколов. Словно стемма была усеяна не драгоценными камнями, а невидимыми шипами.
20. Болгарское нашествие
(Владимир Высоцкий)
- Кто сказал: «Всё сгорело дотла,
- Больше в землю не бросите семя!»?
- Кто сказал, что земля умерла?
- Нет, она затаилась на время.
Правление нового императора началось с подготовки к вражеской осаде. Лев приказал днем и ночью охранять городские стены, причем лично проверял, как бодрствует стража и хорошо ли укреплены ворота, ободрял войско и народ, призывал не падать духом, но надеяться на Бога и призывать Его на помощь. Во всех храмах столицы служились литии с сугубыми прошениями о победе над варварами и о мире.
Константинопольцы, видя, что император везде сам присутствует и заботится об общем благе, проникались к нему доверием и благодарили Бога, надеясь на скорое посрамление врагов. Уже никто не вспоминал о Михаиле Рангаве, который, вместе с женой и детьми постригшись в монахи в самый день провозглашения Льва императором, удалился в обитель на острове Плати, с сыновьями Феофилактом и Никитой, оскопленными перед отправкой в монастырь. Лев повелел бывшему императору «жить тихо» и положил выдавать ему с семейством ежегодное денежное пособие. Прокопия вместе с дочерьми была отправлена в построенный некогда в Городе на ее же средства монастырь святого великомученика Прокопия. Постригшись, бывшая императрица всё время молчала, хмуро глядя себе под ноги, и даже не подняла глаз на нового императора, хотя и поклонилась ему вместе с мужем и детьми, когда тот вечером в день провозглашения пришел в Фарский храм Богоматери, где после пострига укрылось семейство Рангаве. Один Бог и, может быть, муж знали, чего стоил Прокопии этот поклон.
Патриарх на другой день после коронации приступил ко Льву с просьбой всё же подписать обещание хранить веру непоколеблемой. К удивлению Никифора, император тотчас с радостью согласился и действительно подписал составленное патриархом исповедание. Лев был искренен: молитвы, прочитанные над ним при венчании на царство, так впечатлили его, что он действительно всей душой желал быть «строгим хранителем святой соборной Церкви догматов» и получить помощь Божию в предстоящей борьбе с язычниками. Патриарх несколько успокоился, хотя тревога всё-таки затаилась глубоко внутри…
Через шесть дней после коронации Льва болгарское войско под предводительством Крума подошло к Городу, и хан устроил перед стенами показ своих военных сил, а потом на равнине у Золотых ворот совершил огромное жертвоприношение, заклав не только тельцов и овец, но и людей из числа пленных фракийцев, к ужасу наблюдавших за ним со стен горожан. Потом последовала странная церемония: Крум вышел на берег моря, омочил ноги и умылся, а затем окропил своих воинов, воздавших ему громкие славословия, после чего предводитель болгар прошел посреди своих жен и наложниц, которые, пышно разодетые, выстроились с обеих сторон его пути, кланялись хану и прославляли его. Ромеи смотрели на всё это со стен Города, но никто не решился ни помешать болгарам, ни пустить стрелу в Крума.
– Что делает, а?! – прошептал Феодот Мелиссин, стоя рядом с императором на башне.
– Ничего, еще запоет по-другому, проклятый варвар! – сквозь зубы процедил Лев.
Действительно, Крум, обозрев стены Константинополя, был сильно впечатлен их высотой, толщиной и крепостью и, поняв, что взять Город штурмом не сможет, слегка пограбил окрестности и обратился к переговорам, требуя выдачи золота, драгоценных шелковых одежд и некоторого числа отборных девиц. Император собрал совет, чтобы обсудить вражеские предложения.
– Никаких девиц этот негодяй не получит! – сказал он сразу же. – И вообще, неплохо бы вместо выкупа проучить его, а то он слишком зазнаётся.
– Государь, у меня есть одна мысль, – подал голос Иоанн Эксавулий.
Лев взглянул на него чуть насмешливо и спросил:
– Не приведет к добру мое начальство над войском?
Иоанн побледнел.
– Помилуй, августейший! – и он упал к ногам василевса.
– Помилую, но при условии, – император улыбнулся, – если будешь служить мне не только из страха, но и по совести. А давать советы, я знаю, ты премудр. Так что скажешь?
Эксавулий поднялся, лицо его просветлело.
– Можно вызвать Крума как бы для переговоров, и на условленном месте устроить засаду.
Наутро хану было отправлено письмо, где император приглашал его выйти у Влахерн к берегу моря безоружным, с несколькими своими людьми, обещая прислать туда послов, также без оружия, чтобы обговорить условия мира и «исполнить всё по желанию» Крума. Рядом с условленным местом была некая усадьба, где накануне ночью спрятались вооруженные воины. На следующий день Крум прибыл на берег Золотого Рога с тремя спутниками. Императорское посольство во главе с Иоанном Эксавулием, приплыло из города на ладье. Когда ромейские послы вышли на сушу, Крум сошел с коня, поручив одному из сопровождавших держать его наготове, и уселся на землю. Когда начались переговоры, Иоанн, сказав вводное слово, предоставил говорить логофету, а сам через короткое время, как бы невзначай, обнажил голову; это был условный знак для сидевших в засаде. Но Крум, оскорбленный жестом Эксавулия, вскочил на коня и поскакал к своему лагерю. Вослед хану понеслись стрелы, одна засела в его плече, заставив покачнуться в седле.
Константинопольцы, смотревшие со стен, подняли крик:
– Крест победил!
Между тем двоих спутников Крума захватили в плен императорские послы, а третий был убит ими на месте. Воины из засады преследовали хана, стреляя из луков, однако не смогли ни убить, ни догнать. Логофет выругался:
– Вот дьявол!
– По грехам нашим! – простонал комит схол.
– Иди к воронам со своими грехами! – огрызнулся логофет.
Эксавулий только вздохнул, но ничего не сказал.
Взбешенный Крум на другой же день стал беспощадно опустошать окрестности Константинополя и берег Босфора, разграбил предместье святого Маманта и вывез из тамошнего дворца драгоценные мраморы и статуи, огнем и мечом прошел по побережью Пропонтиды и, наконец, взял Адрианополь, уведя в Болгарию множество пленных. Лев не сразу выступил против болгар – надо было привести в порядок войска и укрепить свое положение в Городе. Старшего сына Лев короновал соправителем, переименовав из Симватия в Константина, по совету Феодота Мелиссина: «так будет благозвучней и благородней». В начале октября император выступил против болгар, разбил вражеские силы, отбил Месемврию и немало варваров захватил в плен. После этого военные действия были приостановлены – приближалась зима, и ромейские послы начали переговоры с болгарами по поводу обмена пленными.
К Рождеству Михаил перевез из Анатолика в столицу свое семейство – теперь уже навсегда: особняк в Амории он решил продать. На третий день Святок Лев пригласил старых друзей на ужин в узком кругу. Впервые попав в Священный дворец, Феофил смотрел вокруг во все глаза. Великолепные мозаики, разноцветные мраморы, золото, шелковые занавеси, парадные доспехи стражников, мозаичные полы – всё сверкало невиданной красотой.
– Пойдем, пойдем, милый, – торопила сына Фекла, – не останавливайся! Даст Бог, еще успеем всё это рассмотреть…
Императрица уже ждала их в небольшой комнате, смежной со столовой; император задерживался в Консистории, его детей тоже еще не было. Кроме царственной четы и трех их старших сыновей, к обеду ожидались только препозит священной спальни, логофет дрома, друнгарий виглы, протоасикрит и несколько кувикуларий. Все они уже собрались и ждали у парадного входа в столовую, когда государь пригласит их войти, но Михаила с семьей было велено привести с другой стороны – Феодосия хотела немного поговорить со старыми друзьями без церемоний и свидетелей.
Императрица оглядела Феофила, которого не видела уже довольно давно.
– У вас очень красивый сын, – сказала она. – Очень!
– Ты находишь, августейшая? – спросил Михаил, окинув мальчика критическим взглядом.
Он как-то никогда не задумывался о внешности сына. Фекла улыбнулась с тайной гордостью:
– Он еще и умненький у нас! Учителя прямо удивляются!
Феофил с отсутствующим видом рассматривал мозаики на стене, как будто разговор шел вовсе не о нем.
– Ты любишь учиться, Феофил? – спросила императрица.
Мальчик взглянул на нее серьезно.
– Люблю. Я хочу изучить все науки!
– О! – улыбнулась Феодосия. – Похвально!
– Он очень любит читать, – сказала Фекла. – Причем читает какую-нибудь книгу и целыми кусками рассказывает оттуда наизусть. Я поражаюсь его памяти!
– Да, видно, у него прекрасные способности, – императрица внимательно поглядела на Феофила. – Вот что я думаю… Лев тут пригласил учителя для наших мальчиков, иеромонаха Иоанна. Он великолепно образован – говорят, в столице нет ему равных, особенно в философии и риторике. Феодот Мелиссин посоветовал нам взять его учителем, и Лев очень им доволен. Феофил мог бы учиться у него тоже, вместе с Симва… с Константином и Василием.
– О, это была бы для нас величайшая честь, государыня! – сказал Михаил.
– Ах! – Фекла подошла к императрице и поцеловала ей руку. – Благодарю тебя, Феодосия! Мы не смели и мечтать о таком!
– Ты хочешь учиться здесь, Феофил? – улыбаясь, спросила императрица.
– Здесь? Во дворце? – мальчик во все глаза смотрел на нее.
– Ну, конечно.
– Хочу!
Тут дверь открылась, и в комнату вошел император, а за ним трое сыновей. Все радостно, хотя немного церемонно приветствовали друг друга. Император потрепал Феофила по голове:
– Ну, здравствуй, крестник!
Когда все, в том числе и приглашенные придворные уже прошли в столовую и сели за стол, императрица, переглянувшись с Феклой, сказала мужу:
– Лев, пока тебя не было, мы говорили о Феофиле. Он очень способный ребенок и хочет учиться. Я подумала: хорошо бы, если бы он учился с нашими мальчиками. Как ты на это смотришь?
– Прекрасная мысль! – император улыбнулся. – Феофил, ты хочешь учиться вместе с Константином и Василием?
– Очень хочу, крестный!
– Что ж, так тому и быть, – он улыбнулся. – Выпьем за молодое поколение!
– Ура! – воскликнул Василий. – Мы будем учиться вместе!
– Да, – сказал император. – Во сколько у вас завтра занятия? В полдень?
– Ага, – кивнул Константин.
– Хорошо. Значит, Феофил, тебе надо быть здесь в полдень, познакомишься с твоим учителем, сразу и учиться начнешь.
– Государь! – Михаил встал, благодарно прижав руку к груди.
– Без церемоний, Бога ради! – воскликнул Лев. – Ведь мы друзья!
И тут Фекла, поймав завистливый взгляд логофета, исподтишка брошенный на Михаила, впервые подумала, что дружба с императором имеет не только хорошие стороны… Феофил не замечал ничего и даже почти никого вокруг – он восторженно смотрел на василевса. Учиться во дворце!.. Как ему повезло! Как здорово, что крестный стал императором!
– Ты ешь, ешь, – шепнула ему мать. – Не надо так глазеть на государя, – она улыбнулась. – Еще успеешь наглядеться.
Феофил почти машинально принялся за еду. Он уже считал часы до завтрашнего полудня.
…Марфа приехала после осмотра своих поместий почти совершенно без сил. Ее утомила не столько поездка, сколько то, что она увидела. Фракия была опустошена: почти везде разорение, плач и вопли из-за убитых или уведенных в плен родственников. При виде чужого горя Марфа почти забыла о своем собственном. Она старалась, как могла, помочь и утешить, раздавала земледельцам деньги, пожертвовала довольно большую сумму на восстановление двух разграбленных храмов. Служивший в одном из них отец Нил поразил ее своим видом: бывший веселый и разговорчивый священник поседел и словно высох. Болгары изнасиловали и убили его жену, а сына и дочь, еще девушку, увели в плен, и теперь он подумывал о принятии пострига.
– Вот весна придет – уйду в Вифинию, на Олимп. Там святой старец живет, Иоанникий, ты, может, слышала, госпожа?
– Да, о нем много говорят…
– Вот. Пойду, спрошу, что мне делать, куда податься… Детей-то теперь… увижу ли? Да и когда? Скорее всего, только на том свете…
– Может, наши еще выкупят пленных?
– Может… Но всех не выкупишь. Господи! Что было тут! Не рассказать, не сказать… Ужас, кара Господня, видно, грехи наши до неба взошли… Пойду к святому старцу! Если скажет, что надо тут сидеть, ждать, что дети вернутся, буду ждать, а нет – там и останусь.
– А почему ты именно на Олимп хочешь идти, отче? Может, лучше, например, в Студийскую обитель?
– Думал я об этом, думал… Но видишь ли, госпожа… Времена неспокойные грядут, говорят, не пришлось бы «бежать в горы». Так я и думаю, что лучше сразу туда и идти, где потише будет.
– «Бежать в горы»? Кто это говорит такое?
– Приезжал ко мне знакомый дьякон, и рассказал, что святейший, когда венчал нового государя на царство, ощутил как бы шипы, вместо царского венца – терновый. И святейший, говорит, нехорошее предчувствует, не то смуту церковную, не то гонения…
– Ох… Но может, еще смилуется Господь, не попустит? В Городе вроде спокойнее стало, против икон не слышно, чтобы возмущались… Да ведь и император, говорят, обещание подписал, что не будет догматы колебать!
– Подписал, да… Ну, Бог ведает. Может, еще и обойдется, устроится… Вот у нас тут, как варвары прошли, так я думал – всё, конец настал, плач и запустение, пепелище и поминки… Ан, нет, гляжу – народ копошится, отстраивается, поля опять распахивают… Урожай, что не пожжено, собрали… Тут у одного селянина мало того, что весь сад разорили, погреба разграбили и скот угнали, так еще и дочь одну в плен увели, а другую… страшно и сказать… Принесли в жертву! Как барана какого, кровопийцы нехристи!
– Боже! – Марфа смотрела на отца Нила с ужасом. – Так это… говорили у нас, что они, когда Город окружили, там людей в жертвы приносили вместе со скотом… Господи!..
– Да, так оно и было… Взяли, еще когда туда шли. Один малец пленный потом сбежал от них, пришел сюда, голодный, драный… ну, и рассказал… Вот ты плачешь, госпожа, а Панкратий… Панкратием его звать, отца-то… знаешь, что сказал? Поплакал, конечно, а потом и говорит: «Вот, поделом нам, маловерам, мы ее в монастырь-то не хотели отдать, Богу в жертву, так ее теперь эта нечисть своим бесам в жертву принесла…» Ну, я ему сказал, что всё-таки она жертва Богу вышла, мученица, если христианкой умерла. А он спрашивает: «Так это она молиться за нас будет Богу там?» Я говорю: «Будет». Тут он и вовсе обрадовался: «Чего тогда и плакать!» – говорит. А тут на днях встретил я его и спрашиваю, как житье-бытье. А он говорит: «Да что – житье? Виноград вот сажать надо!»
Через два дня Марфа возвращалась в Константинополь. Когда повозка уже выехала на главную дорогу, Марфа обернулась, посмотрела на особняк, возвышавшийся на холме, – к счастью болгары не тронули его: управляющий умолил их обойти имение стороной, выдав им взамен лучших лошадей из конюшни, много пшеницы и вина, – окинула взглядом окрестность, белевшие там и сям домики земледельцев, перекрестилась и прошептала:
– Да… надо жить дальше… Сажать виноград!
21. Грамматик
(Виктор Цой)
- Чтение книг – полезная вещь,
- Но опасная, как динамит.
Прошло два месяца посла начала учебы Феофила в Священном дворце. Мальчик был в восторге от учителя: Иоанн, казалось, знал всё, мог ответить на любой вопрос, но при этом не подавлял учеников своим превосходством. Часто Феофил оставался после занятий задать вопросы, не имевшие отношения к текущим урокам, или просто поговорить с Грамматиком. Очень скоро Иоанн уже знал почти всё про семью своего нового воспитанника, про отношения родителей, про то, что Михаил не любитель «излишней» образованности, а Фекла очень хочет, чтобы сын был ученым… Феофил и не замечал, как рассказывал Иоанну то одно, то другое, хотя по натуре был вовсе не болтлив. Настал день, когда Грамматик узнал и о филомилийском отшельнике.
– Отец часто вспоминал одно пророчество, а мама всегда сердилась и говорила, что ей так надоели эти разговоры… А теперь, выходит, пророчество сбывается!
– И что оно гласило? – спросил Иоанн.
– Один монах когда-то, много лет назад, предрек моим крестному и отцу, что они станут императорами. Один за другим, представляешь?
– Вот как! То есть пророчество уже наполовину сбылось.
– Да! – тут Феофил испуганно зажал рукой рот. – Ой! Ведь мама мне запретила рассказывать об этом… о том, что и моему отцу тот монах предрек царство…
– Не бойся, я никому не скажу. Даю слово!
Вечером Иоанн закрылся в своей «библиотечной» келье, где хранил книги, зажег светильники, открыл стоявший в углу шкаф, достал оттуда несколько рукописей, разложил их на большом столе и долго перелистывал, а потом еще дольше сидел в задумчивости, облокотившись на стол и подперев рукой подбородок. Наконец, он поднялся и пробормотал, складывая пергаменты обратно в шкаф и запирая его на ключ:
– Что ж… «Пророчества не уничижайте»! Я ждал такого знака. Теперь можно начинать!
На другой день Грамматик отправился навестить своего брата Арсавира. Тот был старше Иоанна на два года и жил в их родовом имении на берегу Босфора. Оно походило на дворец в миниатюре: здесь были и большие здания с портиками, и сады с прудами, и баня, и хранилища для воды, а кроме того – об этом знали многие, но мало кто видел своими глазами – под особняком были вырыты подземные помещения с какой-то особенной вентиляционной системой, так что даже в комнатах, находившихся на два этажа вглубь, воздух был свежий и приятный; там хранились пифосы с вином, оливковым маслом и зерном, а также разные соленья. Однако при жизни отца братья жили очень скромно: Панкрат Морохорзамий был скуп, слуг держал всего несколько человек, пища к столу подавалась самая простая, гостей в доме почти не бывало, и атмосфера была не из веселых. Правда, пока была жива супруга Панкрата, ее родные иногда заходили по праздникам, но после ее смерти хозяин дома сделался совсем нелюдим и хмур, родственников принимать перестал, а свояченицу выгнал с руганью, после того как она, зайдя в гости, стала жалеть племянников – «бедных сироток», оставшихся «без матери, без ухода». Впрочем, денег на учебу сыновей Панкрат не жалел, однако у него были некоторые особенные понятия – например, он считал, что мальчикам нельзя надеяться только на отцовские сбережения и имущество, но они должны уметь зарабатывать себе на жизнь собственными руками и для этого, помимо грамматики и прочих наук, непременно выучиться какому-нибудь ремеслу. Старшего сына он решил обучить каллиграфии, а младшего – иконописи. Арсавир, несмотря на ежедневные занятия, спустя полгода продолжал писать как кура лапой, но всё-таки послушно «осваивал ремесло». Иоанн, напротив, наотрез отказался учиться иконописи. Отец бил его и запирал в подземных помещениях, оставляя по два-три дня на хлебе и воде, но мальчик не сдавался: смотрел угрюмо, молча портил доски, предназначенные для уроков художества, и смешивал краски в отвратительную серо-бурую массу. Наконец, после очередной порции увесистых подзатыльников, на вопрос отца, почему он не хочет заниматься, Иоанн ответил:
– Я хочу заниматься, но не этим. А если ты так хочешь чтобы я умел зарабатывать себе на жизнь этим, то дай мне заработать уже сейчас. Плати мне каждый месяц по золотому, тогда буду учиться, а нет – лучше в подземелье умру!
Панкрат ошалел от такой наглости. Где это видано, чтобы ученику платили за то, чтобы он учился?! Да еще по номисме в месяц!.. Тем не менее, через некоторое время отец сдался и после этого даже как-то зауважал младшего сына. Мальчик, однако, смотрел холодно, почти всегда молчал, в конце месяца получал свою номисму и через год уже превосходно рисовал. Учитель говорил, что у него замечательные способности, и Панкрат мечтал о том, как пожертвует работы сына в какой-нибудь монастырь и тем обеспечит себе вечное поминание. Но вышло иначе: закончив первую в своей жизни настоящую большую икону, Иоанн вместе с ней и со скопленными за время учебы золотыми исчез из дома, и Панкрат больше никогда не видел младшего сына. В имении с видом на Босфор Иоанн появился лишь через полгода после смерти отца. Как он провел вне дома семь лет, никто не знал, даже Арсавир: Иоанн предпочитал не распространяться об этом. Старший брат лишь узнал, что Иоанн действительно употребил в дело освоенное ремесло, на заработанные деньги ходил учиться астрономии, геометрии и философии, а потом бросил иконопись и занялся преподаванием.
– А отец скучал по тебе, – сказал Арсавир, – так хотел повидать перед смертью…
По отцовскому завещанию Иоанн получил право на половину имения и доходов с него, а кроме того, кругленькую сумму в золотых и серебряных монетах. Брат рассказал, что отец, умирая, плакал и каялся, что дурно обращался с «младшеньким»: «Где-то теперь он мыкается по Божиему свету?..» Иоанн побывал на отцовской могиле, постоял там с полчаса в молчании, положил земной поклон и, возвратившись, объявил брату, что предпочитает оставить всё это хозяйство на его попечение, а сам только время от времени будет наведываться сюда отдохнуть от столичной суеты и получить очередную сумму золотом «на текущие расходы».
– Это что же у тебя там за расходы такие? – поинтересовался Арсавир.
– Книги.
Через два года имя Иоанна было уже известно в Городе, всё чаще к нему прибавляли уважительное «Грамматик», и в конце концов это прозвище закрепилось за ним. Обучив наукам, входящим в так называемую «математическую четверицу», сыновей нескольких синклитиков и клириков Великой церкви, он стяжал себе некоторую известность, в том числе у патриарха. Тогда Иоанн поступил в монастырь святых мучеников Сергия и Вакха, где постригались в основном лица из знатных семейств, и выпросил себе там для жительства небольшую пристройку, разделенную на две смежных кельи: в одной он жил сам, а в другой разместил свою библиотеку, к тому времени уже немаленькую. Никто не помнил, как долго он пробыл послушником и когда именно постригся в монахи, – это случилось как-то само собой и незаметно. В монастырской жизни он участия не принимал: жил анахоретом и «занимался наукою», как уважительно отзывались о нем братия, – однако на все богослужения и в общую трапезную ходил исправно. Игумен дал ему послушание переписывать книги, но Грамматик занимался этим не в монастырском скриптории, а у себя в келье. Иные из монахов перешептывались у него за спиной, что Иоанн «от многого чтения пришел в гордыню и прелесть бесовскую», а кое-кто насмехался, будто Грамматик «ищет философский камень». Иоанн и к похвалам, и к порицаниям относился с презрением и дружбы ни с кем не заводил, хотя если к нему приходили с вопросами, отвечать не отказывался. А с вопросами приходили всё больше, и клирики, и миряне, часто люди далеко не безвестные; однажды сам император Никифор вызвал Грамматика во дворец, чтобы выяснить один вопрос, после чего Иоанна стали даже и побаиваться. Так он и жил при монастыре ученым отшельником. Патриарх рукоположил его в чтеца, но Иоанн как будто не стремился сделать карьеру, его интересовали почти исключительно книги. Мало кто знал, что он был состоятельным человеком, и что знаменитое Морохорзамиево имение с «Трофониевыми пещерами» наполовину принадлежало этому худому молчаливому монаху.
Однако Иоанн при случае посещал «Арсавирово хозяйство» и любил поделиться с братом теми или иными мыслями. Старший брат, хотя и не обладал такими познаниями и развитым умом, как младший, но науками интересовался и был достаточно начитан.
– Ну, что скажешь, философ? – улыбаясь, спросил Арсавир, когда братья вдвоем расположились на террасе, откуда открывался прекрасный вид на море. – Долго ты что-то не приходил… А у нас тут пыль столбом: к жене приехали сразу две племянницы, замуж собрались, и вот, целыми днями обсуждают наряды, зовут то портных, то аргиропратов, слуги уже сбились с ног… да и меня несколько раз чуть не сбили, так что я уж почти поселился в этом углу дома, только здесь меня и не достают, – он рассмеялся. – А ты, верно, раз появился, так уж что-то надумал?
– Да. «Се ныне время благоприятное»!
– «День спасения»?
– Он самый. Пора сокрушить кости икон.
– Ого!
Арсавир встал, прошелся по террасе раз, другой. Иоанн наблюдал за ним из глубокого плетеного кресла. Наконец, старший брат остановился перед младшим, пристально посмотрел на него и сказал:
– А я ведь никак не думал, что ты это всерьез.
– Как будто я не знаю! – Иоанн небрежно пожал плечами. – Вот беда большинства людей: они всю жизнь находятся в постоянном рабстве чужой воле и чужим идеям, причем воле тех, у кого власть, и идеям общепринятым. И всё почему? Потому что не просто не умеют, а даже и представить себе не могут, как можно свободно мыслить и самому выбирать свой путь. Это ведь не так легко и, в каком-то смысле, довольно-таки неуютно. А потому, даже если перед ними появится какой-нибудь… скажем так, проповедник, изложит некое учение, заинтересует их, в конце концов убедительно докажет свои взгляды, они только покивают, может быть, восторженно похлопают, покричат о том, какая прекрасная мысль и прочее, но с места не сдвинутся, чтобы воплотить это в собственной жизни. Накатанные дороги привлекательнее, стоптанная обувь удобнее, а старое вино кажется всегда лучше нового… Уже только этого достаточно, чтобы поверить, что христианское учение – не от мира сего!
– Эк ты повернул! – Арсавир подвинул кресло и сел напротив брата. – При чем тут христианство?
– При том, что христианство – учение чрезвычайно сложное. Неудобовразумительное даже местами, как еще апостол Петр сказал. Чтобы за таким учением пошли толпы народа, и не просто пошли, но принимали лишения, муки, смерть, – это, «по-человечески глаголю», несбыточно. И если оно так распространилось, завоевало почти целый мир, то тут явно видно действие силы не человеческой. Заметь, что, например, агарянская вера, которая появилась значительно позже и уже завладела множеством умов, гораздо проще… Подумай, какой насмешкой наша вера является над обычным человеком, желающим покоя телу и уму: малейшая тонкость, небольшое отклонение – и ты в ереси, погиб душой! Можно ли предположить, чтобы подобное учение было изобретено людьми с целью овладеть чужими умами? Чтобы покорить умы, нужны такие учения, которые могут быть понятны и младенцам, а не такие, которые и не всякий ученый поймет. Ты никогда не думал о том, что все ереси, сколько их ни было от Рождества Христова, всегда стремились упростить православие? И это потому, что в нем есть нечто запредельное, непонятное уму, и обессиливший земной ум начинает властно требовать своего – того, что он мог бы понять!
– Молока, а не твердой пищи… Но, послушай, эту твою блистательную речь иконопочитатель мог бы повернуть как раз против тебя. Не потому ли ты восстаешь против икон, что не понимаешь какой-то богословской тонкости?
– Я так и думал, что ты возразишь именно это, – с усмешкой ответил Грамматик. – Нет, Арсавир. Иконы это не «тонкость», а грубость. Упрощение, введенное для того, чтобы покорить толпы… Нет, не покорить даже, а дать им учение, понятное их недалекому уму, чтобы их разум питался хотя бы такой пищей. Умная молитва – дело тяжкое, требует внутренней работы, подвига, постоянства… Скажешь ты какому-нибудь торговцу: «Вот путь соединения с Богом: молись в уме своем, да воссияет тебе божественный свет!» – и что? Сколько надо потратить лет и сил, пока он воссияет? А может, он и до самой смерти не воссияет? Так и жить, не соединившись с Богом, так и умереть? Это ведь нелегко – жить с такой мыслью. А тут тебе – икона: «честь образа на первообразное восходит», взирая на образ материальный, умом мы восходим к нематериальному Богу и освящаемся Его благодатью. Взирая и лобызая, ибо эта благодать истекает от самого образа, как ему присущая. Как просто! Любому глупцу понятно, не правда ли? Некоторые даже вместо причастия краску с икон скоблят и потребляют – наглядная картинка к сказанному! А что до богословия, так ведь с «тонкостей» как раз наш с тобой разговор об иконах и начался во время о́но.
– Да, помню, – Арсавир помолчал. – Но я всё-таки не понимаю! Ты решил восстановить чистоту веры? Явиться, так сказать, спасителем народа от еретического пленения? Мессией? – он усмехнулся. – Народ, как ты говоришь, ищет простоты и неохотно идет за новыми учениями… допустим даже, что оно не новое, а подзабытое старое. Но в таком случае твоя затея почти наверняка провальна. Конечно, сейчас явилось немало противников икон… Это может облегчить тебе задачу, но… Полагаю, сторонников-то больше. И император вроде бы ничего против икон не высказывал до сих пор… Он, вон, даже клятву дал не колебать догматы Церкви! Среди придворных, как я знаю, большинство чтит иконы. Конечно, далеко не все, так сказать, сознательно и убежденно, но… Нет, не понимаю, на что ты рассчитываешь! Почему тебя так влечет эта затея? Сдались тебе эти толпы бездумных иконопочитателей! Не лучше ли оставить их веровать, как они привыкли, а не пытаться направить широкий поток в узкое русло?
Огонь полыхнул в глазах Грамматика.
– Да это ведь и есть самое интересное – развернуть вспять всю эту толпу и заставить ее последовать за собой!
Несколько мгновений братья смотрели друг другу в глаза, потом Арсавир отвел взгляд и проговорил:
– Ну ты, брат…
Он запнулся, помолчал, встал и прошелся по террасе, опять сел и сказал, усмехнувшись:
– И странные же шутки выкидывают мойры! Бывший иконописец собирается возглавить борьбу против икон!..
Иоанн рассмеялся.
– Я тоже об этом думал. Но кому же и возглавить ее, как не тому, кто изучил предмет, так сказать, вблизи и осязаемо? Да и потом, как будто я стал иконописцем по собственному желанию и влечению! – он чуть нахмурился. – Сколько глупостей и нелепостей, иногда погибельных, делают люди только потому, что их принуждают к тому родители!
– Ну, уж тебе-то грех жаловаться на родительский гнет! – возразил Арсавир. – Тебя никогда никто не мог ни к чему принудить… Всё сам, всё только своим умом! Мать – та вообще тебя чуть ли не боялась, хотя ты еще малявкой был. Отец, помню, дивился, в кого это ты таким «упрямым своенравником» пошел… Вот, разве что с иконописью только и вышло по его воле, да и то не совсем.
– У меня да, а у других бывает далеко не так! – отрезал Иоанн и встал, чтобы идти в другую половину дома, где находились его комнаты. – Ладно, я пойду к себе. Так что́, – он посмотрел на брата в упор, – ты предрекаешь мне провал?
– Ничего я не предрекаю! – буркнул тот. – Пророк я, что ли? Делай, как знаешь. Будто я мог бы тебя остановить, если б и хотел! Возможно, ты и прав… Но большой помощи на идейном фронте я тебе не обещаю, проповедник из меня никакой.
– Ха, так я на это и не рассчитывал. Довольно и без тебя людей, которые, если их убедить, смогут воздействовать на других – не риторикой, так авторитетом… или силой. Ты в этом деле был мне нужен для того, чтобы испытать на тебе действие некоторых идей – и только, Арсавир, и только.
Брат действительно был первым, перед кем Иоанн высказал вслух свои мысли насчет иконопочитания. Это случилось незадолго до начала злополучного похода Михаила Рангаве во Фракию. Братья встретились на праздничном богослужении в Великой церкви и после окончания службы разговорились, стоя в нарфике. Иоанн сказал, что за последнее время прочел кое-какие рукописи и обдумывает некоторые богословские положения. Арсавир заинтересовался:
– Слушай, приезжай сегодня к вечеру, расскажешь, что ты там надумал! И поужинаем вместе.
И вот, развалившись в кресле и скрестив на груди руки, Грамматик, наблюдая, как брат поправляет фитиль в светильнике, спросил:
– Ты помнишь, что говорит святой Григорий Богослов о том, как соединяются во Христе две природы – божество и человечество?
– Иоанн! – с шутливым упреком воскликнул Арсавир. – Я, конечно, читал не так и мало, но всё помнить наизусть мне не по силам. Из Богослова я помню хорошо то, что человек настолько же становится в обожении Богом, насколько Бог во Христе стал человеком… Еще помню насчет женских приукрашиваний… Недавно вот шпынял жену… Она всё норовит ресницы подкрашивать и румяниться, а я ей говорю: нечего ставить под подозрение естественную красоту! Обижается, – улыбнулся он. – А насчет соединения… Нет, уволь, не помню. Соборное помню, конечно: неслиянно и нераздельно. Не довольно ли и этого для мирского человека вроде меня? – он опять улыбнулся.
– Неслиянно и нераздельно – это да, кто ж не помнит. Но вот что иной раз удивляет меня: казалось бы, известнейшее Слово на Рождество Христово, все его слышали много раз в храме или сами читали… И никто не обращает внимания там на одно место… чрезвычайно интересное!
– Какое?
– «Источник жизни и бессмертия, отпечаток первообразной красоты, печать непереносимая, образ неизменяемый, определение и Слово Отца, приходит к Своему образу, носит плоть ради плоти, соединяется с разумной душой ради моей души, очищая подобное подобным, делается человеком по всему, кроме греха… О, новое смешение! О, чудное растворение! Сущий – начинает бытие, Несозданный – созидается, Необъемлемый – объемлется через разумную душу, посредствующую между Божеством и грубой плотью, Богатящий нищает – нищает до плоти моей, чтобы мне обогатиться Его Божеством».
– И что же?
– Заметь, как соединяются божество и плоть: «через разумную душу, посредствующую». Именно через это посредство объемлется Необъемлемый. Или, что то же самое, описывается Неописуемый. Не просто через плоть, а через одушевленную плоть. Понимаешь?
– Да, выходит, что так. Но что тут такого особенного? Понятно, что всякий живой человек есть одушевленная плоть. Не мог же Бог воплотиться в неодушевленную материю!
– Совершенно верно. Но что изображается на иконе Христа, например?
– Его плоть, конечно.
– А не божество?
– Нет, ведь оно неизобразимо. Но второй Никейский собор…
– Так-так, этот собор. Вспомним, что там говорилось: Церковь «не отделяет плоти Его от соединившегося с ней божества; напротив, она верует, что плоть обоготворена и исповедует ее единою с божеством, согласно с учением великого Григория Богослова и с истиной», а потому «мы, делая икону Господа, плоть Господа исповедуем обоготворенной и икону признаём не за что-либо другое, как за икону, представляющую подобие первообраза». Вот это следствие второго из первого совсем не очевидно.
– Как?
– А так. Да, плоть обоготворена, по учению великого Григория, всё верно. Но, по его учению, она обоготворена через посредствующую душу. Можно ли на иконе изобразить душу, как по-твоему?
– Душу? Конечно, нет. Она же бестелесна и невидима.
– Значит, на иконе мы изображаем одну плоть, без души, не так ли?
– Вроде бы так…
– Значит, получается, что на иконе невозможно изобразить обоженную плоть?
– Хм… Пожалуй, действительно так получается.
– Ты признаёшь, что пока рассуждение было логичным?
– Вполне.
– Прекрасно! Тогда ответь мне на вопрос: что в таком случае святого может быть в изображении такой не обоженной плоти и на каком основании можно называть иконы «священными» и поклоняться им?
…Настала шестая седмица Великого поста. Студийский монастырь уже вторую неделю был местом стечения самых разнообразных посетителей: стало слышно, что старец Платон при смерти, и люди спешили проститься с ним, попросить молитв и благословения. После возвращения из ссылки Платону не пришлось продолжать затворническую жизнь: он больше не мог ходить и нуждался в прислужнике. Он то лежал, то сидел, читая на память псалмы или совершая умную молитву, и принимал братий монастыря, приходивших к нему за советами и наставлениями. Он был уже совершенно не способен ни работать, ни даже читать; к нему приставили послушника, который при необходимости читал ему ту или иную книгу или церковное последование. Конечно, не могло быть более речи и о прежнем строгом посте и воздержании от омовений в бане, и старец скорбел об этом вынужденном ослаблении подвига, несмотря на уверения игумена Феодора, что Платон, которому шел восьмидесятый год, вполне заслужил этот незначительный и вынужденный отдых после сорока восьми лет непрерывного подвижничества и четырехлетних гонений за истину Христову.
Сам Феодор ходил по монастырю, как потерянный. Он понимал, что все когда-то должны отдать общий долг природе, что старец прожил святую жизнь и скоро присоединится ко всем от века угодившим Богу, и потому скорбеть о том, что Платон переходит в гораздо лучший мир, нежели здешний, не только неразумно, но и грешно, но… «Отче, отче, на кого ты меня покидаешь?» – этот горький помысел то и дело пронзал сердце игумена.
– Да не покидаю я тебя, Феодор! Хватит уже мучить себя, – прошептал старец, когда в цветоносный понедельник около полудня они остались в келье умиравшего вдвоем, что в последние дни случалось редко. – Всегда с вами духом буду! Перестань, чадо, не надо, не скорби.
Глаза Феодора наполнились слезами.
– Прости меня, отче, – тихо проговорил он. – Я стал таким же глупым юношей, как тогда… когда ты приехал к нам с Олимпа… Помнишь?
– Как не помнить! – глаза старца улыбались. – Только тогда ты как раз и перестал быть глупым… Видишь, как долго мы были вместе? Теперь мне пора, а у тебя есть еще тут дела́, Феодор. Еще много дел тебе предстоит!
Тут в дверь постучали, Феодор встал и отворил. На пороге стоял патриарх.
– Святейший! – игумен поклонился и взял благословение.
– Здравствуй, Феодор! – патриарх шагнул к ложу Платона. – Здравствуй, отче!
Платон силился приподняться, но патриарх остановил его знаком руки, подошел и благословил.
– Слава милости Божией! Посетил ты нас, смиренных! – прошептал Платон, целуя руку патриарха.
– Боялся я, что уж и не застану в живых тебя, Платон, – сказал Никифор. – Но милостив Господь! Не простил бы я себе, если б опоздал!
– Желал и я видеть тебя перед исходом, владыка, – ответил старец, – но не смел просить об этом твою святость. И вот, исполнилось желание убогой души моей… Теперь можно и умереть! Уж и часы мои сочтены… А отец игумен, – старец взглянул на Феодора, – сокрушается, вот, да и меня сокрушает… На кого, мол, я его покидаю!
Патриарх обернулся к игумену. Тот виновато улыбнулся.
– Не покинет он тебя, Феодор, – тихо сказал Никифор. – Тебе ли не знать этого? Но верую, что он будет предстательствовать за нас пред Богом. Вот и я пришел попросить молитв святых отца вашего… нашего общего отца!
– О, владыка! – только и сказал игумен.
Патриарх вновь повернулся к старцу, губы его дрогнули.
– Прости меня, отче! – сказал Никифор и опустился перед ложем на колени. – И помолись за меня.
– Владыка! – слабо вскрикнул старец. – Господь да простит тебя! Ты же прости мое окаянство и помолись, да неосужденно предстану пред престолом Божиим!
– Верю, что предстанешь Господу и сподобишься благодати молиться за нас! – сказал патриарх. – Поминай тогда нас, грешных… Неспокойно у меня на душе, отче! – вырвалось вдруг у Никифора. – Томит предчувствие, что нас ждут испытания…
– Благословен Бог, очищающий святых Своих в горниле искушений, да возблистают злата светлейше! – проговорил старец, и лицо его просияло. – Не смущайся, владыка! Испытания ждут вас, и великая слава ожидает вас, и не бойся, ничего не бойся. Храни веру, как зеницу ока, и Господь сохранит тебя! Благословен ты от Господа, и да будут благословенны пути твои!
Платон скончался на другой день, во вторник ваий. В самый день смерти он часто шепотом повторял: «Воскреснут мертвые, и восстанут сущие во гробах, и возвеселятся сущие на земле», – говоря и находившимся при нем в келье:
– Пойте, братия, пойте! «Воскреснут мертвые, и восстанут сущие во гробах, и возвеселятся сущие на земле»!
Старец умер в час захода солнца. Шепотом сказав краткое прощальное слово братии, он склонил голову набок и, закрыв глаза, глубоко вздохнул. Это был его последний вздох. Все стояли вокруг притихшие, а игумен опустился на колени перед ложем с телом своего духовного отца и прошептал беззвучно:
– Поминай нас, отче, у престола Божия!
22. Антикенсоры
Единственный недостаток в том, чтобы быть темной лошадкой – это невозможность поделиться. Масштабом сделанного, изящностью интриги.
(Мария Попова)
Возвращаясь из Священного дворца в Сергие-Вакхов монастырь, Грамматик иногда смотрел вокруг со странным ощущением: вот, жизнь идет, люди занимаются своими делами, и никто не знает, что уже скоро, скоро… Впрочем, кое-кто всё же знал – это был не кто иной как Феодот Мелиссин. Иоанн сблизился с ним вскоре после восшествия Льва на престол; это произошло как бы случайно, но на самом деле Грамматик действовал по плану. Еще за три месяца до того он узнал от монаха Симеона сплетню, будто сын патрикия Михаила Мелиссина, приходившегося шурином императору Константину Исаврийскому по его третьей жене, хранит у себя дома некие иконоборческие трактаты, которые его родные после второго Никейского собора припрятали и сберегли от сожжения. Сплетня эта чрезвычайно заинтересовала Иоанна, хотя вида он не подал. Грамматик понял, что, кажется, напал на след.
Незадолго до этого Иоанн наткнулся в патриаршей библиотеке на список «Размышлений» Марка Аврелия, где между девятой и десятой книгами нашел несколько вшитых листов из другой рукописи, написанных крупным четким почерком на очень хорошем пергаменте с широкими полями; видна была рука первоклассного писца; по верху и низу каждого листа шел орнамент из виноградных лоз, красиво выписанный киноварью, от времени слегка выцветшей.
«Вышепоименованный творец зла, – с таких слов начиналась эта рукопись, – не перенося благолепия Церкви, не переставал в разные времена и разными способами обмана подчинять своей власти род человеческий. Под личиною христианства он ввел идолопоклонство, убедив своими лжемудрованиями склонявшихся к христианству не отпадать от твари, но поклоняться ей, чтить ее и почитать Богом тварь, под именем Христа…» На следующем листе текст как будто бы продолжал предыдущий, но этого нельзя было сказать наверное, поскольку, просматривая рукопись дальше, Иоанн обнаружил, что это просто несколько разрозненных листов, сшитых вместе; между ними явно был пропуск: на одном листе текст вообще обрывался на середине фразы, а на другом продолжался уже с иного места.
«Они созвали весь священный сонм боголюбезных епископов, – читалось дальше, – чтобы, собравшись вместе, исследовать Писание относительно соблазнительного обычая делать изображения, отвлекающие ум человеческий от высокого и угодного Богу служения к земному и вещественному почитанию твари…» Следующий лист начинался с описания Вселенского собора, бывшего в Халкидоне; далее, по-видимому, снова после обрыва, шел лист, где излагалось учение о соединении в ипостаси Христа божества и человечества, а затем говорилось: «Однако всякий образ обыкновенно представляется происшедшим от какого-либо первообраза, и если изображение хорошо, то оно является единосущным изображаемому, чтобы оно удерживало все его черты, а иначе это и не образ. Итак, мы вопрошаем вас: как возможно, чтобы Господь наш Иисус Христос, будучи одним лицом при неслитном единении двух естеств – материального и нематериального, – писался, то есть изображался?»
Здесь вставка из неизвестной рукописи обрывалась. Полистав Деяния второго Никейского собора, Грамматик обнаружил там два первых отрывка – это были выдержки из соборного определения, принятого в Иерии при Константине Исаврийском; третьего отрывка Иоанн там не нашел, но это, очевидно, тоже была часть какого-то иконоборческого документа или трактата. «Любопытно, очень любопытно!» – подумал Грамматик и целую неделю не вылезал из библиотеки, роясь в ящиках, где хранились еретические рукописи, но ничего похожего не обнаружил. Тогда он стал внимательно перечитывать Деяния Никейского собора, изучая приведенные там иконоборческие положения и соборные ответы на них, а узнав сплетню про «еретический тайник» Феодота Мелиссина, стал выжидать удобного времени, чтобы выведать подробности. И вот, однажды Мелиссин по некоему делу зашел к игумену монастыря Сергия и Вакха. Уже уходя, он столкнулся на монастырском дворе с Иоанном. Грамматик как раз возвращался после очередного визита к Арсавиру в приподнятом настроении: доводы против иконопочитания, которые он развивал перед братом, действовали на того почти неотразимо.
– О, господин Иоанн, добрый день! – сказал Феодот, раскланиваясь с Грамматиком. – Я как раз сейчас думал о тебе, давно уж хочу зайти, поглядеть, как живут ученые мужи, – он улыбнулся. – Если ты, конечно, ничего не имеешь против.
– Всегда буду рад, господин Феодот! Если ты не торопишься, то я мог бы прямо сейчас принять тебя в моем скромном обиталище.
– О нет, я не спешу.
Библиотека Грамматика очень заинтересовала Мелиссина.
– Какое богатое собрание! – воскликнул он. – Даже не ожидал увидеть у тебя столько книг…
Он с любопытством покосился на шкаф в углу, который один из всех Грамматик не открыл, когда показывал гостю книги, но ничего не спросил. Иоанн следил за патрикием взглядом. Феодот полистал несколько рукописей и повернулся к хозяину.
– И что ты исследуешь сейчас?
– У меня несколько направлений интересов, – улыбнулся Иоанн. – Но преимущественно я занимаюсь философией. Вот, кстати, я бы хотел задать тебе один вопрос, господин Феодот.
– Да, разумеется.
– Недавно в патриаршей библиотеке я обнаружил любопытную книгу. Точнее, сама она ничего любопытного не представляет, это Марк Аврелий, но я нашел вплетенную туда вставку из другой рукописи – несколько разрозненных листов с отрывками из богословских трактатов. Мне удалось установить, что два отрывка взяты из определений Иерийского собора, опровергнутых затем на соборе в Никее. Но вот третий отрывок оказался из другого произведения. Я даже выписал…
Иоанн подошел к шкафу в углу, открыл его, достал с верхней полки лист пергамента и, прикрыв дверцы шкафа, протянул лист Феодоту. Тот стал читать, а Грамматик продолжал, не спуская с него глаз:
– Листы эти, видимо, из какой-то парадной рукописи: пергамент отменной выделки, причем места не жалели – поля огромные, прекрасный почерк, да еще вверху и внизу красивый узор из лоз…
На лице Феодота отразилось явное волнение, но он быстро справился с собой и, взглянув на Иоанна, сказал:
– Очень любопытный текст. По всей видимости, из иконоборческого сочинения. Ты говоришь, он вплетен в другую рукопись? Да, еретики так иногда прятали свои писания, спасая от уничтожения…
Он снова стал перечитывать скопированный отрывок.
– Я так и понял, – сказал Грамматик. – Вот теперь думаю: верно, надо сообщить об этом святейшему, чтобы он приказал вырвать эти вставленные листы и уничтожить? А то, неровен час, кто-нибудь еще прочтет и соблазнится… Время сейчас неспокойное.
– Любопытный текст! – повторил патрикий, не отвечая на вопрос. – Быть может, это даже отрывок из трактата самого Константина Исаврийского… Господин Иоанн, а ты знаком с преосвященным Антонием, епископом Силейским? – вдруг спросил он.
– Нет, – Иоанн был несколько удивлен таким поворотом разговора.
– Я тут получил письмо от него… Его интересуют некоторые богословские тонкости, и я подумал, что ты лучше смог бы разъяснить их. Могу ли я перенаправить его к тебе?
– Конечно, что за вопрос.
– Прекрасно, прекрасно! – Мелиссин вдруг как бы заторопился. – Прости, господин, сейчас мне пора идти. Думаю, мы еще поговорим с тобой…
– Надеюсь, господин Феодот.
Они вышли из «библиотечной» в первую келью, и тут Мелиссин, уже взявшись за ручку двери, повернулся и сказал, глядя в лицо Грамматику и в то же время как бы мимо него:
– А святейшему, думаю, про эту рукописную вставку говорить не стоит. Он и так весь в тревогах и заботах… Да и насчет соблазна для «малых сих» не стоит беспокоиться. Ну, кто в наши дни читает Марка Аврелия? – он усмехнулся. – Странно, что эта книга вообще оказалась в патриаршей библиотеке!
«Отлично! – подумал Иоанн, когда за Мелиссином закрылась дверь. – Феодот осторожен, но дал мне понять всё, что нужно! А у него, похоже, свои виды на эти листы из рукописи…» На следующий день Иоанн, отправившись в патриаршую библиотеку, захватил с собою ножницы и, поскольку за ним там уже давно никто не следил, спокойно вырезал из книги Аврелия листы, украшенные лозами, и спрятал под одежду; в тот же вечер они были заперты в «библиотечной» келье Грамматика.
После этого около месяца продолжалось затишье. Феодот при встречах с Иоанном раскланивался самым любезным образом, но не делал никаких попыток возобновить общение. Зато в сентябре Грамматик получил письмо от епископа Силейского Антония. Преосвященный спрашивал, каким образом при поклонении иконе изображенному на ней Христу воздается богопочитание, а самой иконе богопочитание не воздается. «Если же, – писал он, – поклонение едино, то не выходит ли, что мы воздаем иконе богопочитание и, таким образом, являемся идолопоклонниками?» Пока Иоанн раздумывал над ответом, подоспел очередной «знак»: на следующий день, в праздник Воздвижения Креста Господня, император венчал соправителем своего старшего сына, и Грамматик узнал, что предложение переименовать Симватия в Константина исходило от синклитиков, главным образом от Феодота Мелиссина. На другое утро, слушая в монастырском храме, как за богослужением поминали «благочестивейших императоров Льва и Константина», Иоанн несколько раз усмехнулся про себя и после обеда сел писать ответ Силейскому владыке – в духе теорий, которые с весны развивал перед Арсавиром.
За неделю до начала Рождественского поста Грамматик получил короткую записку от Мелиссина. Патрикий писал, что Антоний Силейский очень доволен итогами своей переписки с Иоанном, и приглашал Грамматика к себе на ужин. За ужином присутствовала вся семья Феодота, и разговор шел на общие темы, но после сладкого Мелиссин увел Иоанна к себе и, плотно прикрыв дверь, пригласил гостя сесть. Иоанн опустился в кресло возле стола, а Феодот скрылся за тяжелой шелковой ширмой в углу комнаты. Грамматик услышал звяканье ключей, скрип отворяемой и вновь запираемой дверцы – и патрикий появился с рукописью в руках. Он положил ее на стол – довольно толстую книгу в тяжелом украшенном серебром окладе – и открыл. Первое, что бросилось в глаза Иоанну, это крупный почерк, широкие поля и красноватый узор из лоз сверху и снизу страниц. Грамматик почти вскочил с кресла. Мелиссин улыбнулся и сказал тихо:
– Это полный текст определений Иерийского собора и «Вопросы» императора Константина. Здесь не хватает всего нескольких листов. Отец говорил мне, что книга стала разваливаться, и ее заново переплели; быть может, тогда листы и потерялись.
Грамматик тоже улыбнулся и молча вынул из-за пазухи страницы, которые он вырезал из книги «Размышлений» Марка Аврелия.
После этого Иоанн стал нередким гостем у Мелиссина. От него он скоро в подробностях узнал, как веруют синклитики и двор, что на уме у императора и множество других ценных сведений. Иконоборческая партия в Синклите была довольно сильна, но пока не выражала открыто своих взглядов; очень многие выжидали решения императора. Что до самого Льва, то он пока не думал о низложении икон: его сдерживали обещание, данное патриарху, и надежда, что можно будет добиться равновесия, не примыкая ни к одной из партий, а кроме того, Лев не был уверен в правоте иконоборцев.
– А к чему он вообще стремится? – спросил Иоанн. – Чего больше всего опасается?
– Хм… Ну, как и все государи, – ответил Феодот, – он хотел бы править долго и безмятежно, умереть своею смертью и передать власть детям. А опасается, понятно, противоположного. Впрочем, мне кажется, у него есть и какой-то особенный страх, но перед чем, я так до сих пор и не смог узнать. Но скажу сразу: только из страха потерять престол он вряд ли пойдет на церковный переворот – с одной стороны, по-военному горд и не захочет прослыть трусом, а с другой, благочестив и не станет предпринимать такой серьезный шаг, если не будет убежден в том, что это угодно Богу.
– Значит, надо убедить его, что ниспровержение иконопоклонства угодно Богу, поскольку восстановит истинный догмат веры, и что, если он пойдет на это, Господь продлит его царство и будет благоволить к его детям.
– Да, но в окружении государя нет достаточно богословски образованного человека, чтобы разрешить все могущие возникнуть сомнения. Ведь он, конечно, будет вопрошать и противную сторону, прежде всего патриарха.
– Думаю, – сказал Грамматик после краткого молчания, – я смог бы убедить государя. Но я к нему не вхож.
– Не беспокойся, господин Иоанн, – улыбнулся Феодот, – уж это я устрою.
В конце ноября игумен Сергие-Вакхова монастыря неожиданно сказал Иоанну, что ходатайствовал перед патриархом о рукоположении Грамматика и хиротония состоится на днях, а когда Грамматик вопросительно приподнял бровь, пояснил, что соответствующие указания исходят из дворца, и потому Иоанну больше не удастся сопротивляться, как он это делал в прошедшие годы. Действительно, побыв один день иподиаконом и три дня диаконом, Иоанн был рукоположен в священника. А спустя еще неделю император вызвал Грамматика к себе и сказал, что наслышан о его уме и познаниях, а потому хотел бы видеть его учителем своих сыновей. Через два дня Иоанн, уже причисленный к дворцовому клиру, давал Константину и Василию первый урок.
Получив свободный вход в Священный дворец, Иоанн, однако, вел себя скромно и сдержанно. Несмотря на то, что император иногда обращался к нему с вопросами, в основном относительно риторики – Льву хотелось уметь произносить речи по всем правилам ораторского искусства, – Грамматик всегда держался строго в рамках затрагиваемых тем, не говоря лишнего. Мелиссин иногда журил его, говоря, что дал Иоанну такую характеристику перед императором, что он мог бы действовать и посмелее.
– Не спеши, господин Феодот, не спеши, – улыбался Грамматик.
Он выжидал случая, чтобы узнать об «особом страхе» императора. И вот, как-то раз, когда занятия в «школьной» только что окончились, зашел кувикуларий и сообщил, что василевс просит Иоанна придти в императорскую библиотеку. Когда Грамматик пришел, Лев стоял у большого стола из черного дерева, на котором были разложены какие-то рукописи и астрологические таблицы Птолемея.
– Господин Иоанн, – сказал император, собственноручно закрыв дверь изнутри на засов, – ты ведь, с одной стороны, человек ученый, а с другой – монах, человек Божий… Веришь ли ты в пророчества? Точнее, я не так сказал… Не вообще в пророчества, а в то, что они, раз будучи изречены, так по предначертанному и сбываются, непременно и неотменно.
– Государь, твоему благочестию, думаю, известно, что даже истинные предсказания не безусловны. Ведь бывало, что дурные пророчества судом Божиим отменялись, если люди каялись и вели себя благочестиво. Думается, для твоего величества главное – хранить церковное благочестие и заботиться о благе державы и подданных. Ни в том, ни в другом никто из разумных, думаю, не сможет упрекнуть тебя. Но, – добавил Иоанн как бы простодушно, – разве государя беспокоит какое-то дурное пророчество?
Император, неспешно ходивший взад и вперед по зале, внезапно остановился и сказал как человек, долгое время желавший о чем-то поговорить, но до сих пор, хоть и с трудом, сдерживавшийся:
– Да, Иоанн, да! Видишь ли… В моей молодости, больше десяти лет назад, один монах предрек царство мне и еще одному человеку. Я тогда счел это пророчество пустой болтовней, но, как видишь, наполовину оно уже сбылось. И теперь я думаю о том, что если оно должно сбыться и во второй части…
– Относительно того другого человека?
– Именно! Так вот, это меня беспокоит, потому что, во-первых, мы почти одного возраста, я лишь на несколько лет старше его, и потому, если ему суждено царствовать после меня, то есть вероятность, что мое царствование прекратится… как-то внезапно и… Ты понимаешь?
– Да, государь.
– А кроме того, это в любом случае означает, что моим детям не суждено царствовать. Это тревожит меня больше всего!
– Августейший, как я уже сказал, тут всё зависит от мудрости и благочестия царствующего. Не изрек ли Господь через пророка Самуила, что Саул будет великим царем в Израиле и спасет народ от филистимлян? Не сказал ли пророк Саулу, что он изменится действием Духа Божия и будет творить всё, что сможет рука его, ибо с ним будет Бог? И это сбылось, но когда Саул отступил от Бога и стал грешить, тогда и пророчество потеряло силу, и Господь предал царство Давиду. С другой стороны, жители Ниневии, обратившись от грехов к покаянию и благочестию, отвратили гнев Божий, и дурное пророчество не сбылось. Как знать, быть может, пророчество, о котором ты говоришь, государь, имело в виду вовсе не то, что тот человек, получит царство, а то, что он будет тебе как бы «жалом в плоть», по выражению апостола, как бы напоминанием о том, что если ты вознерадишь, то станешь в очах Божиих недостоин царства, и тогда уже есть, кому передать престол вместо тебя…
– Ты хорошо сказал, Иоанн! – воскликнул император. – Наверное, ты прав… Мудрость и благочестие!..
Император вдруг взглянул на Грамматика так, словно хотел что-то сказать, но, видимо, передумал; это, однако, не укрылось от Иоанна. «Интересно было бы узнать, – подумал он, отправляясь к себе, – кто же был второй герой пророчества…»
Получив ответ на этот вопрос благодаря Феофилу, Иоанн понял, что «всё сходится»… и даже как-то «слишком» сходится. «Как после этого не веровать в провидение!» – подумал он. На другой вечер, зайдя к Феодоту Мелиссину, к которому мог приходить уже запросто, даже и без приглашения, он нашел его в дурном расположении духа.
– Не понимаю, Иоанн, чего ты тянешь? – раздраженно сказал патрикий. – Более удобный момент вряд ли представится. Если сейчас мы не убедим государя, его возьмут в оборот другие!
– Не сердись, господин Феодот, – спокойно и даже весело ответил Грамматик. – Осталось ждать совсем недолго. Я, кстати, как раз пришел просить тебя посодействовать ускорению дела.
– Да ну? – Мелиссин тут же переменил тон и выжидательно смотрел на Иоанна.
– Нужно, чтобы некто – ни в коем случае не я и, лучше всего, также не ты, довел до государя такую мысль: все императоры, ниспровергавшие иконы, не только вели победоносные войны с варварами и вообще правили довольно счастливо и, что касается государей Льва и Константина, долго, но и умерли своею смертью и передали царство своим сыновьям. А все государи, царствовавшие после восстановления иконопочитания, кончили довольно-таки плохо: Константин ослеплен, Ирина свержена, Никифор убит варварами, Михаил низложен. И, кроме того, военных побед на их счету почти не значится…
– Да это известно и так! – перебил Мелиссин. – Об этом говорят и в войске, и в народе, и давно говорят, эта мысль уже «доведена» до государя и без нас! Но иконопочитатели имеют на это свои возражения…
– Погоди, это еще не вся мысль. Главное, что надо довести вслед за этой мыслью, – то, что восстановление иконопочитания было сделано без должных богословских изысканий, грубо и неубедительно – и потому, кстати, в обществе до сих пор сильно противление иконам, – а значит, нужно, если не сразу отменить решения Никейского собора, то, по крайней мере, пересмотреть вопрос заново. Кроме того, надо представить ему и политическое соображение, которое государю, думаю, будет небезынтересно.
– А именно?
– Иконопочитатели не имеют единства между собой, они еще со времен восстановления икон разделены на сторонников строгого соблюдения правил и любителей снисхождения к немощным. Студиты очень усилили первый лагерь, но их противники, хоть и слабее духом, зато многочисленнее. Как я знаю, многие были недовольны студитами до такой степени, что не хотели признавать примирения патриарха с ними и до сих пор в душе считают их схизматиками и гордецами. С другой стороны, в лагере студитов тоже есть недовольные тем, что игумен Феодор примирился с патриархом на слишком мягких для Никифора условиях. Настоящего единства среди них нет: пожар лишь утих, но угли тлеют… Не удивлюсь, если когда-нибудь этот огонь вспыхнет снова. Для нас это может обернуться выгодно: отсутствие единства ослабляет противника. Разумеется, Феодор и ему подобные будут рьяно бороться за свои догматы, но зато сторонники политики снисхождения, думаю, в большинстве своем будут нашими, сразу или со временем, – особенно если увидят, что появился некий третий лагерь, с хорошо обоснованной догматикой и не слишком склонный к канонической строгости. А если на стороне этого третьего лагеря будет император, то…
– О, премудрый Иоанн! – воскликнул Мелиссин. – Теперь-то я понял! Всё будет сделано!
Дело было поручено протопсалту Евфимию, чьи симпатии к иконоборчеству давно были известны Феодоту. Успеху разговора способствовало и то, что на другой день после него, когда император был весь в раздумьях, из Болгарии пришла весть о смерти Крума: хан, готовившийся весной вновь пойти на Константинополь и уже собравший с этой целью множество осадных машин и прочих приспособлений и орудий, в Страстную пятницу умер жуткой смертью: внезапно он стал задыхаться, а через его рот, ноздри и уши потекли струйки крови, он упал навзничь, и когда подоспели врачи, хан был уже мертв. Среди болгар поднялось смятение, в результате чего некоторым пленным ромеям удалось сбежать, они и доставили на родину отрадную весть о «победе Креста». Новость облетела столицу, говорили, что Господь «невидимо поразил нового Сеннахирима». Иоанн, узнав о подробностях смерти Крума, задумчиво сказал:
– Любопытно… Похоже на отравление!
– Всё-то ты стремишься объяснить научно! – усмехнулся Мелиссин. – А все говорят, что это чудо Божьего вмешательства.
– Одно другому не мешает, – тонко улыбнулся Грамматик.
Когда император, взбудораженный тем, что услышал от Евфимия, обратился с вопросами к Иоанну, представить василевсу убедительные для него богословские доводы против иконопочитания не составило для Грамматика труда. Кроме того, Иоанн, как бы невзначай, упомянул и о том, что после второго Никейского собора все императоры, чтившие иконы, были несчастливы на войне и плохо закончили свое царствование, и это тоже впечатлило Льва – ведь одно дело, когда что-то говорит необразованный и суеверный народ, а совсем другое, когда это же слышишь из уст ученого мужа… Император, в свою очередь, изложил как собственную мысль, соображение о том, что иконоборческий лагерь может стать очень привлекательным для значительной части церковного народа, разделенного сейчас на ревнителей канонов и на более уступчивых, и таким образом церковная жизнь, возможно, станет внутренне более уравновешенной, чем это было в последние пятнадцать лет. Грамматик, конечно, горячо поддержал эту мысль василевса.
– Послушай, господин Иоанн, – сказал под конец Лев, – ты всё говоришь хорошо, но у меня есть еще одно сомнение… Ведь не на пустом же месте строилось обоснование иконопоклонства в Никее. Они опирались на предания, обычаи…
– Конечно, – улыбнулся Грамматик. – Только эти обычаи и предания имели совсем иной смысл, нежели им теперь придают. Изображения, как предметы, о чем-то напоминающие нам, – совсем не то, что изображения как предметы поклонения. Но сейчас, когда в угоду невежественной толпе их сделали предметом для нездорового почитания, настоит необходимость бороться с этим, иначе мы совсем потопим дух веры в бездушной материи.
…Император стоял у одного из окон в своих покоях, облокотившись на подоконник, и смотрел на сад, поражавший своей красотой. Несмотря на внешнюю суровость и почти страсть к военным походам и сражениям, Лев любил цветы, более всего лилии, и потому еще осенью приказал посадить их побольше прямо под окнами. Теперь они уже зацвели, и император, обдумывая только что состоявшийся с Иоанном разговор, любовался на огромную круглую клумбу, где на белом фоне цветы образовывали пурпурный крест, обрамленный алым, а от креста по белому расходились во все стороны желтые лучи; желтым, но более темного оттенка, был и обод, обрамлявший клумбу – и всё это из лилий. «Надо будет наградить садовников, – подумал Лев. – Постарались на славу!» Он повернулся к Грамматику, который стоял у соседнего окна, но смотрел не на сад, а вдаль, на лениво поблескивавшее за стенами море.
– Думаю, твой план хорош, Иоанн. Но сколько времени, по-твоему, вам понадобится, чтобы собрать материал?
– Вероятно, несколько месяцев, государь. Думаю, не меньше трех, но быть может, и больше, если придется ездить и по отдаленным монастырям. Все зависит от того, как скоро мы найдем нужные книги.
– Это понятно. Но, с другой стороны, нужно изъять и те книги, которые слишком явно проповедуют ложное учение.
– Безусловно, это было бы весьма полезно, августейший.
– В таком случае без объезда дальних обителей не обойтись… Итак, вероятно, месяца четыре-пять?
– Пожалуй.
– Возьмем шесть для полной уверенности. Да еще время для окончательной подготовки… Итак, к Рождеству Христову?
– Да, государь.
– Евфимий и господин Иоанн Спекта будут помогать тебе. И Феодот, само собой. А что с преосвященным Антонием?
– Он одобряет план и, думаю, уже в середине лета сможет присоединиться к нам.
– Прекрасно!
– Господин протоасикрит также выразил желание участвовать в работе.
– О, и Евтихиан? Хорошо, очень хорошо… Итак, Иоанн, – император улыбнулся, – у тебя будет свой боевой отряд… Точнее, не боевой, ведь вы пока высылаетесь вперед, чтобы разведать и изучить удобные пути для войска. Значит – антикенсоры веры!
Возглавляемая Иоанном группа лиц, которым император поручил собрать богословский материал для будущего собора, начала работу после Пятидесятницы; всем членам группы было разрешено жить во дворце и питаться от императорского стола. Никто и не подозревал, что у Грамматика уже давно был не только собран и заперт в шкафу в его келье необходимый материал, но и в главных чертах разработана та богословская система, которую он надеялся преподнести для принятия на будущем соборе. «Вопросы» Константина Исаврийского, хранившиеся у Мелиссина, не привнесли много нового в построения Иоанна, а, скорее, подтвердили обоснованные им положения; впрочем, у Грамматика были и некоторые собственные идеи. Шесть месяцев, данные императором, он надеялся употребить на сбор не столько дополнительных доводов – хотя, конечно, не исключал возможности, что найдет еще что-нибудь ценное по вопросу об иконах, – сколько разных редких рукописей, особенно эллинских авторов, которые могли обнаружиться в пыли монастырских и храмовых библиотек.
23. Предвестия
Вы же, братия, не во тьме, чтобы день постиг вас, как тать; ибо все вы – сыны света и сыны дня… посему не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.
(1-е Послание апостола Павла к Солунянам)
– Отцы мои и братия! Бог привел людей в мир для того, чтобы они, служа Ему добрыми делами, соделались наследниками небесного царствия. Но нам, монахам, Он даровал, помимо этого, еще особую, великую благодать. Ибо избрав нас из всего мира, Он поставил нас пред лицом Своим, чтобы мы служили державе Его без развлечения и суеты. Но почему я напоминаю об этом? Потому, братия, что каков дар, таков будет и спрос…
В храме Студийского монастыря после вечерни игумен говорил очередное огласительное поучение. Глуховатый голос, уже много лет звучавший в стенах этой древней базилики, увещевая, обличая, похваляя, ободряя и вдохновляя многочисленное братство, сегодня был суровее обычного.
– Не слышали ли мы многократно во святом Евангелии, – говорил Феодор, – что кому много дано от Бога, с того много и спросится? Не должен ли каждый из нас смотреть и наблюдать за тем, живет ли он сообразно с тем небесным званием, которого мы сподобились быть причастниками? И что же? Вы видите, что происходит у нас, несмотря на столь многие поучения, которые вы слышите от меня, несчастного, несмотря на чтение божественных Писаний и отеческих наставлений, несмотря на постоянную молитву и исповедь! Разве у нас не бывают часто волнение и малодушие, шумные разговоры, преслушание, надменность и тщеславие, праздность и дерзость, небрежение и холодность к порученным делам, нетерпение и ропот на старших?
Монахи стояли, кто глядя на игумена, кто косясь на соседей, кто низко опустив голову, а некоторым хотелось провалиться сквозь мозаичный пол или как-нибудь скрыться внутри одной из темно-зеленых мраморных колонн. Лучи вечернего солнца, вливаясь в храм через два ряда окон на южной стене, не достигали, однако, середины широкого центрального нефа, который в любое время дня был несколько затенен. И сегодня кое-кому из братий, стоявших справа, эта полутень казалась словно бы еще более тенистой и в любом случае более желанной – так хотелось им избежать острого игуменского взгляда…
– Но спрошу вас, братия: как мы сможем оказаться вместе с отцами, если не будем, насколько возможно, подражать их жизни? Мы не хотим нести ига послушания, не желаем явить хоть немного смирения, не хотим вооружить души терпением, но даже малая противность способна вывести нас из себя! Что же мы будем делать, когда посетит Господь? Вы помните, что мы пережили гонения, и кому-то они показались невыносимыми, так что некоторые отпали, хотя почти все и возвратились после с покаянием. Но теперь никто не гонит нас, у нас изобилие всего, а если иногда и бывает в чем недостаток, то и тогда – разве мы голодаем? Разве хоть однажды мы оказались без дневного пропитания? А ведь в миру не все имеют даже и его! И мы смеем роптать, а некоторые даже дерзнули, как вы знаете, самовольно оставить обитель! Как не страшимся мы суда Божия? И что я говорю о последнем и страшном суде, когда суд может постигнуть нас еще раньше? Не отберет ли у нас Господь во гневе то, что даровал столь милостиво? Что сделаем мы, если начнется новое гонение? Разве нам кто-то обещал, что мы до скончания жизни пробудем здесь в покое? Не говоря о том, что никому из нас не обещано, что он доживет даже и до завтрашнего утра: «не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий»! Как же можно столь беспечно предаваться нерадению, чада?
После вечерни, по дороге в трапезную на ужин, брат Ефрем тихонько спросил у шедшего рядом Агафона:
– Что это отец наш про гонения заговорил? Вроде бы ничто не предвещает…
– Не знаю, брат. Может, и предвещает что-то, да мы не знаем…
Игумен же, сидя за трапезой, вспоминал последний разговор с патриархом, состоявшийся накануне.
– Тебе не кажется, отче, – спросил Никифор, – что Иоанн Грамматик что-то замышляет против икон?
Слухи о деятельности «антикенсоров веры» начали бродить по Константинополю спустя два месяца после начала работы группы, когда к ней присоединился прибывший в Город епископ Силейский Антоний. Говорили разное, но более всего держались два мнения: одни рассказывали, что некие лица под руководством епископа Антония изучают древние рукописи, чтобы проверить, нет ли там каких указаний на будущность новой династии; другие утверждали, что на самом деле группу возглавляет Иоанн Грамматик и готовится «крушение веры». Сам преосвященный Антоний на вопрос патриарха сказал, что вероучительных вопросов они не исследуют, а занимаются в основном эллинскими сочинениями и астрологическими выкладками, поскольку император хочет узнать о продолжительности своего царствия и особенно о том, дарует ли ему Бог передать престол сыну, а кроме того, отчасти интересуется рекомендациями христианских отцов и древних философов относительно управления подданными.
– Повелел нам искать сочинения об этом не только в Городе, но и в отдаленных местах, хочет всё собрать в дворцовой библиотеке.
Действительно, вскоре все «антикенсоры», кроме протоасикрита, протопсалта Евфимия и Феодота, оставили столицу и отсутствовали до середины октября. Между тем в конце августа император вызвал к себе патриарха и сказал:
– Святейший, я тут читал книгу божественного пророка Исаии, и у меня возникли некоторые вопросы, которые я решил задать твоей честности.
– Я постараюсь ответить по мере моего разумения, государь.
– Очень надеюсь на это, святейший, ведь высота твоего ума и благочестия известны всем. В сороковой главе, – император раскрыл перед патриархом заранее приготовленную книгу и указал место, о котором говорил, – пророк вопрошает: «Кому уподобили вы Господа, и коему подобию уподобили вы Его? Не икону ли сотворил древоделатель, или золотарь, расплавив злато, не позлатил ли Его, подобием сотворил Его? Ибо древо негниющее избирает древоделатель и мудро ищет, как поставить икону Его, и да не поколеблется она». Я бы, наверное, не обратил на это внимания, если бы не вспомнил, как, еще в бытность мою стратигом Анатолика, один из господ архонтов не обмолвился однажды, что у пророка Исаии есть «пророчества против икон». И вот я вспомнил об этом, вчитался и смутился. Неужели тут действительно сказано о святых иконах?
– Нет, государь, – спокойно ответил патриарх, хотя сердце его тревожно забилось. – Ты и сам можешь увидеть, даже из этого малого отрывка, что речь тут об образах не в том смысле, в каком употребляем их мы. Видишь, пророк говорит, что иудеи, которых он обличает, уподобили Бога некоему «подобию», какой-то «иконе», как бы Самого Его сотворили из золота. Ведь язычники поклонялись и поклоняются своим идолам как самым богам или воображают, что Бог такой, как они его выдумали и изобразили. На самом же деле они никогда не видели Бога и не знают, каков Он, а потому их идолы суть плоды нечестия, образы несуществующих богов. Против этого зла и боролись святые пророки. Мы же, после того как Господь Иисус Христос истинно воплотился, изображаем Его по плоти и через Его образ возводим ум к Первообразному, а вовсе не самые иконы чтим, как богов. Этим и различаются иконопочитание и идолопоклонство.
– Ты говоришь хорошо, владыка, – ответил император. – Я и сам думал примерно так же, но хотел услышать твое мнение. Благодарю, святейший!
– Государь, – патриарх пристально взглянул на него, – осмелюсь обратиться к тебе с просьбой.
– Разумеется, я слушаю.
– Если кто-то… будь то господа архонты или люди простые, или из клира… Если кто-нибудь из них еще будет смущать тебя подобными доводами или просто излагать их как нечто, достойное внимание или любопытное, – прошу тебя, августейший, посылай их ко мне для беседы. Мне думается, так будет лучше для мира Церкви и твоей державы.
– Конечно, святейший, конечно! Но пока у тебя не должно быть поводов для подобного беспокойства. Все подданные нашей державы держатся правой веры, а если не так, то отступники скоро обнаружатся, молитвами Заступницы нашей Богородицы!
«А если не так…» Чем дольше патриарх размышлял над разговором с императором, тем двусмысленнее ему казались последние слова василевса. Кроме того, Лев ведь так и не назвал имя архонта, который завел с ним разговор про «иконоборчество» пророка Исаии. Да был ли он, этот «архонт»? Или, может, это был… кто-то другой?
Поделившись своими сомнениями со Студийским игуменом, Никифор узнал от Феодора кое-что, подтверждавшее его опасения.
– Замышляет? – переспросил Студит. – Гм… Я не задумывался об этом, владыка, но… Возможно, это действительно так. Ведь у меня была с господином Иоанном небольшая переписка.
– Вот как!
– Да. Он первый написал мне, это было… где-то в январе, насколько я помню. Спрашивал, как я понимаю термин «подлежащее». Он сомневался, что это понятие включает в себя сущность вместе с лицом…
После того как состоялось примирение студитов с патриархом и братия вновь вернулись в свой монастырь, Феодор встретился с Грамматиком в Великой церкви в день Преполовения Пятидесятицы. Они раскланялись, и приветствовали друг друга праздничным «Христос воскрес!»
– Приятно видеть тебя вновь в этом храме, отец игумен, – сказал Иоанн, и его губы тронула улыбка настолько тонкая, что ее можно было бы принять за насмешку, если б не дружеский тон Грамматика.
– Да и мне приятно вновь находиться здесь, господин Иоанн! – ответил Феодор.
– Ты не сердишься на меня? – Иоанн смотрел ему прямо в глаза.
– За тот собор? О, нет! Я с самого начала знал, что его решения не проживут долго. А что ты тогда повлиял на итог заседания… Да не особенно, в общем-то, и повлиял, – Феодор улыбнулся. – Хотя, конечно, твой ход был неглуп. Но им и самим хотелось нас осудить во что бы то ни стало, и они бы это сделали так или иначе, а большая или меньшая строгость приговора – вещь не такая уж важная. Ведь мы всё равно прервали бы общение с теми, кто так явно пошел против заповедей!
– Можно ли ожидать иных речей от знаменитого предстоятеля Студия! – Грамматик улыбнулся, опять так же тонко. – Я рад нашей встрече, господин Феодор. И рад, что между нами отныне ничего не стоит. Не так ли?
– Конечно!
Однако некий осадок у игумена внутри после этого разговора остался. Впрочем, Феодор немедленно укорил себя в подозрительности, размыслив, что Грамматик просто очень сдержан, видимо, от природы, и на людей более открытых и пылких может иной раз производить не слишком приятное впечатление, хотя на деле за этим ровно ничего не стоит. «Кроме нашей неспособности соблюдать заповеди, как до́лжно!» – вздохнул игумен.
Феодор мало общался с Грамматиком и был немного удивлен, когда тот написал ему. Оказалось, Иоанн прочел одно из сочинений Феодора относительно иконопочитания, и решился прислать автору некоторые свои соображения. Они показались игумену дельными, и он поспешил ответить Грамматику, вкратце обрисовав свое понимание вопроса, полагая, что такому умному человеку, как Иоанн, этого будет достаточно. Вскоре он получил от Грамматика ответ. Иоанн, похвалив «мудрость и глубокий ум» Студийского игумена, странным образом обошел молчанием собственно содержание письма Феодора, но зато задал новый вопрос – о том, как понимает Студит различие между богопочитанием, воздаваемом Христу, и почитанием иконы Христа. Феодор послал Иоанну ответное письмо, и вопрос был как будто исчерпан. Однако через некоторое время, в разговоре об иконах с несколькими братиями в келье у старца Платона, выяснилось обстоятельство, обеспокоившее игумена.
– Кстати, отче, – обратился к нему тогда старец, – разве ты переписываешься с Иоанном Грамматиком?
– Вообще-то это нельзя назвать перепиской, – ответил игумен. – Он написал мне отзыв на мое сочинение об иконах, я ответил ему кратко, и после этого он попросил меня объяснить различие между поклонением образам и богопочитанием. Я поспешил ответить и с тех пор не имею от него вестей.
– Вот как? А ведь господин Иоанн, похоже, не удовлетворился твоим ответом.
– То есть?
– Да вот, вчера ко мне приходили, как ты знаешь, два брата из Далматской обители и сказали, что Иоанн в состоявшемся при них разговоре с господином экзархом раскритиковал твое письмо. Он говорил, что ты излагаешь неясное учение, с богословской точки зрения сомнительное…
Феодор встревожился: значит, Грамматик не просто порицал его защиту иконопочитания, но еще и соблазнял других. Игумен немедленно написал Иоанну. «Если бы высказавший порицание был из необразованных простолюдинов, – говорил Студит, – то меня бы это не так тронуло, – я привык переносить и стрелы зависти, и порицания невежд. Но так как упрек сделан другом, и другом мудрейшим, то я счел необходимым восстановить то письмо в памяти и послать твоей благосклонности как можно более подробное объяснение…» Приведя вновь свое письмо, прежде посланное Грамматику, Феодор прибавил к нему и некоторые пояснения насчет относительного поклонения иконам в связи с единством образа и первообраза. Ответ пришел очень скоро, но касался больше не икон – о них Иоанн писал только, что всякий образ отображает нечто иное по сравнению с ним самим, – а поклонения Христу: Грамматик обосновывал, что Христу подобает богопочитание и поклонение и до воплощения, и после него. На это рассуждение Феодору было нечего возразить, но, однако, вставал вопрос: что же хотел, собственно, сказать автор письма? Уж не то ли, что раз икона есть нечто иное по сравнению с Христом, то поклоняться ей не подобает?..
Обсудив с патриархом обстоятельства этой переписки, Феодор стал склоняться к мысли, что Грамматик действительно «что-то замышляет»…
– Эта группа Антония Силейского, – сказал Никифор, – собрана императором вовсе не для исследования пророчеств о его царствовании, я уверен в этом! Они и в самом деле ищут по храмам и монастырям книги, по большей части действительно эллинские. Но вот, на днях у меня был игумен Хорской обители и сказал, что их библиотекарь обнаружил пропажу списка «Защитительных слов против порицающих святые иконы». Монахи все были допрошены и отрицают свою причастность к пропаже. Игумен подозревает, что это дело рук протопсалта. Евфимий по приказу императора три недели назад просматривал книги в их монастырской библиотеке и изъял оттуда древний список нескольких Платоновых диалогов и «Послания» Аполлония Тианского. Но это то, что Евфимий изъял открыто, а вот Дамаскина он, видно, унес тайно. Хотя, казалось бы, зачем им понадобились эти «Слова»? Вряд ли для того, чтобы выискивать там пророчества о царствовании государя…
В октябре, когда все «антикенсоры», исключая епископа Антония, который поехал в Силей, возвратились в столицу, патриарх вызвал к себе Иоанна Грамматика.
– Отче, я бы хотел получить от тебя некоторые объяснения, – сказал Никифор. – Во-первых, относительно того, чем же всё-таки вы занимаетесь по поручению императора вот уже пятый месяц. Преосвященный Антоний сказал мне, что вы ищете пророчества о царствовании августейшего Льва и собираете книги эллинских мудрецов. Но со временем до меня стали доходить и другие известия о вашей деятельности. Если они верны, то это дает повод обвинить вас, прежде всего тебя и владыку Антония, в том, что вы нечествуете против догматов веры.
– Святейший, – ответил Грамматик спокойно и несколько холодно, – у нас и в мыслях не было нечествовать против священных догматов. Владыка Антоний сказал тебе правду о нашей деятельности. Впрочем, могу добавить, что лично у меня есть тут и свой интерес: попутно я разыскиваю редкие научные и философские рукописи, которые хотел бы собрать в нашем богоспасаемом Городе. Тем более, что в тех местах, где иной раз мы их находим, они совершенно не у дел и часто хранятся в таких условиях, что еще немного, и они бы погибли навеки. Ты ведь знаешь, владыка, – Иоанн чуть улыбнулся, – что книги это моя слабость.
– Хорошо, – сказал патриарх. – Но вот, например, знаешь ли ты библиотеку Хорского монастыря?
– Как не знать! Я там бывал несколько раз в прошлые годы. Неплохое собрание.
– Я тоже бывал там и знаю, что книги там читаются постоянно и хранятся в достойных условиях. Так зачем же понадобилось господину протопсалту уносить оттуда творения божественного Иоанна из Дамаска, да к тому же еще и тайно?
Патриарх не спускал глаз с лица Грамматика, но тот остался совершенно бесстрастен, только чуть приподнял одну бровь и сказал:
– Он унес оттуда Дамаскина? Откуда у тебя такие сведения, владыка?
– От Хорского игумена. Он сказал, что книга пропала после посещения библиотеки господином Евфимием.
– Хм… Не знаю, владыка, в чем тут дело. Вполне возможно, что ее потеряли сами монахи.
– Они утверждают, что ничего не знают о судьбе книги.
– Утверждать можно всё, что угодно, но ведь это не обязательно должно быть правдой. Вероятно, господину игумену стоит поискать нечествующих против догматов веры среди собственной братии, – Иоанн усмехнулся. – Тем более, что у них там живут и чужаки – пришельцы из Палестины. Кроме того, книгу могли просто потерять. Не знаю, сообщил ли тебе отец игумен, что он даже не подозревал о наличии у них в библиотеке таких авторов как Платон и Аполлоний Тианский. Поэтому я не стал бы слишком поспешно утверждать, будто в Хорской обители все книги «читаются постоянно и хранятся в достойных условиях». Список Аполлония, обгрызенный мышами, был найден завалившимся за шкаф.
Вновь чуть заметная усмешка пробежала по губам Грамматика. «Ловко вывернулся! – подумал патриарх. – А как ты вывернешься сейчас?»
– Что ж, возможно, ты и прав, Иоанн. Но у меня к тебе есть и другой вопрос. Каким образом ты, состоя в клире, покинул Город не только без моего на то благословения, но даже и не сообщив мне ничего о своем отъезде? Разве ты не знаешь, что это каноническое нарушение, которое может повлечь за собой епитемию?
Иоанн, однако, не только нимало не смутился, но вновь усмехнулся и сказал, глядя в глаза патриарху:
– Да, безусловно, я проявил непослушание и самовольство, святейший. И конечно, если ты мог бы доказать, что я «нечествую против догматов веры», можно было бы извергнуть меня из сана. Но не знаю, извергали ли когда-нибудь в истории Церкви из сана за простое отлучение с места служения, тем более с поручением от государя… Однако в борьбе за веру всегда есть место подвигу, владыка!
Находившийся в соседней комнате келейник, услышав через чуть приоткрытую дверь эти слова, не поверил своим ушам. «Какая дерзость! – ужаснулся он. – Что же скажет святейший?!..»
– Не стоит тратить силы на подвиги столь незначительные, – в тон Грамматику ответил патриарх. – Трехмесячного отлучения от священнослужения, полагаю, будет довольно для твоего почтенства.
– Твоей святости виднее, владыка, – Иоанн даже головы не склонил.
Когда Грамматик в тот же день после ужина пересказал Мелиссину этот разговор, Феодот рассмеялся, покачал головой и воскликнул:
– Блестящая перестрелка, господин Иоанн! Но, однако же, такое неуважение к сану, столь явно выказанное… Тебе не кажется, что это несколько неосторожно?
– Пустое! Уважение к сану – вещь непостоянная, господин Феодот, – Иоанн улыбнулся, – как и сам сан. Сегодня у тебя нет сана, завтра есть… а послезавтра, глядишь, и опять нет!
– А ведь правда твоя! – Мелиссин от души расхохотался.
– Поэтому уважение должно иметь совсем другие основания, нежели наличие сана. Таких оснований три.
– А именно?
– Ум, власть и способность внушить страх.
– Хм… Второе и третье – не две ли стороны одного и того же?
– Не совсем. Можно иметь власть, но не внушать страха… по крайней мере, большого страха. Скажем, из-за мягкотелости или глупости. И можно внушать страх, не имея власти. Например, я хочу добиться от кого-нибудь согласия на то или иное дело. Он противится мне, а власти над ним, чтобы его принудить, я не имею или имею недостаточно. Но у меня есть друг или покровитель, который такую власть имеет. И вот, он говорит: «Если не согласишься с ним, – то есть со мной, – я сделаю с тобой то и то…»
– Да, ты прав, – Феодот помолчал. – Ну, а для тебя самого что тут привлекательнее как основа для уважения – ум, власть или способность внушить страх? Ум, вероятно?
– Ум, внушающий страх, – улыбнулся Иоанн, – и власть над умами.
…Сразу после разговора с Грамматиком Никифор послал записку Студийскому игумену, и на другой день Феодор был у патриарха. Тот в подробностях рассказал ему о встрече с Иоанном и заключил:
– Очевидно, они чувствуют за собой поддержку императора и потому не боятся. Антоний Силейский говорил мне, что государь дал им срок для сбора книг до Рождества Христова. Значит, на Рождество или вскоре после него они намерены публично обнаружить свои замыслы. И тогда мы должны дать им достойный отпор. Итак, у нас в запасе два месяца. Не так и много, но мы должны успеть подготовиться.
– Да, владыка, – ответил игумен. – Времени не много, но не так и мало. Сейчас самое важное, как мне кажется, – не показывать вида, будто мы что-то предпринимаем. Они так уверены в своем будущем успехе, что даже перестали бояться осуждения. Пусть же думают, что мы ничего не предпринимаем… и даже не подозреваем.
– Это правильная мысль, но Иоанн уже понял из нашего разговора, что я о многом догадался.
– Это ничего, святейший. Если они увидят, что ты ничего не предпринимаешь, то решат, будто у тебя нет ни сил, ни средств организовать отпор. А это придаст им самоуверенности – тем больнее будет им получить ответный удар.
– Пожалуй… Отче, я бы просил тебя сделать для меня копии всех писем, которые ты когда-либо писал в защиту святых икон.
– Да, владыка.
Никифор помолчал и сказал:
– Наш ответный удар должен быть не только неожиданным для них, но и таким, чтобы привести их в замешательство.
– Собор?
– Да. Нужно подтвердить свою верность решениям Никейского собора и подготовиться к беседе с императором. Я уверен, что он захочет надавить на нас. С Иоанном и его сборищем никаких разговоров, конечно, не может быть, но императора надо попытаться переубедить… или, по крайней мере, показать ему, что мы намерены отстаивать православие до конца.
– Такой собор был бы прекрасным ходом! Хорошо бы прямо на Рождество Спасителя.
– Пожалуй. Надо, чтобы к этому времени сюда съехались преосвященные и игумены. Но так, чтобы император и его… сообщники об этом ничего не знали. Приезжающим надо будет останавливаться не в Городе, а где-нибудь в предместьях, и не появляться здесь до времени собора… Ладно, это я еще обдумаю позже. Приглашения я разошлю сам. А ты, отче, пиши всем, кому только можно, и утверждай в православии. Нас ждут испытания, и один Бог знает, кто выстоит до конца… Пиши, Феодор, не умолкай!
– «Время говорить», владыка, и можно ли ныне молчать?!
24. Свидетели истины
(Александр Блок)
- Но узнаю́ тебя, начало
- Высоких и мятежных дней!
Императора разбудили в середине ночи и сообщили, что вечером в патриархии состоялся собор, где было почти три сотни епископов, игуменов, клириков и монахов.
– Председательствовал святейший, – докладывал комит схол. – Они дали обещание стоять за иконы до смерти, предали анафеме владыку Антония Силейского и его сторонников и постановили не допускать пересмотра Никейского собора, бывшего при Ирине. А сейчас они совершают бдение в Великой церкви, и вместе с ними толпа народа. Похоже, всё это готовилось уже давно, августейший. Не было бы бунта…
Работа «антикенсоров» была завершена в середине декабря, и Иоанн представил императору выписки со свидетельствами из Писания, где слово «икона» употреблялось для обозначения идола, и из отеческих творений, которые можно было истолковать в иконоборческом духе. При этом он посоветовал императору сначала показать патриарху собранные отрывки из Писания, а из отеческих свидетельств не все, но только часть. Лев так и сделал: 17 декабря, в воскресенье, он пригласил к себе патриарха и сказал, что некоторые из его людей нашли свидетельства Писаний, которые ясно показывают, что если там где и говорится об иконах, то только в отрицательном смысле, и поклонение образам запрещается как идолопоклонство.
– Я понимаю, – сказал император, – что там речь идет не об иконах воплощенного Бога, как у нас, а о ложных языческих образах, но далеко не все наши подданные достаточно образованы и начитаны, чтобы понимать это. Многие соблазняются, тем более что отрывки из Писания, где говорится: «Чему уподобили вы Господа?» и прочее, читаются в Церкви во всеуслышание. В народе говорят, что язычники побеждают ромеев потому, что мы впали в идолопоклонство. Поэтому мне думается, что для спокойствия нашей державы необходимо в виде снисхождения снять в храмах низко висящие иконы, чтобы им не поклонялись, поскольку мы не обретаем свидетельств об этом в Писаниях.
Патриарх возразил, что снисхождение в области догматов веры невозможно, а иконопочитание – догмат; что далеко не все обычаи, принятые в Церкви, имеют прямые свидетельства в Писании, но многие из них – устное церковное предание, например, обычай поклоняться Кресту; что вопрос об иконах уже достаточно был разобран на Никейском соборе и не следует заново его поднимать и начинать споры о том, что уже давно решено почтенным собранием отцов, в присутствии представителей от всех патриархатов. Тогда император сказал, что в таком случае Никифору надо встретиться с людьми отыскавшими в книгах свидетельства против икон, подробнее ознакомиться с их доводами и убедить их, что они ошибаются. Патриарх и от этого предложения отказался, заявив, что эти люди, кто бы они ни были, уже отлучили себя от Церкви тем, что пошли против установленных догматов, а потому ни в какие споры с ними он вступать не намерен, и единственное, что он может сказать об этих людях: «если кто благовестит нам нечто сверх того, что мы приняли, “анафема да будет”», по слову апостола.
– Может быть, – добавил патриарх, – кому-то не нравлюсь я, смиренный, и это из-за меня происходит такой соблазн против правой веры? Тогда изгоните меня и делайте со мной, что хотите, только веру не потрясайте!
– Да кто же дерзнет, святейший, изгнать патриарха и отца нашего или потрясти Церковь? Мы только провели небольшое исследование, поскольку противники икон много болтают и народ смущается из-за болтунов… А я верую так, как верит Церковь.
– Государь, если действительно так, то это прекрасно! Но чтобы ты мог убедиться, августейший, что об иконах я излагаю тебе не свое личное мнение, но общецерковное, я пришлю к тебе избранных отцов, чтобы и от них ты услышал истину.
Лев согласился и через день принял посланную патриархом группу епископов и игуменов, надеясь, что сумеет убедить их вступить с Грамматиком и епископом Антонием в прения об иконах. Но его ждало разочарование: все пришедшие, как по писанному, говорили заодно с патриархом и от диспутов с противниками икон твердо отказались. Более того, в ту же ночь патриарх, собрав клир, монахов и мирян, совершил бдение в Великой церкви, моля Бога «разрушить злой совет, совещеваемый против святой веры». Когда император потребовал от Никифора отчета, что это он сделал, патриарх ответил:
– Ничего плохого мы не сделали, государь. Мы лишь молили Бога, чтобы Он сохранил Церковь невозмущаемой, если это угодно Ему.
В пятницу утром произошло событие, воспринятое в столице как знак грядущей новой схватки за иконы. Несколько воинов с криками и руганью в адрес «идолопоклонников» забросали грязью и камнями образ Христа над Медными вратами – главным входом в Священный дворец. В тот же день после полудня император приказал снять икону с ворот и объявить народу, что это сделано для того, чтобы злонамеренные люди «более не оскверняли святыню». Иоанн Грамматик и Феодот Мелиссин наблюдали за происходящем на Августеоне из восточного портика. Народу собралось немало, но криков возмущения не было слышно, даже напротив – некоторые выражали одобрение решению императора.
– Да, – насмешливо заметил Мелиссин, – что-то сейчас не обрелось таких ревнителей икон, которые бы помешали «кощунству», как при Льве Исаврийце.
– А ты уверен, что они вообще были, те ревнители? – усмехнулся Грамматик. – Я не нашел в книгах свидетельств современников о тех «мучениках». Сдается мне, что это сказки, выдуманные иконопоклонниками после Никейского соборища.
Патриарх с архидиаконом и келейником тоже наблюдали из окна, как сняли и унесли икону Спасителя. Никто из них не проронил ни слова, а когда толпа зевак почти разошлась с Августеона, Никифор сказал:
– Пора созывать собор.
На соборе патриарх зачитал свидетельства против иконопочитания, предъявленные ему императором, истолковывая каждое по-православному, а затем спросил собравшихся:
– Не имеете ли вы что-то сказать на это, братия?
– Мы знаем и совершенно уверены, что наша вера истинна, и все умрем за это! – воскликнул Евфимий, архиепископ Сардский.
Собравшиеся единогласно подтвердили это. Тогда патриарх сказал:
– Итак, братия, отныне да пребудем в единомыслии, нераздельно связанные, как одна душа, в этом исповедании, да не обретут противники случая отделить кого-нибудь из нас, – и тогда они не возобладают нами, ибо, благодатию Божией, нас больше, чем их.
Узнав о состоявшемся соборе, император в первый момент был поражен. Однако! Патриарх, кажется, оказался гораздо хитрее, чем он думал… И всё это действительно походило на подготовку мятежа… А какова дерзость, как ловко они всё обернули – сумели созвать и провести такой большой собор, во дворце же об этом узнали только теперь!..
Через четверть часа император уже диктовал сонному асикриту краткое письмо к патриарху, призывая его с наступлением утра явиться во дворец для объяснений. Эту записку принесли и вручили Никифору в алтаре, в самом конце богослужения. Патриарх зачитал ее с амвона. Все взволновались, послышались крики:
– Мы пойдем с тобой, владыка! Постоим за веру!
Весь собравшийся народ единодушно последовал с патриархом и членами собора во дворец, однако их задержала стража, впустив только Никифора. Лев обрушился на него с упреками:
– Не ожидал я от тебя, святейший, такой скрытности и лукавства! Ты проводишь собрания, не ставя нас в известность, принимаешь решения, не уведомляя меня о них! Ты возмущаешь народ против власти и нарушаешь мир Церкви! Разве ты не знаешь, какое наказание налагают законы подстрекателям к мятежу?.. Впрочем, – продолжал Лев уже мягче, – я знаю, что твое святейшество не желает зла нашей державе. Со своей стороны, мы тоже не желаем зла Церкви, а только хотим рассмотреть всесторонне вопрос, смущающий людей… Я уже говорил тебе, что многие смущаются и готовы отойти от Церкви из-за почитания в ней икон. Они ссылаются на Писание и отцов, и если их недоумения не разрешить, у нас никогда не будет единства веры! Думаю, вам не следует упираться, нужно встретиться с сомневающимися относительно икон и разрешить вопрос в открытом споре.
– Государь, – ответил патриарх спокойно и твердо, – у меня и в мыслях не было производить смуту и чем-либо навредить твоей державе. Да не прогневается на меня твое величество, но я вынужден заметить, что ты первый нарушил церковный мир. Ты дал обещание не посягать на священные догматы, но сейчас открыто поддержал сторонников ереси, уже много лет соборно осужденной гласом вселенской Церкви. Молю тебя, государь, именем Христа Бога, откажись от поддержки этих нечестивцев, не переходи пределов, положенных святыми отцами! Кто теперь не чтит священные образа? Разве Рим, Александрия, Антиохия или Иерусалим не почитают их? Ты опасаешься, что мы не достигнем единства веры, если не согласимся на беседу с противомыслящими, а я говорю, что именно через беседу с ними мы встанем на путь разрушения веры. Что мешает этим людям послушно принять определения святого Никейского собора? Полагаю, только их развращенная воля. Но так и во все века отпадали от Церкви еретики, она же пребывала неколебимой. Нам не о чем разговаривать с этими отступниками. А если твое величество лично смущается относительно почитания священных изображений, то я готов представить доказательства православности их почитания.
– Твои доказательства мне известны, святейший. Мы ведь уже говорили об этом.
– Да, – сказал Никифор, – и в тот раз твое величество, как мне казалось, сочло мои доводы убедительными. Разве ты изменил мнение, государь, и теперь мои слова тебе представляются ложными?
– Не то, чтобы ложными, – ответил император, хмурясь, – но ко мне приступают со своими обоснованиями и люди противных мнений, чуть ли не обвиняя в ереси меня самого. Не могу же я ссылаться всё время только на твои доказательства, высказанные мне в частной беседе! Ты, конечно, говоришь складно… Но я хочу знать, что скажут остальные.
И Лев повелел позвать во дворец всех участников прошедшего накануне собора, а также синклитиков и прочих вельмож, были позваны и «антикенсоры». Уже совсем рассвело, когда все приглашенные собрались в Золотом триклине. Но Грамматика, Антония Силейского и их помощников Лев не решился сразу показывать публике, повелев им стоять за завесой в одной из ниш, откуда всё было хорошо слышно. Антоний вместе с протопсалтом даже подглядывали в щель между занавесями. Иоанн стоял у стены, скрестив руки, с равнодушным видом; хотя внутренне он испытывал волнение, по его лицу догадаться об этом было невозможно.
Воссев на трон, Лев пригласил патриарха сесть в кресло рядом; с одной стороны от них выстроились придворные в парадных одеяниях и с мечами, с другой встали епископы, клирики и монахи.
– Честные отцы! – начал речь император. – Я знаю, что вы вчера собрались все вместе, намереваясь защищать почитание икон, как будто бы им грозит какая-то опасность. Но я должен сказать, что здесь имеет место недоразумение, точнее, недоумение со стороны некоторых лиц, а вовсе не злой умысел с моей стороны!
– Государь, – ответил патриарх, – мы будем несказанно рады, если все недоумения разрешатся по воле Божией. Позволь же мне ради скорейшего их разрешения задать присутствующим один вопрос.
– Бога ради, святейший, – император сделал рукой пригласительный жест.
Он уже успел переговорить с Иоанном, и тот успокоил его, сказав, что, если даже диспут не состоится, иконопоклонникам всё равно не торжествовать долго:
– Собранные все вмести они будут геройствовать друг перед другом, и это прибавит им спеси, но зато потом, государь, воздействуя на них поодиночке, можно будет переиграть многое. Может быть, почти всё.
Патриарх, обведя глазами синклитиков и придворных, спросил:
– Скажите мне, господа, может ли исчезнуть несуществующее?
Те не поняли вопроса и недоуменно переглядывались, многие обращали взгляд к императору, но тот тоже ничего не понимал, хотя и не подал вида. Тогда патриарх задал новый вопрос:
– Пали ли при императорах Исаврийских Льве и Константине иконы или нет?
Синклитики закивали:
– Да, да, пали! – послышались голоса.
– Стало быть, – спокойно сказал патриарх, – они, конечно, стояли. Ведь не стоявшее как может упасть?
В рядах придворных воцарилось молчание. Православные украдкой переглядывались, пряча улыбки. Чтобы не затягивать тишину, император сказал:
– Знайте, отцы, что я думаю так же, как вы.
С этими словами Лев вынул из-под одежды большой золотой крест с вделанными в него эмалевыми иконками и приложился к нему.
– Как видите, – продолжал он, – я ни в чем не расхожусь с вами. Но появились люди, которые учат иначе и приводят доводы от Писаний. Итак, пусть они выйдут к вам, и вы обсудите между собой этот вопрос. И если они убедят вас в их правоте, то надеюсь, вы не будете препятствовать благому делу утверждения истины. Если же вы убедите их, что их учение является нововведением, то они будут принуждены немедленно прекратить учить худому, и да господствует та вера, что и прежде. Ведь если бы меня обвиняли и по менее важному поводу, мне не следовало бы молчать, а здесь вопрос церковный.
– Нет, не дело это! – раздались голоса. – Мы не хотим ничего обсуждать с этими отступниками! Мы и видеть их не желаем!
– Если это церковный вопрос, как ты истинно говоришь, государь, – выступил чуть вперед епископ Кизический Емилиан, – то пусть он и обсуждается в церкви, а не во дворце. Здесь ли место для церковных собраний? Разве ты не знаешь, что догматические вопросы всецело подлежат ведению церковной власти, и не дело придворных или мирских людей разбирать их и выносить суждения?
– Но я чадо Церкви, – возразил Лев. – Я выслушаю вас как посредник и, сравнив то и другое учение, узнаю, где истина.
– Если ты посредник, государь, – сказал Михаил, митрополит Синадский, – то почему не исполняешь дело посредника? Да не прогневается на нас твое величество, но ты не можешь быть судьей в этом споре. Судья и посредник между противными сторонами должен быть беспристрастен. Ты же явно покровительствуешь противникам священных образов – они уже полгода живут во дворце и питаются от твоего стола, как всем давно известно. Где тут беспристрастие?
– Нет, это не так, – сказал император. – Я же сказал, что я – как вы. Но раз меня обвиняют, я не могу отмалчиваться. И по какой причине вы не желаете говорить с ними? Из вашего упорства очевидно, что вы в затруднении, у вас нет свидетельств, подтверждающих ваши слова! Ведь я только хочу устранить смущение…
«Притворство!» – перешептывались собравшиеся православные, покачивая головами.
– Нет, государь, увы, ты только больше разжигаешь смуту своими действиями, – возразил Петр, митрополит Никейский. – Как ты предлагаешь нам беседовать с ними, когда вот, ты сам их союзник? Разве не ясно, что если ты и манихеев привел бы сюда и повелел бы нам спорить с ними, им была бы присуждена победа, потому что ты помогал бы им!
– Да, государь, – сказал епископ Никомидийский Феофилакт, – это не послужит к пользе. Приведет ли к установлению истины наш спор с противниками икон, когда твое величество на их стороне? Ведь уже одно это будет уздой для свободы рассуждений. Ты говоришь, что у нас нет свидетельств, но Свидетель нам, во-первых, Сам Христос, чье изображение тут перед глазами твоими, – и он указал на большую икону Спасителя, висевшую прямо над троном императора, – а во-вторых, есть тысячи свидетельств, подтверждающих это, и у нас нет недостатка в том, о чем ты заботишься. Но увы! – тут нет ушей, которые бы выслушали нас, ведь мы воюем против власти.
Пока император обдумывал, что возразить, патриарх глазами нашел среди предстоявших архиепископа Сардского Евфимия и чуть заметно кивнул ему. Тот вышел вперед и заговорил более дерзновенно, чем выступавшие до него:
– О, государь! С тех пор, как Христос сошел на землю, и доныне Он изображается и почитается на иконах повсюду в церквах. Так какой же наглец осмелится поколебать и упразднить предание, которому столько лет, предание апостолов, мучеников и преподобных отцов? Великий собор, бывший в Никее, уже раз и навсегда принял решение относительно икон, и всякий, дерзающий отметать его, ставит себя вне Церкви, поэтому нет нужды вступать в новые прения с иконоборцами. Мы имеем заповедь богоносного Павла: «Итак, братие, стойте и держите предания, которым вы научились или словом, или посланием нашим». И он же изрек еще: «Если мы или ангел с неба стал бы возвещать вам нечто вопреки тому, что мы благовестили вам, анафема да будет»!
Император уже начал раздражаться, однако пока еще изображал великодушие. Синклитики украдкой переглядывались: становилось очевидно, что задуманное василевсом мероприятие шло не так, как он предполагал. А Лев переводил глаза с одного епископа на другого, от одного монаха к другому… Все, все они были согласны и говорили или готовы были сказать одно и то же! Патриарх между тем нашел глазами игумена Феодора. Тот, поймав его взгляд, чуть заметно склонил голову и выступил вперед.
– Позволь, государь, и мне сказать несколько слов от лица предстоятелей монастырей, – сказал он.
Император окинул взором высокую сухощавую фигуру Студийского игумена. Лев знал, что не было среди собравшихся никого, кроме разве что самого патриарха, кто обладал бы бо́льшим авторитетом, чем этот худой монах с пронзительным взглядом, не ставший восемь лет назад главой Константинопольской Церкви только из-за нежелания императора Никифора… Что скажет этот? Вряд ли что-нибудь хорошее, но не дать ему слова нельзя, чтобы не подтвердить обвинение в пристрастности… Император кивнул, и Феодор заговорил:
– Зачем, государь, ты вздумал производить смятение и бурю в Церкви, которая наслаждается миром? Зачем ты хочешь вновь сеять среди верующих уже исторгнутые плевелы нечестия, а если и не так, – прибавил он, заметив, как император сделал нетерпеливое движение рукой, – то возбуждать надежды у давно осужденных еретиков? Зачем твое величество настаивает на словопрении с ними? Апостол Павел заповедал не спорить о вере с нечестивыми, не вести «скверных и суетных бесед на расстройство слышащих». Вспомни его слова: «Если кто учит иначе и не приступает к здравым словам и учению, согласному с благой верой, тот возгордился, ничего не зная, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от коих бывает зависть, рвение, хулы, лукавые подозрения, страстные споры людей, растленных умом и чуждых истины, полагающих, будто благочестие служит для прибытка: отступай от таковых».
Хотя император и не надеялся, что «этот смутьян» скажет нечто отличное от слов остальных, но действительная речь игумена показалась Льву что-то уж слишком дерзкой, и он уже не мог скрыть своего недовольства – тем более сильного, что еще не так давно он надеялся с помощью Феодора расколоть патриарший лагерь: императору думалось, что игумен не устоит перед соблазном вступить в открытое прение о вере с Иоанном Грамматиком, и тогда можно будет вызвать на спор и других и внести какую-нибудь смуту в ряды иконопочитателей.
– Это я, значит, «растлен умом и чужд истине»? – сказал император гневно. – Ты, Феодор, как всегда, говоришь безумно и думаешь о себе слишком много! Если кто и возгордился, так это ты! Да и все вы тут порядочные гордецы! Вы даже не выслушали тех, кого я прошу вас выслушать, а ведь они, надо заметить, ничем не оскорбили вас даже до сего часа. Вы, не узнав еще в точности мнения другой стороны, уже бранитесь и поносите ваших ближних вместо того, чтобы разрешить их недоумения! И особенно ты, всегда любивший распри на пустом месте! Мало того, ты смеешь называть меня неразумным и чуждым истине и дерзко поносишь хулами… Ты забыл, что разговариваешь с императором, а не с простолюдином!
– Не свои слова я говорю пред тобой, государь, – возразил Феодор, нисколько не испугавшись, – но апостольские. Это учение святых отцов наших, это вера нашей Церкви. Вот и святой Игнатий Богоносец говорил: «Предостерегаю вас от зверей в человеческом образе, то есть еретиков, которых нам не следует не только принимать, но, если возможно, и не встречаться с ними». Если запрещено беседовать с еретиками, то кто сможет заставить нас вступать в рассуждение с иконоборцами, которые отвергли древнюю веру и противятся истине?
Император стиснул в кулак руку.
– Итак, Феодор, тебе кажется, что я делаю лишнее? Этим ты едва не вынуждаешь меня сказать тебе действительно лишнее, чтобы ты уже не смог вернуться в свой монастырь!
Взгляды императора и игумена встретились. Засиявшие глаза Феодора говорили: «Я всегда готов пострадать за веру Христову!» Однако император не дал ему заговорить.
– Но ты не заставишь меня поступить неосмотрительно по твоему желанию, – продолжал Лев, с трудом сдерживая гнев, – и не сделаешься от меня «мучеником», хоть ты уже и готов! Нет, я стерплю великодушно ваше презрение, лишь бы вы не отказались от беседы с теми, кто уверяет, что ваше мнение противно общей вере. Если же вы не захотите этого, то тем сами явно признаете свое поражение… и тогда вам уже поневоле придется последовать их учению!
Последние слова император произнес угрожающим тоном, но это не поколебало православных.
– Нет, нет! – раздались голоса. – Никаких споров с еретиками! Да не будет! Наша вера правая и во всем согласна с верой всей Церкви!
Среди придворных нарастало ожидание чего-то уж вовсе скандального и провального для императорского замысла. Феодор воодушевился еще более.
– Внемли, государь, – произнес игумен с прежней смелостью и столь вдохновенно, что многим из смотревших на него, пришли на ум древние пророки, чьи речи начинались словами: «Так глаголет Господь…», – тому, что чрез нас говорит тебе божественный Павел о церковном благочинии, и убедись, что не следует императору делаться судьей в таких делах. Последуй апостольским правилам, если считаешь себя православным! Апостол говорит: «Положил Бог в Церкви, во-первых, апостолов, во-вторых – пророков, в-третьих – учителей». Вот те, кто устраивает и исследует дела веры по воле Божией, а не император! Ибо апостол не упомянул о том, что императоры могут распоряжаться делами Церкви.
Лев сверкнул глазами, но и на этот раз сумел взять себя в руки и сдержать негодование. Усмехнувшись, он с иронией произнес:
– Итак, ты, Феодор, извергаешь меня из Церкви?
– Не я, – отвечал игумен, – но божественный апостол. Если же хочешь быть верным сыном Церкви, то ничто не мешает этому, только следуй во всем духовному своему отцу, – и Феодор простер руку в сторону патриарха.
«Отлично! – подумал Никифор. – Я знал, что Феодор не подведет!» Остальные православные тоже не могли скрыть своего торжества по поводу того, как умело Студийский игумен подвел свою речь к последнему удару. Император не хуже них понимал, что игра проиграна. Он поднялся с трона, гнев засверкал в его глазах.
– Вон отсюда! – крикнул он, не в силах более сдерживаться.
Покинув дворец, православные вновь отправились в патриаршие палаты, где стали делиться друг с другом впечатлениями от визита к императору, хваля тех, кто мужественно говорил перед ним. Более всего расточалось похвал Студийскому игумену. Патриарх даже обнял Феодора, расцеловал и не отпускал от себя: в тот день Никифор, наконец, совершенно оценил этот непреклонный характер, который когда-то столько порицал. Теперь, в преддверии бури, когда уже сгустились тучи и раскаты грома возвещали о том, что молнии не замедлят засверкать прямо над головой, патриарх, оглядываясь вокруг, раздумывал, на кого он сможет безбоязненно опереться в грядущей борьбе, кто из обещавших стоять за православие действительно останется верен, если дело дойдет до ссылок, тюрем и бичей. И первым, о ком патриарх без тени сомнения мог сказать: «Будет верен до смерти!» – был игумен Студийский. Да, на Феодора можно опереться, этот – не подведет!
Спустя час или полтора в патриархию явились люди от эпарха и огласили собравшимся императорский приказ: немедленно разойтись по своим местам, монахам не выходить из монастырей, епископам не выезжать из своих епархий, впредь не делать подобных собраний, не учить и не вступать в беседы об иконопочитании. Так император хотел обеспечить спокойствие в обществе, но православные смотрели на этот приказ иначе, и опять, по знаку патриарха, вышел вперед Феодор Студит.
– «Праведно ли повиноваться вам более, нежели Богу, судите», – начал он знаменитыми словами из Деяний Апостольских. – Нет, скорее нас лишат языка, чем мы откажемся хотя бы и на малое время от защиты веры, ведь это послужит во вред Церкви! Что до собраний, то если святейший наш владыка не пригласит нас, мы и без запрещения императора собираться не станем; в противном же случае не послушаем вас, но пойдем по зову нашего архипастыря и будем говорить, что следует, ради защиты веры!
Взгляд Феодора выражал такую бесстрашную решимость, что посланные опустили глаза и, не находя, что возразить, ретировались. Часам к четырем пополудни почти все православные разошлись, но Феодора патриарх попросил остаться и пройти с ним в его покои.
Император, узнав об ответе Студийского игумена от лица всех православных, в гневе воскликнул:
– Они еще увидят, чья возьмет! Упрямые идолопоклонники! Уж не думают ли они, что народ не удастся убедить, что клир и монахи пойдут за патриархом в огонь и воду? Какая самонадеянность! Но напрасно они думают, что никого не найдется противостать их нечестию!
…Отпустив келейника, патриарх тяжело опустился в кресло. Откровение, полученное им при коронации Льва, сбывалось на глазах, и худшие опасения оправдались: всё-таки опять иконоборчество! Ересь, казалось бы окончательно низверженная восемнадцать лет назад, воскресла. И во главе нечестия оказался Иоанн, этот сильный, но холодный и надменный ум… Недаром патриарх никогда не любил этого монаха, несмотря на все его познания, аскетизм и молчаливость! Никифору вспомнилось, как на злополучном соборе, получившем от противников прозвище «прелюбодейного», Иоанн сумел всего парой фраз решить исход дела в сторону наиболее резкого решения. Да, этот человек умеет играть людьми, а император попал под его влияние… Теперь схватка неизбежна.
Патриарх опять вспомнил, как Халкитский игумен рассказывал, что заключенный в его монастыре Феодор часто говорил о грядущей буре. Не эту ли бурю он провидел еще тогда?.. Никифор взглянул на Феодора, задумчиво стоявшего у стола. Игумен поднял голову и посмотрел на патриарха ясным взором.
– Не унывай, владыка! – сказал он. – Буря прогремит и пройдет… и святые просияют светлее золота, как предрек отец Платон, а беззаконики посрамятся и «падут при аде», как сказано. Бог милосерд, не допустит нам искушаться выше сил и не предаст наследия Своего врагам!
Патриарх встал, несколько мгновений смотрел на игумена, сказал тихо:
– Прости меня, отче! – и опустился перед ним в земном поклоне.
– О, владыка! Господь с тобой! Прости и ты меня, грешного! – и Феодор тоже бросился патриарху в ноги.
Они обнялись и расцеловались со слезами, и эти слезы вымыли последние занозы недоумений и обид, еще цеплявшиеся где-то в глубине души. Они смотрели друг на друга и молчали, им не нужно было ничего говорить: невечерний Свет сиял в них и соединял воедино – отныне и навсегда. С этого часа они трудились, не покладая рук, и письменно, и устно призывая всех верных быть мужественными, восставляя упавших духом и увещевая немощных в вере. Игумен часто встречался с патриархом, чтобы обсудить планы дальнейших действий, и, кроме того, чувствуя, что святейший нуждался теперь в его особенной поддержке.
Константинопольская Церковь готовилась к новой схватке с ересью.
Часть II. Борьба за образ
Им для того ниспослали и смерть и погибельный жребий Боги, чтоб славною песнею были они для потомков
Гомер, «Одиссея»
1. Портик Мавриана
Не слушайте слов пророков, которые пророчествуют вам и прельщают вас: видение от сердца своего говорят они, а не от уст Господних.
(Книга пророка Иеремии)
Император только вернулся к себе после вечерни, как доложили о приходе патрикия Фомы. Лев посмотрел на вошедшего выжидательно. В последнее время ожидание царствовало и в сердце василевса, и при дворе. Все ждали, чем окончится поединок «между Священным дворцом и Великой церковью», как выразился Феодот Мелиссин. Как ни старался патриарх удержать неумолимый ход событий, все усилия были тщетны. На праздник Богоявления император, войдя по обычаю в алтарь Святой Софии, не воздал поклонения священным изображением на алтарном покрове, тем самым ясно показав, какое решение принял. Тогда патриарх написал нескольким влиятельным синклитикам и даже императрице, моля их убедить императора не потрясать Церковь. Но всё было напрасно: синклитики только посмеивались и пожимали плечами, а кое-кто даже поносил Никифора за «баранье упрямство». Августа тоже не решилась открыто противостать мужу, тем более что ничего не понимала в богословии. Она лишь спросила, точно ли он уверен, что задуманное им «ниспровержение ложного догмата» угодно Богу.
– Более, чем уверен! – ответил Лев. – А если я и ошибаюсь, то Бог укажет на это. Ты что, думаешь, я безбожник и не молюсь Ему о вразумлении? Да ведь и патриарх молился на коронации о том, чтоб Господь руководил мною… Притом, прежде чем делать то, что я делаю, я совещался с людьми достойными и мудрыми. Успокойся, ради Бога, и не докучай мне больше своими страхами! Вот ведь, женщины!..
Феодосия вздохнула и решила, что она сделала, что могла, а прочее уже не ее ума дело, – «и да будет воля Божия!» Между тем император взялся за тех епископов, которые не успели разъехаться из столицы после проведенного патриархом собора. Сам Лев, впрочем, увещаниями не занимался, памятуя рождественский провал, а поручил это дело протопсалту, протоасикриту и Феодоту Мелиссину. Они воздействовали на собеседников, пуская в ход те святоотеческие цитаты, которые в свое время, по совету Иоанна, не были показаны патриарху и поэтому не разбирались на собрании православных после встречи с императором; иерархов, известных склонностью к тщеславию и корыстолюбию, соблазняли обещаниями почестей и даров; более образованных и неуступчивых отправляли для увещания к Грамматику. И здесь поражение патриарха тоже оказалось весьма чувствительным: уже к концу января многие из епископов, подписавшихся под определением собора и обещавших стоять за веру до смерти, обратились против икон. Когда таких епископов набралось достаточно, Лев отправил нескольких к патриарху с призывом «внять голосу верных» и «применить божественное и богоугодное снисхождение». Это было 28 января, за две недели до начала Великого поста.
– Святейший, согласись с нами немного в том, чтобы снять низко висящие иконы, – сказали посланные. – Если же ты не хочешь, то знай, что мы не позволим тебе здесь пребывать. Церковь не нуждается в тех, кто противится ей!
– Это вы-то Церковь? – насмешливо ответил патриарх. – Нет, господа, вы не Церковь, вы лжецы и крестопопиратели. Так-то коротка у вас память, что вы забыли и свое обещание стоять за веру до смерти, и подписи и кресты, которые поставили под ним?! Пойдите вон и избавьте меня от слушания ваших безумных речей. А государю передайте вот что: просто так с кафедры я не уйду, потому что на мне нет вины для низложения. Если же меня насилием принудят к этому из-за моей православной веры, то пусть он прикажет своим слугам меня вывести, и тогда уйду.
Посланные удалились в гневе, едва удержавшись от проклятий в адрес Никифора. Но и святейшему это посещение обошлось дорого: вечером он слег в постель с сердечным приступом, к ночи у него вступило в печень и сделался жар, а наутро патриарх был уже в таком состоянии, что келейник с испугу вызвал не одного врача, а целых трех. Наследники Асклепия прописали больному сандаловый сироп, розовый мед и полный покой. Поэтому, когда на другой день в патриаршие палаты опять явились двое епископов вместе с Феодотом Мелиссином, келейник попросту захлопнул дверь у них перед носом со словами:
– Владыка болен, ему нужен покой!
– Лучше б он на вечный покой поскорей отправлялся, – пробормотал Феодот.
Оба епископа дипломатично промолчали, но в душе были согласны с патрикием: патриарх становился лишним звеном в цепи. После этого в течение нескольких дней ничего определенного о состоянии здоровья патриарха узнать было нельзя. Император воспользовался болезнью Никифора, чтобы временно передать церковное управление в руки патрикия Фомы, однако недуг патриарха обеспокоил василевса. «Теперь еще начнут говорить, что я уморил его!» – думал Лев, а в глубине сердца зашевелилось сомнение: «Точно ли я иду правым путем?..»
Колебания императора не укрылись от Мелиссина, и Феодот, никому ничего не говоря, даже Иоанну, отправился к знакомому монаху, который жил в портике Мавриана и слыл у народа постником и молитвенником. К этому черноризцу однажды ходила и супруга Феодота: ее стали сильно донимать головные боли, и одна подруга посоветовала ей попросить молитв у «маврианского подвижника».
– Чудеса! – сказала Мелиссину жена, вернувшись от монаха. – У меня сегодня опять так голова болела, а вот только этот отец помолился и перекрестил меня, так и снял всё! И до сих пор не болит, ты подумай! Видно, он и впрямь святой, правду люди говорят! Вот только мне странным показалось… В углу-то этом, где он живет, ни одной иконы у него нет!
– Вот как? – Феодот приподнял брови. – Ну, верно, он взошел на такую духовную высоту, что беседует с Богом, так сказать, лицом к лицу…
Через несколько дней Феодот навестил этого монаха и разговорился с ним, с того времени они и подружились, если только это можно было назвать дружбой. Патрикий посещал монаха примерно раз в месяц, просил молитв, благочестиво ужасался его «нищей и постной» жизни и рассказывал те или иные придворные сплетни, до коих подвижник, несмотря на носимые им вериги, оказался весьма охоч: он мог порассказать Мелиссину ничуть не меньше слухов – не придворных, но уличных, а они-то как раз, в свою очередь, интересовали Феодота. И вот, отправившись к нему на сей раз, патрикий после обычной болтовни сказал:
– Видно, отче, грядут у нас в Церкви перемены. Святейший заболел, того и гляди отдаст Богу душу.
– Помилуй, Господи! – монах набожно перекрестился.
– Господь да помилует всех нас! – не менее набожно сказал Феодот и продолжал: – Значит, будет новый патриарх… А новому патриарху понадобятся помощники, свежие силы… в том числе в клире, – патрикий значительно взглянул на собеседника.
– Господь да поможет восстановить чистоту веры! – монах вновь перекрестился.
– Аминь! – ответил Феодот. – Но вот какое дело, отче… Трижды августейший государь немного поколебался в своем уповании… Надо его утвердить, по мере наших сил!
– Всенепременно надо, – кивнул монах. – Тебе требуется моя помощь, господин?
– Да, – ответил Мелиссин. – Слушай, отче, и запоминай. Завтра, как стемнеет, я приведу сюда государя. Он будет в простом одеянии, без всяких отличий. Он начнет с тобой советоваться о вере и других важных вещах. Ты же – слушай внимательно! – обещай ему, что он будет царствовать семьдесят два года, – Феодот подмигнул монаху, – назови тринадцатым апостолом и всячески уверяй, что он увидит на престоле детей от детей своих, если только примет веру, которой держался августейший Лев Исавриец. А если он не захочет последовать этому совету, скажи с клятвой, что грозит ему тогда от Бога погибель, стремнины и пропасти. В общем… э… подойди к делу с душой, отче!
О походе в портик Мавриана с императором было условлено заранее.
– Монах этот, августейший, – говорил Мелиссин, – жизни высокой и святой, живет почти на улице, спит на каменном полу, вериги носит, молится день и ночь, удостоился дара исцелений и от Бога имеет разум и рассуждение. Если у тебя есть какие-то сомнения относительно наших церковных дел, думаю, будет полезно у него вопросить, он в народе и за прозорливца почитается!
Когда император вместе с Феодотом уже в сумерках вошли в портик и пробрались в угол, где жил «прозорливец», первое, что услышал император, были слова:
– Негоже тебе, государь, менять пурпурное одеяние на простое и морочить умы людей! После встречи с монахом Лев оставил всякие сомнения. И теперь, когда в ответ на его выжидательный взгляд патрикий Фома сообщил, что, по словам врачей, патриарх при смерти, император сказал только:
– Что ж, тем лучше! Это избавит нас от необходимости выгонять его силой.
…В сыропустный вторник около трех часов пополудни Грамматик сидел в столовой у Мелиссина и обсуждал с хозяином дома положение церковных дел.
– Что ты думаешь насчет определений будущего собора? Повторить сказанное в Иерии? – спросил Феодот, собственноручно разрезая большого зажаренного судака; слуги были высланы – столь важный разговор не должен был иметь лишних свидетелей.
– Не только, – лениво ответил Иоанн, отпивая глоток ароматного золотистого вина. – Иерийским богословам не хватало последовательности или, скорее, свободы для маневров. Следует определиться по поводу того, когда именно тело Христа стало неописуемым. Ответ, данный на этот вопрос в Иерии, на мой взгляд, не совсем точен, – Грамматик умолк и отправил в рот ломтик сыра. – А впрочем, разве для тебя это так уж важно, господин Феодот? Правда, – он задумчиво посмотрел на патрикия, – при определенном положении это может стать для тебя важным, хотя… Даже и при таком положении главное – иметь хороших советников, самому во все тонкости вникать не обязательно.
– Ты что-то говоришь загадками, Иоанн! – сказал Мелиссин, ставя перед гостем тарелку с двумя аппетитными кусками рыбы.
В голосе патрикия послышалось легкое раздражение. Феодот слыл в Синклите и среди знакомых человеком не только набожным и начитанным, но и неплохо разбиравшимся в богословии. Последнее удавалось ему за счет того, что он вовремя и к месту умел блеснуть изречением из божественного Дионисия, великого Василия или его не менее великого друга из Назианза. Мало кто мог подметить, что набор этих изречений у Мелиссина был довольно ограничен, и что на самом деле патрикий вовсе не так много значения придавал «священнейшим догматам богопреданной веры», как это могло показаться неискушенному наблюдателю. Вопрос Грамматика, в котором слышалась легкая насмешка, уязвил Феодота: Иоанн слишком прямо дал понять, что видит, насколько Мелиссину на самом деле интересно богословие. Но дальнейшее рассуждение Иоанна об «определенном положении» и вовсе обеспокоило патрикия. «Как он мог догадаться? Невероятно!.. Нет, скорее, это он так, рассуждает… так сказать, вообще… Он ведь, наверное, сам туда метит, и если б догадался, не принял бы так философски!» – успокаивал себя Феодот, подливая вина в кубки. Но рука его чуть дрогнула, и вино пролилось на скатерть.
– Тьфу! – сердито пробормотал Мелиссин; Грамматик наблюдал за ним.
– Я вот что думаю, господин Феодот, – сказал Иоанн, вынимая из судака длинные реберные кости и аккуратно складывая их на край тарелки, – главное – всё делать без лишней спешки. Спешить вредно даже в таком деле, как разлив чувственного вина, а тем более – когда речь идет о вине духовном.
– К чему ты это? – нетерпеливо спросил Феодот.
– Да так, рассуждаю… У меня сегодня, – улыбнулся Грамматик, – созерцательное настроение.
– Ну, а мне не до созерцаний! – ответил Мелиссин. – Государь считает, что мы уже обратили довольно епископов, чтобы провести собор. И на него пригласят патриарха для прений об иконах… Хоть врачи и предсказали скорую смерть, но что-то святейший, видишь, умирать не торопится! Говорят, вчера он даже вставал с постели… Ты говоришь: не спешить? Нет, надо именно спешить! Ведь Никифор сочиняет какое-то церковное воззвание!
– И что же?
– Говорят, он там грозится, что всех, «присоединившихся к еретической части», постигнут прещения. В общем, я боюсь, как бы наши преосвященные отцы не пошли на попятный.
– Не бойся, господин Феодот. Наши отцы, раз отступив от того, что обещали Никифору, теперь пойдут до конца, не останавливаясь, и сделают всё, что надо, если не более. Им ведь нужно доказать самим себе, что они на верном пути. Вот увидишь, они еще потребуют у государя более крутых мер к противникам, чем те, о которых думает он сам!
Мелиссин искоса взглянул на Иоанна. Этот человек начинал иногда пугать его. Временами патрикий задавался вопросом: а во что, собственно, верит сам Грамматик? И вера ли вообще движет им? Если относительно себя самого Феодот мог честно признаться, что, несмотря на симпатии, которые он с юности питал к иконоборчеству и лично к императору Константину Исаврийцу, догматы сами по себе были для него делом десятым, то Иоанна он поначалу считал «человеком убеждений». Однако теперь он начинал ощущать какую-то иную движущую силу в поступках этого монаха. Ради чего Грамматик затеял это «крушение веры», что тут привлекло его? Близость ко двору, почет, богатство? Желание стать епископом или даже патриархом?.. Может, и так, но тут угадывалось также нечто другое – и это было не желание «торжества истины» само по себе. «Ум, внушающий страх, и власть над умами», – эти слова, некогда сказанные Грамматиком, Мелиссин счел просто шуткой, но сейчас начал понимать, что они действительно выражали устремления этого ученого аскета, чей холодный внимательный взгляд иной раз заставлял внутренне съеживаться, вонзаясь в собеседника словно острый клинок. Казалось, Иоанн насквозь видит всё, что происходит внутри других людей, и понимает то, чего они сами еще не понимают, а может, и никогда не поймут. От этой мысли становилось неприятно; еще неприятней было думать, что Грамматик, возможно, и самим Феодотом просто пользовался для осуществления каких-то своих планов, вовсе не считая его сотрудником в собственном смысле слова…
«Ладно, господин философ, – подумал Мелиссин, пережевывая кусок рыбы, – у тебя свои цели, у меня свои… Время покажет, кто быстрей добьется желаемого!»
2. «Я оставляю вас христианами»
…все люди пойдут каждый в путь свой, а мы пойдем во имя Господа Бога нашего во век и далее.
(Книга пророка Михея)
Был первый день Великого поста. Келейник уже третий раз входил с докладом к патриарху: пришедшие с утра епископы настойчиво требовали встречи с Никифором, говоря, что посланы «объявить ему решение собора». Собор начал заседать в Магнавре в четверг Сыропустной седмицы; на нем присутствовало несколько десятков епископов и игуменов из числа тех, кого патриарх назвал «крестопопирателями». Император в заседаниях не участвовал, послав туда наблюдателями Феодота и Евтихиана. Председательствовал на соборе Антоний Силейский, которого Иоанн снабдил кипой выписок из Писания и отцов со своими толкованиями. Сам Грамматик держался в тени и наблюдал за ходом собора, сидя позади всех в углу; по его губам то и дело пробегала чуть заметная усмешка. Соборяне, как он и предсказывал, взялись за дело ретиво: уже по окончании первого заседания они обратились к императору с прошением призвать патриарха на собор «для отчета перед Церковью за допущенное им пренебрежение пастырскими обязанностями и для оправдания от возводимых на него обвинений, а также для открытого прения по поводу сомнительных положений вероучения». Лев послал к патриарху оруженосца Феофана, чтобы тот привел Никифора на собор. Никифор передал через келейника, что ничего не знает о заседающем в Магнавре соборе, поскольку он никого не созывал и не намерен идти на сборище самочинников и тем более давать ему отчет. Когда в пятницу ответ патриарха был объявлен, соборяне разразились криками возмущения, кое-кто тут же предложил судить Никифора и лишить сана. Но Антоний Силейский урезонил возмущенных, сказав, что епископа надо по канонам призывать на суд трижды. Патриарх ответил вторично посланному к нему Феофану:
– Как видишь, господин, я не могу придти туда из-за болезни. Но если б и мог, на такой собор я все равно не пошел бы. Если есть желание обсудить вопросы веры, то надо предоставить каждому свободу мнения. Пусть все будут допущены на собор, а не одни те, кого созвал туда государь. Затем с собора должны быть удалены те, кто присоединился к осужденной ереси, поскольку они через это уже лишились священства и не могут решать церковные вопросы. Если пославшие тебя, господин, согласятся на такие условия, то мы назначим время для собора и для прений, когда Богу угодно будет облегчить мою болезнь. И местом церковных собраний должен быть храм, а вовсе не дворцовые залы.
Та же участь постигла и сделанную в субботу третью попытку призвать патриарха «на суд собора». В Сыропустное воскресенье, вновь обсудив положение, соборяне согласились, что принять условия Никифора невозможно.
– Имею сказать честно́му собранию, – заявил Антоний Силейский, – что мы довольно делали приглашений господину Никифору. Вот уже в третий раз мы призвали его, а он коснеет в своеволии и не является. Итак, если вам угодно, досточтимые отцы, пользуясь соборной властью, сообщим ему письменно то, что принято сообщать упорствующим в заблуждении.
Собору это было весьма угодно, и на следующий день несколько епископов отправились вручить патриарху составленную грамоту. Узнав о том, куда и зачем они идут, к ним с криками присоединились многие из толпы, ежедневно после начала собора заполнявшей двор Великой церкви и настроенной довольно воинственно, чтобы не сказать угрожающе: у некоторых в руках были палки, и даже первый день Великого поста мало кого остановил. Народ вместе с посланцами собора вломился в патриаршие палаты и, когда епископы попросили патрикия Фому доложить Никифору об их приходе, разразился криками:
– Пусть выйдет! Довольно уже прятаться от своей паствы! Пусть объявит всем свою веру!
– Да он вовсе и не болен! Это притворство!
– Нечестивый идолопоклонник! Пусть убирается отсюда!
Фома грозно поглядел на толпу и прикрикнул, обнажая меч:
– А ну, хватит! Вон отсюда, варвары! А не то попробуете палок или чего поострей!
Чернь попритихла, кое-кто ретировался, но многие остались. Фома поставил вооруженных стратиотов у дверей в покои патриарха, а сам отправился к нему с докладом. Никифор поначалу отказался принять посланцев собора, но епископы не ушли, продолжая настаивать на встрече и говоря, что такова воля императора. Настаивал на этом и Фома, уверяя, что не допустит никакого бесчинства.
– Хорошо, проси их войти, – со вздохом сказал патриарх келейнику.
Никифор сидел в глубоком кресле с книгой на коленях, закутав ноги в шерстяное одеяло; рядом стояла жаровня с углями. Лоб патриарха перерезала глубокая морщина – еще две недели назад ее не было, она появилась за последние дни. Епископы вошли с дерзким выражением на лицах и остановились посреди комнаты. Один из них, державший в руках свернутую в трубку соборную грамоту, сделал шаг вперед, развернул определение и стал читать трагическим голосом, подобно актеру в театре. «Святой собор, – говорилось в грамоте, – приняв жалобы на тебя, в последний раз обращается к тебе и повелевает явиться для их рассмотрения без всякого отлагательства, чтобы дать ясный ответ». Патриарха призывали «согласиться со всей Церковью относительно устранения икон из святых храмов», а в случае упорства угрожали соборным судом и низложением. Выслушав, Никифор несколько мгновений молча смотрел на епископов, а потом сделал знак келейнику и, когда Николай подошел, отдал ему книгу, сбросил с колен одеяло и, хотя не без труда, поднялся на ноги.
– Кто это такой угрожает нам жалобами и принимает против нас обвинения? – произнес он, в упор глядя на пришедших. – Какой патриаршей кафедры хвалится он быть предстоятелем? Водимый какими пастырскими заботами, подвергает он меня каноническому наказанию? Может быть, меня зовет предстоятель Ветхого Рима? Или Александрийской Церкви? Антиохийской или, может быть, Иерусалимской? Да, если кто-нибудь из них пригласит меня, я явлюсь без промедлений! Но если лютые волки, скрывшись под овечьей шкурой, поносят пастыря, то кто согласиться пойти даже взглянуть на таковых? «Отступите от меня, делающие беззаконие»! Вы никогда не поборете тех, кто утвержден на камне православия, но сами потонете в волнах своей ереси, а Церковь пребудет непотопляемой!
Епископы в первый момент растерялись и не нашлись, что ответить, но тот, что читал грамоту, быстрее других оправился от смущения и уже открыл было рот, однако Никифор знаком руки остановил его, и он замолк, против воли повинуясь спокойному и властному жесту патриарха.
– Выслушайте еще вот что, – сказал Никифор. – Если бы даже Константинопольский престол оказался без первопастыря, то и тогда никому не позволялось бы проповедовать лжеучения и составлять незаконные собрания. Но как сейчас избежите канонического прещения вы, бесчинно и самовольно составляющие ваши злочестивые синедрионы? Вы, учащие всенародно в этом Городе без воли правящего архиерея и к уничижению его, попирая каноны! Не меня, но вас справедливо объявить нарушителями правил! Не мне, но вам я объявляю приговор низложения! А теперь ступайте отсюда и прекратите докучать мне вашим нечестием. Суд ваш, по апостолу, давно готов, и погибель ваша не дремлет!
С этими словами патриарх вновь опустился в кресло, закрыл ноги одеялом и, взяв у келейника назад книгу, погрузился в чтение, словно в комнате не было никаких посетителей. Это уверенное спокойствие окончательно вывело их из себя.
– Возносливый идолопоклонник! – завопил один из них. – Чья погибель не дремлет, так это твоя, и ты скоро убедишься в этом!
Когда они покинули покои патриарха, Фома приказал стратиотам немедленно закрыть двери и крепко стеречь их – и недаром: толпа, узнав от вышедших о том, к чему привел их визит, пришла в настоящее неистовство, и только призвав еще воинов, Фома смог изгнать всех вон; кое-кого из самых буйных пришлось угостить палицами. Оказавшись на улице, они вместе с ходившими к патриарху епископами разошлись вовсю.
– Идолопоклонникам анафема! Да будут прокляты! Да вовек не видят света Святой Троицы! Герман и Тарасий, начальники нечестия и лжепатриархи, да будут прокляты! Никифору, лжепатриарху и отступнику, анафема!
Услышав эти вопли, доносившиеся через окно, патриарх сказал келейнику:
– Николай, помоги мне встать.
Опираясь на руку монаха, он прошел в молельню и упал на колени перед образами.
– Благодарю Тебя, Господи! – прошептал Никифор. – Благодарю, что меня, недостойного и нечистого, Ты сподобил принять поношение вместе со святыми отцами!
В тот же вечер Фома доложил императору о бесчинствах толпы. Лев вознегодовал:
– Вот нечестивцы! Передай святейшему, что я очень сожалею о бывшем. Я не знал об этом. Если их с собой привели те епископы, они будут наказаны. Впрочем, – добавил он, – надо и снизойти к людскому невежеству. Народ страждет и отягощен трудами, потому они и сотворили такое, ведь бедный люд так легко возмущается…
На следующий день император приказал соборянам разойтись.
– Еще не время, – сказал он Антонию. – Надо подождать, пока успокоится народ. Если мы низложим Никифора сейчас, то скажут, что епископы пошли на поводу у толпы. Уже ходят слухи, будто эти бесчинники были посланы собором, чтобы убить патриарха. Это никуда не годится! Не будем спешить.
Лев велел схватить нескольких зачинщиков народного буйства перед патриаршими палатами, бичевать и бросить в заключение на две недели. В то же время он приказал усилить надзор за патриархом: к Никифору больше никого не пускали, при нем оставались только келейник, двое прислужников и секретарь, также ежедневно приходил врач. У патриарха забрали часть книг, не только взятых им из библиотеки, но и его собственных. Фома пригрозил забрать и письменные принадлежности, если Никифор еще вздумает «докучать господам синклитикам или иному кому» призывами защитить иконопочитание. Однако на второй седмице поста патриарх всё же сумел переслать игумену Феодору, с просьбой распространить как можно шире, «Защитительное слово к кафолической Церкви относительно нового раздора по поводу честных икон», где вкратце перечислял основания для почитания икон и призывал верных не спорить с еретиками, но держаться принятых всей Церковью решений последнего Вселенского собора. Студийский игумен посадил за работу почти всех монахов, способных более или менее хорошо писать, и вскоре патриаршее воззвание разошлось по Городу и далеко за его пределы, воодушевив православных и вызвав возмущение иконоборцев.
В ночь на пятницу четвертой седмицы поста, по наущению примкнувших к ереси епископов, толпа черни, вооруженная кольями и даже ножами, стала опять ломиться в патриархию, понося Никифора; стража едва смогла отогнать бесчинников. На другой день лечивший патриарха врач, придя с обычным визитом, шепотом сообщил Никифору, что ходят слухи, будто на патриарха готовится покушение.
– Так, – сказал патриарх келейнику, – пора нам готовиться в странствие. Начинай собирать вещи. Надеюсь, государь позволит мне забрать с собой хотя бы мои книги.
Между тем император сурово отчитал Фому за то, что послание Никифора не было перехвачено. Патрикий оправдывался, говоря, что открыто никто ничего не выносил от святейшего, а обыскивать его келейника и прислужников всё же представляется не слишком удобным, да и приказа такого не было…
– Довольно! – прервал его Лев. – Полагаю, дальнейшее ожидание, что патриарх передумает, бессмысленно.
– Августейший, – ответил Фома, – если ты хочешь изгнать его, дело за немногим: пошли к нему людей с носилками, а то он еще слаб из-за болезни, и мы отправим его, куда будет угодно приказать твоему величеству.
12 марта император через Фому объявил патриарху, чтобы тот готовился к отбытию из столицы. Никифор сам вышел к патрикию, тяжело опираясь на посох, и вручил ему письмо к императору. В послании говорилось, что патриарх, сколько мог «боролся за истину и благочестие и ничего не упустил из своих обязанностей, не замедлив ни беседовать с просившими о том, ни наставлять внимающих», но за это перенес «всякое утеснение, бедствие и оскорбление, заточение, отнятие имущества», и поношения от черни; теперь же, в связи с известием о том, что враги веры готовят засаду, чтобы убить его, Никифор оставляет престол «против воли и желания, гонимый злоумышленниками». Прочтя письмо, император в гневе скомкал лист: патриарх, даже уходя с кафедры, сумел превратить свое согласие на уход в обвинение против власти. Той же ночью в патриархию был послан воинский отряд, чтобы вывести Никифора, доставить на корабль и отправить в ссылку – пока в Агафский монастырь, основанный самим же патриархом на побережье Босфора, к северу от Хрисополя. Когда Фома сообщил патриарху о приказе василевса, Никифор сказал только:
– Хорошо, господин, у меня уже почти всё готово к отбытию. Но у меня есть одна просьба: не позволишь ли ты мне проститься с Великой церковью?
Патрикий заколебался: император строго приказал ему как можно быстрее посадить патриарха на носилки и вынести из палат; но эта смиренная просьба человека, под чье благословение еще так недавно преклонялись все подданные Империи и сам василевс, потрясла его. Отказать даже в этом?..
– Да, разумеется, – сказал он, наконец. – Но только, прошу тебя, святейший, не задерживайся.
Пока келейник разжигал кадило, патриарх вновь обратился к Фоме:
– Могу ли я взять с собой свои книги и облачения, или государь велит мне оставить всё здесь?
– Твои личные книги и вещи, святейший, ты можешь забрать. Да, августейший велел передать, что вернет тебе и те из твоих книг, что были взяты недавно, но попозже, когда просмотрит. Его что-то заинтересовало там. Ты ведь не будешь в обиде на эту задержку?
– О, нисколько, – ответил Никифор, взял поданное кадило и, опершись на руку келейника, медленно вышел из покоев в переход, соединявший патриархию с южными галереями Святой Софии.
Светильники во многих паникадилах Великой церкви горели круглосуточно, их мерцающие огни отражались в мраморе стен и колонн, золотили своды, поблескивали на серебряных столпах кивория в алтаре и тонких колонках амвона, играли на драгоценных раках с мощами… Патриарх покадил в сторону алтаря, потом вошел в свою молельню, отдал кадило Николаю, зажег две свечи перед Распятием и, положив земной поклон, стал молиться:
– Боже великий и дивный, Господи всяческих, Тебе ныне вручаю храм сей, Твоим промыслом воздвигнутый! Ты вверил его моему недостоинству, и я, сколько мог, соблюдал его непоколебимым на камне истинной философии, и нескверным передаю Тебе залог сей… Ты видишь, как рыкает лев на Церковь Твою, как волки тщатся расхитить стадо Твое, спаси же призывающих Тебя во истине от этого нечестия! Я же, грешный, предаю себя суду Твоему, руководи меня и путеводствуй, куда угодно Тебе!
Патриарх поднялся, задул свечи и, по-прежнему поддерживаемый келейником, по лицу которого текли слезы, вышел из молельни. Он некоторое время молча смотрел на храм с высоты галерей, а потом прошептал:
– Прощай, София, Божественного Слова непоколебимый храм! Возлагаю на тебя замо́к православия, никак не сокрушаемый ломом еретичествующих. Тебе вверены отеческие догматы, и никогда не нарушат их никакие извращения еретиков! Прощай, кафедра, взошел я на тебя не по своему желанию, но без насилия, оставляю же ныне по насилию… Прощай и ты, великий Град Божий, православными я обрел обитателей твоих, когда возложен был на меня омофор, и старался сохранить их в православии; ныне же предаю всех деснице Божией!
Когда он вернулся в свои покои, всё уже было готово к отъезду. Служители патриарха и асикрит с плачем подошли под благословение; император разрешил Никифору взять с собой только келейника.
– Чада, – сказал патриарх, – некогда я нашел вас христианами, христианами и оставляю!
…Из книг, изъятых у патриарха, более всего императора заинтересовала объемистая летопись, занимавшая несколько пухлых тетрадей. В предисловии к ней говорилось, что Георгий, синкелл патриарха Тарасия, изучил многих хронистов и историков и написал «краткую хронографию от Адама до царя Диоклетиана», а перед смертью попросил своего друга довершить начатое. «Сознаваясь в своем неведении и в скудости слова, – писал хронист, – мы отказывались от исполнения сего поручения, как превышающего наши силы, но он усильно просил нас не полениться и не оставить его труда недоконченным, и принудил приступить к работе…» О том, что покойный синкелл взялся писать хронографию, Лев слышал, но о его просьбе к другу довершить работу узнал только теперь. Читать всю летопись было недосуг, поэтому василевс прочел только про царствования «нечестивого императора Льва» и сына его «сквернейшего» Константина, «предтечи антихриста», «гонителя отеческих преданий», и пришел в сильное раздражение. Пригласив к себе Иоанна, он показал ему летопись и сказал гневно:
– Посмотри, что читает патриарх! Какие хулы на императоров!
Грамматик полистал рукопись и очень заинтересовался. Взяв ее почитать, Иоанн целую неделю всё свободное время просиживал над тетрадями, исписанными довольно крупным красивым почерком; правда, к концу он стал местами несколько неровен. «Такое впечатление, что писавший к концу или устал, или заболел, – подумал Иоанн. – Э, да я, кажется, знаю, чья это работа!»
– Ну, что скажешь? – спросил его император, когда Грамматик вернул хронографию.
– Огромный труд, трижды августейший! И достойный всякого внимания. Конечно, некоторые места не могут не возмущать… Впрочем, наш летописец, похоже, еще больше, чем Исаврийских государей, или, по крайней мере, не меньше, не любил августейшего Никифора, что меня несколько удивило. Но, как бы то ни было, полагаю, что конец всё искупает, – Иоанн улыбнулся.
– А что там в конце? Я, признаться, не посмотрел.
– Там рассказывается о походе государя Михаила Рангаве на болгар, – Грамматик открыл конец последней тетради и прочел: – «Император бродил по Фракии со стратигами и войсками, не приближаясь к Месемврии и не делая чего-либо другого, необходимого для уничтожения врагов, но только полагался на суетные речи своих неопытных в военном деле советников…»
– Да-да, так оно и было! – воскликнул император. – И что там дальше?
– Дальше, государь, еще интереснее! Про то, что у Версиникии стратиг Анатолика Лев и стратиг Македонии Иоанн стремились сразиться с болгарами, «но император воспрепятствовал им из-за своих дурных советников».
– Именно так! – Лев хлопнул рукой по колену. – Продолжай!
– Дальше рассказывается о том, как в храме Апостолов бывшие стратиоты открыли гробницу государя Константина, и, конечно, летописец всячески поносит «еретиков». Но зато потом он повествует о поражении от болгар, о бегстве войска и о том, что император решил сложить с себя власть, и патриарх поддержал это намерение. «Стратиги же и войска, узнав, что император сбежал в Город, отказались от того, чтобы он царствовал над ними, и, посоветовавшись между собой, убеждали Льва, патрикия и стратига Анатолика, придти на помощь государству и взять в свои руки государственные дела христиан. Он же какое-то время упорно медлил, размышляя о трудности времени и непереносимости варварского нападения и незлокозненно храня верность царствовавшим. Когда же он увидел, что враг устремляется на Город, то пишет патриарху Никифору, решительно утверждая свое православие, прося его молитвы и согласия на взятие власти», после чего провозглашается «законнейшим императором ромеев».
– Надо же! – сказал император с улыбкой. – Похоже, я поторопился обругать летописца! Это уже конец?
– Нет, там еще немного. Кончается на том, что Крум разорил Фракию и взял Адрианополь. Но перед этим есть чудесная фраза: «Лев, венчанный патриархом Никифором на амвоне Великой церкви, приказывает находящимся в Городе быть настороже, самолично днем и ночью обходя стены и всех возбуждая и увещевая быть благонадежными, ибо Бог очень скоро сотворит преславное, по молитвам Всечистой Богородицы и всех святых, и не попустит совершенно посрамиться за множество прегрешений наших», – Иоанн закрыл рукопись. – Эти последние страницы, государь, являют историю в чистом виде, еще не испорченную и не искалеченную в угоду тем или иным человеческим интересам, страстям и заблуждениям… Редкий случай! Интересно и то, кто написал всё это.
– Ты знаешь?
– Да, я вспомнил, государь. Мне говорили год назад, что Феофан, игумен монастыря Великого Поля в Сигриане, дописывает за покойным синкеллом некую хронику, начатую от Адамовых времен. Этот Феофан – один из верных сторонников патриарха и, кстати, восприемник по постригу Студийского игумена. Видимо, он прислал Никифору список для прочтения. Возможно, он предполагал добавить сюда потом что-то еще. Впрочем, я слышал, что он очень болен теперь, может быть, и писать уже не в силах.
– Ну, в любом случае поблагодарим его и за это. Эта летопись нам действительно может пригодиться, – Лев улыбнулся, – по крайней мере, ее концовка.
– Именно так, августейший!
– Правда, я пообещал, что верну Никифору изъятые у него книги, в том числе и эту. Но прежде я велю переписать ее. Никифор всё равно не сможет заниматься ее распространением там, куда вскоре отправится… Хороших писцов у него там в любом случае не будет, – император ухмыльнулся. – Зато в своем списке мы сможем сделать некоторые уточнения и поправки. Думаю, прошлое не будет на нас за это в обиде, Иоанн?
По губам Грамматика пробежала усмешка.
– Прошлое, августейший государь, на то и прошлое, что его можно в любой момент переписать.
3. «Победы знамение»
(Монахиня Мария / Скобцова/)
- …Тут оборвалась
- Былая жизнь. Льют новое вино
- Не в старые мехи. Когда усталость
- Кого-нибудь среди борьбы скует,
- То у врага лишь торжество, не жалость,
- В его победных песнях запоет.
- Ни уставать, ни падать не дано нам.
Рассвет еще только занимался над Городом, и братия, расходясь по кельям после утрени, зябко поеживались и поплотнее кутались в мантии. Студийский игумен, отправляясь к себе, сделал знак эконому следовать за ним. Когда они оказались вдвоем в игуменской келье, Феодор указал Навкратию на табурет в углу, а сам вынул из-за пазухи записку, еще во время службы принесенную патриаршим асикритом, подошел к окну и перечитал. Навкратий смотрел на игумена с некоторой растерянностью. Пока они только вдвоем из всего братства знали о том, что патриарх ночью был увезен в ссылку, – Феодор решил огласить полученную новость позже, после литургии.
– Отче, что же теперь будет? – тихо спросил эконом. – Остались мы без патриарха…
– Что ты, брат! – сказал Феодор с укором. – Как ты мог сказать такое? Владыка никуда от нас не делся, он жив, он был и останется главой Церкви. А то, что эти иудействующие сослали его, служит только к его славе! Он пошел путем, в который скоро пойдут все, «хотящие благочестиво жить». Настала пора узнать верных!
Во дворце тоже отошла утреня, великий папия с этериархом открыли залы на пути к Золотому триклину, и одетые в скарамангии придворные, пришедшие на утренний прием императора, чинно проходили через Скилы в триклин Юстиниана, где на скамьях усаживались протоспафарии, спафарии, кандидаты и низшие чины. Магистры, препозиты и другие высшие чины Синклита, приняв приветствия от низших, проходили дальше, в Лавсиак, и тоже садились на скамьи по рангам. Наконец, из Трипетона вышел папия, приказал привести логофета дрома и, пока ходили за логофетом в Асикритий, уселся на скамье рядом с оруженосцами. Утренний прием начался.
После того как логофет сделал обычный доклад императору, Лев велел препозиту пригласить синклитиков и прочих пришедших. Когда все, войдя по чинам в Золотой триклин, поклонились императору, восседавшему в золоченом кресле справа от трона, на котором стояло большое Евангелие в золотом окладе со вставками из драгоценных камней, и встали на свои места, Лев оглядел это внушительное собрание и сказал:
– Я созвал сегодня всех вас по делу, касающемуся нашей Церкви. Святейший Никифор, как ни прискорбно мне об этом сообщать, пренебрег ею и покинул нас. Мы говорили ему об иконах, что нехорошо поклоняться им, поскольку о том нет свидетельств в божественном Писании, и что из-за этого нечестивого обычая язычники побеждают нас. Но патриарх, не желая слушать и в то же время не имея каких-либо разумных доводов для опровержения, разгневался и, презрев нас, нынешней ночью удалился в один из своих монастырей. Очевидно, что больше он не вернется на кафедру, и теперь нам нужно сделать патриархом другого вместо него.
Утро уже вступило в свои права, и белый свет струился из шестнадцати полукруглых окон под высоким вызолоченным куполом залы, играя на великолепной мраморной отделке стен; огни огромного серебряного паникадила, висевшего в центре зала, и восьми боковых поменьше, зажигали огоньки на мраморе колонн, матово поблескивали на позолоченных столах и спинках скамей, на украшенных золотыми нашивками одеяниях чинов, на жезлах силенциариев, на золотых цепочках у кандидатов и спафарокандидатов, на драгоценных камнях в ожерельях протоспафариев – и всё это великолепие, казалось бы, не располагало слушать печальные вести. Но сообщенная василевсом новость большинству собравшихся и не показалась прискорбной – они уже давно и с нетерпением ждали, когда противостояние между императором и патриархом подойдет к закономерному концу; если им и было жаль Никифора, то только слегка. Почти все одобрительно зашумели, выражая так или иначе свою поддержку намерению василевса избрать нового церковного предстоятеля. Глаза Льва довольно заблестели.
– Итак, – вновь заговорил он, – я вижу, ваше боголюбивое собрание вполне понимает настоящую нужду и согласно со мной. Я, со своей стороны, уже поразмыслил о том, кого могла бы принять первопастырем осиротевшая священная кафедра нашего Города. Мне думается, что ее мог бы достойно занять человек, известный как своей величайшей ученостью и богословскими познаниями, так и подвижнической монашеской жизнью. Я говорю о господине Иоанне, который ныне подвизается в святой обители божественных Сергия и Вакха. Его-то возведение на патриарший престол я и возымел мысль предложить на одобрение вашему собранию.
И тут случилось неожиданное: после краткого молчания большинство синклитиков глухо зароптало. Патрикии, особенно те, кому было уже за пятьдесят, стали переглядываться, шептаться, и, наконец, вперед выступил логофет дрома.
– Державнейший государь, – сказал он слегка откашлявшись, – мы согласны, что великие познания господина Иоанна заслуживают всяческих похвал и восхищения, равно как и его аскетизм… Но нам кажется, что пока неблаговременно ставить его на столь высокое служение. Да не прогневается на нас, смиренных, твое величество! Отец Иоанн всё же слишком молод… а кроме того, недостаточно известен при дворе. Конечно, кто-то знает его как богослова и учителя, но… кхм… далеко не все. Некоторые из господ синклитиков почти ничего не знают ни о нем самом, ни о его роде… Нам представляется, августейший, что не подобает членам Синклита, людям почтенным и нередко в преклонном возрасте, кланяться и припадать пред столь, можно сказать, юным человеком. Тридцать пять лет – если я не ошибаюсь, господин Иоанн сейчас именно в таком возрасте, – это хоть и не юность, говоря вообще, но всё равно что юность для людей, уже убеленных сединами. Мы желали бы, государь, чтобы патриархом был человек из благородной семьи, известный и почтенный летами. Ибо, как говорит божественный апостол, «всё благообразно и по чину да бывает».
Почти все синклитики кивками выражали одобрение говорившему. Император нахмурился. Такой оборот событий не входил в его планы, хотя Иоанн, когда Лев сообщил ему на днях о своем намерении сделать его преемником Никифора, поклонился и сказал:
– Благодарю за столь высокое доверие, трижды августейший! Но, думаю, в настоящее время твое намерение, государь, вряд ли возможно осуществить. Господа синклитики, подозреваю, не будут рады твоему предложению, – и Грамматик чуть заметно усмехнулся.
И вот, они действительно были совсем не рады… Впрочем, безусловно, их недовольство имело причины, хотя, как догадывался император, не только те, что были высказаны логофетом. Иоанн никогда особенно не старался скрыть своего пренебрежения к людям недалекого ума, так же как и равнодушия к высоким чинам и должностям, на большинство людей смотрел свысока и ничуть не заботился о том, какое мнение у них сложится о нем, – и вот, пренебрегаемые нашли способ отомстить.
– Ваши возражения небезосновательны, – сказал Лев после краткого молчания. – Но кого в таком случае вы хотели бы видеть на патриаршем престоле?
И здесь последовала вторая неожиданность.
– Мы думали об этом, трижды августейший, – ответил логофет дрома. – Нам представляется, что любезным Господу и нам, грешным, предстоятелем Церкви мог бы стать человек, известный и благородством рода, и умом, и образованностью, и познаниями в богословии, и, что немаловажно, смирением и богоподражательной кротостью. Я имею в виду, государь, господина Феодота Мелиссина.
Тут все устремили взоры на патрикия, который стоял на своем обычном месте, среди спафарокандидатов. Лев успел заметить, что Мелиссин не принимал участия в обсуждении кандидатуры Иоанна Грамматика, а стоял смиренно и тихо, имея вид человека, углубленного в собственные мысли или в молитву. Теперь Феодот, казалось, был ужасно поражен: прижав руки к груди, он испуганно посмотрел на императора, потом огляделся вокруг и тихо проговорил:
– Братия, вы, должно быть, шутите? Какой из меня, недостойного, патриарх? Да я ведь даже не монах, я женат, у меня дети… Что вы это?!
– Ну и что, женат? – раздались голоса. – Сегодня женат, завтра монах! Дети твои выросли, и ты сам, почтеннейший, уже не в том возрасте, чтобы думать о женах! Мы тебе лучшую и прекраснейшую невесту предлагаем – святую Церковь! И обручение высшее и прекраснейшее – ангельского образа!
Император, хотя предложение его несколько удивило, был рад: патриархом станет если не один из его помощников, так другой, и коль скоро этот последний любезен всем придворным, так чего же лучше!
– Что ж, – промолвил Лев, – это предложение мне по сердцу. Полагаю, господин Феодот не должен отказываться. Если все согласны, то это воля Божия!
Император и не подозревал, что мнение, которое он счел волей Божией, Феодот уже два месяца исподволь, очень осторожно и ловко подготовлял, так что никто и не догадывался об этом. Мелиссин никогда ни с кем не заговаривал первый о будущем Константинопольской кафедры, а если кто-нибудь из придворных спрашивал у него о том, кого думает государь сделать патриархом вместо «упрямого Никифора», Феодот отделывался туманными общими фразами и ни к чему не обязывающими рассуждениями. Однако в каждое из таких рассуждений он по капле вливал ту или иную «нужную» мысль: что патриарх, конечно, должен быть из знатного рода; что он должен быть почтенным и известным при дворе; что достоинством патриарха, безусловно, является кроткий нрав и сговорчивость, то есть как раз те качества, которыми был известен сам Феодот; что он должен неплохо разбираться в богословии и быть начитанным в отцах Церкви… Спустя несколько дней патрикий уже слышал, что те же самые мысли синклитики выражали как свои собственные, Мелиссин же как будто тут был вовсе не при чем. Притвориться, будто предложение Синклита явилось для него полной неожиданностью, патрикию ничего не стоило. Император дал ему около двух недель, чтобы «подготовиться внутренне и внешне» к предстоящей перемене жизни, и вечером 23 марта, накануне Лазаревой субботы, Мелиссин был пострижен в монашество, сохранив при постриге свое прежнее имя Феодот.
День Входа Господня в Иерусалим, однако, принес императору и его единомышленникам сильную неприятность. Студийские монахи после праздничной литургии совершили, по обычаю, крестный ход вокруг всего монастыря, выйдя за его стены и обойдя прилежащий к обители виноградник. Процессия эта сама по себе выглядела очень внушительно – сотни монахов, несших множество крестов и икон, сопровождало немало народа, пришедшего в Студий на праздник; но когда певчие, по команде игумена, громко запели тропарь: «Общее воскресение прежде Твоей страсти уверяя, из мертвых Ты воздвиг Лазаря, Христе Боже…» – а прочие братия и народ подхватили, пение разнеслось за несколько кварталов, так что стали сбегаться окрестные жители. На словах: «Тем же и мы, словно отроки, победы зна́мение носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна в вышних!» – монахи, несшие иконы, высоко подняли их над головой, и продолжали их так нести до конца крестного хода. Весть о «наглой выходке студитов» быстро дошла до Священного дворца. Разгневанный император послал в Студий спафария, который сказал Феодору:
– Ты, отче, всё никак не можешь успокоиться, не сидишь молча, но выдумываешь то одно, то другое к оскорблению государя! Знай, что если ты не прекратишь свои выходки, то в скором времени отправишься к жителям ада!
– А что, – спокойно спросил игумен, – ключи от ада уже находятся у государя?
На лице спафария появилось выражение, похожее на то, какое Феодор когда-то видел у Халкитского игумена Иоанна, едва не ударившего своего узника за ехидный вопрос. Однако императорский посланец сдержался, поджал губы, смерил игумена взглядом и ответил:
– Недолго тебе осталось так вольно шутить, господин Феодор! Но я всё тебе сказал, а ты, думаю, всё понял. Считай, что это было последним предупреждением тебе от державного!
1 апреля, на Пасху, Феодот Мелиссин, в течение седмицы прошедший все степени священства, стал патриархом Константинопольским, и на грядущее воскресенье был назначен собор, куда пригласили, помимо епископов, всех настоятелей монастырей столицы и ее окрестностей. Большинство игуменов стали лично или письменно обращаться к Феодору за советом, идти ли им на этот собор, и Студит предложил всем собраться вместе, чтобы обсудить дальнейший образ действий. И вот, в четверг Светлой седмицы почти все игумены городских обителей собрались в Студии.
– Лучше всего, отцы мои, – сказал Феодор, – всем нам оставаться у себя, не ходить туда и не вступать в беседу с еретиками. Никакой пользы от этого не будет, да и каноны запрещают творить собрания помимо воли архиерея, а святейший Никифор собора не созывал. Не можем же мы считать патриархом этого самозванца Феодота!
Большинство игуменов поступило по совету Студита, но некоторые, после того как получили вторичное приглашение прибыть на собор, решили всё же пойти и посмотреть, что там будет происходить. Уже первый день заседаний принес печальные вести: иконопочитание было объявлено «пагубным заблуждением».
На другой день Феодор, вновь созвав к себе городских игуменов и посовещавшись с ними, составил от лица всех письмо к собору, где утверждал, что все они считают законным патриархом Никифора, а решений собора против икон признать не могут как не согласных с православием. Послание взялись доставить на собор игумены Хорский и Диева монастыря. Когда, по просьбе патриарха Феодота, Антоний Силейский зачитал его вслух на заседании, соборяне разразились возмущенными криками и прогнали принесших письмо, осыпав их пощечинами и оскорблениями, пригрозив заключением и ссылкой. Когда Феодор узнал о том, каков был успех послания, он ничуть не удивился и сказал:
– Что ж, этого следовало ожидать… Стадо взбесившихся свиней понеслось с крутизны в море, и их уже не остановить. Но надо позаботиться о том, чтобы они увлекли за собой как можно меньше народа.
С этого дня брат Николай почти поселился в игуменских кельях. Это был еще молодой монах, двадцати двух лет, родом с Крита. В Студий, где много лет подвизался его дядя, Николай поступил в десятилетнем возрасте. Сначала он жил в особом здании вместе с другими детьми, которые учились при обители, а когда подрос, не захотел возвращаться домой, но остался в монастыре и постригся. Юноша оказался очень способным, а особенно преуспел в каллиграфии: он хорошо изучил грамматику и научился писать четко и красиво и в то же время очень быстро, превзойдя всех скорописцев монастырского скриптория. Теперь игумен посадил его за работу – диктовал ему письма, воодушевлявшие ближних и дальних на мужественное противостояние ереси. Нужно было торопиться: никто не знал, как долго еще император будет терпеть Феодора в Городе, и будет ли возможность вести переписку там, куда его сошлют, – а что ссылка неминуема, игумен не сомневался.
Между тем собор в Святой Софии продолжал заседания. Некоторые из приглашенных туда епископов не согласились на ниспровержение икон, пытаясь обличить еретиков, но были вытолканы вон с бесчестием. Было постановлено, что Церковь принимает «всякий собор, утвердивший и укрепивший божественные догматы святых отцов и последовавший непорочнейшим канонам святых Вселенских шести соборов», но отвергает собор, состоявшийся при императрице Ирине. Седьмым Вселенским собором провозглашался тот, что состоялся при императоре Константине Исаврийце и упразднил иконы, после чего «немалое время не волнуемой пребыла Божия Церковь, сохраняя подвластных в мире, пока не перешла царская власть от мужчин к женщине, и из-за женской простоты Церкви Божией был нанесен вред»: августа Ирина, «созвав безрассудное собрание, последовав невежественнейшим епископам, постановила изображать непостижимого Сына и Слово Божие по плоти с помощью бесчестной материи» и «утвердила мнение о том, чтобы подобающее Богу приносить бездушной материи икон», которые «дерзнула безумно называть исполненными божественной благодати». Собор восхвалил новых Льва и Константина, «восстановивших чистоту веры», подтвердил прежние постановления против икон и объявил их изготовление «бесполезным», однако при этом «воздерживаясь от именования их идолами, ибо есть отличие одного зла от другого».
Определение собора, вместе с сообщением об избрании нового патриарха, немедленно разослали по всем городам, селениям и монастырям. От клириков и монахов, под угрозой лишения мест служения или изгнания из обителей, стали требовать подписаться под определением. Студийский игумен не только отказался подписывать что-либо, но и других убеждал не делать этого, а потому вскоре был вызван во дворец. Император сурово спросил Феодора, почему он не признаёт соборных постановлений и не поминает патриарха Феодота, и потребовал дать письменное обещание о том, что он не будет учить об иконопочитании и собираться ради этого вместе с другими верующими. Игумен ответил, что не может признать постановления, противные учению святых отцов и соборов, а патриарха поминает законного – святейшего Никифора, который, хотя и удален с насилием от своей кафедры и паствы, остается предстоятелем Церкви. Какую-либо подписку о молчании игумен тоже отказался дать.
– Это твое последнее слово, господин Феодор? – спросил Лев.
– Да, августейший.
– В таком случае завтра же ты будешь выслан из нашего богоспасаемого Города, ибо нам не нужны еретики и смутьяны. И больше, по крайней мере в мое царствование, ты сюда не вернешься.
Придя в Студий из дворца, игумен созвал всех братий и разделил их на семьдесят две группы, поставив над каждой старшего, который отныне должен был заботиться о том, чтобы братия и в рассеянии по возможности продолжали вести жизнь по прежним правилам: студиты не могли оставаться в монастыре при настоящем положении дел, поскольку от всех столичных монахов «иудействующее лжесоборище», как называл Феодор недавно состоявшийся собор, требовало если не подписки под его определением и поминовения Феодота как патриарха, то, по крайней мере, обещания хранить полное молчания относительно веры.
– Чада, – сказал Феодор, – ныне я, грешный, благословляю вас на подвиг и страдания за Христа, ибо страдающий за Его икону, конечно, страдает за Него Самого, оскорбляемого еретиками в Его святом образе. Равно как и отрекающийся от Его иконы отрекается от Него Самого. Да избавит нас всех Господь от такого падения! Ничего не бойтесь, не страшитесь проповедовать истину. Пусть никто не думает, будто если он не предстоятель монастыря или не клирик, или не имеет больших богословских познаний, то ему нужно молчать. Нет! Сейчас, когда вокруг бушует ересь, не только тот, кто имеет преимущество по званию и познаниям, должен подвизаться, беседуя с теми, с кем приведет Господь ему встретиться, и наставляя в православном учении, но и занимающий место ученика обязан смело говорить истину. Вы уже знаете, что некоторые игумены, которых, так же как и меня, грешного, вызывали во дворец, не только смолчали пред лицом еретиков, хотя и это немалое падение, но еще и собственноручно дали подписку, что не будут ни собираться вместе, ни учить. Это – измена истине, отречение от пастырства и погибель подчиненных им братий. Господь говорит: «Кто исповедает Меня пред людьми, того и Я исповедаю пред Отцом Моим небесным», и если господа игумены подписали обещания не собираться вместе ради веры и не учить, то и это тоже отречение. Да не случится этого ни с кем из нас, братия! Спасая, спасайте свои души, и молитесь обо мне, смиренном!
…Патриарх Никифор провожал в путь своего архидиакона. Мефодий был еще довольно молод – ему минуло двадцать семь лет. Родом из Сиракуз, сын знатных и богатых родителей, он в юности постригся в Хинолаккской обители и быстро стал известен своим подвижническим житием. Едва достигнув двадцатипятилетнего возраста, Мефодий, по желанию патриарха, был рукоположен в диаконы и стал одним из приближенных к Никифору лиц, а через месяц по восшествии на престол Льва стал игуменом в Хинолакке, после внезапной смерти прежнего настоятеля, по выбору братии. Патриарх ценил его ум и твердый характер, предчувствуя, что люди, подобные Мефодию, могут пригодиться в недалеком будущем, – и вот, настало время дать ему ответственное поручение.
Мефодий прибыл к патриарху в Агафскую обитель, чтобы подробно рассказать о прошедшем в столице иконоборческом соборе и начавшихся гонениях и испросить дальнейших указаний. Он уже побывал в Хинолаккском монастыре и, призвав братию стоять за православие даже до смерти, благословил всех покинуть обитель и жить по двое-трое, где придется, хотя бы в лесах и горах, лишь бы не вступать в общение с еретиками. Патриарх, выслушав новости, сказал, что иного вряд ли можно было ожидать, и поручил Мефодию, взяв с собой епископа Монемвасийского Иоанна, ехать в Рим и сообщить папе о том, что происходит в Константинополе. Никифор написал несколько писем и дал игумену подробные указания относительно их действий в Риме. Те два дня, что архидиакон провел у патриарха, они разговаривали шепотом, из опасения быть подслушанными – к келье Никифора императором была приставлена стража.
– Меня, похоже, скоро переведут отсюда, – сказал патриарх. – Вчера приезжал куратор и сказал, что, поскольку я «упрямлюсь» и не желаю «покориться соборным решениям», то нечего мне и делать вблизи Города.
– Куда же тебе увезут, владыка?
– Говорят, хотят отправить в монастырь мученика Феодора, тот, что я построил… Впрочем, куда бы ни отправили, на всё Божья воля! Меня, грешного, хотя и сослали, но не притесняют слишком. Положение других отцов гораздо хуже…
– Господин экзарх, как говорят, заключен в Претории. Кажется, там и еще некоторые отцы, но я не смог узнать наверное.
– А студиты?
– Неделю назад Феодора отправили в ссылку, и все монахи покинули обитель.
– Куда он сослан?
– Не знаю точно. Говорят, куда-то в Вифинию… Святейший, прости меня, но мы расстаемся, наверное, надолго, и даже Бог знает, свидимся ли вообще… И я хочу всё же сказать… Мне кажется, господину Феодору оказывается слишком много почета. Точнее, я имею в виду, что ты так явно стал отличать его пред всеми в последнее время, советовался с ним более, чем с епископами… И теперь с ним советуются все – и игумены, и священники, и монахи, и миряне… как будто он выше архиереев! А ведь он со своими монахами только и делал в прошлые годы, что восставал на святейших владык! На святейшего Тарасия, потом против тебя… Даже на поношения осмелился! Боюсь, ему неполезен теперешний почет…
– Боишься, что возгордится? – улыбнулся Никифор.
«Да он уже и так…» – хотел было ответить архидиакон, но промолчал.
– Прошлые дела остались в прошлом, Мефодий, – сказал патриарх. – Кто был правее тогда, решит Божий суд, а не наш. Сейчас пришла пора сообща стоять за веру, и я ни теперь, ни впредь не хочу ворошить прошлое. Мало того, что это не по-христиански, но и для церковных дел совершенно бесполезно, а теперь даже вредно. В свое время мы так много говорили о снисхождении и послаблении, что сейчас, как ты видишь, сторонников у них более чем достаточно, – Никифор горько усмехнулся. – Не они ли устроили на Пасху свое соборище и осквернили великий храм? Дай Бог, чтобы у нас было в Церкви побольше таких людей, как господин Феодор и его братия… Ты понял меня, отче?
– Да, владыка, – ответил Мефодий.
Никифор пристально взглянул на него. Архидиакон, сидя на корточках боком к патриарху, складывал в суму письма и кое-какие тетради с записями, и трудно было понять, насколько его мысли соответствовали сказанным словам. Но если бы патриарх мог в этот момент заглянуть в лицо Хинолаккскому игумену, он бы заметил, что губы Мефодия были сжаты в упрямую жесткую линию.
4. Рабы Божии
И отвечал Маттафия…: если и все народы в области царства царева слушают его, чтобы отступить каждому от служения отцов своих, и согласились на заповеданное им, – но я и сыновья мои и братия мои повинуемся закону отцов наших.
(I Книга Маккавейская)
Когда Студийский игумен был сослан в крепость Метопу у Аполлониадского озера, в довольно глухом месте на границе Вифинии и Фригии, император с новым патриархом вздохнули свободнее. Настоятелей монастырей и епископов продолжали вызывать в патриаршие палаты и во дворец, увещевая «вступить в общение с Церковью» или, по крайней мере, письменно дать обещание «не учить иконопоклонству»; в противном случае угрожали ссылками и заточениями. Многие отказались и были изгнаны или заключены в тюрьмы. Простых монахов, отвергавших общение с иконоборцами, выгоняли из обителей, часто с побоями и поруганием. Но самое пристальное внимание было обращено на студийскую братию.
– За этими надо следить в оба! – сказал Мелиссин. – Попытаемся склонить хоть кого-то на нашу сторону… Хорошо бы ограничить их сношения с другими, иначе они не перестанут смущать народ. Они ведь так же упрямы, как Феодор!
Навкратий с группой монахов покинул Студий сразу после того, как игумен был взят под стражу, и пришедшие в монастырь два дня спустя императорские посланцы уже не нашли его, равно как и большинство других братий. Немногих оставшихся собрали в обширной монастырской трапезной и тут же на месте стали вопрошать, поклоняются ли они иконам. Все отвечали утвердительно.
– Вы хорошо подумали, прежде чем дать такой ответ, отцы? Разве вам неизвестно, что благочестивый государь повелел изгнать из Города всех иконопоклонников?
– То есть всех православных? – спросил монах Картерий.
– Не православных, – возразил, хмурясь, протоспафарий Мариан, – а еретиков, воздающих поклонение мертвой материи.
– Мы воздаем поклонение не материи, а первообразу через образ, – сказал брат Орест.
– Глупости! – Мариан сделал пренебрежительный жест рукой. – Поклоняются тому, что свято, а вы бездушным картинкам кланяетесь!
– Вы же поклоняетесь Кресту, а это тоже, говоря по-вашему, «мертвая материя», – сказал монах Афрат.
– Крест – он всегда крест. А ваши эти картинки… Один хорошо нарисует, другой намалюет, невесть что, а для вас равно и то, и это – «святая икона»! Да мало того – «Христос»! Значит, для вас Бог не Христос, а эти самые рисуночки! И много же их у вас, таких богов!.. Но довольно! Спрашиваю в последний раз: никто из вас не желает отказаться от богомерзкого иконопоклонства?
– Не желаем и не возжелаем отказываться от почитания святых икон! – воскликнул брат Леонтий. – И ересь вашу богохульную анафематствуем и проклинаем!
– Вот как? – насмешливо протянул чиновник, хотя глаза его недобро сверкнули. – А если, скажем, игумен-то ваш возьмет да и присоединится к нам, а? Что вы тогда будете делать? Анафематствуете его?
– Мы даже и ангела анафематствуем, если он примкнет к нечестию, – сказал Картерий. – Но наш отец такого никогда не сделает!
– Он скорее сто раз примет смерть, чем перейдет к вам! – крикнул Агапий.
– Сто раз умирать ему не обязательно, – усмехнулся протоспафарий. – Двести-триста ударов бича, и тот свет ему обеспечен… вместе с геенной огненной, где мучаются идолопоклонники!
Поскольку никто из братий не пожелал перейти под омофор Феодота, Мариан приказал всех найденных в Студии монахов заключить тут же по кельям и приставить стражу. Игуменские кельи, скрипторий, монастырский архив и библиотеку перевернули вверх дном, но ничего важного не нашли: к счастью, ушедшие ранее братия унесли с собой главное – большинство книг и запасы пергамента, папируса и перьев.
Среди заключенных в столичные тюрьмы православных был и игумен Мидикийского монастыря. Никиту бросили в душную и зловонную темницу в подвале Претория, где по стенам ползали насекомые и слизняки, свет еле проникал через маленькое окошко под потолком, а из щели в стене то и дело вылезали крысы и нагло наблюдали за узником, выжидая, не обронит ли он что-нибудь из скудного пайка, приносившегося ему раз в день; крошки, упавшие на пол, немедленно исчезали, причем иногда хвостатые твари пробегали прямо по ногам. Из темницы узника никуда не выпускали; отхожее место было тут же в углу – вонючая дыра, от одного приближения к которой игумена начинало тошнить. В первые дни его выворачивало постоянно – от природы Никита был брезглив и любил чистоту, поэтому пребывание в таком месте уже само по себе было для него пыткой. Но мучения этим не ограничились: каждый день к нему приходили разные люди, подсылавшиеся начальником Претория, насмехались, хулили иконы, обвиняли в непокорстве церковной власти и императору, в расколе и идолопоклонстве. Никита ничего не отвечал и старался молиться про себя, но по ночам иногда не выдерживал и плакал, лежа в темноте на ложе из сучковатых, плохо обструганных досок.
Более всего выводил его из равновесия один чиновник по имени Николай. Он приходил раз в три или четыре дня и отличался от других тем, что был вежлив, но зато приставал к узнику с каверзными вопросами.
– Что, господин Никита, всё сидишь? – говорил он с притворным участием. – И за что сидишь ты в этой жуткой дыре? Думаешь, за веру страдаешь? Нет, отец честно́й, ты страдаешь только из-за собственного неразумия. И почему ты так непоследователен? Ну, такие упрямцы, как студиты, они, понятное дело, неисправимы, но они и всегда шли наперекор всему разумному… А ты-то, отче? Ты же всегда был благоразумен!
– Никогда я не был «благоразумен» вашим благоразумием! – сердито отвечал ему игумен. – Перестань врать, господин Николай!
– Уж сразу и «врать», отец Никита? – посмеиваясь, отвечал тот. – Да разве я выдумываю? Разве ты не одобрил восстановление эконома Иосифа в сане во время оно? Разве не согласился, что это было в духе святого снисхождения? Почему же теперь не хочешь снизойти, как предлагают вам император и святейший патриарх?
– То, что вы предлагаете – не снисхождение! В области догматов ему нет места, да будет тебе известно.
– Да мне-то это известно, отец игумен. Не глупец же я, в самом деле. Но, отче, разве заставляем мы вас топтать иконы и уничтожать их? Ни в коем случае! Мы лишь предлагаем перевесить их повыше, чтобы не соблазнять невежественную толпу. Что же? Это ведь не догматическое отступление, а только снисхождение. А ведь ваш Никифор, за которого вы так держитесь, даже анафемы налагал за непризнание снисхождения святых!
– Это вы-то святые? Вот уж воистину, беспредельная наглость!.. Впрочем, если Бог у вас не Христос, а чрево, то и ваш Феодот будет для вас святым, конечно…
– Э, господин Никита, не надо преувеличивать! Бог у нас с вами один – Христос Господь. А что до снисхождения, то ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Святые применяли его, и мы применяем. Ну, вспомни, ведь великий Василий некогда даже умалчивал о божественности Святого Духа! Разве то, что мы предлагаем вам, сравнимо с этим? Ведь и святейший Феодот служит в храмах, расписанных образами, и никто их не замазывает! Сколь же неразумным надо быть, чтобы отвергать такое малое снисхождение, как то, что предложено вам! Эх, отче, жаль мне тебя и твоих друзей! Погибаете вы не за Христа, а за свое дурное упрямство!
После визитов Николая игумена каждый раз одолевали смутные помыслы. Вспоминалось прошлое, история с экономом Иосифом, протест студитов, который Никита тогда решительно осуждал, поддерживая патриарха… Прав ли он был тогда? А если прав, то… прав ли сейчас?.. Эти мысли угнетали его более всего остального, что приходилось ему терпеть. Каждый раз он про себя решал, что не будет больше ни слова отвечать Николаю, но когда тот приходил и начинал вкрадчивым голосом развивать свои теории о пределах снисхождения, Никита опять не выдерживал, начинал спорить – и снова всё оканчивалось тем, что чиновник уходил, покачивая головой и выражая сожаление, что «преподобнейший отец попусту терпит такие лишения»…
Но вдруг Николай пропал и не приходил целых три недели. Никита уже было подумал, что Господь, наконец, избавил его хотя бы от этого искушения, и когда однажды ближе к вечеру дверь в темницу отворилась и на пороге возникла знакомая фигура, на лице игумена невольно отразилось что-то вроде отчаяния. Николай затворил за собой дверь и молча стоял, не глядя на узника. Никита, удивленный таким странным поведением, наконец, заговорил первым:
– Здравствуй, господин Николай! Что это стряслось с тобой? Ты долго не приходил, и я уже решил, что ты оставил в покое мое смирение.
Николай поднял на игумена глаза и вдруг упал к его ногам прямо на грязный пол.
– Прости меня, честной отец, что я так долго мучил тебя безумными речами!
Пораженный Никита узнал от своего досадителя, что Николаю явился во сне собственный отец, умерший несколько лет тому назад, строго глянул на сына и, пригрозив увесистой палицей, утыканной железными шипами, сказал: «Долго еще ты будешь распускать свой язык? Хочешь на том свете отведать вот этого? – он потряс палицей. – Отстань от рабов Божиих!» Сон этот так напугал Николая, что он даже заболел и почти две недели сидел дома, принимая успокоительные настойки, а когда оправился, сначала вообще не хотел больше идти ни к кому другому из узников, – он посещал ради «увещаний» не только Мидикийского игумена, – но совесть стала мучить его, и он явился испросить прощения.
– Слава Богу, дивному в чудесах и во всех делах Своих! – воскликнул Никита, вставая. – Я рад за тебя, господин Николай! Бог да простит тебе те досаждения, которые ты причинил мне и другим! Только смотри, не возвращайся более на прежнее.
– Как можно, отче! – воскликнул Николай и с того дня не только больше не приставал к игумену с нечестивыми речами, но старался унять и других, приходивших досаждать узникам.
Между тем студийский эконом Навкратий, поселившийся с некоторыми братиями в Саккудионе, пока оставался на свободе и немедленно наладил переписку с игуменом, постоянно сообщая Феодору письменно и устно через посланников все новости, которые удавалось узнать. Сам Феодор, зная, что император сильно гневается на него, поначалу писал редко и с осторожностью – не из опасений за себя, но чтобы не подставлять под удар своих адресатов. В переписке со студитами опять пошел в ход шифр, изобретенный игуменом еще во время ссылки по делу о прелюбодейном браке: первенствующие из братий и архиепископ Иосиф обозначались определенными буквами алфавита. Феодор старался не называть адресатов по имени и вообще упоминать поменьше имен, на тот случай, если письма попадут в руки противников: после иконоборческого собора повсеместно началась слежка за православными, и все опасались доносов от соглядатаев. Хотя в столице в нескольких незначительных храмах император нарочно оставил иконы, чтобы при случае показать обвинителям, что «никто не ниспровергает образа», в остальных местах в Константинополе и за его пределами гонение распространялось: иконы выбрасывали из храмов, а иногда публично сжигали, как и писания об их почитании. За открытое выступление против ереси грозило бичевание, и многие православные, хоть и не примыкали к нечестию, всё же боялись писать письма, ссылаясь на то, что переписка запрещена василевсом.
– Люди нынешнего века сильны на ухищрения, – сказал по этому поводу Феодор. – Если мы должны молчать о вере, потому что так велит император, то почему бы нам и не еретичествовать? Если все замолчат, что станет с православием?
Чем больше доходило до Феодора слухов о гонениях на православных, тем больше посланий уносили письмоносцы с берега Аполлониадского озера. Игумен ободрял, увещевал стоять за веру и не вступать в общение с еретиками, приводил доводы в защиту иконопочитания и обличал иконоборцев. Вместе с Феодором в ссылке жили монахи Николай, Ипатий и Лукиан. Обычно писал под диктовку игумена Николай и часто, запечатывая очередное послание, думал о том, что может ждать Феодора, если эти письма попадут в руки властей, мысленно моля Бога «защитить отца от неистовства христоборцев».
Архиепископ Солунский Иосиф некоторое время находился под стражей, а потом был изгнан со своей кафедры и отправился в Саккудион. Доброжелатели тайно помогали саккудионцам и нашедшим у них приют студитам, снабжая всем необходимым, однако монахи постоянно ожидали притеснений от властей. Но пока эконом оставался на свободе, Феодор поручил ему вместо себя заботу о рассеявшихся братиях. Иосифу не пришлось долго оставаться в Саккудионе: вскоре император вызвал его в столицу, попытался склонить к общению и, не преуспев, сослал на один из островов Пропонтиды.
«Как я и предвидел, архиепископ схвачен, – писал Феодор, узнав от эконома новости, – Да будет с ним Христос. Усиленно молитесь о нем. Я думаю, что теперь вы уже не сможете удерживать за собою монастырь, а архиепископ – выйти. Благодарение Богу и за то, что вы на свободе. У нас остался один истинный монастырь – горний Иерусалим».
…Студийский иеромонах Дорофей, отслужив в домовой часовне Марфиного особняка литургию и причастив всех домочадцев и слуг, уже спрятал антиминс и принялся укладывать в сумку священные сосуды. Марфа вышла из часовни и слышно было, как она торопит прислугу поскорее подать завтрак. Кассия стояла у двери и наблюдала за священником.
– Отец Дорофей, – проговорила она грустно, – а что, теперь так больше и нельзя будет ходить в Великую церковь?
Иеромонах выпрямился и ответил:
– Нет, чадо, нельзя, пока там служат еретики. Они хулят Христову икону, а через это бесчестят и Самого Христа, хотя бы и утверждали на словах противоположное. И всякий, кто с ними молится, становится причастным к их хулениям.
– Почему же Господь отдал им Великую церковь, если они хулят Его?
– Видишь ли… это не совсем правильно – говорить, что Он отдал храм еретикам. Правильнее сказать, что Он отобрал его у православных, и думать, почему это произошло. А отдать его Он мог совершенно кому угодно… Так сказать, кто первый подвернулся, тому и отдал.
– И почему Он отобрал его у православных?
– За грехи христианам посылаются подобные бедствия. Наш отец Феодор говорит, что это попущено за прежние неправды.
– Это за то, что вас всех тогда выгнали из монастыря?
– Да, и не только нас. Тогда было допущено беззаконие, которое соборно пытались оправдать. К чему это привело, все видели. Но, увы, не все уразумели.
– Значит, теперь гонение уже на всех, чтобы уразумели те, кто еще не понял?
– Да, вероятно… Хотя мы, конечно, не можем постигнуть всей глубины судов Божиих. Но отец Феодор говорит, что если прежние язвы еще не зажили, то они непременно обнаружатся сейчас. И кто захочет покаяться, того Господь исцелит через страдания и подвиги, а кто не захочет, тот пожнет плоды своей неправды с лихвой.
Кассия помолчала в задумчивости и сказала:
– Всё равно непонятно! Одни раньше согрешили, другие до сих пор не поняли, что это было плохо, и вот, теперь все наказаны – и те, кто не грешил и понимает всё правильно! Вот вы, например. Получается, вы тогда страдали ради правды, а сейчас опять будете страдать вместе с теми, кто наказан за тогдашние неправды?
Дорофей внимательно посмотрел на девочку. Еще только десять лет, а какие вопросы задает!..
– Почти у всех есть грехи, которые нужно очищать страданиями. А кто праведен, тому страдания плетут великие венцы на небесах. В любом случае мы должны радоваться, что Господь сподобил нас страдать за Него, а не роптать.
– Я не ропщу, – возразила Кассия, тряхнув головой, – я хочу понять… Разве это грех – хотеть понять?
– Нет, – улыбнулся Дорофей. – Но иногда пытливость неполезна, если мы как бы силой будем пытаться уразуметь то, что Господь пока не благоволил открыть… Всему своя пора, а мы должны покориться воле Божией.
«Покориться! – подумала Кассия, чуть закусив губу. – Пока мы будем покоряться, отец Феодор и другие будут сидеть в тюрьме… а иконоборцы будут радоваться и служить в Великой церкви!.. Ну ладно, вот я, например, не подвижница и, наверное, многое делаю не так, как нужно, молюсь мало… Или те, кто что-то там недопонял – они могут это понять теперь, когда пострадают… Но отец Феодор – разве заслужил он изгнание и всё остальное?! Венцы?.. Да разве он и так мало стяжал венцов за свою жизнь – столько подвизался, терпел гонения… Он, конечно, наверное, радуется, что опять страдает за Христа, а нам что теперь – радоваться, что его гонят, что мы теперь неизвестно вообще, увидимся или нет когда-нибудь?.. Нет, непонятно, всё равно непонятно!»
5. «Новый Ианний»
Нет, тайное сознание могущества нестерпимо приятнее явного господства.
(Ф. М. Достоевский, «Подросток»)
На следующий день после возведения Феодота Мелиссина на патриарший престол Иоанн Грамматик, по указанию императора, был поставлен игуменом в Сергие-Вакховом монастыре; прежнего настоятеля за отказ дать подписку иконоборцам заточили в тюрьму. Некоторые монахи покинули обитель, но большинство осталось в монастыре. Когда патриарх, придя к службе шестого часа, сообщил собравшимся в храме братиям о решении сделать игуменом Иоанна, братия не осмелились возражать, однако были смущены, если не напуганы: Грамматик, с одной стороны, был так умен, а с другой, оставался настолько закрыт от всех, пока жил рядом с ними, что они совершенно не знали, чего от него ждать в новом качестве. Не знал этого и Мелиссин, а потому, разбираемый любопытством, стал иногда посещать обитель и расспрашивать братий об их житье-бытье при новом настоятеле. К некоторому удивлению Феодота, монахи остались в целом довольны и не жаловались на Иоанна, хотя кое-что в его поведении и казалось им непривычным.
Новый игумен расширил монастырский скрипторий и вознамерился пополнить библиотеку обители, для чего стал выдавать переписчикам копировать книги из собственного собрания. Переехав в новые кельи, прежнее свое жилище в пристройке Иоанн превратил в химическую мастерскую: он приказал сделать там небольшую печь с горном; на столе, на полках и прямо на полу стояли кувшины с водой, разные котелки, ступки с пестиками, колбы, коробочки, мерные стаканы, весы и гирьки разной величины; бывшая библиотечная комната теперь вместо книг наполнилась емкостями с различными веществами, сушеными растениями, обломками горных пород и засушенными насекомыми; книги были оставлены только в одном шкафу – это были рукописи с рецептами по изготовлению различных веществ, красок и сплавов, а также писания египтянина Гермеса, Демокрита из Абдеры, Зосимы Панополитанского, Африкана, Синесия, Олимпиодора, Стефана из Александрии, приписывавшийся Клеопатре трактат о весах и мерах и еще некоторые книги и выписки подобного рода, труды Гиппократа и Галена, два трактата об изготовлении лекарственных снадобий и книга Феофраста «О растениях».
Устройство мастерской вызвало разговоры среди братии, чье любопытство подогревалось особенно тем, что Грамматик никого туда не пускал, кроме троих – старшего монастырского больничника, екклесиарха, который до пострига был мироваром и знал толк в изготовлении различных смесей, и еще одного монаха, в молодости интересовавшегося химическими опытами и даже собиравшего книги на эту тему, – строго запретив им, под угрозой изгнания из обители, болтать о том, чем они занимались. На все расспросы «химики» отвечали, что приготовляют краски. Действительно, вскоре в скриптории появились изготовленные в мастерской золотые и серебряные чернила и разные краски, а также листы пергамента с окрашенными в пурпур краями – они были нужны для переписки некоторых ценных рукописей, причем Иоанн сам давал писцам указания по оформлению и иногда показывал, как нужно рисовать орнаменты и буквицы, поражая монахов своим художественным талантом. Кроме того, в мастерской изготовляли и некоторые лекарства для монастырской лечебницы. Больничник до того увлекся этим делом, что свободное время, если игумен разрешал, всегда проводил в мастерской – что-то смешивал, варил, переливал; иногда его можно было видеть бегущего через двор в лечебницу со стеклянным кувшинчиком или глиняным горшочком, очень довольного… Братия, однако, всё равно подозревали, что мастерская служит не только нуждам скриптория и лечебницы: им было известно, что игумен, тративший на сон куда меньше времени, чем его монахи, иногда что-то делал там по ночам, по временам подключая к делу екклесиарха. Опять пошли разговоры о том, что Грамматик «ищет философский камень», но теперь это предположение не вполне походило на шутку. Было ясно, что игумен занимается опытами, но о том, какого рода они были и какова была их цель, никто не мог сказать ничего достоверного.
Однажды по осени патриарх при очередном посещении монастыря спросил Иоанна, когда они уединились в так называемой «гостевой» келье, где игумен принимал посетителей и братий для бесед:
– Говорят, ты тут какие-то опыты проводишь?
– Я всю жизнь провожу опыты самого разного рода. Какие именно ты имеешь в виду, святейший?
– Хм… Те, которыми ты занимаешься в своих бывших кельях. Говорят, ищешь способ изготовить золото?
– К лицу ли тебе, владыка, повторять эти басни? – усмехнулся Иоанн. – Я никогда не верил в то, что такое превращение возможно. Думаю, многочисленные последователи Тривеличайшего Гермеса просто неверно истолковали его знаменитую Скрижаль. На самом деле речь там идет совсем не о золоте.
– Уж не нашел ли ты верное истолкование? – насмешливо спросил Феодот.
– Пока нет. Но думаю, что написанное одним человеком может быть в конце концов понято другим.
– Ну-ну. Только смотри, поосторожнее! А то могут и в магии обвинить… Разве не знаешь, как у нас это быстро делается?
– Мало ли тупиц на свете, – равнодушно ответил Грамматик.
– Пусть тупиц, но мы должны всё-таки хоть немного заботиться и о том, чтобы иметь «доброе свидетельство от внешних». А ты даже о свидетельстве от внутренних не очень заботишься!
– Это правда, – улыбнулся Иоанн. – Меня вообще мало волнуют людские мнения. Но утешься, святейший, ведь и в плохих отзывах есть хорошая сторона: ругают – значит, боятся. Мне даже иной раз бывает любопытно, что они еще сочинят про нас. Например, меня называют «новым Ианнием»… Не удивлюсь, если начнут рассказывать и о том, что я волхвую. Если какой род и не переведется до скончания мира, так это невежды.
– Про «Ианния» я слыхал, – поморщился патриарх. – Интересно, кто это такое придумал?
– Уверен, что Студит.
– Феодор?
– Он так называет меня в одном из перехваченных писем. По-видимому, эта кличка уже в ходу среди его монахов. Понятное дело, для Феодора я – главный «противник истины», «развращенный умом, невежда в вере». Нельзя не признать, что, с его точки зрения, так назвать меня, пожалуй, было остроумно.
– Ну, он вряд ли оценит то, что ты оценил его остроумие! – усмехнулся Мелиссин. – И потом… Остроумно он тебя обозвал или нет, но невежды, как ты сам говоришь, это остроумие истолкуют на свой лад… А потому с твоей стороны превращать монастырь в место для таких… гм… опытов… это всё же несколько неосторожно, согласись!
– Не соглашусь, – немного резко сказал Иоанн. – Я не просил ставить меня игуменом, святейший, но коль скоро это случилось, я не противлюсь провидению, однако не собираюсь бросать интересные мне занятия. А на сегодняшний день меня интересуют превращения веществ. Я собрал по этой теме довольно много книг, которых у меня раньше не было, и изучаю написанное там на практике – как только и возможно подобные писания изучать. Будь я простым монахом, как прежде, я бы, вероятно, уезжал к брату, чтобы ставить опыты, но теперь я уже не имею такой свободы действий и не могу часто бросать обитель. Поэтому я приспособился, как мог, и не вижу, кому какое может быть до этого дело. Тебя заботит мнение еретиков? Но они вообще считают государя «предтечей антихриста», а нас – его приспешниками. От того, что они обвинят меня еще и в магии, мало что изменится. Или тебя беспокоит мнение невежественной толпы?
– Да нет…
– Тогда в чем дело? Уж не заботит ли тебя моя добрая слава сама по себе? – насмешливо спросил Грамматик. – Я удивился бы этому.
– Почему же?
– Почему? – Иоанн пристально взглянул на патриарха. – Еще совсем недавно она заботила твое будущее святейшество ровно противоположным образом.
Мелиссин смешался. После провала Иоанна в качестве кандидата на патриарший престол Грамматик никогда не подавал виду, будто уязвлен происшедшим, и отношения его с Феодотом внешне продолжали оставаться прекрасными; но внутренне патриарх испытывал неприятное беспокойство. Он пытался убедить себя, что Иоанн всё-таки не догадался, каким образом патрикий достиг церковного предстоятельства, но до конца увериться в этом не мог. И вот, теперь Грамматик недвусмысленно намекал, что всё прекрасно понял. Феодот криво усмехнулся.
– Я гляжу, ты и впрямь скоро стяжешь славу прозорливца!
– Меня кто-то уже считает таковым?
– Твои братия говорят, что ты видишь их насквозь.
Сергие-вакховы монахи в беседах с патриархом хвалили своего игумена, но было видно, что он вызывает у них не только уважение и восхищение, но и некоторый страх, причем не такой, какой мог бы происходить от боязни огорчить любимого человека, но иной – страх перед могуществом не слишком понятной природы. Святым Грамматика никто из монахов вроде бы не считал, но в то же время…
– Когда я прихожу к нему, я чувствую себя сделанным из прозрачного стекла, – так выразил один из братий общее ощущение.
Это самое ощущение теперь охватило и Феодота. Иоанн еле заметно улыбнулся и сказал:
– Я прочел много книг, святейший, и встречал за свою жизнь немало разных людей. Но я не просто читал и встречал, а запоминал, наблюдал и оценивал. А поскольку человеческая природа во всех одинакова, то и грехи, и помыслы, и желания у всех тоже примерно одинаковы. Это только кажется, что люди сильно разнятся между собой, и что трудно понять их устремления и скрытые намерения. Труднее всего понять людей умных и сильных, но такие встречаются редко. Разгадать остальных довольно легко, и никакая сверхъестественная прозорливость здесь не нужна. Например, даже манера сидеть многое может сказать о человеке.
Мелиссин невольно выпрямился в кресле. Грамматик снова улыбнулся.
– Впрочем, оставим это, владыка. Не думай, будто я сержусь на тебя. Напротив, я весьма рад, что в настоящее время эта обуза меня миновала.
«“В настоящее время”? – подумал Феодот. – Он говорит так, словно уверен, что всё равно когда-нибудь станет патриархом! “Труднее всего понять людей умных и сильных”… Значит, я глуп и слаб?!.. Впрочем, да, я слаб… Не притворяться же и перед самим собой!..»
– Я, конечно, не мастер разгадывать людей, – сказал он. – Но мне казалось, что… при твоей любви заставлять других творить твою волю, ты именно этого и добиваешься. А ты так легко ушел в тень! Да вот, и здесь… Я, признаться, думал, что братия будут жаловаться на твое своевластие. А ты, похоже, еще и распустил их, сравнительно с твоим предшественником!
Прежний игумен Сергие-Вакхова монастыря, действительно, был довольно суров в том, что касалось внешних правил поведения и монастырского устава: малейшие нарушения карались весьма строго, однако не все происходившие в обители непорядки и проступки братий становились настоятелю известны. С Иоанном всё было наоборот: он не слишком вникал в подробности жизни монастыря, предоставив больше прав эконому и таксиархам, но монахи, приходя к нему на исповедь, странным образом ощущали, что скрыть от него какой-нибудь проступок не удастся, и рассказывали всё, что бы ни случилось им сделать дурного, – епитимии же, следовавшие за признаниями, были часто далеко не столь строгими, как при прежнем игумене. Однако в подходе Грамматика была своя особенность: он снисходительно смотрел на проявления тех или иных страстей, но глупости и невежества не терпел и, по выражению перефразировавшего «Лествицу» трапезничего, «бил больнее не того, кто сделал достойное ударов, а того, кто не старался узнать».
– Ты действительно ничего не понял, святейший, – сказал Грамматик с иронией. – Стремиться кем-то управлять внешним образом – вообще дело не философское. Но даже если оставить это соображение в стороне, скажи на милость, что может быть интересного в том, чтобы заставить исполнять свою волю того, кто по самому своему положению обязан покориться тебе? Они монахи, я игумен, они обязаны меня слушаться. По-твоему, я должен был немедленно начать безудержно самовластвовать только потому, что получил начальство? О, это было бы умно! Ты, владыка, верно, думал, что я, взойдя на патриаршество, только и буду знать, что всех вокруг гнуть и ломать?
Мелиссин действительно думал именно так, а теперь уже не знал, что и думать. Выходит, Иоанну нужна даже не власть сама по себе… Ему интересно подчинить своей воле тех, кто не склонен подчиняться… И что дальше? Просто любопытство ученого, знатока человеческой природы?.. «Он смотрит на нас… как на зверей в загоне!» – мелькнуло у него в голове. Патриарх встал; внезапно ему захотелось немедленно уйти, скрыться от взгляда этого человека, словно тот и правда мог «заколдовать»… Однако уходить, оставляя его столь явным победителем, не хотелось, и Феодот сказал с ехидцей в голосе:
– Стал бы ты всех гнуть или не стал, умно это или не умно, но всё же у патриарха власти и возможностей побольше, чем у какого-то там игумена… И сколь ты тут ни умничай в своем углу, а припадают все передо мной, в том числе и ты сам!
– Святейший, у тебя слишком невежественные понятия о власти, – ответил Грамматик, насмешливо глядя на Мелиссина. – Ты отождествляешь власть действительную и возможную и думаешь, что тот, кто получил имя властителя, уже тем самым и властвует. На самом же деле властвует лишь тот, кто имеет власть на деле, а не по имени. Естественно, патриарх почитаем своею паствой, с этим никто не спорит; но когда ему нужно определиться, как пасти эту паству – например, что постановить на соборе, или как опровергнуть ересь, или как убедить упорствующих еретиков, или как донести ту или иную мысль до государя императора, – он сходит со своего превознесенного престола и идет в угол к какому-то там игумену, поскольку сам решить возникающие вопросы не способен. И даже если облеченный высоким саном не приходит с вопросами довольно долгое время – например, потому, что все насущные вопросы успешно разрешены, а новых пока не возникло, – какой-то там игумен всё равно знает, что если такие вопросы возникнут, за их разрешением придут к нему, хоть перед ним никто и не припадает. Кто же здесь обладает настоящей властью и, следовательно, властвует?
Когда патриарх покинул обитель, привратник сказал игумену, провожавшему Феодота до выхода:
– Что-то, отче, я гляжу, святейший зачастил к нам…
– Некто от древних, – ответил Иоанн с улыбкой, – сказал, что «единому, поскольку оно не существует, необходимо быть причастным бытию, чтобы не существовать». Думаю, что это можно символически истолковать как прикровенный намек на глупцов, которые ничем так явно не обнаруживают своего небытия, как через касательство к жизни людей умных. Хотя небытие глупцов им, конечно, представляется бытием, но, как говорил великий трагик, «не смерть ли наша жизнь, не жизнь ли – смерть?»
С этими словами он пошел к себе, оставив привратника в задумчивости. Грамматик вообще поначалу вызвал немалое удивление у братии, когда в поучениях, которые игумен, по установившемуся несколько лет назад – не без влияния Студийского монастыря – обычаю, трижды в неделю говорил после утрени, начал приводить примеры и изречения не только из святых отцов, но также из исторических сочинений и из языческих философов.
– По словам Сократа, – так мог начать Иоанн свое слово, – добродетель «есть не что иное, как разум», и это справедливо, потому что любое, даже самое хорошее дело, если делается неразумно, приносит скорее вред, нежели пользу. Но что значит: разумное делание? – и далее он развивал обычное поучение о необходимости рассудительности в духовной жизни, цитируя подходящие места из отцов.
Со временем братия привыкли и полюбили эти «философские» поучения.
– А я и не знал, – сказал однажды монастырский таксиарх эконому, – что у языческих философов было так много правильных мыслей! Даже странно… ведь они были еще не просвещены Духом, откуда же у них такое познание сущего, почти христианское?
– Я уже спрашивал отца игумена об этом, – улыбнулся эконом. – Он сказал, что правильные мысли у древних философов, стремившихся познать сущее, хотя и не достигавших совершенства знания, были им таинственным образом внушены Богом, как награда за стремление к истине. И чтобы показать нам, что нужно всем стремиться к ее познанию, – ведь если даже язычникам Господь даровал блага за жажду истины, то нам разве не дарует, если мы будем стремиться к Нему?
…Копье было самым обыкновенным, – император носил оружие с драгоценной отделкой только во время церемоний. Посередине древка была приделана ременная петля.
– Зачем на нем петля? – спросил Феофил, разглядывая копье.
– Чтобы дальше летело, – ответил Лев. – Это придумали авары, а наши взяли от них.
Феофил чуть приподнял оружие.
– Для тебя такое пока слишком тяжело, – улыбнулся император. – Вам с Константином дадут поменьше.
– И лук, и стрелы? – спросил Константин.
– Конечно. Не такие большие, как у меня, но самые настоящие. И лошади у вас будут, и военные одеяния.
– И шлем?
– И шлем, – император потрепал крестника по плечу. – Будете учиться воевать!
Они находились на крытом ипподроме, где ноябрьская непогода не мешала упражняться. Лев самолично решился взяться за обучения старшего сына и крестника военному делу: Константину уже исполнилось тринадцать, а Феофилу шел двенадцатый год.
Церковный переворот почти не отразился на придворной жизни, если не считать того, что повсюду иконы были заменены крестами – золотыми, серебряными, украшенными драгоценными камнями, жемчугом, орнаментами. Константина, который присутствовал вместо отца на иконоборческом соборе в Святой Софии, всё происходившее только позабавило, и он потом со смехом рассказывал братьям и Феофилу, как с собора были задом наперед вытолкнуты епископы и игумены, не захотевшие подписаться под его определениями. Феофил отнесся к перемене в вере серьезнее и спросил у Иоанна, как же так вышло, что раньше иконы почитали, и никто ничего не возражал, а теперь вдруг говорят, что это ересь.
– Так это все раньше в ереси были?
– Не то, чтобы прямо в ереси, – ответил Грамматик. – Скорее, в заблуждении, грозившем перерасти в ересь. Апостол говорит, что «идол ничто есть в мире», но если немощные смущаются, не следует вкушать идоложертвенное. Так и тут. Иконы сами по себе суть не более чем картины, их можно было бы даже и оставить в качестве благочестивого напоминания о евангельских событиях, как и сейчас мы кое-где оставили их. Но поскольку неразумные люди принялись почитать их чрезмерно и несогласно с преданием поклоняться им, пришлось принять меры, некоторым показавшиеся резкими и неприятными. Что делать! Ведь и врач иной раз, чтобы вылечить болезнь, использует прижигание.
– То есть раньше иконам не поклонялись, а они просто были… как украшения?
– Конечно. Отчасти и как напоминание о тех или иных событиях для людей неграмотных, некая замена книг. Но что было допущено как пособие для невежд, чтобы они просвещались, невежды обратили себе во зло.
– Значит, никогда не надо уступать невеждам, – пробормотал Феофил.
– Совершенно верно, – улыбнулся Иоанн. – Это почти всегда приносит больше вреда, чем пользы. Причем со временем вред усугубляется, а польза, даже если она и была, тонет в море вреда. Простой народ груб и неразумен, и постепенно правильное понимание икон извратилось, а потому стали необходимы жесткие меры.
– При императоре Константине Исаврийце?
– Да. Это был великий государь и богослов. И если бы на ромейский престол не взошла неразумная женщина, наша Церковь и до сих пор пребывала бы в мире и порядке. Ты тогда еще не родился, а потому тебе кажется, что иконы существовали всегда. На самом деле попытка опять ввести у нас иконопоклонство после того, как его с успехом упразднили, была сделана не так уж давно. Кстати, наглядный пример того, до чего может довести тщеславие. Августе Ирине захотелось прославиться и собрать «вселенский собор»… Впрочем, она довольно была наказана за свое неразумие.
6. Эконом Иосиф
Всё это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил…
(Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы»)
– Обед, почтенные отцы! – послышалось из-за двери.
Раздался скрежет ключа в замке, скрип несмазанных петель, и раздатчик тюремной пищи внес и поставил на низкий деревянный стол у окна еду для узников. Подозрительного цвета варево в глиняных мисках источало малоаппетитный запах, мутно зеленела вода в стаканах, только хлеб выглядел нормально.
– Приятного вкушения! – сказал тюремщик чуть насмешливо и вышел.
Когда в замке опять повернулся ключ, один из заключенных, среднего роста крепко сложенный светловолосый монах лет сорока, привстал с койки, взял миску к себе на колени, попробовал содержимое и поморщился.
– Ну и гадость! Как они умудряются готовить всё так тошнотворно? Если нас еще немного продержат на такой еде, я, пожалуй, отправлюсь к праотцам!
– Ну, что ты, отец Константин! – насмешливо сказал его соузник. – Ты просто не едал настоящей гадости. Плесневелого хлеба, например, и гнилой недоваренной свеклы. Но у нас еще, надо думать, всё впереди… А пока мы с тобой находимся не где-нибудь, а в тюрьме «священного Претория», и притом не в подвале каком-нибудь, а в весьма, можно сказать, прекрасном помещении. Посмотри, какое здесь большое окно! Хоть на нем и решетка, но зато сколько света, и воздух не такой спертый, как бывает в подобных местах. Любой тюремщик скажет тебе, что ты должен не роптать, а ежечасно благодарить Бога и императора за столь великие милости!
Второму заключенному было уже за шестьдесят, но выглядел он моложаво. Правда, большие залысины несколько портили его внешность, но высокий рост, хорошее сложение и не лишенные приятности черты лица скрадывали это впечатление, а седина придавала монаху некоторое благородство. Он тоже водрузил на колени миску с желтоватой бурдой, взял кусок темного хлеба, и вдруг тот разломился надвое в его руках, и небольшой папирусный свиток едва не упал в миску.
– О, да тут письмо!
Узник отставил еду, поднялся, развернул тонкий листок и, подойдя к окну, принялся за чтение. Почти сразу же брови его поползли вверх, и, дочитав, он воскликнул:
– Удивительный человек! Просто поразительный! Право, не ожидал… А я думал, меня в этой жизни уж ничем не удивишь…
– О ком ты? – спросил Константин, с брезгливым выражением лица собиравший куском хлеба остатки варева в миске.
– А вот, прочти!
Константин прожевал хлеб, вытер руки о хитон, взял письмо и стал читать. «Пришло время, – говорилось там, – когда я могу обратиться к твоей святыне с дружеским письмом. А ведь раньше, когда по моим грехам державными были возбуждены в Церкви Божией к ее вреду печальные вопросы, мы так разошлись друг с другом, что этот горестный раздор стал известен и Востоку, и Западу. Горе тем дням!» Но теперь, «когда прежние замешательства по мановению Промысла устранены, возгорелось, по Его попущению, нечто, может быть, даже и худшее, будучи, понятное дело, последствием предыдущего». Однако поскольку Иосиф сейчас оказался «в согласии с истиной», решив пострадать за православие, то и пишущий возвращался «к прежней любви и близости», ведь «ничто не содействует единомыслию так сильно, как согласное учение о Боге».
«О, великое дарование Божие, – гласило далее письмо, – не попустившее твоим блестящим подвигам быть сокрытыми под прежним темным сосудом! Ныне почитаю тебя, как исповедника Христова, восхваляю, как стража православия…» Оканчивалось послание смиренной просьбой: «Если ответить на письмо для тебя невозможно, то даруй мне самое лучшее из того, что имеешь, – святые твои молитвы, ибо я исполнен грехов и жалок более всех людей». Внизу стояла подпись: «Грешный Феодор».
– Студит? – удивленно спросил Константин, возвращая письмо.
– Он самый.
– Ну и ну!
– Вот именно. А хорошо работает его разведка, гляди-ка! Не успели меня перевести сюда, как он узнал об этом!
– И что ты думаешь отвечать?
– Пока что я думаю, отвечать ли.
Эконом Иосиф пятую неделю сидел в тюрьме Претория вместе со скевофилаксом Великой церкви. Оба они после иконоборческого собора заявили, что не признают его решений, и не стали общаться с новым патриархом, в результате были изгнаны со службы в Святой Софии и поначалу оставлены в покое. Однако в конце августа их опять вызвали к Феодоту, который призывал их вступить в общение, обещая скевофилаксу вернуть его на должность, а эконома восстановить и в должности, и в священном сане, но оба монаха ответили отказом, и их сначала посадили под стражу в Хорский монастырь, а в конце ноября перевели в Преторий. Правда, условия их заключения были не такие суровые, как можно было опасаться, однако Иосифу не повезло с соузником: скевофилакс постоянно ныл, жаловался то на пищу, то на вонь, то на клопов, то на холод. Родственники передавали заключенным пищу, чистую одежду и некоторые книги, но не так уж часто, поскольку из нескольких сменявшихся стражей только один благоволил к иконопочитателям. Если же передач извне не поступало больше двух недель, сквофилакс начинал сетовать и плакаться.
В конце концов Иосиф сказал ему:
– Послушай, отче, если уж ты решил страдать за веру, то помолчи, а не хочешь терпеть – вон, скажи тюремщику, что жаждешь покаяться и прибегнуть под омофор святейшего Феодота, и тебя немедленно выпустят! Надоел ты мне уже, право слово!
– Да ты, поди, и сам уже подумываешь, не прибегнуть ли под его омофор, нет? – съязвил обиженный Константин. – Или из чувства долга будешь поддерживать Никифора? Конечно, он тебя когда-то защищал, хоть и не удалось в итоге…
– Глупости! – ответил Иосиф. – Патриарх не меня защищал, а радел о собственной славе и не хотел ссориться с императором… Но надо отдать ему должное: он, по крайней мере, действительно человек, преданный вере. Чего о Мелиссине не скажешь, это посмешище, а не патриарх!
– Что ты говоришь? Он благочестивый, начитанный, его в Синклите всегда уважали, как примерного христианина!
– Это смотря как определить, кто есть примерный христианин, – усмехнулся Иосиф. – Впрочем, будь по-твоему: допустим, он таков, как ты утверждаешь. Что же ты тогда тут сидишь до сих пор, а?
– Да я бы, может, и не сидел, если б они не запрещали иконам поклоняться! Мне, знаешь, всё равно, тот ли патриарх, этот ли… Можно подумать, в первый раз императоры заменяют одного другим! Но вот чего они на иконы напали? Ну, не хотят сами поклоняться, пускай бы не поклонялись… А кто хочет, тому разрешили бы… Что тут такого? Я, видишь ли, привык к священным сосудам, облачениям, книгам, всё это всегда было изображениями украшено, так что ж мне теперь – в угоду императору всё это разбивать и сдирать?! Это всё-таки нечестиво. Тем более, что сами они на соборе отказались от прямого уравнения их с идолами… Но раз так, то зачем они их уничтожают? Нет, я так не согласен!
– Ну, тогда сиди тут, корми клопов и не ной! – отрезал Иосиф.
После этого разговора он был некоторое время задумчив и совсем перестал разговаривать с Константином. А через четыре дня эконома неожиданно под конвоем препроводили в Сергие-Вакхов монастырь. Шел не то дождь, не то снег, улица холодно поблескивала мокрым мрамором, торговцы и прохожие укрывались в портиках. Во избежание лишней толкотни, стратиоты повели узника прямо под дождем, и, хотя путь был недолог, Иосиф порядочно вымок и замерз. По прибытии в обитель его ввели в довольно просторную келью с большим окном и оставили там в одиночестве.
Иосиф огляделся. Келья, чьи каменные стены и потолок потемнели от времени, была почти пуста; на столе в правом переднем углу у окна лежала книга, кипа чистых листов и два пера; перед столом стоял стул с высокой спинкой, а слева от окна – низкое кресло, покрытое потертым куском овчины; справа, ближе к входу – небольшой запертый шкаф, по-видимому, книжный; слева, вдоль стены и возле двери – две простые лавки. Выбивался из этой строгости только роскошный пол, выложенный темно-синим мрамором с белыми прожилками. За окном, через залитые дождем стекла, виднелись плохо различимые унылые силуэты голых деревьев на монастырском дворе и плоский купол Сергие-Вакхова храма. Почти всю левую стену между шкафом и столом занимала подробная карта Империи, что несколько удивило Иосифа. Но более всего поразила его висевшая в углу над столом под самым потолком довольно большая икона Богоматери с Младенцем, как будто не старая, чрезвычайно тонкого, даже изысканного письма. Очень красивая, она так и притягивала взор, однако в ней была какая-то холодность; легкость линий и мягкие переходы цвета создавали ощущение не просто воздушности и прозрачности, но почти призрачности изображения; это впечатление еще усиливалось благодаря сочетанию красок – почти всё холодные оттенки, даже полоски нимбов были выписаны не золотом, а серебром. «Какая необычная икона! Но что она здесь делает?!» – изумился Иосиф, перекрестившись на образ; он совсем не ожидал увидеть тут какие-либо иконы. Ему хотелось рассмотреть изображение поближе, но оно висело высоко, а стол мешал подойти. Иосиф, близоруко щурясь, некоторое время смотрел на икону, затем вздохнул, еще раз перекрестился с поклоном, подошел к карте и принялся ее разглядывать. За этим занятием и застал его, войдя, Иоанн Грамматик.
– Приветствую тебя, господин Иосиф!
– Здравствуй… Иоанн.
Оба монаха смерили друг друга взглядами. Игумен прошел вперед и уселся в кресло, а Иосифу указал на лавку у противоположной стены:
– Садись, отче.
Тот сел и снова оглядел Иоанна: он был всё в таком же несколько потертом хитоне, какой носил и раньше, но мантию, судя по виду, сшили недавно; кукуль был откинут на спину.
– Ты, я вижу, изучал карту, – сказал Грамматик. – И как, выбрал себе место ссылки?
Иосиф вздрогнул от неожиданности.
– А что… разве меня собираются сослать?
– Тебя это удивляет? Но почему бы и нет? Не всё ж тебе прозябать в Претории! В нашем богоспасаемом отечестве немало пустынных островов и уединенных крепостей. Подходящие места для истинных монахов, чья цель – пребывание наедине с Богом, не правда ли?
Иосиф не ответил.
– Видишь ли, господин Иосиф, – продолжал Грамматик, – вот уже более полугода в тюрьмах Царствующего Города содержатся упрямые еретики, не желающие примириться со святой Церковью. И поскольку надежда убедить их, по-видимому, должна быть признана тщетной, а пребывание их здесь – нецелесообразным, благочестивейший государь склоняется к тому, чтобы сослать их в отдаленные места под крепчайший надзор. Тем более, что некоторые из них даже и в заключении не оставляют своей пагубной деятельности по проповеди лжеучений… или, по крайней мере, слишком доступны для этой проповеди.
Иоанн остро глянул на эконома. «Знает о письме?» – промелькнуло в голове у Иосифа. Грамматик поднялся, взял со стола перо и подошел к карте.
– Вот, например, остров Афусия, – он указал кончиком пера на напоминавший кляксу клочок земли к западу от Кизика. – Чем не место для монаха, желающего спасти свою грешную душу?
Афусия! Скалистый остров на противоположном краю Пропонтиды… Сердце Иосифа болезненно сжалось. Значит, его хотят сослать туда?.. Не то, чтобы он испытывал страх перед новым заключением, к темничной жизни он уже привык за прошедшие месяцы… но так далеко от столицы! Туда ему уж вряд ли будут часто делать передачи, даже письма-то пока дойдут, да и дойдут ли вообще?..
Грамматик пристально наблюдал за ним, и взгляд игумена, холодный и такой же пронизывающий, как ветер с дождем, четверть часа назад хлеставшие в лицо узнику, заставил Иосифа внутренне поёжиться. Однако он продолжал молчать. Иоанн небрежным жестом бросил перо на стол и снова сел, скрестив руки на груди.
– Итак, я вижу, этот остров по нраву твоему преподобию, господин Иосиф? Впрочем, я прекрасно понимаю тебя. Как желанно уединение после соседства такого докучливого и нетерпеливого мужа, как господин Константин!
«Он и об этом знает! Так значит, нас подслушивали!..» На лице Иосифа отразилась усталость. Он поднял глаза на Грамматика.
– А ты любишь издеваться над людьми, Иоанн. Но я, право же, несколько разочарован. От человека, слывущего за ученого, можно было бы ожидать речей поумнее, а не насмешек, достойных простолюдина!
– Твоя правда! – Грамматик улыбнулся. – Но я, видишь ли, стараюсь «быть всем для всех» и приспосабливаюсь к собеседнику. Если же твое преподобие расположено к беседам философским, то изволь: я буду только рад, если ты окажешься более разумным, чем иные твои собратья. Ведь стоит завести с ними речь о богословии, как сразу слышишь одно: «В Никее всё решили, больше говорить не о чем!» Вот и приходится говорить не о небесных горах и морях, а о земных. Мне и самому, знаешь ли, так жаль бывает иногда!
– А ты считаешь, что в Никее решили не всё?
– Разве так считать нет никаких оснований?
– По-моему, никаких. Законность иконопочитания там была вполне обоснована.
Иоанн чуть приподнял бровь.
– Каково же его главное обоснование, по-твоему? – спросил он.
– Главное?.. – Иосиф на мгновение задумался. – Христос есть Бог и человек, равно как и святые суть друзья Божии и боги по благодати. И поскольку Христос воплотился истинно, а не призрачно, и стал совершенным человеком, то Он восприял все свойства человеческого естества, в том числе и описуемость. Ведь неописуемый человек это нелепость.
– Ты чинно рассудил, как сказали бы древние, но давай продвинемся еще немного вперед. Итак, во Христе одновременно человеческая природа и божественная?
– Да.
– При этом Христос по божеству есть Слово Божие, одна из ипостасей Святой Троицы?
– Конечно.
– Но воспринявший и человеческую природу?
– Да.
– Никейский собор учил, что по человечеству Христос имеет характир. Ты с этим согласен?
– Согласен.
– Следовательно, во Христе наличествует человеческая природа и человеческий характир, то есть ипостасные особенности, которые можно изобразить, так же как тебя, меня и так далее?
– Да.
– Но тогда получается, что во Христе имеется человеческая ипостась. Ведь ипостась составляют именно природа и характир. Логично?
– Хм… Логично.
– Замечательно! Но в таком случае мы получаем во Христе две ипостаси – Бога-Слова и Человека Иисуса. И что это выходит?
– Несторианство! – прошептал потрясенный Иосиф.
Грамматик улыбнулся.
– Вот видишь, господин Иосиф, к чему нас привело рассмотрение – причем, заметим, небольшое рассмотрение – того, к чему клонятся решения, принятые в Никее. Будешь ли ты по прежнему настаивать на том, что эти решения вполне удовлетворительны?
– Я должен подумать, – ответил эконом, помолчав.
Он знал, что в искусстве диалектики Иоанн был мастером, и это возбуждало в нем недоверие к рассуждениям игумена. «Что-то здесь не то… Что-то не то!» – стучало в голове. «Разберись тут! – подумал Иосиф раздраженно. – На тюремном пайке голова совсем худо работать стала… О, Господи!..»
– Что ж, – сказал Иоанн, – в заключении у тебя еще будет время подумать. Недели две-три.
– А потом?
– Потом – богоспасаемая Афусия, отче! – ответил Грамматик, вставая и бросая взгляд в окно. – Вот и дождь кончился, так что обратный твой путь будет более приятным.
– Послушай, господин философ, – сказал Иосиф, тоже поднявшись, – что в рассуждениях ты силен, это известно. Но хотел бы я знать, как в твое логическое построение, которое доходит до отождествления иконопочитания с несторианством, умещается вот это? – он указал на икону над столом.
– Я ждал, что ты спросишь об этом, – усмехнулся Грамматик. – Скажи мне, господин Иосиф: если в некоем месте находится изображение, то бытие его как предмета поклонения или просто как предмета убранства и, если хочешь, роскоши, от чего зависит, по-твоему?
Иосиф не смог сразу сообразить, что ответить.
– А я думал, ты догадливее, почтенный отец. Хорошо, я сам отвечу: это зависит исключительно от того, поклоняется ли владелец изображения ему или нет. Если я этой иконе не поклоняюсь, значит, она для меня и не является объектом почитания. Это всего лишь произведение художественного искусства. Впрочем, она здесь висит с определенной целью, но тебе об этом знать ни к чему. Кстати, нравится она тебе?
– Да, – тихо сказал эконом. – Удивительно изящное письмо… Интересно, чье это произведение?
– Мое.
Иосиф снова опустился на лавку.
– Как… твое?!
– Эту икону я написал в семнадцать лет и продал за довольно хорошие деньги, хотя и гораздо дешевле, чем мог бы, – не хотелось торговаться. Признаться, никак не ожидал, что мы с ней еще встретимся. Но Писание, как всегда, не лжет: «Отпускай хлеб твой по водам, ибо по прошествии многих дней снова обретешь его». Ее изъяли среди прочих образов у одной патрикии, которая, кстати, сейчас твоя соседка по Преторию, – едва заметная усмешка пробежала по губам Иоанна. – Святейший распорядился все изъятые иконы сжечь, но эта его удивила, и он решил сначала показать ее мне. Так она и попала сюда. Пригодится.
Иосиф перевел взгляд с Грамматика на икону и обратно. Бывший иконописец – и ведь какой мастер! – теперь главный противник иконопочитания! Что за судьба!.. «Пригодится»? Для чего? Что еще замышляет этот софист?.. Иосиф опять внутренне поежился. «Недели две-три, а потом – богоспасаемая Афусия»…
Вновь очутившись в Претории, эконом был атакован Константином:
– Ну, что, отче? Как? Где ты был? С кем говорил? Что слышно?
– Отстань, Христа ради! – поморщился Иосиф. – Потом расскажу.
Он отошел к зарешеченному окну. Из щелей тянуло холодом. На улице смеркалось. Иосиф вспоминал Иоанново доказательство того, как из почитания икон вытекает несторианство, и пытался опровергнуть, но у него плохо получалось. «Здесь нужно смотреть отцов, а разве дадут!..» Из книг, которые пробовали передать узникам родственники, через стражу прошли только молитвенники, поучения Антония Великого и «Лествица». Конечно, было бы нелепо ожидать, что им тут разрешат читать какие-либо вероучительные произведения… «Да, молва о Грамматике не преувеличена… скорее, даже не соответствует действительному размеру его ума… Но неужели он прав?!.. Если и не прав, убеждать он умеет… Иконоборцы нашли себе хорошего витию… А мы?» Иосиф вынул из щели между кирпичами спрятанное туда письмо Студийского игумена, развернул и перечел. «Если ответить на письмо для тебя невозможно…» Эконом сложил письмо и опять засунул в щель, как можно дальше, – доставать его оттуда он больше не собирался.
…Студийский игумен узнал о заключении эконома Иосифа от Навкратия, одновременно с новостью, что четверо палестинцев, прибывших с поручением от Иерусалимского патриарха и проживавших в Хорском монастыре, отказались вступить в общение с Феодотом и посажены в дворцовую тюрьму Фиалы. Хора был местом, выделенным императором Михаилом Рангаве и патриархом Никифором для монахов-беженцев, покинувших Палестину и искавших приюта в Империи. После смерти халифа Харуна ал-Рашида у арабов начались смуты, охватившие почти всю Сирию, Египет и Ливию. Везде происходили убийства, грабежи и всякие бесчинства; агаряне разорили многие монастыри и храмы, в том числе знаменитые лавры преподобных Харитона и Саввы, а в Иерусалиме разграблению подверглись храмы Воскресения, Голгофы и другие святые места. Христиане, монахи и миряне, толпами бежали на Кипр, а оттуда многие переправлялись дальше, преимущественно в Константинополь. Оставшиеся в Иерусалиме и окрестностях чрезвычайно бедствовали, поскольку арабы заставляли платить большую дань. Наконец, отчаявшись, патриарх Фома решил просить помощи у императора ромеев и с этой целью снарядил посольство во главе со своим синкеллом Михаилом.
Уроженец Иерусалима, Михаил был сыном знатных родителей и получил хорошее образование – изучил грамматику, риторику, поэтику и философию. С юности отличаясь благочестием, он был поставлен в чтецы церкви Воскресения Христова, а в возрасте двадцати пяти лет ушел в лавру святого Саввы, где вскоре постригся и удивлял братий своим чрезвычайно строгим пощением, выносливостью в ночных бдениях, послушанием и смирением. Спустя двенадцать лет Михаил был рукоположен в священника, а через два года с позволения игумена ушел на безмолвие, где проводил жизнь настолько строгую и нестяжательную, что ничего не имел, кроме книг, хитона на теле, подстилки для сна и глиняного сосуда, где размачивал хлеб, которым питался.
В тот самый год, когда ромейский император Никифор погиб от рук болгар, патриарх Фома решил сделать Михаила синкеллом и, повелев ему оставить прежнюю уединенную жизнь, поселил его в Спудейском монастыре близ храма Воскресения. Вместе с Михаилом переселились в Иерусалим и два его ученика, уже более десяти лет жившие при нем – братья Феодор и Феофан. Когда они пришли к Михаилу, прослышав о его добродетели и мудрости, Феодору только что исполнилось двадцать пять, Феофан был тремя годами младше. По благословению игумена лавры, Михаил постриг юношей в монашество, и они стали подвизаться вместе с ним. Михаил учил их не только иноческой жизни, но и внешней премудрости – всему, что знал сам. Братья оказались способными учениками, особенно Феофан: каноны и стихиры, написанные им, из лавры стали распространяться и по другим монастырям и церквам. По переселении в Спудейскую обитель Феодор и Феофан были рукоположены в священный сан и продолжали подвизаться вместе с Михаилом до самого отправления в Константинополь, – патриарх благословил синкелла взять их с собой.
Но материальные нужды Иерусалимской Церкви были не единственной причиной отбытия Михаила и его учеников из Святого Града. Через Константинополь путь их должен был лежать в Ветхий Рим, к папе, для разрешения возникшего тогда в Святой Земле смущения из-за догматических новшеств. Смута эта началась более чем за два года до назначения Михаила синкеллом: в то время Иоанн, инок Саввской лавры, обвинил в ереси франкских монахов, живших по уставу святого Венедикта в обители на Масличной горе. Эти франки читали Символ веры не так, как было установлено на первом и втором Вселенских соборах, но с прибавкой, говоря о Святом Духе вместо «от Отца исходящего» – «от Отца и Сына исходящего». Иоанн открыто обвинил их в хуле на Духа, и по его внушению миряне в Иерусалиме возмутились против них и даже попытались на Рождество Христово выгнать их из Вифлеемской базилики. Франки сопротивлялись, а когда в ближайшее после этого столкновения воскресенье народ собрался в храме Святого Гроба, чтобы вопросить их, как они веруют, те отвечали, что если их обвиняют в ереси за прибавку к Символу, то пусть обвиняют и Римскую кафедру; в то же время они публично анафематствовали все лжеучения, осужденные в Римской и Иерусалимской Церквах. Это, однако, внесло только временное успокоение; народ продолжал бурлить, на франкских монахов смотрели с подозрением, а в Саввской лавре по-прежнему считали их еретиками, и Иоанн везде настраивал православных против Символа франков. Тогда и патриарх Фома, и франкские монахи почти одновременно написали папе в Рим с просьбой изложить свою веру, а также сообщить о происходящем в Иерусалиме королю франков Карломану, при дворе которого уже давно употреблялся Символ с прибавкой «и от Сына». Карломан созвал в Эксе собор, где было подтверждено учение об исхождении Духа от Отца и Сына, и соборные акты были отправлены папе. В Риме одобрили эти акты, но делать прибавку к константинопольскому Символу папа запретил, о чем и сообщил патриарху Фоме. Решение это не понравилось ни франкам, ни иерусалимской пастве, и патриарх поручил синкеллу после визита в Константинополь ехать в Рим и попытаться убедить папу пересмотреть заново вопрос об исхождении Духа. Вместе с Михаилом и его учениками отправился в путь и монах Спудейского монастыря Иов.
Четверо палестинцев достигли Константинополя в апреле шестого индикта и, тепло принятые императором Михаилом и патриархом, поселились в Хорской обители. Василевс обещал помочь страждущим братьям в Иерусалиме, но поскольку он как раз собирался в поход на болгар, нужно было ждать его возвращения. Однако дальнейшие события смешали все планы: переход царства ко Льву, болгарское нашествие, фракийское разорение, необходимость укреплять городские стены и приграничные крепости… Пожертвования для Иерусалимской Церкви всё никак не собирались, и поездка в Рим откладывалась. Когда после низложения патриарха Никифора был созван собор под председательством Феодота, туда пригласили Михаила и его спутников, в надежде, что они призна́ют его решения, – это послужило бы большим подспорьем для иконоборцев, ведь палестинцы были официальными представителями одного из патриархатов. Однако четверо монахов отказались изменить иконопочитанию, резко порицали «злочестие новшествующих», и в результате были немедленно посажены в тюрьму. Император поначалу пытался смягчить их и даже посылал им в заключение дары – финики, сушеный виноград и прочую пищу подвижников, – но они ничего не принимали, отвечая словами псалма: «Елей грешника да не намастит главу мою». Разгневанный Лев приказал ужесточить им условия заключения, а через некоторое время подослал к ним Грамматика.
7. Палестинцы
– Сними великий гнет – не будет доблести.
– В чем мнишь ты доблесть? Грудь подставить чудищу?
– Нет, одолеть того, кто страшен каждому.
(Сенека, «Геркулес в безумье»)
– Сидите, почтенные отцы? – спросил Иоанн, оглядев темноватое и сырое помещение, где содержались иерусалимский синкелл Михаил и его спутники. – Неужели вам доставляет удовольствие пребывать в таком месте?
– И немалое! – ответил Михаил. – Мы сидим тут за Христа и весьма этому рады.
– Вы точно уверены, почтеннейшие, что сидите тут за Христа?
– Совершенно уверены! – сказал Иов.
– Как жаль! Я слышал, вы люди образованные и мудрые, но, видимо, эти слухи обманчивы. От Христа никто отрекаться вас не заставлял, да это было бы и странно в нашей христианнейшей державе, а сидите вы тут из-за вашего упрямого нежелания оставить иконопоклонство. Отсюда легко сделать логический вывод, что доски и изображения для вас то же самое, что и Христос Бог, а значит вы – не более чем неразумные идолопоклонники.
– Изыди, проклятый еретик! – крикнул на него Иов.
Грамматик только усмехнулся и прислонился к стене, скрестив на груди руки.
– Полагаю, ты знаком с постановлениями святого Никейского собора, господин Иоанн, – сказал Михаил, – и знаешь его учение о том, что через имя изображенного образ вступает в общение с первообразом и причаствует божественной благодати. Знаешь, но устраиваешь тут такое недостойное представление. Вы сами поклоняетесь кресту или Евангелию, а иконам в поклонении отказываете, хотя и то, и это – церковные символы. Такова-то ваша хваленая разумность?
– Видишь ли, господин Михаил, – спокойно ответил Иоанн, – символы символами, это вопрос отдельный и важный, который, если у тебя будет желание, мы обсудим после. Но иконы являют собой случай несколько иной, по крайней мере, что касается вашего учения о них. Ты упомянул о кресте и Евангелии – и справедливо, ведь никто из имеющих ум не скажет, что крест, если только мы имеем в виду действительно предмет крестообразой формы, не есть крест. То же и с Евангелием: мы поклоняемся ему как изображению Христа и Его деяний, потому что оно действительно изображает Спасителя так, что нельзя сказать, будто это не Он, – изображает живым, ходящим, говорящим, делающим то или другое, родившимся по плоти от Девы Марии в Вифлееме, выросшим в Назарете и прочее. Этого живого движения на иконе изобразить невозможно. Вы рисуете лишь подобие плоти, и подобие несовершенное, ведь никто из иконописцев в точности не знает, как именно выглядел Господь. Между тем это изображение вы дерзаете называть «Христом»; я не вижу для этого достаточных оснований.
– Полагаю, ты сам не раз называл, например, изображение или статую того или иного императора или вообще животного – скажем, быка – именем этого императора или животного, не прибавляя слова «изображение»! – вмешался до сих пор молчавший Феодор.
– Разумеется. Но если живописец изображает императора или быка, то он старается передать сходство с первообразом. При отсутствии сходства император может справедливо сказать, что это не его портрет – даже если там будет написано, что это он, – и покарать живописца. И если на картине вместо быка будет изображен баран, то быком его никто не назовет. Не так ли?
– Так. И что из этого? – спросил Феофан.
– Господин Иоанн, верно, хочет сказать, что иконы портретного сходства не передают, а потому это и не суть иконы изображаемых на них, – сказал Михаил.
– Ты понял мою мысль, – кивнул Грамматик. – И ты, видно, с ней не согласен?
– Конечно. Икона не есть портрет в собственном смысле этого слова, то есть такой, от которого требуется обязательное портретное сходство. Икона – символ, и потому изображение на ней может быть гораздо более приблизительным по внешнему сходству, нежели портрет. Но я уже сказал об общении с первообразом по имени.
– То есть, по-вашему, можно изобразить на иконе какого угодно человека – высокого роста или низкого, кудрявого или с прямыми волосами, с глазами черными или синими, худого или полного и тому подобное, – но как только ты на изображении напишешь «Христос», оно немедленно становится Его изображением? Этак у вас получается целый «народ богов»! Христос всё-таки имел какую-то определенную внешность? Или какую-то неопределенную, так сказать, внешность вообще?
Иов глядел на Грамматика, как на змею. Феодор смотрел в пол, а Феофан взглянул на Иоанна с некоторой растерянностью, и это не укрылось от игумена. Михаил ответил:
– Естественно, определенную. Но икона – не портрет, как я уже сказал, она – символ, указывающий на то, что Христос воплотился, что по плоти Он единосущен нам, и потому по плоти Его можно изобразить.
– Допустим. Но как из этого следует поклонение?
– Так ведь плоть Христа обожена! – сказал Феофан. – Или ты в ее обожение не веруешь?
– Верую. Но можно ли изобразить ее обожение на иконе?
– Почему же нельзя, антихрист ты этакий? – вскричал Иов, не выдержав.
– Я разве утверждаю, что нельзя? Я спрашиваю. Вы говорите: можно. Тогда я спрошу вас: как?
Феодор хотел ответить, как вдруг Грамматик отделился от стены и шагнул к двери.
– Прошу прощения, почтенные отцы, сейчас я должен вас покинуть, но я не прощаюсь. Подумайте над вопросом, который я только что задал. Мы продолжим нашу поучительную беседу в другой раз.
Когда император с патриархом спросили Иоанна об итогах беседы с палестинцами, он сказал:
– Думаю, следует отделить синкелла от братьев и Иова тоже отсадить. Последний туп и упрям, говорить с ним бесполезно, но это невелика потеря, скажу честно. А вот с остальными еще было бы интересно побеседовать.
В следующий раз, когда Иоанн навестил двух братьев, они уже были заключены отдельно от Михаила и Иова.
– Я рад найти вас в добром здравии, почтенные отцы, – сказал Грамматик. – Есть ли у вас желание продолжить нашу беседу?
– Что ж, продолжим! – в голосе Феофана прозвучал вызов.
Палестинцы, хотя и слышали о способностях Иоанна ставить в тупик собеседника, не принимали эти слухи всерьез. Они и сами не были несведущи в логике с риторикой и за два с лишним года пребывания в Константинополе даже стали известны в столице как «грамматики», а Феофан – еще и как талантливый поэт. Иоанн, почти ровесник братьев, даже немного младше их, не внушал им больших опасений, поэтому их удивляли доходившие к ним известия о том, что после бесед с Грамматиком многие отрекались от иконопочитания и переходили к еретикам. Однажды Феодор сказал, что было бы любопытно побеседовать хоть раз с этим «апологетом ереси», – неужели его доводы действительно так неотразимы? И вот, такая возможность им представилась.
Когда Иоанн покинул палестинцев после первой беседы, они переглянулись, и Михаил сказал Иову с улыбкой:
– Сурово ты с ним обошелся, отче!
– А с ним только так и можно, – хмуро ответил Иов. – Вы вот ему возражать пытались, а не понимаете, что ему только того и надо! Любит он языком трепать, сразу видно, способности богатые! Погодите, вы еще наплачетесь от его языка, братия мои! По мне, так лучше сразу вон его отсылать, чем разговоры эти… В Писании сказано: «С безумным не умножай словес»!
– Мне всё же хочется с ним поспорить, – сказал Феофан. – В конце концов, если он действительно уже многих переубедил, то должен же хоть кто-нибудь его посрамить!
– Вот именно! – воскликнул Феодор. – Зря мы, что ли, науки изучали?
– Так-то оно так, братия, – сказал Михаил, – но будьте осторожны и не слишком надейтесь на свои способности, каковы бы они ни были. Особенно ты, Феофан, будь рассудителен, пыла в тебе слишком много… А Иоанн, если вы заметили, владеет собой так, что позавидовать можно. Какое он получил образование, я не знаю, но говорят, очень хорошее. Может, вы и не уступите ему в этом, а всё же надеяться надо не на риторику, а на Бога.
– Истину говоришь, отче! – кивнул Иов. – На Бога, рекшего: «разум разумных отвергну», – и обещавшего дать «уста и премудрость, которым не смогут противостоять противящиеся», и избрал апостолами некнижных рыбаков! – и добавил помолчав: – Но лучше бы с ним вовсе не разговаривать. «Не обличай злых, да не возненавидят тебя», сказано.
– Нет! – сказал Феофан. – Если все будут молчать, то что получится? Кто не способен с ним бороться, тех он обращает к нечестию, а кто способен, те перед ним молчат, потому что считают это более разумным, – вот иконоборцы и будут хвалиться, что всех «привели в молчание»… Нет, мы должны ему возразить!
– Возразим, возразим, не беспокойся, брат, – улыбнулся Феодор. – Да только он, может, и не придет больше, кто знает?..
Но Иоанн пришел, причем как раз тогда, когда заключенные уже перестали этого ожидать, принес с собой небольшой табурет, поставил его у стены и сел напротив братьев.
– Итак, – сказал он, окинув узников внимательным взглядом, – мы в прошлый раз остановились, помнится, на вопросе, каким образом обожение плоти можно изобразить на иконе. Коль скоро вы поклоняетесь иконе, то, следовательно, признаёте ее святость. Но как, по-вашему, в изображении пребывает Божество? И если оно там пребывает, то не следует ли отсюда злоучение о его описуемости? А если оно там не пребывает, то поклоняться такому изображению – нечестиво, разве не так?
– Ты смешиваешь понятия, – ответил Феодор. – Божество неописуемо даже при соединении его с человечеством во Христе. Христос страдал плотью, но Божество Его не страдало. Тем более оно неописуемо, когда мы говорим не о плоти, а только о ее изображении. Но ведь Божество проницает всё и присутствует во всем, хотя не везде одинаково. Поэтому можно говорить, что Божество и в иконе.
– Что Бог вездесущ, я не спорю. Меня интересует, как из Его вездесущия может следовать поклонение именно иконе, коль скоро мы всё же не поклоняемся всему подряд. Вы, очевидно, считаете, что в иконе Божество присутствует некоторым особенным образом?
– Безусловно! – сказал Феофан.
– Как же именно?
– Так же, как в кресте, например! – ответил Феофан. – Через такие символы мы, не останавливаясь на веществе, как это было свойственно идолопоклонникам, возвышаем ум к Богу «в духе и истине».
– Это по-своему логично. Но я должен заметить, что было бы чрезмерным упрощением представлять, будто идолопоклонники «останавливались на веществе». Безусловно, были те, кто верил, что богом является собственно то изваяние, которому они поклоняются. Но ведь многие, кланяясь статуе, скажем, Зевса, вовсе не думали, что это он сам и есть. Зевс для них обитал на небесах, а статуя была неким его образом, через который они возводили ум собственно к этому богу.
– Но их боги были ложными! – возразил Феофан. – Они не существуют и не боги вовсе!
– Правильно. Но в таком случае, вам следовало бы уточнить свое определение идолопоклонства: это не просто «остановка на веществе», но и «возведение ума чрез вещество» к ложным богам. Не так ли?
– Так, – сказал Феодор. – Но мы возводим свой ум к Богу истинному. А язычники через свои статуи поклонялись, по сути, демонам.
– Значит, главное – не вещество, но тот, кто через него действует?
– Конечно, – кивнул Феодор.
– Тогда вернемся к нашему вопросу: на чем основана ваша вера в то, что Божество присутствует в иконе и действует через нее таким образом, что икона оказывается поклоняемой? Оставим на время изображение Самого Христа и поговорим об изображениях святых…
– И поговорим! – прервал его Феофан с некоторым нетерпением в голосе. – Разве ты не знаешь, что писал святой Василий об изображениях святых? Или о том, что святая Мария Египетская молилась пред иконой Богоматери и получила чрез нее откровение? Вот свидетельства того, что святые издревле изображались на иконах. Уж не скажешь ли ты, что святые неописуемы?!
– Святые, конечно, описуемы и изобразимы, – сказал Иоанн. – И здесь я первый могу заявить вам, отцы, что живопись – дело полезное, и что изображения деяний святых могут быть иной раз поучительны для неграмотных, не умеющих прочесть о них в книгах, каковой была та же святая Мария. Но при чем тут поклонение?
– Мы почитаем святых как одушевленные образы Бога, которые соединились с Ним по благодати, – ответил Феофан. – Ведь мы даже и простым людям в жизни оказываем уважение и приветствуем поклонами, не говоря об императоре. Как же могли бы мы не поклоняться святым?
– Это понятно. Но мы говорим сейчас не о святых, а об их иконах. Святые суть образы Бога, иконы святых, следовательно, суть образы образов. Какое-то тут у вас странное построение получается, ты не находишь, господин Феофан? Конечно, мы кланяемся и друг другу, и государю, и начальникам, но мы кланяемся, а не поклоняемся. Или ты эти две вещи не различаешь?
Феофан внезапно ощутил, что голова у него пошла кру́гом. Он ждал, что Грамматик, если придет к ним, будет говорить о ветхозаветных запретах на любые изображения, о том, что следует изображать в самих себе добродетели святых, а не иконы их писать; но Иоанн даже не упомянул о ветхозаветной заповеди «не творить себе всякого подобия» и легко признал, что сами по себе изображения святых допустимы… В то же время его уверенный тон и чуть насмешливый взгляд сбивали с толку, – но показать этого было нельзя, нельзя! «Господи! – мысленно взмолился Феофан. – Помоги нам, грешным!» Тем временем Феодор сказал:
– Господин Иоанн, мне представляется неправомерным отделение икон святых от иконы Христа. Коль скоро мы признаём, что, благодаря воплощению Бога-Слова, ставшего единосущным нам, святые, по слову божественного Григория, становятся «единобожными» с Богом, то вопрос упирается именно в изображение Христа. Если Его изображение возможно и достойно почитания, то тем самым возможны и достойны почитания изображения святых.
– Согласен, – ответил Грамматик. – В таком случае, мы вновь вернулись к вопросу о возможности изобразить Христа на иконе и о том, достойно ли поклонения такое изображение. Итак, я – уже второй раз, заметьте! – предлагаю вам подумать над ответом на этот вопрос и обсудить это при нашей следующей встрече. На сегодня, думаю, достаточно.
Когда Иоанн ушел, братья переглянулись.
– Кажется, мы его недооценивали, – сказал Феодор.
– Не то слово! – ответил Феофан. – Хорошо, что он ушел, а то со мной что-то такое стало делаться странное…
– Вроде есть, что сказать, а сказать уже боишься, потому что кажется, что скажешь что-нибудь не то?
– Да-да! И у тебя так?!
– Немного… Интересно, что бы сказал отец Михаил? Эх, увидимся ли мы теперь с ним?..
– Да, – пригорюнился Феофан. – Может, нас нарочно разделили… чтоб он не мог поддержать нас…
Поддержка, однако, вскоре пришла с неожиданной стороны. Иоанн не приходил, а спустя две недели страж тайком передал братьям письмо. Это было послание Студийского игумена, который стремился «утешить огорченные души» братьев. Как явствовало из письма, игумен уже знал, что Грамматик пытается воздействовать на них: «Я знаю, отцы мои, вы терпите горькие и невыносимые страдания – как же нет? – ведь у вас страшный мучитель и настолько страшный, насколько он превосходит всех своим нечестием, а у вас нет, как у большинства подвизающихся, соотечественников и знакомых, что обычно много утешает страждущих. Что же сказать на это? – Ясно возвещаемое вам апостольскими устами: “Не стоят страдания нынешнего времени той славы, которая откроется в нас”».
– Господь да вознаградит его за эту духовную милостыню! – воскликнул Феодор. – Подумай, ведь у него столько своих братий, но и нас, дальних, он не забыл!
– Значит, он знает, где мы, и что с нами происходит… Слава Богу! Раз такой подвижник молится за нас, то не будем унывать!
– Не будем! А Иоанн что-то не идет…
– Он, наверное, придет, когда мы совсем перестанем его ждать. Как в прошлый раз…
Грамматик пришел на следующий день.
– Итак, досточтимые отцы, вам, по-видимому, уже давно не терпится привести мне свои доводы? – спросил он с чуть заметной улыбкой. – Я очень внимательно вас слушаю.
Братья переглянулись, и Феодор сказал:
– Если ты спрашиваешь нас о том, почему мы поклоняемся начертанному образу Христову, а не просто созерцаем его как обычную картину, то я отвечу, что икона изображает ипостась Сына Божия, которую возможно изобразить по одному из нераздельно и неслиянно соединенных в ней естеств, а именно – человеческому. И поскольку воспринятая Словом плоть является плотью Бога, святой и обоженной, то, изображая плотской образ Христа мы, тем не менее, изображаем Бога. И об этом свидетельствует надписание имени на иконе, через него образ состоит в общении с первообразом. В сущности, характир, то есть те человеческие черты, которые мы изображаем, является тем же именем, но облеченным не в буквы, а в краски. Надеюсь, ты не будешь спорить с тем, что имя Божие свято?
– Не буду, – ответил Иоанн. – Но у меня другой вопрос: ты говоришь, что изображаешь Бога, потому что изображаешь плоть, воспринятую Словом, а эта плоть обожена, и потому правомерно на изображении Христа начертать имя «Христос». Так?
– Да.
– Я рад, что понял тебя правильно. Но вот что остается мне неясным: почему ты утверждаешь, что обоженную плоть, будь то плоть Христа или святых, можно изобразить на иконе?
– Как же нельзя, если она и при обожении остается человеческой плотью и сохраняет ее свойства? – вмешался Феофан.
– Очень хорошо, что ты, отче, задал этот вопрос. «Сохраняет ее свойства», говоришь ты. Но ведь ты согласишься, надеюсь, что плоть человека в обычном своем состоянии ограничена некими контурами в пространстве?
– Как же иначе?
– Не потому ли она и изобразима, что ограничена?
– Потому, – сказал Феодор.
– Итак, вы оба с этим согласны?
– Да, – ответил Феофан.
– Прекрасно! Но ведь мы знаем, что Христос после Своего воскресения спокойно проходил чрез запертые двери, мог являться то в одном месте, то в другом, становился видимым для учеников и опять исчезал, мог оставаться не узнанным ими, даже находясь рядом. Всё это свидетельствует о том, что плоть Его перестала быть ограниченной и подчиняться тем законам, которым подчиняется обычная плоть. Возможно, вы помните канон Антипасхи: «Во гробе заключенный описанною плотию Твоею, Христе, Ты воскрес неописанный, при заключенных же дверях предстал Твоим ученикам, Всесильный». В том же каноне сказано, что Христос через крест сделал нас «вместо тленных нетленными», – конечно, имеются в виду те, кто достигает истинного нетления, то есть обожения. Итак, обоженная плоть есть плоть не только нетленная, но и неограниченная, – а значит, вы должны признать, что Христос, после того как Он воскрес, перестал быть изобразимым.
– Такое толкование равнозначно ереси о развоплощении! – воскликнул Феофан. – Если плоть совершенно теряет свойство описуемости, то она уже и не плоть. Что Христос мог появляться и исчезать, это было свойством не человеческой природы, а божественного всемогущества, ведь Он не только человек, но и Бог. Однако Он не только Бог, но и человек, а потому ученики всё-таки могли Его и видеть, и осязать, и узнавали не только до воскресения, но и после, и об этом неложно говорит Евангелие. Не ел ли Он с апостолами? Не ходил ли вместе с ними? Как же можно в таком случае называть Его по плоти неограниченным и неописуемым?
…В это время молодой стратиот, стоявший снаружи у двери, приложив ухо к щели, слушал и время от времени бормотал:
– Ну и ну!.. Дело!.. И то!.. А ведь и впрямь!.. Дьявол побери, а он прав!..
Другой стратиот, стороживший дверь в камеру напротив, лысеющий, полноватый, с уже серебрящимися висками, насмешливо глядел на своего напарника и, наконец, сказал:
– Ну, и что ты там слушаешь? Можно подумать, ты понимаешь что!
– Понимаю, что умные люди ведут умные беседы, – отозвался молодой. – Может, я тоже хочу к знаниям приобщиться… хотя бы так!
– Не знаю, какие там у них беседы, а вот что люди они умные, это ты врешь, пожалуй.
– Да ты чего?! Они там так рассуждают!.. Я и слов таких не знаю, что они говорят!
– А я вот, дружище, так думаю, – лениво сказал полный, – что ежели человеку хочется порассуждать, то это никто не запрещает. Но зачем это делать в тюрьме? Ну, игумену император повелел сюда захаживать, понятно… А эти что сидят?
– Так ведь иконы! Иконы они чтут, а их не выпустят, пока не отрекутся.
– Глупости это всё, – ответил старший стратиот и, понизив голос, продолжал почти шепотом: – Моя жена, вон, как собор прошел, я ей говорю, давай, всё сдавай на сожжение, она какие-то и впрямь сдала, а кое-что в сундук попрятала, я-то не видел, но сын младшенький видел и сказал мне. Ну, я ей построжил, чтоб она ни-ни! Но кто ее знает, что она втайне делать может… и, главное, никто этого не узна́ет! Были б эти монахи умные, тоже бы так сделали, а потом и рассуждали бы, сколь душе угодно, но на свободе.
Молодой страж задумался.
– Может, – сказал он, наконец, – им так больше нравится. Бывают же люди, их хлебом не корми, а дай на рожон полезть! А иначе им… скучно, что ли…
8. Новая мера
Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный интеллигент… сознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталось неприкосновенна.
(Дж. Оруэлл, «1984»)
Не все студийские узники вынесли тяготы заключения. Через месяц жизни в полуподвальном тесном и душном помещении Орест и Афрат сломались и, дав подписку иконоборцам, были отпущены «с миром». Но они нигде не смогли найти приюта: идти к рассеянным и гонимым братиям было стыдно да и не хотелось, а в столичных монастырях, чьи игумены вступили в общение с Феодотом, на просьбы принять их отвечали отказом, как только узнавали, что они из студитов. Иконоборцы были так раздражены против Феодоровых монахов, что сближаться и с падшими из их числа считалось опасным. Некоторые даже думали, будто эти студиты отделились от своих притворно, чтобы удобнее вести проповедь среди иконоборцев. Тогда Афрат уехал под Адрианополь к родственникам, а Орест отправился к Феодоту и попросил позволения вернуться в Студий и жить там, обещая попробовать и других заключенных там братий уговорить дать подписку. У патриарха он встретился с еще одним студитом, Нектарием, который был схвачен в окрестностях Константинополя и, испугавшись бичевания, отрекся от иконопочитания, а теперь даже вызвался собирать подписку у других монахов. Когда Нектарий и Орест явились в Студийский монастырь и попытались убедить братий последовать их примеру, заключенные студиты вознегодовали и даже слушать их не захотели – все, кроме Леонтия. Просидев несколько недель в заточении на голодном пайке, он погрузился в жестокое уныние. Когда два отпавших брата, одетые в новые хитоны и мантии, вымытые и ухоженные, пришли к нему и рассказали, как любезно они были приняты новым патриархом, Леонтий сказал:
– Я тоже хочу быть с вами! Зря я проторчал здесь столько времени… Евфимий тут один раз пробрался и передал еды всякой и записку, что отец игумен за нас молится и «призывает к подвигу терпения за Христа»… Но игумену хорошо призывать: он там живет припеваючи, все к нему ходят, все о нем заботятся! И книги ему, и письма, и братия там с ним… Да и Евфимию хорошо, он хоть и скитается, но на свободе и не голодает, а тут скоро подохнешь, как собака! Да и вообще… можно подумать, что-то изменится, если я дам подписку не учить об иконах! Пока я тут сижу, я ведь тоже не могу никого ничему учить, так не всё ли равно…
– Вот именно, брат! – воскликнул Орест. – Нас, как видишь, до сих пор молния не испепелила… Да и какие из нас, простых монахов, проповедники? Кто нас будет слушать? Смешно!
– Да, если уж епископы вступают в общение со святейшим Феодотом, то нам Сам Бог велел! – кивнул Нектарий. – И никакого тут отречения от Христа нет, пустое это всё…
На другой день Леонтий был отведен к Феодоту и изъявил желание примкнуть к иконоборцам. Патриарх на радостях предложил монаху, который был самым старшим из троих, игуменство в Студийской обители, поручив ему надзор за заключенными там братиями и намекнув, что если Леонтию удастся добиться от них подписки, то он может вскоре получить и епископство. Новый игумен принялся за дело рьяно: приказал забить окна в кельях, где содержались братья и урезать им меру выдаваемой пищи, отобрать все книги и письменные принадлежности и усилить надзор. Студит Евфимий, снова по поручению Феодора прибывший проведать заключенных, был схвачен ночью при попытке отодрать одну из досок, которыми забили окно в келью, где был заключен брат Аффоний. Евфимия обыскали, изъяли письмо Студийского игумена и еду, принесенную для братий, до утра держали на улице, привязав к дереву, и сразу после восхода солнца отвели в Преторий, где он был допрошен самим эпархом, ничего не сказал и был посажен в камеру.
Между тем император с патриархом, обсудив положение дел, решили, что дальнейшие попытки переубедить иконопочитателей бессмысленны.
– Я полагаю, святейший, – сказал Лев, – что наш философствующий игумен обратил уже всех, кого можно, а тех, кого он не убедил, лучше всего услать в дальние концы, чтобы они не могли общаться друг с другом даже и письменно… по крайней мере, чтобы это было для них затруднительно. Пока они все собраны в столице, они ухитряются поддерживать друг друга; пора с этим покончить! Как ты смотришь на это? Или ты думаешь, что Иоанн обратит кого-нибудь еще?
– Совершенно с тобой согласен, государь! – ответил Феодот. – Думаю, ждать больше нечего. Насколько я знаю, беседа Иоанна с палестинцами зашла в тупик, потому что они смотрят на дело исходя из одной системы, а Иоанн – исходя из другой. Поэтому, хотя он рассуждает и логично, они не убеждаются. Остальные же и вовсе не расположены к разговорам с ним. А ему что – ему ведь интересны философские беседы сами по себе, не важно, удастся ему переубедить или нет… Сократ, говорят, не пропускал ни одного мало-мальски интересного собеседника без того, чтобы не померяться с ним силой в рассуждениях. Вот и у нашего отца игумена, боюсь, та же самая «болезнь».
– А ты, кажется, верно подметил! – рассмеялся василевс. – Я тоже это заподозрил, потому и решил посоветоваться с тобой о том, что делать дальше с теми еретиками, что упрямятся.
– Сослать под крепкий надзор, августейший, да и дело с концом!
И вот, почти все содержавшиеся в городских темницах исповедники в середине января были высланы в разные крепости в большем или меньшем отдалении от столицы. К новым местам жительства узников переправляли очень поспешно, немилосердно гнали, заставляя идти пешком, несмотря на холод, снег с дождем и слякоть на дорогах.
Когда начальник Претория объявил Иосифу и Константину, что на следующее утро с рассветом они должны быть готовы к отбытию на Афусию, скевофилакс, к удивлению эконома, не произнес ни слова, а только кивнул и, когда дверь камеры закрылась, стал собираться: вынул из холщового мешка и надел чистый хитон, который ему как раз передали с утра родственники, а старый вытряс и аккуратно сложил в мешок, положил туда же молитвенник и «Лествицу», составлявшие его книжное богатство, вытряс кукуль и мантию, надел их и, стащив с койки на пол рогожу, опустился на колени лицом к востоку и принялся молиться про себя, – всё это не сказав Иосифу ни слова. Эконом, напротив, услышав новость, сел на свою койку и сначала молча наблюдал за Константином, а потом, когда тот встал на молитву, закрыл глаза и, откинувшись к стене, сидел, пока тюремщик не принес обед. Трапеза прошла в молчании, но, допив воду, чуть разбавленную кислым вином – на прощание узников, видимо, решили немного «побаловать», – Иосиф не выдержал и сказал:
– Ну что, Константин, на Афусию?
Скевофилакс взглянул на него как-то странно и ответил:
– Почему же нет? «Господня есть земля, вселенная и все живущие в ней».
– Как же ты там без передач будешь? – усмехнулся эконом.
– Да уж как-нибудь, с Божией помощью.
Они опять помолчали.
– А что если, – сказал вдруг Иосиф, – тебе действительно предложили бы просто вступить в общение с Феодотом, а иконы чтить разрешили бы? Согласился бы ты?
Константин пристально посмотрел на соузника, опустил глаза и ответил:
– Нет, отче, лучше Афусия… Там воздух здоровее, – внезапно он встал и поклонился Иосифу в пояс. – Прости меня, что я так надоедал тебе!
– Что ты, отче! – изумленный Иосиф тоже поднялся. – Бог простит тебя! Прости и ты меня за насмешки… Но что это ты, прощаешься будто?!
– Так… – тихо проговорил скевофилакс. – Кто его знает…
Когда тюремщик унес посуду, Константин опять принялся молиться. Иосиф взялся было тоже за свои вещи, но, так ничего и не сложив, бросил всё в угол, подошел к окну и некоторое время всматривался в темноту – был уже вечер. Наконец, эконом внезапно развернулся, подошел к двери и стал барабанить в нее кулаками. Маленькое окошко на уровне глаз открылось, и стражник спросил:
– Чего надо?
– Я хочу говорить с патриархом.
Окошко захлопнулась, а немного спустя отворилась дверь, и страж, связав Иосифу руки, вывел его в тюремный коридор и передал другому стратиоту, который повел узника к начальнику Претория. Константин продолжал молиться, как будто ничего не происходило. Стражник подошел и ткнул его в спину носком сапога. Заключенный обернулся.
– Ну, а ты не хочешь поговорить со святейшим?
Константин только потряс головой и отвернулся.
Иосиф больше не вернулся в камеру. В тот же вечер он был отведен в патриархию, где дал требуемую иконоборцами подписку, был сразу отправлен в баню, затем облачился в новые одеяния, а на следующий день, восстановленный в должности эконома, занял прежние свои помещения при Великой церкви.
– Ну вот, Иоанн, – сказал Мелиссин Грамматику, когда тот спустя два дня зашел в патриархию, – как ты и предсказывал, эконом сдался, как только ему сказали про отправку на Афусию. Позавчера дал подписку.
– Немудрено, – усмехнулся игумен презрительно. – Этот своего никогда не упускал.
И тут келейник доложил о приходе Иосифа. Эконом вошел уверенной походкой; он уже вновь обрел свой всегдашний важный вид и был весел, но, увидев в патриарших покоях Иоанна, заметно стушевался и чуть замешкался у двери, однако тут же оправился и подошел к патриарху под благословение.
– Здравствуй, святейший! – он повернулся к Иоанну и слегка поклонился. – Здравствуй, отче.
Грамматик кивнул в ответ и сказал с еле приметной улыбкой:
– Здравствуй, почтенный отец. Я знал, что в последний момент благоразумие в тебе всё же возобладает и ты окажешься здесь.
– Что скажешь, Иосиф? – спросил Феодот.
– Владыка, я хотел поделиться с тобой некоторыми соображениями о том, как воздействовать на иконопоклонников, – эконом остановился и взглянул на Грамматика.
– Прекрасно, отче! – сказал патриарх и уселся в кресло. – Присаживайся. Очень кстати, что здесь Иоанн, сейчас мы вместе и обсудим твои соображения.
Мелиссин находился в приподнятом настроении после разговора с императором, итогом которого стало решение о ссылке всех непокорных, злорадно думая про себя, что всё-таки для василевса он, патриарх, остается более своим, чем «высокоумный философ». Иосиф сел в указанное ему кресло, почти напротив Грамматика, несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями, и заговорил:
– Владыка, я думаю, что со ссылкой иконопоклонников немного поторопились. Конечно, государь пошел на это, видя, что беседы и уговоры ни к чему более не приводят, и решение его величества было справедливым, с этой точки зрения. Но существует одна мера, с помощью которой можно было бы добиться почти полного крушения лагеря наших противников… если, конечно, эта мера будет одобрена государем и твоим святейшеством.
Феодота охватило такое чувство, словно он вместо вина хлебнул уксуса. Иоанн насмешливо наблюдал за патриархом и экономом. Во взгляде Иосифа промелькнуло недоумение: он ожидал заинтересованно-радостных вопросов, но патриарх молчал, а Грамматик сидел с таким видом, словно ему всё давно известно, в том числе и то, почему молчит Мелиссин.
– Что же это за мера? – наконец, произнес патриарх.
– Очень простая! Нам ведь нужно, чтобы непокорные вступили в общение с Церковью. Не так ли?
– Да, конечно, – кивнул Феодот.
– Но до сих пор им внушалось, что при этом следует отказаться от почитания икон, потому что это ересь.
– Разве ты считаешь иначе?
– Ни в коем случае! Отец игумен, – Иосиф взглянул на Иоанна, – неопровержимо доказал мне, что из иконопочитания вытекает не что иное, как несторианская ересь. Но не все разбираются в таких богословских тонкостях, владыка. А кроме того, даже у тех, кто разбирается, умонастроение по сути такое же, как у простого народа: им трудно отказаться от сложившегося обычая держать у себя иконы и поклоняться им. Даже требование просто перевесить иконы повыше и перестать возжигать перед ними свечи кажется этим невежественным людям неприемлемым. Поэтому мне представляется, что для них можно допустить немного бо́льшее снисхождение, нежели предлагалось раньше.
– А именно? – голос патриарха прозвучал заинтересованно.
– Можно предложить им вступить в полное общение с Церковью, но при этом разрешить в частном порядке – у себя дома или в отдельных монастырях – почитать иконы, как прежде. Уверяю тебя, владыка, что, например, из игуменов мало найдется таких, кто откажется от возможности возвратиться в свои обители при сохранении там икон. Они не замедлят вступить в общение с твоим святейшеством и с августейшим государем!
– Хм… Неплохая мысль! – сказал Мелиссин и взглянул на Грамматика. – Что ты думаешь об этом, Иоанн?
– Мысль недурна, – ответил тот. – Я, кстати, и сам об этом думал, но вы с государем лишили меня возможности проверить это предположение на деле, – он слегка улыбнулся.
– Еще не поздно это сделать! – патриарх определенно воодушевился. – Я сегодня же поговорю с августейшим.
И вот, не успели сосланные прожить на новых местах и нескольких дней, как последовал приказ императора вернуть всех в столицу. С той же поспешностью, по тому же холоду и слякоти, узники были возвращены назад и водворены в прежние места заключения. Однако теперь император, по совету Иоанна, значительно ослабил условия их содержания: им были предоставлены лучшие и более светлые помещения, их довольно хорошо кормили и не возбраняли общаться с посетителями, хотя и под наблюдением стражи; разрешалось передавать одежду и еду в любом количестве, также и книги, после просмотра их тюремщиками; только по-прежнему строго следили за перепиской.
– Думаю, государь, – сказал Грамматик, – что можно продержать их так до весны и весь пост. А после Пасхи начнем.
В это же время в Константинополь были доставлены и некоторые новые арестанты – в основном игумены провинциальных монастырей, а также несколько епископов, – и они содержались более строго, нежели возвращенные повторно. Император приказал привезти в столицу и Сигрианского игумена Феофана – об этом попросил Грамматик.
– Ты надеешься обратить его? – спросил Лев.
– Почему бы и нет? – ответил Иоанн. – В любом случае, я бы хотел пообщаться с автором такой прекрасной исторической хроники, – он чуть заметно улыбнулся. – У меня есть к нему кое-какие вопросы.
Эконом Великой церкви с нетерпением ожидал, когда с Афусии привезут скевофилакса, надеясь поговорить с ним и обратить к общению с иконоборцами сразу же, не дожидаясь Пасхи.
– Он должен согласиться! – сказал Иосиф патриарху. – Он сам говорил мне, что если б иконы разрешили почитать, то он бы присоединился к твоему святейшеству.
Но вскоре с Афусии пришла весть от настоятеля тамошней обители, куда под надзор сослали Константина. Игумен писал, что доставить узника обратно в столицу никак невозможно: скевофилакс через несколько дней по прибытии на остров внезапно занемог и слег в сильной горячке, а на третий день скончался. «Мы похоронили этого нераскаянного еретика за монастырской оградой. Да избавит всемилостивый Господь нас всех от такой ужасной смерти!» – так оканчивалось письмо.
…Несколько новых заключенных были доставлены из многочисленных монастырей, располагавшихся в окрестностях Вифинского Олимпа. Среди них был и игумен Пеликитской обители Макарий – невысокий седовласый старец с морщинистым лицом, будто выточенным из желтой кости. Его посадили в одну из темниц Фиалы, и сначала император послал к нему асикрита с предложением вступить в общение с иконоборцами, при согласии обещая всяческие почести и дары, а в противном случае угрожая бичами и заключением. Макарий в ответ усмехнулся и сказал:
– Это для вас, может быть, почести и дары – приобретения, а для нас приобретение – страдать за благочестие. Я предпочту страдать и, если надо, умереть, но от почитания святых икон не откажусь. Передай государю, господин, что он напрасно надеется прельстить меня тленными почестями мира сего. Я отрекся от мира и сластей его еще в молодости, а сейчас я уже, как видишь, старик и скоро сойду в могилу, – и вы пытаетесь соблазнить меня, словно я юноша, падкий до наслаждений? Вы, должно быть шутите, в противном случае я бы усомнился в здравости вашего ума.
Узнав об ответе Пеликитского игумена, Лев махнул рукой и велел «передать его философу». Макарий был переведен в Сергие-Вакхов монастырь, где его почти месяц держали впроголодь в темном подвале, а затем привели в «приемную» келью, где его ждал Грамматик. Войдя и увидев икону Богоматери в углу над столом, Макарий неспешно, с поклоном, перекрестился на нее, не выказав никакого удивления, а затем спокойно взглянул на Иоанна и спросил:
– Господин Иоанн, здешний начальник, насколько я понимаю?
– Он самый, – ответил Грамматик. – Я рад приветствовать тебя здесь. Садись, отче.
Макарий сел, и по тому, как тяжело он опустился на скамью, Иоанн понял, что сил у узника осталось маловато. Лицо старца за дни пребывания в подвале приняло землисто-безжизненный оттенок, но темные глаза остро поблескивали из-под густых бровей. Грамматик, стоя у стола напротив, некоторое время молча оглядывал игумена, но Макария это, казалось, нисколько не смущало; он сидел и спокойно ожидал, что будет дальше.
– Мне, право же, очень прискорбно, почтенный отец, что ты содержишься в таких нехороших условиях, – заговорил, наконец, Иоанн. – И мне известно, что от предложения августейшего государя, следствием которого могло бы стать значительное улучшение этих условий, ты отказался. Так?
– Совершенно верно.
– Ты, насколько я знаю, заявил посланцу августейшего императора, что не желаешь отрекаться от почитания икон, презираешь тленные почести и предпочитаешь «страдать за благочестие»?
– Я и теперь готов повторить это.
Макарий отвечал негромко и неторопливо; в его манере говорить чувствовалась привычка к немногословию.
– Мне, признаюсь, не очень понятен твой ответ. Конечно, было бы странно, если бы столь почтенный отец, состарившийся в монашестве, действительно соблазнился чем-то преходящим и недостойным внимания людей духовных, – улыбка тронула губы Иоанна. – Но зачем устраняться от общения с императором и патриархом? Ты не хочешь вступать в общение с ересью, но разве августейший – еретик? Он благочестив и православен, как всем известно, и в этом легко увериться. Взгляни – даже здесь у нас висит икона, на самом видном и почетном месте, никто ее не осквернил и не сжег. Августейший тоже бывал здесь, но, как видишь, икона осталась на месте. Хотя перед ней тут не возжигают лампад, но если вспомнить, что некоторые святые отцы вообще порицали изготовление икон, то государь, снисходя к человеческой немощи тех, кто смущается почитанием образов, не сделал ничего нечестивого. Итак, по моему мнению, никакого препятствия к общению между нами и вами не существует, и мне непонятна причина твоего упорства, из-за которого – а вовсе не из-за благочестия – ты терпишь такие неудобства.
Макарий несколько мгновений пристально глядел на Грамматика, усмехнулся и сказал:
– Я слышал, что ты софист, Иоанн. Теперь вижу, что слух этот верен. Ведь некто от древних определил софиста как человека, наживающегося «при помощи искусств словопрения, прекословия, спора, сражения, борьбы и приобретения». Но я не любитель такого рода искусств, поэтому отвечу тебе просто. Что государь безумствует против благочестия, явно из тех зол, которые он уже соделал против исповедников веры. Ведь не частным образом и не на краю вселенной, но в государственном порядке и повсюду христиане терпят всякие ужасы за то, что не хотят признать ваш догмат, а потому твоя хитрость меня не убедит. Икона у тебя здесь висит, это правда, и я не удивлюсь, если в здешних помещениях найдутся и другие святые образа. Но что из этого? Вы не чтите их даже тайно! Вы собираете их или чтобы сжечь, или чтобы прельщать своей лисью хитростью простодушных. Ты можешь лгать тут, сколько угодно, но знай, что чем больше будешь ты восставать против моих убеждений, тем крепче они во мне будут. Так что подумай, стоит ли продолжать, и не лучше ли отвести меня снова туда, где я еще с утра находился.
– Замечательно! – воскликнул Грамматик. – Я, право, слушал тебя с наслаждением, почтенный отец. Правда, я не совсем понял, чем именно я «наживаюсь» при помощи искусства словопрения, но оставим, ведь самооправдание не к лицу монаху. Гораздо интереснее для меня вопрос об «ужасах», которые претерпевают, по твоим словам, «благочестивые христиане». Полагаю, ты согласишься, что правильное отношение к иконам – дело благочестия?
– Безусловно.
– Прекрасно. Мы сейчас не будем с тобой выяснять, какое именно отношение к иконам является правильным. Наше мнение вам известно, так же как нам – ваше. Поэтому предлагаю тебе рассмотреть другой вопрос: как должен себя вести император, если он действительно желает быть защитником благочестия и противником злочестия, по отношению к людям, которые представляются ему нечестивыми? Начальник ведь «не напрасно носит меч»?
– Ты хочешь сказать, что для императора мы – злочестивы, а потому он правильно поступает, мучая иконопочитателей?
– Ты понял мою мысль. Но я должен заметить, что у тебя – как, впрочем, и у твоих собратий – налицо явная склонность к преувеличению. «Ужасы», «мучая»…
– Что же, разве не ужасы – все эти тюрьмы, ссылки и бичи, и это только потому, что люди верят иначе, чем вы! – сказал Макарий с некоторой горячностью.
– Как хорошо, что ты сказал это слово, почтенный отец! – Грамматик сел в кресло напротив узника и продолжал, в упор глядя на него. – Тюрьмы, ссылки и бичи, говоришь ты. А вот скажи-ка мне, отче, как по-твоему, прежний император, государь Михаил, был благочестив?
– Конечно.
– Очень благочестив или не очень?
– Думаю, всякому можно пожелать такого благочестия.
– Optime! – воскликнул Иоанн и улыбнулся. – Это я по-латыни. Я хотел сказать: прекрасно, что ты так недвусмысленно выразился. А теперь, почтенный отец, вспомни, как этот благочестивый государь обошелся с теми, кто верили иначе, чем вы и мы, – злочестивыми павликианами и афинганами, – и подумай, можно ли, в сравнении с теми мерами, действительно назвать «ужасами» то, что претерпевают ныне твои единоверцы.
– Это была ошибка государя Михаила, – сказал Макарий, помолчав. – Но он скоро исправил ее.
– Значит, ты все же считаешь, что те меры были приняты неправильно?
– Да, неправильно. Еретиков, как бы ни были они нечестивы, убивать нельзя.
– А изгонять или ссылать их можно?
– Думаю, что можно, если они соблазняют слишком много народа.
– Что ж, в таком случае, ты должен признать, что нынешний государь поступает вполне благочестиво, подвергая иконопоклонников тому, что ты зовешь «ужасами».
– Это было бы правильно, господин софист, – сказал Макарий с усмешкой, – если бы благочестие состояло только в благих намерениях. Но есть еще такая вещь, как истинные догматы. И по отношению к ним не могут быть правы одновременно и принимающие их, и отвергающие. В Писании сказано: «Горе тем, которые разумны сами пред собой». Боюсь, что это сказано именно про тебя. А государь… Государя жаль! Быть может, он выбирал себе советников из добрых побуждений, но этот выбор доведет его до гибели, – старец поднялся. – Прощай, Иоанн. Полагаю, говорить нам больше не о чем.
9. Игумен Великого Поля
Что всего мудрее? – Время, ибо иное оно уже открыло, а иное еще откроет.
(Фалес Милетский)
Грамматик пристально оглядел стоявшего перед ним высокого монаха. Тот был почти совсем седой, слегка сгорбленный, однако можно было понять, что в молодости он отличался красотой и статностью. Теперь он был изможден болезнью, и на его желтовато-бледном слегка припухшем лице читался отпечаток долговременного страдания. Хотя монах старался держаться прямо, Иоанн сразу заметил, что он с трудом стоит на ногах. Старец смотрел на Грамматика сумрачно.
– Привет тебе, господин Феофан, – сказал Иоанн.
– Привет и тебе, – ответил тот.
– Садись, – Иоанн указал ему на скамью, а сам сел на стул напротив. – Я знаю, ты недавно прибыл из своей обители. Как там у вас идет монастырская жизнь?
– Полагаю, господин Иоанн, – ответил Феофан, почти упав на скамью и невольно морщась от боли, – меня привели сюда не для того, чтобы ты расспрашивал меня о моем житьи-бытьи. Вряд ли тебе это может быть интересно.
– Вот как, – усмехнулся Грамматик. – Не слишком любезно! Впрочем, тебя, видимо, вывели из себя императорские посланцы.
– Скорее, это я их вывел из себя, – насмешливо сказал Феофан. – Трижды приходили и каждый раз удалялись недовольные и разгневанные. Да ведь ты это знаешь, чего комедию играть? Им не удалось переломить, так теперь тебя привлекли, не так ли?
– Не совсем, господин Феофан, не совсем. Я вовсе не собираюсь тебе предлагать обогатить твое Великое Поле, построить там храм побольше и кельи попросторнее или соблазнять почестями. Мне не хуже тебя известно, что это суета, недостойная монаха. Но ты, видно, считаешь меня законченным злодеем, с которым уж и говорить не о чем?
– Законченным злодеем я тебе не считаю, но если ты мечтаешь убдить меня в вашей ереси, то лучше не трудись – в этом случае говорить нам действительно не о чем.
– Достойный ответ исповедника веры! – воскликнул Грамматик. – Но, быть может, я вовсе не собираюсь переубеждать тебя, а, напротив, сам хочу убедиться, где же истина. Неужели и тогда ты не захочешь говорить, не протянешь мне, так сказать, руку помощи?
Феофан взглянул на Иоанна, опустил глаза, помолчал и сказал:
– Это всё старые ваши песни. Государь Лев под тем же предлогом хотел устроить наш диспут с еретиками… Не о чем тут говорить! Всё уже сказано на соборе, всем известно и пересмотру не подлежит.
– Решительно всё сказано?
– Всё.
– Ладно, будь по твоему, господин Феофан. Я не стану вступать с тобой в долгие диспуты, не буду оспаривать и деяния Никейского собора. Но позволь мне задать тебе один вопрос. Всего один! Мне бы хотелось его уяснить для себя, узнать вашу точку зрения. Мне действительно важно это знать.
Феофан некоторое время молчал, нахмурившись, а потом сухо спросил:
– Что за вопрос?
– Где находилось божество Христа, когда плоть Его была во гробе?
Монах взглянул в лицо Грамматика, глаза его гневно сверкнули.
– Божество повсюду, кроме твоего сердца, враг Божий!
– Ну-ну, – усмехнулся Иоанн. – Не надо риторики, мы не в театре. Божество, конечно, повсюду, но мы ведь не кланяемся всему подряд, не правда ли? И если я – «враг Божий», то не запишешь ли ты вместе со мной и святителя Григория Богослова?
– Господин Иоанн, – холодно ответил Феофан, – ты умен, да ведь и я не глуп. И скажу тебе без риторики: предоставь глупцам восторгаться твоими доводами. Из слов святителя о душе «посредствующей между божеством и грубой плотью» – ведь ты именно эти слова имел в виду, не так ли? – еще нельзя сделать вывод, что плоть Господня сама по себе не была соединена с божеством и обожена. И не «плоть была во гробе», а Христос Бог пребывал во гробе плотью. Или ты не видишь здесь разницы? Это было бы странно, коль скоро ты так умен, как о тебе говорят! Было ли божество распято на кресте?
– Конечно, нет.
– А Бог – распялся ли за нас Христос Бог или нет, скажи-ка мне, великий софист! Или, может, по-твоему, Христос не был Богом вовсе?
– Знаешь, отче, – сказал Иоанн спокойно и даже как бы несколько задумчиво, – чем больше я общаюсь с твоими единомышленниками, тем чаще мне приходит мысль, что высшей добродетелью многие из вас считают красноречие, причем красноречие такого рода, которое, по слову Платона, «прекрасным никак не назовешь». Ты сам только что сказал, что божество вездесуще, но если я тебе предложу поклониться, скажем, вот этому столу, ты, конечно, откажешься. Таким образом, вы сами признаёте, что вездесущие Бога еще не повод поклоняться всему подряд. Поэтому, чтобы решить занимающий нас вопрос, следовало бы разобрать, какое именно пребывание во гробе имеется в виду… Да и вообще, много разных вещей следовало бы разобрать. Впрочем, я понял тебя, великий упрямец, – Иоанн встал. – И скажу тебе без всякой софистики: к сожалению, отец игумен, ты более не увидишь своего Великого Поля.
– Испугал! – воскликнул Феофан насмешливо. – Не знаю, за какие и сколь великие поля ты, несчастный, продал православие и свое спасение, а я готов и с жизнью расстаться, только бы предстать на суд Божий с неповрежденным исповеданием веры.
– Любите же вы, иконопоклонники, ссылаться на суд Божий, говорить о смерти за веру! – усмехнулся Грамматик. – Можно подумать, будто вечное спасение у вас уже в сундуке под вернейшим замком. Гляди, отец игумен, как бы тебе не оказаться окраденным!
– Благодарю за дельный совет, – кротко ответил Феофан. – Позволь и мне отплатить тем же и напомнить тебе слова великого богослова, на которого ты так любишь ссылаться: «Переносите всякий ущерб, касающийся имущества или тела, одного только не потерпите – чтобы понесло ущерб учение о Божестве». И прощай… В этой жизни мы уже вряд ли увидимся.
Феофан с трудом поднялся со скамьи.
– Ты хочешь сказать, что в будущей мы всё же можем увидеться? – насмешливо спросил Иоанн.
Старец поднял на него глаза.
– Этого я не могу сказать, я не всеведущ. Но ты сам знаешь, от чего это зависит.
– А ты хотел бы такой встречи?
– Я хочу того, чего хочет Бог. А Он хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание истины.
– Всё это замечательно, – усмехнулся Грамматик, – но хотел бы я услышать, что сказали бы твои единоверцы, если бы действительно попали в царство небесное, а попав, встретили бы там… скажем, государя Константина Исаврийского!
– Это невозможно, он умер в ереси.
– Допустим. Но – скажу, встав на вашу точку зрения и предположив, что вы православны, – вдруг бы узналось, что перед самой смертью он покаялся во всем… во всех своих, как вы говорите, нечестиях, пролил слезы раскаяния, как разбойник на кресте, – и спас его Бог! Разве такое невозможно? И что тогда? Подозреваю, многие из твоих друзей тогда бы завопили: «Не хотим в один рай с треклятым Навозником!..» Да вы и между собой договориться не в силах, как же вам прощать врагов? О том, чтобы учение о Божестве ущерба не потерпело, вы печетесь, но где вам победить, когда для вас собственные собратья – хуже неверных!
– О чем ты? – Феофан взглянул на Грамматика с недоумением.
– О чем? О том, что «патриарх и митрополиты вместе с императором стремились к миру, злые же советники с Феодором, игуменом Студийским, разоряли его». И о том, что «не пекущийся о домашних отрекся от веры, согласно Павлу, и судится хуже неверного».
Феофан побледнел и вновь опустился на скамью. Глаза Иоанна впились в его лицо, как два стальных лезвия.
– Не ожидал? – Грамматик рассмеялся. – Да, я прочел твое сочинение. Потрудился ты много, почтенный отец… О, мойры, мойры, злая Фемида, что за шутки играете вы с нами! Ты вот теперь согласен потерять свое Великое Поле, идти в ссылку, разлучиться с братиями… Но что же братия-то без тебя? Кто их пасти будет, наставлять на спасительные пажити? А ведь ты сам писал: «Богу угодно, чтобы спасались многие, а не немногие. Терпеть же большой ущерб ради малой выгоды – дело верховного безрассудства». Не это ли безрассудство овладело тобой, отче? Но ты, конечно, скажешь, что догматы веры надо предпочесть всему. Похвально, весьма похвально. Но как мойры коварны! «Лев, патрикий и стратиг Анатолика, благочестивый и мужественнейший и всеми признанный способным править царством», – не твои ли это слова, отец игумен? Как же теперь ты и твои собратья ни благочестия, ни способности править у государя не признают? Впрочем, прав был Эсхил:
Иоанн замолк, пристально глядя на старца. Но Феофан молчал, опустив глаза в пол, всё такой же бледный.
– Да, господин Феофан, – продолжал Грамматик, – ты должен признать, что выстрелил не в того. В кого ты целил? Кого ты величал злым и «хуже неверного»? Да если б не он, в ваших рядах уже почти никого не осталось бы! Ты, Феофан, говоришь, что ты не глуп. Нет, ты глуп, как большинство людей. И глупость ваша заключается в том, что вы видите перед собой только текущие цели, текущее положение дел. Я знаю, ваш Никифор назвал государя «хамелеоном». Но вы и сами хамелеоны. Сейчас, когда власть повернулась против вас, вы вопите: император не должен вмешиваться в дела веры! Какая жестокость – преследовать и ссылать за то, что люди по-другому верят! Итак, это плохо – преследовать за веру?
– Плохо, – тихо ответил Феофан.
– Не по-христиански? Ведь как там, в Писании: «Сын Человеческий пришел не губить души человечески, а спасать». Не так ли?
– Так.
– Значит, государь, отправляющий, скажем, тебя в ссылку, «не знает, какого мы духа»? Но вы-то сами – знаете, какого вы духа? Или только сейчас узнали?
– Что ты имеешь в виду?
– Что? Вот: «Подвигаемый великою ревностью о Боге, благочестивейший император, по внушению святейшего патриарха Никифора и прочих благочестивых мужей, объявил смертную казнь манихеям, павликианам, афинганам во Фригии и Ликаонии, но был удержан от этого другими советниками под предлогом покаяния, но погрязшие в этом заблуждении никогда не могут раскаяться». Чьи это слова?
– Мои, – тихо ответил Феофан, снова побледнев.
– Именно! Твои. А теперь переиначим их слегка: «Подвигаемый великою ревностью о Боге, благочестивейший император, по внушению благочестивых мужей, объявил смертную казнь иконопоклонникам, но был удержан от этого другими советниками под предлогом покаяния, но погрязшие в этом заблуждении никогда не могут раскаяться». В чем отличие? Почему их можно было преследовать, а вас нельзя, коль скоро и то, и другое есть преследование за веру? А то, что «не могут раскаяться», ты и сам подтверждаешь собственным примером. Притом, как видишь, я тут время трачу, пытаюсь тебя переубедить… Если же действовать по-вашему, то к чему церемониться: смертная казнь, и делу конец! Так не выхо́дите ли вы тут этими самыми «хамелеонами» – вы и ваш Никифор? И мы ведь с тобой, господин Феофан, хорошо знаем, кто были эти «другие советники», которые тогда удержали августейшего Михаила. «Злые советники», не так ли?
Феофан молчал.
– Молчишь? Что ж, думай, думай. Поразмышляй, например, о том, какое будущее вас ждет, вас и вашу эту «святую борьбу», коль скоро у вас в числе «злых советников» оказался человек, который как раз всегда был последователен и не хамелеонничал!
Игумен поднял глаза на Грамматика, и некая решимость засветилась в его взгляде. Он медленно встал, поклонился Иоанну в пояс и сказал тихо:
– Благодарю тебя, господин Иоанн, за обличение. Я действительно совсем не хороший человек, ты прав. Ты прав во многом, Иоанн, но не тебе судить меня. Суд Божий истинен не только потому, что Господь праведен и всеведущ, но так же и потому, что Он милостив.
– А я немилостив, значит? – усмехнулся Грамматик.
– Да, нет в тебе милости. Светильник без елея… Может быть, в этом твое главное несчастье… Ну, прощай!
Когда стражи со всяческими поношениями водворили Феофана в тесное сырое помещение в подвале Сергие-Вакхова монастыря, куда император приказал заточить исповедника, старец, казалось, даже не слышавший ругани в свой адрес и не чувствовавший злобных тычков в спину, упал на лавку и долго, долго сидел без движения, закрыв глаза. Его келейник, заключенный вместе с ним, с плачем стал целовать руки игумена и проклинать иконоборцев, но Феофан сказал:
– Помолчи, чадо. Молись лучше, чтобы Господь дал нам видеть свои грехи.
Всю ночь он молился, лежа и стараясь не шевелиться – так меньше болели почки, – а на другой день попросил у принесшего еду монаха чернил и пергамента.
– Не велено! – ответил тот сухо.
Губы Феофана дрогнули, и келейник, следивший за выражением его лица, вдруг бросился к ногам их тюремщика в рясе и воскликнул:
– Христа ради, отче! Принеси отцу то, что он просит!
Монах смутился и ответил, немного поколебавшись:
– Хорошо, завтра попробую.
Наступившую ночь игумен опять почти целиком провел в молитве и заснул уже на рассвете. На другой день страж вместе с едой принес пергамент и чернильницу с пером, строго сказав, что заберет всё обратно после того, как узник напишет то, что собирался. Феофан перекрестился и при светильнике, чей скудный огонь был единственным источником света в этом подвале, принялся за письмо.
…20 апреля, в самый день Пасхи, император подписал указ, согласно которому все заключенные иконопочитатели, сколько их к тому времени было в столице, передавались в полную власть Сергие-Вакхову игумену: Иоанн получил право размещать их по тюрьмам так, как считает нужным, и тюремщикам предписывалось слушаться его указаний насчет обращения с этими узниками. Уже на следующий день арестанты были переведены в подземные камеры тюрем Претория и Фиалы, а некоторые заключены в подвалах Сергие-Вакховой обители. Всё это были чрезвычайно мрачные сырые помещения, не только без столов и лежанок, но даже и без подстилок, так что спать приходилось прямо на земле или на каменных плитах; через узкое отверстие заключенным раз в день бросали по куску плесневелого хлеба и подавали немного воды в сосуде, и та была тухлая. Все книги и вещи у них отобрали, никаких встреч с посетителями и передач не дозволялось, а тюремщикам было строго запрещено разговаривать с заключенными. Так их продержали до начала мая, ничего не объясняя и ничего не требуя, а затем стали по одному вызывать к Грамматику. Игумен принимал их всё в той же гостевой келье, где каждому узнику предлагалось небольшое угощение – финики, сушеный виноград, орехи и немного вина, – от которого, впрочем, все заключенные отказались. Весна была в самом разгаре, и келью наполняло благоухание роз, а через окно на стол вползали ветки винограда, увивавшего стену здания. Грамматик не вел никаких бесед, никого ни в чем не убеждал и не предлагал никаких вопросов, но каждому узнику говорил только одно:
– Мне чрезвычайно жаль, почтенный отец, что ты, как и твои собратья, подвергаешь себя таким печалям и неудобствам. Да будет тебе известно, что мы ничего иного не требуем от вашей честности, как только вступить в общение со святейшим патриархом Феодотом, после чего каждый из вас сможет тут же отправиться в свой монастырь и жить там совершенно свободно – со своей верой и мнением. Итак, подумай, господин, так ли многого мы от вас требуем, и не гораздо ли больше мы вам уступаем.
После этого узника тут же уводили обратно в тюрьму. Некоторые игумены и монахи сломались на другой же день после визита к Иоанну и дали подписку, после чего действительно были отпущены. Но большинство пока продолжало «упорствовать».
10. «Это ничего не значит»
(Владимир Высоцкий)
- И будут вежливы и ласковы настолько —
- Предложат жизнь счастливую на блюде.
- Но мы откажемся – и бьют они жестоко…
- Люди, люди, люди!..
Иоанн, хоть и поддержал меру, предложенную экономом для завлечения иконопочитателей в общение с патриархом Феодотом, в целом отнесся к новому повороту церковной политики довольно прохладно: ему было интереснее беседовать с противниками и привлекать их к своему образу мыслей, нежели просто предлагать «один раз вступить в общение, а потом идти, куда угодно, со своим мнением». Поэтому с середины мая беседы с заключенными, по поручению императора, стали чаще вести Антоний Силейский, эконом Иосиф, протопсалт Евфимий и кое-кто из образованных синклитиков. Особенно больших успехов добивался Иосиф: за две недели он склонил к общению не только некоторых прежде упорствовавших иконопочитателей из мирян, но и нескольких игуменов и десятка два влиятельных монахов. Император велел епископу Антонию встретиться со студитами, которые были схвачены Великим постом и содержались в тюрьме Претория, и предложить им вновь наладить жизнь в Студии в обмен на причащение с Феодотом. Лев надеялся, что если затея удастся, в монастырь постепенно станут подтягиваться и другие братия, а это, в свою очередь, ослабит иконопочитательский лагерь в целом.
– Но если они заупрямятся, дайте им бичей! – сказал император, завершая разговор с епископом, и нахмурился.
Антоний отправился в Преторий в сопровождении двух спафарокандидатов и одного из императорских асикритов, а также начальника тюрьмы патрикия Арсафия. Для встречи с ними десятерых студитов собрали в одно из тюремных помещений. Антоний сел в приготовленное ему кресло, его спутники разместились рядом на стульях, а Арсафий в углу.
– Здравствуйте, отцы! – сказал Антоний, оглядев приведенных узников.
В ответ монахи молча слегка поклонились ему.
– Кто из вас тут старший? – спросил епископ.
Среди братий возникло шевеление, и вперед вышел монах лет сорока, среднего роста, худощавый, с открытым круглым лицом.
– Это Евфимий, – сказал начальник Претория, – тот самый, что был пойман при попытке пробраться в Студий.
– Вот оно что, – протянул Антоний. – Это у тебя, значит, было изъято письмо Феодора? Никак ваш игумен на может успокоиться! Дождется, что его исполосуют воловьими жилами!
Монахи молчали.
– Ладно, – сказал Антоний, – полагаю, у вас всё же своя голова на плечах, а потому оставим Феодора и поговорим о вас и вашей обители. Государь послал меня к вам вот с каким предложением: если вы вступите в общение с патриархом, то сможете не только вернуться в свой монастырь и жить там, как прежде, но и верить, как вам угодно, то есть оставить в храме и в кельях иконы, если уж вы никак не можете с ними расстаться. Как видите, мы идем на самую крайнюю меру снисхождения, чтобы заблудшие могли примириться с Церковью! Итак, как вы смотрите на это предложение?
– Странное какое-то предложение, – сказал монах Дорофей. – Если мы – «заблудшие», то в чем, по-вашему, состоит наше заблуждение, как не в поклонении иконам? И вы разрешаете нам поклоняться им, при этом предлагая общение с вами? Это верх нелепости! Общение в таинствах предваряется единомысленным исповеданием, а у вас, получается, возможно общение и при разномыслии? Святые отцы никогда не учили такому! Или мы будем мыслить одинаково с вами – чего да не будет! – или вы должны вместе с нами воздать честь святым иконам, но этого ведь тоже не будет, не так ли?
– Нет, не будет! – ответил Антоний. – Вы извратили православное учение о почитании церковных символов, и мы ваше мнение отвергаем. Но, повторяю, мы идем на меру крайнего снисхождения к вам, надеясь, что постепенно благодать Божия исправит вашу немощь и вы придете к тому же мнению, что и мы.
– Вот как? – сказал монах Стефан. – Значит, всё же подразумевается, что впоследствии мы должны полностью принять вашу веру? Но в чем же мы «извратили» церковное учение?
– Вы считаете, что Бога можно изобразить, но это невозможно! – сказал асикрит.
– Мы считаем, что можно изобразить Бога по плоти, – возразил брат Афродисий. – Христос стал подобным нам человеком, а потому Его можно изобразить, как любого из нас.
– Нет, не так, – сказал один из спафарокандидатов. – Христос есть не только человек, но и Бог, а потому изобразить его всё же нельзя, потому что в таком случае вы изображаете одну только плоть, отделяя ее от божества, а это – несторианство!
– Ты ошибаешься, господин, – тихо и немного хрипло проговорил брат Иперехий; простудившись в сырой холодной камере, он то и дело кашлял. – Мы изображаем не плоть Христа, а Его ипостась, а она неделима.
– Да, ведь и на кресте страдала только плоть, а не божество, но мы говорим, что Бог пострадал во плоти! – сказал монах Аммон.
– Совершенно верно, – улыбнулся Антоний. – Когда Христа распинали, божество Его было неотлучно от плоти. Но на иконе присутствует не Сам Христос, а только Его изображение, и нельзя сказать, что это изображение Бога, поскольку божество неизобразимо и не присутствует в иконе.
– Божество в ней присутствует! – ответил Евфимий. – Как в любом церковном символе. Во Христе всё свято, свят и Его характир, а значит, и поклоняем, когда изображается на иконе. А что его можно изобразить, это очевидно.
– Вовсе это не очевидно, – возразил епископ. – Бог-Слово воспринял в Свою ипостась человеческую природу, но если, как вы говорите, у нее есть еще и свой особенный характир, то таким образом вы вводите вторую ипостась. А это – опять ересь Нестория!
– Если Бог воспринял природу без ипостасных особенностей отдельного человека, – сказал монах Игисим, – то как могли бы Христа узнавать те, кто видел Его в земной жизни, и отличать от других людей? Это нелепо.
– Конечно, нелепо, – кивнул Парфений, самый юный из десяти студитов; у него еще даже борода не росла. – Бог-Слово принял в Свою ипостась человеческую природу со всеми ее особенностями, в том числе и с описуемостью.
– Вот еще, и этот молокосос туда же! – асикрит расхохотался. – Да ты-то что понимаешь в догматах? Как ты докажешь свои слова?
– Да он, скорее всего, и не понимает, что говорит! – усмехнулся Арсафий. – Заучил с чужого голоса и повторяет, как попугай!
– Ну же, богослов, скажи нам, почему это, по-твоему, Слово приняло в Свою ипостась природу с характиром? – ядовито спросил асикрит. – Да ты хоть знаешь, что такое характир?
– Знаю не хуже тебя, господин! – ответил Парфений запальчиво, но тут же взял себя в руки и продолжал уже спокойно. – И почему я так сказал, отвечу. Господь воплотился, чтобы спасти человека. Значит, Он должен был стать точно таким же по человечеству, как и мы, потому что, как объясняют отцы, «что не воспринято, то и не уврачевано», то и не спасено. Поэтому Он должен был воспринять плоть со всеми ее особенностями, в том числе с такими, которые отличали его от других людей. А если, по-вашему, у него была плоть без характира и неописуемая, то это какая-то другая плоть, не такая как у нас. Но если так, то Он никого из нас и не спас, и «вы еще во грехах ваших». Если же вы верите, что Он спас нас, то должны верить и в то, что плоть Его была такая же, как у нас, то есть описуемая. Видишь, господин, – монах взглянул на асикрита и улыбнулся, – всё очень просто.
Асикрит вскочил и в гневе воскликнул:
– Он еще учить тут нас будет! Довольно! Мы по горло сыты этими бреднями!
– Тихо, тихо, господин Петр, – сказал Антоний, слегка поморщившись. – Не надо так горячиться. Итак, отцы и братия, – обратился он к монахам, – вы не желаете вступить в общение со святейшими Феодотом?
– Не желаем! – ответил Евфимий. – Мы имеем законного патриарха, святейшего Никифора, и с ним состоим в общении, иного патриарха не знаем и знать не хотим. А тебе, и всем, кто держится с тобой одной ереси, – анафема!
Силейский епископ переглянулся с начальником Претория и встал.
– Жаль мне вас, братия! – вздохнул он, обводя взглядом монахов. – Вы такой же «жестоковыйный род», как и древние иудеи, и так же гневите Бога нечестивым идолопоклонством, как они. За то и пожнете теперь, что посеяли! – и он вышел из помещения, за ним последовали и его спутники.
Арсафий повернулся к одному из стратиотов, охранявших двери и произнес:
– Бичи!
Тот вышел и вскоре вернулся еще с двумя дюжими стратиотами, которые несли несколько бичей из скрученных воловьих жил – высыхая, они становились острыми, как бритвы. Начальник Претория взял их и положил рядом с собой на стол, глаза монахов невольно приковались к ним.
– Ну, – угрожающе сказал патрикий, – последний раз спрашиваю: никто не передумал? Все решительно полагают, что их спина недостаточно хороша без отметин от бичей?
– Эти отметины будут нам лучшим украшением! – ответил Евфимий.
– Вот как? В таком случае, раздевайся! Тебя первого и украсят! – и Арсафий кинул один из бичей плечистому стратиоту.
Тот размахнулся и лихо щелкнул страшным орудием. От этого звука все монахи вздрогнули. Начальник Претория с усмешкой смотрел на них. Посреди комнаты поставили две сдвинутые скамьи, стратиоты схватили Евфимия, который только успел снять мантию и параман, стащили с него хитон и, растянув на скамьях, привязали за руки и ноги толстыми веревками.
– Давай! – кивнул Арсафий стратиоту с бичом. – Пятьдесят!
Бич взлетел и опустился на спину монаха, на ней тут же вспухла красная полоса. Евфимий не издал ни звука. Удары следовали один за другим. Арсафий считал вслух. Вскоре кровь закапала на пол. Братия смотрели молча, почти у всех по лицам текли слезы. Симеон, монастырский больничник, схваченный при попытке тайно передать заключенным в Студийской обители братиям лекарства, которые сам изготовил, с ужасом думал о том, как долго будут заживать эти раны, тем более в тех условиях, в каких содержались заключенные. Парфений после двадцатого удара не выдержал и, зажмурив глаза, ткнулся носом в плечо стоявшему рядом Дорофею. Тот погладил его по голове и подумал: «Господи, если нас сейчас всех так будут бить, выдержит ли этот мальчик?! Господи, помоги Евфимию, помоги всем нам!..»
– Пятьдесят! – наконец, произнес начальник Претория.
Стратиот опустил бич и, отойдя к стене, сел на лавку отдышаться. Лицо его совершенно ничего не выражало, словно бы он выполнял рутинную работу, ничем не примечательную и даже весьма скучную. «Как кирпич какой-то», – подумал Иперехий, исподтишка глядя на него. «Мясник!» – прошептал Афродисий.
Евфимия между тем отвязали от скамеек. Кожа на спине его висела клочьями, кровь лилась ручьями. Он с трудом поднялся, и один из стратиотов кинул ему хитон.
– Ну, что, понравилось? – зло усмехнулся Арсафий и взглянул на остальных монахов. – Кто следующий?
И тут Евфимий, еще не надев хитона, повернулся к студитам, улыбнулся и проговорил:
– Не бойтесь, братия, это ничего не значит!
Лицо его в этот миг было таким светлым, что монахи ахнули. Арсафий, услышав эти слова, на мгновение опешил, а потом лицо патрикия исказилось яростью.
– Ах, ничего не значит? – заорал он. – Ну, так я тебе сейчас добавлю, еретическая гадина, идолопоклонник треклятый!
Схватив со стола новый бич, он хлестнул Евфимия, метя в лицо, но попал по плечу. Монах покачнулся и выронил хитон. Следующий удар сбил его с ног; Арсафий принялся хлестать, не разбирая, куда – по груди, по животу, по ногам; лицо Евфимий старался прикрыть руками. Наконец, патрикий отбросил бич и, подойдя, пнул исповедника носком сапога:
– Вставай, мерзкая тварь!
Евфимий попытался встать, но не смог. Арсафий хотел было опять пнуть его, но тут монах Ефрем не выдержал и крикнул:
– Оставь его, кровопийца! У тебя еще есть, над кем поиздеваться!
Патрикий повернулся к нему, сверкая глазами.
– А, так ты следующий? – он кивнул стратиотам. – Привязывайте этого!
Те схватили Ефрема, сорвали с него одежду и растянули на скамейках. Симеон с Дорофеем помогли Евфимию подняться и одеться, после чего два стратиота увели его; он едва передвигал ноги. За его спиной уже раздавался свист бича; первого стратиота сменил другой и бил сильнее, с оттяжкой, так что почти каждый удар вырывал из тела кусочки плоти.
– Пять! Шесть! Семь! – считал начальник Претория.
Весть о том, что десять братий предали анафеме Антония Силейского и были бичеваны, заключены, а затем изгнаны вон из столицы с запретом приближаться к Городу и переписываться с кем-либо об иконах под угрозой нового бичевания, некоторое время спустя дошла до Саккудиона, а оттуда в Метопу, но не только: рассказ об исповедничестве студийской братии передавался из уст в уста и распространялся все дальше. Иконопочитатели повторяли слова Евфимия: «Не бойтесь, братия, это ничего не значит!» – и воодушевлялись на дальнейшую борьбу. Феодор был потрясен и тут же написал письма всем десятерым, каждому отдельно.
«О, возвышенный твой ум! – писал он Евфимию. – О, твердость твоего сердца! Ты первый был бичуем за Христа и со Христом и после ударов поднялся окровавленный, с растерзанной плотью. Ты не испустил жалобного вопля, не пал на лицо свое, а произнес слова, которые повторяют все…» Подобные письма с похвалами игумен послал и остальным бичеванным, увещевая их в то же время не забываться, но жить трезвенно, чтобы как-нибудь не пасть и не сделать тщетным свое мученичество. Подвиг братий воодушевил игумена, и он стал писать смелее, убеждал не вступать в общение с еретиками, приводил в пример исповедников, призывал к мужеству. В первых числах июня было перехвачено одно из писем Феодора к епископу Халкидонскому Иоанну, изгнанному далеко от Константинополя. Епископ сильно страдал с непривычки к суровым условиям жизни – от природы болезненный, в ссылке он вынужден был перемогаться почти без врачебного ухода, – но не переставал при всяком удобном случае убеждать верующих не общаться с еретиками и разъяснял вопрошавшим догмат иконопочитания. В письме к Иоанну игумен называл иконоборческую ересь «подготовкой к пришествию антихриста» и ободрял епископа: «Чем больше сила нечестия у христоборцев, тем пышнее у нас торжество исповедников, совершенно не уступающих древним Христовым мученикам. Их венец да получишь и ты, треблаженный».
Прочтя это письмо, раздраженный император показал его патриарху, а потом и Грамматику. Иоанн в очередной раз пожалел про себя, что лишен возможности побеседовать со Студийским игуменом: раз отправив Феодора в ссылку, Лев не хотел возвращать его – он слишком боялся влияния Феодора, и чем дальше Студит находился от Константинополя и двора, тем спокойнее чувствовали себя император с патриархом.
– Этого увещевать бесполезно! – сказал Мелиссин в разговоре с василевсом. – В тюрьме ему самое место! А что, августейший, не сослать ли его еще подальше? А то он слишком ретиво пишет свои послания, и они слишком быстро расходятся…
…Вассиан проснулся оттого, что кто-то дотронулся до его плеча. Он открыл глаза, но с таким же успехом мог бы и не делать этого: вокруг была кромешная тьма. Снаружи доносился шум дождя, ливень был сильный. Больше ничего не было слышно, и монах уже решил, что ему почудилось, как вдруг кто-то прикоснулся к его щеке, словно ощупывая. Молниеносным движением Вассиан схватил незнакомца за руку, ощутив, что одежда пришельца была мокрой насквозь; тот молча попытался вырваться, но не смог.
– Люди добрые! – раздался жалобный шепот. – Ради Христа, не губите скитающегося монаха!
– Вот так-так! – тихо проговорил Вассиан, выпуская гостя. – Кто это к нам пожаловал, да еще в такую погоду? Погоди, брат, я зажгу огонь.
Ощупью он нашел у изголовья огниво и свечу, и вскоре желтый огонек озарил внутренность пещеры. Посреди нее прямо на земле сидел, дрожа от холода, совершенно вымокший монах, у него даже зубы стучали. Его мантия по низу была заляпана грязью, как и хитон, и местами изодрана.
– Никеец? – спросил Вассиан, оглядывая его.
Тот сначала не понял, взглянул вопросительно, но в следующий миг лицо его озарила улыбка.
– Да, да!
– Да благословит Бог твой приход, брат! – улыбнулся и Вассиан. – Откуда ты?
– Из Павло-Петрской обители. Разогнали нас, отца Афанасия взяли… Вот и скитаемся, кто где…
Тут куча ветхих, напоминающих тряпки одеял в углу зашевелилась, и из нее показалось заспанное лицо еще одного монаха.
– Кто тут? – спросил он, щурясь.
– Да вот, к нам гость из Павло-Петры, тоже изгнан за веру… Тебя как звать-то, брат? Меня – Вассиан, а его – Еводий.
– Аркадий я… А вы чьи?
– Студийские.
– О, какое счастье, что я наткнулся именно на вас! – вскричал Аркадий. – Слава Богу! Вы здесь только вдвоем?
– Нет, тут неподалеку еще наши скрываются… Но постой, надо разжечь огонь, ты же вымок совсем и замерз, так и заболеть недолго! Хорошо, что мы вчера насобирали сучьев, и они сухие…
Вскоре в пещере уютно потрескивал костер, Аркадий, завернувшись в одеяло, сидел у огня на обрубке бревна; рядом на воткнутых палках была развешана его одежда, от нее шел густой пар. Вассиан с Еводием устроились напротив на куче соломы, Еводий – с головой закутавшись в шерстяное одеяло, а другим накрыв ноги: его уже второй день знобило.
– Ну и хватка у тебя, брат! – сказал Аркадий, с улыбкой глядя на Вассиана и потирая руку. – Я думал вырвусь, да куда там… Атлет прямо!
– До монашества, – ответил тот, – я выступал на ипподроме – боролся, тяжести поднимал… Мог железный прут согнуть толщиной вот с эту палку!.. Ну, может, и сейчас могу, с тех пор не пробовал, – улыбнулся он.
– Вот как! – Аркадий любопытно взглянул на него, но не решился спросить, как тот попал в монастырь. – А я с детства в храме прислуживал, так что силач из меня никакой… Какое название хорошее ты сказал – «никеец»! Правда ведь, седьмой собор был там же, где и первый…
– Это наш отец так называет иконопочитателей, – Вассиан вдруг пригорюнился. – Эх! Отец наш… как-то он там?..
– А где он теперь?
– В Метопе, в крепости заключен. Пишет оттуда мало, больше отцу эконому, а тот уж нам сообщает, что надо. Опасно писать по нынешним временам…
– Да, – вмешался Еводий, – император, говорят, на отца игумена сильно разгневан, ну, и на нас всех тоже. Отца Навкратия того и гляди схватят, да и мы тут, как видишь, живем не с удобством…
Студиты действительно вызывали у императора и его сторонников всё больше раздражения. Где бы ни появлялись питомцы Феодора, они везде становились закваской, вызывавшей, сразу или по прошествии некоторого времени, нежелательное для иконоборцев брожение. Император и патриарх, как только узнавали, что где-либо кто-то осудил решения недавнего собора и отказался от общения с иконоборцами, приказывали прочесывать окрестности в поисках скрывавшихся студитов. Тех, кого удавалось схватить, бросали в темницы, но на свободе их всё же оставалось еще очень много.
11. Вонита
…если путь долог, не удивляйся: ради великой цели надо его пройти… если что и придется претерпеть, взявшись за прекрасное дело, это тоже будет прекрасно.
(Платон, «Федр»)
Уже пропели вторые петухи, когда раздался лязг засовов, и в темницу вошли четверо человек, двое из них держали факелы. Феодор на несколько мгновений прикрыл глаза рукой, пока не привык к свету, а потом, поднявшись, вгляделся в незваных гостей. Тех, что с факелами, он не знал; третий, сурового вида, с желтоватым лицом и темными прямыми волосами, державший в руках свернутый в трубку пергамент, также был ему неизвестен, но четвертого он узнал.
– Здравствуйте, господа! – игумен поклонился вошедшим. – Здравствуй, господин Никита! Чем мы обязаны вашему посещению?
– И ты еще спрашиваешь, мерзавец! – воскликнул желтолицый и повернулся к Никите. – Вот наглец! Всю Империю заполонил своими мерзкими воззваниями, а строит из себя невинного!
Патрикий в ответ слегка покачал головой, однако невозможно было понять, относится ли это к игумену или к возмущенному чиновнику.
– Господин Феодор, – сказал Никита, – мы прибыли возвестить тебе волю августейшего государя.
– Встань смирно и слушай, что приказывает тебе благочестивейший император! – сурово сказал желтолицый.
Феодор и так стоял смирно, поэтому не пошевелился, спокойно глядя на говорившего. Желтолиций гневно сверкнул глазами и уже хотел что-то сказать, но Никита слегка дотронулся до его плеча, указывая молчать, взял у него пергамент, развернул лист и объявил волю василевса: Феодора, за нарушение общественного порядка и распространение «богомерзкого иконопоклонства», предписывалось отправить из Метопы в крепость Вониту – если, конечно, узник не захочет покаяться и вступить в общение с императором и патриархом. При этом заключенному строго-настрого запрещалось с кем-либо видеться и рассылать письма в защиту иконопочитания.
Игумен чуть улыбнулся и сказал:
– Я охотно переменю место, ведь местом я не ограничен. Любая земля, куда бы меня ни забросили, – моя, а лучше сказать, Господня, и мое странствие служит мне наградой. Но молчать ревнителям веры сейчас нельзя, и потому я никогда не умолкну и не покорюсь такому приказу. Мне всё равно, требуете ли вы этого с угрозами или просто советуете. Апостол запрещает повиноваться человекам больше, чем Богу. Если б я согласился молчать о вере, то к чему мне было бы вообще отправляться в изгнание?
– Да как ты смеешь, мерзкая тварь… – начал желтолицый, но патрикий Никита прервал его.
– Довольно, господин Кирилл! Мы пришли сюда не ругаться, а исполнить волю государя. Воля его объявлена, но господин Феодор отказался покориться. Значит, нам нужно исполнить дальнейшее – везти его в Вониту. Собирайся, отче! Мы должны выехать отсюда на рассвете.
Их путь лежал в Анатолик: Вонита находилась к востоку от города Хоны, за сотню миль от приморской Ликии. Вместе с игуменом отправились и бывшие с ним трое братий. Путешествие прошло легко и приятно: стояли чудесные майские дни, вокруг всё цвело, дорога была сухой и ровной. Никита, бывший тайным иконопочитателем, о чем император не знал, сразу же отослал Кирилла в столицу с кратким письмом к государю, а сам сопровождал ссыльных. На пятнадцатый день прибыли в Вониту, где местные власти встретили опального игумена весьма радушно. Узнав о прибытии Феодора на новое место жительства, друзья и ученики буквально завалили его посылками с деньгами, вещами и продуктами, не было недостатка и во всем необходимом для письма. Навкратий постоянно присылал к игумену то одного, то другого из братий с разнообразными передачами, сообщая новости о положении в Церкви, которые ему удавалось узнать. Переписка Феодора, однако, еще не успела возобновиться в прежнем объеме, как он получил очередное суровое предупреждение от властей. Патрикий Никита, возвратившись из Вониты в столицу, был призван к императору и подвергнут допросу относительно всех подробностей его разговора с Феодором и о том, как прошел переезд узника в Анатолик. Хотя Никита постарался не говорить лишнего и не подставлять игумена под императорский гнев, это ему не удалось: Лев был сильно раздражен после того, как Кирилл, приехав из Метопы, в самом черном свете расписал ему «дерзость» Студита, и разговор с Никитой не заставил василевса изменить уже принятое решение. Раз Феодор не хотел молчать и прекращать переписку, это значило, что и все его монахи будут продолжать «возмущать народ», да и не только его монахи; этому нужно было воспрепятствовать.
Феодор диктовал Николаю очередное письмо, Ипатий затачивал перья, а Лукиан линовал пергамент для рукописи, когда патрикий в сопровождении троих стратиотов вошел в помещение. Все монахи поднялись при их появлении.
– Здравствуй, господин Никита, – поклонился Феодор патрикию. – Ты что-то быстро воротился.
Никита несколько мгновений молча смотрел на узника и, наконец, сказал как можно более суровым тоном:
– Император велел бичевать тебя, Феодор. Сто ударов за отказ повиноваться его повелению и не учить иконопоклонству.
– О, Господи! – проговорил Лукиан, с ужасом глядя на бич, которым слегка поигрывал один из стратиотов.
Ипатий выронил перо и ножик, а Николай, чувствуя, как у него задрожали губы, прикрыл их рукой, и посмотрел на игумена. Феодор шагнул вперед; лицо его озарилось каким-то особенным светом.
– Благословен Бог! Я давно ожидал этого! – и с этими словами он снял параман и скинул хитон.
Взорам патрикия и его спутников предстало изнуренное постами и временем тело, походившее скорее на мощи, нежели на плоть живого человека. Никита был глубоко поражен, страдание отразилось на его лице. Несколько мгновений он молчал, а затем повернулся к стратиотам, забрал у них бич и сказал:
– Выйдите! Я сам всё сделаю… Так повелел августейший. И этих выведите, – кивнул он на монахов.
– Нет, нет! – закричал Николай. – Не надо! Не бей его! Лучше меня! Ради Христа!
Он хотел кинуться к ногам патрикия, но был схвачен двумя стратиотами и силой вытащен из кельи. Третий стратиот вытолкал наружу его собратий. Лукиан беззвучно плакал, опустив голову. Ипатий только успел прошептать, проходя мимо игумена:
– Мы будем молиться, отче!
Оставшись наедине с игуменом, Никита сел на лавку и закрыл лицо руками.
– Что же ты медлишь исполнять приказ государя, господин? – спросил Феодор.
– Надевай хитон, отче, – ответил патрикий, не отнимая рук от лица. – Я не буду бичевать тебя… Это выше моих сил… Нет, нет! Пусть лучше меня самого бичуют! – и этот огромного роста широкоплечий мужчина, чьего грозного вида боялись и слуги, и домашние, и подчиненные, заплакал, размазывая слезы по загорелым щекам.
Феодор оделся, сел рядом и положил руку ему на плечо.
– Да благословит Бог твое доброе сердце, господин, – сказал игумен. – Но ведь если император узнает, тебе не поздоровится… Я, грешный, привык уже к лишениям, а вот ты вынесешь ли царский гнев?
– Я не могу, не могу! Нет! Отче, я до тебя не дотронусь… Нет, нет…
Никита опустил голову и какое-то время сидел молча, потом выпрямился и посмотрел на Феодора.
– Вот что я сделаю! На чем вы тут спите? Ага…
Никита взял с деревянного ложа кусок овечьей шкуры, служивший Феодору подстилкой, и подошел к игумену.
– Встань, отче. Император зол, как зверь, а мы будем хитры, как змеи…
И патрикий положил шкуру на плечи Феодору.
– Держи ее, отче, чтоб не упала. Ну-ка, я попробую… – и, размахнувшись, он нанес удар бичом по шкуре.
– Не больно?
– Нет, – улыбнулся игумен.
Братия, сидя в соседнем помещение вместе со стратиотами, мучительно прислушивались. Когда послышался первый глухой звук удара, Николай дернулся было к двери, но один из стратиотов тут же схватил его за плечо. Лукиан побледнел, зажмурил глаза и заткнул обеими руками уши. Ипатий уткнулся лбом в стену и, закрыв глаза, принялся молиться. Однако после первого удара всё стихло.
– Неужели смиловался? – спросил Николай с отчаянной надеждой в голосе.
Но вот опять раздался звук удара. И опять…
– Нет, нет! – шептал Николай, стиснув руки на груди; по щекам его текли слезы.
– Боже, – проговорил Ипатий, – умилосердись над отцом! Укрепи его!
Через некоторое время Никита вышел, тяжело дыша, и, бросив на пол окровавленный бич, с шумом опустился в приготовленное стратиотами кресло.
– Уф! Устал! – выдохнул он.
Николай исподлобья посмотрел на него так, что если бы взглядом можно было испепелять, от патрикия бы в тот же миг не осталось и следа. Никита равнодушно взглянул на него и кивнул стратиотам:
– А этих пока что обратно туда!
– Ну, шевелитесь! – и стратиоты тычками проводили троих монахов в келью и заперли дверь.
Войдя, Николай со стоном бросился к Феодору, который лежал ничком на ложе, покрытый одеялом.
– Отче, отче!
Феодор приподнялся, спустил ноги на пол и, виновато улыбнувшись, тихо сказал:
– Простите, чада мои, что мы заставили вас пережить такую горечь! Но не плачьте, еще не время! Хотя мне-то впору плакать, а не радоваться: не сподобился я пока принять мучение за Христа!
– Как?! – выдохнул Ипатий, а Лукиан так и сел на пол и безмолвно смотрел на игумена.
– Тебя не били? – воскликнул Николай.
– Тсс! – Феодор приложил палец к губам и показал взглядом на дверь. – Нельзя сказать, что меня не били, – улыбнулся он. – Но что меня били жестоко, сказать тоже нельзя. Если кому и досталось, так это ей! – он указал на овечью шкуру.
Братия смотрели во все глаза, всё еще не понимая. Феодор встал, взял шкуру и накинул себе на плечи.
– А! – шепотом вскрикнул Ипатий. – Понятно! Слава Богу! – он перекрестился. – Да воздаст Он господину Никите за такую милость!
– Но… кровь! Откуда кровь на биче? – спросил Лукиан.
– Господин Никита проткнул себе руку и окрасил бич своею кровью, – ответил игумен. – Сказать по правде, я поразился ему! Вот поистине Божий человек!
Когда примерно через час патрикий опять пришел к узникам, трое монахов со слезами бросились благодарить его.
– Что вы, отцы! – смущенно пробормотал Никита. – Я ничего такого не сделал… И мне еще предстоит огорчить вас… Я всё-таки должен удалить отсюда двоих. Государь велел изгнать всех братий, но одного я оставлю тебе, Феодор. Выбирай, кого.
Взгляд игумена остановился на Николае.
– Ты останешься со мной, брат. Нам с тобой еще предстоит много потрудиться… А вы, чада, – он обратился к Ипатию и Лукиану, – ступайте, и да хранит вас Бог! Не разлучайтесь друг от друга, но живите вместе: «горе единому», которого некому воздвигнуть, если он падет! Да вы всё знаете и сами. Пишите, не пропадайте. Не унывайте и не бойтесь! Будьте готовы всё претерпеть за веру! Ну, дайте, я вас благословлю, чада мои…
Братия, глотая слезы, стали собираться. Никита сказал игумену, что император повелел забрать все книги и иконы, поэтому он должен для виду взять хотя бы несколько, чтобы предъявить их государю в качестве свидетельства исполненного поручения. Феодор ответил, что патрикий может забирать всё, что найдет нужным. Никита забрал книги и иконы, а монахи отдали ему свои энколпии.
– Я должен забрать у вас и деньги, – нерешительно сказал патрикий. – Государь велел оставить тебе не более десяти номисм.
– Деньги? Да забирай хоть все, господин! – Феодор пожал плечами. – Не думает ли государь, что это для меня будет большой потерей? Если б я уповал на деньги, так зачем бы стал терпеть всё это?
Патрикий вздохнул и ничего не ответил.
– Послушай, господин Никита, – сказал Феодор, глядя, как тот складывает отобранные у них вещи в суму, – не лучше ли тебе забрать от меня и Николая? А то, неровен час, императору донесут о том, что ты поступил не совсем так, как ему хотелось, и тогда тебе не поздоровится…
Николай, услышав это, бросился к ногам игумена.
– Нет, отче, прошу тебя, не отсылай меня! Я не могу оставить тебя тут одного!
– Нет, отче, – сказал и Никита, – уж теперь что Бог даст, то и будет, а я что сделал, то сделал, и более уже не причиню вам никакой печали. Простите меня, отцы, и помолитесь за меня, грешного! – и патрикий подошел к игумену под благословение.
Последним распоряжением Никиты перед отъездом из Вониты был приказ усилить охрану узников: их по-прежнему не запрещалось навещать, но при них неотлучно находился часовой – в его присутствии узники и молились, и ели, и спали, и беседовали с приходившими. Посетителей было много, особенно монахов: приходили не только из окрестных мест, но и издалека, приносили еду и одежду, книги и писчие принадлежности. Некоторые после беседы с Феодором выражали готовность даже до смерти подвизаться за иконопочитание. «Хотя мы недостойны и дышать, – писал Феодор Навкратию, – но благой Бог к сосланным ради Него всегда внимателен, оберегает, промышляет, заботится в большей мере, чем можно было надеяться».
Вернувшись в столицу, Никита доложил императору, что исполнил всё, как он повелел, и передал ему изъятые у Феодора и его соузников книги, иконы и деньги. Лев повелел поместить книги в дворцовую библиотеку, иконы сжечь, а деньги раздать нищим.
– Надеюсь, теперь этот неугомонный станет молчаливее! – сказал он.
В это время Феодор читал только что принесенное письмо, и слезы текли по его щекам. «Слава Богу! – думал он. – Еще одна заноза вынута. И еще один исповедник просиял во вселенной!» Игумен Феофан писал ему впервые за несколько лет: связь Феодора со своим восприемником по постригу прервалась после начала смуты из-за возвращения сана эконому Иосифу. Тогда Великопольский игумен прислал Студийскому резкое письмо, где порицал его за противление патриарху и говорил, что Феодор без нужды ворошит старые дела, никого теперь не интересующие и ни к чему не служащие, кроме смуты… Феодор написал Феофану обстоятельное послание, где обосновывал свою позицию, но ответа не последовало. Ни в ссылке на острове Халки, ни по возвращении из нее Феодор доныне не получал из Великого Поля никаких вестей, несмотря на то, что несколько раз писал Феофану. Феодор печалился и не знал, как возобновить прерванные отношения… И вот, письмо, которое он уже не чаял получить, было перед ним. Оно шло окольными путями, несколько месяцев, но всё-таки дошло и очень утешило Студита.
Феофан писал, что через две недели после Богоявления императорские чиновники, прибыв в Великое Поле, вручили ему письмо василевса, просившего игумена прибыть в столицу: «Приди и помолись за нас, ибо мы отправляемся в поход на варваров». Предлог этот показался Феофану надуманным. «Разве нет в столице других молитвенников, что государь послал за мной, недостойным?» – спросил он. Но посланцы императора стали уверять, что Лев давно уже наслышан о его иноческих подвигах, а кроме того недавно прочел написанную им «Хронографию» и желает видеть ее автора и просить его благословения. Феофана забрали из обители, несмотря на то, что игумен страдал от жестокого почечного приступа и даже ходить не мог: его отнесли к повозке, а затем к кораблю на носилках. На прощание игумен собрал всю братию и преподал им наставление: не изменять православию, что бы ни предстояло – гонения или даже смерть, – и не оставлять монашеских правил, куда бы ни забросила судьба. Братия плакали. Феофан взял с собой только своего келейника Анатолия. По приезде в столицу им определили местом жительства монастырь Сергия и Вакха. Там поминали нового патриарха, поэтому в храм Феофан не ходил и молился в келье вместе с Анатолием. Прошло три дня, и Лев через одного архонта пригласил игумена на воскресное богослужение в храм Святой Софии, с тем чтобы после литургии просить у старца благословения и молитв и пригласить его к праздничной трапезе. Феофан ответил императорскому посланцу, что сожалеет, но никак не может присутствовать на богослужении в Великой церкви, поскольку не может сослужить с неправославным патриархом. Уже на следующее утро игумен обнаружил, что дверь в келью, где жили они с Анатолием, заперта снаружи. Около полудня монах, принесший скудную пищу, на вопрос келейника ответил, что дверь отопрут и вообще отпустят их куда угодно, если они побывают на богослужении в Святой Софии и причастятся вместе с патриархом Феодотом.
– Что ж, – сказал Феофан, – посидим взаперти.
В понедельник к нему пришли люди от василевса и требовали вступить в общение с патриархом.
– Не знаю никакого патриарха, кроме святейшего Никифора, – ответил игумен, – а с ним я общения никогда не прерывал.
Разговор продолжался в том же духе и ни к чему не привел; чиновники ушли, пригрозив жестокой карой. Они приходили еще два раза, с перерывами в несколько дней, и диалог повторялся почти без изменений. В третий раз они попытались соблазнить одного келейника, но тот попросту заткнул пальцами уши и закрыл глаза. Тогда логофет в сердцах дал ему несколько пощечин, после чего их с Феофаном вновь заперли, а на другой день перевели в одно из подвальных помещений, где держали на хлебе и воде. От боли в почках игумен лежал, почти не вставая. Келейник крепился, хотя по ночам Феофан, который спал мало, иногда слышал, как Анатолий тихо всхлипывает, свернувшись под мантией на тонкой подстилке в углу. Так прошло около месяца, и вдруг однажды ночью они услышали как по соседству словно бы раздается пение. Келейник приложил ухо к стене и прислушался.
– «Се, Жених грядет в полуночи», – прошептал он. – Отче, там кто-то есть и поет «Се, Жених»!
– Значит, мы не одни тут посажены молиться о благоденствии императора, – усмехнулся Феофан.
Через два дня от носившего им пищу монаха, благорасположенного к ним, хотя и боявшегося нового игумена Сергие-Вакхова монастыря, они узнали, что рядом с ними в том же подвале заключен экзарх константинопольских монастырей игумен Далматский Иларион. А спустя неделю Феофан был вызван для разговора к Грамматику.
Обо всем этом Феофан кратко рассказал в письме Феодору, а в конце, упомянув об угрозах иконоборцев и о вопросе Иоанна насчет божества Христова, писал: «Ты, может быть, удивишься, отче, но беседа с этим человеком приняла весьма неожиданный оборот и принесла много пользы моей бедной душе. Иоанн говорил также о разных вещах, не имеющих отношения к иконопочитанию, о которых недосуг ныне рассказывать подробно. Нельзя не признать, что этот человек умен и, пожалуй, весьма проницателен. Скажу лишь, что разговор с ним привел меня к осознанию того, что я очень виноват перед тобой, преславнейшее чадо, чьим отцом я недостоин называться. Я много осуждал тебя раньше за разные твои, как мне казалось, дерзкие деяния, но теперь вижу, что ты был прав, а я заблуждался. Прости меня, недостойного и грешного, и помолись, чтобы Господь сподобил меня совершить предстоящее поприще исповедания святой нашей и непорочной веры. Я же непрестанно молю Бога за тебя, возлюбленный мой отец, да укрепит тебя Господь шествовать по предлежащему нам поприщу скорбей, и да сподобишься вечного венца славы во царствии Божием. Брат мой Анатолий приветствует тебя и просит святых твоих молитв».
…Кассия подхлестнула лошадь, и та резво потрусила вдоль кромки пшеничного поля. Афина, небольшая вороная кобылица, была куплена, когда Кассия, едва ей исполнилось десять лет, решительно заявила матери, что хочет научиться ездить верхом. Мать с приказчиком долго выбирали, искали смирного коня; Марфа никогда в жизни не садилась на лошадь и побаивалась за дочь. Приказчик, в молодости бывший конюхом у одного патрикия, сам взялся учить юную госпожу ездить верхом. Кассия делала успехи, и на следующий год ее даже стали отпускать ездить одну. Летом, приезжая в их имение, она, бывало, по полдня не слезала с лошади, кружа по окрестным лугам и рощицам. Иногда, устав, она спрыгивала на землю и, упав прямо в траву, лежала и смотрела в небо, а лошадь паслась тут же. Стрекотали кузнечики, в воздухе стоял густой цветочный аромат, по небу плыли редкие облака, и Кассии казалось, что она тоже уплывает вместе с ними… На третье лето она, тайком от домашних, стала уезжать всё дальше – по ближним селениям и даже к лесу, в который, впрочем, углубляться опасалась. Встречавшиеся селяне провожали юную наездницу удивленными взглядами, селянки ахали, а мальчишки с гиканьем бежали следом. В одном месте, на небольшой лужайке у леса, Кассия обнаружила удобное место для упражнений: здесь была канава и несколько поваленных деревьев, лежавших почти через равные промежутки – как раз для скачки с препятствиями, а неподалеку возвышался небольшой, но довольно высокий холм, куда можно было заехать и созерцать окрестности. Кассия чувствовала себя почти амазонкой, не хватало только какого-нибудь дротика или копья…
Как-то раз она отправилась туда довольно рано поутру. До наступления жары оставалось еще несколько часов, пели птицы, бабочки разлетались из-под копыт лошади, стрекоза задела крылом по лицу Кассии, и девочка улыбнулась: было хорошо и не страшно. На подъезде к заветной лужайке она уже стала разгонять лошадь, чтобы с разбегу взять все три дерева подряд, как вдруг заметила на вершине холма всадника. Она натянула поводья и остановила Афину, которая удивленно и недовольно замотала головой. «Ладно, если что, ускачу!» – подумала Кассия и хлестнула лошадь. Когда та легко перемахнула через все препятствия, всадник спустился с холма и подъехал. Это был юноша лет восемнадцати, темноволосый, кареглазый, стройный. Его гнедой конь был норовист – ни мига не стоял на месте, перебирал тонкими ногами, косил горячим глазом.
– Привет! – крикнул юноша, подъезжая. – Ну, ты даешь! Летаешь, как птица!
– Здравствуй, – ответила Кассия.
– Как… – начал было он, но внезапно умолк и смотрел на нее, словно бы ему явилось видение.
Она нахмурилась и, повернув лошадь, немного отъехала.
– Что ты так смотришь?.. Я не статуя!
– Нет, не статуя, конечно! – улыбнулся он. – Как тебя звать?
– Кассия.
– А меня Акила. Ты оттуда? – он махнул головой в сторону Марфиного имения. – Из дома на холме?
– Да. Откуда ты знаешь?
– Мне отец говорил, что там живет вдова с дочерьми, что одну из дочерей зовут Кассия и…
– И что?
– И что она очень красивая, – улыбнулся Акила.
Кассия чуть наморщила нос.
– А я, – продолжал Акила, – только недавно приехал. Пять лет прожил в Афинах, а теперь вот буду в столице изучать философию.
– Мою лошадь зовут Афина.
– О! А моего – Геракл!
– Да, – сказала Кассия, с восхищением рассматривая коня, – он и правда такой красавец-герой!
– Твоя Афина тоже хороша! Ты давно ездишь верхом?
Они болтали довольно долго; наконец, Кассия спохватилась, что ей пора домой, а то ее потеряют, будут беспокоиться.
– Я буду здесь недели две, – сказал Акила. – Мы еще встретимся?
– Может быть.
На другой день она поехала туда же ближе к вечеру и заметила, что там кто-то уже был до нее: свежие следы копыт виднелись по обеим сторонам канавы. Акила! – догадалась она и нахмурилась. Наверное, он приезжал сюда утром, надеясь встретить ее опять. Кассия отъехала к подножию холма и задумалась. Хотелось ли ей самой встречаться с этим юношей? С ним, в общем, было о чем поговорить, и не скучно… Но если б он мог общаться с ней просто как с другом, а не как с красивой девушкой! Но он, кажется, так не мог… «Нет, лучше мне больше не видеться с ним! – подумала она. – Подожду недели три, тогда он уедет, и можно будет опять приезжать сюда… Вот несносная красота! Везде мешает… Хотя, конечно, приятно, когда тобой восхищаются, но… Нет, не буду с ним больше встречаться! Вдруг я ему слишком понравлюсь…» – и, развернув лошадь, она поехала в сторону дома.
Кассия еще год назад избрала свой путь. Это случилось осенью – второй осенью без Святой Софии, где теперь служили иконоборцы. Марфа с дочерьми больше не ходили туда, но каждый раз после посещения Книжного портика – а это бывало еженедельно – заходили к Милию и, стоя под аркой прижавшись друг другу, долго смотрели на великий храм и про себя молили Бога, чтобы православие поскорей восторжествовало.
В тот день они вышли из книжной лавки и направились к Милию, как вдруг Марфу остановила одна знакомая патрикия. Они разговорились, а Кассия быстро соскучилась, слушая их, вернулась с одной из служанок в портик и принялась вновь рассматривать книги на прилавке. Тут в сопровождении слуг вошли молодой мужчина и две девушки, одна довольно хорошенькая, а другая совсем некрасивая, но в то же время в их лицах было явное сходство: как будто по одному и тому же образцу были нарисованы два образа, но один художником, а другой – неумелым учеником. Мужчина спросил у торговца, готов ли его заказ и, узнав, что еще нет, недовольно заворчал. Торговец стал оправдываться, что «господин заказал слишком большую работу, буквицы, украшения, сами понимаете…», – и просил зайти через неделю.
– А нет ли у тебя «Лествицы» святого Иоанна, господин? – спросила некрасивая девушка.
– Есть, как не быть! Один миг! – торговец отошел к большому шкафу, открыл его и стал перекладывать рукописи, разыскивая нужную.
– Зачем она тебе, сестрица? – спросила другая девушка. – Ведь это для монахов!
– Да, – ответила та тихо, – но ведь мне уже надо готовиться…
– Что, всё-таки решила в монастырь?
– Да, решила.
– Готовиться так готовиться! – весело сказал их спутник. – Я тоже думаю, что прежде чем что-то предпринимать, надо справиться у знающих людей, каково это будет. Глядишь, узнаешь, как приходится жить монахам, так и передумаешь! – он рассмеялся.
Некрасивая девушка ничего не ответила, взяла у торговца книгу, полистала, спросила, сколько стоит, развязала висевший на поясе кожаный кошелек и стала отсчитывать монеты. Торговец завернул книгу в холщовый лоскут, и мужчина положил ее в суму, которую держал один из слуг, после чего все они вышли из портика. А Кассия неподвижно стояла над раскрытой рукописью Златоуста.
«Готовиться!» Это слово из подслушанного чужого разговора поразило ее, как молния. Оно прозвучало словно ответ на мысли, уже давно бродившие в ее голове. С детства часто общаясь со студийскими монахами, слыша об их подвигах и борьбе за церковные каноны, она восхищалась ими: монахи казались ей героями, кем-то вроде христианских Геракла и Гектора. Иногда она мечтала, как тоже примет монашество и будет «подвизаться за правду Христову». Но периоды восторженных мечтаний сменялись временами сомнений. Ведь, с другой стороны, она знала, что монахи живут по очень строгим правилам, по раз и навсегда заведенному распорядку, который они не могут нарушить, и это немного пугало ее. Хотя ее жизнь текла, в общем, достаточно размеренно и вовсе не беспорядочно, но всё же она могла в то или иное время заниматься разными вещами, читать книгу или гулять, или даже лечь и уснуть, а то и просто сидеть в саду, наблюдая, как котенок ловит бабочку, – монахи же, как ей было известно, не имели такой свободы. Зато они, как говорилось в писаниях отцов, имели великую помощь Божию на своем пути и гораздо быстрее, чем миряне, могли достичь божественных созерцаний и свободы от страстей… Кассия любила читать и проводила за книгами очень много времени, она читала везде – у себя в комнате, летом в саду, зимой в кресле у жаровни, иногда даже за едой не могла оторваться от книжки. Но монахи, как она знала, особенно новоначальные, больше упражнялись в трудах где-нибудь в поле, в огороде, на кухне, в мастерских; в том же Студийском монастыре книги в библиотеке выдавались братии лишь в определенное время, и как только проходили часы, отведенные на чтение, и звучал удар била, инок обязан был немедленно вернуть книгу библиотекарю, в противном случае его ждала епитимия… Конечно, такая жизнь была хороша для большинства монахов, но Кассию, с ее любовью к чтению и познаниям, она несколько пугала. Раздумывая об этом, она обращалась мыслью к возможности вступить в брак, но тут те же самые склонности ее натуры «делали тесно» с другой стороны: замужняя женщина по необходимости должна была много заниматься домом, семьей, детьми, хозяйством… Это, впрочем, было бы еще ничего, ведь перед глазами Кассия имела пример собственной матери, всегда находившей время для чтения; но главный вопрос был в том, как найти мужа, который бы разделял устремления такой жены, какой стала бы Кассия, – того, с кем ей самой можно было бы прожить рядом всю жизнь «не скучно и уютно»… Ее отец и мать встретились как бы случайно, но на самом деле, как говорила Марфа, в этом был «великий промысел». Однако Марфа в детстве никогда не задумывалась о монастыре, в отличие от дочери. В чем был «великий промысел» для Кассии?.. Когда девочка узнала от матери о том, что у земледельца Панкратия, который однажды угостил ее лепешками и сказал, что от любви «исчезает ум», дочь – ту самую, которую он, вместо того чтобы отпустить в монастырь, выдал замуж, – варвары пленили и заклали в жертву, Кассия была очень поражена, расплакалась, а потом много раздумывала об этом случае. Не стало ли несчастье следствием того, что убитая девушка и ее родители в свое время не познали «великого промысла»? Ведь если б она ушла в монастырь, то осталась бы жива… С другой стороны, хоть она и погибла так страшно, но, как истолковал отец Нил, стала христианской мученицей, святой, а разве мучениками становятся не по «великому промыслу»? И стала бы она святой, если бы прожила жизнь в монастыре, еще неизвестно… Какой же из «великих промыслов» для нее был лучше?.. А что должна избрать Кассия?..
«Готовиться!» Когда она услышала это, в ней словно воссияло: вот он, ответ, точный и несомненный! Монашество! Кассия закрыла рукопись, которую рассматривала, и медленно вышла из лавки. Мать как раз уже прощалась со знакомой, Кассия подошла, и они пошли к Милию. Марфа, по-видимому, раздумывала над тем, что ей рассказала патрикия, и потому молчала, а Кассия была этому рада: она ощущала себя сосудом, который вдруг до краев наполнили водой, и теперь надо было не расплескать. Пройти по жизни, не расплескав. И, стоя у Милия и глядя на крест Святой Софии, Кассия мысленно помолилась: «Господи! Если Ты зовешь меня на этот путь, то я иду!» – и тут же ощутила второй «удар», точнее, как она это сама для себя потом называла, «разверстые небеса». Нет, конечно, на самом деле, небеса не раскрылись, и она ничего не увидела, но она внутренне ощутила, как словно некая рука коснулась ее сердца – и как будто забрала его туда, в небесную высоту. Не было никаких сомнений, Чья это рука.
– Ну что, пойдем домой? – спросила Марфа.
– Пойдем.
Кассия шла, и ей казалось, что мир – вся эта шумящая толпа вокруг, этот Город, который она так любила, шедшая рядом мать, вообще всё – как бы отделился от нее прозрачной стеклянной стеной: он был рядом, она была в нем, и в то же время ее в нем не было. С того дня она больше не думала о замужестве как о возможности для себя, она просто не могла об этом думать: мысль о браке внутренне воспринималась как измена и натыкалась словно на некую невидимую стену, выросшую в ее сердце. Жених уже пригласил ее на брак – и это был тот единственный случай, когда отказать было нельзя: звал не человек, а Бог.
12. «Старая кустодия»
Настоящее поколение беспечно; оно отступило от строгой жизни и брать с него образец для жизни тщетно и бесполезно. …почти все, можно сказать, опираются на обычаи человеческие и на установления соседей, противные заповедям Божиим, и хотят лучше следовать образу жизни такого-то и такого-то игумена, нежели божественных отцов наших.
(Св. Феодор Студит)
Лето принесло неутешительные вести: мера, придуманная экономом Иосифом, оказалась столь успешной, что стали падать в ересь почти все те, кто раньше, казалось, твердо стоял в православии. Везде, но особенно в столице и ее окрестностях, процветало доносительство; доходило до того, что жившие в одном доме родственники боялись друг друга, а господа трепетали перед собственными слугами и рабами. Всего за одну найденную в доме икону или письмо с доводами в защиту иконопочитания хозяев могли бичевать. Иконы разрешалось оставлять у себя только тем, кто давал подписку не учить о вере и вступал в общение с патриархом Феодотом. Почти все константинопольские клирики и монахи дали подписку; многие миряне, в том числе из придворных, продолжали чтить иконы, но не смели говорить открыто в их защиту. Всё меньше исповедников оставалось на свободе, и тем приходилось скрываться. В середине лета стало слышно, что в июне умер папа Римский Лев, и император с патриархом хотят отправить внушительное посольство к новому папе с изложением иконоборческого исповедания веры и просьбой о поддержке нового церковного курса. Это намерение не только не скрывалось, но всячески провозглашалось, причем иконоборцы издевались над заключенными иконопочитателями, спрашивая, что будут они делать, если и «священная глава Римской Церкви, наследник великого Петра» одобрит иконоборческий догмат. Эконом Иосиф столь уверенно рассуждал об этом в беседах с узниками, будто точно знал, что папа будет на стороне Льва и Феодота. Всё это наводило уныние на православных, и некоторые дали подписку просто оттого, что им показалось, будто «всё равно уже всё кончено, сопротивляться бесполезно, лучше переждать». Студийский игумен, узнав о том, что иконоборцы готовят посольство в Рим, решился написать папе, чтобы, в свою очередь, рассказать ему о положении дел в Империи. К этому времени ему удалось наладить переписку с несколькими игуменами, заключенными в крепостях не слишком далеко от Вониты, так что с ними можно было быстро связаться; они договорились, что Феодор напишет письмо от лица их всех.
– Неужели ты думаешь, отче, что папа может поддержать еретиков? – спросил Николай.
– Да не будет этого! Но всякое может случиться. Вспомни о папе Гонории… К тому же, иконоборцы могут представить дело так, будто речь идет о чем-то несущественном. Например, просто о борьбе с народными суевериями, а не о полном отвержении икон. Не забывай, что у нашего фараона есть свой Ианний, который способен изложить всё так, что не сразу найдешь подвох. А папе издалека разобраться сложно, да и ссориться с императором ему нежелательно… Надо спешить!
«Конечно, уже известно верховному блаженству вашему, – писал Феодор, – случившееся с нашей Церковью по грехам нашим. Мы обратились “в притчу” и пословицу “у всех народов”, скажу словами Писания… Гоним Христос с Матерью и служителями, так как преследование образа есть гонение первообраза. Отсюда задержание патриаршей главы, изгнания и ссылки архиереев и иереев, монахов и монахинь, оковы и железные узы, мучения и, наконец, смерти. О, страшно слышать!..» Игумен просил папу «устрашить зверей-еретиков» и соборно анафематствовать иконоборчество.
Между тем в августе иконоборцы одержали очередную победу. На другой день после Преображения Господня, ближе к обеденному времени, двери темницы в подвале Сергие-Вакхова монастыря, где содержался игумен Мидикийский, отворились, и в нее вошли несколько человек. Это были игумены монастырей Ираклийского, Иполинихийского, Гулейского, Флювутского и еще пятеро монахов, за их спиной в дверях маячила стража. В помещении сразу стало чрезвычайно тесно и душно. Никита воззрился на посетителей с удивлением.
– Приветствую вас, отцы! – сказал он, вставая. – Чего ради вас привели к моему смирению?
– Отче, – сказал игумен Ираклийский, – мы пришли призвать тебя вместе с нами вступить в общение с патриархом Феодотом. Он уверяет, что больше ничего не потребует от нас и немедленно разрешит вернуться в наши монастыри и сохранять почитания икон, как прежде. Мы решили, что это будет совсем небольшая уступка, и никакого посягательства на веру здесь нет.
Пораженный Никита не сразу нашелся с ответом. Видя, что он молчит, Петр, предстоятель Гулейского монастыря, заговорил горячо и торопливо:
– Отче, не думай, что мы испугались мучений или не желаем дальше страдать за православие! Но мы рассудили, что теперь надо предпочесть пользу и спасение многих. Ведь каждый из нас сможет вернуться в свою обитель, собрать расточенных, снова наладить прежнюю жизнь…
– «Спасение многих»?! – воскликнул Никита. – О каком спасении вы говорите, если решили вступить в общение с еретиком, которое – погибель? Как может из тьмы выйти какой-либо свет? Что вы, отцы? Что случилось с вами? Как помрачился ваш разум? О, Господи!..
– Погоди, погоди сетовать, отче! – возразил Флювутский игумен. – Надеемся, что с разумом у нас пока что всё в порядке. Ты говоришь про общение, но ведь это только один раз, в виде снисхождения, а потом мы уже сможем больше не поминать Феодота! Разве это такая уж большая плата за возможность возобновить монастырскую жизнь?
– Твое рассуждение, – печально сказал Никита, – похоже на рассуждение какой-нибудь женщины, которая, устав жить в бедности и видеть, как ее муж работает с утра до ночи, а дети голодают, решилась «только один раз» совершить прелюбодейство с богачом, давно домогавшимся ее любви и сулившим большие деньги… Можно ли сказать, что это «не такая уж большая плата» за будущее благоденствие? Ведь это лукавство!
– Отче, – сказал игумен Иполинихийского монастыря, – твои возражения понятны, но подумай, как страдают наши братия, где они скитаются! Быть может, кто-нибудь из них уже не вынес такой жизни и пал в разные грехи, ведь некому ни наставить их, ни поддержать… Неужели тебе не жаль их? Да и что такого ужасного ты видишь в том, чтобы один раз сослужить с Феодотом? Ведь они даже уверяют, что это будет в храме, где сохраняются святые иконы!
– И что же? Разве не ясно, что они готовы пойти на всё, только бы заманить нас? Я не понимаю вас, отцы! Как могли вы поддаться на эту лесть после стольких перенесенных страданий? Как вы забыли про обещание, которое мы все дали святейшему Никифору, – не отделяться друг от друга и стоять за веру?
– Знаешь, отец Никита, – раздался вдруг спокойный и уверенный голос эконома Иосифа, который всё это время стоял за дверью и слушал, а теперь вошел в камеру; игумены потеснились и дали ему пройти, – святейший Никифор, безусловно, хорошо устроился: живет в собственном монастыре и служит там, когда и сколько хочет, а вас, овец своих, оставил гнить по тюрьмам!
– А, это ты, господин Иосиф, – проговорил Никита с неопределенным выражением.
– Да, я. Решил тоже сказать несколько слов, а то жаль мне, что ты так упорствуешь попусту. Ты говоришь: мы обещали святейшему не отделяться друг от друга. Но он первый отделился от нас! Мы томились по темницам, а он до сего дня живет вполне благоустроенно. А что до веры, так веру вас никто предавать и не заставляет. Еще раз приходится повторить: вы все сможете вернуться в свои обители и чтить иконы, как прежде и даже еще больше, если пожелаете!
– Послушай, отче, – заговорил опять игумен Петр, – мы никак не можем оставить тебя погибать здесь! Твое поражение тогда окажется хуже нашего, ведь ты и сам погибнешь, и обитель свою погубишь окончательно. Согласись же! То, чего эти люди требуют от нас, – ничто!
Остальные игумены кивали, а Ираклийский добавил:
– Снизойдем немного, отче, чтобы не погубить всего!
Никита смотрел на пришедших и всё больше колебался. Перед ним стояли почтенные отцы – все они были старше него, а Иполинихнийский игумен был и вовсе старцем. О Флювутском Никита знал, что он с самого начала гонения стоял твердо и не только не соглашался в чем-либо уступить иконоборцам и был готов к мученичеству, но увещевал к этому и других, в том числе епископов; он даже сумел убедить Никейского митрополита не общаться с еретиками, грозя в противном случае отделиться от него вместе с братией, – и вот, этот отец, казавшийся столпом веры, собирается вступить в общение с Феодотом, по примеру эконома! Так может, они и правы, и это действительно всего лишь допустимое снисхождение, всего лишь небольшая уступка, через которую можно приобрести души братий и спасти святые обители, сохранить и почитание икон? В самом деле, ведь если они действительно смогут вернуться и чтить иконы, то и свою братию сохранят в православии и приходящих мирян будут утверждать в вере… В конце концов, кто он такой, чтобы противиться общей воле этих почтенных мужей? Разве он опытнее их? Разве он разумнее? Не будет ли с его стороны гордыней отказ покориться их совету? Не покажет ли он этим, что считает себя умнее и духовно опытнее их?..
– Хорошо, – наконец, сказал Никита. – Я согласен выйти вместе с вами, отцы.
За два дня до праздника Успения Богоматери в храме во имя мученика Емилиана Доростольского в Равдосе патриарх Феодот торжественно совершил литургию, в сослужении многих клириков, в том числе Сергие-Вакхова игумена, и в присутствии некоторых синклитиков. Храм этот был, как и прежде, расписан священными изображениями – ни одно из них не было замазано. Выпущенные из темниц игумены, пришедшие на литургию с некоторым смущением, увидев иконы, воспрянули духом.
Перед началом службы, еще до того как игумены вошли в алтарь для сослужения патриарху, Грамматик сказал Мелиссину:
– Для пущей убедительности можно еще и анафематствовать тех, кто не кланяется иконе Христа.
– Как это? – удивился патриарх. – По-моему, это уже даже для снисхождения чересчур!
– Ты не понял, святейший, – улыбнулся Грамматик. – Я имею в виду истинную икону Христову, в понимании Иерийского собора – Евхаристию.
И вот, уже перед самым причащением сослужившего ему духовенства, патриарх провозгласил:
– Не поклоняющимся иконе Христовой – анафема!
Игумены переглянулись, и Ираклийский прошептал:
– Чего же ради мы так долго сидели в заточении?
Спустя несколько дней все бывшие заключенные – вымытые, накормленные, получившие от патриарха новые одежды и денег на дорогу – отправились по своим монастырям. Мидикийский игумен тоже пошел к пристаням узнать, на каком судне он мог бы добраться до Вифинии. Но когда он взглянул на стоявшие в гавани торговые суда – одни только что причалившие для разгрузки товара, другие нагружаемые тюками, пифосами и бочками, третьи уже почти готовые к отплытию, – и на пеструю толпу, сновавшую вокруг, его вдруг охватила невыносимая тоска. На самом деле она грызла его с того дня, когда он причастился из рук Феодота, но теперь полностью затопила душу. После той литургии на него навалилась давящая тяжесть и не давала покоя мысль, что он совершил предательство. Никита сначала попытался прогнать помысел как искусительный, но это ему не удалось. «Что же теперь? – думал он. – Что я скажу братиям, если вернусь в обитель и опять соберу их туда? Что я вступил в общение с иконоборцем ради того, чтобы спокойно жить в монастыре?.. Боже мой, что я сделал! Зачем, зачем я послушался их?!..» Оказавшись на пристани, он окончательно осознал, что не может вернуться в свою обитель. «Я пал! – думал он. – Это падение, что бы ни говорили эти отцы…»
Сначала Никита решил бежать куда-нибудь подальше от столицы и, найдя уединенное место, подвизаться там, чтобы исправить свое поражение. Он сел на одно грузовое судно, отправлявшееся на Проконнес за мрамором, рассчитывая или обустроиться где-нибудь на острове, или перебраться с него на соседнюю Афусию, куда и собирались его сослать в случае, если б он не повиновался иконоборцам. Тоска и мрак внутри как будто бы уменьшились, но когда Никита добрался до Проконнеса, он, проведя ночь в молитве, принял иное решение и с тем же судном вернулся в Константинополь, где поселился у одного знакомого мирянина, тайного иконопочитателя. По Городу он почти не ходил, молился дома, но иногда заходил в храмы для поклонения мощам святых. Вскоре после возвращения Никита был замечен и узнан одним из диаконов храма Апостолов, когда пришел туда поклониться гробницам святых благовестников. Диакон подошел к игумену и приветствовал его.
– А я думал, отче, ты уже у себя в Вифинии. Разве ты не поехал туда?
– Нет. И не поеду. Падение должно быть исправлено там, где совершилось.
– Что ты называешь падением? – удивился диакон.
– Сослужение и причащение с Феодотом, на которое я согласился по глупости… точнее, по неразумному почтению к мнениям старших отцов. Через это мы все изменили православию.
– Ах, вот что! – насмешливо сказал диакон. – Тебя, видно, охмурил этот несносный Студит… И как ему до сих пор разрешают рассылать свои писульки?! – злобно добавил он.
– Ошибаешься, отче. Отец Феодор ничего не писал мне. Но если он сочтет меня изменником, то будет прав. Феодот – иконоборец, и что бы он ни говорил нам об иконах и как бы ни разрешал верить, но сделанное сделано: мы вступили в общение с иконоборцем, а значит, и сами стали еретиками. Если тебе кажется иначе, это твое дело; а я думаю именно так и не успокоюсь, пока Господь не примет мое покаяние в содеянном.
Феодор узнал о падении заключенных игуменов в сентябре из письма от Навкратия и очень расстроился, особенно из-за Флювутского настоятеля, с которым имел возможность встретиться лично во время переезда из Метопы в Вониту: тогда тот еще не был заключен в тюрьму и был готов всё перенести ради православия, а теперь даже нисколько не сокрушался о том, что сделал. «Но об этом муже что сказать? Что думать? – писал Феодор игумену Пеликитскому Макарию, сосланному на Афусию. – “Как упал ты с неба, денница”? Как повержен столп, восходивший до небес?..» Что до остальных, то Студит не очень удивился их падению.
– Они ведь и раньше любили снисходить там, где не надо, – сказал он Николаю, – все признали прелюбодейный собор и осуждали нас за противление беззаконию. А об их покаянии в том заблуждении я не слыхал. Странно ли, что теперь их опять поманили тем же «снисхождением» и они попались? И вождем непотребства оказался всё тот же эконом!
«Построив дом свой на песке, – писал он Навкратию, – они при дуновении восставшей ереси, пали тягчайшим падением, снова называя искажение истины снисхождением. Они и прежде были соблазном для Церкви Божией, и теперь делами своими увлекают всех к погибели». Но, замечал Феодор, «это старая рана, внутреннее зло. Иосиф, справедливо названный раньше сочетателем прелюбодеев, а теперь хулителем Христа, он – вождь этой старой кустодии…»
Между тем императору и патриарху быстро стало известно, что Мидикийский игумен опять в столице, с иконоборцами не общается и при случае проповедует собеседникам иконопочитание. Никиту немедленно вызвали во дворец. Император встретил игумена довольно сурово.
– Почему в то время, как другие отцы ушли по своим обителям, ты один остался здесь, своевольничая и не повинуясь нашему приказу? – спросил Лев. – Мне сообщили, что ты еще и скрываться вздумал, надеясь нас провести. Оставь свои ухищрения, отче! Возвращайся в свой монастырь, а не то ты подвергнешься бедствиям еще худшим, чем раньше!
– Государь, – ответил игумен спокойно и кротко, – в монастырь я не вернусь и от веры своей не отступлю, а свое согласие вступить в общение с твоим патриархом считаю пагубным заблуждением. Теперь я хочу заявить снова, что почитаю святые иконы и в этом исповедании пребуду до конца. Я сотворил неподобное не по страху смерти или мучений и не из любви к этой жизни – Бог мне свидетель! – но ради послушания старцам сдела то, чего не должен был делать. Но я отрекаюсь от этого гибельного послушания, и знай, августейший, что никакого общения с вами я не приемлю и остаюсь в той вере, которую принял от начала. Делай со мной, что тебе угодно, и не думай услышать от меня что-нибудь еще.
Император передал игумена спафарокандидату Захарии, смотрителю Манганского дворца, повелев держать Никиту в подвале, пока не будет решено, что с ним делать. Захария, втайне чтивший иконы, принял узника с почтением и поселил его не в подземелье, а в одной из комнат верхнего этажа, всячески заботясь о нем. В Манганах Никита прожил около месяца, там он получил первое письмо от Студийского игумена: Феодор писал, что опечалился из-за падения Мидикийского игумена, но, узнав о его покаянии, снова воодушевился; он молил Никиту «довести до конца нынешнее божественное исповедание» и просил молитв за себя.
Вскоре Никита, в очередной раз ответив отказом на требование вступить в общение с иконоборцами, был увезен на островок Святой Гликерии на Пропонтиде, недалеко от мыса Акрит и заключен в монастыре под крепким надзором. Над тамошними обителями был назначен экзархом некий Анфим, евнух очень жестокого нрава, весьма немилостивый; местные жители за кичливость и коварство прозвали его Каиафой. Этому Анфиму патриарх Феодот написал письмо, где обещал особые почести от императора, если экзарх заставит Никиту всё-таки передумать. Анфим, получив в свою власть игумена, заключил его в тесную темницу с таким низким потолком, что Никита мог там ходить, только согнувшись. Ключ от темницы экзарх носил с собой и никогда не открывал ее, чрезвычайно скудную пищу узнику подавали через отверстие. Но на все предложения «облагоразумиться и вернуться к общению со святейшим Феодотом» игумен неизменно отвечал:
– Анафема вашему «благоразумию» и вашему Феодоту.
…Фаддей умирал: было ясно, что выходить его не удастся, он и сам понимал это. Когда Григора пришел переменить ему повязки, монах слабо улыбнулся и прошептал:
– Не трудись, господин! Я всё равно… не доживу до завтра…
Григора уронил на пол льняной плат, упал на колени перед постелью умиравшего и заплакал.
– Что ты плачешь, Григора? – так же тихо проговорил Фаддей. – Не плачь… Лучше молись за меня… чтобы предстать мне пред Господом неосужденно… Братия! – позвал он чуть громче.
– Что, душа моя? – отозвался с соседней постели Виссарион. – Тебе легче?
– Да… мне теперь… хорошо… Ухожу… Молитесь за меня… чтобы мне неосужденно… предстать на суд Божий…
– Верую, что предстанешь неосужденно! – горячо ответил Виссарион.
– Да, – раздался в комнате еще один голос, совсем тихий, но ясный, – сейчас впору нам просить твоих молитв за нас, Фаддей! Ты идешь ко Господу, а мы… нам еще подвизаться надо… Молись, чтобы мы претерпели до конца!
– Если… Господь сподобит… буду молиться…
Их бичевали накануне. До этого Фаддей несколько месяцев провел в одиночном заключении в Претории. Мирянин Григора передавал ему в тюрьму еду и одежду, а иногда тайком писчие принадлежности: монах и в тюрьме продолжал переписываться кое с кем, убеждая стоять в православии, и поддерживал связь с братиями из той группы, в которой находился после рассеяния студитов при начале гонения. Через некоторое время, однако, попался властям один из его адресатов – студит Виссарион; у него нашли два письма Фаддея и после этого за Григорой установили слежку. Постепенно выловили еще нескольких братий, скрывавшихся в окрестностях Никомидии, – Тита, Филона, Еводия, Епатия, а также двух монахов из подчиненного Студию монастыря Святого Христофора – Лукиана и его ученика Иакова. Вассиан, живший с Еводием в пещере, остался на свободе: когда нагрянули в их убежище, он отлучился в село купить хлеба. Вернувшись и увидев, что в пещере всё перевернуто вверх дном, а Еводий исчез, он побледнел и тихо проговорил:
– Держись, брат!
В конце декабря дело восьми студитов прибыл расследовать из столицы протоспафарий Варда, свояк императора – он был женат на Албенеке, сестре императрицы Феодосии. Девятым призванным к ответу оказался иеромонах Дорофей, схваченный немного раньше: он был уличен в том, что тайно причащал иконопочитателей и передавал Святые Дары столичным заключенным, а также ездил в Никомидию и Никею с теми же целями. Все решительно отказались от предложения присоединиться к иконоборцам. Тогда их стали бичевать. Первым растянули на скамьях Фаддея, за ним Виссариона и Дорофея; все трое получили по сто тридцать ударов, причем первых двух Варда бичевал собственноручно. Под конец истязания Фаддей потерял сознание и без чувств был унесен обратно в камеру, другие двое едва смогли встать на ноги. Затем бичеванию подвергся Лукиан и после первых же ударов не выдержал и закричал:
– Нет! Не надо! Я дам подписку, только не бейте!
Его тут же отвязали. Он встал, оделся, не глядя на остальных братий, и тут же подписался на листе с заготовленным текстом, пообещал завтра же причаститься на службе у патриарха Феодота, после чего был отпущен. Когда он уже направлялся к двери, Иаков воскликнул:
– Отче, как ты мог?!
Лукиан еще больше сгорбился, ничего не ответил и вышел. Варда усмехнулся и сказал Иакову:
– Ну, послушник, как видишь, наставник твой счел за лучшее избрать путь благоразумной мудрости. А ты что медлишь? Тебе уж и Сам Бог велел вступить в общение со святейшим Феодотом!
– Анафема вашему Феодоту! – вскричал Иаков. – И послушанию такому анафема! Я давал обет послушания Богу, а не человекам, отступившим от Него!
– Вот как? – угрожающе произнес протоспафарий. – Ты, значит, хочешь отведать воловьих жил?
– Хочу! – ответил Иаков, снимая хитон. – Бейте!
Его били долго и зло, по спине, по груди, по рукам, не только бичом, но и ногами, били, даже когда он уже лишился чувств, а потом, окровавленного, бросили тут же в углу на пол, сверху накрыв его же одеждой, словно мертвеца. Остальные братия были сильно напуганы, но всё-таки на вопрос, не хотят ли они дать подписку, ответили отрицательно. Тогда стали бичевать Тита; после двадцатого удара он не выдержал и сдался. Филон, глядя, как он ставит подпись на злосчастном пергаменте, заплакал и сказал, что тогда и он подписывается; оба они после подписки обещали вместе с Лукианом придти к патриарху и принять причастие. Тут Еводий и Епатий сказали почти в один голос:
– Я тоже подписываюсь!
На другой день все пятеро действительно пришли в Святую Софию, чтобы причаститься с Феодотом. Лукиан и Тит с Филоном молились, а Еводий стоял, как столб, не крестясь и вообще никак не сообразуясь с ходом богослужения. Епатий, стоявший чуть позади, сначала было крестился и кланялся, но потом, глядя на Еводия, тоже перестал, а когда уже было прочитано Евангелие, тихонько потянул брата за рукав.
– Чего тебе? – спросил Еводий, обернувшись.
– Давай сбежим, а? – прошептал Епатий. – Гляди, сколько тут народу! Никто и не заметит… Может, удастся спрятаться где-нибудь… Не хочу я с ними причащаться!
Еводий украдкой огляделся. Да, у них и правда была возможность незаметно улизнуть. «Где-то теперь Вассиан? – подумал он. – Что скажет он, если узнает о нашем падении?.. А что скажет отец игумен?.. Боже мой! Что мы натворили?!..»
– Пошли! – кивнул он, и они с Епатием осторожно, прячась за людей и колонны, выскользнули в нарфик, затем во двор, быстро пересекли Августеон, на Месе смешались с толпой и, через Золотые ворота покинув Город, остановились у межевого столба.
– И куда теперь? – спросил Епатий.
– Не знаю, – Еводий опустил голову, подумал. – Может, в Саккудион? Навкратий примет нас, надеюсь…
Между тем всех бичеванных студитов, кроме Дорофея, наутро выдали пришедшему навестить их Григоре. Один из тюремщиков, тайно сочувствовавший иконопочитателям, шепнул ему:
– Забирай их, пока начальство не передумало, да спрячь где-нибудь!
Григора отвез всех к себе домой и пригласил знакомого врача. Тот осмотрел раны, покачал головой и сказал, что за Виссариона бояться нечего – должен выздороветь, – а вот с Фаддеем и Иаковом дело плохо: если и выживут, то могут на всю жизнь остаться калеками… Но Фаддей уже не мог выжить: он умер на следующую ночь после бичевания.
Получив очередное письмо с новостями от Навкратия и распечатав его, Студийский игумен подошел к окну, стал читать и вдруг вздохнул, прижал руку к груди и едва не выронил лист. Слезы на мгновение застлали ему взор, Феодор вытер глаза рукавом и продолжал чтение. Дочитав, он перекрестился и, подойдя к спавшему Николаю – тот с вечера занемог, и Феодор благословил его спать, пока не выспится, – растолкал его.
– Встань, брат!
– Что случилось, отче? – Николай испуганно смотрел в мокрое от слез лицо игумена.
– Брат наш Фаддей принял мученическую смерть за Христа!
«Куда ты удалился от меня, блаженный сын? – писал Феодор в тот же день, обращаясь к новому мученику в письме, адресованном Навкратию и остальным братиям. – Куда так скоро вознесся ты, сопричисленный к мученикам? О, жребий твой! О, благородство твое!» Игумен просил молитв у нового святого и заканчивал письмо так: «Смотрите, братия мои, что случилось, какое сокровище и какого брата мы приобрели. К славе Божией, и к нашей хвале, а также и к радости целой Церкви служит мученик Христов Фаддей!»
13. Ветхий Рим
Бывает, что человек сдвигается с правого стояния, хотя он и старателен… по причине умножившихся искушений, которыми… поглощается вся мудрость его и всё искусство. Попускается это, «да не будем надеяться на себя», и «да не похвалится Израиль, говоря: рука моя спасла меня».
(Св. Иоанн Карпафский)
Время летело быстро; Мефодий и не заметил, как пошел второй год его пребывания в Риме. По приезде он, вместе с несколькими хинолаккскими монахами, которых взял с собой, поселился в греческом монастыре Святого Саввы, где настоятелем был архимандрит Василий, выходец из Константинополя. Епископ Моневмасийский Иоанн жил ближе к папе, в Латеране. Папа Лев принял их очень любезно, и никаких трудностей они не испытывали. Владыка Иоанн неплохо понимал латынь, а Мефодий хорошо знал западное наречие еще с юности, когда жил на Сицилии; теперь игумен быстро вспомнил то, что успел подзабыть, свободно общался с местными жителями и мог совершать богослужения в разных храмах. Он нередко бывал в Латеранской базилике, где обычно служил папа, но особенно любил храм Святого Петра, куда чаще всего ходил к мессе по воскресеньям; по будням он в основном служил в Свято-Саввской обители. Через год по прибытии в Рим папа, очарованный начитанностью и подвижнической жизнью игумена и его знанием латыни, рукоположил Мефодия в иерея.
Поручение, данное патриархом Никифором, епископ с игуменом выполнили блестяще: когда в середине осени из Константинополя прибыли посольства от императора Льва и патриарха Феодота, недавно избранный папа Пасхалий не только отказался сослужить с посланцами Феодота, но даже вообще их не принял, велев только передать им, что полностью поддерживает почитание святых икон, а Мелиссина законным патриархом не признаёт. Уже в декабре двое студитов привезли письмо от четырех игуменов и были ласково встречены Римским первостоятелем. Папа не написал ответного письма Феодору, но на словах просил передать, что всецело поддерживает борьбу за образ Христов и молитвенно желает скорейшего восстановления православия в восточной Империи. В конце весны следующего года Моневмасийский епископ и Хинолаккский игумен получили восторженное письмо от Студита, узнавшего об их деятельности в Риме от своих посланцев, вернувшихся с богатыми дарами и благословениями от папы. «Как почетно ваше плавание, – писал Феодор, – как славен подвиг, совершенный вами здесь и сделавший вашу добродетель более значимой, как если бы двумя мужами было совершено общее спасение…»
Свободное время Мефодий в основном проводил в папской библиотеке, где нашел немало греческих рукописей, которые там с почтением хранились, но не читались – эллинского наречия даже в Риме уже давно никто не знал, за исключением монахов Саввской обители и нескольких переводчиков в Латеране. Игумен принялся восполнять недостатки в своем образовании: хотя в Хинолакке было немало книг, а в бытность свою архидиаконом Мефодий имел доступ и к патриаршей библиотеке, и к личному собранию Никифора, он не всегда находил достаточно времени для чтения, зато теперь можно было наверстать упущенное. Много книг греческих отцов было и в Саввском монастыре, где Мефодий обнаружил собрание творений святого Дионисия Ареопагита и принялся за изучение трактата «О церковной иерархии» и Посланий, с которыми до сих пор не был знаком.
Произведения эти, снабженные схолиями Максима Исповедника, весьма впечатлили Хинолаккского игумена. Это впечатление наложилось на другое: с самого начала своего пребывания в Риме Мефодий был поражен тем почтением, которое здесь оказывалось папе. Самые превыспренние формулы вежливости и уважения, употреблявшиеся в письмах, посылаемых в Ветхий Рим из Нового, не шли ни в какое сравнение с действительным отношением клира, монахов и мирян к восседавшему на престоле святого Петра. Невольно сравнивая увиденное с тем отношением к патриарху, которое ему пришлось наблюдать в Константинополе, Мефодий хмурился, и в нем постепенно нарастало глухое раздражение. Здесь, в Риме, казалось, было немыслимо, чтобы какой-нибудь игумен, даже самого известного монастыря, мог оказать такое явное непослушание и так «унизить» правящего архиерея, как, по мнению Мефодия, неоднократно делал это Феодор Студит. Да что игумен – рядовые епископы не смели перечить «наместнику первоверховного»! «А что у нас?.. – думал Мефодий. – Ведь расскажешь кому-нибудь тут, так, пожалуй, и не поверят, что такое возможно! Но разве так должно быть?..» Ареопагит неожиданно подтвердил мысль Хинолаккского игумена, что «студитское» отношение к церковным предстоятелям противно истине.
«Божественный чин иерархов, – читал он у святого Дионисия, – является первым из богозрящих чинов, и крайний и последний – опять он же, ибо в нем заканчивается и исполняется всё строение нашей иерархии». Священники никак не могут учить высших по иерархии, как говорилось в схолиях к одному из Посланий Ареопагита: «Отметь похвальный церковный порядок, – чтобы монашествующих наказывали диаконы, их – священники, священников – епископы, епископов же – апостолы и их преемники. А среди преемников апостолов наказание бывает от равных по чину», причем «апостолы и преемники апостолов больше епископов», и «каждый должен быть исправляем более святым, чем его чин», а «преемниками апостолов сейчас являются патриархи».
Из отечества Мефодию писали, что Студийский игумен не только увещевает стоять за православие, но и назначает епитимии впавшим в общение с еретиками, но потом опять вернувшимся к прежнему исповеданию, и более того – даже утверждает, что при нужде и рядовые монахи могут давать епитимии обращающимся к ним… «Что за дела? Феодор всё поставил с ног на голову! – думал Мефодий. – Как это совместить с тем, о чем учит святой Дионисий?!»
Он сделал для себя копию творений Афинского святителя, вновь и вновь перечитывал их, и поля листов покрывались пометками и замечаниями, сделанными рукой Мефодия. Игумен даже сам начал писать некое «Размышление» по поводу отношения между патриархом и епископами, епископами и клириками, клиром и монахами, – но случившееся вскоре искушение заставило его отложить начатое писание и надолго выбило Мефодия из обычной колеи.
Это началось в июне, когда стояла такая жара, что, казалось, самые камни на мостовых готовы были расплавиться. В то воскресенье Мефодий служил в базилике Святого Петра. Когда месса отошла, а толпа схлынула, игумен захотел поклониться мощам великого апостола, поскольку не успел подойти к ним до начала богослужения. Он уже отошел от гробницы и собирался вернуться в алтарь, когда внезапно встретился глазами с ней. Она стояла футах в четырех от него – высокая стройная девушка, черноволосая, загорелая, с глазами цвета спелого каштана; ее густые черные брови своим изломом напоминали крылья чайки; тонкий, прямой нос, угловатые скулы и слегка вздернутый подбородок придавали лицу высокомерность; красивые чувственные губы надменно улыбались. На ней была светлая шелковая туника без всяких узоров, препоясанная таким же простым широким поясом почти под самой грудью; сверху был накинут белый плащ, а на голове – серебристая сеточка. В тот миг, когда их взгляды встретились, молитва Мефодия прервалась, и он даже не заметил этого. Девушку сопровождали слуги, но какие и сколько, игумен после, вспоминая эту встречу сказать не мог. Он ощутил нечто вроде удара в грудь, сердце стукнуло и подпрыгнуло, а потом ухнуло куда-то, и тут же нестерпимый пламень возгорелся во внутренностях; кровь бросилась в лицо Мефодию, он почти в ужасе отступил на шаг, повернулся и, быстро пройдя по солее, скрылся в алтаре. Игумен покинул базилику через боковой выход, закутанный в мантию, надвинув кукуль почти на глаза. Воздух на улице обжигал, словно в термах, но Мефодия знобило – внутри у него полыхал пожар гораздо сильнейший…
Он думал, что это внезапное искушение – конечно, сильное, но всё-таки случайное, – быстро пройдет, ведь и раньше иногда бывало, что красивые женщины возбуждали в нем страстные движения, но он быстро умерщвлял нечистые помыслы молитвой. Не тут-то было: девушка не покидала его мыслей, мешала ему молиться, даже снилась. Он попросил владыку Иоанна исповедать его, покаялся в блудных помыслах и, по совету епископа, наложил на себя строгий пост и стал носить власяницу. Он почти не спал и клал по несколько сотен поклонов в день, но внутренний жар не проходил. Впрочем, через три недели пламень стал как будто утихать. За все эти дни Мефодий больше не видел девицы; быть может, она и приходила в Петров храм, но игумен старался не появляться там, где мог встретить ее – к мощам он подходил еще до начала службы, а по ее окончании сразу возвращался в Саввскую обитель. В самом монастыре его и постигло новое крушение. Во вторник, после службы девятого часа, когда Мефодий уже возвратился к себе, игумен прислал к нему келейника с просьбой придти в «гостевую» – небольшую пристройку, где архимандрит принимал посетителей из мирян. Вход туда был сделан с улицы, помимо главных врат обители, чтобы посторонние не смущали остальных братий, ведь среди посетителей бывали и женщины, доступ которым в сам монастырь был запрещен.
– Там пришел один сенатор с семейством, узнали, что тут у нас монахи из Константинова Града, хотят побеседовать, – пояснил келейник Василия.
– Вот, отче, – сказал архимандрит, когда Мефодий вошел в «гостевую», – потревожил я тебя. Господин Виталиан очень уж возжелал поговорить с твоею честностью.
Тучный сенатор с блестящим от пота лицом поднялся навстречу Мефодию и подошел под благословение, а за ним его супруга Юлия, – дородная женщина, чрезвычайно пышно и ярко разодетая; многочисленные золотые украшения с драгоценными камнями и эмалевыми вставками, очень тонкой работы, смотрелись на ней довольно неуместно.
– А это наша дочь Сабина, – сказал Виталиан, кивая девушке, которая сидела в противоположном углу и потому осталась незамеченной Мефодием, когда он вошел. – Благослови и ее, отче.
Мефодий повернулся и застыл на месте. Сабина подходила к нему, чуть заметно улыбаясь. На этот раз она была одета в голубые тунику и плащ, по-прежнему без всяких узоров, но в ушах качались изящные серебряные серьги с крупными продолговатыми жемчужинами.
– Здравствуй, отче, – голос у нее был грудной, красивый, и проник, казалось до самых костей игумена. – Благослови!
Девушка слегка склонилась перед ним, и теперь он лучше разглядел словно выточенные из мрамора черты, гладкую нежную кожу, длиннейшие густые ресницы и волосы цвета воронова крыла, волнистые, блестящие и мягкие, словно пух, – он ощутил это, когда, благословив, прикоснулся к ее голове. В этот миг рука игумена предательски дрогнула, и задрожали ресницы девушки, – а когда она выпрямилась и взглянула в его бледное лицо, Мефодий понял, что она прекрасно видит, что с ним творится.
Дальнейшая беседа протекала, как во сне. Сенатор спрашивал о гонениях на иконы в восточной Империи, Мефодий отвечал – и, по-видимому, говорил толково и связно, поскольку все слушали внимательно и не выражали какого-либо недоумения, – но он почти не сознавал, о чем рассказывал. Очнулся он лишь тогда, когда Сабина, до этого молчавшая, заметила:
– Твоя латынь довольно неплоха, отче! Признаться, не думала, что есть греки, так хорошо говорящие на ней.
Мефодий ощутил, что краснеет. Василий улыбнулся и сказал:
– Ну вот, смутили отца игумена! Он ведь родом с Сицилии, госпожа Сабина, а тамошние греки часто знают оба языка.
– О! – воскликнула девушка. – Так мы, значит, земляки! Ведь я тоже родилась на Сицилии. Как это мило!
– Прекрати, Сабина! – строго сказал Виталиан, но тут же улыбнулся, обращаясь к Мефодию. – Мы очень рады познакомиться с тобой, отче, и сочли бы за честь, если б ты посетил нас, смиренных, в нашем скромном жилище.
– Ну, положим, – с улыбкой вмешалась Сабина, – наше жилище трудно назвать скромным, папочка! Боюсь, как бы отец Мефодий не осудил нас за любовь к роскоши!
– Благодарю за приглашение, господин Виталиан, – едва выдавил игумен, стараясь не смотреть на девушку. – Я… может быть, загляну когда-нибудь…
– Ну, вот! Что значит «когда-нибудь»? – сказала Юлия и повернулась к Василию. – Отец архимандрит, мы очень ждем вас в это воскресенье, приведи к нам отца Мефодия, Христа ради! А то я смотрю, он так скромен, что будет долго собираться!
Всё это время Мефодий ощущал на себе пристальный взгляд Сабины и мысленно проклинал себя и всё на свете, молиться он не мог. В ближайшее воскресенье Василий действительно отправился в гости к сенатору и взял с собой игумена. Тот было стал отнекиваться, но архимандрит сказал:
– Отче, я прекрасно понимаю, что тебе совсем не хочется касаться мирского общества и бесед. Но видишь ли… Господин Виталиан с супругой много благотворят нашей обители, и я бы не хотел огорчать их. А они так просили меня привести тебя к ним! В конце концов, от одного посещения этого гостеприимного дома, думаю, с тобой ничего не случится.
«Ничего не случится»! Мефодий мысленно застонал: четыре дня, прошедшие после встречи с семейством сенатора он провел в такой горячке, что временами ему казалось будто он бредит. «Господи! Сделай так, чтобы ее там не оказалось! Ведь она может уехать, заболеть, в конце концов! Ну, хоть немного, хоть на день!.. Только бы мне не встречаться с ней!» Но он с ужасом чувствовал, что, несмотря на свои молитвенные просьбы, жаждет этой встречи так, как еще, кажется, никогда ничего не хотел в жизни…
Когда архимандрит с игуменом оказались во втором часу пополудни в светлой гостиной сенаторского особняка, за столом, уставленном серебряной посудой, перед блюдами со вкуснейшей рыбой, самыми свежими овощами и горячим, недавно вынутом из печи хлебом, в обществе друзей Виталиана – чиновников высокого ранга, Мефодий облегченно вздохнул: Сабины здесь не было, и приветствовать их она, в отличие от госпожи Юлии, не вышла. За трапезой игумен вновь рассказывал о церковных делах в Константинополе – то, что знал из полученных им писем от патриарха и других исповедников, хвалил папу за поддержку иконопочитателей. Собеседники строили предположения о том, что же будет дальше, и выражали надежду, что Бог не попустит «звероименному тирану» долго царствовать… К столу подали прекрасное вино, и хотя игумен пил мало, оно всё же вступило ему в голову. Мефодий пошутил, что уже отвык от таких «амброзических напитков».
– Захмелел, отче? – с улыбкой спросил архимандрит. – А ты пойди в сад, подыши воздухом, там у госпожи Юлии прекрасные цветники, и фонтан есть, свежо, хорошо!
– Да-да, конечно! – засуетился Виталиан. – Я сам готов проводить…
– О, не стоит, господин, – сказал игумен, вставая. – Не покидай ради меня твоих друзей. Думаю, я не заблужусь, – он улыбнулся. – Только покажи мне, где выход в сад, я и один прогуляюсь…
В саду действительно было прохладно, и Мефодий, идя по дорожке, невольно залюбовался: цветы, кусты, деревья так красиво сочетались между собой, что сразу была видна рука и вкус настоящих мастеров садового дела. Он дошел до большого круглого пруда, в середине которого был сделан фонтан. Два белоснежных лебедя лениво плавали недалеко от берега и, завидев игумена, подплыли к нему, видимо, ожидая, что Мефодий чем-нибудь их покормит, но он только развел руками и улыбнулся. Вдруг через его плечо пролетел кусочек хлеба и упал в пруд, за ним еще один; лебеди радостно поспешили склевать подачку. Мефодий обернулся и вздрогнул всем телом: перед ним стояла Сабина, без плаща, в одной только светлой шелковой тунике, под которой соблазнительно вырисовывалась фигура, с тонкой повязкой на небрежно заплетенных волосах и толстым ломтем хлеба в руках.
– Здравствуй, отче! – сказала она, улыбнувшись чуть насмешливо.
– Здравствуй, госпожа, – с трудом проговорил Мефодий.
«Надо немедленно уйти!» Но он не мог этого сделать: девушка стояла прямо перед ним и загораживала дорожку.
– Я знала, что ты, конечно же, придешь посетить наше «скромное жилище».
Она отщипнула еще два кусочка хлеба и бросила в пруд через плечо игумена. Он следил за ее движениями и ощущал, как его решимость уйти улетучивается быстрее, чем лебеди хватали за его спиной хлебный мякиш… Сабина пристально взглянула на него, улыбнулась и, пройдя мимо, совсем близко, едва не коснувшись его, сошла к самой воде. Мефодий оказался за ее спиной и мог бы удалиться – однако не двинулся с места. В эти мгновения он опять проклинал себя, но ничего не мог поделать: девушка действовала на него подобно магниту. Скормив весь хлеб, она обернулась к нему и снова улыбнулась:
– Раз ты не ушел, отче, то ты не прочь со мной поговорить, не так ли?
– Разве нам есть о чем говорить? – спросил он немного резко.
– Наверное, есть, раз ты стоишь и не уходишь, – усмехнулась она, подходя.
На его щеках вспыхнули два красных пятна.
– Скорее, это ты хотела со мной поговорить, госпожа, раз пришла сюда.
– Я пришла покормить лебедей, – насмешливо ответила Сабина и, встав почти рядом с игуменом, на полшага впереди, обратила взор к пруду. – Впрочем, раз ты оказался тут, то я не прочь побеседовать с тобой кое о чем.
– О чем же? – тихо спросил он.
– Можно задать тебе один вопрос, отче? – и, не дожидаясь ответа, она продолжала. – Зачем вы идете в монахи, если спустя столько лет монашества вас всего несколькими взглядами можно заставить делать всё, что хочешь? Никогда не могла этого понять! Мне кажется, что если уж человек решился на такую жизнь и подвизается так усиленно, так долго… Кстати, а сколько лет ты уже монашествуешь?
– Тринадцать, – с трудом проговорил он.
– Немало! Почти вся моя жизнь… И несмотря на это, красивая девушка одним взглядом может привести тебя в полное замешательство. Вот цена всего вашего монашества! А ведь как вы превозносите его! «Наука наук, искусство искуств»! Ах! Но вот, например, если человек только начинает учиться мастерству… допустим, ткацкому, то он сначала делает много негодной ткани, но потом, когда со временем приходит навык, было бы удивительно, если б он ошибался так же легко, не правда ли? У вас же выходит, что сколько бы лет кто ни подвизался, а если представится случай, пасть в грех для него – ничего не стоит? Не так ли?
Тут она повернулась к нему и заглянула в глаза. Он вздрогнул и отпрянул, но не в силах был отвести взгляд.
– Поцелуй меня! – сказала она.
Он сделался белым, как полотно, и прошептал:
– Как смеешь ты предлагать мне это?!
– Вот еще! – ответила она усмешливо. – Как смею! Разве я первая захотела этого? Но если желаешь знать, я и сейчас этого не очень-то хочу. Хоть ты и красавец, знаешь ли ты это? Мне просто интересно, смогу ли я тебя заставить. Думаю, что смогу! Ну, чего ты ждешь? Ведь ты хочешь! Или ты такой же лицемер, как все вы, черноризцы?
Пока она говорила, бледность игумена сменилась ярким румянцем, и теперь всё лицо его горело. Сабина презрительно усмехнулась и, отвернувшись от него, стала смотреть на лебедей, которые лениво плавали, чистили перья, иногда опускали голову в воду. Мефодию тоже хотелось окунуть голову в пруд… В то же время он был поражен недоумением: откуда у этой девушки – такой юной! – столько презрения к монахам и столько дерзости?
– Почему ты считаешь всех монахов лицемерами?
Она снова обернулась, глаза ее сверкнули гневом.
– А разве вы не лицемеры? Я здесь всего три года, раньше мы жили в Медиолане… И вот, за три года уже сколько тут было слышно всяких историй! Кто пал с женщиной, кто сбежал из монастыря, кого уличили в мужеложстве, – она брезгливо поморщилась. – И это еще явные случаи, которые прогремели по городу! Можно только догадываться, сколько подобных тайн погребено в стенах ваших «святых обителей» и в исповедальнях духовников! Да у мирян не встретишь таких безобразий! То есть встретишь, конечно, но только что ж, мы на то и миряне – так себе людишки, бренный прах, почти никто не спасается… Не то, что ваше сословие, «свет миру», «избранный род» и как еще там вы величаете себя!
Девушка опять отвернулась к лебедям.
– Твои упреки справедливы, госпожа Сабина, – сказал Мефодий, помолчав. – Но ты не учитываешь, что монахов, как было открыто святым отцам, дьявол искушает гораздо сильнее, чем мирян.
– Так и знала, что ты это скажешь! – воскликнула она насмешливо. – Но я знаю и другое: как было открыто тем же отцам, монахам и Бог помогает больше, чем мирянам. Ну, к кому из нас приставлены легионы ангелов, а? Вот за твоей спиной они сейчас стоят, да, эти легионы? – она вновь повернулась к нему и продолжала, глядя прямо в глаза. – Но если я сейчас тебя обниму, сможешь ли ты воспротивиться?
Мефодия снова бросило в жар. Он хотел отвести взгляд, отступить хотя бы на шаг – и не мог: ноги точно приросли к земле. А она приблизила лицо к нему – они были почти одного роста, и губы ее прошептали почти у самых его губ:
– Сможешь? А если нет, то значит, никаких легионов ангелов за тобой не стоит! И всё это вранье и сказки, все эти слова о том, как спасительно монашество и как нехороши миряне!
«Я погиб!» – пронеслось у него в голове. Кажется, она прочла эту мысль в его глазах и, усмехнувшись, отступила на два шага и сказала, глядя ему в лицо:
– Я давно уже наблюдаю за тобой, господин Мефодий, больше года. Я ведь часто бываю в храме Святого Петра. Ты красиво служишь… Мне как-то показалось, что ты должен быть… честнее, чем все эти… Ты горд, а гордому легче быть честным!
Она немного помолчала, разглядывая игумена и словно раздумывая, а потом заговорила чуть тише:
– Когда мы сюда приехали из Медиолана, папочка нас по «святым обителям» стал таскать, любит он к преподобным отцам захаживать… И вот, пошли мы с ним в… Впрочем, ладно, не буду говорить, куда. В конце концов, все эти ваши монастыри одинаковы! Пришли, игумен нас принял, тут же с ним эконом был и еще несколько монахов из первенствующих… И мы к ним со всем благоговением и почтением, и я тоже, доверчивая я тогда еще была… Ну, вот. А через две недели пришел этот игумен к нам сюда с экономом, папенька ведь чуть не всех черноризцев рвется приглашать к нам, кормит, обхаживает… Лучше б нищих кормил, чем этих! – зло добавила она и продолжала. – Вот, пришли они, маменька их за стол посадила, еду им подала собственноручно, папаша рассыпается в благочестивых вздохах… А я благословение взяла у игумена и в сад пошла. Сижу на скамье и книжку читаю. И вот, этак через час смотрю – идет эконом тот самый, монастырский, будто гуляет. Подходит и говорит, что освежиться вышел, да и сад посмотреть, папаша, мол, позволил… И про сад стал спрашивать, какие тут у нас цветы… А у нас цветов много, и редкие всякие, мамаша любит… Я ему стала рассказывать, показывать… а он вдруг хвать меня за руку – и потащил в кусты. Я так растерялась, что и не вскрикнула даже. Не успела оглянуться, как уже в траве лежу, а он мне… под хитон лезет… И шепчет: «Не вздумай кричать, всё равно тебе никто не поверит!»
Сабина закусила губу и отвернулась. «О, Господи! – подумал Мефодий. – Бедный ребенок!.. Так вот что…»
– Спасла меня наша собака, – девушка продолжала, уже не глядя на него. – Она любит меня очень и как-то почуяла… Слуги говорили, что она как начнет рваться и лаять, и цепь сорвала, и понеслась… Набросилась на него и давай драть. А он – орать. А я – бежать… Собаку оттащили, а эконома от нас прямо во врачебницу на носилках отправили. После этого монахи к нам одно время ходить боялись, хоть папаша и звал постоянно… А потом опять заходили… Родителям я ничего не сказала, потому что… ну, зачем им такое потрясение, бедным? Они ведь думают, что, благотворя монахам, душу спасают!.. Я тебе первому рассказала эту историю. Кажется, легче стало… Можешь считать, что это была исповедь!
Она усмехнулась и умолкла. Мефодий попытался собраться с мыслями и, наконец, сказал тихо:
– Это, конечно, ужасно, и позор нашему чину… Но всё-таки, госпожа, неправильно по отдельным негодяям судить обо всех вообще.
– Неправильно? – Сабина вновь повернулась к игумену. – Вот я и хочу проверить, святой отец! – она улыбнулась и шагнула к нему. – Завтра мои родители с утра на целый день уедут, и я буду здесь одна. Если ты придешь, Мефодий, я допьяна напою тебя сладостью уст моих, – она опять приблизила лицо почти вплотную, и ее дыхание обвевало его губы, – и не только уст, Мефодий! Ты мне нравишься, Мефодий, потому что ты такой же гордый, как я, и так же любишь, чтобы другие покорялись твоей воле, это по твоей манере служить видно… Всё, что сейчас под этим хитоном, будет твоим, верь мне, я не обману! Ты будешь первым, кто сорвет мой цветок! Говорят, это должно быть очень сладко… – и она почти шепотом стала читать стихи – чьи, игумен на знал:
Мефодия охватил озноб, он побледнел от напряжения и ощутил, что сейчас больше не сможет сдерживаться и обнимет ее… Но Сабина отступила на шаг и сказала негромко:
– Нет, не сейчас, Мефодий! Здесь нас могут застать, и тогда не придется вкусить самого сладкого. Вот завтра нас никто не потревожит, и ты сможешь целовать меня, сколько захочешь!.. Если же ты не придешь, то тогда я, может быть, поверю, что не все монахи такие, как тот эконом, и что «легионы ангелов» существуют… До завтра!
Она двумя пальцами легко прикоснулась к его щеке, улыбнулась и быстро пошла прочь по дорожке.
Как он вернулся обратно за стол, как продолжалась беседа, как они с архимандритом поблагодарили хозяев, простились со всеми и вышли, Мефодий почти не сознавал. Он пришел в себя только на улице, на полпути к Саввской обители – и остановился, как вкопанный.
– Что с тобой, отче? – спросил Василий. – Ты сегодня какой-то… С тобой говоришь, ты вроде отвечаешь, а сам будто всё о другом думаешь…
– Я пьян, – усмехнулся игумен. – Послушай, отче, я с тобой не пойду сейчас. Мне нужно помолиться у мощей святого Петра. Я, может, и ночь там пробуду, так что ты не удивляйся, если я не вернусь вечером.
– Значит, тебя ждать утром?
– Да, если… если я хорошо помолюсь…
– Загадки ты задаешь, отче! – архимандрит улыбнулся. – Ну, а если плохо помолишься?
Мефодий вздрогнул и тихо ответил:
– Тогда ждите меня завтра к вечеру.
Он не воспользовался тенью портиков и шел прямо под солнцем, которое всё еще палило, несмотря на приближение вечера; пот тек с игумена ручьями, но он не замечал этого. Завтра ему предстояла казнь, и он не знал, как ее отменить. Откуда взялось это неудержимое влечение? Что за неодолимая сила влекла его к этой девушке? Как могло это произойти? Почему? Разве не случалось ему раньше встречать красивых женщин и девиц? Сабина была не права, когда сказала, что «красивая девушка одним своим взглядом» может свести на нет всё его монашество. Дело было не в красоте, а в самой Сабине. Почему именно она, почему именно сейчас?.. Откуда эта страсть, которая всё расплавила в нем? И только ли это плотская страсть и ничего более? Если только плотская, то почему именно к ней, а не к какой-нибудь другой красавице?.. А она сама – что движет ею? Просто желание посмеяться над монахом и показать, что его монашество ничего не стоит? Отомстить в его лице всем монахам?.. Но почему именно его она избрала для своего жестокого опыта? «Ты мне нравишься, Мефодий, потому что ты такой же гордый, как я…» Что же, сходство характеров – причина этого странного притяжения?.. И эта «исповедь»… Почему именно ему она доверилась?.. Он приложил руку к щеке: место, где коснулись ее пальцы, горело, словно от ожога; будь у игумена зеркало, он бы, пожалуй, посмотрел, не осталось ли там какой-нибудь отметины… Любовь?.. Но как он, избежавший этой ловушки в юности, попал в нее на четвертом десятке?!.. Наказание за гордость?.. Не иначе!.. Но что Сабина могла в нем найти – она, которой было, наверное, не больше пятнадцати лет? «Ты красавец, знаешь ли ты это?..» Глупости!.. Но ведь она определенно что-то нашла в нем… «Я давно уже наблюдаю за тобой…» Сабина!..
Теперь он ясно понимал, что больше не может противиться. Он шел в Петров храм в последней отчаянной надежде, зная, что если не случиться какого-нибудь чуда, то завтра он впадет в блуд. Ничто не могло отвратить его от этого поступка: ни то, что он оскорбит Бога попранием монашеских обетов; ни то, что он лишится священства и навлечет позор не только на себя, но и на всех греческих монахов Рима, да и не только на них, но и на страдавших сейчас за православие в отечестве; ни то, что наслаждение, которое сулила ему юная римлянка, продлится лишь несколько часов и не будет иметь никакого продолжения: ведь даже если б он вздумал сложить с себя самое монашество, никто бы не отдал ему Сабину, да она никогда и не пошла бы за него – дочь сенатора, одна из красивейших и богатейших невест в Риме, да еще младше его на столько лет! И мысль, что она просто хочет посмеяться над ним, не останавливала его: ему было всё равно, он хотел слиться с ней и раствориться в ней… как бы недолго это ни продолжалось и каких бы ужасных последствий не имело. «Я сошел с ума», – больше он никак не мог это назвать.
Когда он пришел в храм, там только что началась вечерняя служба. После нее, когда народ разошелся, Мефодий испросил у служителей позволения остаться на ночь, чтобы помолиться у мощей первоверховного апостола. Это была даже не молитва, а крик отчаяния. «Помоги мне!» – шептал игумен и клал, и клал земные поклоны… Спустилась ночь, но над гробницей сияли несколько неугасимых лампад. Наконец, Мефодий совсем изнемог, упал на пол и беззвучно заплакал: страсть по-прежнему терзала его, словно он всё это время не молился, а мечтал о Сабине. «Значит, завтра – конец!» – с этой мыслью последняя слабая надежда оставила его, он бессильно закрыл глаза и в тот же миг провалился в забытье. Уснул ли он или потерял сознание? После он не мог точно сказать этого, равно как того, сколько прошло времени до момента, когда вокруг внезапно стал разливаться свет. Игумен поднял голову и затрепетал: золотая крышка раки медленно приподнималась сама собой, и свет – нестерпимо яркий, Мефодий едва мог смотреть на него – исходил из гробницы. Когда крышка откинулась совсем, из раки поднялась фигура мужа, ростом выше среднего, коротко стриженного, с лысиной на затылке; он был одет в белоснежный хитон и препоясан золотым поясом, на ногах поблескивали золотые сандалии. Муж сошел из раки по воздуху и предстал перед Мефодием – светлый, сияющий, с величавой осанкой и спокойным взором, – и игумен узнал великого апостола: именно таким он был изображен на стенной мозаике над гробницей. Мефодий упал к его ногам и услышал ласковый голос:
– Встань, отче, и не бойся!
Он поднялся, но не смел взглянуть на святого. И тут Петр шагнул к игумену, протянул руку и через хитон дотронулся до его срамного уда. Резкая боль пронзила тело Мефодия, он согнулся в поясе и едва не закричал. Апостол отступил от него и сказал:
– Свободен ты от страсти, Мефодий! – повернулся, вновь поднялся в гробницу, лег в нее, и крышка опустилась, а золотистый свет исчез.
Когда игумен очнулся, он обнаружил, что лежит на холодном полу перед ракой. В высоких полукруглых окнах базилики брезжил рассвет. Мефодий пошевелился и невольно застонал: в пах ему точно вонзилось раскаленное железо. Он с трудом поднялся, стиснув зубы от боли, и вдруг понял, что нестерпимое влечение и страстный жар, уже больше месяца мучившие его, бесследно исчезли: он не ощущал ни малейшего желания увидеть Сабину.
– Слава Тебе, Господи милостивый! – прошептал он и, упав на колени перед святой гробницей, принес благодарение за помощь Богу и Его апостолу.
Помолившись за утренней службой, Мефодий возвратился в Саввскую обитель. Идти приходилось медленно: каждый шаг причинял ему боль, – но игумен даже радовался этому как епитимии за мысленный грех, в котором он пребывал в последнее время. Он зашел к архимандриту Василию, сообщил, что вернулся, и сразу затворился в своей келье. Оставшись один, он закатал хитон, взглянул и невольно вздрогнул: уд его странно скрючился и высох; теперь даже если бы Мефодий и захотел согрешить с женщиной, это было для него физически невозможно. Было по-прежнему очень больно, но уже не столь сильно, как поначалу. Игумен опустил хитон и, подойдя к окну, долго смотрел в синее, без намека на облачко, небо. «Воистину, “наказание гордому – падение его”! – подумал он. – И помощь гордому – ко смирению его: сильные борются со страстями и побеждают их, а немощные не могут избавиться иначе, как только став неспособными физически… Что ж, теперь буду меньше мнить о своем духовном преуспеянии!..»
За неделю боль в паху почти утихла, и игумен мог служить по-прежнему. В воскресенье он была на мессе в Петровой базилике, а после богослужения ему сказали, что какие-то иноки хотят говорить с ним. Он вышел в центральный неф, и к нему подошли двое монахов – как оказалось, приехав из Константинополя, они не знали, где лучше поселиться, и один из служителей посоветовал обратиться к Мефодию. Игумен ответил, что в Свято-Саввском монастыре их всегда с любовью примут, и что лучшего места для грекоязычных монахов в городе не сыскать. Разговаривая, они отошли от солеи ближе к раке с мощами святого Петра, и тут, случайно повернув голову, игумен увидел Сабину. Она стояла чуть поодаль, с тремя служанками, и смотрела на него… очень странно смотрела. Мефодий не ощутил даже отзвука прежней страсти ни в душе, ни в теле. Он слегка поклонился девушке, но она не шевельнулась, даже не кивнула в ответ, только еще несколько мгновений очень пристально глядела на него, а потом повернулась и, сделав знак служанкам, пошла к выходу из храма. Больше он никогда не видел ее.
…Сентябрь стоял очень сырой: дождь шел через день, но Мефодия такая погода располагала к чтению и научным занятиям. Игумен наконец-то, впервые после летнего искушения, взялся за отложенное «Размышление», однако, перечтя написанное, нашел его неубедительным, попробовал переправить, но неудачно, и в конце концов сжег свои записки. «Наверное, еще не время, – подумалось ему. – Да может, мне и не по чину писать такие вещи. Разве я епископ? А писать о чем собрался!.. Осуждаю Студита, а сам подражаю ему, только иным образом… Уж не была ли летняя напасть послана, чтоб остановить меня?» Тут мысли его невольно обратились к Сабине. «Что-то с ней стало? Так же ли она презирает монашеский чин, как прежде?.. А впрочем, она, должно быть, скоро выйдет замуж, если уже не вышла, и ей будет не до того! Подобные мысли у нее могли явиться, скорее всего, от излишней праздности… И тот случай с экономом, конечно, повлиял… Впрочем, это забудется со временем… Дай Бог, чтоб она устроилась в жизни!..»
Спустя несколько дней игумен неожиданно узнал, как устроилась жизнь его искусительницы. В Саввскую обитель вновь пришли сенатор Виталиан с супругой – побеседовать с архимандритом и внести очередное крупное пожертвование. Они также хотели передать деньги на нужды страждущих за православие иконопочитателей, и Василий пригласил Мефодия встретиться с ними. Виталиан и Юлия были очень рады увидеться с игуменом, попросили благословения и молитв, передали ему деньги, и Мефодий обещал отправить их с одним из хинолаккских братий в Константинополь.
– Помолись, отче, и за нашу Сабину, – сказала Юлия. – Замуж мы ее выдали недавно.
– О! – сказал игумен. – Вас можно поздравить.
– Да, слава Богу! – кивнул Виталиан. – Позавчера с мужем уехала в Равенну, у него там богатый особняк и земли, там и жить собираются. Слава Господу! А я уж было вовсе отчаялся, ведь сколько мучила она нас, и не рассказать!
– Да чем же? – удивился Мефодий.
– Ах, отче, – ответила Юлия, – к ней ведь уже кто только не сватался, и какие! Красавцы, знатные, богатые… Нет, ни в какую не шла! «А мне, – говорит, – они не нравятся!» – и весь сказ. И когда Марк посватался, мы и не чаяли: думали, раз уж она молодых отвергла, то за него разве выйдет, он ведь, отче, на одиннадцать лет ее старше! Правда, тоже собой недурен, да и положение завидное: командует легионом, денег не считает… Но удивила меня Сабина, право! Ведь и лучше жениха могла бы взять…
– Да слава Богу, что хоть так! – воскликнул Виталиан. – И этого-то заставила у себя в ногах валяться, прежде чем согласие дала. Правда, удивительно, что быстро согласилась… Но гордыня велика в ней, ох, велика!.. Помолись за нее, отче, чтоб она в разум пришла хоть немного! Мы уж отца Василия просили, вот и тебя просим… Марк, слава Богу, нрава не легкомысленного, может, и выйдет толк у них, может, и воспитает он ее хоть немного… Мы-то, грешные, избаловали ее…
– Конечно, я помолюсь, – сказал Мефодий. – Думаю, всё у них будет хорошо.
Он скоро простился и покинул «гостевую», но, закрывая за собой дверь, успел услышать, как Юлия сказала:
– Послушайте, ведь до чего странно! Я только сейчас приметила… Марк-то наш… на отца Мефодия похож! Ты, Виталиан, не замечал?
Ближе к концу декабря Мефодий получил письмо, написанное на латыни, крупным круглым, будто детским почерком.
«Здравствуй, отче! – говорилось в нем. – Надеюсь, ты не рассердишься на меня за это небольшое напоминание о себе, тем более, что оно первое и последнее. Я хотела попросить прощения за то, что так ужасно искусила тебя. Ты, может быть, уже знаешь, что я теперь почтенная замужняя женщина и живу в Равенне. Мой муж – прекрасный человек, очень умный и веселый. Правда, он то и дело вынужден отлучаться по долгу службы, и тогда я немного скучаю. Впрочем, время хорошо коротать за чтением. У мужа немало книг и много денег, так что можно покупать и еще. Я взяла в услужение одного грека с Сицилии и стала учиться у него вашему языку, уже немного понимаю и могу читать что-нибудь простое, а вместе с греком мы разбираем Гомера. В целом жизнь моя нехитрая. Но скоро, должно быть, станут рождаться дети, так что всегда будет, чем заняться. Я хотела также поблагодарить тебя за данный мне урок. Ты настоящий монах, и пусть Господь и дальше помогает тебе на твоем пути. Теперь я верю в легионы ангелов. Всё-таки я была ужасно глупой да и сейчас не очень поумнела. Прошу тебя, отче, молись обо мне хоть иногда. Как видишь, я не ставлю на письме обратного адреса, а значит, не жду от тебя ответа, а то ты, пожалуй, напишешь, что будешь молиться, чтобы Бог изгладил из твоей души память обо мне. Впрочем, это шутка. Я нередко вспоминаю тебя. Если у меня родится сын, я уже решила назвать его Мефодием. Жаль, что невозможно послать в письме улыбку. Прощай!»
Подписи не было. Игумен грустно улыбнулся, еще раз перечел письмо, зажег свечу и поднес листок к огню. Мефодий смотрел, как пламя поглощает папирус, и вдруг странная тоска сжала его сердце, не от мысли о Сабине – о ней он думал спокойно, как о хорошей знакомой, и только, – но при внезапном воспоминании о том, как почти четырнадцать лет назад он, честолюбивый юноша, мечтавший о мирской карьере и успехе в обществе, держал путь в Константинополь с рекомендательными письмами к отцовским знакомым и с внушительной суммой денег, когда встреча с Сардским архиепископом круто переломила его жизнь и направила совсем в иное русло. Он вдруг подумал, что, не заедь он тогда к владыке Евфимию, всё могло бы сложиться совсем по-другому, и как знать – быть может, он бы сейчас тоже, как муж Сабины, занимал бы высокое положение, был бы военачальником или влиятельным чиновником при дворе… Зашедший к нему в тот вечер Монемвасийский епископ, поговорив о текущих делах, пристально взглянул на Мефодия и спросил:
– Ты что так задумчив, отче? Какие-то новости?
– Нет… – игумен помолчал немного. – Знаешь, владыка, иногда бывает, что будто встречаешься с той жизнью, которую ты сам мог бы прожить, если бы обстоятельства сложились по-другому…
– Бывает, – кивнул Иоанн. – Но ведь главное – чтобы та жизнь, которую ты живешь на самом деле, была осуществлением самой лучшей из возможностей, правда?
Мефодий поднял на него глаза и улыбнулся:
– Да, конечно.
14. Маставрское дело
…у того, кто погряз в вожделениях или тщеславии и самозабвенно им служит, все мысли могут быть только смертными, и он не упустит случая, чтобы… приумножить в себе смертное начало. Но если человек отдается любви к учению, стремится к истинно разумному…, он, прикоснувшись к истине, обретает бессмертные и божественные мысли.
(Платон, «Тимей»)
Крате́р, стратиг Анатолика, стоял у окна и, хмурясь, перечитывал письмо, доставленное этим утром из Вониты. Около месяца назад стратиг Фракисия Орава в своем послании поставил ему на вид, что необходимо принять жесткие меры против заключенного в крепости Вонита «еретика Феодора», который письмами и беседами «развращает благочестивых людей и противится повелениям августейшего владыки». Поводом к письму Оравы послужило то, что двое клириков города Маставры во Фракисийской феме отложились от своего епископа-иконоборца и увлекли за собой некоторых монахов и мирян. Епископ устроил расследование и узнал, что отложившийся священник, настоятель одного из главных маставрских храмов Арсений, решился на «уход в раскол» после беседы с Феодором.
В октябре Арсений поехал в Хоны навестить своих родственников и, узнав, что не так далеко от них находится в заключении знаменитый Студийский игумен, решил посетить его и попросить наставления, молитв и благословения. Прибыв в Вониту, Арсений без труда получил разрешение поговорить с Феодором – к игумену пускали почти всех желающих, хотя при разговорах всегда присутствовал страж. Когда священник представился и просил благословения, игумен спросил, православную ли веру он исповедует.
– Конечно, отче! – ответил Арсений.
– Значит, ты чтишь святые иконы?
– Как же их не чтить!
– А состоишь ли ты в общении с патриархом Феодотом?
– Да, отче.
Феодор внимательно посмотрел на гостя. Арсений, казалось, был совершенно искренен и не видел в своих ответах никакого противоречия.
– Отче, мне кажется, ты сам не знаешь, что говоришь, – мягко сказал игумен. – Разве не Феодот председательствовал на соборе, ниспровергшем почитание икон? Как же ты, состоя с ним в общении, можешь говорить о собственном православии? Прости меня, но я не понимаю, как это может совмещаться.
Арсений растерялся.
– Но ведь… ведь святейший не запрещает желающим чтить святые образа! У нас в храме всё остается по-прежнему, иконы висят на своих местах!
– Тогда почему ты служишь в своем храме вместе с другими, а я, грешный, нахожусь здесь, и братия мои скитаются по «вертепам, горам и пропастям земным»? Как по-твоему, господин Арсений? Почему одни спокойно продолжают служить в храмах и жить в монастырях, а другие сосланы, заключены в темницы, бичеваны или терпят иные притеснения? За что умерщвлен брат наш Фаддей? Ведь ты, наверное, слышал, что он стал мучеником за икону Христову?
– Да, я знаю об этом…
– Так вот, отче, что я скажу тебе. Не может быть общения у гонимых с негонимыми. Если вы православны и благочестивы, но при этом продолжаете спокойно служить в своих храмах и поминать епископов, которые безмолвно, а то и приветственно приняли решения еретического сонмища, то за что страдают те, кто заключены и бичуемы за почитание икон? Что скажут вам те, кто скитается в горах и лесах и страдает от гонений? Если вы православны, то чего ради мы терпим всё это? Если же православны мы, страдающие за почитание Христова образа, то, прости меня, вы отступили от веры и поступаете беззаконно. Апостол призывает отлучаться «от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое вы приняли от нас». А вы смешиваете исповедание Христово и служите соблазном для благочестивых. Я знаю, многие из поступающих так говорят, что своими действиями спасают монастыри и храмы; ты тоже так считаешь?
– Да, я думал, что… и паства таким образом может спасаться, как прежде, и храмы сохраняются от осквернения… Так все говорят у нас и наш владыка тоже…
– Нет, отче, – покачал головой Феодор. – Подумай сам: святые иконы соборно отвергнуты, патриарх и другие епископы сосланы, многие монахи и миряне терпят лишения… А ты, служа в душепагубном обществе и в зараженном месте – именно так, а не в храме! – думаешь, что поступаешь хорошо? Как это возможно? Какой ты спас храм, если ты осквернил храм Божий – самого себя? Какую сохранил ты паству, если твое общение стало для нее заразой и растлением? Ты стал соблазном миру и примером отступничества! Увы, отче, мои слова тебе могут казаться жестокими, но я говорю истину. Если ты хочешь действительно быть православным, ты должен покаяться и отвергнуть общение с нечестивыми. Только так во времена гонений сохраняется благочестие – и никак иначе! Если ты изберешь страдать за Христа, которого теперь оскорбляют в Его иконе, то обрадуешь не только нас, грешных, но и всех ангелов и святых. А если не захочешь отвергнуть общение с нечестивыми, то я не смогу дать тебе своего благословения.
Священник поднялся со скамьи и упал игумену в ноги.
– Прости меня, отче! Я всё понял! Отныне я каюсь и желаю идти по твоему пути!
Получив разные наставления и благословение от вонитского узника, Арсений возвратился в Маставру и больше не приходил служить в свой храм, поначалу сказавшись больным. Когда же его навестил один из сослуживших ему прежде диаконов, с которым они близко дружили, Арсений рассказал ему о встрече с игуменом Феодором и об услышанном от него. В тот же день священник и диакон согласились более не служить со своим епископом, а еще через день Арсений отправился в храм и объявил собравшимся на богослужение, что отрекается от общения с иконоборцами. Случай этот вызвал в Маставре большой скандал. Оба отложившихся были в тот же день брошены в тюрьму. Епископ стал допрашивать всех клириков города, но ничего не узнал; тогда он пригласил к себе близких родственников Арсения и его друга-диакона. Те отмалчивались, но когда епископ стал угрожать, что император прикажет до смерти бичевать отложившихся, жена диакона не выдержала, расплакалась и стала умолять пощадить ее мужа, пошедшего за Арсением «просто по глупости».
– Значит, зачинщик этого беззакония – отец Арсений? – спросил епископ.
– Он, он, владыка святой! – всхлипывая, закивала женщина. – Как мой-то у него побывал, так и… Ы-ыы! – опять заголосила она. – Господи, что же это за наказание такое?!
– Ну, не надо так убиваться, почтеннейшая! Надеюсь, наш отец диакон вскоре образумится! А скажи-ка, госпожа, не знаешь ли ты, почему отцу Арсению пришла в голову такая безумная мысль?
– Знаю, знаю, владыка! Сейчас расскажу! Он недавно к родственникам своим ездил в Хоны… Ну, и узнал, что там недалеко игумен этот бывший Студийский заключен, Феодор, будь он неладен! Вот он и решил его посетить, на свою голову! А тот ему наговорил всякого… сказал, будто мы все тут еретики… Благословения дать не хотел, пока отец Арсений не откажется от общения со святейшим Феодотом!
– Так вот оно что!
Епископ немедленно отправился к стратигу Ораве и доложил ему о результатах расследования. Орава, убежденный иконоборец, за ревностную поддержку нового церковного курса получивший командование во Фракисии, в тот же день написал как Анатолийскому стратигу, так и императору, сообщая о случившемся с маставрскими клириками. «Не следует, почтеннейший, – писал он Кратеру, – оставлять без внимания презирающих законы благочестивейшего государя и допускать, чтобы нарушители проводили свою жизнь безнаказанно». Кратер сразу же послал в Вониту запрос о том, посещал ли узника Феодора маставрский клирик, и призывал ли Феодор его порвать общение со своим епископом и с патриархом. Дождливым ноябрьским утром он получил утвердительный ответ – и понял, что на горизонте сгущаются тучи. Коль скоро Орава сообщил императору о происшедшем в Маставре и о роли в этом Феодора, то, если к «проклятому игумену» не принять суровых мер, Кратеру и самому может грозить наказание за попустительство… В тот же вечер, призвав к себе комита Феофана, стратиг в спешном порядке отправил его в Вониту.
Комит застал узников за написанием «Опровержения иконоборцев»: Феодор диктовал, а Николай записывал. При них был еще один студит, Андрей, который тоже делал отдельные пометки и записи для себя, – записывать всё подряд он не мог, не будучи таким скорописцем, как Николай. Когда в замке заскрежетал ключ, Николай вскочил и быстро спрятал исписанные листы под рогожку на полу. Андрей хотел последовать его примеру, но замешкался, сделал неловкое движение, и листы разлетелись по комнате, один из них упал прямо под ноги вошедшему Феофану. Тот подобрал его и прочел: «Следует ли, говорят, поклоняться надписанию или только изображению, чье название написано? – Вопрос подобен тому, как если бы кто спросил, следует ли поклоняться Евангелию или наименованию не нем, образу креста или написанному на нем. Каким образом можно отделить именуемое от имени, коим оно именуется, чтобы одному из них поклоняться, а другому нет?» Комит покачал головой, протянул листок Андрею, собиравшему рассыпанное, и сказал, обращаясь к Феодору:
– Здравствуй, отче! Ты очень неосторожен, как я вижу.
– Здравствуй, господин, – поклонился ему игумен. – Думаю, что не очень, а ровно в той мере, в какой требует положение дел.
– Боюсь, что положение дел требовало бы от тебя прекратить сношения с окружающими, в противном случае ты можешь вовсе лишиться возможности говорить и писать.
– Я ко всему готов, господин, – сказал Феодор. – А говорить и писать должное буду до последнего издыхания, как я уже сказал приходившим к нам до тебя. Но ты, видимо, имеешь какой-то приказ императора относительно нас?
– Не императора, а стратига Анатолика господина Кратера, который и послал меня, – Феофан остановился, опустил глаза и продолжал с некоторым смущением. – Мне приказано дать тебе пятьдесят ударов бичом.
Андрей опять выронил собранные листы. Николай сделал движение к игумену, словно хотел защитить его своим телом. Феодор шагнул вперед и сказал:
– Что ж, исполняй то, что тебе приказано, чадо.
Игумен спокойно развязал пояс и отдал его Николаю. Тот принял, закусив губу; Феодор тихонько сжал ему руку выше кисти и еле заметно ободряюще улыбнулся, а затем стал снимать с себя параман. Феофан смотрел на узника с каким-то испугом. Когда игумен уже собрался снять и хитон, комит воскликнул:
– Нет-нет, постой, отче, не надо!
Он схватил Феодора за руку, а потом вдруг упал пред ним на колени:
– Нет, отче! Бичевать тебя я не буду! Нет, нет… Прости меня, грешного, что я вообще заговорил об этом! Благослови меня, отче, и я уйду!
Николай прижал руку к груди, Андрей с восторгом глядел на комита, а Феодор вздохнул словно с сожалением и сказал:
– Да благословит тебя Господь за твою доброту, господин! Но смотри… стой до конца на избранном пути!
Они еще немного побеседовали, а когда Феофан собрался уходить, игумен спросил его:
– А почему господин стратиг так прогневался на мое смирение?
– Он не сказал мне об этом, – ответил комит. – Но подозреваю, что виной тому скандал в Маставре… Ведь у тебя тут был тамошний клирик?
– Да, был.
– Так вот, он отложился от своего епископа и увлек за собой еще несколько человек. Кажется, это дело уже дошло до государя…
Когда Феофан вышел, Феодор перекрестился и тихо сказал:
– Слава Богу, укрепляющему рабов Своих! Да поможет Он отцу Арсению и всем, подвизающимся о благочестии!
Возвратившись, Феофан доложил Кратеру, что всё исполнил по его приказу.
– А что… – начал было стратиг, но не успел договорить.
Дверь распахнулась, и в приемную прямо-таки ворвался высокий мужчина, одетый в темно-зеленый расшитый золотом скарамангий и такие же штаны; полы синего шелкового плаща с золотой оторочкой развевались, словно крылья, – так быстро он вошел. Пружинистая, стремительная и в то же время мягкая походка, огненно-рыжая густая шевелюра, широкие скулы и хищный изгиб губ придавали вошедшему сходство со львом или тигром; небольшие глаза странного желтовато-зеленого цвета сверкали, как у кошки; в правой руке он держал хлыст для верховой езды. Кратер вздрогнул при его появлении: это был протоспафарий Анастасий Мартинакий, назначенный василевсом на должность великого куратора и получивший при дворе большое влияние.
– Здравствуй, господин Анастасий! – поклонился ему Кратер.
– Будь здрав и ты, пока здравствуется! – ответил ему Анастасий и усмехнулся. – А не то, глядишь, можно и болезней нажить… Больную спину, например, – хищно улыбнувшись, он слегка щелкнул хлыстом.
– Присаживайся, – сказал Кратер, стараясь держаться как можно спокойнее. – Чем мы обязаны твоему посещению?
– Да вот, господин стратиг, – ответил Мартинакий, усаживаясь в кресло и постукивая рукояткой хлыста по сапогу, – до августейшего государя дошли сведения, что в подчиненной твоему почтенству области не всё спокойно в отношении соблюдения догматов нашей святой веры. Он и послал меня выяснить, так ли это, и если так, то кто в этом виноват.
Протоспафарий говорил не спеша, негромко и даже вкрадчиво, но огонек, горевший в его глазах, не давал обмануться. У стратига мороз пошел по коже. «Письмо Оравы! – молнией сверкнуло у него в мозгу. – Дьявол!..»
– Я, право, не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, господин Анастасий, – сказал он, изо всех сил стараясь не выдать охватившего его страха. – Божией милостью, в нашей богоспасаемой области всё в целом спокойно. Недоумеваю, что могло так встревожить державного владыку. Хотя нечестивые еретики иногда поднимают голову, мы всегда быстро усмиряем их дерзость.
– Так ли уж? – усмехнулся Мартинакий. – А кто распустил этого нечестивца в Воните? Его руки удлинились настолько, что достигли даже до соседних фем! Разве ты не знаешь, господин Кратер, что в Маставре через Феодора возникла церковная смута, с которой до сих пор не могут справиться? – голос великого куратора звучал всё более гневно и угрожающе. – Разве не было приказано вам стеречь этого смутьяна крепко и смотреть за ним в оба?
– Но за ним смотрели! – возразил Кратер. – К нему давно приставлена стража, его не оставляют одного ни днем, ни ночью, он даже спит под наблюдением воина!
– Прекрасно! В таком случае как это так выходит, что он и при страже умудряется обращать приходящих в свою ересь? Что толку в страже, если она пускает к нему всех, кто бы ни пришел?
– Но…
– Какие еще «но»? По этому негодяю плачут бичи, но гляди, господин Кратер, не заплакали бы они и по тебе!
– Господин Анастасий, – сказал стратиг с торжеством в голосе, поднимаясь со стула, – смею тебя уверить, что бичи по Феодору уже не плачут. Господин Феофан только что прибыл из Вониты, где, по моему приказу, дал этому смутьяну пятьдесят ударов, – и Кратер указал протоспафарию на комита, который во всё время разговора следил за Мартинакием с некоторым испугом.
Великий куратор посмотрел на Феофана взглядом готовящегося к прыжку тигра.
– Это правда, господин Феофан?
– Сущая правда! – кивнул слегка побледневший комит.
– Пятьдесят ударов?
– Да, господин.
– Маловато!.. Вот что, – Анастасий поднялся, – поскольку государь сильно разгневан, а маставрское дело до сих пор не улажено, к этому студийскому разбойнику нужны еще более суровые меры. Придется мне самому взглянуть, как обстоят дела в Воните. Так ли, как вы говорите, или иначе.
Мартинакий сверкнул на стратига и комита зеленоватыми глазами, переложил хлыст из одной руки в другую и, не прощаясь, вышел.
…Иеромонах Дорофей уже почти год сидел в подвале Воскресенского монастыря, куда его перевели после бичевания в Претории. Видимо, его хотели уморить медленной и неявной смертью, поскольку не только заключили в очень тесное и душное помещение, но и почти не кормили, а покрытый плесенью хлеб, который выдавали раз в день, Дорофей едва мог есть. Пищу заключенному приносил сам настоятель, при этом всегда называя иеромонаха «идолобеснующимся» и всячески насмехаясь над ним. После бичевания спина заживала долго и мучительно, а страж-игумен не давал не только масла, но даже и воды, чтобы смазывать раны. Всё-таки выжив, Дорофей воспринимал это как чудо. И вдруг на третий месяц заключения он стал получать передачи – одежду, обувь, еду. Всё это тайком от игумена передавал ему один воскресенский монах по имени Астий, каким-то образом сумевший раздобыть копию ключа от подвала. Через несколько недель он передал узнику холщовый мешок, где оказались молитвослов, «Беседы» святого Макария Великого и свечи. Никаких записок ни к одной из передач не прилагалось, и узник недоумевал, кто бы мог быть его нежданным благодетелем. Кто-нибудь из братий? Но почему тогда ни одного письма? Или Астий не передает их из боязни, что попадется? – Ведь за передачу писем от студитов, а особенно от Феодора можно было жестоко поплатиться. Поначалу Дорофей так и думал, и когда получил книги, то бросился листать их в поисках какого-нибудь условного знака, но ничего не обнаружил. Тогда он задумался: по всему выходило, что передачи шли не от студитов. От кого же? Астий ничего не говорил, но Дорофей замечал, что он будто бы посмеивается над ним. Иеромонах недоумевал и, молясь о «благодеющих», стал просить, чтобы Господь открыл, кто же так заботиться о нем. Через два дня Астий, передавая заключенному очередной сверток, фамильярно похлопал его по плечу, и Дорофей ощутил, что от монаха пахнет вином. Астий подмигнул и сказал с развязной улыбкой:
– Ты, отче, всех тут перещеголял, скажу я тебе! Уж кто-кто у нас не сидел в этих подвалах – и священники, и монахи, и игумены, – но такие красотки, как к тебе, ни к кому из них не ходили!
Узник недоуменно посмотрел на монаха.
– Да, – продолжал тот, – и нечего невинность из себя строить! Такие девушки так просто ходить не будут! Зазноба у тебя, что надо! Просто… ну, Елена Прекрасная!
Разгневанный иеромонах уже хотел было осадить Астия, но вдруг догадался:
– Ты про ту, что носит мне передачи?!
– Ну, а про кого ж? – Астий удивленно взглянул на Дорофея. – Э, да неужто ты и впрямь не знаешь, кто к тебе ходит?!
– Вот как пред Богом говорю: не знаю! Сам давно хочу узнать, кто мне благодеет… Скажи, какая она из себя? Может, я и знаком с нею…
– Да уж верно знаком! Она-то, по крайней мере, тебя знает, иначе с чего бы именно о тебе так заботиться стала? Тут и до тебя сиживала ваша упрямая братия, да только девицы этой я не видал… И видно, из богатых она, этак деньгами сорить! Она ж ведь меня прямо, можно сказать, озолотила! Только б любезного ей отца Дорофея ублажить! – Астий опять подмигнул. – Ну, не серчай, отче! Шучу!
– Скажи лучше, какая она из себя! Сколько ей лет?
– Да юная она совсем, больше четырнадцати ей точно не дам! А то и поменее… Но красавица! В жизни не видал таких! Да у нее и служанки как на подбор тоже все хорошенькие такие… Я-то ведь, брат ты мой, привратником стою каждый третий день… Вот, в мое дежурство и приходит она, да… И такая вся из себя… ээ… тонковоздушная… А глаза! Синие, огромные, просто море!
О том, что Дорофей заключен недалеко от их дома, в Воскресенской обители, Кассия с матерью узнали не сразу. Когда письма от иеромонаха прекратились, а потом пришла весть от эконома Навкратия, что он в числе прочих схвачен и бичеван в Претории, Марфа послала туда одного из слуг, разведать, что стало с исповедниками, и передать им еду и одежду, если это будет возможно. От сердобольного тюремщика, который отдал студитов Григоре, слуга узнал об их судьбе и о том, что Дорофей переведен из тюрьмы, а куда – неизвестно. Слуга сумел отыскать Григору, передал ему приношения от своей госпожи и деньги на содержание братий. Виссарион уже почти поправился, но с Иаковом дело было плохо: монах не умер, но от перенесенного избиения у него отнялись ноги, а в спине он ощущал такую боль, что не мог ни стоять, ни даже сидеть. Так он и лежал в расслаблении, сильно страдая, но терпел молча, чем удивил даже врача, который сказал Григоре, что при таких повреждениях больные обычно стонут, а то и кричат почти постоянно… Марфа пыталась наводить справки об отце Дорофее через разных знакомых, но безуспешно. И вот, как-то раз знакомая спафарокандидатисса при встрече на рынке на вопрос о том, как идут дела, расплакалась и шепотом, почти на ухо рассказала Марфе, что сын собрался уходить в монастырь.
– В Воскресенский хочет идти, тот, что при храме святой Анастасии… А там ведь, Марфа, иконопочитателей мучают! Сколько уж там их перебывало, ох! А сейчас, как мне сказали, одного иеромонаха из студитов там голодом морят!
– Иеромонаха? А как звать его, ты не знаешь?
– Ой, забыла, душенька! Говорили мне… На «д» как-то… Домний? Нет… Досифей, что ли?..
– Может, Дорофей?
– Да-да, точно! Говорят, после бичевания его туда привезли, бедного!
Марфа послала в Воскресенскую обитель слугу с наказом попытаться узнать что-нибудь об отце Дорофее. Это удалось не сразу: иноки в разговоры с посторонними не вступали, а когда Геласий заговорил с несколькими братиями, чинившими монастырскую стену, и спросил, правда ли, что в обители держат «мятежников из Студия», монахи испуганно посмотрели на него, и один сказал полушепотом:
– Уходи, добрый человек, уходи, Христа ради! Не велено нам говорить об этом! Игумен узнает – прибьет!
Геласий приуныл, но когда он уже отправился домой и проходил мимо монастырских ворот, небольшая узкая дверь слева от них вдруг отворилась, и показалось круглое хитроватое лицо черноризца.
– Ты, милейший, что тут ходишь взад-вперед? Потерял чего? Так я тебе найти, может, помогу… за умеренную плату, конечно!
Так Геласий познакомился с Астием, который за две серебряных монеты не только рассказал все подробности о содержании Дорофея в подвале обители, но и согласился, при условии дальнейшей «умеренной оплаты услуг», делать ему передачи. Первую посылку для Дорофея принесла Марфа, но после этого неожиданно сильно занемогла и почти месяц пролежала в постели. Тогда Кассия сама стала носить передачи в Воскресенский монастырь. Услуги Астия вознаграждались щедро, а любопытство – очень скупо: на все попытки узнать, кто она и откуда, Кассия только хмурила брови и качала головой. Она запретила привратнику говорить Дорофею о том, кто делает ему передачи, однако Астий думал, что и заключенный, и его благодетельница просто «притворяются». Но наконец, монах не стерпел и решил выпытать у самого Дорофея, что это за «красотка».
– Синие глаза?! – воскликнул иеромонах.
– Что, знаешь ее?
– Да, – улыбнулся узник, – знаю.
15. Исповедники
Если и избавлюсь нынешнего мучения от людей, но руки Всемогущего я ни живой, ни мертвый не избегну. Посему, мужественно ныне расставшись с жизнью, старости достойным явлюсь, юным же образ доблести оставлю, как умирать усердно и мужественно за досточестные и святые законы.
(II Книга Маккавейская)
Феодор спал беспокойно, стонал, метался и опять стонал, – любое движение причиняло ему боль. Николай осторожно положил руку ему на лоб – он горел. Тряпицы, которыми были обвязаны раны, уже почти высохли. Кусая губы от боли, Николай приподнялся, ощупью нашел в холщовом мешочке льняной лоскут, но тут вспомнил, что воды в сосуде почти не осталось. От жажды у него давно пересохло во рту, и он едва подавил желание допить воду – игумен, когда проснется, попросит пить, надо сберечь для него… С трудом Николай поднялся на ноги и, хватаясь за стены, дошел до двери. Осторожно постучал, боясь разбудить Феодора. Не дождавшись ответа от стражника, постучал сильнее, но снаружи было тихо. Должно быть, страж заснул, ведь сейчас уже, кажется, поздно… Но где же раздобыть воды? Внезапно Николая охватило отчаяние. Он сполз по стене на холодный пол и заплакал. Пить хотелось невыносимо, внутренности горели, даже боль от ран отступала перед этим огненным мучением. Сколько может человек прожить без воды? Подвижники в пустыне проводили без воды даже недели… «Я не подвижник, я так всё равно не смогу… Значит, умру… И отец умрет… умрет здесь, в этой тьме, в этой грязи!.. И эти богоборцы закопают его в землю где-нибудь за стеной, как собаку… А может, и не закопают, а так бросят… с них станется…» Феодор опять застонал, и слезы брызнули из глаз Николая. Он бы всё отдал, только бы отцу стало легче, он бы собственную кровь выцедил, он бы умер, претерпел бы любые пытки, только бы не мучили отца, только бы не трогали его! Что они сделали с ним! Как могли, как смели они так поступить с ним?!.. Как допустил это Господь? Зачем? За что?!..
– Почему Ты допустил это?! – прошептал Николай.
Господи, как хочется пить!.. Ему вдруг показалось, что из противоположной стены начинает течь вода, сначала тонкой струйкой, потом сильнее… Вода! Николай попытался встать, но не смог; в следующий миг он потерял сознание.
Когда он очнулся, голова его лежала на коленях у игумена, и Феодор осторожно вливал ему в рот по капле ту самую воду, которую Николай хотел сберечь.
– Отче, – проговорил Николай.
– Пей, пей.
– Нет. Тебе, – Николай сомкнул губы, не давая больше поить себя.
Феодор вздохнул и отставил сосуд.
– Выпей, – прошептал Николай. – Я… не буду… Выпей, отче!
Игумен внимательно посмотрел на ученика, взял сосуд и допил воду – ее уже почти не осталось. Николай повернул голову и ужаснулся: Феодор сумел перетащить его обратно к подстилкам – как он это сделал, ведь ему так больно?!.. На полу – следы крови – чьей? Игумена или его собственной, или обоих?.. Господи, как больно!.. А отцу как?!..
– Отче.
– Да, чадо. Не плачь. Господь милостив!
– Я усомнился, отче… Я подумал… мы умрем тут… и это всё… А они будут смеяться… торжествовать…
– Нет, брат. Просто мы еще должны потерпеть. Еще не исполнились суды Господни… Нынешняя ересь – бич Божий. Как у больного жар не спадает, пока не перегорит внутренняя гнилость, так и Церковь не может получить мир, пока болезнь от наших грехов не будет заглажена бичующей ересью… Господь вразумит, а потом исцелит, в нужное время. Это судьбы Божии, и не нам исследовать их. Не падай духом!
Феодор побледнел и замолк, на мгновение закрыв глаза.
– Отче, зачем ты… тащил меня? – прошептал Николай.
– Пустяки, чадо, – Феодор взглянул на него и чуть заметно улыбнулся. – Не горюй! Скоро утро, и нам, может быть, принесут воды. А если не принесут, умрем тут за Христа, и страдания наши кончатся… И то, и это – великий дар Божий. Видишь, что бы ни случилось с нами, всё будет хорошо, и нужно благодарить, а не роптать!
После их бичевания прошло восемь дней. Анастасий Мартинакий, прибыв в Вониту, первым делом отправился к узникам и потребовал, чтобы Феодор разделся. Когда игумен исполнил приказ, великий куратор расхохотался и воскликнул:
– Где же следы бичей?
Страж, постоянно находившийся при заключенных, испуганно заморгал. Анастасий обернулся к нему:
– Бичи сюда и парочку скамей, да поживее! Ишь, рассердобольничались! Живей, живей, а то и тебе достанется! Охраннички! Вам впору дохлых крыс охранять, а не государственных преступников!
Собственноручно дав Феодору с Николаем по сто ударов, Мартинакий приказал заключить их, почти бездыханных, в помещение под крышей, забить дверь, оставив только небольшое отверстие для передачи пищи, и не давать узникам ничего, кроме хлеба, воды и дров. Кого-либо пускать к ним для свидания было запрещено, даже лестница от двери была отставлена – ее разрешалось придвигать только раз в день, когда охранник приносил заключенным пищу. Кругом поставили военную стражу, не только внутри, но и вокруг дома: она встречала всякого, входящего в крепость, и не позволяла даже приближаться туда, где были заключены студиты. Великий куратор навел на обитателей крепости такого страха, что даже после его отъезда несколько дней все разговаривали друг с другом шепотом и боялись лишний раз вступить в беседу. Только один из стражей, приставленных к студитам, изредка дерзал приносить им из дома еду, воду и тряпицы для перевязки ран, чтобы они совсем не умерли «в этом гробу», как назвал Феодор их новое жилище.
На другой день после бичевания вонитских узников Мартинакий уже был у стратига Анатолика.
– Ну, господин Кратер, – воскликнул он с порога, – ты меня удивил! Я знаю случаи, когда этих негодяев по сердобольности, а точнее, по глупости били меньше, чем следовало. Но вот чтобы их вообще не били, столь наглым образом попирая повеления державного, это впервые вижу. Поистине, тебе подобает песнь… сыгранная на струнах из тех самых воловьих жил, что ты пожалел для студийского разбойника! – последние слова Анастасий произнес с расстановкой и таким тоном, что стратига бросило в дрожь.
– Ч-что?! – ошарашено спросил он.
– А то, что никаких следов от бичей на спине этого пса я не обнаружил! Его и пальцем не тронули! Неужто для тебя это новость?
– Вот перед Христом Богом говорю: я ничего не знал! – воскликнул стратиг, бледнея. – Это всё Феофан, негодяй!.. Ну, сейчас я ему покажу!
Он схватил с крючка на стене палочку с железным шариком на конце и что есть силы заколотил по висевшему тут же металлическому кругу. Двумя ударами вызывался секретарь, тремя – стража, четырьмя – хартуларий, но поскольку разгневанный стратиг стучал много и без счета, то прибежали сразу все и испуганно столпились в дверях.
– Комита Феофана позвать сюда, срочно!
Феофан пришел через четверть часа, приветствовал Кратера и Анастасия и остался стоять посреди комнаты. Комит был бледен, но спокоен. Ему уже сообщили, что опять приехал «этот рыжий», и что стратиг в таком гневе, в каком его давно никто не видел; Феофан понял, что его обман разоблачен, и приготовился к худшему. Он знал, что Кратер чрезвычайно боится прогневать императора, а потому постарается выгородить себя и, скорее всего, образцово-показательно покарать виновного.
– Так значит, господин Феофан, ты дал Феодору пятьдесят ударов? – спросил стратиг, и в его голосе вдруг послышались те же самые вкрадчивые нотки, которые наводили ужас на собеседников, когда говорил Мартинакий.
– Нет, – тихо ответил комит. – Я не бил его.
– Смотрите-ка, – воскликнул Кратер, обращаясь к великому куратору и к стоявшему у дверей стратиоту, – он, похоже, даже не раскаивается!
– Нет, не раскаиваюсь. Я не могу бить монахов, тем более священников, уже убеленных сединами. Если бы ты послал меня опять, господин, я бы снова не тронул отца Феодора.
– Так, – стратиг смерил Феофана взглядом с головы до ног. – Понятно… Ну, что же, в таком случае, придется возместить на тебе то, чего ты не додал этому треклятому еретику. Раздевайся! – он взглянул на стратиота. – Две скамьи сюда, веревки и бичи!
Пока шли суетливые приготовления к бичеванию, Анастасий сидел в кресле и молча, чуть заметно усмехаясь, наблюдал за происходящим. Когда стратиоты привязали обнаженного Феофана к сдвинутым скамьям, стратиг взял в руки бич.
– Отойдите! Я сам… Раз!
Феофан дернулся, но не издал ни звука.
– Два! Три! Четыре! – считал стратиг, махая бичом.
– Э, господин Кратер, постой-ка! – сказал вдруг Мартинакий.
Стратиг остановился и взглянул на великого куратора с некоторым удивлением.
– Ты, я вижу, бить-то как следует не умеешь, – усмехнулся Анастасий. – Разве так бьют? Дай, покажу!
Он не торопясь отстегнул золотую фибулу со вставкой из синей яшмы, снял плащ, аккуратно сложил вдвое и повесил на спинку стула, вытянул вперед руки, несколько раз согнул и разогнул, повел плечами и взял у Кратера бич. Стратиоты и стратиг смотрели на эту разминку, почти затаив дыхание.
– Ну, сколько там было уже, пять? – спросил великий куратор. – Считай дальше! – и он взмахнул бичом.
– Шесть! Семь!
Феофан издал глухой стон: вместо красных полос вспухавшей кожи, оставленных ударами стратига, на спине комита появились кровавые. На двадцатом ударе Мартинакий остановился и отдал бич Кратеру.
– Теперь понял, как надо? С оттяжкой надо, господин стратиг, эти бичи оттяжечку любят, – Анастасий улыбнулся. – Давай, попробуй, а я посчитаю.
Он снова сел и заложил ногу на ногу.
– Двадцать один! Двадцать два! Вот-вот, хорошо! Молодец! Двадцать пять!..
После пятидесяти ударов спина Феофана была истерзана в клочья. Когда комита отвязали, встать самостоятельно он не смог, и стратиоты подняли его под руки.
– В подвал его на десять дней! – приказал стратиг. – На хлеб и воду! Если жена его придет или родственники, всех гнать в шею! Через десять дней пусть приходят и забирают… Негодяй!
Кратер бросил бич на пол, сел и отдышался. Вид пролитой им крови подействовал на него возбуждающе. Когда стратиоты увели Феофана, унесли скамейки и бич, вытерли пол и вышли, стратиг взглянул Анастасию в глаза и улыбнулся плотоядной и торжествующей улыбкой. Мартинакий усмехнулся и встал.
– Вот ты, господин Кратер, – сказал он, надевая плащ, – видно, считаешь, что я человек жестокий?
Стратиг вздрогнул от неожиданности.
– Э-э… – подходящий вежливо-обтекаемый ответ не приходил ему в голову, а совсем врать, что нет, не имело смысла.
– Да ты не бойся, я не обидчив. Это я просто к тому, что теперь ты сам видишь: с нашими людьми иначе нельзя! Мягкосердечны, глупы… Но хитры при этом, мерзавцы! – великий куратор застегнул фибулу и пригладил непокорные волосы. – Вот и приходится с ними скорее жестко, чем мягко… Ну, я поехал, надо уж домой!
– Как, и на обед не останешься? – удивленно спросил Кратер.
– Нет, дружище, прости, спешу! – и Анастасий улыбнулся совсем по-другому, неожиданно открыто и радостно. – Сын у меня родился, крестить уж собрались, а тут государь послал по этому делу… Вот, все мои меня дожидаются, тороплюсь! В дороге где-нибудь перекушу…
– О, поздравляю! Сын-то такой же рыжий? – улыбнулся и стратиг.
Мучительный страх, терзавший его с момента первого приезда Мартинакия, совершенно оставил Кратера, и он чувствовал в душе пьянящую легкость.
– Нет, в мать пошел, темный! – Анастасий был уже у двери. – У нас волосы передаются через поколение: я вот в деда… Значит, внуки засияют солнцем!
– А назвать как решили?
– Ингером. Жена, правда, Андреем хотела, но я сказал: нет, будет Ингер! Прадеда и деда моего так звали. Славные были мужи, воины, гордость рода!.. Ну, всё, пора мне! Прощай, господин Кратер!
– С Богом! Поклон державному!
– Всенепременно передам!
Выслушав доклад Мартинакия, император решил еще ужесточить меры против иконопочитателей и в тот же день приказал арестовать находившихся в Саккудионском монастыре Навкратия и других монахов – из перехваченных недавно писем окончательно стало ясно, что именно через студийского эконома поддерживалась в основном связь братий с заключенным в Воните игуменом. Вскоре схваченные в Саккудионе братия были доставлены в Брусу. Навкратия и еще семерых бичевали и заключили в тюрьму, где они находились около двух недель, после чего под конвоем были отправлены в столицу, несмотря на незажившие раны от бичей и зимнее время. В Константинополе Навкратия посадили в одиночную камеру в тюрьме Претория, а бывших с ним – в Елевфериеву тюрьму. В Претории Навкратий провел еще около месяца, а затем оказался в подвале Сергие-Вакхова монастыря, где его больше недели держали впроголодь, раз в день выдавая ломтик черствого хлеба и немного воды, так что узник совсем ослабел. Наконец, наутро девятого дня его вывели из подвала, провели по каменной лестнице на второй этаж и ввели в комнату с иконой Богоматери над столом и картой Империи на стене. Навкратий по пути уже догадался, что ему предстоит разговор с «нечестиеначальником», как прозывал Иоанна в письмах Студийский игумен. Действительно, Грамматик поднялся со стула навстречу узнику, окинул его внимательным взглядом и сделал приведшим его монахам знак выйти.
– Здравствуй, почтенный отец! – сказал Иоанн, когда они остались вдвоем. – Садись. Давно я желал тебя видеть.
– Признаться, я тоже, – усмехнулся Навкратий, опускаясь на лавку у стены.
– Хочется разоблачить «нечестивого софиста»? – улыбнулся Грамматик, поудобней устраиваясь в кресле у окна.
– Скорее, узнать поподробнее о его доводах.
– Что ж, прекрасно! Значит, наша беседа пройдет к обоюдному удовольствию, – Иоанн скрестил на груди руки. – Итак, по-твоему, Христа и святых подобает изображать на иконах для поклонения, господин Навкратий?
– Да.
– На каком основании ты так считаешь?
– Ведь тебе известно, думаю, что почитание икон – древний обычай. О том, что иконы существовали, сказано во многих писаниях. Отцы восхваляют искусство живописцев и говорят о пользе созерцания Христа и святых на иконах. Святой Григорий Нисский…
– Погоди, отче, – прервал его Грамматик. – «Я часто видел на иконе изображение страдания и без слез не проходил мимо этого зрелища, так живо искусство представляет зрению событие», – это высказывание мне известно. Равно как и великого Василия. Ведь ты, отче, – улыбнулся Иоанн, – далеко не первый, с кем я беседую об иконах, и эти доводы мне довелось слышать неоднократно. Но не все отцы учили одинаково об иконах, а потому вопрос этот всё же из числа спорных. Например, святой Епифаний Кипрский вопрошает: «Пусть рассудит твое благочестие, прилично ли нам иметь Бога, начертанного красками?» И еще в другом месте он говорит: «Я слышал, что некоторые предлагают живописать и необъятного Сына Божия; трепещи, слыша это!» Я, кстати, могу показать тебе и книгу с его произведениями, где он говорит об этом, чтобы ты не подумал, будто я обманываю тебя.
Иоанн говорил не спеша и внимательно разглядывал сидевшего перед ним монаха. Навкратию было уже за пятьдесят; выглядел он, впрочем, моложе своего возраста, но волосы, некогда темно-русые, почти все поседели, а теперь были грязными и свалялись от долгого заключения; глаза блестели молодо, и хотя сейчас эконом знаменитого Студия был сильно изможден, можно было понять, что телом он весьма крепок и может прожить еще долго… если, конечно, не уморят где-нибудь в темнице. Иоанну стало жаль его, мелькнула мысль предложить хотя бы воды – игумен заметил, что губы узника потрескались от жажды, – но Грамматик тут же подумал, что заключенный, скорее всего, откажется принять питье из рук «еретика», тем более «предводителя отступников». Иоанн знал, что Навкратий был одним из приближенных к Студийскому игумену братий, его близким другом и помощником; судя по перехваченным письмам, игумен особенно любил его и во всем ему доверял. Можно сказать, перед Грамматиком сейчас сидел «образ» неукротимого Студита, и спор об иконах с ним был поэтому почти спором с самим Феодором. Коль скоро, по воле императора, с главным противником сойтись они могли только заочно, то теперь, похоже, представлялся именно такой случай…
Навкратий поднял глаза на Иоанна и чуть заметно улыбнулся:
– Не нужно. Я тебе верю, господин Иоанн.
– Благодарю! – Грамматик возвратил улыбку. – Надо заметить, что не все твои собратья были столь великодушны… Но Бог им судья! Итак, свидетельства святого Епифания я привел, есть и другие – например, святителя Астерия Амасийского: «Не изображай Христа, ибо довольно для Него одного уничижения – воплощения, которое Он добровольно принял ради нас. Но умственно сохраняя в душе своей, носи бестелесное Слово». Божественный Феодот Анкирский говорил: «Мы составляем образы святых не из вещественных красок на иконах, но научились изображать их добродетели сказаниями о них в писаниях, как некие одушевленные иконы, побуждаясь этим к подобной им ревности. Ибо пусть скажут выставляющие такие изображения, какую они могут получить от этого пользу, или к какому духовному созерцанию возводятся они чрез это напоминание? Очевидно, что это тщетная выдумка и изобретение диавольской хитрости». Мне кажется, отче, что изречение это истинно. Ведь сколько ни проливай слез, глядя на икону, но истинную пользу душе мы можем получить только через молитву, а при молитве держать в уме какие бы то ни было образы прямо запрещено отцами. Дьявольская же хитрость тут в том, что простой и неграмотный народ, ради которого, как говорят некоторые из ваших, особенно нужны иконы, вполне может решить, что вот, посмотрел он на образ, повздыхал – и этого как будто довольно для спасения.
– Относительно молитвы ты прав, но делаешь неверные выводы. Из того, что кто-то, пусть даже многие, употребляют во вред вещи, придуманные ради пользы, еще не следует, что эти вещи вредны. Приведенный тобой пример можно повернуть и иначе: человек забылся, рассеялся, потерял память Божию, – а взглянул на икону и вспомнил о Боге, и снова стал молиться. Вот и польза! Что до представленных тобой свидетельств, то если эти отцы действительно так думали об иконах, я могу только сказать, что они в этом вопросе, к сожалению, заблуждались. Мы же знаем, что и великим святым иногда случалось ошибаться.
– Это так. Но почему ты считаешь, что из святых, что-либо писавших об иконах, заблуждались именно отрицавшие их, а не одобрявшие?
– Потому что «живописать необъятного Сына Божия» всё-таки можно, поскольку Он воплотился, став ради нас человеком, лежал в объятьях Матери, был повит пеленами, носил одежду, перемещался из одного места в другое, входил в дома и выходил оттуда, был схвачен иудеями, связан и представлен Пилату, и всё прочее, о чем говорит Евангелие. Это не свойственно необъятному божеству, но свойственно вполне объемлемому человечеству Христа. Потому Он изобразим. И странно называть это «уничижением». Воплощение не бесславно!
– Ты говоришь об описуемости Христа до Его воскресения. Это можно было бы признать. Но после воскресения – как можно назвать описуемой плоть, потерявшую свойство ограниченности? Ведь Христос проходил сквозь запертые двери, появлялся в одном месте, исчезал в другом. Ты, конечно, скажешь, что Он был осязаем апостолами, и они узнавали Его, но это было уже не так, как у нас, а потому описать такую преображенную воскресением плоть, как мне представляется, невозможно.
– Если после воскресения Господь имел плоть уже не так, как имеем ее мы, то мы не могли бы верить тому, что Он подобен нам, – возразил Навкратий. – Но Он Сам сказал, что и по воскресении имеет плоть и кости.
– Да, свойства тела Он имел, но не в таком грубом виде, как у нас, ведь это очевидно. Потому Он и мог становиться невидимым и творить прочие чудесные дела.
– Но если Он всё же был видим апостолами, то Он описуем и по воскресении. А если неописуем, то и видим ими быть не мог. Разве не логично? – Навкратий улыбнулся. – Да и чем так уж изменилось Его тело в сравнении с тем, каким оно было до воскресения? Ведь Он и до воскресения ходил по водам, а это не свойственно человеческой природе. Не укрощал ли Он бурю? Не проходил ли между иудеями, когда хотел, так что они не могли схватить Его? Правда, после воскресения Он перестал нуждаться в удовлетворении телесных потребностей, и если ел пред учениками, то только чтобы показать им, что Он не бесплотный дух. Но у всех нас по воскресении не будет таких потребностей. Разве из этого следует, что мы перестанем быть описуемы? Это нелепо.
«Логично!» – подумал Грамматик. И это было сказано не просто логично, но очень спокойно: в Навкратии ощущался некий глубинный и непоколебимый покой, приобретенный многолетним пребыванием в умной молитве и борьбой со страстями. Ни боязни, ни смущения, ни сомнений не ощущалось в узнике – и в то же время в нем не было какой-либо неприязни к Иоанну, стремления поддеть, обличить и пристыдить. Студийский эконом просто излагал свою веру – и только. Грамматик не заметил в нем какого-либо азарта спорщика или стремления во что бы то ни стало «разбить в пух и прах» противника, никакой враждебности к собеседнику, ни намека на положение «страдальца за веру»: казалось, Навкратий вообще не думал о том, что он – истощенный, немытый, нечесанный, в грязной одежде, – сидит теперь перед тем самым человеком, который морил его несколько дней голодом, содержа в темном подвале.
– Но Христос состоит из двух природ, – сказал Иоанн после краткого молчания, – а на иконе в любом случае возможно изобразить лишь одну. Таким образом, вы разделяете Христа, а это сродни несторианству.
– Мы изображаем не природу. Природу саму по себе, какова бы она ни была, изобразить нельзя. Изображается всегда ипостась – частный случай существования природы. Тот или иной человек изображается не поскольку он есть разумное смертное существо, способное к мышлению и познанию, как это можно сказать о любом человеке, а поскольку он отличается от других людей – ростом, формой носа, цветом глаз и волос и тому подобное. Вот, кстати, скажи мне, Иоанн, признаёшь ли ты портрет обычного человека портретом именно этого человека?
– Конечно, если портрет имеет должное сходство.
– А ведь на портрете изображается только тело человека, а не душа, которая невидима, и изобразить ее нельзя. Но ты ведь на этом основании не скажешь, что на портрете живописец «разделяет» человека. Точно так же и Христос описуем по Своей ипостаси, хотя по Божеству не описуем, и при этом Он не разделяется.
– Всё-таки вы несториане, – сказал Иоанн почти с сожалением. – Если то, что вы изображаете, есть ипостась Христа, то в Нем две ипостаси. Ведь человеческие особенности и природа и составляют ипостась.
– Не согласен, – покачал головой Навкратий. – Ипостась не есть «сложение» личных особенностей и природы, иначе исчезла бы простота в Боге, ведь в Нем три ипостаси, но Он при этом не сложен. Ипостась это… можно сказать, способ существования. Христос воспринял в Свою ипостась Бога-Слова человеческую природу с ее особенностями, но при этом не явилось две ипостаси. Ипостась остается одна – Слова. Но в Нем после воплощения есть ипостасные особенности не только Слова, но и человека. Потому Христос и получает имя собственное – Иисус, а это значит, что Он отличается от всех прочих людей определенными личными признаками. Но это не означает, что в Нем появилась отдельная человеческая ипостась. Разве ты не согласишься с этим?
Иоанн хотел было ответить отрицательно, но внезапно понял, что по существу возразить ему нечего. Он был уверен, что пока нечего: просто он чего-то не доглядел, не додумал… Если бы сейчас перед ним был не студийский эконом, а кто-нибудь другой, игумен, возможно, просто прервал бы беседу до лучших времен. Но прибегать к такому приему перед Навкратием ему не хотелось. И Грамматик впервые на всем протяжении диспутов, которые он вел с иконопочитателями, произнес:
– Я должен подумать.
…Игумен Великого Поля уже больше года сидел в тюрьме при Елевфериевом дворце, куда его перевели из Сергие-Вакховой обители. Когда его на носилках вытащили из монастырского подвала и погрузили на повозку, чиновник, один из служителей тюрьмы, руководивший переправкой узника на новое место заключения, сказал келейнику Феофана, выведенному следом и отчаянно щурившемуся на солнечном свете, которого он не видел уже несколько месяцев:
– Ну, а ты можешь выметаться, куда глаза глядят! И чтоб духу твоего не было за пятьдесят верст от столицы!
– Что?! – воскликнул Анатолий, бледнея. – Нет, я никуда не пойду! Я не могу бросить отца Феофана! Ведь он так болен, за ним уход нужен! Вы же видите, он не может даже ходить!
– Не велено никого с ним пускать! – сурово ответил чиновник и оттолкнул монаха, попытавшегося забраться на повозку. – Отойди, ну! Или хочешь, чтоб тебя отправили обратно в подвал?
– Пустите меня с ним, пустите! Пощадите его! – Анатолий зарыдал. – Ведь он умрет там один! Неужели у вас совсем нет милости?!
Тюремщик нахмурился, но ответить не успел – сзади раздался голос Грамматика:
– Пусти его вместе с Феофаном, господин.
Чиновник обернулся:
– Но, отец Иоанн, господин логофет сказал мне, что Феофана надо посадить в одиночную камеру…
– Господин логофет, – холодно ответил игумен, – кажется, забыл, что государь передал этих иконопоклонников в мое распоряжение, а тюремщики обязаны слушаться меня, и этот приказ пока не отменен. Этот монах пойдет в заключение вместе с Феофаном.
Анатолий прижал к груди руки и сквозь слезы смотрел на Иоанна, словно не понимая, а потом вдруг всхлипнул и поклонился ему до земли со словами:
– Благодарю тебя за эту милость!
Грамматик не ответил, даже не взглянул на монаха – он смотрел на Феофана, который, с трудом приподнявшись на локте, с повозки наблюдал всю эту сцену. Взгляды их встретились на несколько мгновений, Иоанн чуть заметно усмехнулся и, повернувшись, пошел прочь.
– Ну, давай, залезай быстро, ехать надо! – пробурчал чиновник, не глядя на Анатолия.
Елевфериевы тюремщики были не так уж строги, и заключенные могли писать и получать письма. Кормили их тут получше, чем в подвалах Сергие-Вакховой обители, а один сердобольный страж приносил тайком укропно-сельдерейную настойку и миндальное масло для больного, так что Феофан получил облегчение в болезни и через некоторое время смог садиться на постели и даже, с помощью келейника, немного ходить. Потом наступила сырая осень, а за ней – довольно ранняя зима с пронизывающими ветрами. Феофан застудил почки, болезнь снова обострилась, и игумен стал сильно сдавать: больше не вставал с постели, почти ничего не мог есть. Он уже ясно ощущал приближение смерти и готовился к ней постоянной молитвой. В начале февраля один из стражей, передавая узникам еду, шепотом сообщил, что начальник тюрьмы собирается на днях доложить императору о состоянии Феофана.
– Может быть, отче, – с надеждой сказал Анатолий игумену, – император смягчится и позволит тебе вернуться в нашу обитель, чтобы ты скончался там в мире?
– Нет, чадо, нет, – ответил Феофан, едва шевеля губами. – Он не отпустит меня, но сошлет на суровый остров… и там один пресвитер приютит нас…
Действительно, император, узнав о плачевном состоянии узника, сказал:
– Если он всё равно не жилец, то пусть умрет подальше отсюда, чтобы не было никакого шума. А то сейчас появятся «мучениколюбцы», глупые женщины, бродячие монахи, будут просить тело, распускать слухи о «зверствах тюремщиков»… Ни к чему это!
В середине февраля Великопольский игумен был увезен на Самофраки – небольшой каменистый остров в Эгейском море. Там их принял на попечение один местный священник, тайный иконопочитатель, и поселил в своем доме. К ним даже не приставили никакой стражи – было ясно, что Феофан никуда не сможет убежать, да он и не собирался этого делать. Погода стояла очень ветреная, почти каждый день шли дожди, но к концу месяца потеплело, солнце всё чаще проглядывало сквозь тучи, и в хорошую погоду Феофан днем лежал у открытого окна и смотрел на старые платаны во дворе дома, на вершину горы Саоки – царицы острова. Анатолий иногда гулял по окрестностям, как-то набрел на красивый водопад и пожалел, что игумен не может увидеть его. «Впрочем, что это я? – спохватился монах. – Ведь отец уже скоро увидит такие красоты, которых “око не видело”… А я всё развлекаюсь на это земное…» Возвратясь к игумену, он с изумлением увидел, что Феофан сидит на постели с дощечкой на коленях и, положив на нее лист пергамента, что-то пишет. Игумен поднял голову, улыбнулся келейнику и вновь обмакнул перо в стоявшую на столике у кровати чернильницу. Дописав, поставил внизу листа подпись, свернул письмо, протянул Анатолию и сказал:
– Чадо, это письмо запечатай и храни пока, а после моей смерти отправь на Принкипо… Ты знаешь, куда и кому. Лучше, если ты сам туда поедешь и отвезешь. А потом, пожалуй, возвращайся в наше Поле, и если там можно будет жить, не общаясь с нечестивыми, живи…
– Нет, отче! – Анатолий умоляюще взглянул на игумена. – Позволь мне вернуться сюда и жить при твоем гробе! Ведь должно же когда-нибудь православие победить, отче? Может, я доживу?
– Доживешь, чадо! – улыбнулся игумен, отложил дощечку и перо, снова лег и, немного помолчав, сказал: – Будь по-твоему, оставайся здесь. Только смотри, с еретиками не общайся… Да вот еще что, Анатолий: никого и никогда не суди! Мы это знаем, а на деле не исполняем… Как бы ни был человек плох, хоть бы даже всем известны были его злые дела, а добрых никаких, всё равно не дерзай говорить о нем, что он – такой и сякой. Не знаем мы глубин сердца человеческого, только Бог один знает… Запомни это!
– Запомню, отче!
– А главное, исполни, – Феофан закрыл глаза и немного помолчал. – Вроде бы всё. Ничего не забыл… Слава Богу за всё!
Он умер на двадцать третий день после приезда на остров, 12 марта. Священник с Анатолием погребли усопшего тут же неподалеку, в небольшой пещере, а на другой день осиротевший келейник отправился на остров Принкипо, где уже тридцать восьмой год подвизалась в монашестве Мегало, супруга почившего игумена, вместе со своей родственницей Марией.
Именно из письма с Принкипо узнал о кончине Феофана Студийский игумен, но написать ответ смог далеко не сразу. Первый месяц они с Николаем страшно мучились в своем «гробу» под крышей: кормили их из рук вон плохо, воды давали мало, дров иной раз не приносили по несколько дней, и подвижники страдали от холода еще больше, чем от голода и жажды. Стражники, принося скудный паек, насмехались над узниками и даже не стыдились желать им «поскорей сдохнуть». Но потом им внезапно стали передавать еду, молоко, масло для смазывания ран, а через неделю в дверном окошке они увидели лицо и самой благодетельницы: местная жительница, сорокалетняя девица Евдоко сумела подкупить стражу и теперь изо всех сил старалась облегчить положение узников. Как она ни осторожничала, заботы ее не укрылись от соседей, и те, завидуя чужой смелости и добродетели, не только стали обвинять ее в «сообщении с еретиками», но и донесли начальнику крепости. Тот вызвал девицу к себе, отругал и сказал, чтоб она немедленно прекратила помогать заключенным. Евдоко выслушала речь архонта спокойно, не двинув и бровью, и ответила:
– Помогала и буду помогать, господин. Средств у меня пока хватает, милостью Божией. Запретить ты мне не вправе. Не нравится, так запрети стражникам принимать от меня приношения, – она чуть улыбнулась, – если можешь.
Начальник крепости метнул на нее гневный взгляд, встал из-за стола, прошелся по комнате, остановился перед девицей и сказал:
– Что ж, вольному воля, но помни, что я тебя предупредил, почтеннейшая. Если слух о твоих выходках дойдет до стратига или до государя, защищать тебя я не стану, так и знай!
– Да я и не просила у тебя защиты, господин, – сказала Евдоко. – Есть у меня защитник на небесах – Бог Вышний, и этого довольно!
Она продолжала помогать узникам, невзирая даже не то, что злобный сосед стал распускать слухи, будто девица «утешает» монахов не только пищей и благочестивыми беседами, а кое-чем «послаще». Евдоко принесла им и письменные принадлежности, и тогда, наконец, Феодор смог ответить на письмо Мегало и Марии.
«Он не умер, а переселился в вечную жизнь, – писал игумен монахиням о Феофане, – не земля скрыла его, но приняло небо». И, обращаясь прямо к почившему исповеднику, Феодор молился: «Ходатайствуй за всю Церковь пред Господом, молись и обо мне, несчастном, чтобы я скорее пришел к тебе таким же образом, каким ты скончался».
16. Невеста Христа
Как с рождением по плоти непременно рождается вместе и сила, разрушающаяся рождаемое, так, очевидно, и Дух рожденным от Него влагает животворящую силу. Итак, что же вытекает из сказанного нами? Чтобы мы, отложив плотскую жизнь, за которой непременно следует смерть, стремились к такой жизни, которая не влечет за собой смерти; а такая жизнь заключается в девстве.
(Св. Григорий Нисский)
Студийские братия иеромонах Симеон и монах Зосима уже три месяца жили в доме у Марфы, в отдельной пристройке возле помещения, где обитали слуги. Они тайком приехали в столицу после того, как всех живших в Саккудионе монахов арестовали, Навкратия отправили в Константинополь, а большинство братий, продержав около двух месяцев в брусской тюрьме, выпустили, запретив под страхом нового заключения жить в каком-нибудь монастыре и в городах. Саккудионская обитель была совершенно разграблена, в кельях всё переломали, в храме замазали известкой фрески, а иконы, собрав в кучу, сожгли на монастырском дворе. Выпущенный из тюрьмы Симеон с несколькими братиями, вернувшись в монастырь и увидев это разорение, не могли сдержать слез. Жить там было теперь невозможно, да и опасно: земледельцы из соседней деревни сказали, что за обителью следят – периодически сюда наведывались чиновники из Брусы в сопровождении стратиотов. Симеон и Зосима отправились в Константинополь, надеясь узнать что-нибудь о судьбе Навкратия. В то время эконом находился в подвале Сергие-Вакхова монастыря, и связаться с ним было невозможно. В Студии по-прежнему начальствовал Леонтий, а трое братий всё так же противились ему и сидели в заточении. В Городе боялись не только обсуждать вопросы, касающиеся иконопочитания, но даже заговаривать об иконах: везде сновали соглядатаи, нанятые властями, чтобы разузнавать, не говорит ли кто чего-нибудь, неугодного императору, не имеет ли икон или книг со сказаниями о них, не уклоняется ли от общения с иконоборцами, не принимает ли у себя изгнанников, не служит ли заключенным за веру; доносившим хорошо платили. Пробираясь поздним вечером к особняку Марфы, Симеон и Зосима испытывали страх и нерешительность: что, если хозяева тоже перешли в стан нечестивых?.. Братия сговорились сразу же сказать привратнику, откуда они, и, если заметят в его ответе или выражении лица что-нибудь подозрительное, немедленно бежать. Петр, однако, услышав слово «студиты», просиял, заулыбался, тут же впустил их и, подозвав одну из служанок, сказал, чтобы та немедленно доложила госпоже, что «прибыли исповедники». Девушка убежала в дом, и вскоре дверь распахнулась, и Марфа, быстро сойдя с крыльца, направилась к монахам.
– Здравствуйте, отцы, благословите! Как же я рада видеть вас!
Она немедленно провела их в дом и приказала слугам затопить баню и накрыть стол для гостей. Пока хозяйка распоряжалась, монахи, несмотря на ее приглашение «располагаться поудобнее», продолжали стоять у дверей гостиной, смущенно озираясь. Симеон, низкорослый худой монах лет сорока пяти с задумчивым взглядом, был здесь только раз в жизни вместе с игуменом и экономом, десять лет назад. Его спутник Зосима, еще молодой монах, среднего роста, круглолицый, пышущий здоровьем несмотря даже на недавнее заключение, впервые переступил порог гостеприимного особняка и теперь с восхищением разглядывал стены, украшенные росписями, мозаики на потолке, мраморный пол, шелковые занавеси, расшитые цветами, птицами и диковинными зверями, изящную мебель… Он вырос в бедной семье в одном из предместий столицы, поступил в Студий в семнадцать лет, за два года до начала гонений, и такую роскошь видел впервые в жизни. Он переводил взгляд с одной росписи на другую, с изображения окруженного овцами пастуха со свирелью на картину охоты на льва, и внезапно вздрогнул: занавеси, закрывавшие проход в соседнюю комнату, раздвинулись, и между ними показалась стройная девушка в темно-синей тунике. Зосима несколько мгновений смотрел на нее во все глаза, вдруг покраснел и опустил взгляд. Девушка улыбнулась и подошла к монахам.
– Здравствуйте, отцы! Добро пожаловать! Благословите!
– Госпожа Кассия? – спросил Симеон немного удивленно. – Здравствуй, Бог благословит! – он перекрестил девушку. – Да как же ты выросла!
Симеон смутно помнил ее четырехлетней девочкой, а теперь перед ним стояла «почти невеста», он узнал ее только по удивительному цвету глаз. Зосима пробормотал что-то не очень вразумительное и просто не знал, куда деваться.
– Я вас смутила, простите! – сказала Кассия. – Я сейчас уйду.
Тут возвратилась Марфа.
– Кассия ты уже здесь? Благословение взяла? – она улыбнулась. – Сейчас, отцы мои, вас накормят… Да что же вы не сели, так и стоите в дверях?! Садитесь, садитесь! Вот сюда, – она усадила их на стулья с высокими резными спинками. – Ты уже уходишь? – обратилась она к дочери, видя, что та направилась к двери.
– Боюсь, я смущаю честных отцов, – сказала девушка, искоса взглянув на Зосиму, который сидел, устремив взгляд в пол, и, кажется, хотел бы сквозь него провалиться.
– Нет, это пустяки, госпожа Кассия! – сказал Симеон. – Конечно, останься, если хочешь, а то выйдет, будто мы тебя гоним… Нехорошо! Брат Зосима, – он взглянул на спутника, – привыкнет, это он только поначалу… Ведь он никогда не бывал в таких домах.
– Ну, конечно, привыкнет! – воскликнула Марфа. – Да мы с Кассией и не будем вам докучать. Я уже распорядилась приготовить для вас келью в пристройке, там вас никто не будет тревожить, и еду туда будут приносить, и книги… У нас большая библиотека, вы можете читать, что угодно, Кассия покажет… А сейчас мы бы очень хотели послушать вас: откуда вы, какими судьбами? Что с братией? Что слышно про отца Феодора? У нас уже давно нет никаких вестей о нем, и отец Навкратий не пишет с декабря… Мы так беспокоимся!
– Вот из-за отца Навкратия мы и оказались в Городе, госпожа. Он в заключении, как мы узнали, в Сергие-Вакховом монастыре, у этого ужасного Ианния…
Симеон рассказал последние новости, какие знал: о бичевании Феодора и Николая в Воните и Навкратия с семью братиями в Брусе, о разорении Саккудиона, о заключении и изгнании всех живших там. Марфа слушала, время от времени утирая слезы. Кассия не плакала, но глаза ее то и дело сверкали негодованием. Когда Симеон умолк, она рассказала о судьбе отца Дорофея и о том, что им удалось наладить с ним связь; монахи порадовались за брата. Потом вчетвером они обсудили дальнейший план действий. Было решено, что студиты останутся жить у Марфы и попытаются связаться с Навкратием и, быть может, с другими исповедниками, заключенными в столице. Кассия очень хотела переслать что-нибудь для утешения игумену Феодору, и Зосима вызвался переправить посылку в Вониту. Марфа с Кассией были несказанно рады тому, что теперь Симеон сможет служить литургию у них в домовой церкви.
– А что, у вас тут не бывает никаких… лишних гостей? – спросил иеромонах.
– Нет, – ответила Марфа. – С тех пор как муж погиб, мы живем очень замкнуто. У моего брата своя жизнь… Он, правда, заходит иногда, но вы не беспокойтесь, отцы, он о вас ничего не узнает! А его семейство к нам приходит в гости только раз в году.
– Понятно. Просто я думал… – сказал Симеон нерешительно, – думал, что, может быть, у госпожи Кассии есть… жених?
Мать с дочерью переглянулись.
– Есть, – с улыбкой ответила Кассия. – Но вам, отцы, нечего Его опасаться. Ведь Он у нас – общий.
Оба студита воззрились на девушку.
– Да, – сказала Марфа. – Кассия решила идти в монахи.
Мать узнала от дочери о ее намерении спустя два месяца после того, как Кассия приняла решение. Георгий, зайдя к сестре, завел разговор о том, что логофет геникона подыскивает невесту для своего младшего сына и, узнав от протоспафария о красоте и богатстве его племянницы, весьма заинтересовался; может быть, в ближайшее время сладится с помолвкой…
– Ты что? – сказала Марфа с досадой. – Какая помолвка? Я тебе сто раз говорила, что не отдам Кассию замуж без ее желания. И тем более за юношу, которого она еще и в глаза не видела. Сначала, по крайней мере, нужно, чтоб они познакомились, пообщались, а там, если он ей понравится, можно уже говорить о чем-то дальше. Зря ты поспешил обнадежить господина логофета!
Георгий раскричался, посыпались уже знакомые укоры в глупости, своенравии, упрямстве, «излишнем свободолюбии»… Марфа слушала брата, сидя в кресле и спокойно сложив руки на коленях, а когда он выдохся и замолчал, сказала:
– А теперь я позову Кассию, и мы у нее спросим, что она думает о твоем предложении.
Когда дочь спустилась в гостиную и поздоровалась с дядей, тот уже было раскрыл рот, но Марфа остановила его знаком руки и заговорила сама:
– Вот, Кассия, твой дядя пришел к нам с предложением. Точнее, к тебе. Тебе уже тринадцатый год, и Георгий полагает, что пора подумать о помолвке. У него на примете есть для тебя жених, сын логофета геникона. Семейство господина логофета я немного знаю, дети у него получают хорошее образование и начитанны, так что тебе, возможно, мальчик понравится. Так вот, мы хотим тебя спросить: желаешь ли ты с ним познакомиться – пока всего лишь познакомиться – или нет?
Девочка выслушала эту речь, опустив глаза, а в конце слегка нахмурилась. Когда Марфа умолкла, Кассия взглянула на мать и ответила:
– Нет, мама, знакомиться с ним я не хочу, потому что не расположена пока думать о таких вещах как помолвка с кем бы то ни было.
– «Не расположена»?! – вскричал Георгий, вскакивая с места.
Кассия отступила на шаг и сказала:
– Да, дядя. Я благодарю тебя за постоянную заботу обо мне, – взгляд ее стал чуть насмешливым, – но я бы очень тебя просила впредь не искать мне женихов. Если я решу выходить замуж, я сама найду себе спутника жизни, без посторонней помощи.
– Если решишь выходить замуж?! – Георгий выкатил глаза на племянницу.
– Именно так. До свидания, дядя, – Кассия улыбнулась, чуть поклонилась и покинула гостиную.
Георгий, казалось, потерял дар речи и какое-то время молчал, собираясь с мыслями. Видимо, он готовился разразиться очередной филиппикой, но, поглядев на сестру, внезапно сник и изрек только:
– Ну, сестрица, поздравляю! Девку ты испортила вконец. Уж не знаю, что с нее выйдет дальше, но точно ничего хорошего! Скорее, одни слезы… для всех окружающих… Вот попомни мои слова!
Когда он ушел, Марфа в задумчивости постояла, глядя в окно, а потом поднялась на второй этаж и постучала в комнату Кассии.
– Да! – послышалось из-за двери.
Дочь сидела, с ногами забравшись в кресло и обхватив руками колени. Марфа пристально посмотрела на нее, подошла и села на кровать.
– Ты пришла узнать, собираюсь ли я вообще выходить замуж или нет? – спросила Кассия.
– Да.
– Нет, не собираюсь, мама. Я… я решила идти в монахи.
Марфа вздрогнула и немного побледнела.
– Я тебе не говорила, – продолжала Кассия, не глядя на нее, – потому что… не знала, как сказать… Ведь тебе… ты, наверное, будешь против…
– Нет, не буду, – тихо сказала Марфа и, встав, перекрестилась на икону Богоматери в углу. – Буди воля Божия! Я обещала Матери Божией, что не буду препятствовать, если так случится.
– Что?! – воскликнула Кассия, спуская ноги с кресла.
И тогда Марфа рассказала дочери, как она вымолила ее рождение. А потом они плакали, обнявшись, и, встав на колени, вместе молились Богородице принять намерение одной и жертву другой, после чего мать благословила дочь на избранный ею путь, и больше они никогда не говорили об этом ни друг с другом, ни с кем бы то ни было еще. Студиты Симеон и Зосима были первыми посторонними людьми, узнавшими о решении Кассии.
– Да, – сказал Симеон, помолчав, – это большая жертва… Особенно с твоей стороны, госпожа Кассия. Трудно тебе будет… Но помогай Бог! Сам Он призвал тебя, Сам и да укрепит на этом пути!
Они разошлись спать, когда уже стало светать. «Почему он сказал, что мне будет особенно трудно? – думала Кассия, поднимаясь к себе. – Почему мне, а не маме? Правда, у мамы еще остается Евфрасия… Но ведь я иду на эту жизнь не против воли, совсем наоборот! В чем же будет мне труднее, чем любому из тех, кто идет в монахи?..»
Спустя несколько дней Зосима уехал в Анатолик с деньгами, одеждой и писчими принадлежностями для передачи вонитским узникам. Симеон остался жить в отведенной Марфой пристройке. Четыре раза в неделю в домовой церкви он служил литургию, за которой причащались хозяйка с дочерьми, все слуги и рабы, а потом, переодевшись в мирское платье, уходил в Город, иногда отлучался и ночью. Ему удалось пробраться к заключенным в Студийском монастыре братиям и передать им Святые Дары, а через три недели по прибытии в столицу он узнал, что Навкратий от «нечестиеначальника» переведен под строгий надзор в Далматскую обитель, где теперь тоже хозяйничали иконоборцы. Надзор, впрочем, на поверку оказался не таким уж строгим, и вскоре с экономом удалось наладить связь, как и с некоторыми другими студитами, скрывавшимися в пригородах у разных благочестивых мирян. Марфа давала деньги на поездки студитов и передачи для исповедников, ей удалось привлечь к этому делу еще нескольких знакомых жен придворных. Однажды Симеон принес переданную ему Навкратием тетрадь с ямбами против иконоборцев, сочиненными Студийским игуменом, и вечером устроили чтение в гостиной. Одно из стихотворений особенно понравилось слугам, которых Марфа тоже собрала слушать:
– Как просто и понятно! – воскликнула горничная Маргарита.
– Ага, – подтвердила Фотина, – уж на что я тупая, а и то поняла, почему одно поклонение!
– Вот видишь, отче, – сказала Кассия Симеону, – надо эти стихи размножить и распространять, ведь это и для самых простых людей будет понятно!
– А Кассия у нас тоже пишет стихи, – улыбнулась Марфа.
– Мама! – с укором сказала девушка.
– А что ты? Ведь неплохие же стихи… Мне нравятся, по крайней мере!
– И мне! – воскликнула Евфрасия. – Кассия скромничает!
– Да ну, – поморщилась Кассия, – это так, опыты… плохие, по-моему. А вот, я знаю, отец Симеон, что у вас в обители монахов учили писать гимны в честь святых, каноны составлять…
– Да, – кивнул иеромонах. – Я и сам этим занимался, писал гимны и музыку к ним.
– И преуспел? – спросила Марфа.
– Как сказать… Отец игумен хвалил, по крайней мере, – смущенно улыбнулся студит.
– Ой, – сказала Кассия, – это так интересно! А не мог бы ты, отче, рассказать мне об этом поподробнее? Я училась музыке, и мне уж давно хочется попробовать сочинять гимны, только я не решалась никогда…
– Да, я помню, – улыбнулась Марфа, – ты еще, когда маленькая была, часто после службы в Великой церкви мечтала: «Вот бы мне что-нибудь написать, чтобы там пели!»
– Ох ты! – с улыбкой сказал иеромонах. – Высокая мечта! Но может, и сбудется, как знать? Конечно, я могу тебя поучить, госпожа Кассия.
– Благодарю! – воскликнула девушка. – Может, завтра и начнем? Мне не терпится, – улыбнулась она, как бы извиняясь. – Думаю, мы могли бы встречаться вечером в библиотеке.
Они стали заниматься раза два или три в неделю, и Симеон рассказывал о приемах гимносложения на разные гласы, в качестве примеров приводя по памяти богослужебные стихиры и иногда напевая их. По просьбе Симеона, его встречи с Кассией проходили не наедине, чтобы не нарушались монашеские правила, и на занятиях всегда присутствовал слуга Геласий – тихо сидел в углу и слушал. Кассия приходила, скромно одетая в тунику и покрывало темно-синего цвета, без узоров и украшений. Во время занятий отец Симеон почти не смотрел на Кассию, а она поглядывала на него и думала: «Да, вот настоящий монах – сдержанный, но не суровый, правила соблюдает…» Как-то раз, вернувшись из библиотеки в свою комнату, она взяла чистый лист и, нарисовав наверху крестик, написала под ним: «Монахов житие – светильник всем».
…Феодор, лежа, полушепотом диктовал письмо. Николай скрипел по пергаменту, то и дело макая перо в чернильницу – чернила кончались, а перо уже порядком износилось. Евдоко обещала на днях достатать новых перьев, но пока приходилось писать старыми. Единственное хорошее перо, которое у них было, Николай хранил для работы по переписке книг – это рукоделие появилось у них тоже благодаря Евдоко: она сумела повлиять на начальника крепости, и он немного смягчился, сам повелел выдать узникам писчие принадлежности и сделал им первый заказ – копию Псалтири. Николай выполнил работу очень быстро, чем удивил заказчика, а почерк студита привел архонта в восторг – такое каллиграфическое мастерство он за свою жизнь видел всего несколько раз. После этого положение узников стало легче: хотя к ним по-прежнему никто не мог проникнуть, кроме Евдоко, но письма стали передавать чаще, приходили весточки и от Навкратия, и от других братий. Первым из студитов, проникших в Вониту после бичевания узников, стал Зосима, привезший дары от Кассии. К Феодору его не пустили, но через Евдоко монах передал игумену подробности о положении дел в столице и ее окрестностях.
«То, что ты прислала мне ради Господа, я получил, – писал Феодор в ответ Кассии. – И кто такой я, смиренный, что твое благоговеинство вспомнило обо мне? Будучи отпрыском от доброго корня, ты привыкла благотворить». Он поблагодарил девушку за благодеяния заключенному Дорофею, о чем сообщил Зосима, и продолжал: «Как я узнал, ты с детства избрала прекрасную жизнь ради Бога. Став невестой Христа, не ищи и не люби никого другого. Ибо кто прекраснее Его? Его красота пусть еще ярче сияет в твоем сердце, дабы ты угасила всякую страсть, изменчивую и тленную. Избегая избегай взглядов мужчин, если возможно, даже и скромных, чтобы не быть как-нибудь пораженной или не поразить. Ожидает тебя небесный брачный чертог: там ты увидишь Того, к Кому прилепилась, с Ним будешь радоваться вечно. Мало это слово, но достаточно для убеждения твоей честности. Да будешь спасена, дщерь Христова».
– Всё, – игумен приподнялся на локте. – Дай подпишу.
Николай подал ему лист и перо. Феодор поставил свою подпись, отдал письмо ученику и опять откинулся на ложе. Николай украдкой вздохнул: игумен далеко еще не оправился после всего, что они перенесли зимой, а теперь приближалась летняя жара, и положение их вряд ли улучшится – здесь, в тесноте, под самой крышей, которая будет нагреваться на солнце… Если б не Евдоко, им пришлось бы совсем худо, может, и не выжили бы…
– Много Господь дает этой девушке, – задумчиво произнес Феодор, – очень много…
– Ты о ней, отче? – спросил Николай, кивая на письмо.
– Да. Высоко полетит… Если лукавый не затянет в свою сеть.
– Так и все бы высоко летали, если б не сети бесовские.
– Да, но ее тут подстерегает особенная опасность…
Игумен умолк. Николай принялся свертывать письмо, чтобы запечатать, но вдруг остановился и спросил:
– Это то, что она богата?
– О, нет. Богатых много, и немало из них спасается… Ты просто никогда не видел ее, Николай. И пока, – Феодор взглянул на него, – я бы и не допустил тебя до свидания с ней, даже если б это было возможно.
Николай вспыхнул и опустил голову.
– Понимаю, – сказал он тихо. – Она красива.
– Сказать, что госпожа Кассия красива, значит ничего не сказать. Когда я видел ее в последний раз, ей шел только одиннадцатый год, но она уже поражала. Сейчас, говорят, она поражает еще больше. Госпожа Марфа писала, что даже боится… Вот и я боюсь…
Игумен замолчал и закрыл глаза. Николай залепил воском письмо и, отложив в сторону, задумался.
– Что же, красота – зло? – спросил он.
– Ничто из сотворенного Богом не есть зло, – ответил игумен, не открывая глаз, – но люди способны использовать во зло всё, что угодно. А использовать во благо мы умеем гораздо хуже… или вовсе не умеем. Особенно некоторые вещи. Женскую красоту могут использовать во благо лишь совершенные, как святой Нонн. Остальные чаще всего губят через нее и себя, и ее обладательниц…
– Но ведь может быть и так, что человек начинает со зла, а потом Бог оборачивает всё ко благу. Например… женился человек по страсти, а жена попалась благочестивая, и под ее влиянием он стал лучше… Вот, с моими родителями, я знаю, так и было.
– Конечно, бывает и так. Но чаще всего для грешника встреча с красотой опасна… в том числе и для обладателя красоты. Красоту, как всякий большой дар, редко кто может понести без ущерба для души. Впрочем, Податель дара знает, зачем его дает, а наше дело – молиться, чтобы Бог оградил нас от искушений.
Вскоре Николай услышал, как игумен задышал медленно и ровно – уснул. «Господи, – мысленно взмолился инок, – даруй отдохновение ему, укрепи его, исцели поскорей!» Он встал и тихонько, чтобы не разбудить, поправил на Феодоре одеяло, немного посидел в задумчивости, а потом вздохнул и принялся за работу – две недели назад он начал переписывать Четвероевангелие.
17. «Аромат любви»
…мы стали презирать красоту! У нас она считается признаком слабости и распутства.
– Людям приятно презирать то, чего у них нет.
(Дж. Голсуорси, «Пустыня в цвету»)
Настал праздник Рождества Богородицы – день, когда Марфа вымолила у Богоматери рождение Кассии. С тех пор у них в семье был обычай в этот день устраивать праздничный стол и приглашать в гости Георгия с семейством. После смерти Василия Марфа сузила свой круг общения, но 8 сентября по-прежнему оставалось тем днем, когда встречались семьи брата и сестры. Сыновья Георгия уже давно были женаты, а в этом году он нашел жениха и для дочери; все они должны были придти к обеду. Марфа с утра разбудила Кассию пораньше, чтобы она подготовилась к приему гостей – надо было подобрать наряд, сделать прическу… В бане они с матерью были накануне. Слуги с самого рассвета носились туда-сюда, на кухне стоял дым и чад, по дому ползли соблазнительные запахи… Но в душе Кассии вместо предвкушения нарастало глухое раздражение. Она не питала симпатий к родственникам со стороны дяди. Сыновья Георгия походили на отца – все служили при дворе и чванились этим, любили посплетничать, поесть и выпить, а книг, кажется, вовсе не брали в руки с тех пор, как окончили школу. Их супруги изо всех сил старались показать, что они «как-никак жены придворных»; в детстве Кассию удивляли их жеманные манеры, нарумяненные щеки, подкрашенные ресницы и обилие золотых украшений.
– Мама, зачем они носят такие тяжелые серьги? – спрашивала она. – Я всегда смотрю на них и боюсь, что у них вот-вот уши порвутся!
– Они считают, что это красиво, – улыбалась Марфа. – Ну, и хотят показать, что богаты, занимают высокое положение…
– По-моему, совсем это не красиво!.. Когда я вырасту, ни за что такое не буду носить! А зачем они такие щеки красные себе делают? Это что, тоже красиво?!..
Но по мере того как Кассия росла, она начала замечать и другое: родственницы стали посматривать на нее как-то странно, под их взглядами ей иногда хотелось поежиться – от этих женщин веяло скрытой враждебностью. Однажды девочка спросила у матери, почему они ее как будто бы не любят, хотя она вроде бы ничего плохого им не делала и не говорила, всегда стараясь не подавать вида, что ей что-то не нравится в них. Марфа вздохнула и ответила:
– Они завидуют.
– Завидуют? – удивилась Кассия. – Чему?
– Чему?.. – Марфа немного помолчала. – Ты красива, Кассия… Понимаешь, когда люди видят, как то, что они считают великим благом, достается кому-нибудь без труда, это их выводит из себя. Ничего не поделать, это так и дальше будет… привыкай! Женщины, гоняющиеся за мирскими благами, никогда не будут любить таких, как ты.
В тот вечер Кассия долго не могла заснуть. Когда пропели уже вторые петухи, она встала, взяла со стола светильник и тихо-тихо вышла из комнаты. В доме все спали. На цыпочках девочка спустилась по лестнице на первый этаж и, чуть-чуть приоткрыв тяжелую дверь в большую гостиную, проскользнула в щель, подошла к висевшему на стене большому зеркалу и долго себя разглядывала.
– Ну, если и так, – сказала она, наконец, своему отражению, – разве я виновата, что я такая?
Она пожала плечами, улыбнулась и, так же осторожно вернувшись к себе, юркнула в постель и тут же уснула. Ей было тогда одиннадцать лет. Теперь ей уже исполнилось тринадцать, и Марфа с некоторым беспокойством ждала очередного «семейного обеда»: брат при последней встрече опять сказал, что надо подумать о женихе для племянницы, а когда сестра напомнила, что Кассия просила дядю не думать за нее об этом, и что вообще еще рано и лучше подождать пару лет, Георгий сердито заворчал, что «всё это глупости, девка просто капризничает».
– Бестолочь ты, сестрица! Только такая дура, как ты, и может воспринимать всерьез лепет зеленой девчонки! Видно, придется мне самим о вас позаботиться, а то моя драгоценная племянница так и усохнет за книжками… Вам дать волю, так она у тебя будет в книгах еще десять лет копаться!
Марфа подозревала, что за обедом брат опять поднимет эту тему, что, конечно, не понравится Кассии… Кроме того, в числе гостей ожидалось новое лицо – молодой человек, с которым Георгий полгода назад обручил свою дочь Анну. Свадьба должна была состояться после Рождества Христова, а пока Георгий хотел познакомить будущего зятя с родственниками. Протоспафарий очень хвалил этого Михаила, а Марфа, слушая его, ощущала смутное беспокойство: ей очень не хотелось принимать у себя это новое лицо, а почему, она и сама не понимала…
Между тем Кассия с досадой рассматривала новую тунику, сшитую нарочно к «семейному празднику». У нее и так уже этих одеяний… «Суета сует…» Ах, но какая красивая всё-таки! Голубой шелк с золотым узором из виноградных лоз мягко заструился в ее руках. Конечно, в шелку ходить приятнее, чем в той грубой одежде, что носят бедняки… Впрочем, у бедного люда есть свои преимущества. Они могут свободно ходить по улицам без сопровождения слуг… Как она иногда бывает несносна, эта свита! Они могут на базаре купить жареную горячую рыбу и тут же съесть ее… Могут просто пойти на берег моря и посидеть на камне, глядя, как волны выкидывают на берег ракушки и цветные камушки, как рыбаки вымывают сети и радуются свежему улову… А она, дочь знатных родителей, должна сидеть в затворе, гордясь своей неприступностью и богатством и занимаясь пряжей льна и шерсти! Так считает дядя… Хорошо хоть – он не знает, что Кассия вообще не берет в руки прялку…
«Терпеть не могу это занятие! А дядя еще говорит, что много книг нельзя читать, а не то с ума сойдешь… Если б не книги, так давно бы можно было сойти с ума от скуки!..» Вот, в самом деле, удовольствие предстоит ей сегодня – сидеть с дядей за одним столом и выслушивать его напыщенные речи!..
Кассия сердито бросила на подушки новую тунику и села на стул, подперев рукой щеку. Лучше б она вместо этого званого обеда позанималась с отцом Симеоном! Но надо наряжаться… И зачем? Чтобы эти гости на нее глазели? Кассия всё больше раздражалась. Она взяла с полки тетрадку, куда первым листом был вшит тот самый, с крестиком, на котором она в свое время записала стих про монашеское житие; теперь в тетради было несколько разделов, куда Кассия записывала ямбы на разные темы. Сев за стол, девушка перевернула несколько листов и стала писать:
Она вздохнула, отложила перо и убрала тетрадь на полку. Тут в комнату постучали, и вошла Марфа.
– Смотри-ка, что я тебе принесла…
Мать протянула дочери маленький мешочек, расшитый серебром, в каких обычно купцы продавали восточные драгоценные благовония. Кассия развязала его, и ей в лицо ударил пряный аромат, похожий на запах корицы… нет, это только сначала так показалось… не корицы… Сладкий аромат, пьянящий…
– Что это?
– Это александрийское благовоние… Кассия называется!
– Кассия?! – она улыбнулась и снова вдохнула аромат, носивший одно с ней имя.
– Да. Купила у того торговца, помнишь, мы у него в последний раз брали розовое масло? Я хотела сразу купить, что у него там было, да он узнал, что для тебя, и пообещал привезти получше. Вот и привез – говорит, особо редкий сорт. Как раз к празднику…
Кассия улыбалась и хмурилась одновременно.
– Иногда можно немного себя побаловать, – Марфа погладила ее по плечу. – Ты ведь еще не ушла в монахи!
– И очень жаль! Прости, мама, но мне так неприятны эти наши родственники!..
– Мне они тоже не особенно приятны, но что делать! Других родственников Бог нам не дал, так что приходится терпеть и этих.
– Ну, да, – улыбнулась девушка. – Надо же что-нибудь терпеть в жизни!
Когда Кассия оделась, пришли горничные Фотина и Маргарита, чтобы сделать ей замысловатую прическу, которую они называли «греческой».
– Ой, – сказала Маргарита, заплетая девушке косы вокруг головы, – какой аромат! Сегодня что-то особенное, госпожа?
– Да, мама преподнесла подарок – благовоние, одноименное со мной.
– А! – воскликнула Фотина. – Кассия! Я знаю, оно, если хорошего сорта, то ужасно дорого стоит!
– Но не только из-за сорта, – улыбнулась Маргарита. – Я слышала, кассию называют «ароматом любви»!
– Вот ведь глупости какие, – пробормотала Кассия.
– Прости, госпожа, но так говорят на рынке, – весело продолжала Маргарита. – Говорят, будто если девушка намастится кассией, то непременно найдется мужчина, который будет ее любить так, как никто на свете! Вот только я забыла, там вроде в особый день надо это сделать…
– Ну, хватит суеверия распространять! – полувесело, полусердито воскликнула Кассия. – Ой, да погляди, ты криво плетешь!
– Ох, и правда, заболталась, госпожа! Язык мой поганый…
– А ты камушек во рту носи, как преподобный! – рассмеялась Фотина.
– Эх, мне даже это не поможет, – вздохнула Маргарита.
За полчаса до прихода гостей Кассия уже была при полном параде: на нижнюю рубашку из тончайшего льна была надета голубая туника, сверху накинут белый плащ, застегнутый на плече золотой фибулой с синим лазуритом, искусно заплетенные волосы украшала золотистая повязка.
– Ты сегодня ослепительна, госпожа! – сказала ей Маргарита.
Девушки радовались, глядя на свою юную хозяйку, а она, проходя мимо большого зеркала, бросила в него взгляд и вздохнула. И зачем только она так красива? Право, было бы лучше, если б она была незаметнее… «Блистательно» выйти замуж, как выражается дядя? Знал бы дядя, какого Жениха она себе нашла, его бы удар хватил, наверное…
«Непременно найдется мужчина, который будет ее любить так, как никто на свете…» Ну, нет, ведь она уже всё решила! Точнее… разве это она решила? Это решили там. А она должна следовать призванию. Когда призывает человек, всегда можно отказаться; но разве можно отказаться, когда призывает Бог? Конечно, можно, но тогда надо и христианином перестать быть, иначе – нелогично. Нелогично… Но надо же было так случиться, что все окружающие ждут от нее совершенно противоположного тому, что она собирается сделать! Все, даже мать… да, даже она. Кассия чувствовала, что матери всё-таки будет очень жаль отпустить ее в монастырь. «Хорошо еще, – подумала девушка, – что Евфрасия не собирается идти по моему пути! По крайней мере, утешение маме… Скорей бы уже этот обед начался и закончился!..»
Пир затянулся до ночи. Аппетит у гостей был отменный: слуги едва успевали приносить новые блюда. Мясо, приправленное чесноком и пряностями, пюре из вареной трески, рыба в молоке, разные сыры, чечевица… Кувшины с любимым Кассией ароматным палестинским вином и киликийским мускатом, который обожали в семействе протоспафария… Кассия ела мало, почти всё время молчала и только изредка поднимала глаза на гостей, стараясь мысленно молиться.
Дядя после третьей чаши вина принялся разглагольствовать. Марфа ожидала, что он начнет развивать тему замужества «прекраснейшей из племянниц, каких только породила земля Империи», но Георгий неожиданно заговорил о церковных делах. При дворе было слышно, что император собирается еще ужесточить меры против иконопочитателей.
– Этот негодяй Феодор совсем распустился со своими письмами, шлет и шлет во все концы! Недавно перехватили несколько, государь там назван «зверонравным»… или «зверообразным»… в таком роде, в общем… Уж как разгневан! Теперь всех, у кого найдут Феодоровы письма, будут бичевать!
– Что ж, – спросила Марфа, – с обысками, что ли, будут ходить?
– А и будут! Будут смотреть, кто храмы не посещает, кто подозрительных людей принимает… Кто в темницы ходит к иконопоклонникам… А что, сестрица, вы сами-то смотрите, не попадитесь! Уж сколько я говорил – нечего ходить в Воскресенский, передачки носить! Поделом этим еретикам, пусть сидят! Но вас, женщин, разжалобить – раз плюнуть… «Ах, бедненький, ах, ему кушать нечего, блохи его едят!..» И пусть съедят их там блохи и крысы, нечестивцев!
Марфа промолчала. Хотя брат знал, что Кассия носит передачи для Дорофея, но им до сих пор удавалось скрывать от Георгия, что они не состоят в общении с иконоборцами. Мать с дочерью не ходили в Великую церковь, но Марфа объяснила это тем, что у нее стали очень болеть ноги от тамошних долгих служб, и потому они приглашают священника, чтобы он служил в их домовой часовне.
Кассия подняла глаза на дядю. Ей очень хотелось сказать ему кое-что насчет «блох и крыс», но умоляющий взгляд матери остановил ее. «Да, правда, толку-то! – подумала Кассия. – Вон он опять наливает вина… Нет смысла спорить, крика будет много, а пользы никакой».
Тут в разговор вмешался Михаил, будущий зять протоспафария, смазливый молодой человек с высокомерным выражением лица, благодаря отцовскому положению при дворе уже имевший чин ипата. С самого начала обеда он почти не спускал глаз с Кассии – благо сидевшая рядом с ним невеста как будто ничего не примечала, – и выражение его глаз Кассии определенно не нравилось.
– Так что же, папа? – Михаил был уже на короткой ноге с будущим тестем; хотя это было не по вкусу Георгию, приходилось терпеть, ведь юноша был сыном друнгария виглы, одного из любимцев императора, и свадьба дочери, если она состоится, сулила протоспафарию много выгод. – Если даже и придут сюда с обыском, разве что-нибудь найдут?
Этот как будто невинный вопрос вызвал явное беспокойство Георгия: он схватился за кубок и налил себе вина, хотя тот не был опустошен еще и наполовину. Протоспафарий не знал точно, но подозревал, что у сестры вполне могли быть найти письма Студита, если б стали искать, а это, в свою очередь, могло навлечь подозрения и на ближайших родственников Марфы…
– Ну, что ты, Михаил! – воскликнул Георгий. – Как можно и предполагать такое? Марфа с Кассией – законопослушные подданные государя и не станут поддерживать переписку с такими сомнительными личностями, как этот треклятый негодяй Феодор, дьявол бы его взял!
– Да я тоже уверен в этом, милый папа! – смеясь, сказал Михаил. – Это я так, болтаю спьяну!
И он развязным жестом положил руку на плечо своей невесте. Но взгляд Михаила при этом был прикован к лицу Кассии, и от него не укрылся гневный огонек, вспыхнувший в ее глазах при последних словах дяди. Георгий между тем, чтобы переменить тему, обратился к девушке:
– Прекраснейшая из племянниц! Сегодня ты воистину удивительна и восхитительна… Если б устроили выбор невесты даже для самого императора, ты уж верно первенствовала бы там! А ты сидишь в книжной пыли, как мышь, вместо того, чтобы…
– Служить продолжению рода человеческого? – язвительно спросила Кассия. – Дядя, тебе не кажется, что род человеческий и без того сильно расплодился и не нуждается в моей помощи для своего долгоденствия?
– Фу, как грубо ты упрощаешь, прекраснейшая из племянниц! Не только, не только для продолжения рода, но и для… услаждения человеческих глаз… и… для собственного наслаждения… Женщина создана для любви…
– Ну да, – вставил Михаил, – даже и имя обязывает к тому…
– Любовный аромат! – смеясь, воскликнула Анна. – А что, папа, какова мысль! Ведь государь-соправитель еще не женат! Можно подать идею при дворе! Представь, ведь если бы Кассию выбрали, мы стали бы родственниками императрицы!
– Гм!.. – произнес протоспафарий.
Марфа, видя, как мрачно смотрит Кассия, поспешила придать беседе иное направление и заговорила о своей предстоящей поездке во фракийское имение…
Поднимаясь ночью в свою спальню, Кассия почувствовала смутное беспокойство. Вот ведь, возникают иногда у дяди в голове идеи!.. Чего доброго, он действительно загорится этой мыслью – породниться с императором! И тогда он может устроить… хоть и недалек, но «сыны века сего умнее в своем роде»… И зачем только Анна заговорила об этом?!..
«Господи! как бы мне поскорей стать монахиней? – подумала девушка. – Еще три года ждать, как долго!.. Да и куда идти, непонятно… Везде гонения, православные монастыри разоряют… Но может, к тому времени, как мне будет шестнадцать, православие восторжествует?.. Господи, хоть бы так!»
Через неделю Марфа уехала с приказчиком во Фракию, и Кассия осталась хозяйкой дома. Евфрасию мать взяла с собой: младшая дочь любила бывать в их имениях, где был простор для игр и озорных забав, и всегда неохотно возвращалась оттуда в Город. На третий день после отъезда матери Кассия получила письмо, написанное незнакомым, довольно корявым почерком и с ошибками. Она стала читать, и кровь прилила к ее щекам, а губы сжались в тонкую линию. Кассия с гневом порвала письмо на мелкие кусочки и бросила в камин. Как смел этот Михаил предлагать ей такое?!.. За кого он ее принимает?! Хорошего мужа для дочери нашел дядя, нечего сказать! Бедная Анна!.. Из всех родственников к двоюродной сестре – смешливой и открытой девушке, не лишенной чувства юмора и не очень-то обращавшей внимания на занудные поучения своего отца о том, как надо жить, – Кассия питала больше всего симпатии. И вот, такой муж! Что за ужас!..
Она долго не могла успокоиться и сосредоточиться на чтении или молитве. «Надо предупредить Анну! – думалось ей. – Но как? Если я ей напишу, это будет выглядеть слишком странно, ведь раньше я этого не делала ни с того, ни с сего, только по праздникам… Что, если слуги о переписке всех членов семьи докладывают дяде? Если и не так, всё равно он может узнать… Пожалуй, и письмо не постыдится вскрыть! Нет, лучше не рисковать. Что же делать?» Так ничего и не придумав, Кассия долго молилась перед сном об Анне, чтобы Господь как-нибудь разорил предстоявший сестре брак с Михаилом, потом попросила о том, чтобы ей самой поскорее сподобиться монашеского образа. Как-то вдруг успокоившись, она легла в постель и тут же уснула.
Следующий день прошел, как обычно, а вечером Кассия долго не спала, писала на папирусе, чертила над словами нотные знаки, напевала, зачеркивала, снова чертила, опять напевала; наконец, переписав то, что получилось, на чистый лист пергамента, она еще раз спела всё целиком и осталась довольна. Свернув лист трубочкой, она взглянула в темное окно, задернула занавеси и ушла в свою маленькую молельню. Хотелось, чтобы уже скорей наступило завтра, ведь теперь ей есть что показать отцу Симеону… Кассии не терпелось удивить его – ведь он наверняка удивится!
Она уже легла в постель, когда снаружи донесся шум. Прислушавшись, она встала, зажгла светильник, надела верхнюю тунику на тонкую льняную, в которой спала, сверху накинула легкую пенулу и спустилась на первый этаж. С улицы слышались чьи-то крики, входная дверь была неплотно прикрыта. Кассия подняла капюшон, запахнула поплотнее пенулу и выглянула наружу.
– Уходи, господин Михаил, Христа ради! – услышала она голос привратника. – Поди, проспись! Ночь на дворе, какая тебе госпожа? Она спит!
– Гос-спожжжу Кас-сию… видеть ж-желаю! – Кассия с ужасом узнала голос жениха Анны; он, очевидно, был сильно пьян. – Он-на н-не спит… Врете! Она ж-ждет м-меня!
– Да ты чего несешь? – раздался возмущенный голосок Маргариты. – Упился до безумия! Сам позоришься и нас позорить пришел? Уходи!
– Ты к-как разговаррриваешь с и… ик… и-патом? Я пож-жалуюсь гос-сударррю, и т-тебя в-высекут, негодница!
– Уходи, господин ипат, уходи, ради Бога! – сказал Петр. – Никто тебя здесь не ждет! Все спят, уж и петухи пропели давно. Если тебе что-то нужно от госпожи Кассии, приходи днем, чин по чину, а сейчас не время.
– Врешь! Сей… сейчас вррремя! Время… н-наслажжждений! Я ей п-писал… Она… м-меня ж-ждет… Пусти!
И ипат принялся тяжело стучать в ворота кулаками.
– О, Боже! – Кассия закрыла дверь и побежала на кухню, а оттуда через коридор во флигель, где спали слуги.
Вскоре Феодор и Геласий, сонно хлопая глазами, подошли к воротам, за которыми продолжал пьяно буянить ипат, открыли их, подхватили Михаила под руки и поволокли вдоль по улице в сторону форума Константина. Петр пошел сзади, подталкивая ипата в спину. Михаил брыкался и пытался вырваться, но напрасно. Тогда он завопил на весь квартал:
– Ты за это з-заплатишь! Св-вятоша! Книжжжная мышь! П-пусть тебе ото… отомстит Афродита!
– Экий богохульник! – всплеснула руками стоявшая в воротах Маргарита. – Афродиту зовет!
– Что тут случилось? – спросила Кассия, подходя.
– Ох, госпожа! – обернулась к ней девушка. – Тут такое!.. Я на кухне завозилась с вечера, а тут Петр пришел и говорит, что господин ипат пожаловал… пьяный… И как только его ночная стража не забрала, в таком-то виде?
– Он сын друнгария виглы, – усмехнулась Кассия. – Его не заберут. Этим и пользуется…
– Ах, правда, я и не сообразила! Ну, вот, мне Петр как сказал, что он тут, я вышла, а он-то в ворота всё стучит и орет… Подай ему госпожу! А сам пьяный совсем! И такие, прости меня, госпожа, неприличные слова стал говорить…
– Я слышала, – тихо сказала Кассия. – Это он мне прислал позавчера письмо. Он… он, кажется, развратный человек…
– Значит, он и правда писал тебе, госпожа?
– Да. Я сожгла. Это даже и пересказать стыдно, что он написал… И Анна выходит за него замуж!.. Я так хочу предупредить ее, но не знаю, как это сделать…
– Я знаю, как, госпожа! У меня есть знакомая, она служит у них, хорошая девушка, я могу попросить ее передать письмо. Могу поручиться, что она передаст! Вот ведь, какой… какой негодяй!
– Не то слово! – Кассия вздрогнула и внезапно ощутила, что замерзла. – Я пойду в дом. Зябко тут…
Когда слуги вернулись, Кассия стояла в столовой у камина – она сама принесла туда с кухни углей и подбросила дров, – протянув руки почти к самому огню. Отблески пламени розово играли на ее лице, но щеки горели и сами; девушка всё еще не могла придти в себя. Ее трясло от негодования и отвращения. Как смел ипат написать ей такое письмо, да мало того, еще и явиться в такой час и говорить такие вещи?! Что за мерзость! Наверное, шел с какой-нибудь пирушки… а может, вообще от… развратных женщин…
Она попросила Маргариту принести вина и опустилась в кресло. Когда служанка принесла на серебряном подносе кувшинчик с водой, небольшой кувшин с вином и кубок из синего стекла и, смешав вино с водой, подала кубок хозяйке. Кассия взяла, выпила почти залпом, снова отвернулась к огню и смотрела на языки пламени, пожиравшие поленья, пока в камине не остались только пышущие жаром угли.
Должно быть, ипат просто обезумел от вина… и от страсти к ней? Да, ей тогда сразу не понравилось, как он смотрел… «Аромат любви»? Скорее, зловоние… О, хоть бы Анне удалось отвязаться от этого замужества!.. А дядя хочет выдать замуж и ее саму… Да если б она даже не решила идти в монахи, то за кого выходить?! Вот за такого, как Михаил? Брр! Лучше уж сразу умереть! Конечно, бывают и хорошие молодые люди… Но… Просто хороший – этого мало… Она вспомнила житие великомученицы Екатерины. Странно, что некоторые считают, что ее заявление: «Я хочу иметь женихом своим не иного, как только равного мне по учености», – происходило от гордости… Ведь это так понятно: спутник жизни действительно должен если не превосходить, то по крайней мере быть равным по уму, иначе настоящая дружба невозможна, – а что такое брак без дружбы? Просто похоть, разврат, в котором тонет сегодняшний гость… Ее опять передернуло. Какая гадость!..
На другой день Кассия и отец Симеон снова встретились в библиотечной.
– Что такое произошло ночью? Мы слышали какой-то шум…
– Это один наш родственник напился и пытался зайти в гости… буянил. Но его не пустили, конечно.
– А, тогда ладно. Я уж думал, не с обыском ли пришли…
Писем от Феодора не было уже второй месяц, и студиты начали беспокоиться, не случилось ли опять чего с их игуменом. Кассия рассказала отцу Симеону, что сообщил дядя о распоряжении императора.
– Может быть, письма перехватили? – предположила Кассия.
– Тогда, пожалуй, и сюда могут придти… Мы с братом подвергаем вас опасности своим присутствием, – грустно сказал Симеон. – Если придут слуги василевса и найдут нас, то…
– Что ж! Пострадаем за православие!
Глаза Кассии сверкнули из-под покрывала. Симеон понял, что она настроена решительно.
– Ты молодец, госпожа! Но только… можно ведь и умереть под бичами… Конечно, мученичество за Христа – великое дело, но ты так молода… Впрочем, надо молиться! – и он замолчал.
– Да! – тут Кассия встала с торжественным видом, взяла в руки лист пергамента, который принесла с собой, и запела:
Геласий из угла смотрел на свою юную госпожу, приоткрыв рот. Симеон встал, восхищенный.
– Это ты… сама?
– Да.
– Воистину, Бог дает премудрость ищущим Его! Ну, госпожа, теперь уж я тебе в этом деле не наставник. Редкой красоты гимн получился!
Кассия внутренне ликовала. Это было не тщеславие, нет, но некая особенная радость, смешанная с удивлением: это она сама написала… неужели сама? Неужели у нее получилось?..
Может быть, – пришла ей в голову мысль, – это искушение с Михаилом связано именно с тем, что она начала заниматься песнотворчеством? «Кто совершит дело, угодное Богу, того непременно постигнет искушение, ибо всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение, да и то, что делается ради Бога, не может быть твердым, если не будет испытано искушением», – вспомнились ей слова святого Дорофея. Спросить у отца Симеона?.. Нет, не стоит… Ни к чему его посвящать в отношения с родственниками. Тем более, что ипат больше не переступит порог этого дома, она об этом позаботится!.. Мама, конечно, будет на ее стороне. И пусть дядя злится, сколько хочет! Да может, ипат и не станет их родственником. Кассия уже переправила с утра через Маргариту записку для двоюродной сестры… Теперь – что Бог даст, и хватит думать об этом мерзком человеке! Есть вещи гораздо более интересные… и чудесные…
«Господи! – мысленно помолилась девушка. – Если Ты благоволишь послать мне этот дар песнописания, Сам помоги мне! “Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебя, Отца светов”… Ты Сам будь мне учителем и помощником!»
…Ипат, сидя у себя дома за столом, сочинял письмо. Строчки криво ложились на пергамент, буквы разъезжались во все стороны: хмель еще не выветрился из головы Михаила. Порой он останавливался и, морщась, потирал себе левый бок и спину – ночью Кассиины слуги надавали ему хороших тычков…
– Святоша! – бормотал ипат себе под нос. – Синеглазая рыба! Ты поплатишься за это! Когда твое прекрасное тело разрисуют бичами, ты еще пожалеешь, что не использовала его по назначению…
Он обмакнул перо в чернила, но не рассчитал, и на пергаменте расплылась коричневая клякса. Ипат выругался и взял другой лист. «Позвольте довести до сведения вашего императорского августейшего и треблаженного величества, – писал он, – что в самом центре нашего богоспасаемого Города находится притон идолопоклонников…»
18. «Амазонка» и великий куратор
Ты, непонятная! Боги, владыки Олимпа, не женским Нежноуступчивым сердцем, но жестким тебя одарили.
(Гомер, «Одиссея»)
Был промозглый октябрьский вечер, уже стемнело. Кассия с отцом Симеоном сидели в библиотеке и обсуждали, как правильно составлять каноны с акростихами, а Геласий подремывал в углу, когда в комнату вбежала испуганная Маргарита.
– Госпожа, там… – сказала она, задыхаясь, – там пришли, говорят, от императора! Требуют открыть, говорят, приказ! Ой, что делать?!..
Кассия побледнела и вскочила на ноги, поднялся и студит.
– Отче, – сказала она ему, – быстро идем! Они не должны схватить вас! Мы проведем вас на чердак, а оттуда на крышу… Маргарита, беги к отцу Зосиме, веди его сюда, а Фотине скажи, чтоб взяла из пристройки книги и перенесла в библиотеку, куда-нибудь на самую верхнюю полку, а в пристройку пусть грязного тряпья навалит и корзин каких-нибудь…
– Антиминс надо забрать, – сказал отец Симеон. – И Дары!
– Ой, да! Сначала в часовню! Успеем?.. Должны успеть! Маргарита, позови Феодора, пусть они с отцом Зосимой идут к нам в часовню, а Петр пусть не открывает пока, скажи им, что я сама к ним выйду, что я спала, теперь одеваюсь, пусть подождут немного!
Маргарита убежала. Кассия с отцом Симеоном бросились в часовню, где иеромонах забрал Святые Дары, антиминс, облачение и служебник. Пришел Феодор, и Кассия велела ему вывести студитов через чердак на крышу и показать место за трубой, где можно схорониться.
– А лестницу, что на чердак, потом убери совсем куда-нибудь, а туда поставь… сундук хотя бы, чтоб как будто он там всегда и стоял!
– Будет сделано, госпожа!
Когда монахи со слугой ушли, Кассия перекрестилась на икону Спасителя, положила земной поклон, прошептала:
– Господи, помоги нам! – и пошла отпирать незваным гостям.
Проходя через большую гостиную, она взглянула на себя в зеркало и приложила руки к щекам – они горели, сердце колотилось ужасно. Плохо, что она так волнуется и это не скрыть. Впрочем, ведь посланцы императора еще никогда не приходили к ним в дом, так почему бы ей не волноваться!.. Она глубоко вздохнула, пытаясь хоть немного успокоиться.
В прихожей Кассия, сняв с крючка пенулу, быстро накинула ее, надвинув капюшон на лоб, и вышла из дома. На дворе было сыро: дождь шел с утра и лишь недавно прекратился. Когда Петр открыл калитку, в нее стремительно вошел очень высокий рыжеволосый мужчина в длинном синем плаще, следом еще двое среднего роста, черноволосых, тоже в плащах, но более коротких, а за ними во двор ввалились человек десять внушительного вида стратиотов.
– Долго же вы заставляете ждать! – сурово сказал рыжий. – Где хозяйка?
– Хозяйка я.
– Ты? – Анастасий Мартинакий недоверчиво посмотрел на Кассию сверху вниз, зелено сверкнул глазами. – Хороша!.. То есть прямо-таки единоличная хозяйка всего?
– Нет, я живу с матерью и сестрой, но они сейчас уехали в наши поместья.
– Вот как! Ну, раз ты сейчас за хозяйку, то читай! – он протянул ей лист, где внизу бросалась в глаза подпись, сделанная красными чернилами.
Это был приказ императора обыскать особняк на предмет укрывательства в нем «нечестивых раскольников и еретиков», а также хранения «запрещенных писаний в защиту лжеименных икон». Кассия прочла, и руки ее слегка дрогнули. Кто мог донести? Или отца Симеона выследили, когда он выходил в Город?.. Она подняла глаза на великого куратора.
– Я, право, не знаю, господин, как могли быть возведены на нас подобные обвинения. Но приказ императора есть приказ. Прошу вас!
Она сделал пригласительный жест рукой и пошла к дому. Мартинакий и его спутники – то были Ефрем, надзиратель из ведомства эпарха, и Леонтий, личный секретарь великого куратора, – переглянулись и последовали за ней, сделав знак стратиотам идти тоже. Когда все вошли в прихожую особняка, Кассия откинула с головы капюшон, обернулась к императорским посланцам и спросила:
– Откуда вы желаете начать обыск?
– Мы… – начал было Ефрем и умолк.
Теперь, при свете висевшего в прихожей трехлампадного светильника, гости получили возможность лучше рассмотреть хозяйку и буквально не могли отвести от нее глаз. Стратиоты нагло разглядывали ее, Ефрем и Леонтий были откровенно поражены красотой девушки, а Мартинакий старался не подавать виду, но восхищение сверкнуло и в его взгляде.
– Полагаю, что мы начнем со всего сразу, – улыбнулся Анастасий. – Наши люди осмотрят двор, пристройки, кухню, гостиную… что еще у вас тут есть? А мы с господином Ефремом займемся хозяйскими покоями. Пусть везде зажгут светильники. Значит, мама и две дочки?.. Мамина-то комната где?
– Вот там, надо пройти через гостиную… Маргарита, – обратилась Кассия к горничной, потерянно стоявшей в дверях, – проведи господина… – она вопросительно взглянула на Мартинакия.
– Анастасий, великий куратор его императорского величества! – он картинно поклонился. – Весьма приятно познакомиться с такой юной и прекрасной девой!
Во взгляде девушки мелькнула досада.
– Проведи господина Анастасия к маме в комнаты, – повернулась она к Маргарите.
– О, нет, я уступлю эту честь господину Ефрему, – улыбнулся великий куратор. – А сам отправлюсь осмотреть покои юной госпожи, с ее позволения.
– Как тебе будет угодно, господин, – сказала Кассия как можно холоднее. – В таком случае, нам на второй этаж. Маргарита, проведи господина Ефрема к маме… Кстати, а где Феодор?
– Он на кухне, – ответила горничная. – Позвать, госпожа?
«Слава Богу! Значит, отцы уже спрятаны, и лестница убрана!» – подумала Кассия и сказала:
– Нет, не нужно. Пусть он показывает кухню и кладовки… А где Фотина? Мы с господином Анастасием пойдем наверх, а ты пришли ее ко мне поскорей!
– Да ты не бойся, красавица, я тебя не трону и пальцем! – насмешливо сказал Мартинакий.
– А я и не боюсь! – Кассия вздернула подбородок.
Великий куратор усмехнулся и последовал за ней на второй этаж особняка. Слуги суетились, зажигая во всех помещениях светильники, и вскоре дом озарился множеством огней. «А вкус у хозяек отменный!» – думал Мартинакий, оглядываясь вокруг.
– Нам сюда, – показала девушка в сторону своих комнат.
Но взгляд Анастасия устремился в другом направлении – на закрытую дверь в часовню.
– А тут что?
– Там… наша домовая часовня, – ответила Кассия с бьющимся сердцем.
– Вот как! Иконы? – Мартинакий направился к часовне и отворил дверь. – Иконы! Та-ак…
Кассия собрала всю силу воли, чтобы ответить спокойно:
– А что тут такого, господин Анастасий? Ведь это не запрещено. Даже в некоторых храмах все иконы оставлены на месте!
Великий куратор обернулся к девушке и пристально посмотрел на нее.
– Не запрещено, говоришь? – спросил он с неопределенным выражением в голосе и вошел в часовню.
Он быстро всё осмотрел, полистал книги, лежавшие на столике в углу, подошел к аналою, раскрыл лежавшую на нем тетрадь – это были богослужебные песнопения.
– «Херувимов тайно образующе»? – спросил он, поворачиваясь к Кассии, стоявшей в дверях. – И кто же тут у вас литургию служит, а?
– Иногда мы приглашаем священников, – ответила девушка, глядя ему в лицо и стиснув руки под пенулой. – Мама в последнее время болеет и не может выстаивать длинные службы в Великой церкви. Раньше мы туда ходили, а сейчас вот, дома служим.
– И какие же к вам священники приходят? – спросил Мартинакий, а взгляд его говорил: «Врешь ты, девка, и не краснеешь!»
– Разные.
– Ну, например? Откуда, из какого храма или монастыря?
– Зачем тебе это знать, господин? – ответила Кассия с некоторой дерзостью. – Если ты пришел с обыском, то обыскивай, а насчет допросов в указе государя я ничего не прочла.
Она ждала, что Анастасий вспылит, но вместо этого он скрестил руки на груди и несколько мгновений молча смотрел на нее. В его зеленых глазах плясали искры, но не гнева – великий куратор любовался.
– Прекрасный характер, восхитительный! – наконец, сказал он. – Под стать внешности! Хотя для женщины не слишком подходящий.
Кассия вспыхнула, хотела было что-то сказать, но закусила губу и промолчала. Мартинакий наблюдал за ней.
– Но смиряться тоже умеешь, – улыбнулся он с ехидством. – Значит, не совсем амазонка… Что ж, здесь мне всё понятно, а теперь я горю желанием увидеть твое жилище, госпожа.
Когда они вышли из часовни, Фотина как раз поднималась по лестнице. Увидев горничную, Кассия вздохнула чуть свободнее и сделала ей знак следовать за ними. Очутившись в комнатах девушки, Мартинакий цепко оглядел всё вокруг, немного задержал взгляд на ящике для одежды, заглянул в смежную со спальней молельню, но не пошел туда, а прямиком направился к столу и, переворошив пачку листов на нем, подошел к книжному шкафу в углу, дернул за ручку и обернулся к Кассии.
– Открой-ка, госпожа.
Девушка молча подошла к столу, раскрыла маленькую резную шкатулку из кости, достала оттуда ключ и открыла шкаф. Когда она вставляла ключ в скважину, рука дрогнула, и тень досады прошла по лицу Кассии, не укрывшись от великого куратора, который наблюдал за каждым ее движением. Когда Кассия отошла и села на кровать, сложив руки на коленях, он бросил на нее насмешливый взгляд и принялся внимательно изучать содержимое шкафа. Анастасий пролистал несколько книг, и выбор их, очевидно, озадачил Мартинакия – он взглянул на Кассию чуть удивленно, но ничего не сказал. Последней книгой, за которую он взялся, оказался Плутарх. Тут Анастасий вдруг увлекся, даже пододвинул стул, сел и углубился в чтение, на лице его отразился неподдельный интерес. У Кассии затеплилась надежда, что он так и просидит, промешкает, а потом его начнут торопить спутники – всё-таки уже вечер! – и он не полезет на нижнюю полку… Но великий куратор внезапно закрыл книгу, положил на стол, остро глянул на девушку и, опустившись на корточки, взялся за содержимое последней полки. Кроме кипы чистых листов и коробки с перьями, там лежали две тетрадки. Полистав одну из них, Мартинакий усмехнулся и взглянул на Кассию:
– Ты, госпожа, я вижу, особенно не любишь глупцов? Видно, считаешь себя очень умной?
– Нет, просто не люблю, когда глупцы считают, что никто не должен подниматься над болотом их глупости.
Анастасий хмыкнул, открыл вторую тетрадку, и тут почти все листы из нее разлетелись по комнате – они были не подшиты. Фотина бросилась было поднимать, но Мартинакий рявкнул на нее:
– А ну, отойди! Я сам!
Он действительно собственноручно собрал все листы, аккуратно разложил на столе, пододвинул поближе светильник и принялся за чтение.
– Так-так, знакомый почерк! – воскликнул он. – А здесь другой, но зато узнаю стиль… Та-ак… И содержание… – он обернулся и посмотрел на Кассию в упор. – Письма Феодора Студийского, значит?
– Да, – ответила девушка.
Отпираться не было смысла. Мартинакий посмотрел на нее с сожалением.
– Переписываетесь, значит? – тон его стал вдруг мягким и почти вкрадчивым, но именно это заставило и Кассию, и Фотину вздрогнуть. – А знаешь ли ты, красавица, что за хранение – одно лишь хранение! – писем этого нечестивца полагается бичевание?
Зеленые глаза Мартинакия хищно сверкнули. Фотина в ужасе взглянула на великого куратора.
– Неужели, господин, – произнесла она, запинаясь, – ты станешь бичевать госпожу Кассию?
– Мне весьма жаль, милейшая, но мне дан приказ, и я обязан его исполнить!
Анастасий аккуратно сложил все найденные им письма в стопку, вынул из мешка на поясе веревочку и лоскут ткани, сложил туда пачку, завернул, перевязал и вышел из комнаты, сказав Кассии:
– Сойдем вниз, почтеннейшая!
Когда они спустились на первый этаж, там в большой гостиной уже собрались почти все стратиоты с Ефремом. Ничего подозрительного в доме и прилегающих помещениях они не обнаружили. Секретарю и стратиоту, осматривавшим библиотеку, не хватило терпения открывать все книги подряд, и до писаний Иоанна из Дамаска они, к счастью, не добрались. Мартинакию они, однако, сказали, что просмотрели всё содержимое библиотеки, но ничего крамольного не нашли. Великий куратор хмыкнул, но, одушевленный собственной находкой, не стал выяснять, правду ли они говорят.
– Зато я кое-что нашел! – Анастасий помахал перевязанной пачкой.
– Что это? – спросил Ефрем.
– Письма студийского разбойника!
– Феодора?! – воскликнул Леонтий.
– Его! Собственноручные или копии… Штук двадцать будет!
Ефрем присвистнул, посмотрел на Кассию и спросил:
– Что будем делать?
– Придется малость попортить красивую шкурку, – сказал великий куратор. – Жаль, конечно, но приказ августейшего императора надо приводить в исполнение без лицеприятия.
– Что?! – вскричала стоявшая в дверях Маргарита. – Вы хотите бичевать госпожу? Да как вы смеете!
Анастасий нахмурился и взглянул на горничную так, что она сразу сникла.
– Что за речи я слышу? Вы, похоже, тут живете, как во сне! Не знаете ни законов, ни постановлений! Переписываетесь с государственными преступниками! – тон Мартинакия становился всё более угрожающим. – Знаете ли вы, что только за хранение его писем положено полсотни бичей? А тут, я вижу, не только хранят письма, но и ведут переписку! Думаете, я глупец и меня можно обмануть досужей болтовней о маминых больных ножках? Вы что, хотите меня уверить, что вы не иконопоклонники? – он рассмеялся. – Милейшие, я предостаточно перевидал вашей братии за последние два года, и меня не обманешь! За то, что вы тут вытворяете, сажают в подвалы Претория! Я же ничего подобного делать с вашей госпожой не собираюсь. Мы всего лишь немного поучим ее уму-разуму. Ей полезно, еще молода, вся жизнь впереди, поучение пойдет ей на пользу!
– Это бичи-то – поучение?! – всплеснула руками Маргарита; она всё еще не верила, что великий куратор говорил всерьез.
– Конечно! Если бы вы, вместо переписки с еретиками и изучения языческих писателей, – Анастасий бросил насмешливый взгляд на Кассию, – почаще читали Священное Писание, то знали бы, что там сказано о несомненной пользе наказания для юных! Так что, милейшая, – обратился он к Маргарите, – принеси-ка сюда лучше скамью пошире!
– Зачем это?
– А чтоб госпоже твоей удобнее было лежать, пока мы ее учить будем!
Стратиоты дружно загоготали.
– И не подумаю! – воскликнула Маргарита. – Да вы совсем изверги! Пятьдесят ударов? Ей?! Звери! Не дам!
Она бросилась к Кассии, но тут же, по знаку великого куратора, была схвачена двумя стратиотами и забилась у них в руках.
– Не смейте ее трогать! Не смейте! Господь покарает вас!
Анастасий вдруг подошел к ней и со всего размаха влепил пощечину; щека девушки стала красной, как свекла.
– Если ты сейчас же не заткнешься, будешь ночевать в Претории, падаль ты этакая! – сказал он тихо и кивнул стратиотам. – Уведите ее вон, пусть остынет на улице! Да, и остальных слуг сюда не пускать, а то что-то крику много, я вижу.
Рыдающую Маргариту вывели. Спустившаяся со второго этажа Фотина остановилась в дверях и с ужасом наблюдала за происходящим, не смея раскрыть рта из страха, что ее тоже выгонят, и тогда госпожа останется наедине с «этими извергами»… Мартинакий повернулся и посмотрел на Кассию. Девушка стояла, опершись рукой на круглый столик, глаза стали как будто еще больше на ее побледневшем лице.
– Если нужна широкая скамья, то на кухне есть такая, – тихо сказала она, медленно сняла пенулу и бросила на кресло.
Мафорий почти сполз у нее с головы, и Кассия совсем сняла его, оставшись только в темно-синей тунике. Ефрем, Леонтий и стратиоты почти завороженно наблюдали за ней. Мартинакий вдруг сел на стул, вытянул вперед ноги и, скрестив руки на груди, смерил девушку с ног до головы пристально-оценивающим взглядом. Кассия невольно покраснела и сказала, не глядя на великого куратора:
– Надеюсь, вы не… не выйдете за пределы того, что вам приказано.
Анастасий усмехнулся и подмигнул Ефрему:
– Как, дружище, не выйдем? А ведь соблазнительно было бы, ей-Богу!
Тот пробурчал что-то невразумительное. Мартинакий обвел глазами гостиную и увидел прислонившуюся к дверному косяку Фотину.
– А ты что тут делаешь, почтенная? Выйди!
– О, нет! – воскликнула Фотина, умоляюще складывая руки. – Прошу тебя, господин, не выгоняй меня! Я… не буду кричать… и мешать…
– Помогать, значит, будешь? – насмешливо спросил великий куратор. – Ну, так принеси с кухни скамью для твоей госпожи!
Стратиоты снова захохотали. Горничная побледнела и отступила на шаг.
– Принеси скамью, Фотина, – сказала Кассия. – Да не бойся за меня. Воля Божия!
Девушка зажала рукой рот и вышла. Мартинакий сказал стратиотам:
– Стол и стулья отодвиньте вон туда! У кого бичи?
– Здесь! – сказал один из стратиотов, похлопав по суме, висевшей у него при поясе.
– Прекрасно! Давай сюда!
– Один, господин Анастасий?
– Один. Хватит одного, – великий куратор поднялся со стула и сверкнул глазами на Кассию. – И веревки дай.
– Ты… это… – сказал Ефрем. – Не переусердствуй, смотри! А ну, как помрет, потом шума не оберешься! Да и жалко девицу, – добавил он совсем тихо.
Мартинакий поиграл бичом, который протянул ему стратиот, и сказал с усмешкой:
– К такой красавице и воловьи жилы будут нежны!
Стратиоты продолжали пересмеиваться, поедая девушку глазами. Кассия по-прежнему стояла, у столика, стараясь унять внутреннюю дрожь. Сколько раз она, в пылу восторженности, мечтала пострадать за православие так же, как студиты и другие исповедники, и теперь ее желание должно было исполниться, – но то, что она ощущала, вовсе не походило на восторг: она знала, что будет очень больно, что пятьдесят ударов изорвут ей всю кожу на спине, что заживать будет долго и мучительно… И раздеваться – перед ними! Господи!.. У нее задрожали губы, она прикрыла их рукой и мысленно взмолилась: «Господи, помилуй меня, грешную! Помоги мне вытерпеть!» Хоть бы не закричать, не заплакать, хоть бы не унизиться до мольбы перед ними!
Тут вернулась Фотина со скамьей, которую помогал нести Геласий; по щекам у обоих текли слезы. По знаку Анастасия, стратиоты взяли у них скамью и поставили посреди комнаты.
– А теперь все вон отсюда! – приказал великий куратор. – А ты останься, – сказал он Ефрему.
На лицах секретаря и стратиотов, надеявшихся поглядеть на бичевание, изобразилась смесь сожаления и досады; друг за другом они двинулись к выходу. Внезапно Фотина бросилась к ногам Мартинакия.
– Господин, позволь мне остаться!
Анастасий взял ее за подбородок и с усмешкой взглянул в мокрое от слез лицо горничной.
– А кричать не будешь?
– Не буду, – прошептала она.
– Ну, оставайся. Да дверь поплотней прикрой!
Фотина вскочила и, подбежав к двери, закрыла ее за последним стратиотом и встала тут же у стены, стиснув на груди руки. Мартинакий снова сел, пристально взглянул на Кассию и сказал чуть насмешливо:
– Ну что, почтеннейшая, читать о доблести женской – это ведь не то, что самой ее показывать, а?
Кассия молчала, глядя в пол.
– Так-то, красавица! – продолжал великий куратор. – Впрочем, есть один способ оставить твою шелковистую шкурку в целости и сохранности. Вот что я тебе могу предложить, почтеннейшая: письма эти я заберу, конечно, а ты, госпожа, сейчас дашь собственноручную подписку о том, что раскаиваешься в сообщении с этим студийским разбойником, обещаешь более не поддерживать с ним связь и покоряться распоряжениям августейшего государя… Вот, пожалуй, и всё. Торжественно могу пообещать, что получив от тебя такое рукописание, я немедленно покину ваш гостеприимный дом, не прикоснувшись к тебе и кончиком этого чудесного орудия, – он слегка щелкнул бичом.
Кассия вздрогнула и подняла глаза.
– Нет. Я ни в чем не раскаиваюсь и никакой подписки не дам. Можешь исполнять то, что собирался. Только я бы просила вас отвернуться, пока я разденусь.
– Сумасшедшая! – прошептал Ефрем.
Анастасий несколько мгновений молча смотрел на девушку.
– Амазо-онка! – протянул он, ухмыльнувшись. – Погляди на нее, Ефрем, повнимательней! Вряд ли ты еще в жизни встретишь девицу одновременно столь прекрасную и столь упрямую! Жаль, придется немножко попортить ей спинку… Ай-яй! Ведь я хотел, как лучше! Ну что ж, уважим ее последнюю просьбу!
Поднявшись со стула, Мартинакий повернулся к девушке спиной и принялся отстегивать фибулу на плече, чтобы снять плащ. Вслед за ним отвернулся и Ефрем.
– А ты что стоишь? – взглянул Анастасий на Фотину. – Помогла бы госпоже раздеться!
Девушка бросилась к хозяйке.
– Не бойся, Фотина, как-нибудь обойдется! – шепнула Кассия и улыбнулась.
Ей вдруг стало спокойно и почти не страшно. «Умереть не умру, – подумала она, – спина заживет, а если шрамы останутся… так что ж! Замуж мне всё равно не выходить…» Раздевшись, она легла на скамью и поежилась, когда тело ее коснулось прохладного дерева. «Ничего, сейчас будет жарко!» – усмехнулась она про себя, взглянув на великого куратора, который, стоя к ней спиной, небрежно покачивал бичом. Фотина подошла к Мартинакию и сказала дрожащим голосом:
– Всё готово, господин.
Анастасий с Ефремом обернулись и подошли к скамье. Кассия лежала, отвернув лицо от них и закрыв глаза.
– Руки вперед, госпожа! – сказал великий куратор и взглянул на Ефрема. – Привязывай!
Кассия послушно вытянула руки, и Ефрем стал приматывать их к скамье веревкой. Когда он перешел к ногам, Мартинакий наклонился и, подняв с пола косу девушки, закинул вперед, поверх рук.
– Не волосы, а пух! – проговорил он, выпрямляясь.
Ефрем завязал последний узел и, отойдя, поглядел на растянутую на скамье девушку с нескрываемой жалостью и неодобрительно покосился на великого куратора. Тот улыбнулся.
– Что, жалко? Хороша? – Анастасий отступил на шаг. – Хороша! Такой фигуре позавидовала бы сама Афродита! А какая кожа! Прямо светится! Но и прекрасную Киприду, бывало, побивали смертные мужи… – и Мартинакий взмахнул бичом. – Раз!
Фотина чуть слышно ахнула и уткнула лицо в ладони. Кассия не издала ни звука. После второго удара Ефрем невольно закрыл глаза, повернулся и отошел к двери. Он не впервые наблюдал бичевание иконопочитателей, но впервые не мог на него смотреть и вдруг, неожиданно для самого себя, мысленно взмолился: «Господи, прекрати это!» Между тем страшный счет продолжался. Но после пятнадцатого удара Анастасий вдруг остановился. Фотина медленно отняла руки от лица, Ефрем обернулся. Великий куратор обошел скамью, присел на корточки и заглянул в лицо Кассии.
– Э, – сказал он поднимаясь, – отвязывай, господин Ефрем! С нее довольно! Девицы – создания нежные, этак и душу выбить недолго…
Ефрем бросился исполнять приказ, отметив про себя, что Мартинакий бил без оттяжки и не очень сильно: спина девушки была исполосована далеко не так страшно, как бывало при бичеваниях.
– Ну, милейшая, – обратился Анастасий к Фотине. – Забирай свою бесценную госпожу! Приводите ее в чувство, лечите… Да передайте ей от меня, чтобы поменьше подражала амазонкам, – он усмехнулся и повернулся к Ефрему. – Ты всё? Пошли, дружище! Больше нам тут делать нечего.
Кассия очнулась в своей постели, лежа на животе. Маргарита прикладывала ей ко лбу тряпицу, намоченную холодной водой. Кассия попыталась пошевелиться и закусила губу от боли.
– Госпожа! Очнулась, слава Богу! – горничная перекрестилась. – Ты только не шевелись, исполосовал тебя этот разбойник… Феодор уж за врачом побежал.
– Они уже ушли? – прошептала Кассия.
– Ушли, ушли, чтоб их!.. Но слава Господу, этот рыжий не дошел до пятидесяти, на пятнадцатом ударе прекратил! Но всё равно всю спину… – Маргарита всхлипнула.
– Я только до седьмого помню, – Кассия попыталась улыбнуться. – Потом… не помню ничего… Я потеряла сознание?
– Да, и слава Богу! Этот дракон… ну, рыжий этот увидел, что ты без чувств, и решил больше не бить…
Через полчаса Феодор привел врача Исидора, который уже много лет пользовал Марфу с дочерьми. Худой евнух – «мешок с костями», как за глаза называли его слуги, – осмотрел спину Кассии, покачал головой, осторожно нанес мазь из свиного сала с оливковым маслом и травами, перевязал и пообещал придти на другое утро и принести лечебный сироп для питья.
– Серебро в доме есть? – спросил он.
– Серебро? – растерялась Маргарита.
– Монеты серебряные.
– Есть, как не быть! – воскликнула Фотина.
– Вот и прекрасно, – сказал Исидор. – Приготовьте, помойте, прокипятите. Когда подзаживет, будете прикладывать, чтобы шрамов не осталось.
…Кассия запретила кому-либо из слуг ехать к Марфе, и когда мать вернулась в Город, девушка уже почти оправилась. Исидор был доволен и говорил, что никаких следов от бичевания на ее теле не останется.
– Вот, госпожа, – сказал отец Симеон потрясенной Марфе, – какой чести сподобил тебя Господь: ты стала матерью исповедницы веры!
– Если б не госпожа Кассия, нас бы схватили, – тихо проговорил Зосима. – А она так быстро сообразила, что к чему, так скоро распорядилась! Если не жизнью, то свободой мы ей точно обязаны… А воздать нам, грешным, и нечем…
– Как же нечем? – ответила Марфа сквозь слезы. – Ваши молитвы – вот лучшее воздаяние!
Но оставалось непонятным, кто же мог донести, что в доме Марфы скрываются иконопочитатели и хранятся писания в защиту икон. Посовещавшись, Симеон и Зосима решили покинуть гостеприимный дом, чтобы более не подвергать опасности хозяев и себя самих, хотя Кассия с Марфой и просили их остаться. Отец Симеон думал пока перебраться в пригород к Григоре, а Зосима – навестить вонитских узников. Марфа с Кассией передали с ним подарки для игумена, и девушка написала ему длинное письмо, где рассказала обо всем – о своей жизни, об отношениях с родственниками, о случае с пьяным ипатом, о занятиях песнотворчеством, о решении стать монахиней, о бичевании. Только Феодору она открыла, что все те дни после бичевания, пока ее спина заживала, она ощущала в душе такую радость, какой не испытывала никогда в жизни. «Я бы, кажется, согласилась, чтобы меня били и еще, и больше, и больнее, настолько это ничтожно по сравнению с той сладостью, которую дал мне вкусить Господь после этого краткого страдания», – писала девушка. Она также послала Феодору несколько своих стихов и стихиру в честь апостолов Петра и Павла.
Марфа с некоторым страхом ждала, что брат узнает о происшедшем и устроит скандал. Однако, к немалому ее удивлению, Георгий, в очередной раз навестив сестру, ни словом не обмолвился о случившемся. Зато он рассказал о том, что в одном из вифинских скитов нашли тайник, где была спрятана пачка писем игумена Феодора и копий с них, но кто их туда положил, неясно: скит заброшен – видимо, монахи скрываются в горах. Обнаружили тайник люди великого куратора, и Анастасий получил от василевса награду. Сообщив об этом, Георгий стал жаловаться на Михаила: оказывается, будущий зять написал какое-то «глупейшее письмо» на имя императора, за что ему «влетело», и в результате он не получил повышения, на которое надеялся… О содержании письма Георгий не знал ничего определенного: он пытался разведать подробности через Анну, но та сказала, что Михаил «не признался». Достоверным было лишь то, что ипат сообщил императору некие сведения, которые не подтвердились. Правда, отец Михаила сумел замять дело с помощью связей и денег, и помолвка с Анной осталась в силе, на что Кассия внутренне подосадовала: даже обстоятельства не избавили сестру от этого замужества! Впрочем, сама Анна и не стремилась от него избавиться – через Маргариту она прислала наскоро написанный ответ на записку Кассии по поводу жениха: «Благодарю за предупреждение, но я и сама знаю, какой образ жизни он ведет. Только я всё равно за него выйду. Он хотя бы оставит мне достаточно свободы. Насмотревшись, как живет моя мать, не смея без позволения отца даже Псалтирь в руки взять, я поняла, что свобода драгоценна. К тому же остальные женихи, что на примете у отца, еще хуже, а всё равно за кого-то выходить придется. А ты, милая, не торопись! Надеюсь, Бог дарует тебе лучшую участь».
– Как же дядя ничего не узнал о том, что у нас нашли письма отца Феодора и меня бичевали? – удивилась Кассия, когда мать рассказала ей о разговоре с братом. – Ведь он же всегда знает все новости, все придворные сплетни!
– Сама не понимаю, – ответила Марфа. – Получается, Мартинакий ничего не рассказал?
– А что это за письма из тайника?.. Неужели… может, Мартинакий сказал, что он нашел там те письма, которые взял у меня?..
– А ведь и правда, похоже на то! Удивительно! Значит, он решил тебя не выдавать?
– Выходит, так, – растерянно проговорила Кассия. – И, должно быть, тем, кто с ним был, тоже запретил рассказывать…
– Ну, им-то он мог и не запрещать нарочно, кто ж их допустит к императору!.. Правда, этот Ефрем от эпарха… Но ты же сама сказала, что ему было тебя с самого начала жаль, а значит, с ним Мартинакий мог договориться… Пожалел он тебя! Видно, ты ему понравилась, – Марфа улыбнулась.
– Решил, что пятнадцати ударов достаточно для моего воспитания! – рассмеялась Кассия.
– Что ж, значит, и в нем есть какая-то доброта… Вот как бывает! А Маргарита так его ругала, чего только ни наговорила! Надо ей рассказать, что он не всегда бывает «драконом»!
Спустя полтора месяца Зосима привез ответ от Студийского игумена. Кассия была так взволнована, что не сразу решилась распечатать письмо.
«Всё, что твоя добродетельность опять сказала нам, – писал Феодор, – мудро и разумно. Поэтому мы с полным правом удивились и возблагодарили Господа, встретив такой ум в юной девице. Правда, это не похоже на бывших прежде, ибо мы, нынешние, и мужчины, и женщины, бесконечно много уступаем им и в мудрости, и в образованности. Во всяком случае, в настоящее время ты сильно выдаешься. Слово – твое украшение больше, чем всякое тленное благолепие. Но замечательно, что у тебя со словом согласуется и жизнь, и ты не являешь односторонности ни в одном, ни в другом отношении, ибо решилась пострадать за Христа в это гонение. Ты не ограничилась бывшим бичеванием, но опять, не будучи в силах противостоять, охвачена горячей любовью к доброму исповеданию. Ты, действительно, знаешь, “что добро, или что прекрасно”, именно – страдать за истину и выбрать мученичество. Золото и серебро, слава и благолепие, и всякое земное мнимое благополучие есть ничто, хотя и называются добром, ибо они мимолетны и исчезают, подобны сновидению и тени. Что же дальше? Следует избрание монашеской жизни, которую ты обещаешь принять по прекращении гонения. Хотя это и дивно, но меня твое решение не поразило. Почему? Потому что о последующем всякий может заключать по предыдущему. Доказательство может идти и от обратного. Если виден дым, – конечно, покажется и огонь. И в настоящем случае, если есть исповедание Христа, ясно, что воссияет и жизнь в монашеском совершенстве. Как ты блаженна в обоих отношениях! Но не жди, чтобы я возложил на тебя руки и постриг в монахини, ибо я грешен; пусть лучше сделает это тот, от священного возложения руки которого ты освятишься. Низко кланяюсь, как матери света, той, что произвела тебя на свет и возродила в истинном свете. Получив ее дары, равно как и твои, я принес в дар Господу моему благодарение и молитву за вас обеих».
19. Неукротимый игумен
Великое дело есть человек мудрый, ходящий верою в единении и сверхъестественном общении с Духом. …есть три предмета, как говорится, непреодолимые: Бог, ангел и муж любомудрый.
(Св. Каллист Ангеликуд)
Патриарх перечитывал письмо Студийского игумена: Феодор хвалил Никифора, как «истинного победителя нечестия, проходящего поприще веры на колеснице добродетелей», «великое солнце православия», «поборника истины» и подражателя Христа. «“Возведи очи твои и посмотри вокруг” с вершины мысленной горы, – писал игумен, – “и узришь чад твоих”, овец твоих, пастырь добрый, хоть и разделенных телесно, но единых по духу, рассеявшихся по всей Церкви твоей и лучами исповедания, подобно звездам, изливающих находящимся во мраке ереси свет православия. Некоторые из них в минувшем противостоянии врагу уже принесли себя в жертву Богу, другие ратоборствуют, нисколько не страшась настоящего, но укрепляясь богоугодными твоими молитвами. Это – слава твоей Церкви, это – отражение твоего мученичества». Письмо вызывало у Никифора восхищение перед писавшим и печаль о собственном недостоинстве перед похвалами, которые Феодор расточил ему. Это послание пришло два месяца тому назад, а нынешним утром патриарх получил копию письма игумена, адресованного «всюду рассеявшимся братствам». Ее переправил ему из ссылки архиепископ Солунский Иосиф, приложив и свое письмо, где сообщал о положении дел, известном ему по вестям от студитов, и о том, что Феодор с Николаем бичеваны и находятся под строгим надзором, но игумен продолжает ободрять православных.
«И я когда-то был его гонителем, считал его несмысленным смутьяном! – думал Никифор, читая. – Господи, укрепи его! Он трудится больше всех нас, и скольким опасностям подвергается за каждое такое письмо! А ведь он написал их уже без счета…» Сосланный из Агафской обители в монастырь мученика Феодора, патриарх прошедшие без малого три года содержался довольно строго: хотя совершать богослужения в монастырском храме ему разрешали, личная библиотека также была в его полном распоряжении, а император, как и обещал, спустя несколько месяцев возвратил и книги, поначалу забранные у патриарха, однако Никифору не позволяли писать – ни писем, ни чего бы то ни было еще; письменных принадлежностей он был лишен с самого первого дня своего заключения. К нему также не пускали никаких посторонних посетителей, и хотя иногда удавалось получать передачи и письма, ответить не было возможности – за ним строго следили. Только на третью зиму, когда сменился начальник стражи, положение изменилось: ссыльному патриарху стали выдавать пергамент и чернила и раз в месяц пускать к нему для свидания желающих; впрочем, встречи эти проходили всегда в присутствии стражника. Теперь Никифор, наконец, получил возможность наверстать упущенное и немедленно начал писать опровержения иконоборческих мнений. Надо было спешить, ведь он так долго вынужден был молчать, тогда как Церковь ждала слова своего предстоятеля, а противники успели уже соблазнить столь многих… Впрочем, и в плохом была хорошая сторона: теперь были известны доводы иконоборцев, выдвинутые в недавней полемике, и писания, на которые они чаще всего ссылались, и опровергать их было удобнее. Студийский игумен уже составил немало кратких опровержений еретиков в виде вопросов иконоборца и ответов православного, а патриарх хотел предпринять труд более пространный, с многочисленными ссылками на Писание и отцов Церкви, заодно подробно рассмотрев и историю возникновения иконоборчества почти столетней давности, благо нужные книги были у него под рукой.
Не только патриарх опасался за участь Феодора: другие исповедники, получившие очередное окружное послание, тоже беспокоились за игумена при мысли, что одна из копий может попасть в руки властей. Непосредственным поводом к его написанию послужило письмо брата Каллиста, который жаловался, что при попытке убедить одного примкнувшего к иконоборцам монаха в отступлении от веры, тот усмехнулся и сказал:
– От какой это веры я отступил? Ты сам не знаешь, что говоришь! Вы слишком самоуверенны, да и вся эта ваша борьба – одно тщеславие. Вы хотите прославиться, прослыть борцами за веру, мучениками за Христа! Но разве вы страдаете за Христа? Глупости! Никто нас отрекаться от Христа или хулить Его не заставляет. Это вы придумали себе, что икону надо называть «Христом», и теперь воображаете, что вас «за Христа» гонят… Вы за глупость свою страдаете, а не за Христа!
Этот разговор очень смутил Каллиста: его стали искушать помыслы, что, быть может, действительно страдают они не за Христа. «И почему, – думалось ему, – если мы, страдая за почитание икон, страдаем за Христа, Он до сих пор не прекращает этой ереси? Почему попустил Он столь многим впасть в нее? Почему почти все епископы, столько игуменов и монахов присоединились к ней? Разве все они невежды или трусы? Разве они не знают веры и не стремятся угодить Богу?.. Почему же они не только приняли ересь, но даже и не думают, что совершили что-то плохое?.. Долго ли еще всё это будет продолжаться? А может, Господу неугодна борьба, которую мы ведем?..» За несколько дней Каллист так растравил себя этими мыслями, что впал в жестокое уныние и, ни в чем не находя ни утешения, ни разрешения недоумений, написал игумену, хоть и без уверенности, что письмо будет получено. К счастью, письмо до Феодора дошло, и, прочтя его, игумен возмутился духом и решился написать окружное послание всем братиям, надеясь и на то, что оно будет распространено среди остальных исповедников, как это случилось уже со многими его письмами в защиту православия.
«Как? – писал он. – Маккавеи, отказавшись вкусить свиного мяса, запрещенного тогда законом, сделались мучениками, а ты, страдая за то, что не отказываешься от начертанного Христа, не мученик?» Разрешая недоумения по поводу того, что гонение до сих пор не прекращается, игумен призывал не исследовать глубину судеб Божиих и напомнил, что некогда иудеи страдали более четырехсот лет, прежде чем наследовали обетованную землю, христианство до святого императора Константина было гонимо больше двух столетий, да и многие святые терпели гонения очень долго. «Великий Павел был гоним тридцать пять лет и ежедневно умирал, а ты за пять лет теряешь мужество? Многострадальный Климент был мучим двадцать восемь лет, а ты ослабеваешь за короткое время? Хватит ли мне времени перечислить деяния других мучеников? – восклицал Феодор. – Промысл как бы просеевает нынешних людей, чтобы отбросить оставшиеся еще плевелы, чтобы осталась чистая пшеница…»
Послание это разошлось чрезвычайно широко и в начале февраля, когда в окрестностях Константинополя были схвачены имевшие его при себе двое студитов, попало в руки эпарха и на другой день легло на стол к императору. В тот же вечер Лев вызвал к себе Грамматика.
– Прочти! – сказал он, протягивая игумену письмо. – Четыре года назад я сказал ему, что не стану делать его «мучеником»… Но он поистине нарывается на то, чтобы претерпеть новую кару! Непостижимо! Давно ли ему дали сотню бичей – и он опять за свое! И какова дерзость? Он стал еще наглей, чем раньше!
«Потерпим еще, мужественные воины Христовы! “Дни, как тень проходят”, хотя гонители и думают, что они ждут, – писал Студит. – Ибо поистине они не знают, что Бог послал Сына Своего Единородного, который “родился от Жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных”, чтобы Он приобрел вселенную Отцу Своему. Иначе они не отвергали бы того, что Он может быть изображаем. Ибо никто из рожденных от жены не бывает неизобразимым…»
Читая, Иоанн испытывал смешанные чувства. Да, риторика – но за этой риторикой была пролитая под бичами кровь. Да, без богословских тонкостей – но Грамматик был знаком и с антирретиками Феодора, где тонкостей хватало, и с его стихами, ничем не худшими тех, что распространяли в народе иконоборцы. Беседа с Навкратием показала Сергие-Вакхову игумену, что в его системе всё же есть недоработки, и в последнее время он ночи напролет просиживал за книгами, кое-что перечитывал, пересматривал, обдумывал, пытаясь представить, что бы мог возразить его главный противник на тот или иной довод… В отличие от императора или патриарха, Иоанн не считал Студийского игумена «неразумным упрямцем»: он видел, что Феодор отстаивал то, во что верил как в истину, – отстаивал последовательно, уверенно и твердо и был готов за это умереть. Грамматик не мог согласиться с ним – но не мог им не восхищаться.
– Я не вижу тут ничего особенно нового, государь, – сказал Иоанн, дочитав письмо. – Много риторики, много задора… Пожалуй, резковато местами, но ведь Феодор никогда не отличался излишней вежливостью, – игумен улыбнулся.
– Это не то слово! – император в гневе схватил письмо и вновь принялся просматривать его. – «Вас же и тех, кого мучит отступник, да утвердит Христос»! Каково?! – Лев бросил письмо на стол. – Нет, я не могу позволить, чтоб он распространял такие письма! – он прошелся по комнате. – Кстати, а сколько ему лет?
– Думаю, уже к шестидесяти.
– Немало!.. Ну, что ж… в таком случае еще сотня бичей, надеюсь, надолго выведет его из строя… Он ожидает «воздаяния»! Ему покажут воздаяние!
Грамматик молчал. Император вдруг пристально взглянул на него и спросил:
– Да ты уж не жалеешь ли его, отче?
– Я? – Иоанн приподнял бровь. – Можно ли, августейший, жалеть врагов веры и престола?
Император усмехнулся, еще раз внимательно взглянул на игумена и отошел к окну. «Можно ли? – подумал он. – Феодосия считает, что можно… Впрочем, женщина – что с нее взять!»
На другой день гонец с императорским посланием, к которому прилагалась копия письма Студита, был отправлен в Аморий: Лев повелел стратигу дать Феодору и его соузнику по сто ударов бичом. Получив приказ, Крате́р, поскольку не имел возможности отлучиться из города – оставалась неделя до начала Великого поста, и нужно было закончить кое-какие дела, чтобы освободить побольше времени для постных богослужений первой седмицы, – отправил в Вониту комита шатра Василия, сменившего на этом посту Феофана, в сопровождении двух десятков воинов. Посланные прибыли в крепость поздним вечером в сыропустную среду.
Вонитские узники уже прочли правило и легли спать, как вдруг с улицы донеслись шум и крики. Николай встал, забрался на табурет, выглянул в окошко и увидел, что двор полон огней и людей. Скоро заключенные услышали, как придвигают тяжелую лестницу, а затем раздался стук, скрип отрываемых досок; наконец, дверь распахнулась, и в темницу ворвались трое стратиотов. Один из них держал факел, а двое других схватили обоих монахов и повлекли вниз. Вскоре они уже стояли посреди двора, окруженные кольцом воинов, присланных стратигом, и нескольких из местной крепостной охраны, тут же был начальник крепости со своим асикритом. Накрапывал холодный дождь, и узники, выволоченный на улицу в одних хитонах, без мантий, зябко поеживались. Комит подошел к Феодору и сунул ему в лицо пергаментные листы.
– Это твое сочинение, мерзавец?
Игумен слегка отстранился, вгляделся в написанное и ответил:
– Да.
– Негодяй! – воскликнул комит, наступая на Феодора. – Как смеешь ты писать такое?! Ты, верно, хочешь, чтоб тебе прижгли руки каленым железом?
– Я хочу торжества истины.
– Какой истины?! Что ты называешь истиной? Ваше богомерзкое идолопоклонство? Довольно болтовни! Сейчас вам обоим дадут по листу, и вы письменно пообещаете не писать ничего никому и покориться приказу августейшего государя не учить о почитании лжеименных икон!
– Да не будет! – сказал игумен. – Мы не отречемся от нашего Бога. Всякий, отрекающийся от почитания иконы Христовой, отрекается от вочеловечившегося Христа. Да избавит нас Господь от такого нечестия! Мы говорили и писали и будем говорить и писать в защиту истины, пока Бог благоволит продлить нашу жизнь.
Николай заметил, как начальник крепости покачал головой и переглянулся с асикритом, а тот развел руками и постучал себе по лбу костяшками пальцев. Начальник крепости кивнул.
– Мерзавец! – почти прорычал комит. – Нет, ты не будешь ничего больше писать!
Он осмотрелся вокруг, и взгляд его остановился на высоком развесистом платане, росшем недалеко от дома, где были заключены узники. Комит повернулся к стратиотам.
– Свяжите этому негодяю руки и подвесьте вон туда! Писатель какой нашелся!
– Нет! – вскричал Николай и рванулся вперед, но был тут же схвачен воинами. – Не трогайте его! Это я писал послание!
– Вот как? – комит насмешливо поглядел на монаха. – Ты писал, а он что? Только диктовал? – он расхохотался. – Но действительно, нужно быть справедливыми в выборе наказания. Раз ты писал, то твои руки и поплатятся! – он сделал знак стратиотам. – Подвешивайте этого!
Николай встретился глазами с игуменом, Феодор поднял руку и перекрестил ученика.
– Держись, чадо!
– Молча-ать! – рявкнул на него комит. – Что руки распустил? А ну, связать его!
Один из стратиотов немедленно вывернул игумену руки за спину и связал так туго, что кисти тут же стали затекать. Николая схватили, поспешно стащили с него параман и хитон, раздался треск рвущейся материи. Ему связали руки толстой веревкой, перекинули другой конец через одну из нижних толстых ветвей платана, и два высоких стратиота стали тянуть за веревку с противоположной стороны. Вскоре монах повис в воздухе под веткой, и тогда конец веревки несколько раз обмотали вокруг ствола и закрепили. Комит взял кнут и собственноручно стал бичевать подвешенного Николая – по спине, по груди, по ногам… Скоро кровь закапала на землю. Феодор, бледный, молча смотрел, как мучают его ученика.
– Смотри, смотри, пес поганый! – стратиот, державший за конец шнура, которым были скручены руки Студита, злобно рассмеялся. – Сейчас и тебе достанется, еретик проклятый!
Феодор и бровью не повел: игумен настолько ушел в себя, что даже не услышал сказанных ему слов – он молился.
Наконец, комит, по-видимому, устал махать кнутом и, прекратив истязание, приказал спустить Николая вниз. Когда стратиоты отвязали конец веревки, окровавленный монах упал на землю и остался лежать неподвижно – он был без сознания. Комит откинул в сторону кнут, взял другой и, помахивая им, подошел к Феодору.
– Ну, ты даешь подписку о повиновении благочестивому императору? Или кнута хочешь?
– Если ты думаешь, господин, – тихо ответил игумен, – что меня страшит здешнее временное мучение, то знай, что гораздо больше меня страшит мучение вечное, ожидающее тех, кто обесчестил святую Христову икону. Поэтому ты поступил бы разумнее, не докучая мне понапрасну вопросами и угрозами.
– Сумасшедший старик! – прошипел комит. – Что ж, пеняй на себя! Раздевайте его!
Сорвав с игумена одежду, два стратиота привязали его за руки и ноги к стволу дерева.
Комит подошел, примерился и нанес первый удар.
– А ну, как старик-то помрет? – шепнул самый молодой стратиот, державший факел, своему соседу, стоявшему рядом с мотком веревки в руках.
– Туда ему и дорога! – злобно отозвался тот. – В прежние времена таким еретикам отрубили бы руки и сослали куда-нибудь в Херсон! Наш государь еще милостиво с ними обходится, вон, как долго терпел этих! А они только и знают, что свои нечестивые бредни распространять!
После ста ударов комит приказал отвязать Феодора. Когда приказание было исполнено, иссеченное тело сползло на землю и осталось лежать недвижно – игумен лишился чувств. Зато Николай как раз пришел в себя и застонал. По знаку комита, два стратиота грубо подняли его и поставили на ноги.
– Ну, дружок, – сказал Василий, подходя, – ты еще не передумал? Советую тебе подписаться под обещанием не учить об иконах и не сообщаться с еретиками, и тогда тебя тут же освободят, вымоют, вылечат, накормят и отошлют в столицу, в ваш родной Студий, где уже подвизаются ваши более благоразумные братья. Ну же, не глупи, соглашайся, ты еще молод, у тебя вся жизнь впереди!
Николай поднял голову и осмотрелся вокруг в поисках игумена. «Где же отец? Что они сделали с ним?!» – подумал он с ужасом и тут увидел почти рядом под деревом окровавленного Феодора. На миг глаза у монаха застлала пелена, а потом он, взглянув на комита, проговорил:
– Анафема предателям и всем вашим единомышленникам! Я никогда не присоединюсь к вам и готов умереть за икону Христову!
Комит размахнулся и ударил Николая по лицу с такой силой, что если бы не державшие монаха стратиоты, он бы отлетел назад; изо рта у него потекла струйка крови.
– Отойдите! – скомандовал комит стратиотам и снова ударил Николая.
Монах упал, и комит, взяв свежий бич, долго избивал узника, а затем, не удовлетворившись этим, приказал связать ему руки веревкой и волочить по двору. Николай сначала стонал, а потом замолк, и когда, наконец, его перестали таскать, то увидели, что он опять потерял сознание и еле дышит. Тогда комит приказал запереть узников в то же помещение, где они и были, забить дверь и впредь охранять их строжайшим образом. Было уже за полночь, и все разошлись по домам, а утром Василий вместе с половиной стратиотов уехал, оставив прочих для усиленной охраны заключенных.
– Смотреть за ними в оба! – приказал он. – Чтоб никаких писем! И разговоров чтоб никаких, даже шепотом! Не уследите – сами бичей отведаете вместе с ними! Монахи, дьявол бы их взял! Если они монахи, пусть сидят в одиночестве и помалкивают! – и прибавил насмешливо. – С единым Богом пусть беседуют, преподобнейшие отцы… отребье треклятое!
…Игумен Петр уже около двух лет жил в Лидийской области, в пещере на Прекрасной горе недалеко от крепости Плоская Скала. Ему шел пятый десяток, до возобновления иконоборчества он десять лет управлял Захариевой обителью в местечке Атроя, у подножия Вифинского Олимпа, и был известен своей подвижнической жизнью. Когда начались гонения, он благословил своих монахов по два-три человека скрыться в лесах, чтобы не попасться иконоборцам, а сам с братом Иоанном отправился в Ефес, где поклонился могиле апостола Иоанна Богослова, потом они побывали в Хонах, провели десять месяцев на Кипре, а затем вернулись в Вифинию и поселились в Среднеолимпской пустыньке, куда к ним постепенно стеклись рассеявшиеся братия. Пустынь стояла в густом лесу, но вскоре люди прознали о том, что Петр поселился там, и начали приходить к нему за благословением, а после того, как по его молитве исцелился глухонемой мальчик, страждущие пошли к нему потоком. Петр не отказывался принимать посетителей, но их обилие тяготило его, и вскоре в миле от пустыньки он поставил себе небольшую деревянную келью, куда уходил предаваться созерцанию. Ближе к осени он решил, вновь захватив с собой Иоанна, посетить свою родную деревню Элея, где не был уже двадцать четыре года. До восемнадцати лет он прислуживал чтецом в местном храме, но потом, смущаясь тем, что приходившие в церковь девушки стали заглядываться на него, и ощущая стремление к более высокой жизни, однажды вместе с проезжим иноком, ничего не сказав родителям и кому бы то ни было еще, ушел в Вифинию, где постригся в монахи. В тридцать лет, по настоянию своего духовного отца, он принял священный сан, а в тридцать два года против своего желания был поставлен игуменом в Свято-Захариевом монастыре.
За два с лишним десятка лет местность в Элее мало изменилась, хотя прибавилось много новых домов. Увидев недалеко от дороги в поле земледельца, Петр окликнул его. Тот подошел, кланяясь и прося благословения. Игумен спросил его, живут ли еще в деревне Косьма и Анна, у которых некогда были сыновья Феофилакт и Христофор и дочь Елена. Земледелец ответил, что Косьма уже несколько лет как умер, Елена вышла замуж и родила четверых детей, всё семейство живет тут же в деревне, Анна живет вместе с младшим сыном Христофором, а куда делся ее старший сын, пропавший много лет назад, никто до сих пор не знает.
– Не мог бы ты, почтенный, позвать сюда господина Христофора? – спросил Петр. – Скажи ему, что его хочет видеть один монах.
Селянин исполнил просьбу игумена, и вскоре на дороге показался невысокий человек лет тридцати пяти, крепко сложенный, с открытым жизнерадостным лицом. Он подошел к Петру и Иоанну и поклонился.
– Приветствую вас, отцы! Чем я, смиренный, могу услужить вам?
– Мир тебе, господин Христофор! – ответил Петр. – Мы, как видишь, странствуем… Я немного слышал о тебе. Скажи, почтенный, есть ли у тебя мать и брат?
– Да, мать моя жива и здравствует, слава Богу! Хотя она уже стара… А брат… – лицо Христофора омрачилось. – Брат у меня был, но тайно сбежал от нас больше двадцати лет назад, и с тех пор мы ничего не знаем о нем! Не знаем даже, жив ли он или, может, давно умер… Если б он был жив! Я так хотел бы увидеть и обнять его!
Иоанн искоса наблюдал за Петром и про себя изумлялся, насколько игумен владеет собой, что ничем не выдал до сих пор своего волнения, а ведь перед ним был родной брат, которого он не видел столько лет!.. «Это неестественно! – мелькнуло у диакона в голове. – Нет, это… это сверхъестественно!..» Петр между тем спросил:
– Что же ты сделаешь, если я покажу тебе твоего брата?
– О, я отблагодарю тебя, как благодетеля! – воскликнул Христофор. – А с ним не разлучусь больше во всю мою жизнь!
Петр шагнул вперед и сказал:
– Я твой брат. Итак, если хочешь, следуй за мной.
Пораженный Христофор несколько мгновений всматривался в игумена, стиснув руки на груди. Петр стоял, опираясь обеими руками на посох, бледный и как будто спокойный, но вдруг губы его чуть дрогнули, и он отбросил посох. И тогда Христофор со слезами бросился к нему в объятия. Братья сели тут же на траву у обочины дороги и принялись рассказывать друг другу о своей жизни. Христофор, как оказалось, в шестнадцать лет женился, но его супруга умерла на другой год после свадьбы, детей у них не было, молодой вдовец вернулся обратно к матери и с тех пор жил при ней, решив больше не обзаводиться семьей, поскольку счел, что Бог не благоволит ему пребывать в браке, раз так быстро забрал от него супругу. Теперь Христофор видел во всем этом Господень промысел.
– Я готов идти с тобой, брат! – сказал он, вставая.
Действительно, Христофор тут же ушел вместе с Петром, даже не зайдя домой и ничего не сказав матери. Оба брата вместе с Иоанном ушли за Пергам, на Иппскую гору, где поселились в одной пещере. Вскоре Петр постриг Христофора, назвав его Павлом. Никто не знал об их убежище, а вниз они не спускались. Недалеко протекал источник с очень вкусной водой, а питались они орехами, ягодами и плодами. Но в середине ноября к ним неожиданно пришел юный сын Елены, сестры Петра и Павла, и вручил письмо от Анны.
Лишившись второго сына так же странно и внезапно, как первого, мать оплакала их обоих, как мертвых, облачилась в темные одежды, почти ничего не вкушала, а вскоре и вовсе заболела от скорби и слегла в постель. «За что?!» – шептала она, глядя на темную икону Христа, висевшую на стене над кроватью. Сны Анны были беспокойны и беспорядочны, но однажды под воскресный день ей ясно привиделась пещера на лесистом склоне горы, а у входа в нее два монаха, один из них был Христофором, а в другом она узнала пропавшего Феофилакта. «Где вы? Где?!» – вскричала она во сне, протягивая руки к сыновьям, и услышала голос, будто очень издалека: «Иппская пещера у источника!» Проснувшись, она позвала внука, который с начала ее болезни находился при ней, велела отправляться на Иппскую гору и во что бы то ни стало найти обоих братьев. Она продиктовала мальчику письмо, где умоляла сыновей придти, чтобы она смогла хотя бы перед смертью увидеть их. Братья немедленно отправились в путь, захватив и Иоанна.
Когда два монаха, войдя в маленький беленький домик и пройдя в комнату, опустились на колени перед кроватью, где лежала старица, а она протянула к ним руки, Иоанн, вошедший следом и стоявший в дверях, повернулся и вышел обратно в прихожую. Внук Анны глянул на него вопросительно.
– Есть вещи, которые не только невозможно описать, мой друг, – тихо сказал диакон, в чьих глазах блестели слезы, – но даже и смотреть на них невозможно.
На другой день Анна попросила старшего сына постричь ее в монашество и к вечеру умерла, держа за руки обоих сыновей. Братья похоронили ее и вместе с Иоанном возвратились в Иппскую пещеру, где подвизались до весны, а после Пасхи отправились на родной Олимп. Но Петр пробыл там недолго: как только стало слышно о его возвращении, начали стекаться монахи, приходить страждущие разными болезнями, местные жители приводили одержимых бесами, приносили недужных детей, приводили даже больной скот. Наконец, игумен не вынес наплыва приходящих и вместе с братом Павлом, диаконом Иоанном и еще одним монахом ушел на Прекрасную гору: там посетители хоть и докучали, но всё же не так сильно.
Петр принимал всех, но исцелял только тогда, когда больные исповедовали православную веру и проклинали иконоборческую ересь. Однажды жители близлежащей деревни принесли к нему одного расслабленного, который не шевелил ни руками, ни ногами, и едва мог говорить; никто не мог взглянуть на него без жалости.
– Поклоняешься ли ты иконе Христовой? – спросил у него Петр. – Ведь я могу умолить Господа о тебе, только если ты веруешь православно.
– Всё, что ты повелишь мне, отче, – отвечал больной, с трудом ворочая языком, – я исполню беспрекословно. Но поклонения иконам я принять не могу, это нечестиво!
– Несчастный! – сказал ему игумен. – Зачем же ты тогда просил нести тебя сюда? Я не маг и не волшебник, я исцеляю только благодатью Христа. Но как я могу исцелить тебя силой Того, чьему образу ты поругался? – Петр взглянул на принесших больного. – Я весьма сожалею, но вам придется унести его отсюда.
Обескураженные знакомые расслабленного подняли носилки и пошли прочь от пещеры. Но, пройдя около ста шагов, передний вдруг остановился и опустил носилки на землю.
– Слушай, – сказал он сердито, – чего ради мы и впрямь тащили тебя сюда? Как смел ты возражать отцу Петру? Он Божий человек, чудотворец! Скольких он уже исцелил! А ты что сделал? Ведь ты всё равно что еретиком его назвал!
– И правда! – воскликнул второй носильщик. – Он, видно, возомнил, что больше знает о догматах веры, чем избранники Божии! Ну, так мы сейчас, дружище, тебя бросим, и лежи тут! Если ты такой православный, православнее святых чудотворцев, так уж, верно, сам себя и исцелишь!
С этими словами оба оставили носилки с больным и ушли.
– Стойте, стойте! – расслабленный в ужасе вращал глазами туда и сюда, но напрасно: его действительно покинули.
Тогда больной в отчаянии закричал:
– Помилуй меня, отче, несчастного, столько лет жившего в нечестии! Прости меня, неразумного! Я поклоняюсь иконам и чту их!
Точнее, ему казалось, что он кричал. На самом деле язык едва слушался его, и голос его могла слышать разве что птичка, сидевшая на ветке над его головой и любопытно на него косившаяся. Однако в этот самый миг Петр сказал Павлу:
– Брат, пойдите-ка с Иоанном и принесите сюда этого несчастного, его бросили на дороге недалеко отсюда. Он кается в ереси и зовет на помощь.
– Зовет на помощь? – удивился Павел, прислушиваясь. – Я что-то ничего не слышу…
– Я тоже не слышу, – улыбнулся игумен, – но знаю.
Когда монахи принесли расслабленного, Петр вынес из пещеры небольшую икону Богоматери с Младенцем Христом и поднес к лицу больного.
– Поклоняешься и почитаешь образ воплощенного Бога-Слова?
– Почитаю и поклоняюсь! – со слезами прошептал больной. – А иконоборческую ересь проклинаю! – и он облобызал икону.
Тогда игумен встал лицом к востоку, воздел руки и помолился про себя, а потом подошел к носилкам и сказал:
– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, ради милосердия Твоего и молитв ради Пречистой Твоей Матери и святых Твоих, помилуй создание Твое, приими покаяние его, воздвигни с одра болезни и даруй ему здравие телесное, наипаче же душевное! Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Он перекрестил расслабленного, и тот вдруг широко раскрыл глаза, вздохнул, пошевелил руками, ногами, медленно сел на носилках, потом встал, ошалело осмотрелся вокруг, и тут слезы брызнули у него из глаз и он упал Петру в ноги.
– Прости меня, отче, что я по неразумию гневил Бога, который действует в тебе!
20. «Свет Византии»
Вы говорите: «Тщетен труд ради Бога, и что пользы, что соблюдали мы постановления Его?… А ныне мы ублажаем чужих, и возвышаются все творящие беззакония…» И будет, говорит Господь… воссияет вам, боящимся имени Моего, солнце правды, и исцеление на крыльях его… и будете попирать беззаконных.
(Книга пророка Малахии)
Только в конце апреля, уже после Пасхи, студиты получили весточку от своего игумена – новое окружное послание рассеянным братиям. «Радуйтесь, желанные мои братия и отцы, – говорилось в нем, – ибо сообщаю вам радостные вести. Мы, недостойные, опять удостоились отстаивать благое исповедание, опять мы оба подверглись бичеванию за имя Господне». Феодор вкратце рассказывал, за что их бичевали, и, упомянув, что Николай поправился после истязания довольно быстро, писал: «А я, смиренный и слабый, подвергшись сильной горячке и невыносимым страданиям, едва не лишился и жизни. Впрочем, благой Бог вскоре, милуя, помиловал меня, даруя содействие брата во всем, в чем было нужно. Раны еще и сейчас остаются, не получив совершенного исцеления». Но эти немногие слова были далеки от того, чтобы выразить то, что претерпели вонитские узники. Николай действительно, благодаря молодости и природной крепости, поправлялся быстро, но игумен страдал так, как еще никогда в жизни: раны воспалились, его лихорадило, он не мог принимать почти никакой пищи. В первый день после истязания оба узника не могли ни встать, ни даже сдвинуться с места, а стражи словно позабыли про них – не приносили ни еды, ни воды. Когда Николай, наконец, с трудом смог подняться на ноги, он удивился, что они вообще еще живы. Узникам по-прежнему выдавали только хлеб, воду и немного дров. Николай размачивал хлеб в теплой воде и давал Феодору, игумен с трудом мог глотать. Еле выпросив у стражников свиного сала, узники промывали и смазывали друг другу раны. Руки у Николая после выкручивания болели невыносимо, но он старался не подавать вида. Постепенно он стал чувствовать себя лучше, раны на спине и груди затянулись. Но состояние игумена почти не улучшалось: он был слишком ослаблен предыдущими лишениями, и спина его не заживала – напротив, стала воспаляться, раны загнивали, кожа не прирастала, висела клочьями и мертвела или гнила. У Феодора начался сильный жар, временами он даже бредил, и, в довершение бедствий, возобновилась желудочная болезнь. Терзаемый болью и горячкой, игумен почти не мог спать, а вскоре стал неспособен проглотить даже кусочек размоченного хлеба. Наконец, однажды утром он прошептал склонившемуся над ним Николаю:
– Прости меня, чадо… Видно… пришло время… тебя покинуть…
– Нет! – воскликнул Николай. – Нет, отче, ты не умрешь! Ты не должен, не можешь умереть сейчас!
Сам не понимая, откуда взялись у него силы, он принялся барабанить в заложенную дверь так, что она задрожала и заскрипела. Появившийся в окошке стражник – молодой вихрастый стратиот – удивленно воззрился на узника.
– Господин, – сказал ему Николай, – ответь мне: если б ты где-нибудь на дороге наткнулся на истерзанного человека, помог бы ты ему?
– Да, – удивленно ответил страж. – Но что это за вопросы? Ты для этого, что ли, стучал?!
Он хотел было захлопнуть окошко, но Николай решительно просунул туда руку и остановил его.
– Нет, я сейчас объясню… Выслушай меня, молю! Скажи еще: если бы ты, ухаживая за ним, вдруг узнал бы, что этот человек – преступник, что бы ты сделал? Бросил бы его умирать?
Стратиот помолчал, опустил глаза и тихо сказал:
– Нет… Я бы вылечил его всё равно… А если он действительно преступник, то потом сдал бы его властям, чтоб они с ним разбирались.
– У тебя милостивое сердце! Тогда… заклинаю тебя: ради Христа, смилуйся над нами, достань где-нибудь ячменного отвара, и принеси еще побольше воды, прошу тебя! Очень нужно! Иначе отец умрет!..
– Ох! – стратиот покачал головой. – Хорошо, я попробую.
– Благодарю! Господь да наградит тебя за милосердие! А, еще чуть не забыл: нужен небольшой ножик, поострее!
– Это еще зачем? – подозрительно спросил страж.
– Сгнившую кожу со спины срезать, – усмехнулся Николай.
Когда окошко в двери закрылось, монах опустился на колени и принялся горячо молиться. Еще никогда в жизни он не молился так, никогда ничего так не просил для себя, как теперь просил помощи своему игумену…
Стражи сжалились над узниками и сообщили об их нуждах начальнику крепости, и тот сказал, что хотел бы, насколько возможно, облегчить страдания заключенных; его жена собственноручно взялась изготовлять ячменный отвар и посылала исповедникам. Отваром Николай поил игумена; правда, тот поначалу мог пить не более одной чаши в день. Николаю пришлось стать кем-то вроде лекаря: он промыл раны Феодора теплой водой, согретой тут же в маленьком котелке на жаровне, а затем принялся срезать омертвелые и сгнившие куски кожи и плоти со спины игумена. Феодор терпел молча, стиснув зубы, но несколько раз терял сознание, поэтому вся операция заняла несколько дней. После этого игумену стало легче, но выздоравливал он очень медленно и только к концу Великого поста нашел в себе силы продиктовать ученику письмо для братий. Как ни страдало тело Феодора, дух его ничто не могло поколебать.
«Итак, убоимся ли мы и будем ли молчать, из страха повинуясь людям, а не Богу? – говорил он в окружном послании. – Конечно, нет». Он ничего не боялся, и мысль, что послание может опять попасть в руки властей и навлечь на него новые мучения, не устрашала игумена: он всё готов был претерпеть ради Христа. «Вслушаемся в слова Его, последуем за Ним, – писал Феодор. – “Кто Мне служит, – говорит Он, – тот слуга Мой будет”. А где Он? На Кресте. И мы, смиренные, как ученики Его, там же».
Пятидесятница уже близилась к концу, наступило жара, а игумен всё еще не вполне оправился после бичевания. Но тут узников опять постигли испытания: в конце мая из столицы прибыл спафарий в сопровождении воинского отряда, с приказом от императора перевести Феодора и Николая на новое место ссылки – в Смирну. Монахов вывели на улицу и потребовали «сдать все деньги». Игумен ответил, что никаких денег у них нет. Спафарий выругался и велел обыскать темницу, осмотреть все стены и щели. Приказ был исполнен, но денег действительно не нашли, равно как чего бы то ни было еще заслуживающего внимания: все приходившие письма – а их в последнее время удалось получить очень мало, вследствие строгого надзора, – заключенные предусмотрительно сжигали. Разгневанный чиновник немедленно велел связать узникам руки и под конвоем вести в Смирну. Несмотря на то, что Феодор был совершенно изнурен и походил на мертвеца, его с Николаем повели пешком по жаре, причем с большой поспешностью, а протоспафарий ехал сзади верхом на лошади и время от времени изрыгал в адрес исповедников хулы и насмешки. Переход длился несколько дней, по ночам останавливались на постоялых дворах в расположенных вдоль дороги селениях, причем узникам каждый раз забивали ноги в колодки, «чтобы не сбежали», в результате чего наутро игумен едва мог идти от боли. На второй вечер пути Николай попросил не надевать на них колодки на ночь, поскольку Феодор так слаб, что всё равно не может никуда бежать, если б и захотел, да и сам он бежать не собирается. Ответом ему стал удар по лицу.
Путь их проходил через Хоны, где узников отвели к местному епископу, и там они неожиданно увиделись с игуменом Афанасием, которого епископ тоже вывел из заключения и пригласил на эту встречу. Епископ просил всех трех монахов вкусить вместе с ним пищи, но они решительно отказались; тогда он позволил им трапезовать втроем и побеседовать, – правда, в его присутствии. В целом епископ обращался с ними мягко и, видя, что они даже вкусить пищи с ним не хотят, усмехнулся и сказал, что в таком случае они, вероятно, вести с ним беседы об иконопочитании тем более не расположены. Феодор улыбнулся и ответил, что весьма расположены, но только ради того, чтобы убедить противную сторону в истинной вере, «но с этим господин, вероятно, заранее не согласен». Епископ развел руками, и монахи простились с ним, а на другой день были отправлены в дальнейший путь.
В Смирне исповедников передали в распоряжение архиерея, убежденного иконоборца, и он велел заключить их в мрачном подвале на митрополичьем дворе, давать им в пищу только хлеб и воду и запретить всякое сообщение с внешним миром. Посмотреть на приведенных «еретиков» сбежались клирики и прислужники митрополита, и многих разжалобил вид узников, особенно Феодора. Нашлись такие, кто стал тайно передавать заключенным еду, а потом и писчие принадлежности: несмотря на запрет митрополита, Феодор продолжал писать и получать письма, хотя и не часто.
Вскоре по переезде в Смирну пришло письмо от Навкратия. Эконом, в конце Великого поста переправленный из столицы в Дорилей и заключенный там в одиночной темнице, сообщал новости, которые смог узнать. Главной из них было известие, что в мае в Константинополь прибыло ответное посольство из Рима. Апокрисиарии привезли письмо от папы Пасхалия императору Льву. В этом послании Римский епископ защищал иконопочитание, и апокрисиарии делом подтвердили его слова: они не захотели вступать ни в какое общение, ни сослужить, ни даже вкушать пищу вместе с иконоборческим духовенством. Это, впрочем, никак не повлияло на позицию императора и патриарха, но радость православных была беспредельна.
«Я, смиренный, – писал Феодор в ответ Навкратию, – воспел благодарственную песнь, ибо не оставил Господь до конца Церковь Свою, но показал, что она имеет в себе силу, подвигнув братий наших с запада на обличение безумия здешних и на просвещение сражающихся во мраке ереси».
Другая весть, сообщенная Навкратием, порадовала игумена не меньше: Леонтий, которого студиты уже сочли окончательно отпавшим и погибшим в своей злобе против иконопочитания и собственных братий, неожиданно вернулся к православию. Случилось это так. Поскольку Леонтий не смог сломить сопротивления трех студитов, заключенных в обители, как ни притеснял их, то он не только не получил епископства, первоначально посуленного Феодотом, но вызвал в конце концов недовольство и патриарха, и императора. Неприятный разговор произошел после Преполовения Пятидесятницы, когда Леонтий в очередной раз явился во дворец засвидетельствовать почтение василевсу и доложить патриарху о том, как идут дела в Студии. По-видимому, до его прихода разговор у Льва с Мелиссином шел нерадостный, потому что, когда о Леонтии доложили и он вошел, поклонился и произнес обычное приветствие, устремившиеся на него взгляды императора и патриарха выражали почти одинаковое раздражение.
– А, отец игумен, – сказал Лев чуть насмешливо, – что скажешь, почтенный? Неужели тебе до сих пор не удалось убедить отступников покаяться?
– Увы, августейший государь! – воскликнул монах, склонив голову. – Они упрямы, как некогда иудеи!
– Ну, иудеев, по крайней мере, устрашали казни, – усмехнулся патриарх. – Этих же, как ты докладываешь, и смерть не пугает, не так ли?
– Что делать, святейший! – ответил Леонтий еще более сокрушенно. – Они, по своему великому безумию, готовы умереть, но не хотят отступить от богохульного заблуждения.
– Вот как? – спросил император.
Он задумчиво поглядел на Леонтия, поднялся из-за стола, прошелся по зале, остановился перед монахом и сказал довольно сурово:
– А я думаю, отче, что дело тут не столько в их безумии, сколько в твоем нерадении. Достопочтенный игумен Иоанн убеждал в правоте нашей веры и не таких упрямцев! Но ты, может быть, скажешь, что не так силен в риторике и не так образован? Но вот другой пример: отец эконом успел переубедить весьма и весьма много еретиков и обратить их на истинный путь. Что же мешает твоему почтенству подражать ему? Думаю, ничего, кроме душевной лени. Как ты полагаешь, святейший, прав ли я? – повернулся он к Феодоту.
– Полагаю, что совершенно прав, трижды августейший, – ответил тот.
– Вот видишь, – опять обратился император к Леонтию, – а в божественном Писании, как мы знаем, сказано, что «двух человек свидетельство истинно». Я же думаю еще и вот что. Ты, отче, видно, стремился не столько к торжеству веры, сколько к епископскому омофору. Ведь святейший, я знаю, сулил тебе кафедру в случае, если ты обратишь этих еретиков, вот ты и надавал нам обещаний, что сделаешь для торжества православия всё возможное и невозможное… А на деле – что ты совершил? Ты не смог обратить даже каких-то трех жалких монахов! И вот что я тебе скажу: никакого епископства ты не получишь, даже если обратишь этих еретиков, а тем более, если не обратишь. Полагаю, святейший того же мнения? – Феодот с готовностью кивнул. – Вот и прекрасно! Значит, таково наше последнее слово.
Леонтий возвратился в Студийскую обитель, чувствуя себя оплеванным. «Что же? – думал он. – Правда ли я так нерадив, как они считают?» Он вспоминал все мучения, употребленные против заключенных братий, и беседы, которые он пытался с ними вести, и думал, что если б император с патриархом посмотрели на дело по справедливости, они бы никогда не сказали того, что ему сегодня привелось услышать… Пройдя в игуменские кельи, Леонтий сел на лавку прямо у двери и пригорюнился. Как ни странно, он не жалел, что ему отказали в епископстве: откровенно говоря, не очень-то и хотелось! Точнее, в первое время после того, как его сделали игуменом в Студии, мысль о епископском омофоре и вправду действовала на него воодушевляюще, но потом это желание притупилось, особенно когда он поразмыслил о том, что вряд ли ему дадут какую-нибудь знаменитую кафедру в большом городе, а стать епископом в каком-нибудь захолустье… Нет, такая возможность не прельщала Леонтия: его вполне устраивало и место игумена – зато в столице. Но и это игуменство – принесло ли ему сколько-нибудь счастья или хотя бы покоя, ради которых он отказался страдать за иконы?.. Телесно – да: он ни в чем не нуждался, жил в хороших условиях, питался «пространно», как сказал бы, возможно, Феодор… Феодор! До Леонтия доходили вести о том, что его бывшего игумена переводили с одного места ссылки на другое, бичевали… Монах, правда, старался не думать об этом – воспоминания о прежней жизни, о том, как он некогда пребывал в послушании и подвизался вместе с братиями за иконопочитание, были ему неприятны. Но как бы он ни старался уверить себя, что эти мысли неприятны для него потому, что то была жизнь «в заблуждении», сейчас в нем сверкнуло ясное сознание того, что дело было не в этом: воспоминания о прошлом были мучительны потому, что совесть осуждала его за отступничество… Леонтий встал, открыл книжный шкаф, вынул оттуда деревянную шкатулку, порылся в ней и извлек свернутый в трубочку лист папируса. Это было письмо игумена Феодора трем заключенным в Студии братиям, ими так и не полученное: Леонтий перехватил послание, прочел и хотел тут же сжечь, но передумал и просто спрятал. И вот, теперь он развернул лист и стал читать.
«Радуйся, троица братская, богатая благодатью Святой Троицы! – писал Феодор. – Вы поистине достойны таких приветствий, потому что ради Христа мужественно переносите тягчайшее заключение под стражей, мучимые злодеем Леонтием». Игумен ободрял братий словами апостола Павла: «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».
– И они перенесли, переносят до сих пор! – прошептал Леонтий.
«Мрак темницы, – читал он чуть ниже, – доставит вам вечный и неприступный свет, голод – райское наслаждение, нагота – одежду бессмертия, одиночество – жизнь с Богом, нестрижение волос – боговидное благообразие, так что вы с открытым лицом будет созерцать славу Господню. Не радость ли это? Не веселье ли, высшее всякого веселья?»
Леонтий положил письмо на стол, снял с крючка на стене связку ключей и вышел из кельи. Пройдя по длинному коридору, с рядом дверей по обе стороны – каждая дверь вела в келью, но почти все они теперь были пусты, – он свернул в узкий переход и через несколько шагов оказался в другом коридоре в конце которого взял на столике светильник, зажег его, открыл последнюю боковую дверь и по узкой лестнице спустился в полуподвал. Здесь было темно и сыро, свет проникал только через небольшое окно под потолком в конце прохода. Леонтий поставил светильник в стенную нишу и, поднеся связку ключей к огню, нашел нужный ключ, вставил в скважину первой справа двери, дважды повернул и потянул за ручку. Дверь со скрежетом открылась. Леонтий взял светильник, вошел и остановился у порога. Монах, сидевший, скрючившись, в углу на каменном полу, вопросительно посмотрел на него.
– Выходи, брат, – сказал Леонтий.
Спустя немного времени трое монахов стояли в коридоре, недоуменно переглядываясь. Леонтий вновь запер все три кельи, где содержались узники, и сделал студитам знак следовать за собой, приложив палец к губам. Когда, наконец, все четверо оказались в игуменских покоях, Леонтий запер входную дверь и, повернувшись, оглядел братий. Они были бледны, страшно истощены и грязны, одежда их превратилась почти в лохмотья, но на лицах по-прежнему читалась непреклонность, которую за столько времени Леонтий так и не смог преодолеть.
– Простите меня, братия! – сказал он тихо и поклонился им в землю.
Пораженные студиты в первый момент словно застыли. И вдруг услышали, что Леонтий, всё так же склоненный перед ними на полу, глухо всхлипывает.
– О, Господи! – вскрикнул Агапий и бросился к нему. – Брат? Брат, встань! Господь да простит тебя!
Леонтий поднял голову, и когда студиты взглянули в его залитое слезами лицо, никаких сомнений больше не осталось, и остальные два брата протянули к нему руки. Он хотел подняться, но силы внезапно оставили его, и Агапий помог ему встать. В следующий миг Леонтий бросился в объятия Аффония и Картерия, а Агапий, глядя на них, сел на лавку и тихо заплакал от радости. Через полтора часа трое освобожденных узников, наскоро вымывшись и надев новые хитоны и мантии, вместе с их бывшим тюремщиком захватили еды из монастырской кладовой, перелезли через стену в известном Леонтию месте, и покинули Студий – до тех пор, пока Бог не благоволит восставить православие в Империи.
Обращение Леонтия поразило всех студитов, особенно же Навкратия, который, будучи лучше других осведомлен о том, как шли дела в покинутой ими обители, не находил достаточно сильных слов, чтобы рассказать в письмах к Феодору о всех издевательствах, каким «самозванный игумен» подвергал заключенных братий. Феодор, узнав от эконома о случившемся, назвал это «величайшим чудом Божиим». Трем освобожденным братиям Феодор написал послание, где выражал радость о происшедшем, призывая и дальше подвизаться за православие, не расслабляться, но бодрствовать, трудиться, не бросать молитвенного правила, подвизаться вместе с прочими гонимыми.
«К вам, – писал игумен, – обращена вера находящихся вне, мужей и жен, монахинь и монахов. И справедливо, ибо вы, по благодати Христовой, – свет Византии или, можно сказать, всего мира».
Между тем жизнь в Смирне самого Феодора была довольно суровой. Стражи боялись передавать ему письма; только одного из них время от времени удавалось уговорить, да и то с помощью денег, приносимых студитами, изредка пробиравшимися проведать игумена, что было теперь крайне затруднительно. В этих обстоятельствах Феодор поддерживал личную переписку почти только с одним Навкратием, а прочим братиям писал окружные послания, призывая не унывать от продолжающихся гонений и не спешить призывать кары небесные на головы еретиков. «Те, кому кажется, что Господь медлит посетить нас, пусть представляют, что гонителей “благость Божия ведет к покаянию”, а страждущих – на испытание. И пусть не падают духом и не исследуют судеб Божиих. Благоразумным рабам не свойственно говорить: “Доколе?”» – писал Феодор и напоминал, что «кто торопится видеть смерть грешника, тот не может иметь мира с Богом, а хуже этого нет ничего, ибо в душевном смятении постоянно находится ищущий того, от чего отвращается Бог, и желающий того, чего Он не хочет. Отсюда сетования, уныние, ропот и прочие плоды нечестия». Но Бог «не поспешит, хотя бы мы и молились об ускорении, и не замедлит, хотя бы мы умоляли о том, но посетит тогда, когда это полезно…»
– Чадо, – сказал игумен загрустившему в очередной раз Николаю, – Сам Христос, которого исповедуют, подвизается с каждым исповедником и радуется его подвигам. Не смей унывать! – и он улыбнулся такой светлой улыбкой, что у его ученика сразу стало радостно на душе.
– Отче, – дрогнувшим голосом сказал Николай, – я грешник и ропотник… Но если я за что всегда благодарю Бога и всегда буду благодарить, так это за то, что Он даровал мне подвизаться рядом с тобой!
…Хотя церковные дела и беспокоили императора, всё же со временем Лев несколько отошел от них в сторону, предоставив патриарху и Грамматику с Антонием Силейским самостоятельно заниматься утверждением соборных решений. У василевса хватало других забот: окончив строительство новой городской стены в районе Влахерн, он принялся объезжать границы Империи, отдавая приказы об укреплении городов и старых крепостей и возведении новых, прежде всего во Фракии и Македонии, постоянно упражнял войска и никому не позволял быть в праздности. Лев также повелел выдать из государственной казны суммы на вспоможение пострадавшим от болгарского нашествия гражданам. Кое-кого из фемных архонтов он снял с должностей за нерадение и корыстолюбие и предал суду. Новый болгарский хан попытался было продолжить военные действия по примеру своего предшественника, но после нескольких поражений понял, что с новым ромейским императором лучше не ссориться. В результате с болгарами был заключен тридцатилетний мир, и по этому случаю на ипподроме состоялись торжественные церемонии. Некоторые осуждали Льва за то, что он при заключении мирного соглашения дал клятву по языческому обычаю, а варварам позволил клясться по обычаю христианскому, но императора мало заботили подобные разговоры.
Сергие-Вакхов игумен тоже несколько отстранился от церковных дел: слабые падали, сильные противились, и их уже не выпускали из тюрем и ссылок, время от времени кого-то еще хватали и бичевали, но вести философские беседы было почти не с кем.
– Эконом превратил соленую воду в пресную, – сказал как-то Иоанн Антонию Силейскому.
– Что ж, – улыбнулся тот, – это неплохо: на озере не бывает таких бурь, как в море.
– Для государства это неплохо, конечно, – согласился игумен, – но для меня скучно.
Грамматик не пренебрегал обязанностями, которые налагало на него игуменство, но в целом на вопрос, чем занят Иоанн, можно было ответить кратко: зарылся в книги. Порой ему казалось, что вернулись времена его молодости, когда он был чтецом и вел жизнь ученого анахорета, – с той лишь разницей, что теперь к его услугам были не только императорское и патриаршее книжные собрания, но вообще все книги, какие можно было отыскать в столичных обителях: никто не посмел бы отказать ему в доступе ни в одну из монастырских библиотек.
В Фомаитском триклине он иногда сталкивался с матерью Феофила. Императрица продолжала дружить с Феклой и попросила мужа даровать ее подруге титул зосты. Узнав об этом, Фекла смутилась, не уверенная, понравится ли это мужу, ведь зоста имела право на торжественных обедах садиться за один стол с императором, что больше не было позволено никаким другим женщинам, кроме августы, а из мужчин даже не все высшие сановники имели такую привилегию, не имел ее и Михаил, бывший турмархом федератов. Но муж вполне одобрил такое чиноповышение супруги, сказав, что «должен же и от баб быть какой-то толк, а увеличить влияние при дворе не помешает». Впрочем, титул был пожалован Фекле, скорее, как знак дружбы: никаких обязанностей во время церемоний она не исполняла, зато получила свободный доступ во дворец и в покои императрицы. Ей также было разрешено пользоваться книгами из патриаршей библиотеки, и нередко Фекла брала там что-нибудь почитать. Однажды, когда она пришла, а библиотекаря не оказалось на месте, сидевший тут же за рукописями Иоанн сказал, что, если ей нужна какая-то книга, он может помочь. После этого случая она иной раз спрашивала у него советов относительно выбора чтения; Грамматик отвечал кратко, но вежливо и исчерпывающе, хотя Фекла видела, что он разговаривает с ней без особой охоты. Чтобы посмотреть, как и чему учат ее сына, она посетила несколько занятий Иоанна с императорскими детьми и Феофилом, и эти уроки прямо-таки восхитили Феклу: каких бы тем они ни касались, они захватывали ее не меньше, чем детей, которые слушали учителя, раскрыв рот. Когда дело касалось познаний в какой бы то ни было области, Иоанн становился вдохновенным, в его глазах появлялся особенный блеск, а голос звучал почти завораживающе… Фекла не отказалась бы и сама посещать уроки Грамматика вместе с детьми, но стеснялась – с одной стороны того, что могут по этому поводу болтать при дворе, а с другой – самого Иоанна, подозревая, что ему не понравится присутствие женщины на занятиях, и, кроме того, понимая, что будет смущать детей. В итоге она составила себе мнение, что игумен чрезвычайно умен, знает поразительно много в самых разных областях, очень сдержан, довольно горд, но в общении приятен. Как-то раз она заговорила о Грамматике с императрицей.
– Я так рада, – сказала Фекла, когда однажды летним вечером они вдвоем сидели на террасе, примыкавшей к покоям августы, – что Феофил учится у Иоанна! Я ведь посетила несколько его уроков, так, из любопытства. Они просто великолепны!
– Да, – улыбнулась Феодосия, – это правда. Я тоже бывала на его уроках, когда он только начал заниматься с нашими мальчиками. У него явный дар к учительству!
– А мне знакомые про него говорили всякое – что он гордый, холодный, чуть ли не жестокий… Но я ничего такого не замечаю. Гордость в нем есть, конечно, но в меру, по-моему… Было бы даже странно, если б в таком ученом человеке ее не было, – Фекла улыбнулась. – Он, конечно, очень сдержан… Но ему положено – монах!
– Иоанн – загадка, – ответила Феодосия. – Думаю, что сдержанность в нем – не следствие монашества. Он вообще никого к себе не подпускает.
– Но всё же если бы в нем были только холод и гордыня, то дети не любили бы его так. А Феофил почти каждый день рассказывает мне об Иоанне и его уроках, и с таким восторгом!..
– Тут некое взаимное притяжение… Дети любознательны, любят учиться, узнавать новое, а для учителя это приятно и вызывает ответную симпатию.
– В нем есть… какой-то магнетизм, – задумчиво сказала Фекла.
– Да, магнетизм – подходящее слово, пожалуй. Мои мальчики тоже в восторге от Иоанна… Но они сейчас в том возрасте, когда хочется познать все, а взрослые не так уж часто сохраняют детскую тягу к знаниям. Иоанн обычно холоден и надменен с недалекими и глупыми людьми… точнее, с теми, кого считает таковыми. Нельзя не заметить, правда, что к ним относится подавляющее большинство человеческого рода, – Феодосия чуть усмехнулась.
– Не знаю, я как-то не замечала в нем особенной холодности… Надменен, да, но в меру, – Фекла улыбнулась. – По-моему, он очень любезен.
– Любопытно… – императрица взглянула на Феклу. – Вообще-то не так уж много людей считают его любезным! А женщин, мне кажется, он вообще презирает, – августа помолчала и добавила с усмешкой: – Передо мной он, конечно, сдерживается, но… Я недавно обратилась к нему с вопросом по поводу одного места у святого Григория Богослова, и он всё разъяснил прекрасно, но при этом от него веяло таким холодом, что мне, если честно, не очень-то хочется обращаться к нему в другой раз… Он умеет быть очень вежливым, это правда, но любезным я бы его не назвала!
– Ну, вряд ли я могла его чем-то покорить, – рассмеялась Фекла. – Знаешь, быть может, тут дело в моей сестре.
– То есть?
– Иоанн однажды спросил у Феофила, нет ли у меня сестры, еще в самом начале их занятий. А нас было трое сестер – Мария, Агния и я. Мария была старшей и самой красивой. Отец говорил, что я, когда выросла, стала на нее похожа… Но судьба ее сложилась несчастливо и странно. Я до сих пор не могу понять, в чем тут было дело. В пятнадцать лет она переехала от нас к брату… Старший брат, он женился, но жена умерла молодой и оставила его с двумя маленькими детьми. И вот, Мария стала помогать ему воспитывать мальчиков, только иногда приезжала к нам погостить. Она прожила у брата два года и, кажется, была очень довольна…
Феодосия слушала, а сама, искоса поглядывая на подругу, думала, что Фекла очень даже могла бы «покорить»… но Грамматика? Это вряд ли! Кажется, он из тех людей, у которых большой ум, но, как говорится, нет сердца… Императрица побаивалась его, хотя признаваться в этом подруге не стала: ей иногда казалось, что он относится к людям, точно игрок к шашкам или костям…
– Потом брат снова женился, – продолжала Фекла, – а Марию отец выдал замуж за сына одного своего друга. Только этот брак не принес ей счастья. То есть… муж ее любил, можно даже сказать, всячески ублажал… Но она всё грустила и чахла, и на второй год после свадьбы умерла. Мы с сестрой к ней приезжали, гостили, и я видела, что она страдает отчего-то, но она ничего не рассказывала. В ней словно иссякла жизненная сила… или воля к жизни… Не знаю, как это назвать…
– Бедная!
– Но Феофил, конечно, этих подробностей не знает. Он знает только, что у меня была сестра, «тетя Мария», которая умерла десять лет назад. Так он и ответил Иоанну, а потом рассказал мне. Когда мы после этого встретились с Иоанном, он сказал, что, возможно, был знаком с моей сестрой. И представь, оказалось, так и есть! Как раз когда Мария жила у брата, он пригласил Иоанна учить детей – им в то время было по семь лет, близнецы. Там они с Марией и познакомились.
– Ах, вот что! Интересно… Но самому-то Иоанну сколько тогда было лет? Наверное, не больше двадцати?
– Да, вероятно… Он сказал, что в то время только начинал преподавать, и сыновья моего брата ему хорошо запомнились. Он был тронут судьбой Марии. Оказывается, он не знал, что с ней стало после замужества.
– А Мария не рассказывала вам про Иоанна, когда гостила?
– Нет, никогда. Мы знали от нее, что с детьми брата занимается молодой учитель, и только. Но мы и не расспрашивали… Правда, теперь я вспоминаю, как Агния один раз спросила: «Он, наверное, умный, этот учитель?» Мария ответила: «Да, очень». Тогда я спросила: «А он красивый?» Она улыбнулась и сказала: «Не особенно». Но, кажется, это был единственный раз, когда она говорила про него. Мария вообще была очень молчалива…
После этого разговора с императрицей Фекла целый день была задумчива, а ночью долго лежала рядом с храпевшим мужем, глядя на полоску лунного света на стене. Почему-то в эту ночь его ласки были ей особенно неприятны, и теперь, отодвинувшись от него как можно дальше к краю широкой кровати, она вспоминала свою беседу с Грамматиком о покойной сестре. Нет, Иоанн был не просто «тронут» ее судьбой – Фекла видела, что в первый момент он был сильно поражен и даже взволнован, хотя и не могла понять, какие именно чувства охватили его… Впрочем, он быстро справился с собой, очевидно, не желая как бы то ни было раскрываться перед посторонним человеком.
– Ведь вы с Марией общались тогда, – сказала ему под конец Фекла. – Может… ты что-нибудь знаешь, господин? Как можно объяснить, почему она так… зачахла, выйдя замуж?
– Нет, к сожалению, я не могу ничего сказать об этом, – ответил Иоанн.
«Правду ли он сказал?..»
21. Пафлагонянка
(А. С. Пушкин)
- Но царевна молодая,
- Тихомолком расцветая,
- Между тем росла, росла,
- Поднялась – и расцвела…
Стройная черноволосая девушка стояла у окна и смотрела в сад, барабаня пальцами правой руки по подоконнику, в левой она держала лист пергамента.
– Ну, и долго ты тут собралась торчать? – раздался в комнате насмешливый голос.
Только что вошедший юноша остановился у дверей.
– Что тебе, Варда? – спросила девушка, повернув голову.
– Что пишет этот маменькин сыночек? Руку и сердце предлагает? И поместья своего папаши в придачу?
– Какое твое дело? – большие темные глаза девушки сердито сверкнули.
– Да вот, я о счастье любимой сестры пекусь…
– Я что, просила тебя об этом печься? – девушка опять отвернулась к окну.
– Ну, Феодора, что ты так зла сегодня? Я тебе правду говорю: не ходи за него! Он даже на коня сесть боится… Будет за твоей спиной прятаться всю жизнь. К тому же туп и глуп… Нужно тебе такое добро?!
– Он красивый зато…
– Что ты называешь красотой? Эти его золотые кудри? «Дар Афродиты – пышные кудри и пре-э-элесть…» – пропел Варда. – По мне, так никакой он не красивый. И нос у него фигой! И глаза какие-то… рыбьи!
– Что б ты понимал в красоте! – нахмурилась Феодора, но тут же не выдержала и улыбнулась. – Но глаза у него точно рыбьи! Да ты не беспокойся, я за него не собираюсь. Я вот думаю, как бы ему ответ написать… вежливый…
– Давай я напишу! Многоуважаемый премногочтимый господин Феодул… Смею тебя уверить, что недостойна я, несчастная, стать усладой для твоих светлейших рыбьих очей…
Феодора прыснула со смеху.
– Да ну тебя, братец! Этак потом его отец на наши поля своих овец напустит… или собак натравит на кого из работников…
Она бросила письмо на подоконник и повернулась к брату.
– А ты, Варда, какого мужа мне прочишь?
– Красивого! Богатого! Но главное – чтоб настоящий был мужчина!
– Это как?
– Чтоб мужественный был, смелый! Чтоб верхом ездил с ветерком, воевать не боялся, сражался храбро! Ну, и чтобы ночью был на высоте любовной науки!
Феодора слегка покраснела.
– А как же насчет «туп и глуп»? Ума ему, значит, не надо?
– Ума? Надо, конечно, только не слишком много.
– Почему?
– Очень умному с тобой скучно будет.
– Что это так? – обиделась Феодора. – Ты что, считаешь меня тупицей?
– Нет, но начну считать, если ты утверждаешь, что не очень умный – уже значит тупица. Сама подумай: какие твои познания? Из книг ты одни только жития читаешь, да еще какие-нибудь беседы Златоуста… Ну, и что маменька читает по вечерам, слушаешь. А есть люди, знаешь, какие начитанные? Ты и Гомера наизусть рассказать мало что вспомнишь, а они могут целыми кусками философов всяких пересказывать… или, там, из Григория Богослова. Вот попадется тебе такой муж – о чем ты с ним будешь говорить? Он тебе процитирует что-нибудь из… например, из Аристотеля: «Высшие предметы желания и мысли тождественны друг другу, ибо предмет желания это то, что кажется прекрасным, а высший предмет воли – то, что на деле прекрасно»… А ты ему глазами хлоп-хлоп – как вот мне сейчас! И что из этого выйдет? Одно взаимное неудовольствие, скажу я тебе!
– Ну, Варда, – поморщилась девушка, – не все же обязаны Аристотеля читать… И не все могут быть богословами… Есть и другие темы для разговора! Гомера, я, может, и не знаю наизусть, но зато… А впрочем, откуда тебе знать, что я знаю, а чего не знаю? Но вообще, женское ли это дело – философствовать? Жена ведь прежде всего должна любить мужа, ухаживать за ним, детей воспитывать. При чем тут Аристотель? Язычник, к тому же…
– О, ты прям как маменька рассуждаешь! Ха, даже и тон похожий взяла!.. А я вот считаю, что… жена – помощница мужу, как в Писании сказано. И если человек умен, так ему и помощник нужен умный. Я так думаю.
– Вот ты, Варда, умен… Но мы еще посмотрим, на ком ты сам женишься! Да и вообще, всё, о чем ты тут говорил, – не главное. Главное – чтобы любовь была… А остальное приложится.
– А не наоборот?
– То есть?
– Чтобы была любовь, нужно «остальное».
– Так вроде бы любовь от рассудка не зависит. Если верить тому, что… ну, в общем… – Феодора запнулась, не понимая, почему Варда так лукаво улыбается, глядя на нее, и почти сердито продолжала: – Говорят, что любовь – это «увидел и погиб». Какой тут рассудок? А то самыми счастливыми были бы браки по расчету…
– Это страсть от рассудка не зависит. А любовь – это другое. Она может начаться со страсти, но если кроме страсти, ничего больше нет, то из одной страсти любви не получится… Любовь – это любовь ко благу. Страстно любить за телесную красоту – это похоть, а не любовь. А любовь, как говорил Платон, это «стремление родить и произвести на свет в прекрасном»…
– Ой, Варда, ты опять в философию пустился… Если бы все выходили замуж так, как ты тут расписал, люди давно бы вымерли. Мужчины и женщины редко бывают равны друг другу по уму… И разве это нужно? Да и как бы это могло быть? Тебе, например, учителей нанимали, а теперь ты вообще учишься в столице, а я и сестры что? Чему нас тут мама научила, то мы и будем знать – прясть, ткать, вышивать, читать псалмы… А браки часто заключаются по одной только воле родителей! Вон как нашу Софию сосватали… Твой Платон тут рядом не проходил! И таких браков – большинство!
– Эх, Феодора… Красива ты… И наверное, надеешься будущего мужа одной красотой взять… Ну, он и будет тебе угождать только в постели… А ты будешь «спасаться чадородием», ха-ха!
– Нет, ну это уж слишком! – вскричала Феодора.
– А чего? Неприлично, что ли? Ой-ой! А кто Ахилла Татия читает тайком? – и Варда, встав посреди комнаты и театрально воздев одну руку к потолку, а другую протянув к сестре, продекламировал: – «Неужели ты не знаешь, что значит смотреть на возлюбленную? Видеть ее – большее наслаждение, чем обладать ею…»
Феодора, закусив губу, смотрела на брата. А он продолжал:
– «Эрот и Дионис – жестокие божества, они приводят душу в состояние безумия и любовного исступления. Эрот жжет душу своим огнем, а Дионис подливает в этот огонь горючие вещества в виде вина, ведь вино – это пища любви». Сильно сказано! Не правда ли? – Варда рассмеялся, глядя на сестру. – Ты, если уж читаешь такие книги, так хоть бы прятала подальше, а то на скамейке оставила в саду! А если б матушка нашла? Да ты не бойся, я уже ее спрятал у себя, дочитаю и отдам тебе, о, неблагодарная!
Девушка всё больше краснела и молчала.
– Вот видишь, сестрица, до чего ты дошла! «Здравствуй, владычица! Кто-то из богов продал меня тебе, как Геракла Омфале»… Откуда же ты книгу взяла? Неужто Феодул прислал?
– Да, он… С письмом. Пишет, что книга лучше всего выражает чувства, которые он питает ко мне.
– А еще лучше она выражает чувства, которые его папашка питает к нашим угодьям! Мне тут наш эконом по секрету пошептал, что слышал от их слуг: хозяин с хозяйкой уже наши поля делят, а сыночку в уши поют, чтоб он тебя получше обхаживал… Мол, она девушка с изысканным вкусом, надо ей угодить! Вот он и угождает! Переплет-то у книги какой прекрасный! А содержание и того прекраснее…
– Варда, – сказала тихо Феодора, совсем разрумянившись, – ты только матери не говори про книгу…
– Будь спокойна, я не Иуда – родную сестру предавать! Да и матушку беспокоить лишний раз… Она ж в обморок упадет, если узнает, какие книги читает ее благочестивая дочь… вместо житий-то, а!
– Слушай, перестань… Кстати, ты мне подал мысль! Я так и напишу Феодулу: «Не могу я принять твоего предложения, ибо с детства приучена ко благочестию христианскому, а ты мне…»
– Прислал эллинские басни! Угу… Точно! Песни Эрота! Развратные сказания! Фу, как можно такое благочестивой девушке посылать! Напиши, напиши…
– Да, так и напишу.
– Замечательно! Начав лицемерить в столь юном возрасте, годам к двадцати пяти ты превзойдешь всех фарисеев…
– Опять ты!..
– А что, неправда, что ли? Скажешь, это будет не лицемерно? Скажешь, тебе повесть не понравилась? Неужто твоя благочестивая душа была возмущена?
– Дело не в том, понравилась она мне или нет… а в том, чтобы найти подходящий предлог для отказа.
– Вот ответ, достойный женщины! Ну, сестрица, теперь я от тебя, наконец, отстану!
– Вот и славно, братец, исчезни! Что-то ты меня утомил своей болтовней…
Варда церемонно раскланялся и пошел к выходу.
– Да не забудь мне книжку отдать! – сказала ему вдогонку Феодора.
– Всенепременно, о владычица Левкиппа!
«Вот язва!» – подумала девушка и снова повернулась к окну.
Феодоре пошел шестнадцатый год. Опасения Флорины не оправдались: младшая дочь не превратилась в «толстушку» – лет с одиннадцати она стала резко вытягиваться вверх и стройнеть, и через два года ее внешности могли позавидовать все сестры. Каломарии, всегда считавшейся первой красавицей в семье, пришлось уступить лавры младшей сестре: о красоте Феодоры ходили слухи уже за пределами Эвиссы, и претенденты на ее руку то и дело докучали Марину, но отец семейства не торопился. Он выжидал: хотелось и не прогадать, и найти для дочери такого мужа, который бы понравился не только родителям, но и самой девушке. Марин особенно любил Феодору и вполне понимал ее нежелание выходить за первого встречного, хотя бы красивого и богатого. «Я не София, – заявила она родителям, – и без меня прошу меня замуж не выдавать!»
В качестве жениха Феодоре мечтался какой-нибудь герой вроде Гектора… В то время как мать ставила в пример дочери житие преподобной Мелании Римляныни, девушка облюбовала в домашней библиотеке совсем не те полки, где лежали жития святых. Флорина, считавшая поэзию пустым и вредным чтением, и не подозревала, что Феодора уже давно открыла для себя не только Гесиода, но и Сапфо, эту «развратницу», чьи стихи были засунуты Марином на самую верхнюю полку – это была его крайняя уступка жене, требовавшей кинуть в печку «все эти эллинские басни». Марин не разделял благочестивого рвения своей не в меру ревностной, как он про себя считал, супруги и поэтому отказался сократить домашнюю библиотеку до одних книг христианского содержания, тем более что и библиотека была небольшой, и нехристианских книг в ней было всего несколько, к тому же за них были уплачены немалые деньги… Итак, почтенный друнгарий не послушался жены, и в один из долгих зимних вечеров тринадцатилетняя Феодора, открыв книжный шкаф и окинув любопытным взором верхнюю полку, придвинула стол, залезла на него и достала из первый попавшийся ей под руку пыльный кодекс, тонкий, переплетенный в потертую синюю кожу. Разлепив слежавшиеся страницы, она прочла:
Слова эти проникли в душу Феодоры, словно некая музыка, и в ней вдруг проснулось и задрожало что-то странное, волнующее, неясное… Она переворачивала страницы, читала дальше:
Становилось ясно, что есть иная жизнь, помимо той, которую мать пыталась представить в качестве образца… Жизнь во грехе?..
Это была жизнь неведомых пока Феодоре, но, очевидно, сильных и сладостных чувств и желаний, – и она вся исполнилась ожидания того, что это придет и к ней… Должно придти!.. В первое время после своего открытия она была так взбудоражена, что мать заметила беспокойное состояние дочери и заволновалась: уж не заболела ли она? Феодоре пришлось сделать над собой усилие, чтобы внешне вести себя по-прежнему, но внутренне она изменилась безвозвратно. Книга в обложке из синей кожи уже не вернулась на свое место на полке – Феодора прятала ее у себя в комнате под матрацем и довольно скоро заучила наизусть почти целиком… Она продолжала исследовать содержимое библиотеки и нашла там несколько трагедий Еврипида, добралась и до книги Аристотеля «О душе» – единственного из произведений древних философов, имевшегося в доме. Но высокая философия не увлекла девушку: она засыпала над книгой и, наконец, решила, что это не для ее ума. Сапфо и Еврипид нравились ей куда больше. О таком расширении круга ее чтения не знал никто, даже Варда, с которым Феодора иногда любила пооткровенничать. И вдруг она едва не выдала себя, оставив в саду даже не книгу со стихами «развратницы с Лесбоса», а…
Брр! Девушка передернула плечами. Если бы мать нашла «Повесть о Левкиппе», то в доме поднялся бы такой крик, что страшно и представить… А из-за чего, собственно? Из-за нескольких не очень скромных мест в этой книжке? Но зато там так тонко описаны разные чувства, столько наблюдений над характерами… Впрочем, Флорина весьма категорически утверждала, что «от чувств одни скорби и искушения», так что иногда Марин шутливо говорил ей, что она его, видимо, совсем не любит. Тогда Флорина осекалась и говорила, что, конечно, любит, но что она-то имела в виду «греховные страсти»… А Феодору мучил вопрос, который она не смела никому задать: чем же отличается греховная страсть от негреховной любви к мужу?.. Писания Златоуста, чтение которых Флорина устраивала в семейном кругу по вечерам, не давали на это ответа: святитель говорил, как хороши супружеская любовь и верность, и как плохи прелюбодеяние и разврат… Но здесь не было ответа на вопрос, занимавший Феодору. Девушка недоумевала. Один раз она решилась спросить об этом на исповеди. Священник, искоса взглянув на нее, погладил бороду и сказал, улыбаясь в усы:
– Вот когда на опыте испытаешь, тогда и узнаешь – и что она такое, и чем отличается. А так, чадо, сколько ни говори «мёд», во рту сладко не будет, и вкуса его не узнаешь, пока не попробуешь… равно как и вкуса полыни…
– А если… не испытаю?
– А если не испытаешь, так значит, оно тебе и не нужно. Уж это как Бог устроит, Ему оно виднее.
И вот теперь, стоя у окна и глядя в сад, она бормотала:
– «Яблоку дева подобна… Высоко под самой вершиной Ярко краснеет оно: забыли его садоводы! – Нет, не забыли, – они не могли до него дотянуться…»
Ага, тянутся, просят руки… Но что же ей… не падается с вершины? Где это самое… то самое, что заставит ее захотеть упасть в чьи-то руки?.. Где та «молния», которая «ослепит глаза», как говорится в этой повести о Левкиппе? Или это всё… грех?.. И надо выходить за того, кого выберут родители?..
Тем временем Варда, поднимаясь по деревянной лестнице с резными перилами на второй этаж особняка, думал о том, что сестра у него, в сущности, не так и глупа, а уж красавица писаная, и потому… И потому совсем незачем ей выходить замуж за сыночка какого-нибудь местного богатея! Варда уже второй год учился в столице, а домой наезжал в гости по временам. С каждым приездом красота сестры поражала его всё больше, и в этот визит он прямо сказал отцу, что лучше отправить Феодору в Константинополь – с ее внешностью и с их семейными связями она непременно сделает там блестящую партию. Марин ответил, что сам уже думал об этом, но мать пока что не решалась отправить в столицу младшую дочь: Флорина опасалась, что на Феодору, с ее живым и своенравным характером, Город повлияет далеко не лучшим образом…
…Ветер был плохой, судно тащилось еле-еле, но на другой день после отплытия, ближе к вечеру, вдали всё же замаячил Хиос. Оживившиеся пассажиры забыли про жару, от которой совсем спеклись за время плавания, и принялись обсуждать, кто что сделает по прибытии на остров. Стоянка должна была продлиться до следующего полудня – надо было пополнить запасы воды. Для нескольких человек Хиос был конечным пунктом следования, чем они вызывали некоторую зависть у остальных: всё-таки на суше чувствуешь себя уверенней, чем на воде… К тому же почти все, бывшие на судне, впервые делали такой большой переход – напрямик с Андроса на Хиос, а не через Тинос, Икарию и Самос: двое богатых купцов торопились к празднику Преображения попасть в Смирну, и заплатили молодому – а значит, не сильно опытному – навклиру втридорога за то, чтобы не плыть вкруговую. Тот согласился, понадеявшись на удачу и на то, что судно недавно заново просмолили и укрепили стяжки, но теперь с тайным беспокойством посматривал на горизонт, где появилась подозрительная темно-синяя полоса. Ветер между тем покрепчал и посвежел, судно ускорило ход, и пассажиры радовались, однако навклир все больше хмурился: синева приближалась к ним быстрее, чем вожделенный остров, а ветер поменял направление и задул в правый борт. Вскоре солнце упало в тучу, стало холодно, волнение всё усиливалось.
– Будет буря? – с беспокойством спросил один из купцов, подходя к навклиру.
Словно в ответ, налетел первый сильный порыв ветра, судно дало крен, жалобно скрипнули мачты. Купец неловко взмахнул руками и растянулся на палубе.
– Дьявол! – выругался навклир. – Не успели дойти до порта!
– Мы еще успеем причалить вон там! – крикнул кормчий, протягивая руку к оконечности острова, который был уже совсем близко.
– Ты прав! – ответил навклир.
Он уже хотел дать команду брать курс в гавань, когда под ухом раздался тихий, слегка взволнованный голос:
– Господин, не надо идти к берегу! Мы там непременно погибнем!
Навклир раздраженно обернулся. А, Лев, этот странный молодой человек, едет в Смирну и не везет с собой ничего, кроме кучи книг, упакованных в кожаные мешки! Похоже, он много знает… По крайней мере, вчера он дал дельный совет относительно того, как лучше сложить груз в трюме: всё поместилось, даже осталось место… Но что он может понимать в мореплавании?!..
– Послушай, господин хороший, не наводи панику! Погибнем у берега? Что за чушь!
– Нет, не чушь. У берега волны в несколько раз сильнее, и корабль разобьет, как щепку! Это в хорошую погоду у берега безопасно, но не в бурю. В бурю надо держаться от него подальше, поверь мне! Сейчас нам лучше идти в открытое море.
– В море?!..
Навклир взглянул на Льва как на сумасшедшего, но в следующий миг его одолели сомнения. Он еще никогда не попадал в шторм и не очень хорошо представлял, чего тут можно было ожидать. До острова было рукой подать, и уходить в море казалось сущим безумием. Но в то же время вспоминались много раз виденные на прибрежных скалах обломки и рассказы о том, как суда гибли, «чуть-чуть не доплыв до гавани», у самого берега…
– Ну, и что мы будем делать, если уйдем в море? – спросил он, глядя на Льва сверху вниз. – Ветер, поди, станет так крутить и вертеть, гнать и кидать, что нас унесет за много миль отсюда… А если начнем тонуть, то уж точно не спастись никому!
– Судя по запаху, ты недавно смолил судно, – улыбнулся Лев. – Бог даст, оно выдержит. А чтобы нас не унесло… – он задумался на несколько мгновений. – Думаю, надо накидать за борт как можно больше толстых канатов, они не дадут ветру так легко вертеть нами, и кидать будет меньше.
Навклир задумался. Сказанное Львом не очень убедило его, однако надо было на что-то решаться – качка всё усиливалась, и было ясно, что команда вскоре не сможет справляться с судном. «Была не была!» – и навклир, помолившись Богородице и Георгию Победоносцу, приказал сделать поворот через левый борт и идти в море. Кормчий сначала не поверил своим ушам, а когда понял, что навклир не шутит, заявил, что не будет исполнять такой безумный приказ. На это навклир угрожающе ответил:
– В таком случае ты отправишься в трюм… или за борт!
С руганью и проклятьями кормчий с матросами поставили рулевое весло на левом борту и изо всех сил держали его, разворачивая «Европу». Пассажирам было велено или пособлять матросам удерживать весло, или спускаться в трюм. Лев хотел помогать, но навклир велел ему убираться вниз – команда была слишком раздражена на «безмозглого юнца, из-за которого все скоро отправятся к морским дьяволам».
Лев послушался, но вскоре понял, что это была ошибка: судно всё сильнее раскачивало, и всех начало тошнить, особенно выворачивало трех купцов, успевших в обед изрядно нагрузиться вином. Вскоре в трюме поднялась невыносимая вонь, а незакрепленные тюки стало кидать от стены к стене, люди едва успевали уворачиваться. Один из купцов рассек лоб о перегородку, после чего внезапно в ярости бросился ко Льву с воплем:
– Убью, собака! Из-за тебя мы все утонем!
Лев увернулся, купец потерял равновесие и упал, страшно ругаясь, а молодой человек, судорожно хватаясь за стены, тюки, ящики, пифосы, добрался до крутой лестницы и полез наверх. Команда уже совершила поворот, все канаты были вытравлены за борт, а парус убран, однако судно несло, казалось, в самый центр бури. Тучи совсем закрыли небо, и было темно, почти как ночью. Оказавшись на палубе, Лев едва удержался на ногах; если бы он вовремя не ухватился за канат, то, пожалуй, мог бы слететь за борт.
– Чего вылез?! – заорал на него случившийся вблизи навклир. – Жить надоело? Давай обратно!
– Не могу! – замотал головой Лев, схватил себя одной рукой за горло и высунул язык.
– Неженка! – прорычал навклир и, держась за снасти, подошел ко Льву и достав из мешка, висевшего у него на поясе, веревку, протянул ему. – Если остаешься тут, привяжись к мачте! Иначе я за твою жизнь не ручаюсь! Но поручусь, что отправишься к рыбам!
Ветер выл так, что Лев с трудом разобрал слова. Пока он привязывался, его едва не накрыло волной. Мачты зловеще скрипели, а море так бушевало, что в голову приходили мысли не то о всемирном потопе, не то о конце света. «Ну, вот, – подумал молодой человек, – вот наша жизнь – воистину “пар исчезающий”… Так вот учишься, учишься, а потом всё, что познал и приобрел, достанется рыбам… Обидно!.. Вряд ли рыбы оценят в человеческих мозгах что-нибудь, кроме их природного вкуса, – он усмехнулся. – Книг жалко!.. На дне они даже рыбам не пригодятся… Господи! – взмолился он. – Если эти книги кому-нибудь нужны, не попусти нам погибнуть за грехи наши!»
Буря продолжалась всю ночь. Только к утру ветер стал стихать, и появилось солнце, хотя волнение по-прежнему было довольно сильным, а мрачность неба на юго-востоке живо напоминало о пережитом шторме. Постепенно ветер изменился с южного на восточный, и навклир приказал вытянуть канаты, поставить парус и, сделав поворот через правый борт, идти к Хиосу, точнее, в ту сторону, где, как предполагал кормчий по положению солнца, остров должен был находиться. Хиос, действительно, довольно скоро показался на горизонте, и тогда удивленная команда поняла, что судно не так уж сильно оттащило. Из трюма мало-помалу вылезали пассажиры, шатаясь, с зелеными лицами, падали прямо на палубу и лежали, как мертвые; только охи и стоны говорили о том, что в этих телах есть жизнь. Когда люди более-менее пришли в себя, навклир повелел налить всем – и команде, и пассажирам, и гребцам – неразбавленного вина для согрева. Все улыбались друг другу – робко, словно еще не веря, что опасность миновала; многие крестились, шепча благодарственные молитвы. Навклир поглядывал вокруг с некоторой гордостью: всё-таки они пережили такой шторм, а паруса и снасти целы, и в трюме воды не так много, да и матросы почти все живы – смыло только двоих…
Когда они приблизились к той самой оконечности острова, где собирались пристать накануне шторма, раздался крик одного матроса:
– Человек за бортом!
Извлеченный из воды полумертвый юноша, плававший привязанным к сорванной с петель двери, когда пришел в себя и немного подкрепился вином, хлебом и солеными оливками, рассказал, что плыл на судне, которое шло с Самоса на Хиос и тоже не успело войти в порт до начала шторма. Навклир решил пристать к берегу, но когда они уже входили в бухточку, налетел первый шквал, паруса немедленно были сорваны, мачта упала, судно завертело и понесло сначала в море, а потом обратно, на прибрежные скалы. Началась паника, люди заметались по палубе, и Афанасий – так звали спасенного, – понимая, к чему идет дело, попытался найти какую-нибудь доску, увидел, что одна из дверей болтается уже на одной петле, сорвал ее, привязался и бросился в море. Он видел, как судно разбилось в щепы – похоже, кроме него, никто не спасся. Все слушали его рассказ, затаив дыхание, и невольно то и дело поглядывали на Льва.
– Ну, что пялитесь? – усмехнулся навклир. – Я вам говорил! Если б не послушались господина Льва, все бы сейчас были на дне!
Купец, набросившийся на молодого человека в трюме, бухнулся Льву в ноги и просил прощения, другие шепотом называли его «спасителем»… Лев сидел, как ни в чем не бывало, и чуть заметно улыбался. Он уже проверил свою драгоценную поклажу: книги в мешках были сухие, и это радовало его более всего остального, едва ли не больше, чем собственное спасение.
По прибытии на Хиос и внимательном осмотре судна, выяснилось, что нужно заделать течи и укрепить разболтавшиеся стяжки. Матросы с радостными воплями, захватив с собой «воскресшего из мертвых» Афанасия, отправились в близлежащий трактир как следует отпраздновать общее избавление от гибели. Набожные купцы пошли в храм – когда корабль швыряло в море, они дали обет пожертвовать на церковь деньги, если спасутся от смерти. Лев прохаживался по берегу, раздумывая, ждать ли ему починки «Европы» или перейти на какое-нибудь другое судно, чтобы побыстрей попасть в Смирну. Он уже знал, что двое купцов, на чьи уговоры поддался навклир, согласившись плыть до Хиоса напрямую, собираются пересесть – Лев слышал, как они препирались с навклиром относительно платы: тот требовал пять шестых полной суммы, а купцы соглашались только на три четверти… «Посейдон», куда собирались перебраться купцы, должен был отплыть на следущее утро, и Лев, еще поразмышляв, отправился на «Европу» забрать свою поклажу. Сначала он пошел внести плату – Лев не собирался торговаться и решил отдать полную сумму, ведь навклир и так понес убытки.
– Ты родом из Смирны, господин Лев? – спросил навклир, когда молодой человек положил перед ним монеты и сказал, что поплывет дальше на другом судне.
– Нет, из Константинополя.
– О-о! И что, едешь домой?
Лев кивнул.
– А чем занимаешься-то? Ты, я гляжу, ученый!
Молодой человек смущенно улыбнулся.
– Нет, я еще далеко не так учен, как хотелось бы… Но я действительно занимаюсь науками. Вот приеду домой, хочу преподавать начать.
– Добро! И какие науки будешь преподавать?
– Да я разные могу… Математику, например…
– Ну, что ж, математик…
Навклир поднялся, снял с шеи ключ, подошел к шкафу в углу каюты, открыл его, достал туго набитый кожаный мешок и положил его на стол, мешок глухо звякнул. Навклир достал из того же шкафа другой мешочек, пустой, из холстины, бросил на стол, закрыл шкаф, снова сел, развязал кожаный мешок, и оттуда стали вываливаться золотые монеты. Навклир отсчитал двадцать номисм, сложил их в холщовый мешочек, взял медяки, принесенные Львом, и положил сверху. Аккуратно завязав мешочек и пододвинув к молодому человеку, он сказал:
– Это тебе, математик, и в добрый путь! Не-ет, и не думай отказываться! Кабы не ты, быть бы нам пищей рыб!
22. Крестник императора
– Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, – сказала она.
– Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дня, на полчаса? – проговорил седой господин и засмеялся.
– Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.
– Нет-с, я про то самое.
(Л. Н. Толстой, «Крейцерова соната»)
Был канун праздника Воздвижения Креста Господня. Сентябрь выдался очень приятным: погода стояла солнечная, но не жаркая, благодаря мягкому ветру с моря. В такое время всех тянуло на воздух, и не было ничего удивительного, что в третьем часу пополудни на одном из балконов верхнего этажа дворца Дафны, откуда открывался замечательный вид на Ипподром и храм Святой Софии, стоял высокий молодой человек, прекрасно сложенный, одетый в синий, расшитый жемчугом скарамангий и белую хламиду, застегнутую на правом плече золотой фибулой. Блестящие волнистые черные волосы обрамляли загорелое, с легким румянцем лицо, продолговатое, с чуть выступающими скулами, высоким лбом и прямым носом. Решительная линия губ выдавала твердый характер. Темные умные глаза, окаймленные такими густыми и длинными ресницами, что им позавидовали бы многие женщины, смотрели вдаль, в сторону Влахерн. Взгляд юноши был в тот момент сумрачен и даже суров.
Феофил думал о том, что его отец, как было слышно, опять в разных застольных компаниях поносит «зверский нрав» императора, а дома всё чаще поминает давнее пророчество филомилийского отшельника, будь оно неладно!.. Василевс, хотя иконопочитатели называли его не иначе как «звероименитым», умел сдерживать гнев и до поры щадил своего прежнего друга, зная про его болтливость и распущенность и смотря на них снисходительно. Хотя год тому назад на Михаила поступил донос, будто он с некими соратниками, чьи имена не назывались, злоумышляет против василевса, однако обвинения доказаны не были; удалось разузнать лишь то, что турмарх в пьяном виде несколько раз выражал недовольство политикой императора и говорил, что она может привести к перевороту. Лев пожурил старого друга и даже расспросил его, что именно ему не нравится в ходе государственных дел. Михаил отделался общими фразами и извинялся за свою «пьяную несдержанность». В результате император, в знак примирения, даже повысил его в должности, назначив доместиком экскувитов. Может быть, он и дальше списывал бы дерзкие речи Михаила на его неумеренное винопитие и природную невоздержанность языка, но в окружении императора вновь прозвучало страшное слово «заговор», – и нити опять вели в круг знакомых и друзей доместика. А их было немало: Михаил, благодаря общительному и веселому нраву, почти во всякой компании становился своим человеком, а некоторые из его родственников давно занимали разные должности при дворе. В столице теперь было уже слишком много недовольных политикой василевса, и Лев знал это. Его ненавидели открытые и тайные сторонники иконопочитания, но и многие из примкнувших, по убеждению или по страху, к иконоборцам недолюбливали и осуждали его – слишком сурово порой император обращался с преступавшими законы, так что его правосудие часто оборачивалось казнями или увечьями провинившихся. Почти никто не знал, не придется ли ему завтра ответить головой за какие-нибудь промахи – а у кого ж их не бывает?.. Слово «заговор» давало зловещее освещение дерзости Михаила, и императорский гнев рано или поздно неминуемо должен был разразиться над его головой.
А это, в свою очередь, означало, что, как бы ни любил Лев своего крестника, опала, грозившая Михаилу, скорее всего, постигнет и его сына – и тогда прощай, Священный дворец, прощайте, друзья детства, прощай, Иоанн, прощай, императорская библиотека, прощайте, великолепные скакуны из царских конюшен! Из-за безумного поведения отца он должен будет всего этого лишиться!.. Гнев поднимался в сердце юноши. «Эх, почему не крестный – мой настоящий отец!» – промелькнула у него мысль. Он вовсе не думал об императорской короне, но было мучительно жаль расставаться с людьми, с которыми его связывала многолетняя дружба…
Феофил не любил отца, а крестного почти обожал: Лев казался ему воплощением храбрости и мужества, а кроме того, относился с почтением к наукам и, в отличие от Михаила, сам много читал. Император тоже очень любил крестника и относился к нему почти с нежностью. При дворе Феофил вел себя скромно, хотя независимо, но и это нравилось василевсу; Лев иной раз почти забывал, что юноша – не его родной сын…
«Всё же, может быть, еще обойдется?..»
– Феофил, Феофил! – раздался сзади звонкий голос. – Ты что тут делаешь? Учитель тебя ждет!
Феодосий, младший сын императора, подбежал к юноше и, ухватив его за хламиду, со смехом потянул за собой. Феофил постарался придать лицу беззаботное выражение. Бросив взгляд на водяные часы в одной из зал, через которые они проходили, он увидел, что действительно пришло время занятий. «Школьная» зала была светлой, просторной, с окнами на юго-восток; вдоль стен в шкафах с застекленными дверями лежали книги, чертежи осадных машин и других военных приспособлений, тетрадки с песнопениями и музыкальные инструменты, деревянные модели геометрических фигур, астролябия, рисунки с изображениями разных животных, засушенные растения и морские звезды, ракушки, камни, осколки разноцветных мраморов и других горных пород, чучела птиц; на одной стене висела большая карта Империи, а на другой – астрологические таблицы Птолемея. Время, проведенное здесь за последние восемь лет, Феофил считал лучшим в своей жизни.
– Вот! Я его нашел! – торжествующе закричал Феодосий, вбегая в «школьную».
– Нашел-то ты его нашел, – сердито сказал Василий, закрывая учебник геометрии и вперяя в Феофила строгий взгляд, – да только учитель тем временем ушел!
Иоанна Грамматика действительно не было в зале.
– Да, – кивнул развалившийся тут же в кресле Константин, – без Феофила отец игумен нас учить не хочет, он же его любимчик! Вот, Феофил, сорвал урок! Этак из-за тебя мы неучами останемся!
– Да вы всё врете! – воскликнул Феофил, смеясь. – Где Иоанн?
– Ну, положим, не совсем врем, не совсем, – улыбнулся Константин. – Так, привираем слегка! – он подмигнул Василию.
– Иоанн забыл одну книжку и пошел за ней в Фомаит, пока тебя нет, – сказал тот. – А тебя-то где носит, дорогой друг?
– Он у нас на балконе размечтался! – сказал Феодосий. – Стоит, думает о чем-то…
– Влюбился, может? – вставил вертевшийся тут же двенадцатилетний Григорий и, поглядев на Феофила, засмеялся.
– В кого бы это? – улыбнулся Феофил, снимая хламиду и вешая ее на серебряный крюк на стене у входа. – Уж не в патрикию ли Магдалину?
Тут мальчики просто покатились со смеху: патрикия-зоста, родственница императрицы, вечно набеленная и нарумяненная женщина лет тридцати, с подведенными бровями, увешанная ожерельями и браслетами, уже давно при встречах кидала на красавца Феофила томные взгляды, которые были предметом постоянных насмешек молодых обитателей Священного дворца.
– «Пламя такое в груди у меня никогда не горело»! – продекламировал Константин, заложив одну на другую ноги в коротких красных сапожках. – Наш Феофил на женщин и не глядит! То ли дело копья, луки, кони…
Все опять рассмеялись.
– А может, он цену себе набивает? – предположил Григорий.
– Что ты! – воскликнул Константин, глядя на Феофила. – И так всем видно, что он бесценный! Что тут набивать, когда он любую женщину взглядом насмерть поражает… Потом только вздохи слышатся из всех углов!
Константин любил друга, но всё же слегка завидовал юноше: красотой и умом Феофил далеко превосходил его с братьями.
– Но нашлась на свете девица, способная поразить и нашего аскета! – сказал Василий.
– Да ну? – с интересом взглянул на него Константин. – Кто такая?
– Красавица, глаза, как море… – Василий лукаво поглядывал на Феофила.
На щеках императорского крестника показался румянец.
– Глупости!
– Да? А сам покраснел!
– «Ныне пылаю тобою, желания сладкого полный!» – опять процитировал Константин. – Что за красотка? Ну-ка доложи! Наше тебе императорское приказание! – он приосанился, но тут же добавил: – Шучу, впрочем. Но правда интересно! Или секрет?
«Знаю, приятно тебе от меня завсегда сокровенно Тайные думы держать; никогда ты собственной волей Мне не решился поведать ни слова из помыслов тайных»…
– Да какой там секрет? – почти сердито сказал Феофил, но тут же улыбнулся и тоже продекламировал: – «Что невозбранно познать, никогда никто не познает прежде тебя, ни от сонма земных, ни от сонма небесных»! Мы на днях с Василием катались верхом и заехали к Книжному портику. И вот, там одна девица книги покупала. Представь: девица – в Книжном!
– Да уж, действительно: «Боги! великое чудо моими очами я вижу»! – Константин снова вспомнил Гомера: вести разговор с помощью цитат было одной из любимых друзьями игр.
– Мало того! – воскликнул Василий. – Я спросил у продавца, что за книгу она смотрела, и оказалось – «Метафизику» Аристотеля!
– Ого! – сказал Константин. – Девица обладает неженским умом!
– И неземной красотой! – добавил Василий.
– Ну, – улыбнулся Константин, – сплошные «не». Прямо апофатика! Ты, Феофил, – он лукаво поглядел на друга, – как насчет апофатического богословия любви?
– Это по твоей части, дорогой мой, – ответил тот, улыбаясь. – Ты у нас охотник до прекрасного пола… А я в этом вопросе мало смыслю.
– Что же, она туда одна пришла? – спросил Константин.
– Да нет, со служанками, конечно, – ответил Феофил. – Книги рассматривала. Изучала качество рукописей – видно, знает в этом толк.
– И красивая?
– Да она была закрыта пуще монашки, где там разглядеть!
– Не, он врет, не слушайте его! – задорно сказал Василий. – Он на нее так и смотрел, так и посматривал! Так что даже оборванец… вертелся там один мальчишка… предложил проследить, где девица живет, – видно, надеялся подзаработать. Феофил его прогнал, а зря, думаю! Девица изумительна и, видно, из богатых – в голубой шелк была одета. Какая осанка! А руки – словно из мрамора выточены! Ножка ма-аленькая, я заметил! А голос – чистая музыка небесных сфер! А поступь! И глаза синие – море!
– «Истинно вечным богиням она красотою подобна»! – заключил Константин.
– Вот-вот! И так она взглянула, знаете, и сразу глаза опустила, – продолжал Василий. – Но думаю, наш Феофил не понравиться ей не мог, как и она ему! А я как раз стал листать одну рукопись и нашел там на полях приписку: «Не следует поступать наперекор Эроту…»
– «Поступает наперекор ему лишь тот, кто враждебен богам»! Именно! Это я и твержу всё время Феофилу!
– Да-да, я ему это прямо вслух и прочел! А он всё: помолчи да помолчи! А она-то слушала!
– Ну, положим, я не только призывал к молчанию, – улыбнулся Феофил. – Процитировал и я кое-что по памяти… У Платона-то не только про это есть.
– Да, а он давай про «разум и прочие добродетели». И видно, так девицу поразил, что она на нас взглянула… Ах, как она взглянула!..
– «Гибель мужчине – от нежной красавицы», – пропел Константин. – Ты прямо-таки раздразнил наше любопытство до последнего предела!
– И вот… – снова заговорил Василий.
– Слушай, прекрати, – прервал его Феофил с досадой. – Подумаешь, взглянула! Тебя послушать, так она на шею мне собралась прыгнуть! А на самом деле она купила Аристотеля и ушла, вот и вся история.
Тут в «школьную» вошел Иоанн.
– Наконец-то все в сборе? – улыбнулся он, глядя на учеников. – Здравствуй, Феофил! Ты умудрился опоздать весьма кстати: я тут кое-что забыл захватить… Что ж, начнем!
Младшие дети Григорий и Феодосий вышли, Иоанн затворил за ними дверь, Константин, Василий и Феофил заняли свои места за длинным мраморным столом, и урок начался. Императорские сыновья временами поглядывали на друга, но лицо Феофила было непроницаемо. После занятий Василий, быстро попрощавшись, куда-то скрылся, а Константин и Феофил отправились к вечерне в Фарский храм. После службы они простились до завтрашней праздничной литургии в Святой Софии.
– Ты куда сейчас? – спросил вдруг Феофил.
Он редко задавал другу подобный вопрос. Юный император пристально взглянул на него и улыбнулся.
– К прекрасной половине, – Константин собирался на свидание с очередной возлюбленной. – Имя можно не уточнять?
Феофил хмыкнул. Лампадчик уже потушил почти все светильники, в храме воцарился полумрак, и глаза юноши теперь казались бездонными. «У, если б у меня были такие глаза, – подумал Константин, – мне бы почти не пришлось тратить время на обхаживание моих прекрасных нимф…»
– Знаешь, – сказал императорский сын, – ты можешь злиться, сколько влезет, но я считаю, что ты сделал глупость!
– Может быть. И что же?
– Если древо жизни удобрять глупостями, на нем вырастают горькие плоды.
– Увидим.
– Спокойной ночи! – улыбнулся опять Константин.
– Приятного времяпровождения! – ответил императорский крестник.
Воспитанного в Священном дворце, где нравы почти всегда оставляли желать лучшего, Феофила, тем не менее, действительно больше интересовали «копья, луки, кони», нежели представительницы прекрасной половины человеческого рода. Он мог цитировать наизусть большие отрывки из эллинских поэтов, в том числе посвященные любовным страстям, но между ним и Константином была большая разница в их восприятии.
В устах Константина слова о «сладком желании» не были просто отвлеченной цитатой: он уже успел пережить довольно много любовных историй с женщинами самыми разнообразными – от кувикуларий матери до акробаток с Ипподрома. Императрица была недовольна его поведением, но в целом смотрела сквозь пальцы на похождения старшего сына, тем более, что Константин был достаточно осторожен и его связи не получали огласки. Василий и Григорий, хотя и знали о любовных делах брата и даже иногда завидовали ему, сами всё же не собирались идти по этой дорожке. Правда, Василий иной раз по вечерам тоже стал куда-то исчезать, никому ничего не говоря; Константин поглядывал на него хитровато, но молчал… Маленький же Феодосий пока пребывал в блаженном неведении. Император, узнав о похождениях своего отпрыска-соправителя, нахмурился, но махнул рукой: «Дело молодое!» Впрочем, он сделал сыну некоторое внушение и поговорил с патриархом, который был духовником императорской семьи. Феодот, к некоторому удивлению Льва, сказал, что, по его мнению, в поведении Константина не было ничего особо предосудительного, поскольку «молодым людям необходимо… м-м… перебеситься». На том все и успокоились.
Что до Феофила, то он имел о любовных утехах познания чисто теоретические. Случайные связи претили его внутреннему чувству прекрасного, а кроме того, большинство женщин, с которыми ему приходилось сталкиваться, казались ему глупыми и скучными.
Однажды Константин явился на утренние занятия верховой ездой и стрельбой рассеянный и не выспавшийся после очередной бурно проведенной ночи. Феофил как раз собирался поупражняться в стрельбе из лука по искусно сделанному чучелу, изображавшему человека в настоящий рост.
– Привет! – крикнул он другу. – Ты припозднился сегодня!
Константин подъехал и вместо приветствия громко продекламировал:
– «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»!
Он быстро натянул лук, прицелился и выстрелил, попав чучелу в горло.
– Это твой-то гнев «богиня, воспой»? – насмешливо спросил Феофил. – Кто ж тебя так разгневал, друг мой? И откуда ты явился такой потрепанный?
– «На горе мужчинам посланы женщины в мир – причастницы дел нехороших»!
– А, я так и думал!
Феофил отъехал и, разогнав коня, выстрелил на полном скаку. Его стрела вонзилась точно в древко стрелы Константина, расщепив ее по всей длине и вогнав наконечник глубоко в чучело. Константин, посмотрев вблизи, даже присвистнул. Феофил развернул коня и подъехал с улыбкой:
– Что, нравится?
– Стреляешь, как Парис! – ответил юный император.
– Что ж, это лучше, чем бегать за женщинами, как Парис! Ну, скажи, о чем ты с ними разговариваешь? Они наверняка и Гомера-то не читали, не то что Гесиода…
– О чем? – Константин насмешливо поглядел на друга. – О любви, дорогой мой!
Они снова отъехали от чучела на расстояния выстрела.
– Но нельзя же всё время говорить только о любви!
– Дружище, ты просто еще не знаешь, что такое любовь. Когда-нибудь ты поймешь, что о ней можно говорить бесконечно!
Константин прицелился и поразил чучело в левый глаз, нарисованный черной краской.
– Бесконечно, да, – усмехнулся Феофил, – в пределах нескольких недель, пока длится связь!
Выпущенная им стрела вонзилась в правый глаз чучела.
– Ну, да, – без особого смущения ответил Константин. – Пока любовь длится, верны слова Откровения, что «времени больше не будет»… Вспомни Ареопагита – ведь земной эрос есть образ небесного! И Премудрый говорит: «крепка, как смерть, любовь». А когда смерть настает, так о другом и думать забудешь!
– «Крепка, как смерть»? Ты что, правда думаешь, что здесь сказано… об этом самом?
– А как же, конечно! Телесный смысл Писания! Там ведь перед этим как раз и говорится: «Возьму тебя, введу тебя в дом матери моей… Там ты научишь меня; напою тебя вином благовонным, от воды источников моих. Шуйца его под главою моею, и десница его обнимает меня…»
– Святые отцы запрещали толковать Песнь Песней буквально!
– Ха, известное дело – монахи! Что они в любви-то понимают? – лукаво улыбнулся Константин. – Спроси вон у нашего учителя, он тебе, верно, скажет, что любовь это душевное расстройство или что-нибудь в таком роде… Аскеты! Да и потом, о мой друг, когда спускается ночная тьма, о любви уже не говорят, а занимаются кое-чем поинтереснее…
Очередной стрелой Константин попал чучелу точно в низ живота. Краска показалась на щеках Феофила.
– Ну, если ты именно это считаешь самым интересным… Кому что, конечно, но всё-таки это «Афродита пошлая»!
Он выстрелил чучелу в лоб и, спрыгнув с коня, вытащил из ножен меч – по размерам как настоящий, но не заточенный и с тупым острием.
– «Афродита пошлая»? – Константин тоже спешился. – Опять Платон?
– Да, – Феофил улыбнулся и направился к расположенной неподалеку площадке, покрытой коротко скошенной мягкой травой. – «Эрот Афродиты пошлой поистине пошл и способен на что угодно. Это как раз та любовь, которой любят люди ничтожные…»
– Прямо-таки «ничтожные»? – Константин тоже вынул меч и, слегка подкинув, ловко поймал за рукоять. – Суров же эллинский мудрец!
– Но всё ж мудрец, не так ли? И дальше у него там: «Они любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души, и любят они тех, кто поглупее, заботясь только о том, чтобы добиться своего, и не задумываясь, прекрасно ли это». Что, прямо в цель, да? – он рассмеялся, глядя на друга, и сделал выпад.
– Э-э… Ну, в общем, – ответил Константин, отбиваясь, – оно где-то так… но где-то и не так… Ты просто не испытал, а потому и не знаешь… Там, кажется, дальше про «Афродиту небесную»? Оно, конечно, красиво… Но ты пойми, Феофил, что небесная без пошлой не бывает!
– Зато пошлая без небесной – сколько угодно. Вот это мне и не нравится!
– А тебе, конечно, надо непременно небесную!
– Да, если уж ты заговорил о вечности… Что ты находишь… в своих женщинах? Красоту? Но разве этого довольно для вечного чувства? В той же самой Песни, если даже ты хочешь понимать ее буквально… там сказано: «Вода великая не может угасить любви, и реки не потопят ее»… Хотя, конечно, у тебя своеобразное понимание вечности… Для «вечности» длиной в месяц одной красоты, может быть, и хватит…
– А тебе всё ум подавай! – воскликнул Константин. – Гляди, вот дождешься, наткнешься на какую-нибудь умницу… Не всё ж тебе безнаказанно оскорблять Киприду! – и молниеносным движением юноша приставил кончик клинка к груди Феофила как раз там, где сердце.
Феофил выронил меч и картинно упал на траву. Константин встал в гордую позу и нравоучительно произнес:
– Так что берегись, друг! «Умен ты, да… Дай Бог, чтоб был и счастлив»! – он откинул меч в сторону и с воинственным криком бросился на Феофила.
Борцы покатились по траве. Наконец, Константин прижал друга к земле и схватил за горло.
– Твой любимый Платон, помнится, учил, что Эрот – сильнейший и прекраснейший из богов, и идти ему наперекор небезопасно… О том же и пример Ипполита!
Феофил, однако, стиснул обеими руками, как клещами, запястья противника и заставил его ослабить хватку.
– Ипполит был девственник из принципа, – проговорил юноша, усилием всё более и более отводя руки Константина в стороны. – Но я же не собираюсь в монахи… Просто я не готов ради любви… бежать бегом за каждыми красивыми глазами… Да и не встречал пока ни одних, которые бы того стоили!
Борьба возобновилась. В конце концов Феофилу удалось заломить Константину руку и в то же время быстро вытащить из-за пояса небольшой деревянный кинжал и приставить ему к горлу. Константин чуть приподнял свободную руку в знак того, что сдается, и сказал:
– Ничего, Феофил, придет и твой черед! Уж это я тебе обещаю! И тогда не только побежишь, а и на стенку полезешь!
– Что-то не видно, чтоб ты сам сильно на стенки лез, – ответил Феофил, вставая.
– Я!.. – фыркнул Константин, тоже поднимаясь на ноги и отряхиваясь. – Я дело другое. А ты у нас… платоник!
Синие глаза, взглянувшие на Феофила в Книжном портике, привлекли его внимание, безусловно, потому, что принадлежали девушке, которая сама ходила покупать книги, причем не жития святых или Псалтирь, а Аристотеля, – но только ли поэтому? Конечно, девушка была красива и, очевидно, умна… Феофил попытался разложить впечатление на составляющие: восхищение красотой, удивление перед умом, интерес к необычной встрече… Что еще? Всё-таки было еще нечто, не поддающееся определению…
Поразмыслив о происшедшем, он махнул рукой и решил, что это мелкое жизненное приключение ничего не означает. Однако болтовня Василия перед началом урока смутила Феофила. Он ей понравился, «так же как и она ему»?.. Понравилась ли она ему? И он ей? И надо ли из этого делать далеко идущие выводы?..
Когда они прощались с Константином в тот вечер после службы, Феофил подумал, что друг сейчас пойдет к своей очередной женщине… И странное чувство, похожее на зависть, шевельнулось в нем, так что он сам удивился. «Ты совершил глупость!» – сказал Константин. Разве? В чем же была глупость? В том, что он с отвращением прогнал того оборванца, предложившего «проследить, где живет юная госпожа»? Но почему мальчишка предложил это ему? Было ли у него «на лице написано», как сказал, смеясь, Василий… Что там у него могло быть написано на лице?! Вздор! Нет, он поступил правильно. Понравилась ему эта девушка или нет, в любом случае это просто мимолетное впечатление… И хорош бы он был, если б уподобился Константину, чуть ли не каждое такое впечатление обращавшего в любовную связь! Да, он поступил правильно. И довольно думать об этих глупостях!..
– «Всякому должно быть дозволено искать свое благо», – пробормотал Феофил и, тряхнув головой, направился к выходу из дворца: пора было возвращаться домой.
…Михаил с Феклой ужинали вдвоем в парадной зале особняка. Михаил жадно поглощал пюре из трески, запивая его дорогим мускатом. Фекла с тоской смотрела, как слуга ставит перед мужем уже второй серебряный кувшин, полный вина, и думала, что ей предстоит услышать очередную порцию еврейских песен, которые Михаил любил горланить в пьяном виде… Внезапно ей вспомнился недавний обед во дворце, куда были приглашены патриарх, избранные придворные и кое-кто из дворцового клира, в том числе Сергие-Вакхов игумен. Иоанна посадили наискось от Феклы, и теперь она вспомнила, как прямо и одновременно непринужденно сидел Грамматик за столом, изящно вынимал кости из рыбы и задумчиво поворачивал в тонких пальцах высокий кубок с вином, как он участвовал в разговоре, подавая краткие реплики, искрившие то умом, то язвительным юмором… Этот образ философа, всплывший перед Феклой, показался ей столь разительной противоположностью с сидевшим перед ней супругом, что ее тоска усилилась до внутренней боли, и это немного удивило ее, – раньше с ней такого не случалось. Вдруг Михаил перестал жевать и внимательно поглядел на жену.
– Что это ты сидишь, как мокрая овца? И кстати, где наш отпрыск опять шатается?
– Очень похвально, что ты вспомнил, что у тебя есть сын, – съязвила Фекла. – Но странно, что ты только сегодня заметил его отсутствие у семейного очага.
– А, он, поди, всё у Льва под боком вертится! – раздраженно сказал Михаил. – И чего ему там – медом, что ль, намазано?
– Да ты на себя-то посмотри! Ни одного дня не проходит, чтобы ты императора не вспоминал всуе. А Феофил, между прочим, там учится…
– Учится! Сколько можно учиться? – проворчал Михаил. – Грамматика, что ли, переплюнуть хочет? Так это кишка тонка! Игумен свой ум, надо думать, не в одних книгах взял…
Он замолк, доел пюре, налил себе еще вина и пробормотал:
– Ну, ничего, скоро этот зверь уж не увидит трона в Золотом триклине!
– Опять! – вскричала Фекла. – И не стыдно тебе? Ты хочешь, верно, кончить жизнь на Ипподроме от рук палача! Чем государь тебе не угодил, что ты постоянно его поносишь?!
– Как ты не понимаешь, о глупая женщина! – театрально воскликнул Михаил и приложился к кубку с вином. – Он не угодил не только мне, а уже едва ли не всем своим подданным! Не я ли первый обеими руками пихал его на царство? Тогда все ожидали от него великих свершений, правления блистательнейшего…
– И что же? – перебила его Фекла. – Разве государь плохо правит? Кто усмирил болгар, укрепил границы, усилил войско? Разве Лев не заботится постоянно о благе государства?
– Заботится, о, конечно, заботится! – саркастически ответил Михаил. – Только вот он малость пересолил со своими заботами! Я всегда был уверен, что все беды – от излишнего благочестия! Но у нас это любят – как пойдут всех выстраивать рядами, понимаешь, стройными, так не знаешь, куда спасаться! А я ведь говорил ему, что настанет время, и придется ему думать, как справиться с преподобнейшими отцами… Вот время-то и пришло. А Лев не справился, конечно. Потому что, дурак, много слушал этого Иоанна!
– Что же, тебя ему, что ли, слушать? – язвительно заметила Фекла. – Господин Иоанн умен…
– Вот именно! Он-то умен. А вот Лев – осёл! – отрезал Михаил и, усмехнувшись, добавил: – Правда, ты еще глупей его! Но хоть оно и так, а в пурпуре будешь ходить… Хоть и дрянная ты баба, а будешь!
– О, Господи!.. – Фекла махнула рукой и замолкла.
В такие моменты она готова была бежать хоть на край света от будущего императора.
23. Против рожна
Но нельзя было сдержать душу, словно вепрь с кручи летящую.
(Продолжатель Феофана)
Рождественский пост начался скверно. Во-первых, император, слезая с коня после поездки во Влахерны, подвернул ногу и так растянул связки, что ему пришлось три дня лежать, не вставая. Придворные врачи искусными растираниями и примочками из целебных мазей быстро излечили Льва, но настроение у него было испорчено. Во-вторых, умер Варда, свояк василевса, два года тому назад назначенный стратигом Фракисия вместо Оравы. Но еще хуже было то, что обстоятельства его смерти очень скоро сделались широко известны и к середине ноября рассказ о них уже долетел до столицы.
Варда тяжело заболел и, прибыв в Смирну, лежал, прикованный к постели. Врачи суетились, приходили и по одному, и группами, переговаривались между собой, но ничего определенного не высказывали и советовали «полагаться на волю Божию». Жена стратига, воспользовавшись тем, что болезнь мужа сделала его более податливым к увещаниям, стала убеждать Варду отвергнуть иконоборчество и покаяться в прежних грехах против православных, уверяя, что за них-то его и постиг этот внезапный и непонятный недуг. Албенека почти с самого начала гонений на иконы тяготилась своим замужеством, поскольку Варда сразу повел себя очень жестко по отношению к иконопочитателям, именуя их не иначе, как «идолопоклонниками». Знай он, чем занималась жена, он бы, пожалуй, набросился на нее с кулаками: проводя жизнь тихую и очень домашнюю, редко появляясь во дворце, так что царственная сестра шутя называла ее «затворницей», протоспафария втайне много благотворила гонимым, в том числе студитам и их игумену. После долгих раздумий она написала Феодору о том, что желает принять монашество. Игумен ответил ей, что, по правилам святителя Василия, состоящим в браке нельзя принимать постриг без согласия супруга, и что следовало бы сначала «открыть помысел расположения» мужу. «Если он согласится, – продолжал Феодор, – то было бы хорошо. А если нет, тогда, коль скоро любовь Божья так воспламеняет тебя, делай угодное тебе и без желания супруга. Но, как выше сказано, это дело трудноисполнимое, особенно во дни гонения, а также потому, что ты не из простолюдинок, а из высших слоев и родственница императрицы». Пока Албенека размышляла, как убедить мужа, в Никомидии состоялся суд над девятью студитами, и Варда забичевал монаха Фаддея – единственного из православных, пострадавшего за иконы до смерти: власти придерживались тактики «не делать мучеников» из иконопочитателей. Протоспафария даже сделалась больна от скорби; стало ясно, что вести с мужем разговоры о совместном уходе в монастырь бесполезно, но приведенные в письме Феодора слова апостола: «Почем ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» – удержали ее от немедленного бегства. И вот, наконец, пришло то время, когда она действительно могла побудить Варду к покаянию. Стратиг хмуро выслушал жену и раздраженно проговорил:
– А, отстань! – но видно было, что он призадумался.
Между тем турмарх Диоген, державшийся православия, очень желая видеть игумена Феодора, упросил Смирнского митрополита устроить им свидание. Тот неохотно, но согласился, ведь Диоген был из благородных и любим стратигом, и противоречить ему митрополит не решился; впрочем, на положительный ответ иерарха больше повлиял кожаный мешочек с серебряными милиарисиями… Однако в темницу, где был заключен игумен, Диогена не пустили, и они разговаривали через небольшое отверстие в стене, сквозь которое узникам подавали пищу. Диоген попросил у исповедника благословения и молитв, а также сообщил о том, что стратиг Варда тяжко болен. Феодор ответил:
– Скажи господину своему следующее: подумай, что теперь будет с тобой, ведь ты уже при конце жизни, и у тебя нет ни помощника, ни избавителя. Вспомни о том, что ты творил, когда мог свободно властвовать, что сделал ты с исповедниками Христовыми! Блаженного Фаддея ты собственноручно бичевал до смерти, но вот, он, украшенный мученическими венцами, наслаждается на небесах славой Божией со всеми святыми. Ты же связан узами своих грехов и предан неисцельным болезням, а в будущем веке ждет тебя всеконечное осуждение. И если едва выносишь телесную горячку в этой жизни, подумай, как вынесешь вечные казни нечестивым?
Диоген в точности передал слова игумена стратигу. Тот, выслушав, побледнел, задрожал, и слезы потекли по его ввалившимся щекам.
– Согрешил я, Боже, Боже! – прошептал Варда.
Придя в сокрушение, стратиг велел Диогену поспешить к Феодору и сказать, что он просит прощения за всё зло, причиненное ему и студийской братии, умоляет его о предстательстве пред Богом и обещает впредь жить под его руководством, лишь бы только избавиться от смертной опасности. Выслушав Диогена, игумен протянул ему через отверстие выточенную из кости иконку Богоматери и сказал:
– Передай господину Варде этот святой образ и вели поклониться ему. Пусть он просит также и молитв преподобномученика Христова Фаддея, засеченного им. Если исполнит всё, как я говорю, может надеяться на выздоровление, я же, немощный, помолюсь о нем, как могу.
В тот же вечер игумен встал на молитву за своего гонителя. Когда Николай наутро открыл глаза, он увидел, что Феодор так и не ложился, но по-прежнему молился перед иконой Спасителя. Николай смотрел на игумена, почти затаив дыхание, и думал: «Как сподобился я страдать рядом с таким святым подвижником? За что мне это всё, Господи? И чем воздам?..»
Днем прибежал запыхавшийся Диоген, огласив митрополичий двор криками: «Хвала Всевышнему и Его угодникам!» – и сообщил, что утром стратиг встал с постели, как будто никогда не болел. В митрополии произошел переполох. Весть о том, что «нечестивый еретик и мятежник» за одну ночь исцелил своей молитвой бывшего при смерти Варду, облетела всю Смирну. Многие стали в открытую осуждать митрополита за бесчеловечное обращение с узниками, игумен одного из монастырей тут же отрекся от иконоборчества и был немедленно изгнан; правда, бичевать его митрополит не решился. Стратиг прислал своему исцелителю богатые дары и приказал митрополиту ослабить ему условия заключения, выпускать погулять во двор и относиться к узникам человеколюбиво.
Митрополит, опасаясь вконец потерять благоволение стратига, на третий день явился к Варде, будто бы справиться о его здоровье. Стратиг сказал, что вполне здоров, только немного слаб в ногах – видимо, от долгого лежания. Тут-то митрополит и предложил ему «благословенный елей» – натирать ноги, чтобы здоровье стратига «совершенно восстановилось». Феодор, узнав через того же Диогена, что Варда принял елей, освященный еретиком-митрополитом, горько вздохнул и сказал:
– Увы! Истину изрек апостол: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавшим возвратиться вспять от преданной им святой заповеди. Ибо с ними поистине произошло по пословице: пес возвращается на свою блевотину, и свинья, омывшись, – в кал тинный»! Господин Варда не поверил Богу и не исповедал до конца истины, но снова вступил в общение с этим ересеначальником, а потому придет на него прежняя болезнь, и смертью умрет несчастный!
Слова игумена сбылись спустя несколько дней: стратиг впал в тот же недуг и, пролежав два дня в беспамятстве и горячке, умер.
Император был в гневе. О, эти продажные епископы! Ведь этому Смирнскому митрополитишке приказано было никого не пускать к Феодору – никого, будь то турмархи, стратиги, кто угодно!..
На этом, однако, неприятности не кончились. Восстание, поднятое турмархом федератов Фомой, не так давно переведенным из столицы в фему Анатолик, грозило разрастись в серьезное выступление. Незначительные военные силы, посланные для усмирения бунтовщиков, против ожидания встретились с довольно большим войском, причем не из какого-нибудь сброда, а из людей, хорошо владевших оружием и настроенных решительно. Фома начал с того, что стал привлекать на свою сторону сборщиков податей – кого посулами, кого любезным обхождением, кого показным благочестием. Таким образом, он получил доступ к немалым денежным средствам, а с деньгами уже мог заманивать многих и многих… Надо было организовать быстрое подавление мятежа, а император не знал, на кого можно безбоязненно положиться.
Уже давно до Льва доходили сведения о том, что разные высокопоставленные лица с неодобрением отзываются о его политике, и теперь он сознавал, что даже не знает, кому можно доверять и не плетут ли за его спиной какие-нибудь козни те, кто на приемах подобострастно кланяется и восхваляет его за «мудрые решения». Да и хвалили не все: кое-кто осторожно отмалчивался, а некоторые, как становилось известно, уже открыто расточали похвалы другому. И кому же? – Не кому иному, как Михаилу, доместику экскувитов! Это раздражало Льва, помимо прочего, еще и тем, что косноязычному и неначитанному человеку, не явившему за прошедшие годы особенных доблестей, оказывали предпочтение перед ним, прекрасным военачальником, образованным и неглупым правителем… Да, его жесткая политика не нравилась многим, но почему эти люди сделали ставку именно на Михаила? «Нынче, как видно, любят шутов!» – с горечью думал император.
Впрочем, для полной уверенности в том, что налицо заговор, не хватало сведений: хотя мысль об этом витала в воздухе и время от времени осторожно высказывалась в ближайшем окружении василевса, но доподлинно известно было лишь то, что Михаил популярен в придворных кругах. В доносах чаще всего говорилось о крамольных речах доместика, сказанных в пьяном виде; но иногда поступали и сообщения о недружелюбных по отношению к императору высказываниях других придворных – большей частью друзей Михаила. И коль скоро они не боялись открыто болтать о таких вещах, не значило ли это, что они чувствуют за собой определенную силу?..
В довершение всех неприятностей, на третьей неделе поста под утро император увидел сон. Он стоял в каком-то сводчатом помещении, похожем на храм, полутемном и пустом. Вдруг стена перед ним как бы расступилась, и оттуда вышел епископ в сияющем белом облачении, с золотым омофором. Лев узнал его: это был покойный патриарх Тарасий. Патриарх приблизился к императору и, взглянув куда-то в сторону, позвал: «Михаил!» Тут же рядом возникла фигура человека, закутанная в темно-лиловый плащ с капюшоном, который был надвинут до носа и мешал разглядеть лицо. Патриарх, указывая на императора, сказал тому, кого назвал Михаилом: «Рази его!» И не успел Лев что-либо предпринять, как сверкнувший в руках Михаила клинок вонзился ему в грудь. Император вскрикнул и упал, обливаясь кровью. Он ощущал во сне, что умирает… умер!
Лев проснулся в холодном поту, вскочил, позвал кувикулариев, велел зажечь светильники, а сам, надев хитон, заходил взад-вперед по спальне. Ему вспомнилось пророчество монаха из Филомилия. Сначала Лев, потом Михаил! Неужели Шепелявый будет царствовать?.. И ведь всё сходится, всё!.. Дьявольщина! Но что же делать?..
Император отправился на половину жены и растолкал ее. Феодосия протерла глаза и сонно уставилась на мужа.
– Что с тобой? На тебе лица нет!
Он рассказал ей свой сон. Она помолчала, вздохнула и тихо проговорила:
– Прекратил бы ты борьбу против иконопочитателей, Лев! Ведь уж даже наши сторонники осуждают тебя! Неужели в тебе совсем нет человеколюбия?
– Дура! – сказал император и вышел из комнаты, хлопнув дверью.
– А ты – не безумец ли, идущий против рожна? – прошептала августа.
Она встала с постели и упала на колени перед Распятием. Чувствовалось, что надвигается страшное, необратимое… Но как же не хотелось верить в это!
…Николай, сгорбившись, сидел на соломенной подстилке и устало смотрел на Феодора. Смирнский митрополит после смерти стратига Варды стал зверствовать еще больше, чем прежде, стремясь отыграться за свой позор. С новой силой продолжались бичевания, обыски и аресты иконопочитателей, а «проклятого игумена» решили, видимо, уморить голодом – обычная мера хлеба и воды им с Николаем была урезана вдвое, а митрополит, насмехаясь, прокричал им в отверстие в стене:
– Сейчас пост, почтеннейшие, так что поститесь хорошенько, как перед смертью!
Только один из стражников, тайно сочувствовавший узникам, во время своей смены приносил им пищу в дополнение к той, что им выдавали, через него же они могли передавать для пересылки письма. На днях он принес Феодору записку от Диогена – турмарх сообщал, что митрополит уехал в Константинополь, сказав своим секретарям:
– Я упрошу императора послать со мной чиновника, чтобы отсечь этим негодяям голову или язык!
«Не знаю, – писал при свете единственной свечи игумен, – будут ли эти слова приведены в исполнение. Между тем мы уже приготовились к этому…»
– Кому ты пишешь, отче?
– Навкратию.
«Что я скажу и что изреку, кроме того, что тяжести ереси соответствует и тяжесть гонения? Подлинно, чего можно ожидать, когда отвергается Христос через унижение Его святой иконы? Не пролития ли крови и рассечения плоти? Не скорбей ли и воздыханий?..»
– Я устал, отче.
– Знаю, – игумен взглянул на Николая. – И Господь знает это и выше сил не даст испытаний. Разве ты не понимаешь, что сама наша жизнь до сих пор – сплошное чудо?
– Понимаю, но я устал…
Феодор отложив перо, посмотрел на ученика.
– Что ж ты у меня сегодня такой кислый, Николай? Признавайся!
– Прости, отче! – вздохнул тот. – Просто вспомнил нашу обитель, всех братий… Вспомнилось, как всё было когда-то… А будет ли еще так? И когда? Даже если и будет, не всех мы увидим рядом… Вот и Фаддей… Я понимаю, что малодушничаю, но… тяжело мне!.. Прости, отче, я бы должен благодарить Бога за то, что сподобился страдать рядом с тобой! Я и благодарю… Но я немощен! Вот отец Навкратий, верно, был бы тебе лучшим сострадальцем, он-то тверд духом…
– Все вы, да и я сам – порядочные нытики! – улыбнулся игумен. – Но уж если мы с тобой вместе, значит, так Богу угодно. А брат Фаддей теперь блаженнее нас!
– Да я всё понимаю, отче…
– Всё ли? Что для нас главное – ответь-ка!
– Главное?.. Верить православно… подвизаться, терпеть, надеяться… смиряться…
– Это средства. А я говорю о цели. Ты жалеешь обитель, скорбишь, что с некоторыми братиями мы уже не встретимся… Увы, это так. Думаешь, мне, по-человечески говоря, не жаль обители? До слез иногда жаль! Но какая у нас цель? Встретиться всем на небесах! О тех обителях и надо воздыхать, а будут ли у нас еще земные обители – это как Бог даст. Враг всегда рядом, и сейчас он на нас ополчился внешне, а в мирное время больше борет внутренне, но что из этого опаснее и тяжелее, брат? Так-то! Ободрись! – и игумен вновь взялся за перо.
«Пусть услышат восток и запад о том, что совершается в Византии, и воздадут хвалу. “Там, где умножился грех, преумножилась благодать”. Здесь сильна борьба, здесь кровь течет, орошая Церковь Христову обильнее потоков Едемского рая… Бог поистине с нами, и живет семя праведных, и содержит в себе Христа золотой род мучеников, которого не преодолели и не преодолеют врата адова, по обещанию Неложного…»
24. Кровавое Рождество
(Виктор Цой)
- Но кто-то должен стать дверью,
- А кто-то замком, а кто-то ключом от замка.
Ранним вечером 24 декабря император, выйдя из Консистории, увидел, что в соседней зале его ждет Феофил. Юноша подошел и поклонился.
– Государь, позволь мне сказать тебе несколько слов.
Лев взглянул на крестника с тайным смущением. Отец Феофила был арестован утром этого дня. Накануне соглядатаи, среди которых был подосланный лично императором Иоанн Эксавулий, сообщили василевсу, что Михаил во время званого обеда у патрикия Прота, напившись, стал похваляться, будто занять трон ему ничего не стоит, что его поддержит двор, что «по львиному отродью плачет Принкипо», а насчет императрицы пошутил, что она «еще ничего» и он возьмет ее в любовницы, потому что собственная жена его «мало любит»… Лев пришел в ярость и немедленно велел арестовать доместика. Сильно был Михаил пьян или нет, соображал он, что говорил, или нет, но позволить, чтобы такие разговоры безнаказанно велись придворными, было нельзя. В сочельник с утра Лев, собравшись с избранными синклитиками в Асикритии, быстро расследовал обстоятельства дела, допросив свидетелей. Эксавулий высказал мысль, что Михаил, быть может, так осмелел, узнав об успехах мятежника Фомы.
– Уж не действуют ли эти двое заодно, государь? – сказал спафарокандидат многозначительным тоном.
Император приговорил прежнего друга и соратника к смертной казни, причем не простой, а нарочно придуманной для этого случая, чтобы произвести впечатление на возможных сообщников Михаила: преступника должны были живым бросить в печь царской бани. Часам к двум пополудни всё было готово для исполнения приговора, но тут случилось непредвиденное. Императрица, узнав о грядущей казни, прибежала в Асикритий, где Лев, уже готовый идти смотреть на погибель Михаила, отдавал последние приказания эпарху. В простой тунике, с растрепанными волосами, без всякого убранства, Феодосия вбежала в залу и закричала:
– Лев, остановись! Не делай этого!
Император и окружавшие его чиновники в удивлении воззрились на императрицу. Василевс нахмурился.
– В уме ли ты, жена? – гневно сказал он. – Твое ли дело вмешиваться в это? И что это ты в таком виде? Если уж за себя не стыдно, так не позорила бы меня!
– О, Боже! – вскричала Феодосия. – Не думала я, что мой муж – богопротивник! Как ты можешь совершать такое злодейство накануне великого праздника? Ты не стыдишься даже того, что готовишься вечером причаститься Тела Господня! Или ты совсем потерял страх Божий? Разве не заповедал Господь прощать врагов? Что ты хочешь сделать!
– Речь идет о врагах престола, – сурово возразил Лев.
– Речь идет об отце Феофила! Друга твоих сыновей, который любит тебя, как отца! Хороший подарок ты готовишь ему к Рождеству! Неужто ты действительно «зверь», как называют тебя? Как ты не боишься Божия гнева? Остановись, молю тебя!
Император, действительно, как-то позабыл о Феофиле. Теперь при мысли о крестнике он смутился, а напоминание жены о причащении за вечерней службой устрашило его.
– Хорошо, – сказал Лев после небольшого раздумья. – Я пощажу его…
«Сегодня, – добавил он мысленно, – а после Рождества видно будет». Вслух он сказал:
– Но он всё равно останется под стражей.
– О, пусть под стражей! – воскликнула августа. – Только не предавай его смерти!
Император приказал пока держать Михаила в Священном дворце закованным в цепи, под охраной великого папии; ключ от кандалов Лев решил хранить при себе.
Но не успели еще папия с воинами, посланными исполнить приказ императора, покинуть Асикритий, как Лев повернулся к жене и мрачно сказал:
– Сегодня ты удержала меня от греха… Но как бы и тебе, и детям не увидеть вскоре воочию, что из этого выйдет!
Тяжелое предчувствие, охватившее его в тот миг, весь день томило его душу, камнем лежало в глубине… Он хотел поговорить с Сергие-Вакховым игуменом, но всё не мог найти свободного времени. Церемонии, приготовления к празднику, доклады, доносы… Нескончаемая суета!..
Лев смотрел на крестника, и задавался вопросом, зачем Феофил пришел к нему. Просить за отца? Благодарить за то, что император пощадил Михаила?..
– Государь, – сказал Феофил тихо, глядя в пол, – я благодарю тебя за милость, оказанную моему отцу… Но я пришел, прежде всего, не за этим. Я хочу сказать, – юноша поднял глаза, – что все безрассудные слова, сказанные отцом против тебя… и его мечты о престоле… всё это сущее безумие, и я… Я бы не хотел, чтобы ты думал, что я хоть как-то сочувствую отцовским замыслам! Мне было бы больно потерять твое доверие…
Император был растроган. Он знал, что крестник любит его, но теперь увидел, что эта любовь была гораздо глубже, чем он предполагал. Лев положил юноше руку на плечо.
– Мой мальчик, – почти нежно сказал он, – знай: что бы ни случилось с твоим отцом… что бы он ни делал… это никак не коснется тебя и никак не отразится на нашем отношении к тебе. Ты по-прежнему будешь желанным и любимым гостем во дворце. И пусть мрачные мысли не тревожат твою светлую голову!
– Благодарю, крестный! – тихо сказал Феофил.
Император обнял его и поцеловал в лоб. «Как странно, что у такого прекрасного мальчика такой мерзкий отец! – подумал он. – Впрочем, это бывает не так уж редко… как и противоположное…»
В этот день занятий не было, но после литургии Навечерия праздника императорские дети вместе с Феофилом собрались в «школьной» – слушать чтение Слова святителя Григория на Рождество Спасителя. Иоанн Грамматик, стоя у аналоя, читал творение великого богослова, всякий раз заново восхищавшее слушателей своим великолепием.
«Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на земле – возноситесь! Пойте Господу, вся земля! И скажу обоим в совокупности: “да веселятся небеса, и да радуется земля” ради Небесного, потом Земного! Христос во плоти – с трепетом и радостью возвеселитесь: с трепетом по причине греха, с радостью по причине надежды. Христос от Девы – девы, девствуйте, да станете матерями Христу! Кто не поклоняется Сущему от начала? Кто не прославляет Последнего? Вновь рассеивается тьма, вновь является Свет…»
Феофилу казалось непостижимым, что столь поразительное по красоте слово было сказано без всякой подготовки, как обычная проповедь: конечно, такое было возможно только по вдохновению от Духа!.. Когда чтение окончилось, все слушатели сидели притихшие, с восторгом на лицах. Императорские дети и не подозревали, что больше никогда не услышат такого чтения под сводами дворца. И не знал Феофил, прощаясь с друзьями «до завтра», что видит их в последний раз.
В это время в покоях великого папии стояла мрачная тишина, нарушаемая только звуками бросаемых костей: опальный доместик, чьи ноги были закованы в кандалы, соединенные двумя тяжелыми цепями, играл со своим молодым асикритом Феоктистом, которого одного только император разрешил оставить при узнике. Сам папия сидел в кресле у стола и рассеянно просматривал список приглашенных василевсом к завтрашнему праздничному обеду, порой бросая взгляды на игроков. Михаил всё время проигрывал, и это его очень злило, хотя игра шла не на деньги. Наконец, когда в очередной раз у Феоктиста выпало три, четыре и шесть против единицы, четверки и двойки у Михаила, доместик в сердцах сгреб кости в кучу и выругался.
– Ничего, господин, – примирительно сказал асикрит. – Может, в игре не везет, так повезет в жизни.
– Уже повезло! – саркастически ответил Михаил, пошевелив ногами; цепи звякнули одна о другую. – Куда уж больше!
– Слушай, дорогой, – сказал папия, отложив тетрадь на стол, – а что ты думаешь делать? Я сомневаюсь, что государь сменит гнев на милость. Праздники пройдут, и…
– А что ты предлагаешь? – Михаил исподлобья взглянул на двоюродного брата.
– Я? Ничего, – тихо ответил тот. – Хотел просто узнать, что ты задумал.
– Ишь, проницателен, шельма! – рассмеялся доместик. – Да уж, что бы ни задумал, а только… – он вдруг подмигнул папии и повысил голос. – Спалит меня августейший в своей печке, вот и весь сказ! И кто обо мне пожалеет? Даже жена, поди, не заплачет…
– Да ты что? – удивился папия так же громко.
– А что? Так и есть. Знаю я, как она меня любит! – Михаил опять понизил голос и ядовито усмехнулся. – Они с сыночком любят, видишь, образованных!
Папия взглянул вопросительно, но доместик не стал развивать тему, еще больше помрачнел и умолк, глядя в огонь, лениво долизывавший последнее полено в камине.
– Может, государь еще смилуется… – нерешительно проговорил Феоктист и тихо добавил: – А давайте кости кинем!
– Ну, кидай, – с усмешкой сказал Михаил. – Чёт! Выпадет – освобожусь!
Асикрит поболтал в глиняном стаканчике три кости и кинул. Выпало четыре, четыре и два.
– Опа! – Михаил оживился. – Кинь-ка еще раз! Теперь нечёт!
Феоктист снова бросил: выпали три тройки. Михаил и папия переглянулись.
– Ну, что ж, – прошептал доместик, – видно, филомилийский монах не ошибся… Слушай, Феоктист! Иди сейчас же к Проту… Там сегодня почти вся компания собралась, он и меня звал, да я вот, попал… И скажи им, что если они меня не освободят до утра, я их всех выдам императору!
– То есть как? – уставился на него Феоктист. – Да разве заговор действительно есть?!
Михаил усмехнулся.
– Есть заговор, нет заговора – дело десятое. Слухи о заговоре были? Были. Думаешь, если я теперь назову его участников, Лев станет по тонку разбирать, участвовали они в нем или нет? Ему недосуг, видишь! Мое дело он разобрал за час, судия нелицеприемный!
– А ты бы больше пил да болтал, умник! – прошипел папия. – Поглядел бы я, какой государь допустит, чтоб его подданные вели такие речи, хоть бы и спьяну!
– Да, я бываю болтлив, это правда… Но ведь я говорю то, что все остальные только думают! – ухмыльнулся доместик. – За то меня и любят… Ну вот, если любят, пусть и вызволяют! А мне терять уже нечего… Давай, Феоктист, лети!
– Умно, однако! – проговорил папия, глядя на Михаила с некоторым удивлением; он не ожидал от доместика подобного хода.
Асикрит поднялся и уже шагнул к выходу, но остановился.
– Господин, – сказал он тихо, – а ну, как ничего не выйдет… Что же будет с Феофилом, если откроется дело о заговоре?
– А что с ним будет? Ничего. Уж, верно, раз Лев его оставил при себе, даже решив меня сжечь… Феофил уж сколько лет тут ошивается… Ученые люди, не чета нам, невеждам! – в голосе Михаила против воли зазвучали нотки горечи. – Еленку вот только жаль, – пробормотал он. – Но что ж… моя женушка еще, в общем, ничего, вполне сможет себе нового мужа найти, если что! – он скривился в усмешке.
Дочь, родившаяся у них три года назад, стала для обоих супругов такой неожиданностью, что Фекла до сих пор словно была поражена недоумением, что же делать с этим новым ребенком. После рождения сына прошло тринадцать лет, и Фекла никак не предполагала, что у нее еще будут дети, да и не хотела их. «Что же я буду с ней делать?..» – думала она, глядя на маленькую Елену, лежавшую в колыбели. Это недоумение так и осталось у нее в глубине души, и хотя она старательно возилась с дочерью, но всё же испытывала некоторое облегчение, когда могла оставить малышку на попечение нянек, а сама садилась за книгу или общалась с сыном. Феофил тоже проявлял к сестре мало интереса. Правда, она вызывала у него любопытство как некое новое явление, и он изредка играл с ней, но всегда быстро соскучивался. Фекла думала, что когда сестра подрастет и с ней можно будет общаться, так сказать, «разумно», у Феофила появится к ней больше интереса, но пока этого трудно ожидать… Зато Михаил очень любил дочь, в свободное время всегда возился с ней, играл, носил на руках и всячески баловал. Фекла иной раз удивлялась, глядя, как нежно и бережно он обращается с Еленой…
«А ведь, может, не так он равнодушен к сыну, как Фекла считает, – думал папия, глядя на брата. – А уж в дочке-то души не чает! Что же будет, о, Господи?!..»
– Ну, давай, Феоктист, иди! – нетерпеливо сказал доместик. – Охранникам там скажи, что я тебя послал пригласить мне духовника, чтоб принять от него завтра последнее напутствие, – он усмехнулся.
– Да-да, иду, господин! Жди вестей к утру!
– Мне бы только выбраться отсюда! – прошептал Михаил.
Морозным утром Рождества Феофил, закутанный в подбитый мехом плащ, верхом на вороном иноходце поехал к литургии в Святую Софию. Августеон еще накануне украсили для торжественного выхода императора: портики вокруг площади были увиты плющем и лавром, а путь, по которому должна была пройти процессия, покрывали самшитовые и миртовые ветки. Оставив коня в стойле, юноша прошел в Великую церковь, куда уже стекался народ. Войдя в нартекс, Феофил увидел, что перед императорскими дверьми стоял всего один страж, и вид у него был напуганный. Юноша удивился, но еще не успел сообразить, что бы это могло значить, как кто-то положил руку ему на плечо. Он обернулся: перед ним стоял Сергие-Вакхов игумен, бледный, с таким выражением лица, какого Феофил еще никогда не видел у учителя.
– Иоанн! Что случилось?
– Феофил, ты… Сейчас расскажу… Пойдем! – Грамматик сделал ему знак следовать за собой.
Они поднялись на южные галереи и прошли в переход, ведший к патриаршим покоям. Встретившийся им протопсалт так странно взглянул на Феофила и так низко поклонился ему, что юноша вздрогнул от удивления, а в следующий миг у него сжалось сердце от предчувствия чего-то ужасного. Когда они очутились в примыкавшей к покоям патриарха комнате для посетителей, где в этот час никого не было, Грамматик остановился, обернулся, взял Феофила за локоть и отвел к окну. Несколько мгновений он молчал, собираясь с мыслями.
– Феофил, государь Лев убит во время утрени, и новым императором провозглашен твой отец. Коронация будет сегодня в Святой Софии.
Юноша содрогнулся и отступил на шаг.
– Как… его убили? – проговорил он глухо. – И кто?
– Заговорщики проникли во дворец рано утром. Они смешались с клириками, которые пришли на утреню. Государь защищался, но нападавших было много…
– А… Константин, Василий и остальные? Что стало с ними?
– Их всех вместе с августой уже отправили на острова.
Убит! Крестный, с которым он разговаривал еще вчера вечером!.. Убит в святом храме, во время службы! А друзья высланы, и он больше их не увидит! И убийцы провозгласили его отца… И он теперь – императорский сын!..
Феофил прислонился к стене; казалось, он сейчас потеряет сознание. Иоанн взял его за плечи, подвел к скамье, усадил и сам молча опустился рядом. Наконец, Феофил вышел из оцепенения, глубоко вздохнул и вдруг кинулся на грудь к учителю и заплакал, как ребенок.
Между тем слуги отмывали следы крови в алтаре Фарского храма Богоматери, где император встретил свою смерть. Феоктист справился с порученным ему делом: придворные, собравшиеся у патрикия Прота, узнав об угрозе доместика экскувитов, когда прошло первое потрясение, раздумывали недолго и в начале третьей стражи ночи, облаченные в священнические одеяния, под которыми было спрятано оружие, уже стояли у Слоновых врат вместе с дворцовыми клириками, пришедшими служить утреню. Отпиравший двери великий папия, если что и заметил, никакой тревоги не поднял. Беспрепятственно войдя во дворец, заговорщики затаились в одной из ниш недалеко от входа в храм. Феоктист, пробравшийся во дворец вместе с ними, побежал к Михаилу сообщить о том, что поручение выполнено. Он застал доместика бодрствующим.
– Ну, вовремя успели! – сказал Михаил.
Оказалось, что ночью, примерно за час до начала утрени, император приходил проведать узника. Здесь в это время все спали, причем папия уступил свою постель брату, а себе постелил тюфяк рядом на полу, сочтя, что если доместику предстоит казнь, то это будет ему чем-то вроде последнего утешения; если же узника удастся освободить, тем более не мешает ублажить будущего императора – в случае успеха предприятия папия собирался позаботиться о том, чтобы пророчество филомилийского отшельника стало явью. Не спал только юный слуга-евнух, которому папия велел поддерживать огонь в камине – ночь выдалась холодной. Огонь потрескивал, папия храпел, мальчик тоже клевал носом, как вдруг услышал, что в соседнее помещение кто-то проник – чуть скрипнула дверь. С перепугу мальчик юркнул под кровать. В комнату вошел некто со светильником в руках и тихонько приблизился к ложу Михаила. Мальчик увидел из-под кровати ноги ночного посетителя и едва не вскрикнул: на них были красные сапоги.
– Дьявол! – прошептал Лев. – Хорошо же его тут стерегут! – он приблизился к изголовью кровати. – Да он спит, как младенец! Ну, завтра я покажу им обоим!
С этими словами император удалился, а мальчик немедленно разбудил папию и доместика и пересказал то, что видел и слышал. Папия смачно выругался: было ясно, что теперь ни ему, ни Михаилу несдобровать. Но император опоздал. Когда на утрени пропели рождественский кондак, Лев, стоявший на клиросе вместе с певчими, – петь василевс очень любил, имел красивый голос и пел прекрасно – начал свой любимый ирмос седьмой песни канона: «Всецаря любовию уловленные отроки…» В этот самый миг заговорщики, ворвавшись в храм, набросились на певчих. Правда, в первый момент за императора приняли начальника хора – оба были одного роста и, ввиду холода, в одинаковых войлочных колпаках и теплых плащах: Лев был не при параде. Получив удар в спину, начальник хора, сообразив, что происходит, тут же обнажил голову, и нападающие, увидев его лысину, поняли свою ошибку. Тем временем император бросился в алтарь, заговорщики кинулись за ним. Всё происходило настолько быстро, что собравшиеся в храме поначалу совсем растерялись. Один из царских телохранителей устремился было в алтарь, но получил удар кинжалом в горло и упал, захлебываясь собственной кровью. Остальные присутствовавшие оцепенели от ужаса, а затем одни бросились к выходу, но другие, как завороженные, наблюдали за тем, что происходило в алтаре. А там шла борьба: император не собирался сдаваться и, схватив с престола тяжелый крест, отбивался им от нападающих; одного из них он ударил по голове с такой силой, что тот взмахнул руками и растянулся на полу. Но заговорщиков было много, удары сыпались отовсюду; кто-то ранил императора в плечо, на полу появились пятна крови; Лев постепенно слабел. Наконец, когда к нему бросился огромного роста – на голову выше василевса – армянин с мечом, взятым у убитого телохранителя, император, протянув вперед руку с крестом, воскликнул:
– Пощадите! Заклинаю благодатью Божией, обитающей в храме!
Но гигант только злобно усмехнулся и ответил, поднимая меч:
– Сейчас время не заклинаний, а убийств!
Страшный удар отсек одновременно верхушку креста и руку императора. Лев вскрикнул: «Господи, помилуй!» – и рухнул у подножия престола. В следующий миг его отрубленная голова покатилась по полу. На мгновение в храме настала тишина, а потом раздался голос патрикия Анфима:
– Охота на зверя окончена!
Когда синклитикам и прочим придворным, собравшимся в Лавсиаке, чтобы сопровождать императора в Святую Софию, была показана голова Льва, все застыли от ужаса. И в этой жуткой тишине раздался голос великого папии:
– Да живет Михаил, император ромеев!
Фекла в то утро проснулась с такой дикой головной болью, что осталась дома и не пошла в Великую церковь: одна мысль о том, что для сопровождения туда императрицы придется надевать на голову громоздкий венец-прополому, который носили патрикии-зосты во время торжественных выходов, внушала ей ужас. Она долго лежала с мокрой холодной тряпкой на лбу, а когда боль, наконец, немного отступила, с трудом поднялась и, поглядев в окно, увидела, что двор запорошен снегом. Небо затягивали облака, похожие на туман, но между ними кое-где проглядывала голубизна. Вспомнив происшедшее накануне, Фекла горько вздохнула, проклиная безумие мужа. Впрочем, Феофил, вернувшись вечером из дворца, утешил ее, пересказав свой разговор с императором… Но участь Михаила по-прежнему беспокоила ее.
Ближе к полудню голова совсем прошла, и Фекла решила почитать Псалтирь, но не успела прочесть и кафизмы, как явились два кувикулария из императорской свиты и сообщили, что «богоизбранную августу ожидают в Великой церкви». Фекла посмотрела на них как на сумасшедших и сказала, что если это шутка, то неумная, и их сейчас вышвырнут отсюда вон. Но когда она поняла, что никакой шутки нет, что император убит и муж действительно зовет ее на собственную коронацию, с ней случился нервный припадок. Служанки насилу успокоили ее, сами уже предвкушая возможность перебраться на службу в Священный дворец… Через час Фекла, изящно причесанная, одетая в лучший наряд и намащенная розовым маслом, закутавшись в заячью мантию, садилась в повозку, запряженную двумя белыми мулами в пурпурной, украшенной золотом упряжи. Кувикуларии следовали впереди и сзади верхом на лошадях, разгоняя зевак. Фекла была смертельно бледна и время от времени вздрагивала, как в ознобе. В голове бился вопрос: «Где Фео фил?» Ведь он пошел утром на литургию, а значит, уже всё знает… «Боже мой! Он не переживет этого!» Она даже не могла представить, как воспримет сын страшную новость, и холодела от ужаса.
Был второй час пополудни, и молва о случившемся уже распространилась: на улицах и площадях толпился народ, многие бежали на Ипподром, ожидая провозглашения нового императора. Восклицания слышались разные: кто ликовал, что «злой погиб злой смертью», а кто проклинал «убийц и мятежников»…
Когда повозка, где сидела Фекла, выехала на Августеон, Михаил и сопровождавшие его синклитики, чины и клирики уже вышли из Медных врат Священного дворца и торжественно следовали по площади к Святой Софии. Коронация могла бы состояться и раньше, но только после полудня удалось освободить ноги новопровозглашенного императора от кандалов. Ключ от них сначала не могли найти и пытались разбить их молотком, но безуспешно, и потому первое поклонение придворных в Золотом триклине Михаил принимал, сидя на троне с цепями на ногах. Но после поклонения Иоанн Эксавулий, уже три года занимавший должность логофета дрома, сообщил Михаилу, что знает, где ключ, и принесет его, если получит позволения зайти в императорские покои. Ключ действительно был найден на дне шкатулки, где Лев хранил особо важные письма и документы, и Михаил на радостях тут же подписал указ о возведении Эксавулия в чин патрикия. Казалось, его нисколько не смущала мысль о том, что тот, чей трон он занял, всего несколько часов назад убит прямо в церковном алтаре. Многие из чиновников, хотя уже немало повидали за время службы при дворе, про себя дивились его спокойствию. Михаил торжественно вошел в Великую церковь через южные двери нарфика, а Феклу чины кувуклия внесли на галереи в роскошном паланкине, что было очень кстати – она была близка к потере сознания. Наверху она без сил опустилась в кресло и не вставала в течение всей церемонии, как во сне, слушая возгласы войска и чинов:
– Услыши, Боже, Тебя призываем, услыши, Боже! Михаилу – жизнь, услыши, Боже! Михаил будет царствовать! Боже Человеколюбче, государство просит в императоры Михаила. Михаила в императоры просит и войско. Михаила принимают законы. Михаила принимает дворец. Таковы мольбы двора, таковы решения войска, таковы желания Синклита, таковы мольбы народа. Михаила ожидает мир, Михаила принимает войско. Общественная краса, Михаил, да выйдет! Общественное благо, Михаил, будет царствовать!..
Патриарх Феодот в своей обычной медлительной манере читал молитвы на коронацию, и только бледность выдавала его волнение. Наконец, под торжествующие крики собравшихся, царский венец был возложен на главу того, кого еще вчера, если б убитый император исполнил свое намерение, проклинали бы как погибшего и отверженного злодея.
– Августейший Михаил, ты побеждаешь! – раздавалось под сводами Святой Софии. – Благочестив ты и священен! Бог нам тебя даровал, Господь сохранит тебя. Почитая Христа, всегда побеждаешь! Многая лета, Михаил, будешь царствовать! Христианское царство Бог да хранит!..
Вечером, после того как в Августее состоялась коронация Феклы, после того как в храме Святого Стефана император и императрица приняли поздравления чинов, после того как в Оноподе патрикии и синклитики пали ниц перед новой августой и, поднявшись, возгласили многолетие, после торжественного обеда в триклине Девятнадцати Лож, после того как откланялись все приглашенные, великий папия запер двери Священного дворца и император с императрицей остались вдвоем в покоях василевса, Фекла подошла вплотную к мужу и, гневно сверкая глазами, воскликнула:
– Не знала я, несчастная, что я замужем не за человеком, а за зверем! Что ты сделал! Как ты посмел?! Как у тебя руки не отсохли? Как не поразил тебя Бог за твои злодейства? Воистину, велико Его долготерпение! О, почему я не умерла раньше, как мои сестры?.. Еще вчера я была честной патрикией, а теперь я – жена убийцы, убившего императора, осквернившего Божий храм!.. Зверь! зверь!
Она упала в кресло и залилась слезами. Михаил с изумлением выслушал эту филиппику из уст супруги. В упоении удачей, с головой, кружившейся от славословий и многолетий, от всеобщего почтения и лицезрения чинов, падавших пред ним ниц, новоиспеченный василевс, хотя и заметил, что его жена не выказывала особой радости о происшедшем, всё же не ожидал от нее подобных упреков. Но удивление почти сразу сменилось злостью. Михаил стоял, скрестив руки, и холодно смотрел на жену, ожидая, когда она успокоится. Наконец, Фекла перестала плакать и затихла, опустив голову и стиснув руки.
– Я всегда знал, что ты глупа, но не настолько же! – сказал Михаил тихо, хотя голос его временами подрагивал от сдерживаемого гнева. – Другая бы на твоем месте благодарила Бога, а ты бьешь копытом, как необъезженная лошадь! Запомни раз и навсегда: я не хочу слышать никаких обсуждений моих нынешних действий. Так хотел Бог, таково было пророчество, так должно было случиться и случилось, а ты своим воем только гневишь Бога. Ты говоришь, я убил императора? Во-первых, его убил не я, а другие люди. Если же Синклиту было угодно провозгласить императором меня, то кто я, чтобы противиться провидению? А во-вторых… скажи-ка, дорогая, если бы в свое время удался мятеж Вардана, и Никифора убили – ну, или ослепили, уж это как пить дать! – ты тоже вопила бы и называла меня злодеем? А?.. Да ты в первых рядах ввалилась бы в этот дворец!
Фекла вскинула голову, хотела было ответить, но опустила глаза и промолчала.
– Ага, молчишь. Сказать тебе нечего, потому что я прав. Я знаю, ты никогда не любила меня и презирала, но я терпел это, потому что бабы вообще глупы и злонравны… Но сейчас терпеть твое злословие я не намерен. Или радуйся моей удаче, или, дьявол побери, прикуси язык!
– Михаил, – тихо сказала Фекла, – я и тот мятеж тоже не одобряла! Я очень боялась тогда… Это была ошибка, ужасная ошибка, и Вардан за нее жестоко поплатился! И теперь… кто знает, что ждет нас с тобой в будущем?
– У Вардана ничего не вышло потому, что на то не было воли Божией! Ведь я видел, какой оглушенный он уехал тогда от монаха, а это могло значить только одно – отшельник сделал ему плохое предсказание. Но он не послушался – ну, и получил свое. А обо мне пророчество было другим!
– Так что же, что другим? Тебе предсказали только восшествие на престол, но не обещали долгоденствия на нем! У нас императоров меняют, как стоптанные башмаки! Сегодня один, завтра другой… Сегодня он пасет свиней, а завтра носит царский венец… Сегодня ты на троне… но где ты будешь завтра – Бог знает!
– Не трясись раньше времени! Сейчас почти все за меня! Вот только Фома чудит там, на востоке… Но уж с ним-то я управлюсь!
– Может быть, – вздохнула Фекла, уже готовая покориться судьбе. – Только… сына ты потерял. Он никогда не простит тебе этого!
Михаил нахмурился, но ничего не ответил. В комнате повисло тяжелое молчание. Наконец, император сказал:
– Завтра надо будет перенести его в здешние покои.
Они уже знали от Грамматика, что Феофилу стало плохо, юношу уложили в одной из комнат в патриархии и вызвали к нему придворного лекаря. Врач нашел душевное потрясение, прописал травяную настойку и полный покой.
– И ты думаешь, он сможет жить в комнатах своих бывших друзей, которых ты… – Фекла умолкла, не в силах продолжать.
– Глупости! – сурово сказал Михаил. – Он не девочка! И он – будущий император. А значит, должен смочь.
Фекла посмотрела на мужа с некоторым удивлением: в его голосе зазвучали нотки, доселе ей незнакомые. Она вздохнула, но промолчала. Глядя на новоиспеченного василевса, она силилась понять, как он мог после всего бывшего сохранять почти олимпийское спокойствие, не чувствовать, казалось, ни малейшего смущения, никаких угрызений совести…
– Вот что я думаю насчет нашего сыночка, – сказал Михаил, – надо его как можно скорее женить.
– Женить?! – воскликнула Фекла. – Сейчас это невозможно! Слишком много волнений…
– Ну, я не говорю, что это надо сделать прямо завтра… Но к Пасхе желательно определиться с невестой и назначить день свадьбы. Я хочу поскорей женить его и короновать соправителем, это нужно сделать на Пасху либо на Пятидесятницу. Но мне сейчас будет недосуг заниматься поисками невесты… Поэтому займись-ка этим ты. Довольно ему болтаться и прохлаждаться! Теперь началась новая жизнь!
– Да, – прошептала Фекла обреченно, – началась новая жизнь…
Феофил несколько дней пролежал в горячке, но молодость и здоровье взяли свое, он быстро оправился и вернулся к повседневной жизни, ставшей жизнью императорского сына и наследника престола великой Империи. На первый взгляд, происшедшее не оставило в нем следов, но, присмотревшись, можно было заметить, что это не так: что-то жесткое появилось в его взгляде, скулы заострились, линия рта стала тверже; и прежде довольно сдержанный, он стал еще непроницаемее для посторонних. Вопросив об участи детей убитого императора и узнав, что они сосланы в монастырь на остров Прот, где их оскопили – причем Феодосию это стоило жизни, и он был похоронен в одной могиле с отцом, а Василий в результате увечья онемел, – Феофил сильно побледнел, но ничего не сказал; люди недалекие могли бы даже подумать, что ужасная судьба бывших друзей его мало тронула. Он быстро вошел в новую роль, поскольку в прошлом, проводя много времени во дворце, прекрасно изучил здешние распорядки и обычаи. Его не нужно было учить, как себя держать; своей внешностью, манерами, умом и речью он вызывал всеобщее восхищение; придворные перешептывались, что Феофил словно бы «родился в пурпуре», – говорили даже, что уже ради такого наследника престола Михаила стоило короновать…
С отцом Феофил обращался подчеркнуто вежливо, но холодно. Впрочем, поскольку они и раньше мало общались между собой, Михаил как будто не придавал этому значения, довольствуясь тем, что все наперебой выражали ему восхищение сыном. С матерью Феофил был по-прежнему нежен, но в откровенность больше не пускался, и она не могла понять, что происходит у сына в душе; ей казалось, что Феофил словно замерз изнутри. «Оттает ли?» – думала она и по вечерам молилась перед Распятием в своих новых покоях:
– Господи! пожалей его! Утешь его! Не попусти, чтобы это сломало его, дай ему сил! Дай сил нам всем…
Впрочем, был один человек, с которым Феофил продолжал общаться по-дружески и говорить по душам, – Иоанн Грамматик. Они каждый день занимались философией и часто подолгу засиживались в «школьной». Но какие книги они читали и о чем разговаривали, Феофил матери больше не рассказывал.
Что до игумена Сергие-Вакхова монастыря, то он, хотя внешне сохранял спокойствие, внутренне пережил немалое потрясение. Конечно, он не забыл о пророчестве насчет убитого императора и его преемника, но его осуществление таким ужасным образом поначалу настолько вывело Иоанна из равновесия, что всю ту неделю, пока Феофил лежал больной, игумен провел в смутных мыслях. Ему даже пришел помысел бросить всё и, забрав свои книги, переселиться на Босфор, чтобы до конца жизни предаваться в тиши собственного имения философским рассуждениям и изысканиям в области астрономии и химии, которые в последнее время захватили его почти с головой. Но Грамматик тут же отогнал эту мысль: малодушие! Нет, теперь уж что бы ни было, а останавливаться глупо. Тем более, что никаких пугающих пророчеств относительно воцарившейся династии не известно, и раз уж ему суждено было стать учителем будущего императора… Ставка слишком высока – юноша далеко пойдет! В этом Иоанн не сомневался: ум и способности своего ученика он оценил давно.
…Когда Феодор прочел письмо, пришедшее от брата Навкратия, он воздел руки к закопченному потолку темницы и воскликнул:
– «Познаётся Господь, творящий суд: в делах рук своих увяз грешник»! – и на вопросительный взгляд Николая произнес: – Император убит в день Рождества Спасителя.
– О, Господи! – только и мог сказать Николай.
Через неделю они были освобождены из заточения: указом нового василевса, изданным на третий день после коронации, все содержавшиеся в темницах за почитание икон выпускались на свободу.
– Неужели новый государь восстановит православие, и нашим мучениям конец? – этот вопрос, заданный Николаем, звучал по всей Империи.
– Бог знает! – задумчиво сказал Феодор. – Начало хорошее, но что будет дальше? Увидим… В любом случае, надо благодарить Бога за нынешнее избавление!
В тот же вечер Феодор диктовал Николаю окружное послание всем исповедникам, которое надлежало разослать как можно шире, с просьбой переписывать и посылать знакомым и друзьям.
«Святым исповедникам, отцам и братьям», – написал Николай на листе пергамента. Впервые за долгое время у него в руках было совершенно новое костяное перо и хорошие чернила, он сидел за столом у большого окна в одной из комнат в доме турмарха Диогена, который принял к себе освобожденных монахов; Феодор расположился тут же в удобном кресле. Оба исповедника чувствовали себя немного странно – на свободе, вымывшись в бане и переменив ветхую и грязную, месяцами не снимавшуюся одежду, сидя в светлом просторном помещении, накормленные и обласканные хозяевами дома, почитавшими их за живых святых… Казалось, что это сон, что он вот-вот прервется и они проснутся всё в той же вонючей темнице…
И словно чтобы удержать эту новую действительность, Николай старательно, порой сильнее обычного нажимая на перо, выводил на пергаменте слова игумена: «Ныне время воскликнуть с Давидом: “радуйтесь, праведные, о Господе, правым подобает похвала”; ибо услышал Господь со всеми прославленными вашу усердную молитву. Что же случилось? “Погиб нечестивый”, сокрушен терзавший нас. Вы победили сына нечестия, низложили свирепого зверя, коварный ум. О, возлюбленные, как сильна кровь ваша! Она истребила пагубного мучителя…» Феодор обращался и к их погибшему гонителю: «Познай, христо-ненавистник, как силен голос тех, чью плоть ты терзал, посмотри, злоумышленник, сколько успел ты против Христа! Ты усиливался “переть против рожна” и низвергся с шумом: излилась, если не внутренность, то нечистая кровь твоя из трех ран, как из нападавшего на Троицу чрез унижение святой иконы Христовой», – а затем вновь возвращался к исповедникам: «Вы – христоносные мужи, питомцы благочестия, помазанные ароматами бессмертия, победители врага. Вы – крепость Церкви, утверждение веры, слава вселенной. Ваша память достохвальна и передастся грядущим векам», – и выражал надежду, что «Бог, даровавший благоприятное начало, устроит за началом такой же и конец, и вознесется рог мирного православия».
После приписки ученика: «Брат ваш Николай по обычаю приветствует вас», – игумен, взяв у него перо, поставил подпись: «Смиренный Феодор, игумен Студийский».
Часть III. Золотое яблоко
Александр Блок
- Вот явилась. Заслонила
- Всех нарядных, всех подруг,
- И душа моя вступила
- В предназначенный ей круг.
1. В ожидании весны
Надобно благодарить Бога, когда подает Он блага, и не выходить из терпения, когда не ущедряет ими… потому что Бог, без всякого сомнения, распоряжается нашими делами лучше, нежели как предначертали бы мы сами.
(Св. Василий Великий)
Освободившись из заключения, Феодор с Николаем прожили неделю в Смирне, а затем, снабженные местными жителями всем необходимым в дорогу, направились в сторону Константинополя. Их везде встречали с радостью и почетом; всюду при известии, что идет Студийский игумен, стекались толпы людей; знатные вельможи спорили между собой о том, кто первый встретит исповедника, примет его в дом, приготовит угощение и дары. В Митате исповедников поселил у себя ипат Лев, во время гонений тайно державшийся иконопочитания и помогавший православным. Феодор с Николаем прожили у него две недели, и здесь игумен получил письмо от патриарха. Никифора освободили из-под надзора, однако пока не разрешили въезд в столицу, хотя в остальном в передвижениях не ограничивали; патриарх, впрочем, был нездоров и оставался всё в том же Свято-Феодоровском монастыре. Никифор писал, что Феодот Мелиссин, как говорят, при смерти, но до сих пор не слышно ничего определенного о намерении императора вернуться к православию – это беспокоило патриарха. Феодору он расточал множество похвал и даже назвал себя его духовным сыном, что поразило игумена. В свою очередь, Студит постарался ободрить патриарха: «Благословен Бог, в это смутное время нечестия даровавший Церкви Своей такого поборника и кормчего, непоколебимого, непреклонного, владеющего словом жизни, озаряющего вселенную светом исповедания. А оттого, что еще не прошла зима, хотя и показалось некоторое легкое освежение, не надобно унывать, преблаженный. Господь, даровавший малую искру мира, умилостивляемый твоими богоприятными молитвами, силен распространить и полную весну православия…»
– Отче, – сказал Николай, запечатывая послание, – я тоже начинаю сомневаться в том, что весна православия наступит. У императора, боюсь, на уме прежде всего не благочестие, а мысли о том, как удержаться на престоле. Сейчас он освободил всех заключенных за веру и тем ублажил православных и тех, кто им сочувствует. Но осуждение иконоборцев может вызвать недовольство у многих… Пойдет ли государь на такой шаг? Не решит ли он, что хватит и уже оказанных нам благодеяний?
– Да, такое опасение есть, – задумчиво ответил Феодор, – и я боюсь, что для него существуют и иные основания. Господь некогда велел Моисею сорок лет водить иудеев по пустыне, пока не умрут не пожелавшие войти в землю обетованную. А среди нас еще много тех, кто когда-то оправдывал эконома Иосифа и до сих пор не склонен признать свои ошибки…
– Значит, ересь не прекратится?
– Увидим. На всё воля Божия, брат!
Между тем отовсюду стали собираться студиты, быстро узнавшие, где находится их игумен, а вскоре прибыл и освобожденный из заключения архиепископ Иосиф. При свидании братьев все окружающие не могли удержаться от слез, видя, как приветствовали друг друга два подвижника, всё еще истощенные после заточения, с бледными, но сияющими лицами… Посовещавшись с братом, игумен решился написать новому императору письмо, где благодарил Михаила за освобождение гонимых православных и призывал восстановить иконопочитание.
Когда исповедники добрались до Брусы, где поселились в доме одного нотария, к Феодору уже на другой день стали приходить монахи, жившие в многочисленных обителях Олимпа, чтобы получить благословение и наставление. Игумен всех принимал радушно и для каждого находил краткое слово на пользу души. Почитатели приносили столько всего, что Феодор мог щедро угощать и даже одаривать приходящих. Студийскую братию охватило воодушевление: все вокруг спешили припасть к ногам исповедников православия, и казалось, что близко то время, когда можно будет вернуться в родную обитель и зажить по-прежнему. Надежды еще более подогрела пришедшая из Константинополя новость о смерти патриарха Феодота: он давно страдал каменной болезнью, а потрясение, испытанное им из-за убиения императора Льва, обострило ее, приступы следовали один за другим, и в конце января Мелиссин умер.
Однако о восстановлении иконопочитания по-прежнему не было слышно ничего – напротив, из столицы стали доходить слухи, что государственным исповеданием император хочет оставить иконоборчество. Вскоре асикрит Стефан сообщил Феодору в письме о нескольких своих разговорах с новым василевсом: Михаил слушал призывы вернуться к почитанию икон, не выказывая явного неодобрения, но соглашаться не торопился, делая вид, что раздумывает. Иоанн Грамматик по-прежнему оставался во дворце на положении всеобщего любимца, и Стефан подозревал, что колебания императора во многом связаны с тлетворным влиянием на него Сергие-Вакхова игумена, который к тому же был чем-то вроде кумира для императорского сына… Церковное управление после смерти Феодота было поручено Антонию Силейскому, и Стефан предполагал, что именно он является наиболее вероятным кандидатом в патриархи.
«“Слушайте, небеса, и внимай, земля”, – писал Феодор в ответ асикриту. – Что за безумие объяло народ Божий? Слушайте, восток и запад, как ослепла Византия, как оглохла, не слыша вашего обличительного голоса, не видя доказательств вашего свидетельства, но слушаясь противников Христовых, Ианния и Иамврия, пагубную двоицу, которую, как я наверняка знаю, скоро поразит Троица, так что с двумя нечестивцами, уже погибшими, погибнет и эта двоица, четвероглавая колесница диавола. Итак, вперед, вперед, брат, еще выступай на подвиги. Говори благое досточтимому слуху благочестивого императора нашего!» Студит отправил письма и некоторым другим влиятельным при дворе лицам, умоляя их ратовать за православие и что есть силы убеждать императора восстановить иконопочитание.
Тем временем в доме Марфы с начала января царило радостное оживление: впервые за столько лет можно было открыто принимать исповедников, и особняк наполнился гостями, в основном это были студиты. Выпущенный из тюрьмы Дорофей, поселившийся вместе с братом Симеоном во флигеле, жаловался, что хозяйки совсем его «закормили». Приехавший вскоре Зосима с восторгом сообщил, что Феодор, Николай, Навкратий и другие братия тоже выпущены и игумен наверняка скоро будет в столице. В воздухе витало ожидание новых перемен, все были воодушевлены надеждой на скорое торжество иконопочитания. Но после того, как Марфин брат сообщил, что новый император хочет всеобщего замирения и прекращения споров, Кассия приуныла: если восстановления православия не случится, то как быть с ее намерением принять постриг? Хотелось поговорить обо всем с Феодором, и она молилась о том, чтобы игумен поскорее прибыл в Константинополь.
А дядя снова завел речь о замужестве племянницы – правда, в ее отсутствие, только с сестрой. После ужина Марфа сказала дочери, тяжело вздохнув:
– Как Георгий мне надоел! Вот я никогда не вмешивалась в то, как он воспитывал своих детей, а он считает своим долгом постоянно поучать меня на этот счет!.. И всё рвется скорей выдать тебя замуж. Хоть что с ним делай! Сколько уж я говорила ему, а он опять за свое… Правда, ты молода, и пока еще можно ждать, но когда-нибудь всё-таки придется ему сообщить о твоих намерениях… Я даже боюсь представить, что он тогда скажет!
– А не всё ли равно? – сказала Кассия немного сердито.
– Тебе-то, может, и всё равно, – вздохнула Марфа, – а мне выслушивать его крики и укоры…
– Да, – грустно отозвалась девушка. – Вряд ли он перестанет выдавать меня замуж в ближайшее время… Да и о ком ему заботиться, как не обо мне? – она усмехнулась. – Своих детей он уже всех устроил…
Анна, дочь протоспафария, благополучно вышла замуж за ипата, Марфа была на свадьбе племянницы и потом рассказала дочери, что пара выглядела очень красивой и счастливой… «Вот они, раскрашенные гробы, в которых скрыты страшные скелеты!» – с горечью подумала Кассия, вспомнив теперь об этом.
– Главное, он делает вид, что заботится о нас с тобой, а на самом-то деле думает о собственной выгоде, – сказала Марфа. – До чего противно иной раз слушать его!
– Главное, чтобы ты не склонилась на его сторону, мама, – улыбнулась Кассия, – а вдвоем мы дадим ему отпор!
– Я?.. Как я могу, ведь я же обещала Божией Матери, ты знаешь…
Да, Марфа готовилась сдержать данное шестнадцать лет назад обещание, но иногда ей было чего-то жаль. Красоты ли дочери, которую та собиралась упрятать под черные одежды, внуков ли, которые от нее не родятся?.. Втайне Марфа радовалась, что младшая дочь растет несколько легкомысленной, по сравнению с сестрой, – по крайней мере, ни о каких монастырях она не думала и любила играть «в семью»; пожалуй, от нее Марфа дождется внуков, если Бог благоволит… «Странно, – думалось ей, – когда я вымаливала первого ребенка, я думала только о нем, а сейчас, получается, думаю уже о продолжении рода…» Впрочем, если б Кассия и передумала идти в монастырь, ей теперь не так легко угодить. Какой ей муж-то нужен, чтоб она с ним не заскучала!.. Но вообще-то… этот молодой учитель…
Лев, впервые переступивший порог их дома в начале октября с рекомендацией от одного из уважаемых в столице преподавателей, предложив себя в качестве учителя для Кассии, нравился Марфе всё больше и больше. Пожалуй, если б он вздумал посвататься к Кассии и та согласилась бы, Марфа была бы совсем, совсем не против, несмотря на его бедность и некоторую неказистость… Зато во всех других отношениях – как хорош! Умен, поразительно начитан, такого спокойного характера, рассудительный, но и пошутить умеет… обаятельный… Да, очень обаятельный! Он напоминал Марфе покойного мужа. Правда, оставался еще один вопрос: отношение к иконам. Чтил Лев иконы или нет, было непонятно: Марфа с Кассией с самого начала решили не разговаривать с ним об этом, сам же Лев никогда не затрагивал вероучительные вопросы. Но Марфе казалось, что если он и не принадлежал к иконопочитателям, то и рьяным иконоборцем тоже быть не мог. По крайней мере, он был рад тому, что новый император прекратил гонения, и не выказал никакого недовольства, когда дом его ученицы наполнился гостями из числа монахов-исповедников. Да, вот со Львом Кассии не было бы скучно, это точно! Это ведь не те сыновья знакомых Георгия, чьи достоинства он опять расхваливал ей на днях… каковые достоинства сводились к размерам отцовских имений и количеству «выгодных связей» у родителей, да еще умению хорошо ездить верхом. Нет, вполне вероятно, что многие из них были так или иначе образованы и начитаны, но эти качества возможных женихов никогда не интересовали Георгия. А Лев… да, Лев – совсем другое дело! И не книжный червь, нет, – один раз он с улыбкой рассказал о том, как на Андросе ему пришлось перескочить верхом на лошади через глубокую расселину.
– Единственное, чего мне жаль, так это – что в той пропасти я потерял книгу Евклида, которую вез с собой! Пришлось потом заново ее переписывать.
– Что же тебя заставило скакать по пропастям? – спросила Марфа.
– Да вот, остров-то во многом дикий, особенно в гористой части. И пираты заглядывают, и разбойники попадаются, грабят по дорогам. А я из одного монастыря возвращался как раз, еду лесом, и тут окружили меня человек пять, с ножами, а один с дубиной. «Стой, – говорят, – чего везешь? Выкладывай денежки!» А у меня и денег никаких не было, только книга с собой и кусок хлеба засушенный. Я им так и сказал – не верят. Хочу проехать, а один из них достал веревку и лошадь мою заарканил. Ну, тут я вытаскиваю свой кинжал – а я с собой всегда возил, на случай, длинный такой, острый, – чик! – и веревку перерезал. Тот, что ее кидал, упал, остальные растерялись, а я лошадь стегнул – и вперед! Гляжу – а навстречу мне еще двое, верхом. Всё, думаю, попал… Свернул быстро в лес, на какую-то тропку, они за мной, я вперед, тут гора, я туда, сюда – и выехал к той расселине. Она не очень широкая была, но глубокая… Страшно, конечно, но, думаю, «лучше впасть в руки Божии, чем в руки человеческие», помолился про себя… Лошадь-то у меня хорошая была. Перемахнули мы с ней. Но пока я по лесу продирался, не заметил, как сума у меня развязалась, и вот, Евклид, только что переписанный, в той расселине и нашел свое последнее пристанище.
– А разбойники? – спросила Кассия.
– Они за мной прыгать не решились, – улыбнулся Лев.
– Ты, господин, прямо герой! – сказала Марфа.
– Герои разве по лесам от разбойников бегают? – молодой человек рассмеялся.
– Ну, – сказала Кассия, – главное ведь, ты с кинжалом ловко их обошел!
– Да, это меня спасло, конечно…
Однажды Марфа спросила у дочери, нравится ли ей ее новый учитель.
– Да, он очень хороший, – ответила та. – Учиться у него – одно удовольствие!
Но и только. Кажется, кроме как в качестве учителя, Лев не вызывал у девушки никакого интереса. А она у него? Как ни странно, вроде бы тоже. По крайней мере, он держался строго в рамках приличий, как и обещал Марфе с самого начала, и ничто в нем не выдавало, что он питает к Кассии какие-либо чувства, кроме дружески-деловых. И это было даже еще удивительнее… Нередко приходя послушать уроки Льва и глядя на то, как молодой человек что-то читает или рассказывает, а потом задает вопросы, как Кассия слушает, отвечает, спрашивает сама, Марфа вспоминала, как познакомилась с Василием. Да, сначала они просто вели беседы, но очень скоро – уже чуть ли не после третьей встречи и нескольких писем – возникла глубокая внутренняя связь, пришли другие чувства, другие ощущения… А тут – как будто совершенно ничего, хотя вроде бы столько общего!
И Марфа, вздыхая, всё усерднее повторяла про себя строчку из молитвы Господней: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе…»
…Когда Фекла в середине Великого поста сообщила сыну о намерении Михаила после Пасхи короновать и женить его, Феофил был раздосадован: меньше всего ему хотелось сейчас думать о браке. Но он понимал, что не следует перечить отцу, ведь речь шла не о личной жизни императорского сына, а о политике: наследника престола надо было женить и короновать как соправителя, чтобы укрепить позиции новой династии, а из-за мятежа Фомы это становилось еще более насущным. «Необходимость властвует! С отцовской волей строгой тяжело шутить», – вспомнилось ему из Эсхила. Впрочем, отец, конечно, прав: женитьба будущего императора имеет государственное значение, и нынешние обстоятельства не располагают тянуть время…
Феофил сам удивился своим холодным логическим объяснениям отцовского решения, а ведь речь шла о такой вещи, которая должна была навсегда изменить его жизнь. И вот, он рассуждает об этом так спокойно и взвешенно, как человек, заботящийся исключительно о благе государства, – будущий император… Но ведь жена – на всю жизнь!..
– Что ж, отец и невесту выбрал? – спросил Феофил у матери.
– А вот невесту, – сказала с улыбкой императрица, – ты будешь выбирать сам. Тебя ожидает самый настоящий выбор невесты, готовься!
– Выбор? – Феофил усмехнулся. – Как для Константина, сына Ирины?
– О нет, совсем не так! Ну, точнее, не совсем так. Изначально девушек будем подбирать мы, но мы только соберем несколько подходящих, а окончательный выбор будет за тобой. Так что у нас здесь будет собрание прекраснейших девиц со всей страны!
– Хм… Позаботьтесь еще о том, чтобы они… не были слишком тупыми!
– О, конечно! – опять улыбнулась Фекла. – Об этом я позабочусь. Отец поручил подготовку смотрин мне, сам он этим заниматься не хочет.
– И слава Богу! У нас с ним слишком разные вкусы.
– Да, но ни он, ни я не собираемся что-либо навязывать тебе… Я рада, что ты не против самой затеи.
Феофил взглянул на мать, но ничего не сказал. «Даст Бог, – подумала Фекла, – это его развлечет, отвлечет, и если жена будет хорошей, она вернет его к жизни… А то он всё какой-то замороженный ходит. Бедный мальчик!»
Когда императрица ушла, Феофил задумался. Выбор невесты!.. Поэтично! Выбрать самую достойную… Достойную в каком отношении? Самую красивую? И чем тогда он будет отличаться от… Бедный Константин! Какая участь его постигла! Недолго он тешился любовными забавами, а теперь навсегда лишился и самой возможности этого… Был ветреником, стал монахом… Вот перепады судьбы! А он-то, верно, был бы рад таким способом жениться…
Итак, что же? Самую красивую? Самую благочестивую? Самую умную? Что-то было ложное в этом «самая»… Главное ведь не в том, чтобы невеста оказалась «самой-самой», а чтоб она виделась такой жениху. Но с первого взгляда бывает хорошо видна только телесная красота, а что до всего остального – как тут понять, увидев девицу впервые в жизни? Положиться на волю судьбы?.. Феофил вспоминал прежние разговоры с Константином о «вечной любви» и думал, что чтителю «Афродиты пошлой», конечно, легко было бы жениться через выбор невесты – для этого, кроме телесной красоты, в сущности, ничего не нужно. А вот с «Афродитой небесной» гораздо сложнее… «Прекрасно любить» женщину, того достойную, чтобы «родить в прекрасном»? По Платону, выше телесного – духовное деторождение. «Вынашивать разум и прочие добродетели…» Это, конечно, ближе к монашеству, недаром у отцов именно монашество получило название «философского жительства»… Но на этот путь его никогда не влекло, а если б и влекло, то теперь для него дорога туда всё равно закрыта: сын императора может выбирать не между браком и монашеством, а только между невестами.
Но если жена будет действительно другом, единомышленницей, тогда вдвоем с ней вполне можно «вынашивать разум»… «Самое же важное и прекрасное – это разуметь, как управлять государством и домом, и называется это уменье рассудительностью и справедливостью». Да! «Кто смолоду вынашивает духовные качества, храня чистоту и с наступлением возмужалости, но испытывает страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит. Беременный, он радуется прекрасному телу больше, чем безобразному, но особенно рад он, если такое тело встретится ему в сочетании с прекрасной, благородной и даровитой душой…»
Феофил помнил почти весь «Пир» наизусть.
«Всегда помня о своем друге, где бы тот ни был – далеко или близко, он сообща с ним растит свое детище, благодаря чему они гораздо ближе друг другу, чем мать и отец, и дружба между ними прочнее, потому что связывающие их дети прекраснее и бессмертнее…» Но как определить ту, с которой это будет возможно? Как ни посмотреть, а ответ один – «найти свою половину»… «Когда кому-либо случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время…» Что ж, выходит, это можно понять, только когда встретишь. А если на смотринах такой девушки не окажется?..
И ему вспомнилась встреча в Книжном портике. Да, вот если б там оказалась подобная девица, тогда, пожалуй… Гм… Впрочем, та девушка, наверное, уже обручена или вышла замуж; судьба таких красавиц решается обычно быстро – родителями, и часто еще задолго до брачного возраста…
«Без Меня не можете творить ничего…»
Проходя в тот день через Схолы, Феофил остановился и долго стоят перед большим серебряным крестом. Наконец, он прошептал: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» – перекрестился и вышел дверью, ведшей в Халку.
2. Огонь погас, но дым остался
Примирение с врагами говорит лишь об усталости от борьбы, о боязни поражения и о желании занять более выгодную позицию.
(Ф. де Ларошфуко, «Максимы»)
24 марта, на Пасху, Антоний Силейский был возведен на патриарший престол. То, что выбор пал на него, многим показалось вполне естественным, однако в предшествующие два месяца весы судьбы колебались довольно сильно и едва не склонились в пользу опального патриарха Никифора.
Студийский игумен, добравшись до Халкидона, пробыв там несколько дней и на основании более достоверных вестей о происходящем в столице убедившись, что «весна православия» запаздывает с наступлением, поспешил к ссыльному патриарху в его монастырь. Встреченный Никифором радостно и со всяким почетом, Феодор узнал от него, что святейший, получив известие о смерти Мелиссина, отправил императору письмо, изложив православные догматы и напомнив, что прежний василевс погиб злой смертью не за что иное, как за преследование иконопочитателей, и что коль скоро всемогущий и правосудный Бог даровал всем, в том числе и самому Михаилу, избавление от свирепости прежнего властителя, то новый император поступил бы весьма мудро и благочестиво, если бы вернулся к догмату о поклонении святым иконам. Клирики, принесшие послание, были встречены императором благосклонно. Письмо патриарха, зачитанное тут же в слух василевса и всех присутствовавших сановников, вызвало восхищение Михаила: он похвалил и слог послания, и силу слова, и мудрость писавшего. Однако затем император повелел посланникам Никифора удалиться, сказав, что должен обдумать, что ответить на письмо, «посовещавшись с мудрыми и благочестивыми людьми». Совещание это продолжалось не более получаса, после чего, вновь пригласив принесших письмо, император сказал им:
– Почтенные отцы! Хорошо обдумав написанное господином Никифором, вот что я хочу сказать вам. Те, кто прежде нас исследовал церковные догматы, сами за себя дадут отчет Богу о том, хорошо или плохо они постановили и поступали. Мы же, на каком пути нашли Церковь, на том хотим ее и сохранить, чтобы избежать нежелательных для нашей державы потрясений и волнений. Точнее говоря, вот что мы постановляем: чтоб никто не смел открывать уст ни против икон, ни за иконы, но да потеряет всякое значение и собор, созванный патриархом Тарасием, и прежде него бывший собор при государе Константине Исаврийце, и недавно собиравшийся при покойном Льве. Вообще, всё, касающееся икон, да погрузится в глубокое молчание. И если тот, кто счел своим долгом написать принесенное вами послание, согласен при таких условиях руководить Церковью, то никаких препятствий к этому я не усматриваю. Он может хоть завтра явиться в Город и занять кафедру, но при одном условии – чтобы впредь хранить полное молчание о почитании икон.
Конечно, на такое предложение патриарх ответил отказом. Обсудив со Студийским игуменом положение дел, Никифор решил как можно скорее созвать собор из всех православных епископов и игуменов, какие могли прибыть в Свято-Феодоровский монастырь. Дело облегчалось тем, что некоторые из исповедников уже побывали у патриарха и теперь жили неподалеку. Остальным были направлены пригласительные письма. Вскоре исповедники стали прибывать в обитель на берегу Босфора; монастырь был достаточно велик, чтобы вместить всех. Приехали епископы Евфимий Сардский, Петр Никейский, Иосиф Солунский, Михаил Синадский, Антоний Диррахийский, Феофил Ефесский, Феофилакт Никомидийский, Игнатий Милетский и другие, а также множество игуменов, среди которых были Макарий Пеликитский, Иосиф Керамейский, Афанасий Павло-Петрский, Никита Мидикийский – последние были особенно рады вновь увидеть знаменитого Студита. Они, как, впрочем, и большинство собравшихся, почтили Феодора такими похвалами, что патриарх с улыбкой сказал в общем собрании, что вынужден запретить хвалить достойного всяческих похвал:
– А то, отцы и братия, я боюсь, что он совсем смутится и покинет нас, ведь высоте его достоинств соответствует и глубина смирения!
Между тем из столицы прибыл логофет Пантолеон с письмом от императора: Михаил предлагал православным сойтись для диспута с иконоборцами, причем Пантолеон прямо сказал, что василевс обещает поставить при этом судьями сановников, сочувствующих иконопочитанию. Первое заседание собора на Босфоре было посвящено обсуждению императорского предложения. Слово взял архиепископ Сардский Евфимий:
– Отцы и братия! Возможно, некоторые из вас сейчас недоумевают, какая выгода может быть императору, если предложенный им диспут осуществится. Мы знаем, да и ему это небезызвестно, что среди нас есть люди, способные повести спор и посрамить противников православия. А если к тому же судьями в споре будут сочувствующие нам лица, то исход диспута, можно сказать, предрешен. Зачем же государь настаивает на подобном мероприятии?
– Мне пришло в голову, владыка, – подал голос епископ Милетский Игнатий, – что государь, вероятно, поразмыслил еще и решил сдать свои прежние позиции и согласиться с нами, а диспут хочет устроить просто для вида, чтобы хоть как-то сохранить лицо.
– Это выглядит довольно правдоподобно, не так ли? – вопросил архиепископ Евфимий собравшихся.
Кое-кто согласно закивал, но другие, в том числе Иосиф Солунский и его брат-игумен, качали головой, а митрополит Синадский Михаил сдвинул брови и, попросив слова, сказал:
– Нет, братия и отцы, хотя такое объяснение на первый взгляд и кажется правдоподобным, но не будем доверяться первому впечатлению. Не забывайте, что начальники нечестия Иоанн и Антоний, как известно, по-прежнему остаются в числе приближенных государя.
– Умеют держаться на плаву! – громко сказал кто-то из собравшихся.
– А значит, – продолжал митрополит, – не стоит обольщаться насчет того, что император желает устроить наш диспут с сопротивниками просто «для вида», не имея никаких далее этого идущих целей. Я понимаю, что сейчас, когда мы после стольких гонений и страданий улучили свободу, получили даже возможность собраться здесь всем вместе и спокойно обсудить насущные вопросы, поневоле возникает ощущение, что победа близка, тем более что сам император обращается к нам с таким, на первый взгляд, выгодным предложением. Но мы не должны забывать, что судьбы Господни неведомы нам, а предчувствиям не всегда можно доверять. Полагаю, нам следует быть тем более осторожными и рассудительными, чем легче нам сейчас представляется дело восстановления правого догмата.
– Владыка Михаил совершенно прав, – сказал патриарх и, обведя глазами собрание, остановил взгляд на Солунском архиепископе. – А ты что думаешь об этом, преосвященный владыка?
Иосиф поднялся и, откашлявшись – он был несколько простужен, – сказал:
– Почтеннейшие отцы мои и братия! Мне представляется очевидным, что мы имеем дело с очередной уловкой императора и его помощников. И цель этой уловки – заставить Церковь признать, что мирская власть имеет право судить о догматических вопросах.
– О, да! – воскликнул сидевший рядом Студийский игумен.
– Так, владыка! – кивнул патриарх. – Но почтенное собрание, думаю, хочет услышать более пространное объяснение.
– Я рад, святейший, что ты согласен со мной, – ответил Иосиф, – и охотно разовью свою мысль. Итак, представим, что мы согласились на предложение императора, диспут прошел, мы посрамили наших противников, судьи – быть может, тот же господин Пантолеон и иные сочувствующие нам лица – во всеуслышание объявили, что почитание икон совершенно согласно с православием, святейший наш владыка и все преосвященные исповедники восстановлены на своих кафедрах, почитание икон восстановлено. Но что при этом? При этом все будут видеть и знать, что, так сказать, последним и крайним судией в догматическом вопросе, то есть вопросе, подлежащем исключительно ведению церковной власти, явился император в лице своих сановников, то есть власть не церковная, а государственная. Можем ли мы допустить это? Полагаю, никоим образом!
– Совершенно верно! – поднялся со своего места митрополит Никейский Петр. – Более того, у нас нет никакой уверенности, что нам позволят отлучить от священнослужения тех, кто вступил в общение с иконоборцами, и не потребуют принять их с покаянием, ссылаясь на пример седьмого Вселенского собора. Император хочет всеобщего примирения и покоя в государстве, а потому будет против столь сильных потрясений: ведь если лишить сана всех отступников, это затронет очень и очень многих.
– Именно, владыка! – сказал патриарх. – Итак, отцы и братия, позвольте теперь и мне взять слово. Прежде всего, хочу выразить свое совершенное согласие с пояснениями преосвященного Иосифа: император действительно хочет перехитрить нас и добиться всё того же, чего добивался и его предшественник, только нынешний государь действует гораздо мягче. Но если мы согласимся на его предложение, последствия этого для святой Церкви будут едва ли не более плачевны, нежели всё то, что мы видели в последние годы. Нас объяла буря гонений, но в этой тьме ярче солнца просияли исповедники веры. Ныне же есть опасность незаметно потерять всё приобретенное, уснуть, подобно неразумным девам, и остаться с угасшими светильниками. Да не будет этого! Вы помните, честные отцы, что говорилось и какие обещания давались на нашем последнем собрании накануне гонений. Тогда все, в том числе множество нынешних отступников, подтвердили свое согласие с нашим догматом и обещали стоять за православие даже до смерти. Какое же извинение могут они иметь в своем падении? Поистине, никакого. Некоторые из падших благовременно осознали свой грех, раскаялись и не отреклись от терпения дальнейших скорбей за веру. Безусловно, таковым после покаяния и необходимой епитимии может и должно быть разрешено служение. Но прочие, косневшие в ереси до самой злой смерти начавшего эту брань против священных икон, даже до сих пор сообщающиеся с еретиками и не думающие о покаянии, – какое оправдание могут иметь? А ведь они, как все мы хорошо понимаем, немедленно начнут каяться, если иконопочитание будет признано императорской властью. Согласимся ли мы, чтобы эти предатели веры, осквернившиеся в своем лукавстве, двоедушные, по слову апостола, «нетвердые во всех путях своих», были допущены к предстоянию страшному Господню жертвеннику? Мне это представляется совершенно невозможным. Что думает по этому вопросу священное собрание?
– Мы согласны с тобой, святейший! – ответил за всех епископ Никомидийский Феофилакт.
Собор заседал еще несколько дней. Вечером первого дня Студийский игумен, по благословению патриарха, от лица всех собравшихся написал письмо императору, где изложил общий взгляд на возможность публичного диспута с иконоборцами. Воздав в первых строчках письма благодарность государю «за то, что возвращены изгнанные, помилованы бедствовавшие, получили отраду угнетенные, перешли от зимы к весне, от смятения к тишине», и похвалив царствование Михаила как «радостное, благоприятное, превожделенное, мирное, правдолюбивое, достойное многих других названий», Феодор далее просил позволения явиться пред лицо императора и удостоиться беседы с ним, а затем переходил к вопросу о вере: «Если бы речь шла о чем-нибудь человеческом или о таком, что находится во власти святейшего нашего архиерея или нас, недостойных, то следовало бы уступить не только в малом, но и во всем: так повелевает заповедь. А когда речь идет о Боге и о том, что относится к Богу, которому служит всё, то не только какой-нибудь человек, но даже и апостолы Петр и Павел, или кто-либо из ангелов, не осмелился бы изменить даже самого малого, так как от этого извращается всё Евангелие. Что же касается состязания с иноверными для опровержения их учения, то это не согласуется с апостольским повелением, а возможно только для вразумления». Напомнив, что в случае каких-либо сомнений относительно веры император может «принять объяснение от древнего Рима, как делалось издревле и от начала по отеческому преданию», игумен заканчивал письмо так: «Крепкая же десница Божия да сохранит тебя, вожделенного для мира и боголюбезного императора христианского, чтобы ты жил многие лета и детям детей передал державу в благоденствии и победах над врагами и противниками! Буди, буди!»
К третьему дню соборных заседаний патриарх окончил и зачитал собравшимся написанное им сочинение против иконоборцев, разбитое на двенадцать глав, где со всей непреклонностью утверждалось, что клирикам, рукоположенным до начала гонений на иконы, но затем примкнувших к ереси и не покаявшимся до окончания гонений, уже никогда не будет возвращен священный сан: в случае покаяния они могли быть приняты в Церковь только в качестве мирян. Для монашествующих и мирян условием возвращения в Церковь было покаяние и епитимия – с одобрения собора, патриарх предоставил православным священникам и монахам налагать на кающихся епитимии по своему усмотрению.
Приближалось время вечерни, и соборяне, заседавшие в южном нефе монастырского храма, уже собирались закончить работу, когда патриарх, сидевший лицом ко входу в церковь, вдруг радостно улыбнулся и сказал:
– Вот это посещение, отцы и братия!
Спустя несколько мгновений между двумя колоннами из белого проконесского мрамора показался Хинолаккский игумен Мефодий. Возникло всеобщее оживление, все спешили приветствовать прибывшего, посыпались вопросы. Патриарху пришлось с улыбкой напомнить, что всё же в первую очередь – богослужение, а расспросы потом, ведь отец Мефодий никуда не денется. После вечерни все отправились в трапезную, а затем прибывший из Рима игумен начал свой рассказ. Главной и самой важной новостью было то, что он привез послание папы к новому императору, где Римский первосвященник требовал восстановить на Константинопольском престоле законного патриарха, то есть Никифора.
На следующий день утром прибыл императорский гонец из столицы и сообщил, что государь «приглашает досточестных отцов прибыть в богоспасаемый Константинополь и засвидетельствовать августейшему свое почтение». Собор решил, что патриарх не должен возглавлять делегацию – нет, если неправедно сосланному и суждено было вернуться в столицу, то только после приглашения занять свою кафедру на условиях, которые выдвинут православные. В понедельник Цветоносной седмицы в Город отправились несколько старейших епископов и игумены знаменитейших монастырей, в том числе Феодор Студит. Мефодий не поехал с ними: соборяне решили, что он отправится к Михаилу с письмом папы несколькими днями позже, – это было бы полезнее и в случае успеха, и в случае провала соборного посольства. Отцы были приняты императором благосклонно, в присутствии членов Синклита, и в ответ на вопрос Михаила, что́ они имеют сказать по поводу его предложения о диспуте относительно икон, повторили то, что говорилось ими и раньше, настаивая на том, что православие должно быть восстановлено без всяких предварительных обсуждений, поскольку вопрос об иконах уже давно и бесповоротно решен Церковью, что патриарха Никифора следует восстановить на кафедре, а отпавшие в ересь клирики должны быть лишены сана. При этом Евфимий Сардский передал императору копию последнего сочинения патриарха.
– Что ж, почтенные отцы, – Михаил оглядел пришедших, – мне очень жаль, что наше предложение встретило у вас так мало поддержки и так много противоречий. Но вы делаете хуже, прежде всего, сами себе. Впрочем, я не настаиваю, почтеннейшие. Сейчас вас накормят от наших щедрот, а после можете идти, куда вам угодно. Я не препятствую никому из вас жить в каком угодно месте нашей богоспасаемой державы, не запрещаю также встречаться и беседовать с духовными детьми, родственниками, друзьями и знаемыми, лишь бы только эти беседы служили к пользе наших подданных и не возмущали мир в государстве. Прошу вас, отцы, молиться и о нашей державе, да помилует и благословит нас Бог, избавивший меня от злой смерти. Ведь потому я и освободил всех вас из заточения и ссылок, что сам разделял ваши неприятности.
В тот же день после обеда император созвал в Малой Консистории ближайших советников из членов Синклита, а также Антония Силейского, Иоанна Грамматика и некоторых придворных клириков, вручил Сергие-Вакхову игумену переданное иконопочитателями сочинение патриарха Никифора и велел зачитать вслух. Когда чтение было окончено, Михаил вопросил собравшихся, что они думают об услышанном. Все некоторое время молчали. У синклитиков, как и у клириков, вид был подавленный – видимо, они не ожидали от ссыльного патриарха столь жесткой позиции; Грамматик был задумчив, а Силейский епископ хмур. Наконец, Антоний прервал тягостную тишину и сказал:
– Полагаю, августейший, что притязания господина Никифора непомерны. Исполнение его требований повлечет за собой лишение сана не только всех тех, кто был рукоположен за последние пять лет, но и тех, кто до сего дня состоял в общении с нами. Не думаю, что подобное потрясение общества будет способствовать миру государства. Тем более, что еще не усмирен Фома со своим сбродом…
– А ты что скажешь, отец игумен? – спросил император.
– Я согласен с владыкой Антонием, государь, – просто ответил Иоанн и не добавил ничего более, хотя Михаил и взглянул на него выжидательно.
– Да, с ним нельзя не согласиться, – протянул эпарх, а остальные сановники закивали.
– Итак, – заключил император, – дело ясное. Теперь остается обсудить, кто же станет новым предстоятелем нашей святой Церкви.
– Думаю, августейший, – осторожно начал Силейский епископ, – это должен быть человек, с одной стороны, образованный, начитанный и умный, сведущий в церковном управлении, а с другой стороны – способный вести себя гибко, где нужно строго, а где нужно и с допустимыми послаблениями… От пастыря требуется не только умение проявить в нужное время твердость, но не меньше того – умение являть милость к кающимся и сострадание ко грешникам…
– Ты прав, преосвященнейший владыка, – прервал его Михаил, – ты прав. И вот что я думаю: пожалуй, ты и займешь вдовствующую кафедру Царствующего Города. Если, конечно, народ церковный такой выбор поддержит. Вот завтра мы его об этом и спросим. Господин эпарх, потрудись, чтобы завтра к полудню в Магнавре собрались преосвященные, что сейчас в Городе, игумены здешних монастырей и Синклит в полном составе. Дело не терпит более отлагательства!
Когда император отпустил собравшихся, и все откланялись и направились к выходу, Михаил задержал Грамматика и, когда они остались в Консистории вдвоем, сказал:
– Ты не сердись, отец игумен, что я не тебя предложил в патриархи. Я и не прочь, честное слово, ты бы служил бо́льшим украшением кафедры, чем Антоний, но видишь ли… Это может вызвать возмущение в определенных кругах… А сейчас для нас всего ценнее мир и спокойствие общества… Ты понимаешь?
– О, конечно, августейший! – ответил Иоанн улыбкой. – Я не в обиде! Думаю, владыка Антоний прекрасно справится со своими новыми обязанностями.
– Ну, а ты, если что, поможешь ему, не так ли?
– Разумеется, августейший, разумеется.
…Марфа, в сопровождении приказчика и двух служанок, вышла из лавки вестиопрата и уже направилась мимо порфировых колонн с позолоченными статуями сирен, украшавших восточную часть форума Константина, в сторону дома, когда заметила, как к ней сквозь толпу пробирается ее давняя подруга Ирина.
– Христос воскрес, дорогая моя! Давно не виделись! Как поживаешь?
– Воистину воскрес! Слава Богу, всё хорошо. А ты как?
– Ох, Марфа, мы тут такого страху натерпелись, но зато и чудо такое! Вот послушай!
Семейство Ирины жило в Равдосе, где у ее мужа-спафария был особняк, конюшни, сад и много хозяйственных построек. И всего этого они едва не лишились.
– В прошлую пятницу сижу я у себя наверху, тку, и вдруг слышу крики: «Горим!» Подбегаю к окну, смотрю, из сенохранилища – оно у нас ведь большое, ты знаешь, и рядом с домом – дым валит и огонь уже показался… Как уж там загорелось, не знаю, и никто не знает, но огонь быстро пошел, дальше перекинулся, все забегали, закричали, побежали за водой, насосами… А на меня будто столбняк напал: стою, смотрю, как во сне. Только когда увидела, что огонь уже на дом переходит, то будто очнулась, закричала, заплакала… Мужа дома не было, а я совсем будто ум потеряла, не знаю, что делать… Слугам кричу: «Скорей, скорей тушите!» – да они и так с ног сбились… Я опять к окну, смотрю, тушат, а огонь-то все дальше идет… Ну, думаю, всё, пропали мы! И тут будто что мне в голову – стук! Вспомнила, что недавно получила письмо от отца Феодора, и оно у меня тут же лежало, в корзине с бельем, – Ирина понизила голос, – я их прячу, понимаешь? – Марфа закивала. – Я его скорей достала и бегом на балкон. А огонь как раз взметнулся, чуть не до второго этажа. И я как закричу: «Преподобный Феодор, помоги нам, отче, молитвами твоими!» – и бросаю письмо в огонь. И что ты думаешь? Пламя тут же упало, будто прибитое. И всё меньше, меньше… Полчаса не прошло, как все угасло! И насосов не понадобилось! Муж когда вернулся – я слуг послала за ним, – уж и дыма почти не осталось. Вот что только одно письмо отца Феодора сделало, по его молитвам!
– Чудеса! – проговорила потрясенная Марфа. – Поистине, он великий угодник Божий!
– Истинно так! Мы вот уж который день Бога благодарим! А отцу Феодору я тут же гостинцев послала!
– Да, мы тоже послали ему подарки. Жаль только, что он здесь так и не погостил!
Студийский игумен, побывав в Константинополе в составе патриаршего посольства, уже более не возвращался в столицу: поскольку торжество иконопочитания не состоялось, Феодор не хотел тут жить, но, пробыв еще несколько дней у патриарха, переселился с братией в Крискентиеву местность, с ним ушли и жившие в доме Марфы студиты. Отец Дорофей, видя, что Кассия совсем загрустила, сказал ей, что не следует безмерно печалиться ни о чем, даже о том, что православие пока не победило, – значит, таковы суды Божии, в конечном итоге устрояющие всё на пользу, – а за духовным окормлением посоветовал обращаться к архиепископу Сардскому Евфимию: тот собирался жить в столице – не в последнюю очередь ради укрепления бывших в Городе православных.
– А как там Кассия? – спросила Ирина Марфу. – По-прежнему замуж не хочет, не передумала еще?
– Она-то не передумала, да только… ох! Теперь не знаю, что и будет…
– А что такое?
– Да такое, что я сама опомниться не могу! Ты же знаешь, братец мой всё одержим мыслью выдать ее замуж повыгоднее… И вот, как узнал, что государь решил женить своего сына и для этого устроить выбор невесты, так сразу и позаботился… В общем, приходили к нам императорские посланцы…
– Ого! И что же?
– И сказали, что она подходит! Так что на той неделе ей уже во дворец отправляться, там будет жить до самого дня выбора. Я сейчас как раз от портного, забирала для нее тунику, нарочно заказали для такого случая…
– Чудеса! – Ирина была потрясена рассказом подруги не меньше, чем прежде Марфа историей о погашении пожара. – Да ведь Кассия такая красавица! Ее и выбрать могут!
– Да… Но она этого не хочет.
3. Предсказание
Но совокупно всего не дают божества человекам.
(Гомер, «Илиада»)
– Лошадей запрягли? Вещи все сложили? Где Феодора? Феодо-ора!.. Варда, пойди поторопи ее! Пора ехать, солнце, погляди, уже где! Она, верно, всё наряжается! Еще десять раз там перенаряжаться придется… Зови ее скорей!
– Да, мама!
Варда поспешил наверх. Феодора не наряжалась: она стояла посреди комнаты и держала в руках книгу в синей обложке с узором из золотых цветов и птиц. Когда в дверь постучали, девушка ахнула и быстро засунула рукопись в кровать под матрац.
– Да! – крикнула она, пригладив покрывало и отходя к окну.
Варда вошел.
– О, это ты, очень кстати! – воскликнула Феодора. – Я как раз думала, что же делать с этой повестью… – она достала книгу и протянула брату. – Спрячь ее куда-нибудь, умоляю! Если мама найдет ее тут у меня, сам понимаешь… Она сказала, что здесь будет «всеобщая уборка», когда я уеду…
– А, – улыбнулся юноша, – нечестивые сказания Эрота… Но куда я ее спрячу? Разве что в библиотеке среди книг? Так ведь и там, пожалуй, найдут. Если мать затевает такую уборку, она весь дом перевернет… Ума не приложу, куда ее деть! Тем более, что я и сам скоро опять поеду в Город…
– Ну, в крайнем случае можно просто продать.
– Продать?.. Вообще-то жалко, книга редкая!
– Тем лучше, за нее дадут много денег! Будет тебе на личные расходы, братец! – Феодора улыбнулась.
– Это да, но…
– Ну, а что нам в ней, даже если она и редкая? – девушка пожала плечами. – Детей же по такой книге не будешь воспитывать! А самим перечитывать ее – какая нужда? О чем там в целом, я и так помню… Да и не всё по книгам изучать предмет! Скоро я так или этак выйду замуж, и тогда узнаю, прав ли этот Ахилл Татий…
Варда пристально посмотрел на нее. Феодора глядела в окно и теребила кончик шелкового мафория. Да, вряд ли она вернется в Эвиссу, даже если наследник престола ее не выберет: наверняка тут же подвернется сын какого-нибудь придворного… да и не один… Нетрудно будет найти жениха! А если ее выберут?..
– А помнишь, ты говорила, что жених должен нравиться? – спросил он с улыбкой. – Что, передумала?
Она быстро взглянула на него.
– Нет, не передумала.
– Ну, а что ты будешь делать, если он тебя выберет, но не понравится тебе? Или ты думаешь, что императорский сын не может не понравиться?
Феодора чуть покраснела и ответила:
– Говорят, он красивый… – она подняла глаза на брата. – А ты думаешь, меня и правда могут выбрать?
– Могут, еще как! Я никогда не говорил тебе, сестрица, но теперь скажу: ты очень красива. Просто смотришь и думаешь: так не бывает!
Девушка зарумянилась.
– О, Варда! Я до сих пор не верю, что еду туда!
Прибытие императорских посланцев в Эвиссу в Великом посту произвело в городке настоящий переполох. В мгновение ока пронесся слух, что собирают девушек для участия в выборе невесты императорскому сыну. Но Марин с Флориной не ожидали, что трое протоспафариев, посланных императором, зайдут к ним в дом. Однако всё быстро объяснилось: один из посланцев по секрету шепнул Марину, что их направил сюда брат друнгария Мануил, в конце царствования Льва ставший стратигом Анатолика вместо Кратера. Поскольку дело с маставрскими клириками так и не было улажено, Кратер всё-таки попал в немилость – правда, счел, что легко отделался, будучи понижен до турмарха: по крайней мере, ему не пришлось претерпеть ни бичевания, ни ссылки, ни отнятия имущества, которыми при Льве нередко наказывали даже за проступки сравнительно небольшие… Мануил как раз был в столице, когда стало известно, что начинается отбор девушек для участия в смотринах, и сразу вспомнил о своей племяннице, о которой знал от ее братьев, что она «красива, как Прекрасная Елена, а может, и красивее». Пошептать в нужные уши было делом нетрудным, и вот, на второй седмице Великого поста посланцы василевса входили в особняк с колоннами в восточном квартале Эвиссы.
Феодора одна из четырех сестер оставалась дома, остальные были уже замужем и жили в столице. Младшая мечтала попасть туда же и втайне злилась и на мать, не желавшую ее отпускать, и на отца: тот не был против отправки дочери в Царствующий Город, но всё почему-то медлил. Погода в тот день была скверная. Феодора сидела у себя в комнате у жаровни и читала Сапфо – назло матери, которая в последнее время настойчиво давала ей разные духовные книги, преимущественно жития святых.
«Вот-вот, – подумала девушка раздраженно, – кажется, мама именно этого и хочет для меня! Мне в этом году уже будет семнадцать, а я всё еще тут сижу! Все сестры в этом возрасте уже были замужем, а меня тут держат! Чего ждут, непонятно! Вон, уж и Феодул женился, а писал, что готов ждать моего согласия “дольше, чем Иаков Рахиль”… Почему они не хотят, чтоб я ехала в Константинополь?! За что я тут торчу?.. А Варда мне прочил мужа красивого и “настоящего мужчину”… Видел бы он этого несносного Василия, что маме понравился… Она, видно, хочет, чтоб я со скуки умерла, выйдя замуж! Да у него еще и нос такой длинный, как у цапли… того и гляди, заклюет!..»
Вдруг раздался стук в дверь и голос отца:
– Феодора! Ты спишь?
– Нет! – девушка вскочила и быстро спрятала книгу под покрывало на кресле.
Марин вошел, вид у него был взволнованный.
– Поскорей оденься получше и сойди вниз! Сейчас служанки придут делать тебе прическу, я уже приказал. К нам очень важные гости! Смотри, ты должна выглядеть… как Афродита!
Феодора широко распахнула глаза. Отец никогда не употреблял таких «языческих» сравнений, и она поняла, что прибывшие гости были совсем особенные. Марин вышел, и тут же вбежали две горничных.
– Кто там приехал-то? – нарочито равнодушно спросила девушка.
– Ах, госпожа! Говорят, из столицы, от самого императора!
Когда Феодора, с волосами, заплетенными вокруг головы наподобие венца, одетая в белую шелковую тунику, полупрозрачный, затканный тонким серебряным узором мафорий, и черные, расшитые серебром башмачки, спустилась в гостиную, там ее ожидали отец с матерью и трое гостей. Поздоровавшись и окинув девушку взглядом, протоспафарии переглянулись, и один из них сказал Марину:
– Господин позволит снять с госпожи Феодоры мерку?
– Разумеется, разумеется! – закивал Марин.
Флорина поджала губы, но ничего не сказала. Феодора удивленно воззрилась на гостей.
– Мерку?!
– Не пугайся, госпожа Феодора, – улыбнулся второй гость, высокий красивый мужчина лет сорока, доставая из сумки у пояса измерительную ленту. – Мы тебя не обидим. Государь император желает устроить выбор невесты для своего сына, и мы должны собрать подходящих для этого девушек… Твоя красота несравненна! Но мы должны посмотреть, насколько в тебе всё соответствует… ты понимаешь, госпожа? Рост, размер стопы…
– Да-да, – проговорила ошеломленная Феодора, – конечно… Я понимаю…
Когда все нужные мерки были сняты и сличены с записанными на листе пергамента в руках у третьего протоспафария, посланцы василевса вновь переглянулись и высокий, обратившись к Марину, сказал, свертывая измерительную ленту:
– Твоя дочь, господин, подходит совершенно! Итак, мы объявляем вам волю августейшего императора: не позже чем через десять дней после Пасхи госпожа Феодора должна быть доставлена в Священный дворец.
Наконец, получив последние напутствия от матери, собиравшейся приехать в столицу неделей позже, от отца, который должен был прибыть туда в случае, если «так или иначе решится дело со свадьбой» – никто не сомневался, что Феодора скоро выйдет замуж, если не за сына императора, то за кого-нибудь еще «подходящего», – и от брата, который заговорщицки подмигнул ей на прощанье и пожелал «покорить царственного Париса», девушка в сопровождении слуг и горничных отправилась в Константинополь. Но по дороге ей предстояло заехать в Никомидию – мать строго-настрого наказала дочери посетить тамошнего затворника Исаию, уже много лет жившего в высокой каменной башне и прославившегося прозорливостью и исцелениями больных, и попросить его молитв и благословения.
– Красота красотой, – сказала Флорина сурово, – но «если Господь не построит дом, всуе трудятся строящие его»! Если Бог не соблаговолит, то будь ты хоть какой красавицей, всё равно тебя не выберут. Помни об этом и не забывай молиться, чтобы Господь сотворил с нами угодное Ему!
Но Феодоре хотелось, чтобы Господь сотворил с нею угодное ей. А ей очень хотелось, чтоб ее выбрали! Она и не замечала, как поэтическое настроение, так долго владевшее ею, мечты о любви, о муже-герое вроде Гектора, всё больше уступали место тщеславию: шутка ли – быть признанной самой красивой девушкой Империи и стать женой императорского сына! Раньше не желавшая выходить даже за тех, с кем имела возможность пообщаться, потому что они ей не нравились, теперь она страстно желала стать женой юноши, которого никогда не видела и о котором почти ничего не знала. Девушке представлялось, что царственный жених просто обязан оказаться именно таким, каким ей воображался ее идеал, и будет любить ее так, как это описывалось в ее любимых стихах, – и, конечно, она его тоже… Пришел час яблоку упасть с ветки – и кому же еще, как не будущему императору протянуть к нему руку!
Дорога изрядно утомила ее, и когда, наконец, впереди показались стены и башни Никомидии, она облегченно вздохнула, но тут же сердце ее тревожно забилось: отшельник! ведь он прозорлив… Что, если он уже знает, выберут ее или нет?.. Что, если нет?.. Ей вспомнился разговор с братом. А если ее и правда выберут, а она… не сможет любить жениха так, как ей хотелось полюбить?.. Эти мысли окончательно обессилили ее, и, когда повозка остановилась у сложенной из огромных камней башни, где жил отшельник, девушка некоторое время сидела, не шевелясь, прежде чем решилась сойти. Тут взорам Феодоры предстало зрелище, почти ее напугавшее. У на большой лужайке толпился народ в ожидании, что затворник появится в оконце башни и благословит всех: больные с трясущимися головами, хромые, одноногие или скрюченные, женщины с изможденными лицами, некоторые с детьми на руках, беспрестанно кашлявшая девушка, мужчина с рукой, замотанной тряпками с проступавшими пятнами крови, юноша с перевязанной головой…
«И как же я буду? – подумала Феодора. – Наверх к нему, значит, женщины не ходят, да и из мужчин только избранные… – это она знала от матери. – Что же я тут, должна буду при всех просить его помолиться, чтоб меня выбрали?!.. Нет, это невозможно! Или просто он всех благословит разом, ну, и меня, и это всё? Стоило ради этого сюда ехать!.. Правда, он еще сам может спуститься вниз, вон в ту пристройку, должно быть… Только разве ж он меня туда пригласит? Это ведь для… избранных! А если он прозорливец, то… прочтет мои мысли и, пожалуй, решит, что я… недостаточно благочестива… и не станет молиться за меня… А может, еще будет молиться, чтоб меня не выбрали?!..» Тут она вдруг заметила, что стоявшие чуть в стороне от остального убогого люда двое богато одетых мужчин лет тридцати смотрят на нее во все глаза, и ей окончательно захотелось сбежать, не дожидаясь никакого благословения от затворника. Она уже повернулась, чтобы сесть обратно в повозку, как вдруг по толпе пронесся вздох, и все наперебой заголосили:
– Отец святой, благослови!
– Помолись, отче, чтоб Господь смиловался над моей немощью!
– Отче милостивый, умоли Бога, чтобы не отнимал чадо! Вторую неделю болеет, соседка сказала, умре-от, ой, сил моих не-ет!..
Феодора обернулась, взглянула вверх, увидела в башенном окне лицо отшельника и, вздрогнув, ухватилась за борт повозки. Нет, лица Исаии она не рассмотрела, да это было и нелегко с такого расстояния, но она увидела, что от затворника словно бы исходит сияние. Это длилось лишь миг, но Феодора была так потрясена, что потерялась и забыла, зачем она здесь и что ей нужно делать. Опомнившись через несколько мгновений, она подумала: «Что же я должна сказать ему? Просто попросить молитв? Ведь он, наверное, и так знает, куда я еду?..»
Отшельник сверху благословил всех широким крестным знамением и, не произнеся ни слова, скрылся. «И это всё?» – разочарованно подумала Феодора, но тут же услышала, как в толпе сказали:
– Слава Господу! Сейчас он спустится! – по-видимому, манера Исаии принимать народ уже была хорошо известна собравшимся.
Действительно, спустя небольшое время узкая дверь внизу башни открылась, и на пороге показался старец со словами:
– Христос воскрес!
Раздался общий крик: «Воистину воскрес!» – а затем почти все собравшиеся стали опускаться на колени и кланяться старцу. Феодора смотрела с некоторым смущением. «Я тоже должна поклониться в землю?..» Она по-прежнему стояла у повозки. Затворник медленно обвел взглядом собравшихся, глаза его остановились на девушке, и он вдруг громко сказал:
– Госпожа Феодора, подойди сюда!
Девушка ощутила, как у нее подкашиваются ноги. Сопровождавшие ее слуги и двое горничных так и ахнули. Феодора беспомощно огляделась. Весь собравшийся народ обернулся и с любопытством рассматривал ее. Евнух Василиск, которому Флорина перед отъездом особенно наказала смотреть за дочерью, «чтобы всё было чинно», приблизился к ней и прошептал:
– Иди, госпожа, иди! С Богом!
Толпа расступилась перед ней, послышались вздохи:
– Красавица какая!
Девушка низко склонилась перед затворником и тихо проговорила:
– Благослови, отче!
Исаия благословил ее и сказал:
– Пройдем, госпожа, вон туда, я должен нечто сказать тебе, – и он направился к пристройке.
Это было довольно ветхое деревянное строение, походившее на маленький портик, внутренность просматривалась снаружи. Здесь на утоптанном земляном полу стояло две лавки и стол, а в углу – единственном, по-видимому, который здесь иногда очищали от паутины, – Феодора увидела небольшую, потемневшую от времени икону Богоматери и над ней, почти под самым потолком, деревянное Распятие. «Икона!» – обрадовалась Феодора. Ее родители, несмотря на гонения при императоре Льве, продолжали держать дома образа и поклоняться им, но при этом и Марин, и его родственники, жившие в столице, причащались у иконоборцев. Им не приходило в голову, что это неправославно, особенно после того как было объявлено, что почитание икон можно сохранять при условии общения с патриархом Феодотом. Только Флорина не ходила в иконоборческие храмы, тайно получая Святые Дары через какого-то олимпского иеромонаха, но как она ни уговаривала мужа последовать ее примеру, Марин, хотя чаще всего старался уступать супруге, на этот раз решительно воспротивился, сказав, что Флорина может делать, что угодно, а ему ее «выдумки» могут стоить лишения должности, а то и свободы.
– Кто нам запрещает чтить иконы? Никто, – сказал он жене. – Мануил, вон, пишет, что и в столице не во всех храмах иконы убраны. Чего еще надо? Ну да, есть, конечно, такие ревнители, что жгут и замазывают, так ведь при всяком деле такие люди находятся… не в меру ревностные… Что ж теперь? Они сами за себя ответят! Ты что, хочешь остаться без имений и без крова? Если ты так жаждешь подвигов, что тебе не жаль ни себя, ни меня, то хоть о детях подумай!
Флорина повздыхала, поплакала, но настаивать на своем перестала, и Марин с детьми и домочадцами продолжали ходить в главный храм Эвиссы, где иконы были частью убраны, а частью перевешены высоко, а в алтарной конхе лик Богоматери заменили изображением креста. Феодоре было жаль икон, и дома она любила молиться перед ними, но ей не приходила мысль о том, что они поступают плохо, молитвенно общаясь с иконоборцами. Когда в январе до Эвиссы дошла весть, что новый император освободил всех заключенных и сосланных иконопочитателей, все домашние Марина восприняли это как настоящее торжество православия. Правда, Флорина заикнулась было о том, что всё-таки патриархом остается еретик, но Марин только махнул на нее рукой.
Увидев у Исаии икону, Феодора подумала: «Значит, действительно прошли гонения, раз здесь открыто икона висит, а ведь сюда ходит столько народу!» Затворник, невысокий сухощавый монах, был одет в потертый хитон и стоптанные башмаки, голову его покрывал кукуль, из-под которого клоками торчали седые волосы, а мантия, тоже ветхая и местами проношенная до дыр, волочилась по земле. «Он и правда прозорливец! – думала Феодора, сердце ее колотилось ужасно. – Узнал мое имя… Значит, знает и куда я еду… и зачем! Ой, что же он скажет?!..» Исаия обернулся к девушке, чуть заметно улыбнулся и тихо заговорил:
– Не бойся, чадо. Пусть боятся безбожники и нечестивцы, а нам бояться не до́лжно, ибо Господь одесную нас! Должно лишь молиться о том, чтобы исполнилась над нами воля Божия, «благая, угодная, и совершенная», и чтоб Господь помог нам покориться «под крепкую руку Его», и тогда ничто на свете будет не страшно! Помолимся, госпожа.
Старец снова повернулся к иконе и, воздев руки, принялся молиться – очень тихим шепотом, так что Феодора не могла разобрать слов. Сама она тоже попыталась молиться, но мысли путались, и она не знала, чего просить. Точнее, она знала, чего ей хотелось, но сейчас, в присутствии отшельника, ей показалось неприличным обращаться к Богу с подобной просьбой. Наконец, она прижала руки к груди и мысленно взмолилась: «Господи! Помилуй меня, грешную, и сотвори со мною волю Твою святую!» – больше она ничего не могла придумать. Исаия опустил руки и повернулся к ней.
– Благо тебе, чадо, что смирилась ты под крепкую руку Божию! За дверьми останутся злословящие, тебя же, чадо вознесет Обещавший смирить гордых и вознести смиренных!
Тут старец развязал висевший у него на поясе небольшой холщовый мешочек, достал оттуда зеленое с красными прожилками яблоко и протянул девушке. Она взяла его и недоуменно поглядела на затворника. Монах протянул обе руки и положил ей на голову, девушка невольно склонилась перед ним.
– Бог венчает тебя императрицей, чадо! – тихо и медленно проговорил Исаия. – Ты же, когда придет час, прославишь Его, как Он ныне прославит тебя, да и во царствии Его вечно прославишься!
У Феодоры подкосились ноги, и она упала перед старцем на колени.
– Да благословит тебя Бог, дитя! – сняв руки с ее головы, затворник отступил на шаг. – Отправляйся в путь свой и ничего не бойся, бойся только греха, ибо он разлучает от Бога!
Девушка подняла на него глаза. У нее не было сил ни что-либо сказать, ни даже пошевелиться. «Так не бывает!» – хотя отшельник предсказал ей именно то, чего она и хотела, в этот момент ей казалось, что это совершенно невероятно.
– Не неверуй, но веруй! – тихо сказал Исаия. – Ступай, госпожа Феодора, Бог да поможет тебе во всем! – и он направился к выходу из пристройки.
Девушка собрала все силы и последовала за ним. Старец, выйдя, принялся благословлять собравшихся, перекидываясь с ними краткими репликами. Феодора ничего не слышала и почти ничего не видела. Она поскорей дошла до своей повозки, слуги принялись расспрашивать ее, но девушка могла только ответить:
– Он сказал, что… всё будет хорошо.
– Госпожа, позволь и нам благословиться у святого старца! – попросили горничные.
– Ради Бога! – ответила Феодора. – Ступайте все, возьмите у него благословение!
Слуги и конюх поспешили к отшельнику. Тот в это время заговорил с двумя богатыми мужчинами, подошедшими к нему после всех. Один что-то тихо спросил у него, и старец покачал головой:
– Нет, нет, господин, этого не будет! Господь возблаговолил иначе.
Мужчина хотел возразить, как вдруг одна из женщин, уже получившая благословения от Исаии и сидевшая невдалеке, перепеленывая своего младенца, вскочила и, подняв ребенка в воздух, завопила:
– Слава Тебе, Господи! Слава угоднику Божию! Исцелил! Нет, вы поглядите – исцелил! А у него вторую неделю животик раздутый был, и язвочки вот тут были… А теперь нет ничего! – она подбежала к отшельнику и бросилась ему в ноги. – Как и благодарить мне тебя, отец святой?!
– Не меня благодари, чадо, а Бога! – ответил старец. – Соблюдением заповедей благодари! И с мужем не ругайся! Вот и младенец твой потому заболел, что вы всё ругаетесь да ссоритесь… Негоже это, чадо. Живите мирно! Бог да благословит тебя!
Чудо вызвало переполох, народ окружил мать исцеленного ребенка, стали расспрашивать, чем малыш болел и правду ли сказал старец насчет ссор с мужем. Женщина с сокрушением подтвердила, что правда, и громко говорила, что «теперь уж никогда в жизни» не повысит на мужа голоса… Исаия тем временем благословил слуг Феодоры, сказал еще несколько слов богатым мужчинам и направился к башне. Уже у входа он обернулся, в последний раз осенил народ крестным знамением и скрылся за дверью. Люди начали расходиться. Феодора поудобнее устроилась в повозке, слуги заняли свои места, и лошади тронулись с места. Девушка, отодвинув занавеску, смотрела в окошко и улыбалась, внутри у нее всё пело. «Сбудется! Всё сбудется! Господи!..»
А в это время никомидийский затворник стоял у окна своей башни и провожал взглядом повозку, увозившую девушку, которой он только что предрек царство. Во взгляде Исаии сквозила печаль. Когда повозка скрылась из виду, он отошел от окна и, повернувшись, взглянул на потемневшую икону в углу.
– Да благословит тебя Бог, дитя! – повторил он шепотом. – Корону ты получишь… но то, о чем ты мечтаешь, – нет.
…Войско, высланное императором против мятежника Фомы, было не очень многочисленным: хотя поражение армии, посланной еще Львом Армянином для усмирения восставших, показало, что мятежник собрал вокруг себя вовсе не «сброд», как думали в столице поначалу, тем не менее Михаил, посовещавшись с синклитиками, решил, что нескольких тысяч с лихвой хватит, чтобы противостать дерзкому «хромому», как он презрительно называл давнего знакомца. Императорские войска, отправленные в Анатолик, не ждали впереди серьезного сопротивления и предвкушали легкую победу, скорое возвращение, награды от василевса… Они жестоко обманулись: если в начале восстания Фома набирал в свое войско преимущественно иверов, армян и абасгов, а отчасти персов, то теперь на его сторону уже перешли многие части фемных войск не только Анатолика, но и Каппадокии, Харсиана и Халдии. Решающую роль в успехе Фомы сыграли два обстоятельства. Во-первых, он весьма удачно повел дела с арабами. Поклонники Аллаха в начале мятежа, пользуясь сумятицей, участили набеги на приграничные области Империи, и Фома стал опасаться, что если этому не положить предел, то он не только не сможет привлечь на свою сторону местное население, но вызовет недовольство и уже собранных под его знамена людей. К тому времени он уже собрал значительные военные силы и, рискнув ополчиться против арабов, сумел отразить их натиск и даже вынудил халифа пойти на соглашение, пообещав платить определенную дань – благо деньги у него были – в обмен на спокойствие приграничных областей.
Из чего сделать второе крыло, вознесшее бунтовщика к успеху, Фоме подсказала смена власти в Константинополе. Несмотря на то, что изначально девизом восстания, поднятого турмархом федератов, было «освобождение Империи от ненасытного зверя», который «под видом правосудия казнит, не милуя», а «под видом искоренения нечестия истребляет подданных», и что новый император прекратил преследования иконопочитателей и объявил помилование многим из попавших при Льве в немилость, это не остановило мятежников. Воцарение «какого-то там косноязычного мима» – со времени провала восстания Вардана Турка Фома взаимно недолюбливал бывшего доместика экскувитов – подало славянину мысль на первый взгляд несколько неожиданную, если не безумную, но по дальнейшему успеху показавшуюся ему прямо-таки внушенной Богом. «Самозванный император» – так Фома называл Михаила, предполагая на основе слухов, доходивших из столицы, что доместик совершил переворот со своими друзьями-придворными, а значит, являлся мятежником, к тому же отнюдь не благородного происхождения, – был совсем недостоин столь высокого положения. То ли дело император, хоть и свергнутый когда-то из-за властолюбия собственной матери, но вполне законный, рожденный в Порфировой палате Священного дворца! И Фома объявил себя Константином, сыном покойной императрицы Ирины, якобы чудесно спасшимся от ослепления и до сих пор тайно скрывавшимся под выдуманным именем: теперь его час пробил – настала пора получить обратно незаконно отобранный некогда ромейский престол. Успех этой выдумки в народе оказался столь велик, что Фома временами сам почти верил в нее. За полгода смелыми военными действиями он снискал такое уважение у арабов, что в результате переговоров с халифом Мамуном добился разрешения на коронацию. Она торжественно состоялась в Антиохии при огромном стечении народа: патриарх Иов возложил на Фому императорский венец, собравшиеся кричали «Свят!», певчие пели подобающие похвалы, – словом, всё происходило так, как обычно при коронации в константинопольской Великой церкви.
Церемонии проходили при поклонении иконам, и это породило в народе слухи, что Фома непременно восстановит почитание святых образов, если войдет в Город. Однако сам мятежник ничего определенного на этот счет не говорил – как и его константинопольский противник, он не хотел отталкивать от себя ни одну из сторон, ведь иконоборческие настроения были сильны, особенно среди военных. Мамуну Фома пообещал после взятия Константинополя прислать богатые подарки и, расточая халифу любезности, дошел до того, что сказал: «Мы верим в единого Бога, как и вы!» Это вызвало некоторое смущение среди окружения мятежника, зато халиф был очарован «ромейским владыкой» и даже выделил в помощь ему несколько отрядов конницы – знаменитых лучников, которые скакали наперегонки с ветром, налетали подобно вихрю и так же быстро исчезали, оставляя за спиной десятки воинов противника, пораженных меткими стрелами.
Когда войска Михаила вступили в Анатолик, они столкнулись с многотысячной армией мятежников и были разбиты. После этого Фома, воодушевившись, отправился в Пафлагонию, где почти все войска вскоре перешли на его сторону. В то самое время, когда в столице готовились к выбору невесты императорскому сыну, фемный флот, в результате ловко проведенных Фомой переговоров и сделанных им больших подарков и еще бо́льших посулов, присоединился к восставшим: друнгарий флота признал «Константина» законным императором и получил от него приказ сосредоточить все корабли у Лесбоса. Теперь из восточных фем лишь Арменьяк упорно противился Фоме: тамошний стратиг Олвиан не только не пошел на переговоры с мятежниками, но пригрозил суровыми карами всем, кто будет уличен в содействии «проклятым бунтовщикам». Но Фома не был этим очень обеспокоен: опьяненный победой над войском Михаила и общим ходом дел, более чем успешным, имея в своем распоряжении многотысячную армию, «Константин» направился к столице, оставив воевать в Арменьяке комита шатра Андрея, своего близкого друга. Агния, супруга Фомы, умерла несколько лет назад, детей у них не было, и теперь Фома, недолго думая, перед своей коронацией объявил Андрея приемным сыном, а после «венчания на царство» в Антиохии переименовал его в Констанция. «Констанций» был храбрым воином, но мало смыслил в стратегии и тактике, однако «отец» решил, что, даст Бог, бывшему комиту не придется вести серьезных боев с противником, и, дав «сыну» последние напутствия, двинулся на запад: Константинополь манил и дразнил воображение, нужно было торопиться.
4. Умеющая мыслить
(Сапфо)
- Между дев, что на свет солнца глядят, вряд ли, я думаю,
- Будет в мире когда хоть бы одна дева столь мудрая.
Через неделю после того, как все девушки, собранные для выбора невесты императорскому сыну, поселились в Священном дворце, Фекла вызвала к себе Сергие-Вакхова игумена и сказала:
– Господин Иоанн, у меня к тебе есть важное поручение. Мы собрали девушек для смотрин. Я уже выбрала из них четырнадцать, но я выбирала, глядя, прежде всего, на характер и телесные качества… Теперь нужно, чтобы ты побеседовал с каждой из них и оценил их умственное развитие. Ты ведь лучше всех знаешь Феофила с этой стороны, а я бы хотела, чтобы будущая невеста его не разочаровала… Тем более, что он сам просил меня позаботиться об этом. Если ты сочтешь, что какая-либо девушка в отношении ума плохо подойдет Феофилу в качестве подруги жизни, скажи мне, и мы не допустим ее до смотрин.
– Хорошо, государыня, – поклонился Иоанн. – Задание понятно.
«Но чтобы девицы оказались кладенцами разума, это весьма сомнительно», – подумал он.
Они обсудили, где и как лучше устроить беседы с «невестами», и Грамматик уже откланялся и направился к двери, когда императрица сказала:
– Постой, отче. Вот что еще я хотела сказать… Будь с девушками помягче… Нужно, чтоб они тебя не смущались и свободно выражали свои мысли. Женщины, – улыбнулась она, – любят обходительность и ласковое обращение. Ты уж постарайся, Иоанн! Хотя ты, наверное, как монах и ученый, не умеешь быть мягким… – она чуть не сказала «нежным», но сообразила, что это слово прозвучит не совсем уместно.
Игумен усмехнулся и ответил:
– Умел когда-то. Попробую вспомнить, августейшая.
– Правда? – спросила Фекла и тут же смутилась от заданного вопроса.
Иоанн тонко улыбнулся, вдруг взглянул императрице в глаза, пристально и глубоко – так, что у нее что-то сдвинулось внутри, – и сказал:
– Я ведь не всегда был монахом, государыня. Не беспокойся, августейшая. Думаю, я не испугаю эти юные создания, – и, еще раз поклонившись, Грамматик вышел.
Императрица некоторое время стояла неподвижно, глядя на закрывшуюся за Иоанном дверь. «Какой у него может быть взгляд, оказывается!» – подумала она, и тут же в голове вновь зашевелилась блеснувшая несколько лет назад догадка. «Все-таки что-то было?.. – думала она. – Он что-то должен знать! И пожалуй… пожалуй, это скоро можно будет проверить!» Немного спустя она сидела за столом с пером в руке.
«…Я хорошо знаю, Александр, что ты, как истинный монах, умерший для мира, никогда не желал поддерживать связей ни с кем из родственников. Но теперь я всё же решилась просить тебя приехать к нам хотя бы на несколько дней, чтобы мой сын и его будущая супруга могли попросить у тебя благословения и молитв. Уповаю, отче, что ты не откажешь мне в этой небольшой просьбе…»
– Надеюсь, он приедет, – пробормотала Фекла, запечатывая письмо.
Грамматик ежедневно беседовал с двумя девицами, и вот, наконец, настал день, когда после обеда он отправился на «умственное испытание» последней из отобранных «невест». Ему уже порядком наскучили эти собеседования, и от последнего он не ждал ничего нового. Патриарх, узнав, какое поручение дала Иоанну императрица, сказал с улыбкой:
– Смотри, отче, не растай, как воск на солнце! Ведь это будут первые красавицы Империи!
– Первая красавица и последняя дурнушка – равно есть совокупность костей, плоти и волос, владыка, – усмехнулся Иоанн. – Различия между ними могут интересовать в семнадцать лет, но в моем возрасте это смешно. Кроме того, меня в людях занимает более ум и внутреннее развитие, нежели внешность, а насчет ума этих красавиц у меня есть большие сомнения. Впрочем, как творения божественного искусства, они могут представлять предмет для созерцания частных случаев прекрасного, капли из великого моря красоты…
– Философ! – похлопал его по плечу Антоний. – Я знал, что ты ответишь что-нибудь в этом духе!
Грамматик, конечно, не мог сказать, что девицы были глупы и необразованны, а некоторых он нашел даже весьма начитанными и обладавшими остротой ума, – но, тем не менее, ни одна из них не сообразила ответить какой-нибудь подходящей цитатой на те несколько строк из Гомера, которыми он приветствовал каждую девушку. Впрочем, две из них даже не читали великого поэта – они учились грамоте исключительно по текстам Священного Писания и отцов Церкви. Еще четверо были знакомы с отцом поэзии довольно поверхностно, но и они, и прочие, читавшие знаменитые поэмы, в ходе беседы признались, что такая поэзия им не очень нравится – слишком много убийств и жестокостей.
– А «Одиссея»? – спросил игумен Феодору из Пафлагонии. – Она тебе тоже не нравится, госпожа?
– Она интересная, – ответила девушка. – Но главный герой там… просто негодяй! На месте Пенелопы я бы такого ждать не стала! – она слегка покраснела.
– Вот как! – улыбнулся Грамматик. – Прямо-таки негодяй? Не слишком ли суровая оценка?
– Не слишком! – Феодора тряхнула головой. – Из-за него взяли Трою… так подло! И потом… он погубил своих спутников! Например, когда они мимо Скиллы проплывали… Ведь он знал, что она должна пожрать кого-то, а все равно плыл… подлый!
– Но ведь он плыл не по своей воле, боги повелели ему.
– Боги! Да боги там вообще самые негодяи! – возмущенно сказала девушка.
– Это правда, – согласился Иоанн. – Остается утешаться, что всё это мифы… Но почему на месте Пенелопы ты не стала бы ждать Одиссея? Ее-то он любил, разве нет?
– Любил?! Да он столько времени провел в объятиях Калипсо, а потом еще и у Кирки… И это – любовь? Вот Гектор любил Андромаху, это да…
– Так тебе нравится Гектор? – спросил Грамматик с улыбкой.
– Да, Гектор мне нравится. Он мужественный, благородный…
– А Ахилл?
– Ахилл слишком горд и жесток… Разве такие могут долго нравиться?
– Брисеиде же нравился.
Разговор забавлял Иоанна: он уже больше двадцати лет ни с кем не говорил о поэмах Гомера с такой точки зрения.
– Она просто не успела его хорошо узнать, наверное. В Ахилле нет милости… Нет, Гектор там самый лучший! Как жаль, что его убили!.. Несправедливо! Бедная Андромаха!
– Гектора, судя по всему, было жаль и самому Гомеру… А ты, я вижу, любишь стихи, госпожа Феодора?
Собеседования с «невестами» проходили в императорской библиотеке, куда каждую из девушек приводили за полчаса до прихода Грамматика и предлагали почитать в ожидании какую-нибудь из книг, разложенных на столе. Все эти книги Иоанн мог узнать по обложкам и, уже входя в помещение, определял примерные вкусы девицы, с которой ему предстояла беседа. Удивили его только Олимпиада и Феодора. Первую он застал за Аристотелевским «О душе». Впрочем, когда он спросил, как ей нравится книга, девушка поморщилась и ответила, что «скучно и почти ничего не понятно».
– А хотелось бы понять? – спросил Грамматик.
– Да нет… зачем? Ведь святые отцы об этом учат правильнее, чем языческие философы! А если что у тех философов и было правильного, то святые отцы это повторили и сказали лучше.
Остальные девицы остановили свой выбор на житиях святых либо на Иоанне Златоусте, но Феодору Иоанн застал за чтением сборника стихов эллинских поэтов.
– Да, очень люблю, – ответила она на вопрос Грамматика.
– Чьи же стихи ты любишь больше всего?
– Сапфо, – ответила девушка, чуть покраснев.
– Наверное, это так… Только…
– Только что?
Она помолчала и ответила:
– Часто выбирают за одну красоту. Или за богатство, например. Ведь чтобы узнать, хорош человек или нет, надо с ним пообщаться…
– Верно. Но обычно судят по тому, из какой человек семьи, какое ему дали воспитание, и примерно определяют, будет ли он скорее хорошим или скорее плохим.
– Как будто это всегда помогает достичь желаемого! – пожала плечами Феодора.
– Желаемого чего?
– Любви… согласия… Родители, например, думают, что хорошо детям пожениться, потому что и он хорош, и она… вроде бы… А потом получается всякое… У людей ведь разные… понятия о хорошести! Вот, Сапфо правду говорила:
«А ведь меня только за красоту выбрали для участия в этих смотринах! – подумала девушка про себя. – Ну, про мое воспитание они могли расспросить дядю Мануила… Теперь вот, наверное, этот монах выясняет, какова я в общении… Только ведь так всё равно не узнаешь, насколько я хороша! Да я и сама не знаю этого…» Но вслух она ничего такого не сказала.
«Она неплохо знает лесбосскую музу! – думал между тем Иоанн. – Любопытно… Значит, девица не чрезмерно благочестива. Пожалуй, немного легкомысленна. Очевидно, ревнива… Впрочем, если Феофил ее выберет, то вряд ли будет давать поводы для ревности. Достаточно поэтична… Не так уж плохо! Правда, она еще и своенравна, как видно. Но Феофил вряд ли станет потакать женским капризам». Грамматик не видел среди девушек ни одной, которая была бы хоть сколько-нибудь ровней императорскому сыну, но это его не беспокоило. Иоанн не считал, что женщина должна быть такой же или хотя бы почти такой же умной, как мужчина – он и не верил, что она может быть такой. Впрочем, двух девиц – тех самых, что вообще не читали Гомера, – он порекомендовал императрице отстранить от смотрин – слишком уж они были «тупо благочестивы», как игумен выразился про себя. Фекле он, однако, высказал эту мысль мягче:
– Им явно не хватает гибкости ума, августейшая, Феофилу это никак не может понравиться.
Императрица была довольна тем, как Иоанн справляется с порученным ему делом: он действительно сумел повести себя с «невестами» так, что они чувствовали себя свободно в беседе с ним, невзирая ни на то, что он был чуть ли не втрое старше их, ни на его монашество. Фекла про себя удивлялась, как ему это удалось. Она похвалила игумена:
– Девушкам нравится беседовать с тобой! Ты и правда сумел их разговорить… Это замечательно!
– Да, они говорят то, что думают, – кивнул Иоанн.
– А ты? – вдруг спросила императрица.
– Я? – его губы тронула улыбка. – Я говорю только то, что считаю нужным.
– Никогда ничего лишнего? И тебе это удается?
Грамматик еле заметно пожал плечами.
– Я долго этому учился, августейшая.
В течение всего разговора игумен смотрел в пол или разглядывал мозаики на стенах и ни разу не взглянул в лицо императрице. Когда он ушел, Фекла вдруг поймала себя на том, что ждала, чтобы он посмотрел на нее так же глубоко, как в тот день, когда она давала ему поручение. Это несколько смутило ее: она ощущала, что с ней в последнее время происходит что-то ей самой не очень понятное, и это было связано с Иоанном. Как будто этот человек задал ей загадку, которую она не могла разгадать, – и неспособность найти ответ еще больше разжигала любопытство. Но она поспешила успокоить себя: конечно, загадка была связана с «таинственным прошлым», где пересеклись пути Грамматика и ее старшей сестры, – и она хотела выяснить, что же там произошло на самом деле, и только. Ничего более.
Хотя от будущих смотрин были отстранены лишь две девицы из четырнадцати, оставшиеся, по мнению игумена, тоже не могли похвалиться умением мыслить как одним из своих выдающихся качеств. С собранными «невестами», безусловно, можно было поговорить о предметах божественных и о писаниях святых отцов или о жизни подвижников, но о вопросах научно-философских – вряд ли. Правда, одна из девушек на удивление хорошо изучила «Шестоднев» Великого Василия, но это было всё же так мало по сравнению с познаниями, полученными Феофилом из книг и уроков… Однако глупо было бы ожидать таких же познаний от девиц! Да, в древности встречались примеры вроде Ипатии или Гиппархии, но то были исключительные случаи – и притом в век большей свободы для слабого пола… Позже разве что среди облеченных в пурпур можно было встретить исключения такого рода: Евдокия, Феодора… Впрочем, не потому ли, что первая, до того как увенчалась диадемой, была язычницей Афинаидой, дочерью философа, а другая – актрисой на Ипподроме?.. Прочие же, если чем и прославились, то больше властолюбием, житейской смекалкой и политическим чутьем, нежели развитым умом и способностями к философии. Пожалуй, это не так плохо – женщины и без того склонны во всё вмешиваться; что было бы, если б они делали это с умом!.. С такими мыслями Грамматик отворил дверь в библиотеку.
Двенадцатая из кандидаток на императорскую корону сидела за столом, подперев рукой щеку, над рукописью, в которой по зеленой обложке Иоанн опознал список диалогов Платона. «Однако!» – подумал игумен. Он знал, что в начале книги – как раз там, где, судя по количеству перевернутых страниц, читала девушка, – были «Парменид» и «Протагор». Что могло быть там интересного для девицы, чей точеный профиль он созерцал? А она так увлеклась чтением, что даже не заметила, как он вошел. На ней была лиловая туника и такой же мафорий, длинная коса свешивалась почти до пола. «Знатные волосы!» – подумал Иоанн, подходя. Девушка чуть вздрогнула, повернула голову и встала. И Грамматик, неожиданно для самого себя, вместо приготовленных им строк произнес другие:
Девушка вспыхнула и опустила взор, но тут же снова вопросительно взглянула на Иоанна огромными глазами, где словно бы плескалось море. Грамматик поклонился и сказал:
Он заметил, как на ее лице некоторое удивление сменилось волнением, а потом она улыбнулась, поклонилась в ответ и сказала:
Голос ее был очень мелодичен, и читала она удивительно красиво – Иоанн подумал, что она, верно, обучалась музыке и пению. Но ответ девушки явился для него такой неожиданностью, что он только спустя несколько мгновений нашелся, как продолжить диалог.
– «Подлинно, речь справедливую ты, о жена, произносишь». Всё же поведай мне род же и имя твое, о прекрасная дева!
Губы ее опять дрогнули в улыбке, и, немного подумав, девушка ответила:
– Признаюсь, госпожа Кассия, ты меня приятно удивила! – сказал Грамматик, жестом предлагая девушке сесть и сам усаживаясь напротив. – Ты интересуешься философией? – он кивнул на рукопись Платона.
– Да, я недавно стала изучать ее… Но ты не сказал мне твоего имени, господин. Или… это так и задумано?
– Нет, почему же, – улыбка пробежала по губам игумена. – Меня зовут Иоанн. О роде же моем, пожалуй, нет нужды распространяться. Ведь я, как видишь, монах, а у монахов, как известно, нет ни рода, ни земного отечества. Хотя Навсикая у Гомера и связывала разум с высотой рода, но вряд ли между ними существует неразрывная связь, ведь и «сын лучшего из греков» может сидеть с веретеном.
– Конечно. «Других не хуже нищий, если разум есть».
Иоанн внимательно посмотрел на девушку.
– Ты, я вижу, действительно много читала, госпожа Кассия. Нравится ли тебе Платон? Ты ведь тут читала «Парменид»? Или «Протагор»?
– «Парменид». Да, нравится. Правда, сложно… но интересно! Надеюсь, со временем я разберусь… Ведь я совсем недавно начала изучать Платона.
– Ты полагаешь, что для добродетельной жизни «надобно трудиться по мере сил, беседовать и со стихотворцами, и с историками, и с ораторами, и со всяким человеком, от кого только может быть какая-либо польза к попечению о душе»?
– Разумеется. И что «тот, кто уверен в правоте слов: “Не умеющий мыслить от каждого слова приходит в ужас”, – будет избавлен от вредного влияния многого, сказанного неправильно и впустую».
Во взгляде Иоанна блеснуло восхищение.
– Что ж, – сказал он медленно, – думаю, если будущий государь выберет тебя своей невестой, он не будет разочарован.
Девушка зарумянилась, подняла на него глаза и после едва заметного колебания тихо спросила:
– А велика ли вероятность, что он меня выберет?
В таких обстоятельствах Грамматик ожидал бы услышать в ее голосе надежду, желание… Но ему послышалось опасение. Это удивило его едва ли не более всего остального. Он пристально взглянул на Кассию.
– Разве ты этого не хочешь, госпожа?
Она опустила глаза и ответила еще тише:
– Нет.
– Почему же? «Иль быть царю утехой – жребий плох?»
Кассия вздрогнула.
– Может, и не плох, господин Иоанн… Но есть лучшие жребии… для людей разумных, – она улыбнулась. – «Здоров ли ум, когда корона манит?»
«Просто чудеса!» – подумал игумен и, встав, обошел стул, на котором сидел, и, опершись на его спинку, окинул взглядом девушку. Она сидела, сложив руки на коленях, и смотрела на него – независимая, свободная, явно не из тех, кто легко покоряется и отказывается от собственных суждений.
«Пожалуй, с ней можно вести интересные беседы, можно дружить, но можно ли с ней жить?» – подумалось Грамматику.
– Значит, ты не согласна с Гомером? – спросил Иоанн и прочел:
– Гомер ведь сам не носил пурпур, – улыбнулась девушка. – А те, кто его носили, называли его рабством и говорили, что цвет его мрачен… По-моему, они заслуживают большего доверия.
– Пожалуй, но, – Грамматик снова пристально посмотрел на нее, – как же ты попала сюда с такими воззрениями?
Она взглянула на него в замешательстве, вздохнула и ответила:
– Не решилась ослушаться матери.
– А, послушание родителям! – пальцы Иоанна стиснули спинку стула.
– Ведь это заповедь, – сказала Кассия, с любопытством глядя на него.
– Есть и другая: «не делайтесь рабами человеков». Но дети слишком часто становятся рабами своих родителей… а то и просто игрушками, орудиями их тщеславия!
Грамматик замолк, удивившись самому себе: он очень давно не говорил с женщинами сколько-нибудь серьезно на важные темы и почти свыкся с мыслью, что женщины и не способны к подобным разговорам. Но с этой девушкой не только было возможно, но и хотелось говорить серьезно. «Да, – подумал игумен, – пожалуй, это самая подходящая невеста… И единственная, не желающая избрания! Видимо, это закономерно…»
– О, это правда! – ответила между тем Кассия. – Но моя мама не такая… не тиранка, – она улыбнулась. – Тут другое… А в общем, я думаю, что если стараться соблюдать заповеди, то Бог устроит всё к лучшему. Поэтому я здесь… несмотря на мои взгляды.
Он несколько мгновений глядел на нее так пристально и остро, что она смутилась, и спросил:
– Хочешь испытать судьбу и получить подтверждение, правильно ли избран путь?
Кассия взглянула на него почти в испуге и опустила глаза.
– Пожалуй, – ответила она, помолчав. – Это грех?
– Не думаю, – он улыбнулся почти неуловимо. – Но это не для слабых духом.
– Почему?
– Тот, кто дерзает испытывать волю Божию, может навлечь на себя сильные искушения.
– Ну, что ж, – проговорила девушка, – пусть так! Всё равно отступать уже поздно.
«“Бог устроит все к лучшему”? – думал Грамматик, возвращаясь к себе после встречи с Кассией. – Она может надеяться на это… Но вряд ли такая вера поможет ей избежать пурпура! Я бы удивился, если б Феофил выбрал не ее! А впрочем, он ведь ничего не может знать о ее уме, – сообразил Иоанн. – По красоте же Феодора, например, не уступает… Хотя они такие разные… Но ведь и вкусы Феофила в этой области неизвестны. Что ж, посмотрим, улучишь ли ты свой “лучший жребий”, дева!»
…Феофил увидел мать: стоя у края площадки для верховой езды, она махала ему рукой. Повернув лошадь и легко взяв два барьера, он подъехал к августе и спешился. Фекла слегка пригладила растрепавшиеся волосы сына.
– Всегда любуюсь, глядя, как ты ездишь верхом! А я только что была у твоих невест, – улыбнулась она. – Двенадцать отобраны для смотрин, теперь уже окончательно. Девицы одна другой лучше… Иоанн говорит – тупиц среди них нет, так что главное твое опасение можно отбросить.
– Что, он уже со всеми успел побеседовать?
– Да, вчера вечером была беседа с последней. Он говорит, что в целом доволен… В общем, есть из чего выбирать!
Феофил и предвкушал назначенные через три дня смотрины, и боялся их. Шутка ли – предстояло связать себя на всю жизнь с той, которую он выберет! Мать умолкла, но он видел, что она чего-то не договорила… Может быть, она уже присмотрела девицу по своему вкусу, но ждала встречного вопроса? Феофил, однако, не слишком хотел спрашивать ее об этом. «В конце концов, – думал он, – мне жить с женой, а не ей!» Но всё же ему было интересно узнать ее мнение, поэтому он решил достигнуть цели окольным путем – и впервые за долгое время разговорился с матерью.
– Как их зовут? – спросил он. – Все из богатых?
– Не все, – ответила Фекла. – Двое из не очень богатых семейств, но тоже образованные и красивые… Трое из Города, одна из Солуни, одна из Афин, пятеро из провинций… Маргарита, Евдокия, Зоя, Агафия, Феодора, Анастасия, Елена, Кассия, Анна, Олимпиада, София и Василиса.
– Какое разнообразие имен! – улыбнулся Феофил. – Олимпиада! Маргарита!.. Кассия? Редкое имя… Так звали одну из дочерей Иова, «подобных коим по красоте не обрелось в поднебесной»…
– Надо сказать, что она соответствует, – сказала Фекла. – Редкая красота! Но девушка с характером…
– Что ж, неплохо!
– Это как посмотреть… Понравится ли тебе, если жена будет слишком самостоятельной? И… хорошо ли это будет для Империи?..
Феофил задумался, а потом чуть улыбнулся и продекламировал:
– Что это ты читаешь? Что-то знакомое…
– Софокл.
– Да, премудро!.. В общем, я думаю, что жена может быть советницей – отчего же нет? – но не шеей, вертящей головой…
– Ты думаешь, мною так просто будет вертеть?
– Нет, не думаю. Я-то тебя знаю, – улыбнулась Фекла. – Но, видишь ли… сходство характеров не всегда помогает уживаться друг с другом…
Феофил чуть нахмурился.
– Но надеюсь, у тебя всё будет хорошо! – императрица погладила сына по плечу. – Что до меня… мне понравилась Феодора. Красива, неглупа, нрава веселого… Стихи любит! Очень хороша! – Фекла улыбнулась. – Впрочем, все остальные тоже прекрасны… В любом случае выбор за тобой, мой мальчик!
5. Иль быть царю утехой – жребий плох?
(Иосиф Бродский)
- Апофеоз подвижничества! Бог
- Как раз тогда подстраивает встречу,
- когда мы, в центре завершив дела,
- уже бредем по пустырю с добычей,
- навеки уходя из этих мест,
- чтоб больше никогда не возвращаться.
Выбор будущей августы неуклонно приближался, и Кассия погрузилась в смутные мысли. Всё было очень странно – начиная с того, что она вообще оказалась во дворце, чтобы участвовать в смотринах, и кончая тем, что она уже две недели жила в великолепных покоях, где пол устилали ковры, стены внизу были облицованы белоснежным мрамором, а вверху расписаны чудесными фресками, потолок украшала мозаика из золотистых звезд и луны на темно-синем фоне, а окна выходили в благоухающий сад. Мебель тут была из эбенового дерева, постель застлана шелковым бельем и все радовало взор, кроме того, что в нише, служившей молельным углом, не было икон – лишь большой серебряный крест и лампада перед ним. Кассия выросла в богатом доме, но такое великолепие видела впервые. Раньше дворец представлялся ей совокупностью чрезвычайно роскошных помещений, но ей смутно казалось, что эта роскошь должна подавлять человека, однако теперь она видела, что это исполненное изящества и утонченности великолепие не давило, а почти завораживало. Только одни мозаики на полах можно было рассматривать часами, а еще росписи и мозаики на стенах и потолках, узоры, вытканные на занавесях и покрывалах… Всё это было очень красиво и, вместе с прекрасным садом для прогулок и чрезвычайно вкусными кушаньями, невольно наводило на мысль, что жизнь во дворце должна быть весьма и весьма приятной. «Но я не должна этого хотеть! Я уже решила от всего этого отказаться», – повторяла себе Кассия. А распускавшиеся под окном розы пахли опьяняюще и невольно уводили ее мысли совсем в другую сторону. И ловя себя на этом, она всё больше злилась на дядю за то, что он подстроил для нее такое искушение.
Георгий, узнав, что император решил устроить выбор невесты для сына, не преминул посуетиться и, однажды в полдень зайдя к сестре, сияющий, как новенькая золотая монета, объявил Марфе, что нужно «как следует подготовить Кассию к предстоящему визиту высоких гостей» – императорских посланцев, которые на другой день должны были придти снимать мерки с девушки на предмет ее возможного участия в грядущих смотринах. Марфа растерялась: с одной стороны, она понимала, что всё это придется не по душе Кассии; с другой стороны, было ясно, что невозможно будет не только отказать в приеме посланцам государя, но и отказаться от участия в смотринах, если найдут, что Кассия подходит для участия в них. Перспектива, открывавшаяся в случае возможного успеха дочери на смотринах, одновременно и пугала, и завораживала. Хотя это и казалось нереальным, Марфа слишком хорошо понимала то, чего до конца не понимала сама Кассия: девушка была настолько красива, что выбор ее невестой будущему императору становился более чем возможным. Но что делать с намерением дочери идти в монахи? Что делать с обещанием, данным Марфой когда-то Богородице? Наконец, что делать с тем обстоятельством, что император, хотя и прекратил гонения на православных, но к восстановлению иконопочитания, как становилось теперь понятно, не стремился?
– Неужели нельзя их не принимать? – спросила Кассия с досадой, когда узнала, что к ним придут императорские чиновники.
– Что ты! – сказала Марфа. – Об этом нечего и думать! Это могут счесть за оскорбление величества… Нынешний государь, конечно, не так суров, как прежний, но всё равно лучше поостеречься. Кто знает, что будет дальше?
Мать была права, но это нисколько не утешало девушку.
– И что же теперь? А если они скажут, что я… подхожу для участия в этих смотринах? Неужели мне придется участвовать?!
– Придется, – вздохнула Марфа. – По тем же соображениям. Нельзя лишний раз гневить августейшего, тем более если дело не касается веры. По крайней мере, пока не касается…
– Нет, это невыносимо! – Кассия с самого начала разговора теребила конец своего мафория, а теперь дернула так, что тонкая ткань с треском порвалась в ее руках. – Я не хочу! Ведь так можно… А что, если меня возьмут и выберут?
– Ты погоди волноваться, – улыбнулась Марфа. – Мы ведь еще не знаем даже, будешь ли ты участвовать в этих смотринах.
Но следующий день подтвердил все опасения, а взгляды, что кидали посланцы василевса на Кассию, эти опасения только увеличили…
– Ну, вот, – сказала девушка, когда они ушли, – всё складывается как нельзя хуже! Теперь еще придется являться во дворец… и жить там?! О, Боже!
– Зато хоть на дворец посмотришь, – пошутила Марфа.
– Очень нужно! Что мне в этом дворце?.. И ты еще говорила – не волноваться! Как же не волноваться? Ведь так… так меня и выбрать могут! И что – придется выйти замуж за императорского сына, по твоей логике? Чтобы не гневить августейшего?!..
Тут мать и дочь испуганно посмотрели друг на друга. Перспектива из застольной шутки их родственников все больше становилась реальностью, о которой они обе не только никогда не помышляли, но даже с трудом могли представить себя в ней.
– Кассия, – тихо сказала Марфа, – ты уверена в избранном тобой пути, что именно такова воля Божия?
– Уверена!
– Тогда ты должна верить, что если Господь призвал тебя на этот путь, то Он устроит так, чтобы ты стала монахиней. Разве не может Он сделать так, чтобы на смотринах тебя обошли стороной? Думаю, если Он благоволит о твоем монашестве, то императрицей ты не станешь. А с другой стороны, если так получается, что тебе придется и во дворце побывать, то значит, это тоже зачем-то нужно… Ведь мы не искали этого, не думали об этом, ничего не добивались, оно само так вышло. Мне кажется, что тут промысел Божий, и мы не должны ему противиться.
Кассия помолчала, нахмурившись.
– Может быть, ты и права… Но всё равно, давай тогда молиться о том, чтобы меня не выбрали, когда я попаду туда!
– Мне кажется, – улыбнулась Марфа, – молиться надо, прежде всего, о том, чтобы исполнилась воля Божия.
– Всё равно я буду молиться, чтобы Господь сподобил меня монашества! Я не хочу замуж! Даже за императора!
– Молись, конечно. Только не забудь прибавлять: «Да будет воля Твоя».
Кассия пристально взглянула на мать. «А ведь она, верно, была бы не прочь, если б я стала не монахиней, а императрицей!» – промелькнуло у девушки в голове. Но вслух она ничего не сказала. Что тут можно было возразить? Внешне рассуждения Марфы были верны…
Отец Дорофей, когда Кассия спросила его, надо ли ей идти на смотрины, ответил, что, конечно, это не то действо, в котором подобало бы участвовать избравшей монашескую стезю, но и доводы Марфы тоже небезосновательны, а потому, вероятно, следует всё же пойти, положившись на волю Божию. Кассия не была успокоена беседой с иеромонахом, но надеялась поговорить обо всем со Студийским игуменом. Когда после Пасхи стало ясно, что Феодор больше не появится в столице, она ужасно жалела, что раньше не написала ему письма, – а теперь было уже поздно… Оставалось послушаться мать. Может быть, действительно, прежде чем отказаться от всего, нужно было увидеть земное воплощение этого «всего» в наиболее яркой форме, – а где же это можно увидеть, как не в императорском дворце?
Однако, чем дольше она тут жила, тем сильнее становилось ее смущение. Великолепие обстановки было далеко не самым смущающим обстоятельством. Кассия не ожидала, что, например, императрица окажется такой… такой хорошей, совсем лишенной какой бы то ни было напыщенности, такой простой и в то же время внутренне утонченной. Фекла напоминала Кассии собственную мать, но девушка ощущала, что в императрице больше внутренней глубины. Они общались понемногу каждый день, а однажды ходили вместе в баню, – девушка догадалась, что это было сделано для того, чтобы августа лично посмотрела, нет ли в возможной невесте какого-либо телесного изъяна, – но это почему-то не смутило ее, а неприкрытое восхищение банщиц при виде девушки было ей приятно… Собираясь во дворец, Кассия воображала, что постарается вести там себя неприлично, дерзить и вообще показывать себя с плохой стороны, чтобы ее еще до выбора невест отослали обратно как неподходящую. Но стоило ей попасть в священное жилище ромейских василевсов, как ее дерзкие намерения пошли прахом. То ли общая торжественность действовала на нее так, то ли уют комнат, куда ее поселили, то ли предупредительность слуг, то ли мягкость императрицы… Что-то определенно не то происходило с ней – и внешне, и внутренне… «Так нельзя!» – говорила она себе, но в следующий миг та манящая приятность, в которую Кассия всё больше погружалась, живя во дворце, вновь окутывала ее, и она не находила сил противиться.
Разговор с ученым монахом в библиотеке разорвал пелену этой приятности подобно молнии, пронзающей облака. Значит, она действительно испытывала судьбу… и что, если Господь накажет ее за это, попустив такое искушение, которого она не сможет вынести достойно?.. «Зачем только я пришла сюда?! Надо было прикинуться больной, надерзить, отказаться снимать мерку, что угодно… хоть из дома сбежать!..» А мысль ее между тем обращалась к книгам, которые ей тут позволяли читать, к библиотеке, где ей довелось побывать, к монаху, с которым они так чудесно переговаривались цитатами… Она вдруг ощутила, что вся приятность, испытанная ею до сих пор от дворцовой жизни, меркнет перед тем умственным наслаждением, которое она могла бы получать, живя здесь. Наверняка этот монах был из приближенных василевса… И если император окружает себя такими людьми, значит… Да ведь этот Иоанн сам сказал, увидев ее начитанность, что если императорский сын ее выберет, то не останется недовольным!.. Она боялась думать дальше: перспектива подобного общения, какого она не имела до сих пор, если не брать в расчет не так давно появившегося у нее учителя с Андроса, была слишком соблазнительна и могла сделать мысль об избрании невестой для императорского сына еще более привлекательной… Еще более?!.. Девушка вскочила с плетеного кресла под чинарой, где сидела уже больше часа, возвратившись после встречи с Иоанном. Значит, она уже соблазнилась всем этим в помыслах и даже не заметила этого! Значит, неспроста задал ей этот монах – о, очень проницательный монах, она поняла это! – свой вопрос: «Иль быть царю утехой – жребий плох?»
Кассия поскорее вернулась в отведенные ей покои и, стиснув руки и устремив взор на серебряное Распятие, прошептала:
– Господи, прости меня, грешную! Спаси меня от этих соблазнов! Избавь меня от помыслов суетных, от страстей лукавых… Сподобь меня стать Твоей невестой!
Она долго молилась, пока, наконец, в душе ее не водворились покой и ясность. Девушка окинула взглядом комнату, подошла к окну, вдохнула цветочный аромат, смешанный с легким запахом моря, и, подняв глаза к уже темневшему небу, тихо проговорила:
– Скоро я уйду отсюда навсегда. И больше никогда не вернусь. Да будет!
За два дня до смотрин все «невесты» были представлены императору. Прием состоялся в тронном зале Магнавры. Препозит вводил девушек по одной и представлял василевсу. Приблизившись к императорскому трону, каждая должна была трижды поклониться, а затем Михаил удостаивал девушку краткой беседы, одаривал подарками и отпускал.
– Ну, как тебе невесты? – спросила вечером Фекла у мужа.
– Хороши! Но самые красивые там, конечно, двое… Во-первых, племянница протоспафария Георгия.
– Кассия?
– Да. Но я бы ее не выбрал.
– Почему?
– Такие женщины не умеют подчиняться… Слишком сильно будет влиять на мужа.
– Почему ты так решил?
Фекла втайне была поражена: муж облек в слова ее собственные ощущения! Но ведь она-то общалась с девушками, а он всего несколькими фразами обменялся с каждой… Откуда же такой вывод?
– Моя мать была из той же породы, – сощурившись, ответил Михаил. – Они, безусловно, умеют казаться этакими смиренницами и тихонями… да и то не всегда хотят это делать. Но в важном никогда не уступят и сумеют сделать так, чтобы было, как им желается… Впрочем, у этой девицы оно, думаю, не столь сильно, но, – он усмехнулся, – есть, есть… Кстати, а что сказал наш достопочтенный философ о невестах?
– Иоанн?.. Посоветовал удалить двоих, ты же знаешь… А больше ничего особенного не говорил. Говорит, остальные подойдут.
– Кто ему больше понравился, не сказал?
– Нет… Может, ему никто особенно и не понравился, не знаю…
– Да, философы разборчивы, – сказал император усмешливо. – А ты бы у него спросила о его вкусах относительно женщин! Он ведь, небось, сыночку-то нашему уже внушил свои понятия… Даром, что ли, Феофил до сих пор на женщин не глядит!
Фекла внезапно вспыхнула и быстро проговорила:
– Не думаю, что они обсуждали подобные темы! Тем более, что…
– Что?
– Иоанн – монах!
– Ха, ну и что, монах? У монахов тоже есть свои понятия о женщинах, разве не так?
– Послушай, ну что это за разговор? – с досадой сказала императрица. – Я уверена, что Иоанн не обсуждал с Феофилом женщин!
– Потому что это было бы низко, а он человек благородный? Согласен, дорогая. Но ведь он еще и умен, а умные люди умеют внушать определенные взгляды не прямо, так, что ты и не заметишь, как они это делают.
– Думаю, что тут нечего бояться. Мне еще Феодосия говорила… что Иоанн к женщинам относится с презрением. Но у Феофила этого нет, да и в монахи он вроде никогда не собирался.
– С презрением, говоришь? – Михаил неопределенно хмыкнул. – И к тебе тоже?
– Ко мне?.. – Фекла растерялась. – Н-нет, кажется… Но ведь при моем положении выказывать ко мне презрение было бы неприлично!
– При твоем положении? – император пристально посмотрел на нее. – А когда ты не была императрицей? Вряд ли ты стала бы так восторгаться человеком, который тебя презирает!
Августа снова покраснела.
– Когда я не была императрицей, – ответила она сердито, – Иоанн всего лишь иногда подыскивал мне книги, когда замещал библиотекаря… Конечно, его ум и начитанность не могут не вызывать восхищения, и я не вижу в этом ничего странного! Наоборот, было бы странно, – добавила она ядовито, – если б я не восхищалась умным человеком, ведь у меня немного в жизни было поводов общаться с такими людьми!
– О, да! – насмешливо воскликнул Михаил. – Здесь я проигрываю философу, не успев начать игру, ты права! Сдаюсь без боя! – он слегка поднял руки вверх.
Фекла поджала губы и гневно сверкнула глазами.
– Послушай, прекрати представляться! И вообще, довольно этих глупостей! Вернемся к нашей теме.
– Что ж, вернемся, – усмехнулся император. – Ты не сердись, дорогая! Я тоже думаю, что отец игумен, как истинный монах и философ, к женщинам должен быть совершенно равнодушен. Если он к чему и мог побудить нашего сыночка в этой области, то лишь к разборчивости…
– Возможно, и я считаю, что это неплохо! – оборвала его августа. – Так кто вторая девушка? Ты сказал: самых красивых две.
– Вторая? – Михаил улыбнулся. – Пафлагонянка.
– Да, мне она очень понравилась! И что ты думаешь о ее характере?
– Она – женщина!
Следующий день прошел в последних приготовлениях к «избранию всеромейской Афродиты», как пошутил патриарх Антоний. Незадолго до полудня императрица зашла в «школьную», думая найти там сына, но застала только Иоанна – он уже собирался уходить.
– Сегодня мы закончили пораньше, – сказал игумен. – Господин Феофил ушел примерять одеяние к завтрашнему действу.
– Хорошо, я поищу его там, – Фекла уже хотела уйти, но вдруг снова повернулась к Грамматику. – А что, Иоанн, как ты думаешь… сможет ли он завтра найти свое счастье?
Игумен чуть приподнял бровь.
– Это неразрешимый вопрос, августейшая.
– Даже для учителя Феофила… и для философа?
Иоанн посмотрел на императрицу.
– Читала ли государыня диалог Платона «Пир»?
– Да, – ответила Фекла, почему-то смутилась и добавила, словно в оправдание: – Это любимый диалог Феофила, он так хвалил его…
– Это действительно один из лучших диалогов Платона. Раз ты читала его, августейшая, то, возможно, помнишь рассуждения о двух половинах целого. Если, спрашивая о счастье твоего сына, ты имеешь в виду именно это счастье…
– Да, это, – сказала императрица и покраснела, отчего немедленно почувствовала досаду.
– Я так и понял, – Иоанн еле заметно улыбнулся, – потому и ответил, что вопрос неразрешим. Ведь я не могу определить, есть ли там та, которая может стать для Феофила «половиной». Точнее, у меня есть на этот счет кое-какие соображения, но они могут и не совпадать с действительностью. Ведь, согласно Платону, двое могут ощутить свою «прежнюю целостность», только встретившись друг с другом, но не раньше.
– И не позже?
«Боже мой, зачем я об этом спросила? – подумала она. – Какое это имеет отношение к Феофилу?» Но игумен, кажется, не удивился вопросу.
– Если верить Платону, – сказал он тоном, похожим на тот, каким читал лекции по философии, – близость, когда она есть, ощущается сразу. Правда, конечно, не всегда она может быть сразу осознана и, так сказать, определена. Поэтому, вероятно, есть смысл говорить о «позже», если иметь в виду, образно выражаясь, постепенное погружение в страсть. Впрочем, – добавил Иоанн с улыбкой, – это ведь всего лишь одна теория одного языческого философа.
– И ты в нее не веришь? – голос императрицы странно дрогнул.
– Я бы сказал, что не верю в ее всеобъемлемость. Ведь есть люди, обретающие счастье помимо «второй половины». Если даже оставить в стороне то, что для христиан такой «половиной» должен являться не человек, а Бог, всё равно и язычники зачастую находили больше счастья вовсе не в любви, а в дружбе, в ученых занятиях, в писательстве…
– В философии…
– Да, особенно в философии. Ведь и сам Платон не считал, что теория о «двух половинах» полностью выражает суть вопроса. Если ты помнишь, августейшая, Диотима у него говорит о том, что главное в любви – не просто стремление к целостности, а желание «родить в прекрасном». Но надеюсь, государыня, твой сын найдет то, что ищет. В любом случае мы в завтрашнем действе – лишь наблюдатели, не правда ли, августейшая?
В это время Феофил стоял перед большим зеркалом из полированного серебра; один кувикуларий золотой фибулой застегивал ему белую хламиду на правом плече, двое других поправляли складки, чтобы ровно лежали, а четвертый с беспокойством рассматривал ноги будущего соправителя, обутые в короткие белые сапожки из мягкой кожи, расшитые редчайшим черным жемчугом.
– Не жмут, господин Феофил?
– Нет, нисколько, – тот улыбнулся, пошевелил пальцами ног. – Как влитые!
Он спокойно разглядывал свое отражение в зеркале. Кувикуларии наперебой уверяли, что он неотразим, но он и сам видел это. Поразительная по великолепию одежда, которую он примерял, была сшита нарочно для грядущего выбора невесты. Уже завтра!.. Сердце Феофила слегка замирало при этой мысли. Сколько он всего читал о любви, а сам так до сих пор и не изведал, что это такое. И вот, завтра он должен был… кого-то полюбить? Разве можно это сделать вот так, по заказу?..
В зеркало он увидел, как в комнату вошла мать. Фекла, улыбаясь, подошла к сыну и остановилась, в восхищении глядя на его отражение.
– Ни одна девушка не устоит перед тобой! – сказала она, помолчав.
Феофил обернулся к ней и сделал кувикулариям знак рукой. Те отошли на почтительное расстояние, и мать с сыном продолжали разговор тихо, чтобы никто больше не услышал.
– Дело не в этом, – улыбнулся Феофил. – Вопрос в том, будет ли там та, перед которой не устою я.
– Ты действительно этого хочешь? – императрица взглянула ему в глаза.
– Да. Иначе какой смысл в этих смотринах?
– Надеюсь, что «даст тебе Господь по сердцу твоему»! – сказала Фекла и порывисто взяла сына за руку. – Я так хочу, чтобы ты был счастлив, Феофил!
– Я знаю, мама, – он обнял ее за плечи. – Но ты говорила про «знак избрания»…
– Да!
Она развязала висевший у нее на поясе шелковый мешочек и, достав оттуда какой-то предмет, с улыбкой вложила в руку сына. То было небольшое яблоко, очень искусно сделанное, с ножкой и листиком на ней, отлитое из чистого золота.
– Вот, это яблоко ты вручишь своей избраннице!
Поначалу Фекла не могла придумать, что должно стать «знаком избрания» невесты для сына. Перстень? Неплохо, но в этом не было ничего необычного, а императрице хотелось чего-нибудь интересного… Она спросила мнение мужа, но Михаил усмешливо ответил:
– Дорогая, я в таких вещах мало что смыслю. По мне, так перстень сошел бы вполне. А если тебе это не по нраву, так вон, у философа спроси, может, он что придумает!
«И правда! – подумала Фекла и вдруг обрадовалась. – Как я сразу не догадалась спросить у него!»
– А чем тебя не устраивает перстень, августейшая? – спросил ее Иоанн, когда она поделилась с ним своим недоумением.
– Мне кажется, это слишком заурядно! Хочется чего-нибудь… более поэтичного…
– Поэтичного?.. Что ж, в таком случае, государыня, я думаю, ответ ждет тебя на форуме Константина.
– Что ты имеешь в виду? – удивилась императрица.
– Там есть одна статуя, изображающая ответ, августейшая, – едва уловимо улыбнулся Грамматик.
Фекла вопросительно взглянула на него и вдруг вспомнила. Ну, конечно! Рядом с огромной бронзовой статуей Геры западную оконечность площади украшала красивая статуя Париса, протягивающего золотое яблоко Афродите.
– Яблоко для прекраснейшей! – воскликнула императрица с улыбкой. – Действительно, это будет поэтично и красиво! Благодарю, Иоанн, ты подал замечательную мысль!
Но ни мужу, ни сыну она не сказала, чьим изобретением был такой «знак избрания». Впрочем, они и не спрашивали.
– Хм… – Феофил разглядывал яблоко. – Ты прочишь меня на роль Париса?
– Почему нет? Ведь и ты должен выбрать прекраснейшую!
Юноша задумчиво улыбнулся, поворачивая в пальцах яблоко, заманчиво блестевшее в лучах света, лившихся в окно.
– Яблоко Париса стало на самом деле яблоком раздора, – проговорил он.
– Но ты же выбираешь не из могучих богинь, – снова улыбнулась императрица, – а из обычных женщин, так что вряд ли твой выбор вызовет Троянскую войну!
Она вновь заглянула сыну в глаза.
– Ты что-то мрачно настроен, Феофил?
– Да нет, мама, – улыбнулся он. – Я шучу. Думаю, всё будет, как надо!
– Конечно, мальчик мой!
Вечером Феофил, ложась спать, положил «яблоко Париса» под висевшим на стене серебряным крестом, на столик с хрустальной лампадой в подставке из белого мрамора с пурпурными прожилками. Огонек лампадки слегка колебался, сверкал на поверхности яблока и слабыми отблесками ложился на стол из темного дерева. Феофил какое-то время задумчиво смотрел то на огонек, то на яблоко, потом поднял глаза ко кресту и прошептал:
– Господи! Пошли мне завтра ту, которая… будет «моей половиной»! Устрой всё так, как нужно!
Он положил земной поклон, поднялся, сбросил тунику на скамью у стены и нырнул в постель. Днем Феофилу казалось, что в эту ночь ему будет не уснуть, но он тут же провалился в сон. Лампадка перед крестом тихонько горела, и огонек до утра играл на золотом яблоке.
…Двенадцать «невест» впервые увидели друг друга только тогда, когда собрались в одной из боковых сводчатых комнат Золотого триклина, ожидая приглашения войти в главный зал. И как бы ни были все девицы красивы, как бы ни велико в них могло быть самолюбие, свойственное красавицам и дочерям знатных родителей, они не могли не сознавать, что по красоте превосходили всех и в первую очередь должны были обратить на себя внимание императорского сына двое – черноволосая девушка с темными сверкающими глазами, одетая в белую тунику, расшитую золотыми виноградными лозами, и девушка в сине-серебристом платье, с темно-каштановыми волосами, изредка поднимавшая от земли взор огромных ярко-синих глаз. Обе они были чрезвычайно напуганы, но по-разному.
Кассию, когда она рассмотрела собравшихся девиц, охватило чувство, близкое к ужасу: хотя она знала, что красива, но только оказавшись среди первых красавиц, собранных со всей Империи, поняла, насколько вероятность быть избранной превышает ее самые большие опасения. «Ах, зачем я послушалась мать? Зачем, зачем я пришла сюда?! – вновь подумала она. – Господи, сделай так, чтоб меня не выбрали! Ведь Ты знаешь – я хочу быть Твоей невестой!» Сейчас, перед самыми смотринами, помыслы об императорском венце, так или иначе смущавшие ее в предыдущие дни, наконец-то совершенно ее оставили, уступив место страху – страху потерять небесного Жениха…
Феодора же боялась, что ее не выберут. Хотя она ни на миг не забывала о пророчестве отшельника Исаии, но, тем не менее, не была ни в чем уверена, а с того момента, когда окинула взглядом свою главную соперницу, всё больше нервничала, в ее глазах появился беспокойный блеск. «Откуда она только взялась такая?! – думалось ей. – И как одета! Такая вся холодная будто… Это, пожалуй, только делает ее еще привлекательней… Мне бы тоже больше пошло серебро… Ах, зачем я выбрала эту тунику? О Господи, уже поздно, ничего не исправить!.. Неужели он выберет ее, и отшельник ошибся?!.. Впрочем, – одернула она себя, – что это я так заволновалась? Может, он мне и не понравится, этот Феофил, а я уже так беспокоюсь, будто влюблена!..» На миг ей пришла мысль, что хорошо бы, если б императорский сын оказался уродом и глупцом, тогда было бы не жаль проиграть на этих смотринах. Но было известно, что он не был ни глупцом, ни уродом…
Однако он задерживался, а напряжение росло. Наконец, Елена, светловолосая девушка с серо-голубыми глазами, не выдержала и, чтобы разрядить обстановку, сказала с улыбкой:
– О, я не ожидала, что когда-нибудь окажусь среди таких красавиц! Но ведь, как видно, господин Феофил интересуется не только внешностью своей будущей невесты. Я так понимаю, что всем нам устраивали собеседование с монахом Иоанном?
– Да, да! – закивали девицы.
– Я тоже сразу подумала, что он проверяет, насколько мы благочестивы! – сказала Олимпиада. – Он спросил, нравится ли мне книга Аристотеля «О душе», и хочется ли мне ее понять. Но я, конечно, сказала, что ни к чему вникать в писания языческих философов, если есть святые отцы… К тому же этот Аристотель такой скучный! Я просто из любопытства решила взглянуть, мой брат всё любит его цитировать…
– Ой, а я вообще как открыла его, так и закрыла! – воскликнула Анна. – И стала Златоуста читать. Так что, – она улыбнулась, – никто не смог бы меня упрекнуть в неблагочестии.
– А меня тем более! – вмешалась Зоя. – Я читала житие святой Мелании Римляныни!
Тут Феодора не выдержала и прыснула.
– Что ты смеешься? – подозрительно посмотрела на нее Зоя.
– Да так… – девушка помолчала несколько мгновений, но не сдержалась. – Моя маменька всё пичкала меня этим житием!
– Разве оно плохое? – недоуменно сказала Маргарита.
– Да нет, – ответила Феодора ехидно, – но мне стихи больше нравятся!
– Стихи? – протянула Анастасия. – А-а, там были стихи, я заглянула… Да ведь там неприличные такие попадаются, я и закрыла сразу, подальше от искушения… А ты их читала?! – она насмешливо поглядела на Феодору. – Не умно! Ведь этот монах, наверное, всё доложил императорскому сыну!
– Ну и что, если и так? – с вызовом посмотрела на нее Феодора. – Откуда вообще известно, что Иоанн пытал нас на благочестие, а не…
– А не на ум, например, – с улыбкой сказала Кассия.
Глаза всех девиц обратились к ней. Она слушала разговор «невест», внутренне усмехаясь, и, наконец, не выдержала.
– На ум? – переспросила Агафия.
– Сколько я могу судить из собственного разговора с отцом Иоанном, – Кассия обвела взглядом девушек, – он испытывал вовсе не наше благочестие, а образованность, начитанность.
– С чего ты это взяла? – Олимпиада посмотрела на нее с плохо скрытой враждебностью. – А хоть бы даже и так, разве главное в умном человеке – не его благочестие?
– Благочестие – главное в любом человеке, по-моему, – нерешительно вставила Василиса.
– Ну, конечно, в любом! – сказала Олимпиада совсем уже раздраженно. – Я не то хотела сказать! Я имею в виду, что умному человеку вовсе не обязательно быть начитанным в языческих писателях, если есть отцы Церкви!
– Ну да, тем более – если говорить о женщинах, – согласилась Евдокия.
– Так думают многие, но монах, который беседовал с нами, другого мнения, – сказала Кассия и, не удержавшись, ядовито добавила: – Уверена, что он гораздо охотнее побеседовал бы об Аристотеле и Платоне, чем о житиях святых или о любовных стихах.
– Но он монах! – упрямо сказала Евдокия. – Им не положено!
– Монахам не положено читать Платона? – спросила Кассия с наигранным удивлением. – Разве есть такие правила?
– Ишь, умница нашлась! – прошипела Олимпиада.
Кассия даже не взглянула в ее сторону.
– Он и о любовных стихах беседовал охотно! – быстро проговорила Феодора и вспыхнула.
– И потом наверняка пересказал всё господину Феофилу! – рассмеялась Анастасия. – Подумай теперь, возьмет ли он в жены ту, которая из всех книг выбрала любовные стихи да еще обсуждала их с монахом!
– Откуда ты знаешь, что он пересказал? – воскликнула Феодора, ощущая, как у нее холодеет внутри. – Может, ничего он не пересказывал!
– Ну да, а зачем же он тогда с нами беседовал? – возразила Зоя. – И государыня, и государь! Наверняка, чтобы потом посоветовать жениху, какую невесту лучше выбрать! Ведь и раньше так бывало, мне отец рассказывал, что государыня Ирина для своего сына невесту избрала сама, хотя там был выбор как бы от лица императора. Но это так, просто для вида, для красоты…
– Нет! – Феодора чуть не топнула ногой.
Олимпиада и Анна засмеялись. Анастасия и Евдокия о чем-то шушукались, почти злорадно поглядывая на Феодору. Кассии стало жаль ее, и девушка уже хотела сказать в утешение, что Иоанн, судя по всему, не собирался влиять на императорского сына и выбор невесты должен быть «честным», как вдруг раздался тихий голос до того молчавшей Софии:
– Отец Иоанн никому ничего не пересказывал, я его спросила об этом, и я ему верю. И он действительно больше всего ценит ум и начитанность. Он сказал, что двух девушек отстранили от смотрин, потому что они заявили, что светская ученость вообще греховна… А то бы нас могло быть тут четырнадцать. Если б я могла, я бы поговорила с господином Иоанном… об Аристотеле, например. Но я этого не изучала…
– Но почему ты думаешь, что Иоанну интереснее было бы говорить об Аристотеле? – воскликнула Евдокия.
– Потому что я знаю, кто такой господин Иоанн, – улыбнулась София. – Мой отец с ним знаком, и Иоанн несколько раз заходил к нам.
– И кто же он? – спросила Василиса.
– Игумен Сергие-Вакхова монастыря, учитель господина Феофила, философ, богослов, один из главных советников императора.
Иоанн Грамматик!.. Кассия так и застыла. Этот еретик, софист, мучитель православных исповедников, запутавший и увлекший в ересь стольких людей, совративший в нечестие и доведший до гибели императора Льва, моривший голодом отца Навкратия и других подвижников! Это был он!.. О, как ей иногда хотелось повстречаться с ним и высказать ему всё, что она о нем думает! Она и в мыслях не держала, что с этим человеком может быть приятно общаться – настолько приятно и интересно, что когда их беседа в библиотеке окончилась, и Грамматик простился с ней, ей стало ужасно жаль, что нельзя поговорить с ним подольше!.. Она была так потрясена, что уже не могла слушать, о чем болтали девицы, но им и не пришлось продолжать разговор: портьеры, закрывавшие вход, раздвинулись и вошел магистр оффиций.
– Пожалуйте в зал, почтеннейшие и прекраснейшие госпожи! – и он вывел всех девушек в триклин.
Император уже восседал на троне, рядом с ним на другом троне сидела императрица, здесь же были патриарх с клиром Фарского храма, выстроенные по чинам синклитики в парадных одеяниях, стража со сверкающими мечами и щитами. «Невесты» издали поклонились василевсу, и по его знаку магистр оффиций поставил девушек в ряд под самым куполом, боком ко входу в триклин, каждую на белый, расшитый золотом круглый коврик.
Когда серебряные двери триклина распахнулись и Феофил, войдя, направился по вытканной золотом дорожке к «невестам», девушки повернули головы, и едва слышный вздох пронесся между ними. Они уже знали, что императорский сын красив, но действительность явно превзошла ожидания, и прекрасные создания затрепетали под взглядом внимательно смотревших на них темных глаз. Только Кассия не взглянула в его сторону. Ей вдруг стало ужасно стыдно, что она оказалась на этих смотринах, что сейчас этот молодой человек будет ее разглядывать, «словно прицениваться»! «Как будто мы тут как блудницы собрались! – мелькнуло у нее в голове, и Кассия в гневе закусила губу. – Кто только выдумал эту церемонию?!..»
Феофил шел по золотой дорожке вдоль выстроенных «невест», останавливаясь по очереди перед каждой, и девушки, как им было заранее указано магистром оффиций, кланялись императорскому сыну в пояс и называли свое имя.
«Я ни за что не буду на него смотреть! – думала Кассия. – Хотя нет, один раз все же придется, когда представляешься…» Она стояла восьмой от дверей, опустив глаза. И вот, наконец, она увидела перед собой руки наследника престола, державшие кончиками длинных пальцев золотое яблоко. Она поклонилась, выпрямилась и произнесла, поднимая глаза:
– Кассия.
И они замерли друг перед другом.
Феофилу показалось, что всё вокруг свернулось и исчезло, и осталась только одна она, стоявшая перед ним, – девушка, встреченная им прошедшей осенью в Книжном портике.
6. Выбор
Всё начинается с выбора.
(«Матрица»)
Когда Кассия взглянула на Феофила, она ощутила себя архитектором, который нарисовал план прекрасного дворца или храма, всё вымерял, рассчитал и пребывал в уверенности, что построенное по его чертежу здание будет стоять веками, – и вдруг вся постройка рушится у него на глазах до основания… Она поняла, что Феофил тоже узнал ее и поражен не меньше, но он проявил выдержку и не задержался перед ней дольше, чем перед другими девицами, а спокойной поступью пошел дальше, только золотое яблоко дрогнуло в его руках…
А перед ее взором поплыл тот сентябрьский день в прошлом году, когда она решила в очередной раз пойти в Книжный портик. Кассия и так уже собиралась туда зайти, а тут получила и письмо от владельца одной из тамошних лавок: он сообщал, что в лавку поступил хороший экземпляр «Метафизики» Аристотеля, которую девушка спрашивала еще в мае.
Под сводами портиков царило оживление: сновали туда и сюда торговцы-разносчики, слуги, чиновники, оборванцы, нищие… Запахи жареной рыбы, свежеиспеченного хлеба, пряностей накатывали волнами, смешивались, щекотали ноздри. Кассия, одетая в тунику из голубого шелка, с таким же мафорием на голове, надетом так, что лоб был закрыт до самых бровей, в сопровождении Маргариты и Фотины шла, опустив взор к земле и ни на кого не глядя. С утра она перечитывала последние полученные ею письма игумена Феодора и думала, что всё еще плохо исполняет его наставления и что вообще надо больше следить за собой, за своими помыслами, за тем, как она одевается, за походкой… «Я слишком красива! – думала она. – И зачем только?.. Лишний повод для тщеславия и искушений!» Но всё-таки когда она дома взглядывала на себя в большое зеркало в гостиной, ей втайне было приятно, что она красива…
Когда она зашла в книжную лавку, где заказывала рукопись Стагирита, помощник владельца приветствовал ее улыбкой, от которой вокруг его глаз залучились морщинки.
– О, юная госпожа удостоила нас своим посещением! Да, знаем, знаем, чего желает твоя душа! И откуда только столько ума в твоей прекрасной голове? Божий дар, Божие благословение!
Он достал с полки рукопись в обложке из коричневой кожи и положил перед Кассией на прилавок. Она раскрыла книгу. «Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать…»
Кассия перелистывала рукопись, проверяя, хорошо ли она переписана, когда с улицы раздалось цоканье копыт, а потом служанки за ее спиной вдруг зашушукались. Она оглянулась и увидела двух молодых людей, только что вошедших под своды портика. Юноши были одеты роскошно и в то же время с отменным вкусом. Один из них, на вид лет пятнадцати или шестнадцати, высокий, статный, был замечательно хорош собой. Другой, пониже ростом, с явно армянской внешностью, ничем особенным не отличался, кроме разве что горбатого носа и вьющихся удивительно мелкими кольцами черных волос. По поводу высокого юноши горничные Кассии и перешептывались: «Красавец!.. Глаза какие!..»
Обернувшись, Кассия встретила взгляд этих темных проницательных глаз. В первый миг в них вспыхнуло изумление, которое сменилось легким восхищением, смешанным с любопытством. Девушка тут же опустила ресницы и, отвернувшись, продолжала просматривать рукопись. Молодые люди поздоровались с продавцом, причем тот поклонился им с необычайным подобострастием, – очевидно, они были не просто из богатых семей, но из самого высшего круга столичной знати, – и тоже стали разглядывать книги, тихонько перебрасываясь словами. Возвращая книгу продавцу, Кассия уловила боковым зрением, что темные глаза следят за ней.
– Скажи, господин, – спросила она у продавца, – а есть другой список этой книги?
– Есть еще один, но он хуже. Этот гораздо лучше, истину говорю, госпожа. Но если угодно, могу дать посмотреть.
– Да, благодарю.
– Есть еще два сборника с отрывками из Аристотеля и других философов.
– Нет-нет, отрывками мне не нужно.
Она стала перелистывать протянутую ей книгу: действительно, много подтирок и помарок, почерк не очень ровный, первая рукопись и вправду лучше. Надо бы купить… Хотя текст сложный… Нужен учитель! Где взять хорошего преподавателя философии?..
Между тем молодой армянин, тихонько толкнув своего спутника в бок, сказал чуть более громко, так что Кассия поневоле прислушалась:
– Что, хороша?
– Ты уже определил, хотя «закрывшись покровом среброблестящим»?..
– По воскрилию видна риза!
– Так что же?
– Ну… – тут юноша повернулся к продавцу. – А что, господин, что это у тебя за книга?
– Которая, господин Василий?
– Да та, что ты сейчас положил вон на ту полку.
Он спрашивал о книге, которую только что держала в руках Кассия.
– Это, господин, «Метафизика» Аристотеля. Угодно посмотреть?
– Нет, благодарю, у нас она есть.
Армянин опять толкнул в бок своего юного друга и сказал:
– Ну? И ты еще спрашиваешь, «что же»! Не иначе как новая Ипатия! При твоих запросах…
– Помолчи, а? – в голосе высокого послышалась легкая досада. – Ты, вижу, хочешь отправить меня дорожкой Константина.
– Ну, почему же? Я просто…
– По-мол-чи.
Кассия подумала, что пора уходить. Но почему-то не ушла.
Тем временем озорной армянин, перелистывая одну из книг, снова заговорил, на этот раз уже совсем громко:
– Глянь! Какая тут приписка внизу страницы! «Не следует поступать наперекор Эроту: поступает наперекор ему лишь тот, кто враждебен богам. Наоборот, помирившись и подружившись с этим богом, мы встретим и найдем в тех, кого любим, свою половину, что теперь мало кому удается». Как раз ведь, а?
– Прекрати дурачиться, наконец! – ответил его друг.
– «Наш род достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим Эрота, – не унимался тот, продолжая читать, – и каждый найдет соответствующий себе предмет любви, чтобы вернуться к своей первоначальной природе. Но если это вообще самое лучшее, значит, из всего, что есть сейчас, наилучшим нужно признать то, что ближе всего к самому лучшему: встретить предмет любви, который тебе сродни». Эх, жаль, что продолжения нет!
Кассия слушала и, глядя в книгу, уже не видела, что в ней написано.
– «Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, – раздался голос высокого юноши, – обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена. Беременные же духовно беременны тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели».
Кассия поразилась: как здорово сказано! Что это они читают? Если цитату из «Илиады» она узнала, то этот автор был ей незнаком. Глядя на молодых людей краем глаза, она поняла, что армянин читал по книжке, но его спутник – цитировал наизусть!
– Это что, продолжение? – спросил юный армянин.
– Не совсем. Но это оттуда же.
– Ну и память у тебя!.. Но что же, ты решил стать философом, как учитель?
– «Кто хочет избрать верный путь ко всему этому, – продолжал, не отвечая ему, юноша, – должен начать с устремления к прекрасным телам в молодости. Если ему укажут верную дорогу, он полюбит сначала одно какое-то тело и родит в нем прекрасные мысли, а потом поймет, что красота одного тела родственна красоте любого другого и что если стремиться к идее прекрасного, то нелепо думать, будто красота у всех тел не одна и та же. Поняв это, он станет любить все прекрасные тела, а к тому одному охладеет, ибо сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой».
– Ну вот видишь! Всё-таки должен начать с того…
– Чтобы заняться «ничтожным и мелким»? – голос, который так странно трогал что-то в душе Кассии, зазвучал насмешливо. – А вот ты должен для начала отстать от меня!
– Эх!.. – сказал армянин и замолчал, но потом не удержался и добавил: – А всё же ты сам не думаешь, что это ничтожно и мелко! О, ты, лицемер!
Его собеседник не ответил.
Кассия вся была под впечатлением услышанных ею цитат, да и сами молодые люди… Похоже, они были очень начитаны, особенно высокий – он помнил наизусть такие книги, до каких она еще не добралась… Наверняка он цитировал какого-то философа… Она еще только дошла до философии, решила начать с Аристотеля. Да только учителя нет подходящего… А у этих молодых людей есть… Интересно, кто?.. И вот как они развлекаются! Она ощутила зависть: ей-то не с кем было вести подобные диалоги… а как это было бы здорово! Жаль, что нельзя включиться в эту игру! А ведь они это говорили нарочно для нее…
Она невольно взглянула в их сторону – и опять натолкнулась на взгляд темных глаз, бездонно глубоких. От этой глубины сердце начинало куда-то падать… Но смеющийся взгляд юного армянина, наблюдавшего за своим спутником и Кассией, привел ее в чувство. «Что это я?! – возмутилась она. – Пришла за книгами, а сама чем занимаюсь? И о чем думаю?.. Так-то я исполняю наставление отца Феодора! Господи, помилуй меня, грешную! Диалогов захотелось! Уж раз в монахи, то – на одиночество, ведь понятно!..» Она два раза сбивалась, пересчитывая номисмы, и, наконец, протянула их продавцу.
– Я беру тот список, что смотрела первым.
– Хорошо, госпожа.
Продавец ловко завернул книгу в квадратный льняной лоскут, Кассия передала ее служанке, попрощалась с продавцом и вышла из портика, опустив глаза. У входа она заметила оборванного мальчишку, который, кажется, наблюдал за происходившим в лавке. Он протянул руку, и Кассия, остановившись, достала из кожаного мешочка медный обол и подала ему.
– Да благословит тебя Бог, госпожа! Да пошлет Он тебе всех благ… и мужа хорошего!
Кассия закусила губу и даже пожалела, что подала мальчишке, но ничего не сказала и вышла, не оборачиваясь. Впрочем, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на двух арабских скакунов, стоявших у входа в портик. Кони были великолепны, особенно вороной, с белой звездой во лбу. «Этот, наверное, его…» – подумала она и тут же рассердилась на себя за эту мысль. Ну, с чего она взяла, что вороной принадлежит именно тому красивому юноше? И какое вообще ее дело до того, какой из коней чей?..
Она шла по Средней с нарастающим чувством досады. Уж если ей позволены такие прогулки в Книжный портик, то это ведь не повод для того, чтобы заглядываться на молодых людей! Совсем не повод. Тем более, что она уже всё решила… И отец Феодор строго предупреждал! А она – вот… Но что же за произведение они читали?.. «Разум и прочие добродетели…» «Встретить предмет любви, который тебе сродни…» «И мужа хорошего…» Бог уже послал ей Жениха – самого Себя. «Не ищи и не люби больше никого…» Да! и сомнений тут никаких быть не может… Не может!
Придя в тот день домой, Кассия поднялась к себе в комнату, прочитала несколько кафизм, положила поклонов, сколько было сил, попросила Бога избавить ее «от помыслов суетных и от страстей лукавых», и в ее душе всё успокоилось. Но сейчас…
Сейчас ее охватило смятение, какого она еще никогда не испытывала. Земля просто уходила из-под ног. Тот, чьей невестой она сегодня могла стать, оказался как раз таким, каким она когда-то, еще до призвания, представляла себе возможного жениха… И тот самый юноша…
Феофил между тем прошел всё так же медленно вдоль выстроенных девиц в обратную сторону. Кассия опустила глаза, но ощущала на себе его взгляд, словно он прожигал ее насквозь, и кровь приливала к ее щекам… «Нет, нет, – повторяла она мысленно, – что за глупости лезут мне в голову, этого не будет, этого не должно быть, я не хочу, я уже решила, я буду монахиней, а он ведь еще и иконоборец, ученик этого Ианния, нет, нет… Господи, помилуй меня, грешную!..»
А будущий император уже в третий раз проходил мимо девушек, одной из которых он должен был отдать руку и сердце… Вот подходит… И Кассию охватило ощущение неизбежности того, чего она боялась. Да! Он остановился перед ней.
Она стояла, опустив глаза, с виду спокойная, но ресницы ее задрожали. Он рассматривал ее с головы до ног. В другое время, если бы кто-нибудь стал ее так бесцеремонно разглядывать, она бы непременно почувствовала стыд, гнев, негодование… Но ничего подобного она сейчас не ощутила. Напротив, в ее душе вдруг стало подниматься что-то особенное, неведомое ей доселе, и внезапно она вся была охвачена этим новым чувством. Румянец сильнее заиграл на ее щеках. Чуть приподняв глаза, она увидела, как Феофил перекатывал из ладони в ладонь золотое яблоко. «Какие у него красивые руки», – подумала она и зарумянилась еще больше. «Ни за что не буду на него смотреть» – казалось теперь невозможным. Да и неприлично всё же… И она подняла на него глаза.
Взгляд Феофила скользнул по серебряной повязке, лежавшей на ее распущенных волосах, волнами ниспадавших на спину. Затканная серебром темно-синяя туника мягко обрисовывала фигуру, пояс охватывал высокую тонкую талию. Серебро создавало холодную атмосферу, затем Кассия и выбрала эти сине-серебристые оттенки и переплетения, но… Феофил посмотрел ей в глаза. Да, там он должен был бы увидеть тот же серебряный холод, ту же отрешенную синеву – но он читал в них другое…
Он узнал ее сразу, как только она назвала свое имя и подняла глаза, и в тот же миг понял, что судьба его решена. То, что на него нахлынуло в этот момент, не нуждалось в определении – это было то самое чувство, в своей способности к которому он уже было стал сомневаться, – то, о чем говорилось в любимом «Пире». Дальнейший смотр девиц был по сути не нужен – он уже не видел ни одной из них и даже едва слышал их имена. Правда, он несколько внимательнее взглянул на Феодору – с холодным любопытством: это вот ее прочила ему в невесты мать? Какая чушь!.. Когда Феофил во второй раз остановился перед Кассией, он почти испугался силы охватившего его чувства. Золотое яблоко, которое он держал в руках, могло принадлежать только ей, – это было несомненно, но… Что же она?..
Он тонул в ее глазах, как в море, а она падала в его глаза, как в бездну.
Но, понимая, что она охвачена тем же чувством, он всё же видел в ее взгляде что-то еще, словно барьер, который она пыталась установить между собой и им, хотя у нее и плохо получалось… Что это было?
«Если я протяну ей яблоко, возьмет ли она его?» – эта мысль могла показаться безумной: ведь она здесь, и он видит этот жар в ее глазах, чувствует ее трепет, ее волнение… Но что же тогда у нее там, в глубине, за стена, на которую он натыкается?.. А если не возьмет? Но что за вздор! Как это может быть, если она… А всё же… И так вот сразу поддаваться чувствам… В голове почему-то всплыли строчки из Гесиода:
«Им за огонь ниспошлю я беду. И душой веселиться Станут они на нее и возлюбят, что гибель несет им…»
Гибель?.. Если не она, то всё погибло!.. Но почему она смотрит так странно?.. Да или нет?..
Внезапно ему вспомнилось: «Чрез женщину излилось зло на землю…» Откуда это? А, да – «Слово на Благовещение» Златоуста, как раз недавно читали с Иоанном, и Феофил тогда подумал: параллель с эллинскими мифами про Пандору…
Всё это промелькнуло в его уме за какие-то мгновения.
Да или нет?.. Зачем он вообще хочет это знать?! Не он ли тут выбирает? Не обязана ли избранница покориться выбору?.. Нет, если «вторая половина», то согласие должно быть добровольным… Боже!.. Да или нет?
– Не правду ли говорят, – сказал Феофил, глядя ей в глаза, – что «чрез женщину излилось зло на землю»?
Кассия побледнела. Она поняла – будущий император спрашивал ее: «Ты согласна?» Он не хотел просто протянуть ей яблоко – не хотел выбрать против ее воли. Она молились, чтобы Бог отвел от нее этот брак, – и теперь она действительно могла избежать его. То самое подтверждение призвания, которое она втайне хотела получить, она получила, но не в том виде, в каком ей думалось, – не через то, что ее просто не выберут. Нет, ее выбрали – но с условием, что она сама должна сделать выбор. И вот, ей нужно было окончательно выбрать, за кем она идет, подтвердить свой ответ на Божий зов: «Если Ты зовешь, то я иду!» – и отвергнуть зов земного жениха. Конечно, надо только сказать… Но слова застряли у нее в горле. Она с ужасом поняла, что вместо «нет» хочет ответить совершенно противоположное. Пока они с Феофилом стояли друг против друга, между ними словно протянулись тысячи невидимых нитей, связывая их неразрешимыми узами, и она ощутила себя опутанной по рукам и ногам – не уйти… И самое ужасное – ей не хотелось уходить! Отказаться от него и навсегда расстаться? От этой мысли ей становилось тоскливо, больно и страшно, словно ей предстояло живой лечь в гроб и быть зарытой в землю… Она чувствовала, как незнакомый ей доселе жар разливается по телу, и понимала, что с ней творится… Нет! нет, только не это! Променять небесного Жениха на земного, хотя бы и императора? Любовь небесную на земную? Господи! Нет!..
Она опустила ресницы, но не удержалась и снова взглянула на Феофила. Взгляд темных глаз проникал в самую ее глубину, и всё начинало плыть внутри. Их влекло друг к другу настолько сильно, что оба едва сдерживались, чтобы не сделать шаг навстречу.
Нет!..
«Господи, помоги мне!»
В ее уме внезапно встали строки из письма игумена Феодора: «Золото и серебро, слава и благолепие и всякое земное мнимое благополучие есть ничто, хотя и называются добром, ибо они мимолетны и исчезают, подобны сновидению и тени. Что же дальше? Избрание монашеской жизни, которую ты обещаешь принять…»
Что сказал бы этот подвижник, увидев ее тут, так наряженную, стоящую перед красивым юношей и уже почти совершенно плененную им?!.. И она обещала! А теперь чуть не забыла о своем обещании!..
Кассия опустила взгляд к полу. «Господи, Иисусе Христе…» Лишь только она окончила мысленно молитву, как вдруг поняла, что Феофил процитировал ей фразу из Златоустова Слова на Благовещение! «Приведутся Царю девы вслед Нее…» Да! Она избрала свой путь, и не свернет с него. «Чрез женщину излилось зло на землю…» Что там дальше?.. А, вспомнила! Вот и ответ… Он должен понять!
– Но и «чрез женщину бьют источники лучшего»! – произнесла она тихо, поднимая глаза.
Взгляды Феофила и Кассии скрестились, как два клинка. Он видел, что она поняла смысл сказанной им фразы, и понял, что означал ее ответ: она отвергает и его, и корону Империи ромеев. Отвергает, несмотря на то, что он безошибочно прочел в ее глазах то же самое чувство, которое загорелось в нем.
Это было непонятно и… почти оскорбительно! Продолжила цитату! «Источники лучшего»… Да, умна! Но не такую ли жену он и хотел? Не о такой ли мечтал, когда удивлялся всеядности Константина? И… не о такой ли его предупреждал бедный друг? «Смотри, наткнешься на какую-нибудь умницу…» Ум и красота – всё, как ему мечталось… «Другая половина»! В этом не может быть сомнений! Но она не хочет быть его женой! Взять ее против воли, после того как она вот так… отвергла его?.. Нет, невозможно… И так уже… позор! Ведь все видели и слышали, как она ему возразила! «Понравится ли тебе, если жена будет слишком самостоятельной? И хорошо ли это будет для Империи?..» Мать права – и если он сейчас будет настаивать, это будет выглядеть по-ребячески, жалко: влюбленный умоляет капризную красавицу! О нет, этого не будет!.. Да и потом… она не из робких, как видно, может и яблоко протянутое не взять… Не хватало еще такого!.. Что ж, нет, так нет!
Рука, державшая золотое яблоко, резко сжалась. Кассия поняла, что это значило. Всё. Любовь отвергнута. Империя отвергнута. Будущий император оскорблен и обижен. И она знала, как ему больно, – потому что ей было больно так же. «Господи, я не вынесу…» – на миг ей показалось, что это невозможно, что надо взять свои слова обратно, потому что… Она почти не могла дышать – не только от своей боли, но и от той, что плескалась в его глазах, всё еще смотревших на нее…
«Как я узнал, – снова зазвучали в ее уме слова из письма Студийского игумена, – ты еще с детства избрала добрую жизнь ради Бога и стала невестой Христа. Не ищи и не люби больше никого. Кто прекраснее Его? Его красота пусть еще ярче сияет в твоем сердце, дабы ты угасила всякую страсть изменчивую и тленную…»
Боль как будто отхлынула от сердца. Да! Как она могла засомневаться?.. Да что там – совсем забыться!.. «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, грешную!» Синие глаза опустились и больше не поднимались на Феофила.
Среди девиц произошло движение. «Невесты» видели, что Кассия проиграла, но никто из них не понял, что Феофил обменялся с ней цитатами из слова Златоуста. И Феофил понимал это: в этот миг он знал с уверенностью ясновидца, что та единственная, которая могла бы составить ему пару, отвергла его. Другой такой он не найдет среди оставшихся, но у каждой из них сейчас бешено – и «алчно», как думал он с отвращением, – стучало сердце от мысли о браке с будущим императором… От тоски и боли Феофилу хотелось провалиться сквозь пол триклина куда-нибудь во мрак… никого не видеть и не слышать…
Удар был слишком силен, и самообладание изменило ему. Невыносимая боль залила душу, не давая свободно вздохнуть. Кого бы он теперь ни выбрал в жены – это уже не будет Кассия… Это уже не будет его половина… Всё равно, кого теперь выбирать… Боже! Так ли он думал жениться?! О том ли молился?.. Но что там говорила мать? Намекала на Феодору… Конечно, она очень красива, и если мать так хочет…
Побледневший и вмиг осунувшийся, Феофил отошел от Кассии и остановился перед Феодорой. Она замерла и даже перестала дышать. «Бог венчает тебя императрицей…» – зазвучали у нее в ушах слова Исаии. «Я сейчас умру! – подумала она. – Я не вынесу… Боже!» Она подняла на императорского сына глаза – такие же темные, как у него. И Феофил молча протянул ей яблоко.
Вздох пронесся по ряду девиц. Тут же заиграл орган, придворные громко запели славословия, и всё закружилось вокруг Феодоры, сжимавшей до боли в руке золотое яблоко, словно боясь, что оно вдруг исчезнет и всё окажется сном. Но, однако, к ней уже направлялась императрица, вокруг подобострастно засуетились кувикуларии… Патрикии с большими корзинами и серебряными блюдами выстроились у императорского трона, готовясь вручить подарки несостоявшимся невестам, кто-то из придворных уже засматривался на девиц…
Императрица повела Феодору к выходу из залы. Но перед уходом девушка украдкой взглянула на Кассию. Как эта синеглазая, только что по гордости и глупости – Феодора, как и прочие девицы, была уверена, что ее главная соперница возразила императорскому сыну, просто не подумав хорошенько, что из этого может выйти, – потерявшая красавца-жениха и целую Империю, могла после этого не рвать на себе волосы? А она так спокойна, словно ей и печали никакой нет!..
Кассия действительно радовалась. Хотя она сделала над собой огромное усилие и боялась, что не выдержит и выдаст свое смятение перед другими – Феофил видел, но другие – нет, нельзя, чтобы они увидели! – но когда всё было кончено, внезапно невыразимая радость воссияла в ее душе, и Кассия больше не могла сомневаться, что поступила правильно. Она знала, ради Кого она сделала этот выбор.
Придворные пели славословия, сочиненные нарочно к выбору невесты. Феофил слушал и не понимал, о чем пелось. Он позабыл, что нужно делать, и вздрогнул, когда подошедший магистр оффиций шепотом напомнил ему, что он должен занять место возле отцовского трона. Феофил опустился в золоченое кресло, избегая встречаться глазами с отцом – не хотелось выдавать перед ним свое горе и смятение. Он поймал тревожный взгляд матери, уходившей вместе с будущей молодой августой, но сделал вид, что не заметил его. «Не буду смотреть!» – подумал он, стиснув зубы, но всё-таки не выдержал и взглянул туда, где стояла Кассия. Теперь родственникам позволено было подойти к девушкам, и к Кассии приблизилась женщина в темных одеждах. Мать, – догадался Феофил. Кассия взглянула на нее и улыбнулась; Феофил смотрел, не в силах оторваться. Кассия с матерью подошли, чтобы поклониться императору перед уходом и получить подарки. Девушка не поднимала взора. Феофил смотрел, как она кланяется его отцу, как уходит в сопровождении двух кандидатов, и в глазах у него темнело. Когда Кассия вышла из триклина, Феофил на несколько мгновений закрыл глаза. Боже! За что?..
Наконец, все несостоявшиеся императрицы одна за другой покинули триклин. Придворные, выстроились, ожидая выхода императора. Феофил поднялся, чуть повернулся, натолкнулся на пристальный взгляд отца – и впервые в жизни не выдержал и отвел глаза. Ему хотелось поскорей остаться одному. Кажется, Михаил понял это, потому что встал, быстрее обычного сошел по ступеням трона и направился к выходу. Феофил шел за ним и пытался улыбаться. Придворные кланялись и выкрикивали обычные славословия, но он почти ничего не слышал – боль и обида заглушали всё.
За что?!..
…Случись выбор невесты раньше, Михаил, скорее всего, не понял бы, почему сыну так больно. Но теперь у него открылось другое зрение. Это произошло за неделю до смотрин и настолько выбило императора из привычной колеи, что почти все при дворе заметили в нем странную перемену: на его лице то и дело появлялось мечтательное выражение, внезапно сменявшееся мрачной тоской. Подобные настроения были настолько не свойственны Михаилу, что вызвали всеобщее недоумение. Впрочем, спустя несколько дней василевс справился с собой и стал вести себя по-прежнему, и никто не подозревал, что прежняя жизнь для него кончилась.
Ширившийся в Азии мятеж вызывал всё больше беспокойства в столице, а известие о том, что на сторону Фомы перешел фемный флот, посеяло среди синклитиков легкую панику. Михаил, однако, сохранял спокойствие, хотя всё меньше шутил и «представлялся», чаще ходил серьезный и даже хмурый. 14 апреля он самолично отправился в Свято-Троицкий монастырь, где уже семнадцать лет жила бывшая императрица Мария, первая жена последнего из Исаврийцев Константина. Монастырь этот, маленький и довольно бедный, находился недалеко от Силиврийских ворот, в малолюдном месте. Основанный императрицей Ириной в конце ее царствования, он еще не успел достичь процветания, как власть перешла в руки Никифора. Новый император кое-что сделал для благоустройства обители, но лишь потому, что Никифор, признав недействительным второй брак императора Константина, пригласил его первую супругу вместе с дочерьми перебраться из монастыря на Принкипо, где они проживали после изгнания Марии из дворца, в Троицкий монастырь в столице. В эту же обитель он приказал перенести тело Константина из основанной Феодотой «Обители покаяния», сказав, что покойный император «должен находиться рядом с законной супругой, а не с прелюбодейкой». Впрочем, тому были и другие причины: в то время началась смута, связанная с возвращением священного сана эконому Иосифу, Студийский игумен был сослан на Халки – слишком близко к месту жительства бывшей императрицы, с которой состоял в переписке, – и Никифор счел за лучшее удалить Марию с Принцевых. Старшая дочь Марии в ту пору была уже монахиней, а младшая приняла постриг перед самым переездом в Троицкий монастырь. С тех пор они с матерью подвизались в этой скромной обители и, казалось, были почти всеми забыты. Однако визит императора Михаила не удивил бывшую августу: до нее уже дошли слухи о том, что мятежник Фома провозгласил себя чудесно спасшимся от ослепления Константином.
Император вкратце сообщил Марии о выдумке бунтовщиков и о том, что Фома провозгласил какого-то негодяя своим сыном Констанцием, и спросил, сможет ли бывшая августа в случае нужды засвидетельствовать, что оба мятежника являются самозванцами.
– Разумеется, смогу, государь, – спокойно ответила Мария. – Мой муж умер, и я была на его похоронах. Сейчас его прах покоится здесь, в обители, ты можешь увидеть его саркофаг в храме… У Константина был сын только от Феодоты, но он умер, не дожив даже до года, насколько я помню… или, быть может, чуть позже. Звали этого младенца не Констанцием, а Львом. Больше детей у них не было. У меня с Константином сыновей не было вообще, только две дочери. Старшая, Ирина, умерла четыре года назад, а Евфросина подвизается в монашестве здесь, со мной.
Она говорила неторопливо, а василевс тем временем оглядел бывшую императрицу: ей было уже пятьдесят, она выглядела несколько болезненно, но всё равно можно было понять, что в молодости эта армянка была чрезвычайно красива. «Вот ведь! – подумал император. – Тоже придумали – выбор невесты, ого-го! А что вышло? Ничего хорошего!.. И у Феофила теперь… все готовятся, предвкушают… Но вот что из этого получится?..»
– Твоя дочь тоже может засвидетельствовать, что у нее не было никаких братьев, и что этот самозванный «Константин» ее отцом не является?
– Конечно, августейший. Но ты можешь и сам спросить ее об этом.
Мария попросила свою келейницу пригласить Евфросину. Дочь последнего из царственных Исаврийцев вошла в келью тихим шагом, опустив взор, поклонилась Михаилу, а затем матери и обратилась к василевсу:
– На многие лета да продлит Господь ваше царство! Чем я могу быть полезна августейшему государю?
Когда она подняла на императора огромные карие глаза, с ним случилось нечто странное: на несколько мгновений он начисто позабыл, зачем пришел сюда и что хотел спросить у этой монахини, невысокой, стройной, с молочно-белым лицом, к которому очень шел черный цвет. Михаил вдруг подумал, что пурпур пошел бы ей гораздо больше. Эту странную мысль сменила не менее странная: «Интересно, какого цвета у нее волосы?» Тут император опомнился: «Дьявол! Что это я?..»
– Почтеннейшая мать, – сказал он, – я хотел бы задать тебе несколько вопросов.
Ничего нового от Евфросины он не услышал: на его вопросы она ответила то же, что и бывшая императрица. Впрочем, Михаил не очень вникал в содержание слов, а больше вслушивался в голос монахини – грудной, мягкий, этот голос, вероятно, мог бы быть при случае очень нежным… Евфросина отвечала еще более кратко, чем ее мать, и разговор был скоро окончен. Однако император, вместо того чтобы отпустить монахиню, сказал:
– Мне бы хотелось, госпожа Евфросина, чтобы ты показала мне гробницу твоего отца. Мать Мария сказала, что она находится в монастырском храме.
– Да, в южном приделе, – ответила монахиня. – Разумеется, я покажу тебе ее, государь.
Когда они шли через монастырский двор к небольшому храму, Михаил спросил:
– Ты давно приняла постриг, мать?
– Двенадцать лет назад, государь.
– И тебе действительно этого хотелось?
Евфросина ответила после чуть заметного колебания:
– Я с двухлетнего возраста жила при матери в монастыре, эта жизнь стала мне привычной… Нам сюда, августейший, – они вошли в храм, и Евфросина указала направо.
Массивный саркофаг из вифинского мрамора, не украшенный ничем, кроме простых крестов по бокам и на крышке, стоял посередине южной стены в небольшой нише. Император перекрестился, Евфросина тоже, и они постояли молча какое-то время. Монахиня-лампадчица, засуетившись, зажгла три светильника, висевшие в нише над саркофагом, и отошла к противоположной стене. Михаил проследил за ней взглядом и повернулся к Евфросине.
– Так ты не ответила на мой вопрос, мать.
– На какой вопрос, государь? – спросила она, не отрывая глаз от саркофага.
– Хотелось ли тебе стать монахиней? Привычка и желание – не одно и то же, не так ли?
– Да, но… – она быстро взглянула на императора и снова обратила взор к отцовской гробнице.
– Но что?
– Разве нас спрашивали, чего мы хотим?! – сказала она очень тихо, но в ее голосе прорвалась горечь, и Михаил подумал, что, быть может, он был первым, кто задал ей такой вопрос. – Как только мне исполнилось шестнадцать, игуменья тут же сказала, чтобы я готовилась принять постриг. Сначала я пыталась оттянуть этот момент, но вскоре государь Никифор приказал нам перебираться с острова сюда, и меня постригли на другой же день. Должно быть, игуменье дали указание… А мама всегда хотела видеть меня в монашестве. И сестра… она с детства мечтала об ангельском образе, а когда постриглась, всё говорила мне, как это прекрасно, ждала, когда придет и моя очередь… Что еще мне оставалось делать?.. Впрочем, – словно спохватившись, добавила она, – я не могу сказать, что постриглась против воли. Так устроил Бог, значит, так было нужно…
– А если б у тебя был выбор?
Монахиня вздрогнула и подняла взор, в котором читалось совсем иное, чем только что сказанные ею смиренные слова. Глаза императора странно мерцали, и Евфросина не сразу смогла отвести взгляд.
– Какой смысл задаваться подобными вопросами, государь? – ответила она еле слышно, опуская голову. – У меня не было выбора, нет и уже никогда не будет.
7. Пораженные
(Эсхил, «Прикованный Прометей»)
- Мудрым, да, мудрым был тот,
- Кто задумал первым в глубокой груди,
- Кто первый дал заповедь людям:
- Каждый пусть жену себе вровень берет!
- И будет счастлив.
«А нечего было мечтать!» – подумал Феофил, покидая Золотой триклин. Он по-разному представлял себе этот день, но ему, конечно, не приходило в голову, что сразу после выбора он не захочет и словом перемолвиться ни с избранной невестой, ни с кем бы то ни было еще, что у него будет только одно желание – закрыться в своих покоях и никого не видеть, ничего не слышать… А ведь еще предстоял обед вместе с невестой и ее родней! Жаль, что нельзя сказаться больным!.. Войдя к себе, он на миг остановился и взглянул в большое зеркало на стене. «Прекрасен, как Ахилл», – говорили ему с утра кувикуларии… Одет, «как Соломон во всей славе своей»… Только для кого теперь всё это?!..
Пройдя в спальню, он отстегнул фибулу и бросил на столик в углу, снял плащ и швырнул туда же, затворил дверь на задвижку, постоял немного и, наконец, бросился ничком на кровать.
Он не знал, долго ли лежал так. Когда в комнату постучали, он сел, перевернул подушку, на которой виднелись мокрые пятна, встал и подошел к двери.
– Господин Феофил, скоро обед!
Уже!.. Он быстро причесался, хотел надеть плащ, но бросил обратно на столик, вспомнив, что обед будет неофициальным. Перед выходом снова погляделся в зеркало. Ничего, сойдет!.. А рядом сейчас посадят невесту… И впервые в жизни ему захотелось напиться.
Он прошел к столовой боковым коридором, и тут мужество опять изменило ему. Хотелось повернуться и сбежать… Чья-то рука легла на его плечо. Феофил оглянулся: это был отец. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза.
– Ты – будущий император, – тихо сказал Михаил. – Ты должен быть сильным.
Пальцы его слегка стиснули плечо сына.
– Да, – ответил Феофил и внезапно подумал, что отец не такой уж бесчувственный, каким они с матерью считали его…
Император слегка потрепал сына по плечу и сказал:
– Идем!
Феофил, чуть вздернув подбородок, вошел в столовую вслед за отцом. Слуги тотчас раздвинули портьеры на дверях с противоположной стороны, и появилась Фекла, а за ней Феодора. Императрица выглядела немного встревоженной, а невеста – так, словно держала в руках драгоценный ларец, боясь его открыть. После того как все четверо заняли места за стоявшем отдельно на возвышении золоченым императорским столом, через боковые двери трапезит начал вводить и рассаживать остальных приглашенных – это были родственники со стороны жениха и невесты, эпарх, логофет дрома, препозит священной спальни, великий папия и несколько других придворных.
Пока подавали первую перемену блюд, Феофил рассматривал своих новых родственников – тещу, сестер Феодоры с их мужьями, ее братьев Варду и Петрону. Тестя не было – Марин должен был приехать из Эвиссы только к свадьбе. Феодорины сестры втайне завидовали младшей, и даже не потому, что она должна была стать императрицей – это пока не совсем укладывалось у них в голове. Глядя на Феофила, каждая думала, что Феодоре невообразимо повезло: будущий император был потрясающе красив, прекрасно воспитан – это сразу показывали его манеры, – да еще, как все знали, хорошо образован… «Вот так сестрица отхватила! – думал Варда. – Интересно, точно ли он так умен, как про него говорят? Не завести ли разговор о философии?.. Впрочем, в таком собрании это, может, будет неуместно?» Он украдкой оглядел присутствующих и решил, что, уместно или нет было бы затеять за столом «умную» беседу, в любом случае не ему начинать ее – это выглядело бы чересчур дерзко, ведь Варда был тут одним из младших по возрасту…
Император, видя, что все друг друга пока еще стесняются, сам стал направлять разговор, шутить, несколько театрально делать комплименты будущей невестке и ее родне, умудрился развеселить даже строгую Флорину, и к третьей перемене блюд все уже чувствовали себя достаточно раскованно, а некоторые, в том числе супруг Каломарии Арсавир, были заметно навеселе. Феофил между тем то и дело знаком приказывал виночерпию подливать вина в свой кубок. Императрица заметила это и поглядывала на него с некоторым беспокойством. Наконец, она шепнула мужу, что неплохо бы урезонить сына – как бы ему не было плохо потом.
– Не лезь к нему! – отрезал Михаил шепотом, но жестко. – Пусть он сегодня делает, что хочет!
Каломария, поднимая очередной кубок, сказала, глядя на императорскую чету:
– Ваши величества! Позвольте мне рассказать одну историю из детства нашей дорогой сестры, которая сегодня удостоилась чести…
– И прочее! – прервал ее Михаил с усмешкой. – Так что́ за история, наша дорогая Каломария?
Молодая женщина улыбнулась и продолжала:
– Помнится, когда Феодоре было лет восемь, мы как раз обручили нашу сестру Софию с Константином, – она взглянула на молодых супругов, сидевших слева от нее, – и зашел разговор вообще о замужестве, Феодора вмешалась, и мы, я и мама, посмеялись над ней, а она тогда сказала: «Вот вы смеетесь надо мной, а я выйду замуж так, что вы все будете мне завидовать!» Да, как-то так она сказала. И вот, теперь нельзя не признаться, что она была права!
Феодора порозовела и украдкой взглянула на жениха. Феофил тоже посмотрел на нее, но как-то странно.
– Что ж, это приятно, когда сбываются мечты – и детские, и все остальные! – сказал император.
– Не выпить ли нам за это, государь? – предложил папия.
– Непременно! – ответил Михаил и повернулся к виночерпию. – Подлей-ка!
Тот изящным жестом поднял кувшин, и темно-красная жидкость полилась в золотой кубок. И тут Феофил, всё время до этого молчавший, что само по себе уже начало вызывать некоторое недоумение собравшихся, произнес негромко, но внятно:
– Мне кажется, не очень разумно хвалить вино, прежде не попробовав его!
Все посмотрели на него, и юноша, в свою очередь обведя сотрапезников взглядом, усмехнулся и сказал:
– Ведь еще неизвестно, способен ли я содействовать такому воплощению мечты, которому можно завидовать!
Повисла растерянная тишина. Впрочем, у императора был такой вид, будто он ожидал от сына чего-то подобного, но императрица выглядела испуганной. На лицах сестер Феодоры промелькнуло недоумение. Варда внимательно посмотрел на Феофила, тот перехватил этот взгляд и спросил:
– Господин Варда, ты изучаешь философию? – действительно, Арсавир уже успел упомянуть об этом за столом.
– Да, – ответил юноша.
– А господин Константин, должно быть, уже этот курс окончил? – Феофил обратил взор на мужа Софии.
– Э-э… – Вавуцик несколько смешался. – Я учился философии немного, но…
– Но недоучился? – спросил Феофил полуутвердительно. – Что ж, бывает. А что помешало доучиться? Вероятно, женитьба?
– Да, – смущенно ответил молодой человек.
– Понятно, – протянул Феофил чуть насмешливо. – Ничего удивительного. Брак вообще к философии не располагает. Это, так сказать, вещи несовместные… Еще Эпикур, уж на что он, казалось бы, считается далеким от аскетизма, а и то говорил, что мудрец не станет ни жениться, ни заводить детей, – заметив, что у супруги Константина глаза всё больше округляются, он улыбнулся ей и добавил: – Впрочем, я не хочу никого обидеть, разумеется. Каждому своя судьба!
Пока он говорил, Феодора сначала покраснела, потом побледнела, взглянула на жениха, опустила глаза, опять подняла… «Сестрица, конечно, не ожидала от него таких речей!» – подумал Варда.
– Но ведь Сократ, например, имел и жену, и детей, а его признавали одним из мудрейших! – осмелился он возразить.
– Совершенно верно, – согласился Феофил. – Но в итоге он оставил жену вдовой и детей сиротами, исключительно из любви к философии! Феофраст, помнится, говорил, что невозможно одновременно служить и книгам, и жене. Так что, господин Варда, могу дать тебе, а заодно и Петроне, – он взглянул на младшего брата своей невесты, – совет: подольше не жениться, чтоб хотя бы успеть окончить курс философии. Я не прав, господин Иоанн? – обратился он внезапно к логофету.
Тот едва не подавился от неожиданности и промямлил:
– Вероятно, прав, но… бывают случаи, когда женитьба…
– Становится делом государственной важности! – произнес император.
– Совершенно справедливо, державнейший владыка! – закивал логофет.
– О, да! – заметил Феофил с некоторым сарказмом. – «Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе», как сказал поэт, «истинно в целой вселенной несчастнее нет человека» и, добавлю, человеческого правителя! Правитель так или иначе неизбежно становится рабом своего положения. Однажды некий мудрец спорил кое с кем, кто считал, что нужно не философией заниматься, а посвятить себя государственным делам и упражняться в риторике. Мудрец сказал: «Ты видишь, беседа у нас идет о том, над чем и недалекий человек серьезно бы призадумался: как надо жить? Избрать ли путь, на который ты призываешь меня, и делать, как ты говоришь, дело достойное мужчины, – держать речи перед народом, совершенствоваться в красноречии и участвовать в управлении государством по вашему образцу, – или же посвятить жизнь философии?» Но если обычный человек может выбрать между этими двумя возможностями, то у императора выбора нет.
«Ого! – Варда мысленно присвистнул. – Он и впрямь начитан и умен! Что же будет делать Феодора с таким мужем? На одном Ахилле Татии тут далеко не уедешь…» Он уже успел сообщить сестре, что благополучно продал «сказки Эрота» эвисскому перекупщику. Тот удивился и сказал, что уже второй раз держит в руках эту книгу: впервые ему продал эту рукопись нотарий из Гангр, срочно нуждавшийся в деньгах, а вскоре ее купил один молодой человек, польстившись на красивую обложку и на слова торговца о том, что повесть рассказывает о любви и верности, поскольку намеревался подарить ее одной «прекраснейшей и достойнейшей девице». И вот, книга вновь вернулась к торговцу. Варда усмехнулся и сказал, что у первого покупателя не всё сложилось с любовью и верностью, и книга, видимо, пока не нашла своего настоящего владельца.
– Но, быть может, это и хорошо, что нет выбора? – несмело спросила Фекла. – Если чего-то невозможно избежать, то, по крайней мере, понятно, что воля Божия именно такова, и надо стараться жить в соответствии с ней…
– На первый взгляд, моя августейшая, только на первый взгляд! – усмехнулся император. – Сейчас у тебя, как будто бы, нет выбора, а завтра он может появиться. И кто поручится, что ты сделаешь его правильно?
Императрица искоса взглянула на мужа: к чему это он? Так, рассуждает вообще или имеет в виду что-то определенное? И если последнее, то… что именно?..
– Мне кажется, – подала голос Флорина, – в таких случаях полезно вопрошать святых подвижников, которым Бог может открыть, в чем состоит Его воля. Мы сами, конечно, люди грешные и часто не можем правильно понять…
– Святые подвижники скажут известно, что! – вдруг нервно рассмеялась Феодора. – «Смиряйся, молись, старайся избегать грехов!» Что еще они могут сказать? Глупо спрашивать, если и так известно заранее!
– Феодора!.. – Флорина с ужасом посмотрела на дочь.
У ее сестер и их мужей тоже округлились глаза, зато Феофил посмотрел на невесту с некоторым любопытством и сказал:
– Иногда подвижники могут сказать и что-нибудь отличающееся от общепринятого.
– Например, если они философы, – вставил Михаил и пристально взглянул на свою супругу.
Фекла внезапно смешалась и не нашла ничего лучшего, как подозвать виночерпия и попросить подлить ей еще вина.
– Философы могут сказать много интересного, даже если они и не подвижники, наверное, – заметил Константин Вавуцик.
– Разве философ может не быть подвижником? – возразил Варда. – Если, конечно, мы говорим о любви к Премудрости истинной и совершенной…
– Языческие философы, не знавшие еще ясно этой Премудрости, всё-таки тоже были подвижниками так или иначе, – сказал Феофил. – Кстати, господин Варда, ты узнал, откуда была цитата про два пути жизни?
– По-моему, это Платон, но я не помню, что это за произведение…
– «Горгий». А Стагирит утверждал, что «преизбыток добродетелей превращает людей в богов». Тоже не так уж далеко от христианства.
– «Бог встал посреди богов»! – процитировал из псалма Сергий Никетиат, муж Ирины.
Феофил кивнул и подумал: «Странно, я вроде бы уже много выпил, а всё еще не очень пьян… Даже способен философствовать…»
Варда оглядел сестер и подумал: «Да, бедная Феодора не ожидала такого оборота! Растеряна, определенно! А сестрицы пожалуй, теперь еще подумают, стоит ли завидовать… Мало найти сокровище, надо ведь суметь им воспользоваться!»
Феофил отпил еще вина и продолжал:
– Или вот, Платон в другом диалоге говорит нечто вполне согласное с нашим учением: «Уподобиться Богу – значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым».
– Действительно прекрасно сказано! – сказала Фекла с неподдельным восхищением.
– Дело за малым: понять, что же значит «разумно», – усмехнулся император.
– Может быть, – Феофил повернулся к Феодоре, – моя дорогая невеста что-нибудь скажет нам об этом? Ведь нам с ней скоро предстоит быть венчанными на царство, а правитель, как учили и наши, и языческие мудрецы, должен подавать пример подданным! По Аристотелю, он «больше всего старается о добродетели, ибо хочет делать граждан добродетельными и законопослушными», и наука о государстве «больше всего уделяет внимания тому, чтобы создать граждан определенного качества – добродетельных и совершающих прекрасные поступки». А раз правитель государства заботится о таких вещах, то он должен знать, в чем состоит истинное благочестие, не так ли?
Феодора совершенно потерялась. Все сотрапезники теперь смотрели на нее. Во взглядах сестер сквозило выражение: «Вот так попала, бедняжка!» Варда, очевидно, думал: «А что я тебе говорил? Вот теперь и хлопай глазами!» Императрица взглянула на девушку с легким испугом и тут же перевела глаза на сына, а он… Феофил смотрел на невесту выжидательно, и в его взгляде ей почудилось словно бы надежда – но на что? Неужели ему так хочется услышать от нее «философский» ответ? Она отчаянно пыталась вспомнить хотя бы содержание прочитанных когда-то страниц Аристотелева трактата «О душе», но вместо этого ей вспоминались стихи Сапфо:
– Я думаю… – проговорила Феодора и умолкла, не зная, что сказать дальше.
Феофил усмехнулся.
– Ну, когда надумаешь, скажешь! – и он отвернулся.
Феодора вспыхнула и ощутила, как слезы подступают ей к горлу. Император, наблюдавший за ней, улыбнулся и сказал сыну:
– Э, Феофил, разве можно в первый же день знакомства с невестой приступать к ней с такими разговорами?
– Совершенно справедливо, августейший! – воскликнул эпарх. – К тому же, сидя рядом с таким прекрасным женихом, как твой сын, невесте трудно думать о ком-то еще, кроме него!
– Да, тут впору последний разум потерять, – игриво сказала Каломария, – а не думать о разумном благочестии!
– О благочестии неплохо думать всегда, Каломария! – сказала Флорина с некоторой суровостью и обратилась к императору. – Думаю, августейший, быть благочестивым «разумно» означает – с рассуждением. Ведь рассуждение, как учат святые отцы, является наивысшей добродетелью.
– Э, рассуждать мы все горазды! – сказал Михаил. – Но кто поручится, что наши рассуждения верны? Впрочем, мы как-то отвлеклись… Разговор вроде шел о том, заниматься ли государственной деятельностью или философией, и что мудрецы предпочитали философию. Не так ли? – обратился он к логофету, тот кивнул. – Да, так вот… Действительно ли здесь есть противоречие? Ведь тот же Платон, кажется, о государственном устройстве тоже писал? Видно, и он признавал, что не всем надо бежать от дел управления? Как, Феофил? Ты-то должен знать, даром, что ли, вы там с отцом игуменом в философию углубляетесь?
Феофил слегка призадумался, у него в голове наконец-то зашумело от выпитого вина.
– «Государство» мы еще только начнем изучать на днях, – ответил он, – но Платон писал об этом не только там… Например, вот: «Мы можем назвать божественными и вдохновенными государственных людей: ведь и они, движимые и одержимые Богом, своим словом совершают много великих дел».
– «Сердце царя в руке Божией»! – торжественно возгласил препозит.
– Что ж, – сказал император, – полагаю, мы должны выпить за то, чтобы каждый из нас был движим Богом и смог стать… как там?.. «разумно благочестивым»? Так, Феофил?
– Да, отец.
«Только вряд ли это у меня теперь получится», – подумал он, поднося к губам кубок.
…На Константинополь опустилась ночь. Масляные фонари, едва разгоняющие тьму на улицах, непроглядный мрак в переулках. Огромные мохнатые звезды. Тишина.
Кассия не спала. Уже давно было прочитаны вечернее правило и по отрывку из Евангелия и Апостола, уже давно легли спать все домашние, а она лежала и не могла уснуть.
До сих пор она почти не думала о мужчинах, а встречая их восторженные взгляды, чаще всего ощущала легкую досаду, иногда смущение. Порой они даже бывали ей приятны, но при этом никогда не тревожили ее решимости посвятить себя Богу. Приходившие время от времени нечистые помыслы она легко отгоняла молитвой, они как бы проплывали по поверхности души и не задевали глубоко. Письма Студийского игумена утешали и утверждали ее при нападках уныния или сомнений. Грустные и даже трагические истории из чужой семейной жизни, слышанные ею от матери и от знакомых, утверждали ее доказательством «от противного». Она любила перечитывать слово «О девстве» святителя Иоанна Златоуста, так что почти заучила его наизусть. Да, всё в жизни Кассии было так понятно и твердо… до этого несчастного выбора невест!
Чувство легкости, пришедшее после церемонии во дворце, внутренний свет, осиявший ее душу, как-то незаметно исчезли. Она лежала в темноте, и перед ней вновь и вновь вставало лицо Феофила, его глаза… и жар опять разливался по ее внутренностям. В тоске она твердила Иисусову молитву, но внимание не сосредотачивалось на словах, и внутренний пламень не угасал. «Иоанн Грамматик оказался прав! – думала она. – Вот оно, наказание за то, что я дерзнула испытать судьбу, “проверить” призвание! Но, может быть, такое искушение надо претерпеть для опытности? А я-то думала, что пройдут все эти любовные страсти мимо меня! Нет, не прошли… Не надо было жить в такой уверенности и возноситься!»
Кассия встала с постели, пошла в молельню, зажгла лампаду перед иконой и стала класть земные поклоны, на каждый поклон повторяя: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!» Наконец, изнемогши, она легла и почти сразу уснула. Но под утро ей приснился Феофил. Он подошел к ней и протянул золотое яблоко, она взяла его, и юноша обнял ее и привлек к себе… Кассия проснулась в смущении и снова встала на поклоны, потом прочла несколько кафизм из Псалтири и села у окна, шепча Иисусову молитву.
«Чтобы не быть пораженной или не поразить», – вспомнилось ей.
– Не вышло! – прошептала она.
И опять эти темные глаза… И снова ее бросает то в жар, то в холод…
Светлое пятно легло на занавеску. Кассия встала, отодвинула ее и зажмурилась. Над Константинополем всходило солнце. Начинался новый день – но уже другой жизни.
8. «Пир»
(Феокрит)
- Сердце ж молвило мне: «Кто возмечтал, будто бы так легко
- Будет им побежден Эрос-хитрец, верно, мечтает тот,
- Сколько звезд в небесах ночью прошло, счесть по десяткам вмиг».
Прошли три недели с того дня, как уроки в доме недалеко от форума Константина были прерваны, и Лев поймал себя на том, что заскучал. Молодой человек удивился: он уже забыл, когда в последний раз испытывал скуку. Лев несколько лет прожил в окружении книг и не помнил, чтобы когда-нибудь скучал над рукописью. Но теперь он перечитывал Аристотеля и чувствовал, что ему не хватает чего-то существенного, важного, без чего чтение, казалось, теряло половину… или даже почти весь смысл.
Его математический ум, обнаружив и определив новое ощущение, быстро разложил его на составляющие, докапываясь до причин. Сомнений не было: он скучал по своей ученице. Открытие поразило его. Но это было так: он скучал по визитам в особняк с видом на колонну Константина из окна гостиной, по чтению в слух внимательной слушательницы, по ее вопросам, по обсуждениям прочитанного и… И по ней самой.
«Неужели я влюбился?»
Вопрос застиг его врасплох. Лев встал, потер лоб, прошелся из одного угла комнаты в другой, подошел к окну, поглядел на глухую стену противоположного дома, на кусок неба над крышей… Он уже седьмой месяц учил Кассию. Она восхищала своим умом и способностью быстро схватывать предмет, проникать в суть вещей, и учить ее было само по себе удовольствием, сравнимым с наслаждением от занятий науками. Конечно, ее красота тоже восхищала – но так, как восхищает красота совершенного произведения искусства или прекрасного творения Божия: Лев не смотрел на нее как мужчина на женщину, и исполнение обещания, данного Марфе, давалось ему без труда. Но теперь…
«А ты жениться-то не собираешься, сынок?» – вспомнился ему вопрос его старого учителя, которого Лев навестил, приехав с Андроса. Поразившись, в какой бедности он живет, Лев отдал ему половину денег, полученных от навклира «Европы». Старик со слезами благодарил бывшего ученика, долго слушал его рассказ о жизни на острове, задавал множество вопросов, и его угасший взгляд снова молодо заблестел, так что моментами Льву казалось, что перед ним снова тот бодрый преподаватель, у которого он когда-то изучал грамматику и поэтику…
– С Богом, сынок, с Богом! – прошамкал старик, услышав о планах Льва заняться преподаванием.
На вопрос о женитьбе молодой человек ответил:
– Да нет, не влечет меня это. Женщины, браки, дети… Только помеха научным занятиям!
– Э, да ты философски подходишь к делу! Добро! В твои годы это редкость!
Старик дал ему адрес Кассии и написал рекомендацию. Марфа при встрече сказала Льву:
– Да, моя дочь действительно хотела бы продолжить образование у более сведущего в науках человека… Я вижу, ты подошел бы, господин, но…
– Госпожу что-то смущает?
– Можно ли доверят твоей честности, господин Лев… и чистоте помыслов?
– Да, вполне!
– Я имею в виду, прежде всего, целомудрие. Ты молод, моя дочь тоже молода…
– Понимаю. Я мог бы поклясться…
– О, не нужно! Я вижу, тебе можно доверять.
До сих пор ему легко было оправдывать это доверие, и ни разу не приходила мысль о пересмотре «философского подхода» к вопросу о женитьбе. Но теперь, думая о Кассии, Лев внезапно понял, что на такой девушке он бы женился. Такая жена не была бы помехой в занятиях науками – напротив, она была бы помощницей, с ней можно было бы вместе читать и разбирать прочитанное, вместе докапываться до сути сложных вопросов… Но это не было только лишь умственным сродством. Сейчас, глядя на шероховатую стену соседнего дома, Лев осознал, что переоценил отсутствие у себя интереса к плотской стороне любви. Интереса не было только потому, что он до сих пор не встречал достойного объекта для интереса, вот и всё. Он мнил себя свободным от «низменной страсти» – и вот, она показала зубы. Придется «бдеть и не дать подкопать дома своего» до конца, коль скоро он не уследил, и подкоп уже начат…
А если… может быть… Может, она бы согласилась, если б он посватался?..
«Безумие! – думал Лев, входя во двор Кассииного особняка. – О чем я вздумал размечтаться? Нищий учитель – и одна из богатейших невест столицы! И красавица! А я…» Войдя в гостиную, где проходили их уроки, он впервые за всё время посещения этого дома приостановился перед зеркалом из полированной меди и посмотрел на себя. Губы его тронула ироническая усмешка. Невысокого роста, худой, слегка сутулый, Лев был далеко не красавцем. Поблекшая от многократных стирок одежда мешковато висела на нем и, конечно, не придавала ни изящества, ни лоска. Жидкая бородка, нос «римский», но слишком длинный… Если что и было очень хорошо в его лице, во многом скрадывая недостатки, так это высокий лоб и большие светло-карие глаза. А Кассия!.. Сейчас он увидит ее… И Лев понял, что «подкоп» зашел гораздо глубже, чем он предполагал. Главное теперь – суметь держать себя в руках и не подавать вида!
Выложив из сумки несколько листов пергамента со своими заметками и книгу, он сел за стол. При последней встрече они стали читать «Пир» Платона, и Лев обещал своей ученице по прочтении и обсуждении диалога сравнить его с «Пиром десяти дев» священномученика Мефодия Патарского, который Кассия уже прочла. Теперь все это выглядело для Льва двусмысленно…
Не показывать вида, только не показывать вида.
Он постарался придать лицу будничное выражение, но сердце колотилось ужасно. Как назло, предстояло читать «Пир», про «свою половину». Не выдаст ли он себя, например, голосом?..
Лев поднялся и отошел к окну, откуда была видна Порфировая колонна.
«Впрочем, – подумалось ему, – что я так беспокоюсь? Если даже она поймет, что я неравнодушен к ней… разве это что-нибудь изменит? Нелепо было бы надеяться на взаимность с ее стороны… Нелепо, нелепо».
– Здравствуй, господин Лев! – раздался сзади голос, всегда напоминавший ему музыку, а сейчас зазвучавший, как песнь сирены.
Кровь отхлынула у него от сердца, а в следующий миг бросилась в голову. Он обернулся и поклонился вошедшей девушке.
– Здравствуй, госпожа!
Кассия была одета в темно-зеленую тунику и закутана в такой же мафорий, даже лоб был полностью закрыт. Взгляд ее скользнул по лицу Льва, пробежал по разложенным на столе листам, на миг задержался на книге и устремился в пол. Легкая улыбка, показавшаяся на ее губах при приветствии, тут же исчезла. Лев подошел к столу, стараясь не смотреть на нее. Кассия достала из шкафчика чернильницу и подставку с перьями, поставила на другой конец стола, села, положив перед собой тетрадку, взяла перо, попробовала пальцем кончик и слегка откинулась на спинку стула, опустив глаза и положив руки на колени.
– Мы давно не виделись, – сказал Лев и осекся.
Три недели – разве это много? Это ему показалось, что много, потому что… Ну вот, он начал выдавать себя с первой же фразы!
– Да, – сказала она, – давно, – и тоже осеклась.
Последний их урок был в какой-то другой жизни, и ей казалось, что это было так давно, как будто и не с ней…
Ее ответ удивил Льва, и он, забыв, что решил не смотреть на Кассию, пристально взглянул на нее. Девушка была как будто бледнее обычного. Чем-то расстроена?..
– Мы ведь в последний раз начали «Пир» Платона, – сказала она, не поднимая глаз.
– Да, мы прочли вступление и речи Федра, Павсания и Эриксимаха. Ты помнишь, о чем они говорили?
– Нет, – виновато ответила Кассия и принялась листать свои прошлые записи. – Я что-то… всё забыла уже и в тетрадь не заглянула… Видишь, какая я нерадивая ученица!
– Пустяки! Сейчас мы всё вспомним, – Лев открыл книгу на закладке и пролистал назад. – В целом смысл сказанного Федром сводится вот к чему: «Эрот – бог древнейший. А как древнейший бог, он явился для нас первоисточником величайших благ». Он «самый почтенный и самый могущественный из богов, наиболее способный наделить людей доблестью и даровать им блаженство при жизни и после смерти».
Кассия словно бы поежилась.
– Да, теперь я вспомнила, – сказала она ровным тоном, глядя в тетрадь. – Вот, у меня тут записано… Павсаний говорил про двух разных Эротов, а Эриксимах про то, что Эрот живет во всем сущем. Про двух Эротов там было хорошо! – девушка несколько оживилась.
– «О любом деле, – Лев как раз нашел это место и стал читать, – можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, ни безобразным. Например, все, что мы делаем сейчас, пьем ли, поем ли или беседуем, прекрасно не само по себе, а смотря по тому, как это делается, как происходит: если дело делается прекрасно и правильно, оно становится прекрасным, а если неправильно, то, наоборот, безобразным. То же самое и с любовью: не всякий Эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить…»
– Это о любви божественной и земной, правда? – сказала Кассия.
– Да… Этот диалог вообще дает много возможностей для истолкования в христианском смысле, – Лев листал дальше. – Эриксимах развивает мысль о двух Эротах и заключает: «Эрот, который у нас и у богов ведет ко благу, к рассудительности и справедливости, – этот Эрот обладает могуществом поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться между собой и даже с богами, которые совершеннее нас». Итак, продолжим? – Кассия кивнула. – Следующей приводится речь Аристофана. Он излагает миф о происхождении людей. Этот миф, конечно, и сам Платон понимал символически.
Лев отложил закладку и начал чтение. Кассия сидела неподвижно, опустив ресницы, но Лев видел, что она внимательно слушает. Дойдя до утверждения, что каждый человек «всегда ищет соответствующую ему половину», – Лев запнулся. Ему пришла в голову мысль, что если это так, то настоящая любовь не может не быть взаимной, и потому… И потому, если он влюблен в Кассию, а она в него – нет, то эта любовь ненастоящая, и стыдно даже мечтать о браке. Но почему тогда так больно?.. Кассия взглянула на него вопросительно, и он, собравшись с силами, продолжил чтение.
– Занятное объяснение пороков! – усмехнулась девушка, когда он, спустя немного времени, остановился передохнуть. – Но мне что-то кажется, что этот Аристофан в диалоге вообще персонаж несколько комический… Может быть, Платон нарочно вложил ему в уста эти рассуждения о том, почему одни люди любят лиц противоположного пола, а другие – своего?
– Не исключено. Но если не обращать внимание на такое как будто бы оправдание пороков, то главный вывод из этой теории о рассеченных людях вполне верен… для земной любви, конечно. Впрочем, всё это можно возвести к высшему смыслу, ведь люди обретают целостность своей природы только в Боге. А земная любовь, – голос Льва чуть дрогнул, – увлекает тогда, когда человек уклоняется желанием от высшего Блага… Вообще, теорию о половинах и о любви как о стремлении ко благу, Платон развивает дальше, в разговоре Сократа с Диотимой… Но продолжим. «Когда кому-либо, будь то любитель юношей или всякий другой, случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время…»
Кассия опять поежилась. Лев вдруг понял, что она охвачена сильным смятением, и это открытие заставило его даже почти забыть о «подкопе», обнаруженном в собственной душе. С его ученицей явно что-то произошло за те три недели, пока они не виделись.
– «Поэтому каждый должен учить каждого почтению к богам, чтобы нас не постигла эта беда и чтобы нашим уделом была целостность, к которой нас ведет и указывает нам дорогу Эрот. Не следует поступать наперекор Эроту: поступает наперекор ему лишь тот, кто враждебен богам…»
Кассия вдруг ужасно побледнела, даже губы побелели. Лев испугался, что ей стало дурно, и прервал чтение. Она взглянула на него и сказала очень тихо:
– Продолжай.
– «Наш род достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим Эрота и каждый найдет соответствующий себе предмет любви…»
Тут голос Льва предательски дрогнул, но Кассия, кажется, вовсе не заметила этого; она внимательно слушала, по-прежнему бледная и неподвижная.
– «Ведь рассудительность – это, по общему признанию, уменье обуздывать свои вожделения и страсти, а нет страсти, которая была бы сильнее Эрота. Но если страсти слабее, чем он, – значит, они должны подчиняться ему, а он – обуздывать их…»
– Вот видишь, – Лев прервал чтения для комментария и чтобы перевести дух, – всё-таки здесь, в конечном счете, всё можно перевести на тему божественной любви. Ведь только она может «обуздать вожделения и страсти».
– Да, – тихо сказала Кассия, – только мы не имеем такой сильной любви…
– Но Бог обещал даровать ее ищущим, – сказал Лев, а про себя подумал: «Скор же я на правильные поучения, а сам-то хорош!..»
Кассия не пошевелилась, даже не кивнула. Лев продолжал читать. Дойдя до диалога с Диотимой и в очередной раз остановившись передохнуть, он снова взглянул на девушку. Она тоже подняла на него глаза, и в ее взгляде ему почудилось что-то жалобное, словно просьба о пощаде… Но она тут же опустила ресницы.
– «“Но любовь, – заключила она, – вовсе не есть стремление к прекрасному, как то тебе, Сократ, кажется”. – “А что же она такое?” – “Стремление родить и произвести на свет в прекрасном”. – “Может быть”, – сказал я. – “Несомненно, – сказала она. – А почему именно родить? Да потому, что рождение это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. Но если любовь, как мы согласились, есть стремление к вечному обладанию благом, то наряду с благом нельзя не желать и бессмертия. А значит, любовь – это стремление и к бессмертию”…»
Лев остановился и, отпив воды из стеклянного стакана, как всегда, предусмотрительно поставленного перед ним, сказал:
– Сколько тут всякого символизма! Красота, любовь и бессмертие!.. Кстати, пожалуй, в истории с яблоком Париса заключен тот же символизм: выбор прекраснейшей богини, и она оказывается богиней любви…
Щеки Кассии окрасились румянцем.
– А потом – Троянская война! – проговорила она. – Помнишь:
– Да, – глухо ответил Лев, – верно: всякий символизм двойственен. Любовь к божественной красоте ведет к бессмертию, а любовь к тленной – к войне страстей… Впрочем, Диотима дальше будет говорить о любви к «Прекрасному самому по себе»…
– Ну, продолжай тогда.
Лев продолжил чтение, а Кассия попыталась еще больше закутаться в мафорий, словно ей было холодно. Когда учитель дочитал до утверждения, что «душе подобает вынашивать разум и прочие добродетели», ученица вздохнула, как от боли.
– Боже мой! – прошептала она.
Голос Льва дрогнул; он взглянул на свою слушательницу. По ее щекам текли слезы. Она провела руками по лицу и встала.
– Прости, господин Лев, – сказала она через силу, – мне сегодня нехорошо… Может быть, закончим на сегодня? Дочитаем завтра, мы уже и так много прочли… Ты устал, я вижу…
– Да, госпожа, я и правда устал, – Лев внезапно охрип. – Действительно, лучше продолжить в следующий раз… Тем более, что там еще довольно далеко до конца.
– Книгу можешь оставить здесь, – сказала Кассия. – А на завтра я приготовлю и «Пир» святого Мефодия. Если дочитаем, то сравним…
– Договорились! – сказал Лев нарочито бодрым тоном. – До завтра, госпожа Кассия!
– До завтра! – эхом откликнулась она.
Когда Лев вышел, Кассия опустилась в кресло и какое-то время сидела неподвижно. Потом встала словно с трудом, подошла к столу, открыла оставленную учителем книгу на закладке и, прочитав немного дальше, закрыла рукопись и прошептала:
– Да, если б можно было так… как друзья… «вынашивать разум и добродетели»!.. Только всегда мешается эта «Афродита пошлая», завязывается Троянская война, Афродиту надо «разить острою медью»… И тут уже не до того… И достойно «родить в прекрасном» уже не получится… у нас с тобой, Феофил!
И, впервые произнеся вслух его имя, она закрыла лицо руками и заплакала.
…До свадьбы оставалось меньше двух недель. Феофил продолжал ежедневно заниматься с Иоанном философией. Они начали изучать Платоновское «Государство». Грамматик читал и объяснял, Феофил слушал, кое-что записывал, иногда чему-то усмехался, исправно отвечал на задаваемые учителем вопросы, но сам спрашивал мало и после занятий не задерживался. Накануне Вознесения Господня Иоанн спросил по окончании урока:
– Завтра, как я понимаю, мы не занимаемся?
– Нет, – ответил Феофил и, поднявшись из-за стола и подойдя к окну, сказал: – У меня есть вопрос, Иоанн, правда, не по «Государству», а по изученному ранее.
– Какой же?
– Вот мы разбирали «Пир», «Федр»… Ты всё хорошо объяснял… Все эти символические толкования, это понятно. Но меня сейчас больше интересует буквальный смысл. Ты, правда, и про него упоминал, но вскользь… Что ты сам-то об этом думаешь?
– О чем именно? Там ведь много всего.
– О любви.
Иоанн пристально поглядел на ученика. Феофил, чуть сощурившись, смотрел в окно. Грамматик, конечно, знал о происшедшем во время выбора невесты и ждал, что Феофил так или иначе заговорит об этом.
– О любви в высшем смысле, о которой говорила Диотима, или о земной? – спросил Иоанн.
– О последней.
– Думаю, что любовь это временное расстройство ума.
– И только? – взглянул на него Феофил.
Что-то такое было в его взгляде, что Грамматик понял: случившееся на смотринах будет иметь гораздо более глубокие последствия, чем могло показаться неискушенному наблюдателю.
– В общем и целом – да.
– А в частности?
– Кипение крови, особенно в юности. Пожалуй, некоторая душевная слабость.
– Кипение крови, – усмехнулся юноша, – может быть и без любви.
– Конечно. Но любовь придает ему гораздо большую силу.
– Да, – сквозь зубы проговорил Феофил. – А душевная слабость тут при чем?
– Если у человека не хватает внутренней силы, он, сознательно или бессознательно, ищет, на кого опереться. Как нужна опора, например, плющу, чтобы расти.
– Не хватает силы на что?
– На одиночество. Впрочем, подобная слабость обычно свойственна женщинам. Должно быть, последствие проклятия, изреченного праматери.
– «И к мужу твоему влечение твое, и он будет властвовать над тобою»?
– Именно.
– Значит, – опять усмехнулся Феофил, – женщина, в отличие от мужчины, имеет право на душевную слабость?
– Если подходить к этому по-христиански, то владеть собой обязательно для всех. Впрочем, так считали еще языческие философы, а христианам – Сам Бог велел. Ведь желательную силу души нам надо устремлять к Богу.
– Это понятно. «Возлюбить всем сердцем, всем умом…» А платоновская теория о «двух половинах», по-твоему, ложная?
– Нет, вероятно, такие случаи встречаются в жизни, но не так уж часто. Большинство людей неплохо обходятся без этого. Не думаю, что Платон придавал большую важность буквальному смыслу этого построения, ведь главное в «Пире» то, что говорит Диотима, а она развивает несколько иной взгляд на любовь, в том числе и на земную. Если бы все для вступления в брак искали того, о чем говорит Аристофан у Платона, почти всем пришлось бы идти в монахи.
– Ты потому и пошел, что не нашел?
– Я?.. Нет. Я никогда и не стремился «найти свою половину».
Феофил взглянул ему в лицо.
– Как истинный философ! – сказал он с неопределенным выражением, вновь отвернулся к окну и добавил: – «Сердце в груди у тебя, как секира, всегда непреклонно»!
– Я думаю, – сказал Грамматик, – что власть над собой всего ценнее… И не стоит платить за нее расстройством ума, связанным с женщиной.
– Возможно, – пробормотал Феофил.
«Но что делать тому, кого это расстройство уже постигло?» – подумал он, а вслух сказал:
– Тогда христианину точно лучше никогда не встречаться со «своей половиной»… Что ж, логично: ведь мы должны стремиться к высшей любви, по тому же Платону, к Прекрасному самому по себе, к Богу…
– Да, – кивнул Грамматик. – Кстати, о душевной слабости… Я сказал, что она больше свойственна женщинам, но и мужчина, бывает, подпадает ей, если слишком увлекается поэзией.
– Поэзией? – Феофил посмотрел через плечо на учителя и снова устремил взгляд в окно.
– Да. В сущности, «две половины» у Платона – это во многом поэзия. А в отношениях с женщинами поэзии должно быть поменьше… По крайней мере, лично я думаю так.
Феофил слегка побарабанил пальцами по подоконнику.
– В таком случае, – сказал он с иронией, – законный брак это просто насмешка и над язычеством Платона, и над христианским подвижничеством! Ведь душевно-плотское влечение, соединяющее, по Платону, две половины целого, эта самая «поэзия», есть страсть. Для христианина страсти вредны, с ними надо бороться, отрекаться от них… В то же время, по апостолу, муж и жена есть «едина плоть», то есть в браке, якобы, эти самые две «половины» должны соединиться в целое… Как же может получиться это целое при отсутствии связующего состава? Просто вследствие церковного благословения? Или, может, вследствие плотского соития самого по себе? – юноша усмехнулся. – А если нет внутреннего единения «двух половин», то что остается? Только голая похоть – то есть то, что для христианина наиболее греховно! Ты не находишь, что христианский брак с такой точки зрения выглядит довольно странным установлением? Я бы сказал, он содержит в себе внутреннее противоречие. Ведь если говорить о более высоком единении «двух половин», то «вынашивать разум и прочие добродетели», вместе стремиться к Богу и к духовному совершенству, чтобы «родить в прекрасном», можно, и не вступая в брак. Для этого не нужно ни спать друг с другом, ни детей рожать, ни вести общее хозяйство… Можно даже и не жить рядом, а только переписываться… Получается, брак нужен только для того, чтобы под его сенью удовлетворять плотские страсти. При чем тут христианство?
– Не при чем, – ответил Грамматик. – Брак это снисхождение для немощных христиан, не более того. Недаром же отцы говорят, что он допущен только как меньшее зло по сравнению с блудом, «да не искушает сатана». Златоуст учит, что немощные, воспитываясь в браке, «как птенцы в гнезде», должны восходить к совершенному житию – девственному, а более сильные… или, скорее, более разумные восходят к нему сразу, минуя брак. Вообще же в браке надо видеть нечто вроде союза людей, желающих спастись.
– Рожать детей и помогать друг другу спасаться… терпением друг друга, – пробормотал юноша. – Очень благочестиво!
«А куда деть эту боль?!..» Он закрыл глаза и прижался лбом к косяку окна. Феофил старался никак и нигде не выдавать себя, никому не показывать, как глубоко он ранен, но сейчас силы вдруг оставили его. Грамматик смотрел на ученика и думал, что помочь тут ничем нельзя, можно только ждать.
– Ничего, – проговорил он тихо, – перегорит и пройдет.
Феофил вздрогнул, открыл глаза и повернулся к учителю.
– И ты точно это знаешь? – спросил он с долей сарказма.
«Что он может знать об этом? Монах, философ!.. Он-то, верно, никогда не был влюблен… избегая расстройства ума!.. Перегорит и пройдет? Хотелось бы верить… но… На месте пожара остается пепелище. Впрочем, пепелища постепенно зарастают…»
Иоанн подошел к соседнему окну и, помолчав, ответил:
– Точно.
9. Восставшие мертвецы
(Екатерина Лиаку)
- Смотри, любви здесь нет – лишь бег мгновений спорый,
- И смыслы их бледны, как теней голоса.
Между тем будущая юная августа была в те дни наверху блаженства и одновременно почти на высшей точке нетерпения, смешанного с некоторым страхом, но страхом по-своему сладким, – и всё благодаря жениху. Он достиг этого, в общем-то, случайно. После выбора невест и злополучного первого обеда вместе с новыми родственниками Феофил, ценой огромного усилия, взял себя в руки и постарался ничем не огорчать свою невесту – «хотя бы до свадьбы». Он водил ее всюду, показывал дворец, рассказывал о церемониях и распорядках, сам выбирал ей украшения и приходил смотреть на ее новые наряды. Впрочем, Феодора была так красива, что эти ухаживания доставляли Феофилу определенное удовольствие, чего он не мог не признать. Почти каждый день по вечерам они гуляли по дворцовым паркам, и Феофил, уже имевший неплохие познания о растениях, рассказывал невесте о цветах и травах, которые им попадались. Но, украдкой поглядывая на Феодору, он порой думал, что она не столько вникает в то, что он ей говорил, сколько просто наслаждается тем, что идет рядом с ним и слушает его голос. «Если она так же любит меня, как я другую, то дело плохо, – думал он. – Но может, это только первые впечатления. Познакомившись со мной поближе…» – тут он мысленно усмехался и предпочитал не додумывать до конца. Иногда он читал ей стихи эллинских поэтов, преимущественно Анакреонта и Феокрита, искоса глядя, как у нее розовеют щеки и подрагивают ресницы. Узнав, что ей нравится Сапфо, он попросил прочесть что-нибудь. Она покраснела и прочла несколько эпиталамий. Феофил слушал и думал: «Хорошо, по крайней мере, что она, кажется, не настолько строгого нрава, как это можно было бы ожидать при такой матери… Как раз для той роли, что судьба ей назначила играть!»
Спустя несколько дней после выбора невесты, во время вечерней прогулки Феофил привел Феодору к небольшому пруду в дальнем конце кипарисовой аллеи в южном парке. Уже спускались сумерки. Жених с невестой сошли к воде, и Феодора увидела на площадке большую чашу, выточенную из белого мрамора с синими прожилками, наполненную небольшими плоскими гладкими камушками разных цветов.
– Ой, что это? – спросила она.
– А, это… Вот, смотри!
Феофил взял несколько камушков и, наклонившись, с размаху бросил один из них параллельно воде. Камушек, пролетев несколько футов, коснулся воды, но потонул не сразу, а лишь после того как сделал несколько прыжков по глади пруда.
– Ах, как чудесно! – воскликнула Феодора.
Феофил точно также кинул еще один камушек, и еще…
– Попробуй сама, если хочешь! – улыбаясь, сказал он Феодоре.
– Очень хочу!
Она взяла из чаши три камня и бросила, но увы! – два из них булькнули сразу же и почти у самого берега, а третий сделал всего два прыжка и тоже утонул.
– Слишком большой угол наклона, – сказал Феофил. – Надо бросать почти параллельно воде. Давай еще!
Она кинула еще три камушка. Теперь уже сразу не потонул ни один, но скачков все три сделали мало.
– Размахивайся сильнее! – посоветовал Феофил.
Она взяла еще пригоршню камушков и спросила:
– Но если всё время кидать, весь пруд закидать можно?
– Нет, – рассмеялся Феофил. – Раз в месяц слуги выгребают камни из пруда и складывают обратно в чашу. Видишь, пруд выложен мрамором. Если наловчиться и научиться рассчитывать силу броска, можно выводить по дну даже какие-нибудь узоры, кидая камни!
– Как интересно!
Она повертела в пальцах следующий камушек, взглянула в глаза жениху, вспыхнула, отвернулась и стала бросать камень за камнем. Они летели все дальше, делали все больше прыжков. Феофил жевал сорванную тут же травинку и наблюдал, как Феодора наклоняется, размахивается, кидает, выпрямляется, смотрит… Мафорий она бросила на скамейку, чтобы не мешала движениям. Поднявшийся легкий ветерок шевелил ее слегка растрепавшиеся волосы. «Пора возвращаться, – подумал Феофил. – Уже совсем вечер…» И вспомнилось из Агафия, которого он перечитывал накануне: «Влажные девичьи губы под вечер меня целовали…» Ему не впервые хотелось поцеловать Феодору. Первый раз это случилось, когда он несколько дней назад прикладывал к ее иссиня-черным волосам серебряный обруч с подвесками из жемчужных нитей.
– Тебе очень идет! – сказал он, улыбнувшись. – Посмотри!
Она взглянула на себя в зеркало, но как-то рассеянно, обратила взор к Феофилу, – и словно искра прошла между ними… Тогда он не дал волю своему желанию, а сейчас ему уже не хотелось сдерживаться. «Почему бы и нет? Жажду души не утолишь, а вот жар плоти можно и утишить хоть немного… Кажется, только это мне и осталось!» Тут Феодора обернулась к нему и сказала:
– Давай вместе кидать, кто дальше!
– Давай.
Они взяли по несколько камушков.
– Раз, два, три! – скомандовал Феофил, и два камушка полетели рядом по темневшей воде.
Его камень сделал на три скачка больше, чем камень, пущенный Феодорой. Новый бросок – и вот они уже почти сравнялись. Еще бросок – и неожиданно оба камушка под конец пути столкнулись и булькнули одновременно в одной точке.
– Вместе! – вскрикнула Феодора и, улыбаясь, повернулась к Феофилу.
Он бросил оставшийся у него в руке камень в воду у берега, и шагнул к невесте. Она широко распахнула глаза и прижала одну руку к груди. «Если закрыть глаза, можно представить, что это – она…» – подумал Феофил и, обняв Феодору, поцеловал ее долго и жадно, сам удивившись, что это получилось у него так, словно он целовался далеко не впервые. Когда он отпустил девушку, она чуть покачнулась, как пьяная. Он взял со скамьи мафорий, набросил на нее и, взяв под руку, повел во дворец. Всю дорогу они молчали, полные новых ощущений. Феодора была ошеломлена. Феофил тоже испытал некоторое потрясение и, слушая внутренний голос вожделения, думал: «Вот оно, сладострастье! Название точное… И раз ступив на эту дорогу, куда придешь? – он беззвучно усмехнулся. – На дно пруда, конечно! Камушки падают в омут. Но им там сладко…»
Через день жених с невестой снова отправились на прогулку и оказались у того же пруда, но с другой стороны. Было еще светло, и на дне, выложенном голубым мрамором, хорошо были видны дорожки из камушков, будто лучи отходившие от площадки, где стояла мраморная чаша. Феофил вдруг обнял Феодору за талию, властно и даже дерзко. Она затрепетала, не смея ни воспротивиться, как это, быть может, следовало сделать благочестивой девице, ни взглянуть на него.
– Тебе понравилась игра в камушки? – спросил он.
– Я хочу еще, – сказала она чуть слышно, краснея и поворачиваясь к нему.
Второй поцелуй был еще более долгий и страстный, а когда они оторвались друг от друга, Феодора шепнула:
– Никогда не думала, что это так… чудесно…
– Это только начало, – улыбнулся Феофил. – Продолжение будет после свадьбы… там, где вместе лягут два камушка.
Феодора вспыхнула и опустила глаза. А он смотрел на нее уже без улыбки и думал, что она, бедняжка, и не подозревает, какая ирония скрыта за его последней фразой…
После этого «игра в камушки» продолжалась почти ежедневно, во время вечерних прогулок по дворцовым садам и паркам. И чем ближе был день «падения на дно пруда», тем больше росло нетерпение Феодоры. Флорина, заметив, какие взгляды дочь бросала на жениха, даже сделала ей наедине замечание, что она ведет себя нескромно. Феодора смиренно попросила прощения и с тех пор почти не смотрела на Феофила при людях, чинно устремляя глаза в пол, как подобает благовоспитанной девушке. Зато уже на другой день после разговора с матерью она, гуляя с Феофилом, вволю насмеялась над «приличиями» и нацеловалась с женихом. А Феофил, сидя рядом с невестой в беседке, увитой белыми розами, думал: «Приличия! Они говорят о приличиях!.. Нелепые люди! Ничего приличного в нашем будущем браке быть не может, уже просто по тому самому, как всё началось! Где нет единения душ, остается одна похоть… Кажется, Златоуст называл это “цепью вожделения”… Да, это то самое. И ничего больше. Ничего!»
За неделю до свадьбы Священный дворец уже буквально кишел разнообразными родственниками со стороны жениха и невесты. Императрица-мать тонула в хлопотах и приготовлениях, знакомствах и налаживании отношений с будущими сородичами – тут ей приходилось отдуваться и за мужа, который на всё махнул рукой, и за сына, который был не очень-то любезен с новой родней и вообще беспокоил Феклу ужасно. Она видела, что он расстроен, хотя тщательно старался это скрыть. Замечание же мужа, брошенное как бы вскользь через два дня после выбора невесты, поразило императрицу до болезненности:
– Эх, можно ли от баб ждать чего-нибудь хорошего! Лучше б я сам выбрал Феофилу невесту! А вы вечно насочиняете всяких… представлений, а потом выходит Бог знает, что!
Михаил вообще в последнее время удивлял свою супругу. Он не только сразу и без особого труда вошел в дела управления, что еще можно было бы объяснить его близостью к предыдущему императору и годами, проведенными при дворе, но вдруг, не оставляя прежнего своего шутовства, стал при случае рассуждать довольно умно, чуть ли не книжными выражениями, хотя книг, как и раньше, не читал. Правда, с начала Великого поста раз в неделю Михаил стал приглашать к себе Иоанна Грамматика, чтобы тот «почитал ему что-нибудь ученое».
– Что желает слушать государь? – спросил игумен. – Из философии, из истории или из толкований отцов на Писание?
– Ну, в философии я не силен, – усмехнулся император, – и изучать ее мне поздновато. Давай что-нибудь историческое!
– Из мирской или церковной истории, августейший?
Михаил захотел сначала послушать что-нибудь из истории церковной. Игумен читал ему Евсевия Памфила, потом Сократа Схоластика. Император слушал с интересом, иногда они с Грамматиком даже обсуждали прочитанное. С женой, однако, Михаил впечатлениями от услышанного никогда не делился, общался с ней мало и чаще всего в шутливом тоне. А однажды мимоходом заметил с коротким смешком:
– Я вижу, что пурпур идет тебе на пользу, моя августейшая! Из увядающей розы ты скоро превратишься в распускающийся бутончик!
Фекла удивилась, даже разгневалась. Во-первых, муж никогда в жизни не говорил ей чего бы то ни было о ее внешности, и такое поэтическое сравнение в его устах прозвучало очень странно и в то же время почти оскорбительно… А во-вторых… что, собственно, Михаил имел в виду?! Оставшись одна, она крайне придирчиво рассмотрела себя в зеркало; пожалуй, она уже забыла, когда в последний раз так интересовалась собственной внешностью. Хотя кувикуларии и говорили ей, что за последние месяцы она «помолодела», Фекла не обращала на эти слова внимания, считая их обыкновенной лестью. Конечно, когда она стала императрицей, о ее теле было кому позаботиться, но… «бутончик»?! Это уж слишком! Из зеркала на августу глядела женщина среднего роста, очень стройная, черноволосая и черноглазая, тонкая, изящная… Пожалуй, она действительно стала выглядеть моложе – ванны, настойки и мази делали свое дело: тридцать четыре года ей бы точно никто не дал… «Бутончик»! Нет, ну надо же было сказать такое!..
Впрочем, ей было недосуг долго размышлять о том, что означают шуточки мужа; сейчас ее больше заботил сын. Феофил был всё так же холоден с отцом, однако враждебности в его отношении к Михаилу уже не чувствовалось, да и холодность стала иной – скорее, больше похожей на простую замкнутость. Иногда они с отцом беседовали о чем-то, хотя и весьма кратко; прежде такого не случалось. А вот от матери Феофил словно несколько отдалился, и это ее очень мучило. От всех этих волнений Фекла слегка осунулась, впрочем, кувикуларии в один голос твердили, что это ей даже идет. Императрице пришла мысль переговорить с Иоанном – единственным человеком, с которым Феофил продолжал много общаться, – но тут перед ней встало другое препятствие: относительно Грамматика она ждала разрешения давней своей догадки и после получения одного письма сделалась совсем нетерпелива. Михаил, казалось, обращал на жену мало внимания, но однажды отметил, что она напоминает «горячую лошадь перед забегом», чем вызвал у Феклы досаду, совершенно несоразмерную столь невинному замечанию, – ведь муж и раньше не брезговал подобными сравнениями. «Что это со мной?» – в который раз подумала она, но тут же махнула рукой и решила поразмышлять об этом когда-нибудь после… или вообще не думать. Ей важно было разрешить недоумение, и до этого – по крайней мере, ей казалось, что причина именно такова, – Фекла не могла разговаривать с Иоанном так же свободно, как раньше. Кроме того, она надеялась, что после «объяснения прошлому» удобнее будет поговорить с игуменом и о Феофиле.
Наконец, 9 мая во дворец прибыл монах лет пятидесяти, среднего роста, чуть полноватый, немного обрюзгший. Он горбился и смотрел всё больше в землю, однако можно было понять, что прежде он был недурен собой. В его глазах словно навек застыло выражение затаенной печали. Дворцовая обстановка поразила монаха: он озирался по сторонам с таким видом, будто попал в чужую страну, и ступал по мраморным полам так, словно боялся оставить на них грязные следы. Он приехал ближе к вечеру, а наутро, проводя гостя по дворцу, императрица, как бы случайно, завела его в «школьную», где Феофил с Грамматиком как раз собирались начать занятия – жених даже за два дня до свадьбы не пожелал оставить философию, а когда мать робко намекнула ему, что невеста, пожалуй, может обидеться, сказал:
– Пустяки, да и не всё ли равно, ведь ей теперь всю жизнь на меня обижаться.
Когда Фекла со своим спутником вошла в залу, учитель раскладывал на столе книги, а ученик стоял у окна. Императрица вошла первой, и ссутулившегося монаха было почти не разглядеть за ее спиной.
– О, вы здесь, как удачно! – весело воскликнула Фекла, хотя сердце ее вдруг бешено заколотилось. – Мы немного задержим начало занятий, вы не против? А может, и послушаем потом твою блистательную лекцию, господин Иоанн… Я зашла показать нашему гостю эту залу. Познакомься, отче, – она повернулась к спутнику, – это Феофил, а это Иоанн, игумен монастыря Сергия и Вакха, а главное – лучший из учителей столицы, он уже восемь лет учит Феофила всяческой премудрости. Феофил, Иоанн, позвольте представить: Александр, наш родственник, ныне монашествует в Фотинудийской обители.
Александр сделал шаг вперед и вдруг застыл на месте. Иоанн, взглянув на него, побледнел, но мгновенно справился с собой и, поклонившись, спокойно сказал:
– А мы, кажется, знакомы.
Императрица была поражена до испуга. Ее смутная догадка подтверждалась на глазах: эти двое узнали друг друга сразу, несмотря на то, что со дня их последней встречи прошло, конечно, уже более двадцати лет. Но особенно и до стыда поразил Феклу взгляд, брошенный Иоанном на нее: она увидела, что игумен понял ее замысел, – и от этого взгляда августа словно потеряла дар речи, совсем позабыв, что собиралась «направлять беседу»…
– Д-да, – проговорил Александр, ужасно, в свою очередь, бледнея, – я тоже узнаю тебя… господин Иоанн…
– Мир тесен! – бодро сказал Грамматик. – Кто бы мог подумать, что наши пути когда-нибудь вновь пересекутся, да еще в таком славном месте как Священный дворец! Я соболезную, – он переменил тон на сочувственно-серьезный. – Государыня, – он отвесил Фекле почтительный полупоклон, но она при этом подумала, что игумен, должно быть, мог бы сейчас задушить ее на месте, – уже рассказала мне о несчастной судьбе госпожи Марии.
На лице Александра на миг показалось странное выражение, точно он хотел крикнуть: «Замолчи!» – но монах тут же смешался и пробормотал:
– Да, она… Бедная девочка!
Ощутив неуместность последнего слова, он совсем смутился и умолк. Феофил, с любопытством наблюдавший всю эту сцену, вдруг спросил:
– Так это ты, господин Александр, был мужем моей тетки Марии?
Монах поднял на юношу глаза и проговорил как бы через силу:
– Да, я.
– Значит, дядя. Странно, что мама сразу не сказала об этом, – он остро глянул на императрицу. – Что ж, очень приятно! Тетя, кажется, была тебя намного моложе?
На щеках монаха показались красные пятна.
– На десять лет.
– Не такая уж большая разница! – улыбнулся Феофил. – А правда ли, что она была очень красива?
Сцена принимала какой-то безобразный оборот. Слова вроде бы говорились самые обыкновенные, но ощущалось, что происходит нечто крайне неприличное. Но более всего ужасало Феклу то, что Иоанн выглядел как-то уж слишком спокойным, зато Феофил под маской веселости всё больше походил на натянутую тетиву. «Надо это остановить!» – мелькнула у нее мысль. Но было уже поздно.
– Она… да, очень красива была, – криво улыбаясь, ответил Александр, переступил с ноги на ногу, и неожиданно выпалил: – Почти как сейчас твоя августейшая мать!
Тут взгляды всех обратились к Фекле. Щеки ее запылали, она не могла произнести ни слова, а когда осознала смысл ответа Александра – что она теперь красивее, чем была некогда Мария, – покраснела буквально до корней волос. И хотя на нее были устремлены три пары глаз, самым невыносимым показался ей взгляд только одних – сверкающих, как стальные лезвия. Однако через несколько мгновений он оторвался от нее и снова вонзился в Александра.
– Что же, – продолжал Феофил неумолимо, тоже переводя глаза на гостя, – Иоанн учил ваших с нею детей? Ах да, вы же не успели завести детей, как я знаю… Откуда тогда вы знакомы?
– Дети были, господин Феофил, – заговорил Иоанн, – но другие. С госпожой Марией мы познакомились раньше, чем она вышла замуж за господина Александра. Я учил сыновей твоего дяди, ныне покойного, а госпожа Мария присматривала за ними, поскольку ее брат овдовел. Мы были знакомы два года.
Он говорил очень спокойно, словно рассказывал самую обыденную историю, но его глаза цвета стали, когда он опять взглянул на императрицу, полыхнули таким гневом, что ее сердце на миг словно остановилось от пронзительной боли, и эта боль стала для Феклы неожиданностью едва ли не большей, чем всё остальное. Ей захотелось крикнуть: «Не надо! Довольно! Я не хочу ничего знать!» Но уже и без нее было, кому доводить начатое до конца.
– Вот как! – сказал Феофил. – Сколько же моей тете в то время было лет?
– Пятнадцать, – по-прежнему спокойно ответил Грамматик. – В семнадцать она вышла замуж, а мне тогда как раз пришлось покинуть своих учеников, поскольку твой дядя вновь женился, и его супруга нашла мальчикам другого учителя.
– Но позвольте, – сказал Феофил, – где же вы тогда познакомились с господином Александром?
«Зачем он продолжает этот ужасный разговор?! – думала Фекла. – У него какая-то цель… Боже! Лучше б я всё это не затевала!»
– Господин Александр трижды приезжал в дом брата госпожи Марии вместе с твоим дедом, ее отцом, – ответил Иоанн, насмешливо глядя на гостя в упор. – Сначала познакомиться с невестой, потом – на Пасху, а в третий раз – когда отец увозил ее домой, чтобы подготовиться к свадьбе.
– И вы до сих пор так друг друга помните, что сразу узнали! – воскликнул Феофил с явно напускным удивлением.
Грамматик слегка побледнел, но ничего не сказал.
– Ты, наверное, постригся после того как овдовел? – обратился Феофил к Александру.
Монах только кивнул.
– И тетя Мария умерла молодой, я слышал? – юноша не спускал глаз с его лица.
– Не дожив до девятнадцати, – пробормотал тот.
– Злая судьба, однако! – Феофил взглянул на мать и вновь обратил взор к дяде. – Что же, какая-то болезнь?
– Ничем она не болела! – вдруг вскричал Александр со всхлипом. – Она умерла от печали! Потому что не хотела жить! Потому что… О, за что вы собрались тут мучить меня?!
Внезапно повернувшись, он выбежал вон. Императрица тоже было рванулась к выходу, чтобы догнать гостя, но тут Иоанн быстрым шагом пересек комнату со словами:
– Прошу меня простить! – и исчез за дверью.
На Феклу напало что-то вроде столбняка. Феофил смерил мать долгим взглядом и отвернулся к окну.
Некоторое время продолжалось молчание.
– Феофил, зачем ты? – наконец, чуть слышно сказала императрица.
– А что, – он обернулся, – ты сама разве не этого хотела? Или тебе неудобно, что так неприлично вышло? А что вообще приличного может быть, когда лезешь в чужую душу и в чужую постель?!
– Феофил!..
Тут вернулся Иоанн. Он был мертвенно-бледен, однако проговорил всё тем же спокойным ровным голосом:
– Еще раз прошу прощения. Мне нужно было сказать несколько слов господину Александру.
– О том, что любовь – всего лишь временное расстройство ума? – спросил Феофил, глядя на учителя в упор.
Тот выдержал взгляд.
– Любовь, – тон Грамматика был ледяным, – есть омрачение ума, пленение души и безумие тела, которые могут продолжаться, конечно, довольно долго, но, тем не менее, имеют конец, как и всё, что имеет начало.
– Конец в виде смерти тела, например, – сказал Феофил с такой улыбкой, что у Феклы ком подкатил к горлу.
– Бывает и так. Хотя это и нежелательно со всех точек зрения. Впрочем, исход дела зависит от делателя, – ответил Иоанн уже обычным тоном. – Но нам пора заниматься, господин Феофил. Августейшая, – обратился он к императрице, – господин Александр сказал, что будет ждать тебя в соседней зале. Если вы еще желаете послушать лекцию моего недостоинства об учении Платона о государстве…
– О, нет-нет, благодарю! – ответила Фекла, удивляясь, что у нее еще есть голос. – Простите, что мы вам помешали…
Она поскорей выскользнула вон. Когда за ней закрылась дверь, Иоанн коротко рассмеялся и сказал:
– До чего может довести женское любопытство! Я бы поспорил на что угодно, что преподобнейший отец не останется здесь даже до вечера.
Феофил посмотрел на учителя очень пристально и сказал без тени улыбки:
– Пожалуй. Вышло как-то невежливо… Впрочем, с другой стороны, что умершему для мира делать на чужой свадьбе?
Урок начался, но мысли и ученика, и учителя на этот раз были далеко от Платона и государственного устройства. В какой-то момент Грамматик поймал себя на словах:
– Как я уже говорил, итоги тому, что Сократ рассказывал своим собеседникам в «Государстве», Платон подводит в диалоге «Пир»…
«Что я несу?!» – подумал игумен, умолкнув. Ученик между тем ничего не заметил. Иоанн внимательно поглядел на него и сказал:
– Господин Феофил, тебе не кажется, что на сегодня лучше закончить? У тебя, полагаю, много других дел…
Юноша, казалось, нисколько не удивился внезапному предложению и ответил, вставая:
– О, да! Мне сегодня предстоит примерять свадебное одеяние и смотреть, хороши ли украшения, изготовленные для невесты.
Он улыбнулся так, что Иоанн послал мысленное проклятье всему женскому роду, а вслух сказал:
– В таком случае, думаю, мы вернемся к Платону после Пятидесятницы.
Феофил кивнул и направился к выходу. Уже у двери он обернулся и взглянул на учителя.
– Хотел бы я иметь такую выдержку!
– «Прежде тебя я родился и боле тебя я изведал», – ответил Грамматик. – У тебя еще есть время научиться.
– И немало, – усмехнулся юноша. – Целых полтора дня!
Вернувшись после прерванного урока в монастырь, игумен как раз подоспел к службе шестого часа. По окончании богослужения он обсудил кое-какие дела с экономом и удалился в свои келии. Вынул из шкафа третью часть «Стромат» Климента Александрийского, Грамматик сел и начал читать, но, перевернув одну страницу, закрыл книгу и отложил на край стола. Посидев немного, глядя в пространство, он придвинул к себе начатое утром письмо, взял перо, обмакнул в чернила и застыл над листом. Так и не написав ни слова, Иоанн отложил перо и встал. Убрав «Строматы» в шкаф, он надел мантию, вышел, запер келью и постучал в соседнюю, где жил брат Кледоний, числившийся его келейником, хотя Иоанн с того дня, как стал игуменом в Сергие-Вакховой обители, никого не пускал в свою келью.
– Я уезжаю на Босфор. Вернусь завтра к вечерне.
Арсавир был рад увидеть брата.
– Какие люди! – улыбаясь, воскликнул он. – Я не ждал тебя, но хорошо, что ты приехал! Надеюсь, ты заночуешь? Ведь завтра годовщина смерти отца… У нас будет панихида и небольшой поминальный стол.
– Вот как. Что ж, помянем покойника.
– Слушай, Иоанн, – сказал Арсавир, внимательно глядя на брата, – ты сам похож на мертвеца сегодня. Что-то случилось?
– Мертвецы иногда встают из гробов и кусаются, – сквозь зубы ответил Грамматик и передернул плечами. – Налей-ка мне вина, брат.
…Феофил проснулся, открыл глаза, потянулся, и тут в мозг иглой вонзилась мысль: «Завтра свадьба! Конец!» Стало так больно, что он стиснул зубы и, закрыв глаза, немного полежал без движения, стараясь не думать о предстоящем. Феодора в этот момент стала ему противна; попадись она ему сейчас, он бы, кажется, плюнул и отвернулся. «Как я мог целоваться с ней?!.. Да мне еще с ней спать придется… О, Боже! За что?!..»
Он сел на кровати и спустил ноги на пол. От боли внутри всё словно онемело. Почти машинально Феофил встал, надел нижнюю короткую тунику и позвонил в било над дверью, чтобы принесли умыться. Вошли три кувикулария: один нес серебряный тазик, другой – кувшин с водой, а третий – белоснежное полотенце из тонкого льна. Вода была довольно холодной, но Феофил даже не почувствовал этого, все ощущения в нем, казалось, умерли. Когда кувикуларии с поклоном удалились, Феофил подошел к окну и какое-то время смотрел в сад, потом глубоко вздохнул и снова позвонил. Вошли два веститора, они несли вместо обычного одеяния парадное – сегодня предстоял общий прием всех прибывших гостей и последние приготовления к завтрашнему торжеству.
«И ведь ничего не отменить! – думал Феофил, пока его облачали в затканный золотом скарамангий. – А говорят, что император есть образ всемогущего Бога… Какая насмешка!»
До начала приема он решил проехаться верхом по паркам и отправился в конюшни. Глядя, как стратор седлает выбранного гнедого жеребца, юноша спросил:
– Михаил, с тобой бывает такое, что ты ничего не чувствуешь? Ну, то есть вообще?
Стратор глянул на него слегка удивленно, крякнул и смущенно ответил:
– Бывает, господин. Когда напьюсь.
Феофил расхохотался.
«Может, Иоанн прав, – подумал он, вскочив на коня, – и нужно просто действительно… поменьше поэзии?..»
10. От Платона к Эпикуру
Как странноприимец не может ввести странника в дом, пока не скажет ему господин этого дома, так и враг: если ему не будет оказан прием, никоим образом не войдет в человека.
(Великий Патерик)
В ночь на Пятидесятницу в Марфиной домовой часовне владыка Евфимий Сардский, приглашенный хозяйкой, отслужил праздничную службу. Келейник владыки читал, Кассия пела за хор. Хозяйка с дочерьми, домочадцы и слуги, а также несколько приглашенных знакомых Марфы причастились Святых Таин, поздравили друг друга с праздником, вкусили антидора и разошлись по спальням. Архиепископа с келейником уложили в пристройке, где раньше жили студиты, но владыка проспал не более двух часов и утром возвратился к себе. Сам день праздника выдался теплым, но не особенно жарким. После обеда Кассия вышла в сад и сидела у пруда, в тени небольшой арки, заплетенной виноградными лозами. Перед ней на столике лежало житие преподобного Антония Великого, написанное святым Афанасием, но девушка смотрела мимо, в сад. Аромат роз разливался в воздухе. Кассия была охвачена странной рассеянностью. Иногда, словно очнувшись, она взглядывала в книгу, прочитывала несколько строк и видела, что не может сосредоточиться на читаемом. Она вспоминала, что надо молиться, и что она, пока сидела, глядя на цветы и деревья, совсем не молилась… Но о чем же она думала? Кассия не могла этого сказать. Словно бы и не о чем… Она пыталась начать читать Иисусову молитву, но повторив ее раза два или три, снова впадала в ту же бездумную рассеянность. Выйдя из такого состояния в очередной раз, она встряхнула головой. Что это с ней?..
И внезапно все ее неопределенные, «безмысленные» мысли, как бы воплотились в одно слово: «Феофил». Ее тут же бросило в жар, через несколько мгновений в холод до озноба, а потом приятное тепло разлилось по телу… «Боже!» Она встала и прошлась вокруг пруда. Вместо того чтобы молиться, она, выходит, неосознанно думает всё о том же?!..
После злополучного урока по «Пиру», данного Львом по возвращении Кассии из дворца, девушка всю ночь молилась со слезами и поклонами и наконец под утро уснула прямо на полу. Проснувшись чуть свет, она ощутила легкость в душе и теле, и очередной урок прошел вполне спокойно. Когда «Пир» был дочитан, учитель пустился в довольно подробные объяснения, ученица слушала, задавала вопросы, они обсуждали разные места диалога, и в душе Кассии было тихо, а возникавшие помыслы она более или менее легко прогоняла молитвой. Она была так занята происходившим у нее внутри, что пока не замечала смятения, овладевшего ее учителем: Лев тщательно пытался скрыть, но иногда оно прорывалось наружу. На праздник Вознесения Господня Кассия с матерью и сестрой побывали у Сардского владыки и исповедались. Кассия не упомянула о смотринах во дворце, просто сказала, что встреча с одним красивым юношей очень смутила ее помыслы и едва не поколебала даже самого намерения идти в монахи. Девушка попросила у архиепископа молитв и вернулась домой успокоенная, уповая на Божию помощь. Так прошло время до Пятидесятницы, и у Кассии появилась надежда, что искушение окончилось; она внутренне радовалась и благодарила Бога.
Но сегодня с самого утра на нее напала рассеянность, и вот… Кассия опять опустилась в плетеное кресло и закрыла глаза, на миг ее охватило почти отчаяние. «Зачем же в таком случае я отказалась от этого брака, – подумалось ей, – если всё равно в душе хочу его?! Не правильнее ли было последовать желанию Феофила… и своему собственному?.. Вот, испытала судьбу, что называется!..» А ведь еще не так давно она с отвращением думала о… Она вспомнила так возмутившее ее в свое время письмо ипата. Тогда ей хотелось плеваться от одной мысли о любовных утехах, а теперь она сама одержима этой горячкой… Вдруг на память пришли ночные вопли Михаила: «Пусть тебе отомстит Афродита!» Накликал, можно сказать!..
Но почему, откуда, как?! Пытаясь разобраться в случившемся, она хотела понять, как такое могло с ней произойти. Чем Феофил отличался от тех молодых людей, встречавшихся ей раньше? Ведь они не производили на нее никакого впечатления! Был ли Феофил красивее всех? Конечно, он красив, но… Кассия вспомнила знакомство с Акилой на прогулке верхом. Он был ведь тоже очень хорош собой! Но он не внушил Кассии ничего похожего на чувство, охватившее ее перед Феофилом на выборе невест. Значит, это не была страсть просто к телесной красоте самой по себе. Феофил умен… Что он умен, она поняла еще тогда, в их первую встречу в портике. Ум и красота придавали друг другу еще больше силы, именно это делало его неотразимым… Но только ли это? Ведь и Акила был не глуп, и она с удовольствием разговаривала с ним, тогда как с Феофилом она совсем не общалась! Почему же, когда она поняла, что понравилась Акиле, это вызвало у нее лишь досаду, а к Феофилу ее влекло чувство такой силы, какого она не только никогда не испытывала, но даже и не подозревала, что подобное возможно?.. Кассия снова вспоминала свою жизнь во дворце, такую соблазнительно приятную, свой разговор с «ужасным Ианнием», который ей вовсе не показался ужасным, мысли о никогда не виденном ею, как она тогда думала, императорском сыне – по слухам, таком начитанном и умном… Да, она испугалась тогда, что начала забываться и мечтать, о чем не должно, да, она молилась, чтобы Бог отвел от нее этот брак… Но была ли она совершенно искренна?..
Этот вопрос привел ее в растерянность. С одной стороны – да, особенно после встречи с Грамматиком, а с другой… Она помнила, какие мечты в те дни возникали у нее в голове, и как она не всегда сразу, а иногда словно бы и нехотя отгоняла их молитвой… Не от этого ли всё произошло – оттого, что она не была тверда в раз избранном пути?.. Не оттого ли, что она… привыкла, что ли, к своему призванию и не задумывалась о том, что если Бог призвал ее, то она должна отвечать Ему «да» каждый день, каждый час, каждый миг? «Муж двоедушен неустроен во всех путях своих»… Уступка в малом ведет к бо́льшим искушениям, а Бог, видя, что душа не всецело предана Ему, попускает тяжкие брани… Ведь она где-то читала об этом!.. И та первая встреча с Феофилом, когда она еще не знала, что это он… Уже тогда что-то промелькнуло… А она не обратила внимания…
Да, она сама разложила в своем сердце хворост, к которому императорский сын поднес огонь… Феофил!.. От одной мысли о нем ее бросало в жар. Но что теперь она ему? У него – молодая жена, и он, конечно, быстро забудет девушку, поразившую его на смотринах… А вот ей-то сколько предстоит борьбы с собой!..
Но ведь есть, ради чего бороться с этой… любовной страстью! Если она ответила «да» на зов Божий, то надо идти до конца, какие бы препятствия не случились. И потом, если даже на миг забыть о призвании, всё равно этот брак невозможен: стань она императрицей, ей пришлось бы участвовать во всех церковных церемониях, а значит – вступить в общение с ересью… Вот так, получается, что если бы всё это и обернулось по-другому, то вышел бы не только отказ от монашеского пути, но отпадение от веры, от Церкви… И она еще раздумывает, правильно ли поступила, отказавшись!..
Кассия встала и почти бегом отправилась в библиотеку, где взяла книгу слов преподобного Марка Подвижника и стала читать, чтоб хоть немного придти в себя. Книга раскрылась на словах: «И не говори: как может пасть духовный? Пребывая таким, не падает; когда же допустит в себя что-либо малое из противного и пребудет в нем, не покаявшись, то это малое, укоснев и возрастя, уже не терпит оставаться отдельно от него, но влечет его к соединению с собою как бы некою цепью…»
– Да, – прошептала она, – так и есть! Сначала ты позволяешь себе малый интерес, потом начинаются всякие мечтания… А потом и сам предмет мечтаний является пред тобой, и ты не можешь противиться!
«Но ты скажешь мне, – читала она дальше, – не мог ли он, будучи в начале зла, умолить Бога не впасть в конечное зло? И я тебе говорю, что мог, но презрев малое и собственной волей восприняв его в себя, как ничтожное, он уже не молится об этом, не зная, что это малое бывает предначинанием и причиною большего: так бывает в добром и злом!»
– Да, именно так! Презрев малое, наживаешь большие беды…
«Когда же страсть усилится и при помощи его произволения найдет себе в нем место, то она уже против его воли насильно возносится на него. Тогда уразумев беду свою, он молит Бога, ведя брань с врагом, которого по незнанию защищал прежде… Иногда же и будучи услышан от Господа, не получает помощи, потому что она приходит не как думает человек, но как устраивает Бог к пользе нашей».
– А я еще хочу, чтобы скорей прошло! Надо не назначать сроки, а просто делать все, от тебя зависящее, а Бог подаст Свое в нужное время…
«Ибо Он, зная нашу удобопреклонность и презрительность, много вспомоществует нам скорбями, дабы, избавившись бесскорбно, мы не стали усердно делать те же согрешения. А потому и утверждаем, что необходимо терпеть постигающее нас и весьма прилично пребывать в покаянии».
Она закрыла книгу, поднялась наверх, прошла в часовню и, затеплив лампаду перед образом, открыла Псалтирь и начала читать: «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня: в день, когда призову Тебя, скоро услышь меня…»
Вечером за ужином мать сказала:
– Я встретила Ирину. Она долго рассказывал про сегодняшнюю коронацию и венчание императорского сына… Очень восторгалась, как всё было великолепно, какие молодые красивые… Спрашивала про тебя и удивлялась, какая же ты сильная, что не изменила своего намерения идти в монахи «даже перед всем этим»… Я сказала, что ты действительно сильная, – Марфа улыбнулась, – и что ты рада… Ты ведь рада?
Она внимательно глядела на дочь.
– Конечно, рада, – кивнула Кассия, надкусила персик, прожевала, взглянула на мать и сказала: – Ну вот, теперь у нас, значит, два императора… и оба еретики!
– Да, грустно, – вздохнула Марфа. – Когда же это кончится?.. А ты знаешь, кто приходил сегодня? Слуга господина Акилы с письмом от него.
– Что за Акила?
– Это сын патрикия Феодота, их имения соседствуют с нашими. Ему сейчас двадцать третий год, и представь: он пишет, что уже пять лет как мечтает жениться на тебе!
– Опять сватовство! – вздохнула Кассия и подумала: «О, Господи! Он пять лет ждал?!.. Одна встреча – и пять лет ожидания… Чтобы получить отказ!..»
– Он хочет, чтобы ты сама ответила ему, – сказала Марфа. – Вот его письмо.
После ужина Кассия поднялась к себе и развернула лист. «Досточтимая и достолюбезная госпожа Марфа! – так начиналось письмо. – Я хочу обратиться к твоей честности по вопросу весьма для меня важному…»
Молодой человек просил руки Кассии, обещал любить будущую супругу и всячески заботиться о ней, перечислял свои имения и богатство, говорил о своем положении при дворе – он служил в отряде схолариев, – о том, что его отец близок к императору и может выхлопотать для невестки достоинство кувикуларии…
Кассия опустила руки с письмом на колени. Ей вдруг представилось: она – в числе кувикуларий августы Феклы или… августы Феодоры… Проводит много времени во дворце… Наверняка встречается с Феофилом и… Кассия потрясла головой. Какие только мысли ей теперь ни приходят на ум! О том, о чем раньше она никогда и не помышляла…
Она села за стол, обмакнула перо в чернильницу и написала на листе пергамента: «Досточтимый господин Акила! Я прочла твое письмо, адресованное моей матери и, по твоему желанию, отвечаю тебе собственноручно. Твое предложение чрезвычайно лестно…» Она остановилась. Лестно?.. Она не знала, что писать дальше. Что бы она ни написала, каких бы вежливых фраз ни наплела, это будет неправдой. «Я люблю другого», – вот в чем была правда – и в чем был ужас, потому что этим другим был не Бог, ради которого, как ей казалось совсем недавно, она готова была с легкостью пожертвовать всем и отказаться от всего, а…
Феофил!
– Что за казнь! – прошептала она.
«Красота и добродетели твоей дочери, госпожа, не могут не вызывать восхищения…»
– Мои добродетели!.. Да, еще совсем недавно я тоже думала, что у меня есть добродетели… и целомудрие… А теперь…
Она вздохнула и решительно стала писать: «…но мне думается, что ты столько превозносишь мои мнимые добродетели потому, что просто плохо знаешь меня. Впрочем, чтобы не распространяться долго и без пользы, скажу, что никак не могу стать твой женой, поскольку, будучи отвергнута императором, считаю ниже своего достоинства вступать в супружество с кем-либо иным. Моим Женихом будет отныне лишь один Царь Небесный…»
Ложь на лжи! «Отвергнута императором»! Не отвергнута, а отвергшая…
Она закрыла глаза. «Считаю ниже своего достоинства…» Да, пусть сочтет ее гордячкой, тем лучше… Может, скорей разлюбит и не будет страдать! Неужели и ему еще страдать? Как всё нелепо!.. Да, это хорошо – представиться гордячкой… В конце концов, разве не за гордость приключилась с ней эта напасть?..
Напасть?.. А если в этом был промысел? А если… надо было взять яблоко?..
Опять всё те же мысли не давали ей покоя. Ну и что – еретик? Ведь гонения всё же прекратились! Быть может, она… сумела бы повлиять на него, убедить? Что, если всё-таки надо было согласиться?.. Нет, это невозможно, не может Бог перечеркнуть Свой собственный зов… Если б Он хотел, чтоб она вышла замуж, Он бы раньше не призвал ее к монашеству. Но… А что было бы, если бы?.. «Почем ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?..» А вдруг бы он обратился…
«Нет, – говорила она себе, – ты выставляешь эти предлоги, чтобы прикрыть единственную настоящую причину – то, что ты просто хочешь его. Если б Господу было угодно, Он бы устроил этот брак так, чтобы не нужно было отрекаться от прежнего решения, отступать от православия… Если же не устроил, значит…»
Сумела бы убедить? Кем она готова себя возомнить – спасительницей заблудших! А ведь она даже свою душу не сумела как следует уберечь от… блудной страсти!.. «Спасая спасай свою душу!» – говорили отцы, свою прежде всего, а не чужие… Христос – единый Спаситель, Он может и спасти Феофила от ереси, и восстановить православие…
«Ты просто мало веришь в Бога. А должна бы верить, что Он Сам знает, как спасти…»
Но больно, больно и тоскливо. И – да – она хочет быть с ним. Все эти «а что, если» – только отговорки, прикрытие истинной причины всех этих помыслов, сомнений… Страсть – вот единственная причина.
…В то утро Феофил проспал гораздо дольше обычного. Бесцеремонное солнце давно заглядывало в щель между занавесями на окне императорской опочивальни в Магнавре, где новобрачные по обычаю проводили первые три ночи, когда молодой император проснулся, слегка потянулся и некоторое время неподвижно созерцал золотой узор из цветов на красном шелке балдахина, осенявшего ложе. Лежавшая рядом Феодора вздохнула во сне. Феофил приподнялся на локте.
«Ну, вот, – подумал он. – Вот моя жена. Теперь я император… и семейный человек… Счастливый обладатель красивейшей женщины Империи!.. Радости Афродиты…» Или как там вчера пели им после венчания: «Царь нововенчанный, Бог сохранит тебя!.. Досточтимый, добродетельный!.. Сей день радости ромеев, когда сочетался владыка Феофил с Феодорой, счастливейшей августой!..»
Он язвил сам над собой, вновь и вновь пытаясь заглушить то, чего не должен был больше чувствовать. Но душу опять заливала боль, после выбора невесты не отпускавшая его ни на день. Для ромеев, может, это и день радости, а вот для нововенчанного…
«Счастливейшая августа»… Он рассматривал спящую Феодору. Одеяло, укрывавшее молодых супругов, сбилось; юная императрица лежала перед ним полуобнаженная и могла бы вдохновить какого-нибудь нового Апеллеса или Фидия – живая спящая статуя совершенной красоты, точно создана для этих самых «радостей Афродиты»…
«Ты у нас – платоник!» – опять вспомнилось ему. Платоник? Что ж, он был платоником, а теперь ему, видимо, придется стать киником… А может, эпикурейцем? Насладиться красотой, принадлежащей ему по праву… «Да будут двое в плоть едину»… Что же, что это не она… Она! О, если бы рядом сейчас была Кассия!.. Он бы разбудил ее поцелуем… и показал бы ей, как красив вид на утреннее море из окон спальни! А потом…
Воображение услужливо рисовало ему соблазнительные картины. Он больше не был девственником, – и тем сильнее запретное вожделение снедало его. Он даже не попытался бороться и погрузился в страстные мечтания. Феодора пошевелилась. Сейчас она проснется… и что? Что он ей скажет? Он нашел бы, что сказать, если б рядом лежала другая… Но что можно сказать этой женщине, с которой он отныне связан на всю жизнь?.. Что ночью… да, было неплохо, – так сказал бы его бедный друг Константин. Феофил покраснел. Что сказать ей? «Я люблю тебя»? Язык не повернется… «С тобой было… великолепно!» А что – так и сказать, да… И повторить еще раз… Тем более, что торопиться некуда… Он внезапно побледнел. Да, торопиться некуда, вся жизнь впереди… «На дни, и времена, и лета…» Хоть удавись! Константин бы сказал: да что ты, дурак, мучаешься? Такая красавица-жена… и, как оказалось, очень страстная женщина… Мечта юного любовника!
Феофил отвернулся, осторожно слез с роскошного золотого ложа, надел сброшенный вечером прямо на пол прозрачный льняной хитон, а сверху – кинутый тут же на скамью верхний шелковый, пурпурный с голубым узором, препоясался золотым поясом с кистями, подошел к окну и чуть раздвинул занавеси. Утро было прекрасным. Ослепительно-синее море, треугольные паруса рыбачьих лодок и торговых судов…
Он закрыл глаза – и перед ним мгновенно возникла Кассия. Синие глаза… синие, как море… Он встряхнул головой. Нет, даже Константин бы понял, что дело плохо… Пройдет, может?.. А он-то думал, что больнее, чем тогда, когда был убит крестный, ему уже не будет! Но та боль не шла ни в какое сравнение с нынешней.
За что?!!..
Повернувшись, Феофил несколько мгновений смотрел на спящую жену, потом быстро подошел к ложу, осторожно взял за край сбившееся одеяло и закрыл Феодору до самого подбородка. Она переменила позу, но не проснулась. Лицо ее было спокойным и счастливым. Надолго ли?.. Феофил вздохнул и вышел из спальни.
Спустя полчаса Иоанн Грамматик, придя в библиотеку, с изумлением обнаружил новобрачного, сидевшего с книгой в оконной нише. Окно было распахнуто настежь, теплый ветер гулял по библиотеке и шуршал слетевшими со стола папирусными листками. С улицы веяло ароматом роз и доносилось пение птиц. Издали по лиловому, обгрызенному мышами краю обложки игумен определил, что Феофил читал «Анекдоты» Прокопия Кесарийского.
– Доброе утро, государь! На многая лета да продлит Господь ваше царство!
Феофил вздрогнул и повернул голову; Грамматик поклонился ему. Юный император положил книгу на стол и спрыгнул с подоконника. Иоанн, подойдя, бросил взгляд на раскрытые страницы:
«Но как только она подросла и созрела, она пристроилась при сцене и тотчас стала гетерой из тех, что в древности называли “пехотой”. Ибо она не была ни флейтисткой, ни арфисткой, она даже не научилась пляске, но лишь продавала свою юную красоту, служа своему ремеслу всеми частями своего тела… Была она необыкновенно изящна и остроумна. Из-за этого все приходили от нее в восторг. У этой женщины не было ни капли стыда, и никто никогда не видел ее смущенной, без малейшего колебания приступала она к постыдной службе…»
«Однако!» – подумал игумен.
– Я, признаться, не ожидал встретить тебя сегодня здесь в такое время, – Иоанн чуть улыбнулся, – и за чтением такой книги…
– Да, – сказал Феофил спокойным тоном, словно не замечая немого вопроса, – интересное чтение. Любопытно сравнить прежнюю августу Феодору с нынешней.
«Но какие качества для сравнения он выбрал!» – подумал Грамматик. Между тем Феофил, внимательно оглядев учителя, уловил, что тот, пожалуй, тоже чувствует себя не совсем в своей тарелке. Иоанн поймал взгляд молодого императора и, чуть нахмурившись, сказал:
– Прокопий ведь там изрядно насочинял.
– Это понятно. Но в данном случае не имеет значения.
Игумен приподнял бровь. Феофил усмехнулся.
– Мне сегодня хочется быть неприличным, – сказал он.
– Бывает.
– Хотя со вчерашнего дня мне нужно быть приличнее, чем когда бы то ни было! – продолжал Феофил с некоторым сарказмом. – Ведь я теперь император… Как сказал отец, я должен быть сильным… Он прав, конечно. А еще я должен быть счастлив, не так ли? – он резким движением закрыл книгу. – Впрочем, ты, пожалуй, скажешь, что счастье в добродетели, ведь так учили и святые отцы, и эллинские философы. А значит, всякое несчастье при желании поправимо…
Как больно! Но жаловаться нельзя. И учитель тут его ничем не утешит… Да ведь он уже выразился на этот счет недвусмысленно: «расстройство ума» должно пройти, и «исход дела зависит от делателя». Феофил очень сильно сомневался как в том, так и в другом. Он убрал книгу в шкаф и, простившись с Иоанном, вышел.
Грамматик подошел к окну и задумался. «Платоник» соединился не со своей половиной… Это, конечно, плохо, но не смертельно. Притрется со временем… скорее всего…
11. Философ и женщина
(Виктор Цой)
- Тот, кто в пятнадцать лет убежал из дома,
- Вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе.
- Тот, у кого есть хороший жизненный план,
- Вряд ли будет думать о чем-то другом.
Апостольский пост подходил к середине, и Фекла, наконец, решилась: «Всё-таки нужно это сделать!» После злополучной встречи Александра и Иоанна императрица избегала возвращаться к теме «загадочного прошлого», а Грамматик вел себя так, будто ничего не произошло. С появлением юной соправительницы у Феклы прибавилось разных забот: августа-мать старалась создать Феодоре как можно более «уютные условия жизни», как она про себя выражалась, тем более что Феофил не очень-то был щедр на нежности с молодой женой. Императрица редко встречалась с Иоанном, и эти встречи были почти всегда мимолетны и при свидетелях, а в библиотеку, где скорее всего можно было встретиться с игуменом наедине, Фекла заходила после свадьбы сына только раз, взяла почитать «О божественных именах» святого Дионисия, но до сих пор не могла закончить – было некогда. Однако внутренний червь грыз императрицу, иногда она ловила себя на беспокойстве и даже тоске, причину которых не могла понять. Наконец, у нее выдалось время, и, гуляя по парку, она велела одной из сопровождавших ее кувикуларий найти и позвать Иоанна: она знала, что в тот день Грамматик был во дворце с самого утра.
Он действительно пришел довольно скоро и приветствовал августу дежурным поклоном. Фекла приказала кувикулариям отдалиться и пошла вперед по аллее, сделав знак Грамматику следовать за ней. Когда кувикуларии отстали на такое расстояние, что не могли слышать разговора, императрица сказала:
– Я хотела попросить у тебя прощения, господин Иоанн.
– Помилуй, августейшая! За что мне прощать твое величество? – спросил Грамматик удивленно, но по едва уловимым ноткам его голоса Фекла поняла, что удивление это притворное.
– За ту подстроенную встречу с Александром, – ответила она, вспыхнув. – Ты… тебе, верно, это было не очень приятно…
– О, пустяки! – ответил игумен небрежно. – Чего не бывает в жизни! Мнится мне, самое лучшее, государыня, больше никогда не вспоминать об этом.
Фекла внезапно смешалась. Казалось бы, Иоанн не говорил ничего особенного и не только не показывал, что был задет, но, напротив, всячески давал понять, что тот «пустяк» не стоит и воспоминаний, – а ей становилось всё неудобнее и хотелось оправдаться, словно она совершила преступление…
Они как раз дошли до поворота аллеи, где от нее ответвлялась небольшая дорожка к высокому старому платану. Императрица свернула туда, игумен последовал за ней. Фекла слышала за спиной его шаги, и ее сердце почему-то билось всё быстрее. У платана стояла деревянная скамейка, а по ее сторонам раскинулись два розовых куста – один покрывали темно-красные цветы, а другой белые. Августа подошла к белому кусту, сорвала розу, повертела в руках и, наконец, тихо сказала:
– Мне просто очень хотелось узнать, почему так случилось с сестрой… Я не ожидала, что это так обернется…
– Неужели, августейшая? Значит, я ошибся. Мне казалось, что тебе хотелось узнать не только это. Точнее, не столько это.
Она вздрогнула, выронила розу и повернулась к игумену. Смятение, охватившее ее при его словах, было столь сильным, что она даже не сразу смогла ответить.
– Что… ты хочешь сказать, господин Иоанн? – еле выговорила она.
Он слегка улыбнулся и ответил, глядя ей в глаза:
– Не столько о госпоже сестре, сколько о том, как это бывает.
Внезапно его взгляд стал таким же пристально-глубоким, каким игумен один раз уже смотрел на нее – за две недели до выбора невесты Феофилу, – и опять что-то сдвинул в ней, но уже гораздо сильнее, так что у Феклы закружилась голова, как если б она глянула вниз с большой высоты. Императрица побледнела, потом покраснела, опустила взор, но тут же вновь подняла глаза на Грамматика. Иоанн теперь смотрел, как обычно, с некоторой холодностью.
– Как ты, возможно, знаешь, трижды августейшая, – игумен говорил так, будто преподавал урок, – римский император Марк Аврелий, помимо всего прочего, занимался философией и оставил после себя замечательные размышления, – Иоанн слегка сощурился и поглядел поверх головы императрицы вглубь парка. – Этот император-философ говорил, что «человек, достигший сорока лет, если он обладает хоть каким-нибудь разумом, в силу общего единообразия некоторым образом уже видел всё прошедшее и всё имеющее быть», – он вновь посмотрел в глаза Фекле. – Мне сорок один год, августейшая.
– И… что? – спросила она, чувствуя, что краснеет всё больше и ничего не может с этим поделать.
Она вдруг ощутила, что между ней и Иоанном исчез некий барьер. Расстояния, которое должно было отделять императрицу от «простого игумена», замужнюю женщину от постороннего мужчины, женщину от монаха, больше не существовало. В этот миг она поняла, что между ними не было и внутреннего барьера, всегда разделявшего ее с собственным мужем, несмотря на то, что они всю жизнь были вместе… Ощущение было странным, пугающим и в то же время соблазнительным до головокружения. Фекла даже и представить себе не могла, что между ней и Грамматиком возможен подобный разговор, и что «магнетизм», который она ощутила почти сразу после знакомства с игуменом, на самом деле столь силен, что может уничтожить всё, что должно их разделять. Иоанн говорил с ней, «как власть имеющий», – и она воспринимала это, как должное, ее это как будто даже не удивляло, не возмущало… Да что же происходит?!..
– Видишь ли, трижды августейшая, – сказал Иоанн, – в молодости, несомненно, бывает интересно познавать окружающих людей. Но после ряда определенных опытов человек, если он умен и достаточно проницателен, начинает понимать внутренние закономерности происходящего. В частности, если говорить об отношениях мужчины и женщины, – взгляд игумена стал насмешливым, – то нескольких опытов бывает достаточно, чтобы понять, что за чем и когда следует. А после сорока лет коснеть в таких опытах в любом случае неприлично для разумного существа. К этому возрасту следует обратить свое внимание на что-то высшее, нежели земное копошение человеческих особей и тем более чувства, которыми увлекаться вообще простительно только в юности… Не сочтет ли государыня за дерзость, если я задам один вопрос, касающийся лично ее?
– За дерзость?..
«Наговорить такого – и спрашивать позволения надерзить!» – подумала Фекла. «Надо отослать его вон и закончить на этом!» – мелькнула мысль, но императрица поняла, что не станет ни обрывать разговор, ни прогонять Грамматика, и ощутила, что он это тоже понимает. Мгновенное осознание этого вновь заставило ее мучительно покраснеть, но невыносимое смущение вдруг странным образом перешло в какое-то внутреннее бесстыдство: если всё понятно, то к чему притворяться? Всё понятно? Но что понятно?!.. Она закусила губу и взглянула на игумена. Тот чуть заметно улыбнулся, и Фекла почувствовала, как по ее спине прошел холодок.
– Человеческая дерзость имеет гораздо бо́льшие размеры, августейшая, чем это обычно представляется людям благовоспитанным. Итак, я осмелюсь задать вопрос: чем занималась государыня, когда ей было тринадцать лет?
Фекла растерялась.
– Я?.. Жила дома с родителями…
– И?
– И играла в игрушки! – нервно рассмеялась императрица.
– Прекрасно, августейшая! Счастливое, беззаботное детство. А я в тринадцать лет сбежал из дома, стал сам зарабатывать себе на хлеб и познавать жизнь, как она есть. К двадцати годам я уже вполне ясно осознал, чего хочу добиться и как мне жить дальше. Я рано стал узнавать людей, государыня, и рано завершил свои познания в этой области. Это я, собственно, к тому, что уже задолго до того, как мне исполнилось сорок, я потерял интерес к человеческим отношениям, которые, говоря в общем, называют дружбой, враждой, любовью или ненавистью, – потому что закономерности их развития, причины и следствия различных поступков и вспышек тех или иных страстей стали мне достаточно ясны. Повар знает, сколько и каких пряностей положить в блюдо, чтобы оно имело тот или иной вкус. Красильщик знает, что, например, из вареных фиалок можно получить краску цвета аттической охры… – Иоанн шагнул в сторону, наклонился и сорвал какую-то травку. – Или вот, лютик. Для большинства – просто трава, для садовников – сорняк, а между тем из него можно получить хорошую ярко-зеленую краску. Некоторые считают, что из низких металлов путем определенной переплавки и смешений можно получить золото. Правда, – усмехнулся Грамматик, – подобные искатели золота всё время получают не его, а совсем иные смеси, и, пожалуй, этот пример наиболее подходит к нашему разговору. Человеческие чувства – та же химия. Люди думают получить золото, а получают… разное, но каждый раз не то. Путем опыта выводятся закономерности тех или иных смешений, и становится понятно, что чувства и страсти, как и вещества, рождаются вполне закономерно в результате смешения тех или иных влияний, обстоятельств, природных свойств. Человек несведущий думает, что находится во власти непонятных случайностей, странных неожиданностей, неясных мыслей и неотчетливых, как будто бы, желаний, – Грамматик снова взглянул на императрицу, которая слушала его, как завороженная, – но человек сведущий хорошо знает, что с чем тут надо смешать и в каком порядке, чтобы получить тот или иной результат. Поэтому, например, мужчина, обладающий определенным опытом и знаниями, легко может сделать так, чтобы почти любая женщина упала к его ногам. Особенно это легко тогда, когда женщине самой хочется узнать, что такое настоящая страсть.
Фекла ощутила, как дрожь прошла по ее телу, а ноги стали подкашиваться.
– И совсем легко, – продолжал игумен, – когда женщина уже охвачена страстью, хотя, быть может, и не сознаёт этого ясно.
Императрица опустилась на скамью. Все ее смутные ощущения, еще с того времени, как она посетила несколько уроков Иоанна детям, желание узнать его прошлое и то, был ли он и, если был, то как связан с ее покойной сестрой, ее восхищение им, которое постепенно стало отдаваться в душе неясным беспокойством, накатывавшая по временам тревога, какая-то тянущая тоска и прочие «странности», подмеченные ею, – всё слилось в один оглушительный ответ: перед ней словно ударила молния или разверзлась пропасть. Грамматик стоял в пяти футах от нее и смотрел чуть насмешливо. Вдруг он поднял руку и откинул назад свои густые, слегка вьющиеся волосы, на висках уже тронутые сединой, – коротко, по-монашески, подстриженные, они в очередной раз отросли и уже начинали лезть ему в лицо и мешать. Этот мимолетный жест будто отворил русло некоего потока, который устремился на Феклу и захлестнул ее – горячий и неукротимый. Всё поплыло внутри и вокруг, и только одно она видела: лицо с резкими чертами, высокий лоб, насмешливый взгляд серых глаз… Иоанн наблюдал за ней, и она чувствовала, что он видит ее насквозь – это было ужасно, и в то же время в этом заключалось особое тонкое наслаждение. Она ощущала, что готова сидеть так бесконечно долго – просто смотреть на него и словно растворяться в этом окружившем ее потоке… Ни стыда, ни желания противиться. Но ведь противиться надо! О, Господи!..
– Конечно, женщина добродетельная будет сопротивляться, – Грамматик едва заметно улыбнулся, – но недолго! Добиться того, чтобы она сама захотела своей погибели, захотела страстно и забыв обо всем, ничего не стоит для того, кто знает, как это сделать. Но, как я сказал, августейшая, после нескольких опытов такого рода человеку разумному становится неинтересно получать одно и то же. Он уже знает, как это бывает и почему, и ему скучно повторять опыт заново. Уже заранее известно, каков будет результат смешения в том или ином случае. Многие люди сами не понимают, что с ними происходит, им даже часто кажется, что ими движет вовсе не страсть, а самые невинные, а то и добродетельные побуждения, но человек знающий видит и понимает, в чем тут дело. Философу, безусловно, иной раз бывает любопытно наблюдать за тем, как из одних веществ путем смешения получаются другие… Правда, иногда, – он опять улыбнулся, – трудно устоять перед соблазном оказать воздействие, которое, как известно философу, может ускорить претворение или выделение веществ. Но стороннее воздействие и участие в самом претворении – вещи разные, августейшая. Наблюдать за опытом со стороны, а иногда из любопытства ускорять или замедлять его бывает весьма занятно – но и только. Становиться самому одним из веществ, претворяющихся в смешении, философ не хочет, ибо это для него совершенно ни к чему.
Он опустил глаза и стал внимательно рассматривать лютик, который всё еще держал в пальцах. Императрица была не в силах даже шевельнуться. Она увидела, как на аллее вновь показались кувикуларии, проходившие мимо уже в третий раз, стрельнули глазами в их сторону и лениво пошли дальше. Что-то они подумают? А впрочем, не всё ли теперь равно? Если уж она так легко опустилась до подобного позора… Фекла чувствовала себя так, будто ее раздели.
– Хотелось бы мне знать, – наконец, проговорила она, – сколько и чем философы платят за свое… право на дерзость! Ведь они всё-таки должны были чем-то заплатить за это знание… причин и следствий?..
Она умолкла, почти с гневом глядя на Иоанна, но он не поднял глаз и ничего не ответил. «Я говорю только то, что считаю нужным», – вспомнилось ей. Конечно, он ничего не расскажет… Она хотела узнать, что случилось тогда с Марией, а в итоге – что узнала? Не более, чем внешнюю канву событий, которая мало или даже почти ничего не давала для понимания… Но с чего бы вдруг он стал рассказывать ей тайные подробности? И почему она словно бы ждала от него такой откровенности? Потому что… ей казалось, что он к ней относится по особенному – и ей это льстило, хоть она и сердилась, когда муж намекал на это… Ну да, по особенному – как к подходящему веществу для проведения опыта!.. Конечно, он рассказал ей сейчас кое-что про себя… но рассказанное сводилось, в сущности, к тому, что некогда у него были «опыты» с женщинами, из которых он вынес определенные знания и теперь применил их, чтобы… чтобы, так сказать, раздеть ее и даже, если можно сделать такое сравнение, разрезать и посмотреть ей внутрь, и ее саму заставить посмотреть… И вместо того, чтобы возмутиться и… отхлестать его по щекам, например!.. она сидела и наслаждалась своим позором и лицезрением того, кто посмел ее до этого позора довести!.. Нет, довольно, довольно!..
– Философ, безусловно, хорошо разбирается… в душевных движениях, – сказала Фекла, прилагая все усилия, чтобы ее голос не дрожал. – Но только зря он думает, что не хочет он один. Не имеющие того опыта, который ему известен, не обязательно будут хотеть этот опыт получить… Точнее, они, может, и хотели бы испытать то, чего никогда не знали…
Голос императрицы дрогнул, и она умолкла. Иоанн тоже молчал, всё так же не поднимая глаз. «Ну, что ж, – подумала она, – раздеваться так раздеваться! Теперь уже всё равно…»
– И тем более охваченные страстью, – продолжала она, – хотят вкусить… Но такой ценой, какую за это придется заплатить, – нет. Оно того не стоит! Ведь философ и сам так считает… по крайней мере, теперь, не правда ли?
Иоанн усмехнулся, бросил лютик на землю, взглянул на императрицу и сказал:
– С разумной женщиной иной раз приятно бывает побеседовать. Но я нижайше прошу прощения, августейшая: мне необходимо идти. У юного государя сегодня урок философии, а я, боюсь, уже опаздываю.
– Да-да, конечно, – ответила Фекла чуть более торопливо, чем хотела. – Ты можешь идти, господин Иоанн.
Когда Грамматик откланялся и пошел по дорожке к аллее, императрица сделала движение, словно хотела встать и броситься за ним, а потом прижала руку к груди и откинулась на спинку скамьи. В этот миг она ощутила, что «упасть к его ногам» – совсем не было метафорой: да, она была готова унизиться и до этого, и если б он захотел воспользоваться, сказанные ею слова о неприемлемости «такой цены» и еще сколько угодно других слов нимало не помогли бы остановиться…
– Сколько ты заплатил в свое время за это знание? – прошептала она. – И собой ли заплатил или… другими?
«А я… Неужели я действительно ждала, что он…» Ее охватил ужас. Значит, она не только ждала от него откровенности, но даже надеялась… что он к ней неравнодушен! Ответ на вопрос, кто кого тут пытался соблазнить, решался вполне однозначно: хотя Грамматик, по его собственному признанию, не удержался, чтобы не подлить масла в огонь, но он это сделал лишь тогда, когда понял, что происходит в душе императрицы… Ему, значит, стало любопытно проследить за ходом «смешения», увидеть, до чего она дойдет… И он показал ей, до чего она может дойти!..
Но, однако же, этот монах в качестве пояснения, почему «дело не пойдет», выдвинул не свое монашество, обеты, заповеди, – а только то, что ему «неинтересно» повторять опыт!.. А если б ему было интересно, монашество не помешало бы?
«Боже, о чем я думаю?!..»
И всё-таки… неужели он прочел такую длинную лекцию только затем, чтобы открыть Фекле ее внутренность и дать понять, что свою-то он ей не откроет?.. Так только, приоткрыл, подразнил, показал силу ума и проницательность… посмеялся – и всё!
«Может быть, – мелькнула у нее догадка, – он сделал это потому, что для него наслаждение – ощутить власть над другим человеком?.. Ведь он дал понять – и он прав! – что может добиться от меня всего, чего угодно… Может, но просто не хочет!»
А может быть… всё-таки было что-то еще?..
Вечером перед сном она, по обыкновению, уединилась в своей молельне. Затеплив лампаду, она поправила ногой шерстяной коврик, опустилась на колени и, прижавшись лбом к прохладному торцу мраморного столика, закрыла глаза. И прошлое поплыло перед ней.
Старшая сестра, такая тонкая, словно воздушная, сидит на подоконнике и смотрит в сад, солнце падает на ее черные косы, и в них вспыхивают искры. Фекла и Агния сидят тут же на скамье и с любопытством глядят на нее. Молодой учитель, с которым познакомилась Мария в доме у брата, «не особенно» красив, но очень умен – интересно! – но завтра девочки уже забудут об этом. А Мария смотрит в окно, и на губах ее играет улыбка… Через три года Мария будет лежать в гробу – такая бледная, словно из нее вытекла вся кровь. Еще через год Фекле предстоит, войдя по зову отца в столовую, выйти из нее невестой шепелявого молодого человека – будущего императора ромеев, который ни разу в жизни не сказал ей ни слова о любви, так же как и она ему. Да она и не ждала от него таких слов и, казалось, не имела в них потребности, равно как и в том, чтобы самой сказать их кому-то… До тех пор, пока, спустя почти двадцать лет, тот, о ком улыбалась Мария, не показал ей, что она плохо знает себя… Начать с выяснения, любила ли его сестра, а закончить тем, что признаться ему в любви самой!.. А он – усмехался…
И всё-таки… только ли потому он на нее так разгневался тогда и всячески выказывал свое презрение к «опытам определенного рода» теперь, что они действительно совершенно не интересовали его, а она посмела путаться под ногами бесстрастного философа… или… или потому, что она всё же пробудила в нем некие чувства, которых он больше не хотел испытывать?.. «Я никогда этого не узнаю», – эта мысль доводила ее почти до отчаяния, и ей было даже не стыдно. Куда она скатилась! А что мог подумать сын о той встрече с Александром? О, Боже!..
Сын!.. А если Феофил тоже станет для этого философа… веществом для каких-нибудь опытов?!.. Фекла открыла глаза и подняла взор к Распятию.
– Господи, я ничего не знаю… не знаю, как надо, и зачем все так происходит… Но об одном прошу: сохрани Феофила от лукавства демонского… и человеческого!
Императрица и не подозревала, что в тот день, когда Иоанн и Александр встретились во дворце, она стала первым человеком, доведшим Грамматика до состояния, которое смело можно было назвать бешенством, и не догадывалась о настоящей причине его гнева: философ, всю жизнь проводивший разнообразные опыты над людьми, впервые сам стал объектом опыта, причем устроенного женщиной, – и, несмотря на то, что устроительница пережила при этом очень неприятные моменты, игумен не мог не признать, что опыт ей удался.
…Мефодий лежал на рогоже и смотрел, как в углу под потолком появляется небольшое светлое пятно. Там было единственное узкое окошко, точнее, щель, откуда проникал воздух в темницу. Прямых солнечных лучей сюда не доходило никогда, лишь возникал и угасал слабый отсвет, и по нему можно было определить, что начался и окончился очередной день. Мефодий находился здесь уже третий месяц.
Спустя два дня после визита православных исповедников к императору Хинолаккский игумен, взяв благословение у патриарха и напутствуемый молитвами отцов и братий, отправился к василевсу с посланием от Римского папы. Михаил принял игумена в Магнавре, тут же присутствовали Антоний Силейский, Иоанн Грамматик и синклитики. С самого начала приема Мефодий ощущал на себе пристальный взгляд Сергие-Вакхова игумена, и это его немного раздражало. Император поручил протоасикриту зачитать послание вслух, просмотрел приложенные к нему копии определений седьмого Вселенского собора, окинул взглядом принесшего их и спросил:
– Скажи-ка нам, господин Мефодий, а кто уполномочивал тебя ехать в Рим, видеться со святейшим папой, приносить от него послания?
– Святейший патриарх Никифор, государь.
– Так. Но когда же это было? Когда владыка Никифор еще занимал Константинопольскую кафедру?
– Нет, он был в это время уже незаконно изгнан с нее.
– Незаконно изгнан, говоришь ты, почтенный отец? – император обратился к Силейскому епископу. – Разве господин Никифор удалился в свой монастырь не добровольно?
– Он удалился туда по собственному желанию, августейший, – ответил Антоний. – В его письме к прежнему государю, говорилось, что он претерпел разные притеснения и оскорбления и потому, не желая терпеть их дальше, покидает кафедру. К сожалению, я не помню буквальных выражений, но думаю, если ты повелишь принести это письмо из архива…
– Нет нужды, владыка, – вмешался Грамматик и с поклоном обратился к императору. – Августейший, я помню это письмо наизусть, и если повелишь, могу привести оттуда весьма занимательный отрывок, лучше всего это письмо характеризующий.
– Просим, отче! – улыбнулся Михаил.
– Там действительно говорится о притеснениях и оскорблениях, которые нанесла господину Никифору буйная толпа. Впрочем, я должен заметить, что государь Лев нимало не одобрил тогда это буйство, что подтвердят и многие из присутствующих здесь, – синклитики согласно закивали. – Так вот, дальше там сказано следующее: «И после всех этих зол я услышал, что враги истины готовят на меня засаду, желая на меня напасть, чтобы либо убить, либо сотворить насильственное и смертоносное низложение. Итак, дабы не совершилось такое преступление, и дабы грех не вменился вашей власти – ибо большего гонения против меня и придумать невозможно, – мне совершенно необходимо, против воли и желания, гонимому злоумышленниками, оставить свой престол. И как Бог рассудит и устроит мои дела, на том я и успокоюсь, и возблагодарю Его за Его благость».
– Что же, на него действительно готовили засаду? – чуть насмешливо спросил император.
– Насколько я знаю, – ответил Иоанн, – никакой засады на святейшего не предусматривалось, да это было бы и нелепо, ведь он тогда лежал больной в своих покоях и почти никого не принимал. Впрочем, быть может, господа синклитики знают об этом лучше?
– Нет, мы ничего не знаем ни о какой засаде! – раздались голоса.
– Итак, что же мы можем сказать относительно доводов господина Никифора? – спросил император. – Как ты смотришь на них, отец игумен?
– Мне думается, что мы здесь имеем дело с чем-то вроде театрального представления, за которым не стоит никаких иных целей, кроме одной – замаскировать простое нежелание далее управлять кафедрой. Беспорядки, устроенные тогда у патриарших покоев, вызвали недовольство государя, и зачинщики их были наказаны. Но господин Никифор представляет дело так, будто всё это делалось при полном попустительстве власти, а затем придумывает слухи о засаде и злоумышленниках, после чего заявляет, что именно это – то есть не существующие на деле обстоятельства – вынуждает его покинуть престол, как бы по насилию. Поэтому государь совершенно справедливо сказал, по отбытии господина Никифора из столицы, что он попросту оставил кафедру, не желая ею управлять. Более того, как видим, господин Никифор не захотел исполнить свои же собственные слова – успокоиться на том, «как Бог рассудит и устроит» его дела: он послал в Рим человека, чтобы там воздействовать на святейшего папу, распространять неверные сведения о здешних делах и наносить ущерб вашей державе. По крайней мере, лично я смотрю на это так. Если я ошибаюсь, пусть твое величество меня поправит.
К концу речи Грамматика Мефодий стал бледным от гнева. Иоанн видел это, и в глазах его зажегся насмешливый огонек. Император остался весьма доволен его речью.
– Думаю, ты рассудил правильно, отче. Господин Никифор просто отлынивает от своих прямых обязанностей – как тогда, так и теперь. Ведь я совсем недавно предлагал ему вновь занять престол, но он не согласился, несмотря на то, что гонений нет уже несколько месяцев. Что до тебя, господин Мефодий, – обратился он к игумену, – то ты, попросту говоря, занимаешься деятельностью, вредной для нашего богоспасаемого отечества. Без всякого поручения настоящей церковной власти – ибо господин Никифор таковой властью, посылая тебя в Рим, уже не являлся – ты отправляешься в чужие страны, строишь там ковы, обманным путем добиваешься от папы посланий, угодных Никифору, приезжаешь сюда… Причем приезжаешь не во время прежнего правления, а теперь, узнав, что мы проявили человеколюбие ко всем узникам. Верно, ты надеялся на снисхождение и к твоим дерзостям? Ну, так ты просчитался, – император повернулся к эпарху. – Господин эпарх, возьми его и заключи под стражу. Завтра мы решим, что с ним делать дальше.
На следующий день Мефодию было предъявлено обвинение в том, что он сбежал из Империи на запад, чтобы «строить козни благочестивым самодержцам и святейшим архиереям», а потому, как государственный преступник, присуждается к бичеванию и строгому заключению. Игумену дали семьсот ударов бичом и, почти мертвого, бросили в тюрьму Претория, а спустя две недели, с еще кровоточившими ранами, увезли на остров Святого Андрея, находившийся в Пропонтиде недалеко от мыса Акрит, где заключили в тесную пещеру, сообщавшуюся с подвалом одного из местных монастырей. Мефодий оказался в ней не один: здесь уже около четырнадцати лет содержался некий человек по имени Ксенофонт, сосланный на остров за участие в заговоре Арсавира при императоре Никифоре. Мефодий, когда немного пришел в себя после бичевания, попытался расспросить соузника о его прошлой жизни, но тот сказал:
– Я, отче, уже давно стал мертвецом для всех живущих, кроме моего стража, а потому нет нужды говорить о том, кем я был. Когда-то я занимал должности, владел имениями и рабами, у меня была семья… Но всё это в прошлом, я сижу тут много лет и не выйду отсюда до смерти. К чему вспоминать о том, что уже давно – всего лишь призрак, даже и того менее?
«Вот так! – подумал Мефодий. – Я уже столько лет монашествую, а всё еще не могу сказать, что умер для мира, а этот человек, видно, никогда и не думал об отречении, а уже, можно сказать, стал монахом… Что ж, слава Богу, и здесь мне есть, чему поучиться!» Но училище жизни, куда игумена забросила судьба, оказалось чрезвычайно суровым: в темнице едва хватало места и для одного человека, а вдвоем узники с трудом могли там повернуться; холод, блохи, кусачие жуки, грязь и зловоние способны были свести с ума. Игумен с трудом понимал, каким образом его соузник провел в таких условиях столько лет и всё еще не умер.
– Я приноровился, – сказал Ксенофонт. – Если дышать не очень глубоко, то терпеть можно, а потом я принюхался…
Мефодий поначалу не только не мог «принюхаться», но постоянно терял сознание, не в последнюю очередь и от боли – раны от бичей не заживали, гноились и причиняли невыносимые страдания. Правда, страж-монах жалел узника и, как мог, старался облегчить его участь – передавал воду, бинты и сало. Ксенофонт пытался врачевать раны Мефодия, но они были так глубоки, что даже спустя месяц после заточения игумен почти не мог вставать. Впрочем, вставать тут было, можно сказать, некуда: потолок пещеры был почти везде столь низок, что игумен, попытавшись выпрямиться во весь рост, тут же больно стукнулся головой о какой-то выступ. Но больше всего угнетала постоянная темнота. Это была жизнь при свечах, да и их приходилось экономить: стражу приказали выдавать их мерой, а, кроме того, в пещере при горящей свече очень быстро наступала духота… Игумен чувствовал себя заживо погребенным – и это случилось как раз в то время, когда все исповедники, напротив, были выпущены на свободу, могли общаться и утешать друг друга, тогда как он был лишен даже возможности писать письма. Мысль об этом наполняла его душу невыносимым унынием. «Что ж, – пытался он ободрить сам себя, – когда братия терпели мучения за Христа, я наслаждался свободой в Риме. Теперь пришла и моя очередь пострадать!» Но почти каждый раз, когда светлое пятно под потолком гасло и в пещере наступала кромешная тьма, мысль, что эта пытка может длиться еще долго, многие годы, может быть, всю жизнь, заставляла Мефодия желать себе скорейшей смерти…
12. «Колдун»
Клевета острее, чем меч, неистовее, чем огонь, убедительнее, чем сирена. Молва же быстротечнее волны, стремительнее ветра, быстрее птиц. Пущенное клеветой слово летит, как стрела из лука, и ранит намеченную жертву, даже если она далеко.
(Ахилл Татий, «Левкиппа и Клитофонт»)
Студийский игумен с учениками уже третий месяц жил в местечке Крискентии при Никомидийском заливе. Они построили здесь кельи, и Феодор быстро наладил жизнь по прежнему монастырскому уставу; студиты продолжали прибывать со всех концов, чтобы воссоединиться с братством. Приходили за благословением и советами и многочисленные монахи других обителей, и миряне, и даже епископы, – и это помимо огромной переписки, которую Феодору приходилось вести. Навкратий и другие из старших братий, как могли, старались помогать игумену, но спокойное время для исповедника всё равно наступало лишь по ночам, да и то не всегда.
В середине июня игумену случилось принять не совсем обычного гостя: с Олимпа пришел игумен Атройского Свято-Захариева монастыря Петр, поразивший студитов своей внешностью: высокий, седой, чрезвычайно худой, в грубом толстом хитоне, со спутанными волосами и свалявшейся бородой, босой, неулыбчивый. Только глаза не вязались с его общим суровым видом – смотрели приветливо и ласково, иногда отрешенно, а прозрачностью и цветом напоминали весеннее небо. Петр проделал весь путь до Крискентиев пешком, но пришел не просто повидать великого Студита – олимпийца привела к Феодору большая скорбь: по Вифинии распространился слух, будто Петр творит исцеления не Божией силой, но демонской, колдовской.
После возвращения вместе с братом Павлом из Иппской пещеры на Олимп и последующего ухода на Прекрасную гору Петр продолжал подвизаться по-прежнему и исцелять приходивших к нему недужных. Вскоре вокруг стали собираться монахи, и на горе возник монастырь. В то время Павло-Петрский игумен Афанасий был заключен недалеко от них, в крепости Плоская Скала, и однажды Петр решил навестить исповедника; Павел, как всегда, сопровождал брата. Им удалось повидаться с Афанасием и передать ему еду и одежду. Крепостная стража отнеслась к монахам с почтением, а начальник крепости даже пригласил их в свой дом, накормил и хотел дать денег, но Петр отказался взять. Братья пустились в обратный путь и уже были недалеко от Прекрасной горы, когда на дороге им встретился небольшой отряд всадников под предводительством декарха, который остановил монахов и, подозрительно оглядев их, спросил:
– Приветствую, отцы! Откуда это вы и куда идете? Почему не сидите в своей обители? Вы случайно не из раскольников-иконопоклонников?
– Мы, господин, не раскольники, – кротко ответил Петр, – но почитаем, как должно, начертанный образ Христов, потому что Бог-Слово стал человеком, и мы с верой чтим Его вочеловечение и страдания, чтобы не впасть в нечестие и не удалиться от Господа…
Не успел еще игумен окончить, как декарх соскочил с коня, выхватил у Петра деревянный посох и принялся бить его по голове с криками:
– А, нечестивый раскольник!
Из рассеченного лба игумена полилась кровь, Петр упал, но декарх, не унимаясь, схватил его за куколь и принялся таскать по земле, ударяя ногой в бок. Всё это произошло так быстро, что Павел в первый момент опешил, но, опомнившись, поднял с дороги небольшой камень и, бросив в декарха, попал ему в плечо. Тот выругался и на мгновение отпустил Петра. Павел наклонился, чтобы взять другой камень, но игумен, заметив это, воскликнул:
– Не надо, брат! Вспомни, что сказал Господь: «Не противься злому»!
Стратиоты, спешившись, связали монахов и повели в Аполлонию, где передали экзарху Ламарису, известному по всему Фракисию жестокими преследованиями иконопочитателей. Ламарис допросил их и запер в одной из пристроек к местному храму, а на другой день разделил братьев: Петра велел заковать в цепи и заключить в камеру, а с Павлом завязал разговор тут же, в соседнем помещении тюрьмы.
– Я вижу, отче, что ты искусен в духовных делах и красив лицом, а потому хочу, если ты послушаешь меня, посодействовать твоему рукоположению в епископа. Тебе дадут лучшую из кафедр, могу обещать тебе это!
Монах взглянул на него с гневом и ответил тихо, но сурово:
– Предложи это кому-нибудь другому, господин. Что до меня, то ни слава, ни начальствование, ни иные земные блага не соблазнят меня и не отлучат от благочестия. Тем более, что те, кто примет вашу нечестивую веру и не почтит Христовой иконы, осуждены на вечную погибель.
Ламарис разъярился и немедленно приказал раздеть Павла и бичевать его, «пока не согласится принять правую веру или не сдохнет». Тюремщики уже принялись срывать с монаха одежды, как вдруг Петр за стеной громко закричал:
– Не троньте его! Можете меня бить, как хотите, но не троньте Павла! А не послушаетесь, Господь поразит вас! Оставьте брата! Если вы меня будете бичевать, я прощу вам, но если сделаете это Павлу, то не получите прощения!
– Хо-хо! – рассмеялся Ламарис, услышав это. – Да я и не нуждаюсь в твоем прощении!
Только он произнес эти слова, как из носа у него хлынула кровь. Экзарх зажал нос рукой, но кровотечение было таким сильным, что через несколько мгновений вся рука была красной, кровь закапала на грудь. Ламарис вскрикнул, упал на стул и задрал лицо вверх. Тюремщики в ужасе отпустили Павла, один из них побежал за холодной водой и тряпками, послали за врачом. Один из слуг Ламариса отворил двери камеры, где сидел Петр и заорал:
– Убирайся отсюда, черноризец! Мы не хотим погибнуть из-за твоего колдовства!
Когда Петр вышел, все тюремщики и прислужники шарахнулись от него, никто не воспрепятствовал ему покинуть тюрьму и идти, куда заблагорассудится. Павел последовал за ним, немного напуганный случившимся. Когда они уже покинули Аполлонию и направились в сторону Прекрасной горы, Павел робко спросил:
– Что же будет теперь с Ламарисом?
– Несчастный умрет от потери крови, – тихо ответил Петр. – Никто не исцелит человека, если Бог поразил его!
Жизнь Атройского подвижника потекла прежним порядком. Умножалась братия пяти скитов и монастырей, которые он основал, переходя с места на места в попытках убежать от человеческой славы и от множества больных, искавших у него исцеления. Игумен удалялся то в одну обитель, то в другую, но особенно полюбил Свято-Порфирьев монастырь, стоявший в наиболее глухом месте, куда нелегко было добраться посторонним. Но слава чудотворца следовала за Петром по пятам и, в конце концов, навлекла на него обвинение, поразившее его братий и очень опечалившее самого подвижника. Всё началось с того, что у одного жившего в Кизике ипата, очень богатого и известного своим благочестием, внезапно занемогла жена. С ней случилось странное душевное расстройство: прежде очень набожная, она вдруг совершенно охладела к церковному богослужению, дома тоже почти не молилась, забросила Псалтирь, которая была раньше ее настольной книгой, жаловалась на уныние, душевную тоску и нежелание жить, а по ночам ей часто снились кошмары. Ее духовник сказал, что женщиной, по-видимому, овладела бесовская сила, и посоветовал отвести ее к какому-нибудь аскету и молитвеннику, чтобы тот освободил ее от демона. Ипат сначала обратился с просьбой о молитвах за жену к некоторым иконоборческим епископам и игуменам окрестных монастырей, но никто из них не смог избавить ее от страданий. Наконец, двоюродная сестра ипата рассказала ему про Атройского чудотворца, и супруги отправились на Прекрасную гору. Петр прежде всего спросил их, почитают ли они иконы; когда ипат с женой ответили утвердительно, игумен покачал головой:
– Почему же, в таком случае, вы общаетесь с хулителями икон – нечестивыми епископами и их клириками? Вот и за исцелением к ним ходили… Как вы не понимаете, что сила Христова не может обитать в тех, кто ругается над Его образом? Я, смиренный, могу попросить Бога об исцелении твоей почтенной супруги, господин ипат, но только в том случае, если вы обещаете впредь чтить иконы, как должно, и не причащаться вместе с еретиками.
Ипат с женой были уже в таком отчаянии, что немедленно обещали игумену исполнить его требование, хотя для них это было чревато значительными неудобствами. Тогда Петр встал и, просто перекрестив женщину, сказал:
– Господи Иисусе Христе, помилуй страждущее создание Твое!
Ипатисса ахнула, широко раскрыла глаза, а затем на несколько мгновений спрятала лицо в ладони. Опустив руки, она взглянула на Петра, потом на мужа, глубоко вздохнула и упала к ногам игумена с бессвязными словами благодарности. На расспросы мужа она ответила, что когда Петр перекрестил ее, она ощутила, как с нее будто бы сваливаются тяжелые горы, и теперь она очень хотела бы прочесть несколько благодарственных псалмов… Потрясенный ипат, возвратившись в Кизик, прислал оттуда Петру богатые дары, а в скором времени построил в миле от одного из своих имений, находившегося возле Аполлониадского озера, где ипат обычно проводил лето, просторную крепкую келью, чтобы Петр, ходивший мимо по пути в Порфирьев монастырь, мог останавливаться на отдых и ипату мог брать у него благословение.
Эта история возбудила зависть у епископов и игуменов, к которым ипат поначалу обращался с просьбой исцелить его жену. Они стали распространять слухи, будто Петр творит исцеления не божественной, а бесовской силой. Молва быстро ширилась и скоро достигла Олимпа; уже не только иконоборцы, но и православные начали перешептываться, что Атройский игумен – «колдун»: поминали историю с Ламарисом и говорили, что Петр «навел на экзарха порчу», иные же смущались «сверхъестественным» постным подвигом чудотворца. К тому времени в Вифинии Петра уже прозвали «Бесхлебным», поскольку через монахов руководимых им обителей постепенно стало известно, что игумен много лет постится чрезвычайно строго, не вкушая не только вина и масла, но даже хлеба, питаясь одними овощами. Некоторых олимпских игуменов и монахов это вводило в соблазн, но они до поры молчали, когда же пошел слух о «колдовстве», осмелели и стали болтать, что Петр, конечно, и постится тоже благодаря помощи от бесов, потому что «человеку так поститься невозможно». Наконец, некоторые пересуживали в себе обычай игумена всегда, даже зимой, ходить босиком и тоже приписывали такую «непомерную» аскезу его колдовским способностям. Смущение всё увеличивалось, и Петр растерялся. Если бы слухи ходили среди иконоборцев, он бы не беспокоился об этом, но теперь соблазнялись уже его единоверцы, и это печалило его невыносимо.
– Господи! – со скорбью молился игумен. – Кто такой я, жалкий грешник, чтобы из-за меня хулилось Твое святое имя? Утиши, молю Тебя, волны соблазна и ниспошли Твою божественную тишину и благодать всем нам!
Помолившись так три дня, Петр пошел навестить игуменов и отшельников, соблазнявшихся его чудесами, надеясь объясниться и примириться со всеми. Но к кому бы из них он ни приходил, никто не только не принял его, но все гнали как колдуна и бесноватого. Вернувшись к себе в обитель, Петр даже занемог от скорби. «Должно быть, я незаметно для себя согрешил, вот Господь и попустил такое искушение», – думалось ему. Наконец, он решил отправиться за советом к Студийскому игумену. «Если я в чем-то погрешаю, то пусть Господь откроет мне это через отца Феодора, – размышлял подвижник. – Если же он не найдет в моем образе жизни ничего неподобающего, то тогда я смогу ссылаться на его слова перед теми, кто соблазняется мной», – авторитет великого Студита был к тому времени уже столь высок, что его мнение могло сыграть решающую роль в погашении неподобающей молвы среди православных.
Феодор принял Атройского подвижника с любовью и, выслушав его рассказ, подробно расспросил Петра о его жизни и о том, как он молится и подвизается и как именно совершает чудеса и исцеления, прося его рассказать всё без утайки, как перед лицом Божиим. Петр отвечал кротко, со смирением, что вот уже восемнадцать лет не вкушает ни хлеба, ни вина, ни сыра, ни масла, но довольствуется овощами, в Великий пост по много дней воздерживается от пищи, а иногда лишает себя и воды, носит всегда один хитон и под ним вериги и никогда не надевает обуви. Затем он исповедал свою веру в Святую Троицу и в воплощение Сына Божия, сказал, что свято чтит иконы, а чудеса творит исключительно через молитву к Богу, причем только над теми, кто проклинает всякую ересь, в том числе иконоборческую. Под конец Петр со скорбью проговорил, что лучше бы Господь забрал от него благодать чудотворений, только бы не хулилось из-за него имя Божие.
– Я вижу, отче, – сказал Студийский игумен, – что ты подвизаешься истинно по Богу и, конечно, ошибаются считающие тебя колдуном. Но прими мой братский совет: оставь отныне свой строгий пост и вкушай иногда понемногу хлеба, вина и прочих кушаний, обычных для монахов. За столько лет ты уже показал Богу свою любовь и ревность к умерщвлению плоти, а теперь надо позаботиться о наших немощных братьях. Ты видишь, слабые люди склонны к осуждению, поскольку они, будучи не в силах подвизаться подобно древним отцам, не верят, что «Христос вчера и ныне и во веки тот же». Они думают, что раз они сами не способны подвизаться, то и никто из людей не может вынести великих подвигов, а если и найдется такой, обвиняют его в волшебстве и подобных грехах. Также советую тебе больше не ходить зимой босиком, но носить обувь, как все монахи. А для порицающих тебя я, пожалуй, напишу краткую записку, если только мое смиренное слово для них что-нибудь значит.
Петр выразил готовность исполнить данные советы. Тогда Студит позвал нескольких монахов, велел им приготовить трапезу с вином, сыром, рыбой и маслом и пригласил Петра отведать всего вместе с ним. После обеда Феодор собственноручно надел на ноги игумена монашеские сандалии, а поверх грубой власяной туники – шерстяную мантию. Затем он попросил Николая принести пергамента и хороших чернил и написал письмо к порицателям Атройского подвижника, где призывал их оставить зависть и больше не называть колдуном Петра, «достойного служителя Христа, который ныне воссиял через него Свою божественную благодать в чудесах и знамениях, как некогда через апостолов», ведь Христос обещал: «Верующий в Меня дела, которые Я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит», – а потому нет ничего удивительного в том, что Он даровал благодать исцелений такому великому подвижнику и строгому хранителю православия как Петр. Два игумена пробеседовали остаток дня, затем Петр принял участия в вечернем, ночном и утреннем богослужениях студитов, а после литургии, горячо поблагодарив Феодора, отправился в обратный путь. Советы и письмо Студита сделали свое дело: прежде поносившие Петра православные, пристыженные Феодоровым посланием, придержали языки, и недобрая молва, распространившаяся об Атройском игумене по Вифинии, постепенно стихла.
Между тем мятеж Фомы разросся настолько, что вызвал поток беженцев: монахи и миряне бежали из восточных областей ближе к столице, не желая присоединяться к мятежникам и опасаясь возможных арабских набегов, – агаряне не сдержали данного «Константину» обещания и, стоило Фоме отойти от границ и направиться к Царице городов, снова принялись опустошать земли Империи. Оказывать им сопротивление было некому: почти все войска мятежник увел на столицу, а оставленный в тылу «сын» к серьезным военным действиям был малоспособен. Наконец, Феодор со своими монахами тоже решил двигаться к Константинополю. Нужды они не испытывали благодаря усердию почитателей, но путешествие всё-таки было тяжелым из-за жары и скопления беженцев на дорогах. По пути оказавшись на Принкипо, студиты, в ожидании посадки на судно до Халкидона, несколько дней страдали от тесноты из-за собравшихся на острове толп людей, недоставало даже питьевой воды. Когда они добрались до окрестностей Халкидона, у Феодора случился почечный приступ, и неделю он пролежал больной в доме у знакомого спафария. Оправившись, игумен поспешил навестить патриарха Никифора, где встретился и с некоторыми другими исповедниками. Все отцы были рады вновь увидеть его, и Феодор, в свою очередь, получил большое утешение от встречи с ними.
Были, однако, и неприятные новости: некоторые из православных, приходивших к Феодору, сообщили, что о Студийском игумене кое-кто распространяет разные клеветы, – говорили, будто Феодор назначает епитимии кающимся самовольно; иные, по-видимому, с подачи иконоборцев, обвиняли его в обоготворении икон; некоторые даже суесловили, что Феодор якобы до сих пор остается в расколе и не признаёт патриарха Никифора… Патриарх, впрочем, принял Феодора чрезвычайно любезно и даже словом не обмолвился о всех этих слухах, хотя они, конечно, доходили и до него. Феодор, однако, скорбел о распространявшемся смущении и счел нужным, ради устранения возможных соблазнов и толков, в присутствии собравшихся в те дни к Никифору исповедников открыто объявить свои взгляды по тем вопросам, относительно которых о нем ходили ложные слухи: он уверил всех, что патриарха Тарасия почитает во святых, а состоявщийся при нем Никейский собор считает вселенским.
– И это истинно так, как исповедую я теперь перед вами, владыки, отцы и братия, – сказал Феодор, – даже если где-нибудь как-нибудь и кому-нибудь я отвечал иначе. Но это теперь не нужно исследовать и возобновлять, так же как и другие тогдашние дела, ибо это производит смуты и не приносит никакой пользы, а только рождает словопрения и соблазн для Церкви Божьей. Тогда каждый писал и действовал, считая себя правым. Теперь время согласия, время общих подвигов. Если написанное тогда было хорошо, то окажется перед потомками достойным похвалы, а если не таково, то наоборот. Верно слово, и говорить об этом еще что-нибудь мы не хотим ни теперь, ни после.
…После разговора о «химии чувств», Фекла поначалу избегала встречаться с Сергие-Вакховым игуменом и даже не заходила в патриаршую библиотеку, где он проводил много времени. Императрица отчаянно краснела только при воспоминании о бывшем и совсем не могла представить, как посмотрит Грамматику в лицо. Но прошел праздник Апостолов, Фекла уже по второму разу начала читать Ареопагита и, наконец, рассердилась сама на себя: чего она боится? Даже если при виде Иоанна она упадет в обморок, разве это будет постыднее, чем то, что она уже пережила? Зачем же она тут сидит и чего ждет?.. Она немедленно позвала кувикуларий и вскоре, одетая в новую темно-красную тунику с бело-золотым узором из орлов, поправляла на голове тонкий, почти совершенно прозрачный шелковый мафорий, позволявший видеть нарочито изящную прическу. Женщина, смотревшая на императрицу из зеркала, была раздражена и вызывающе красива. «И пусть! – подумала она со злобной горечью. – Ему ведь всё равно “не интересно”, так почему я должна мучиться какими-то мыслями?!» Ей вдруг захотелось совершить какую-нибудь «дерзость», и она, на мгновение задумавшись, раскрыла тяжелую позолоченную шкатулку с драгоценностями, вынула оттуда жемчужные бусы, недавно подаренные мужем, и примерила их. Они очень украсили ее наряд, и Фекла осталась довольна: хотя она никогда не надевала подобных украшений для будничных выходов по разным делам, в том числе в библиотеку, но теперь ей хотелось бросить игумену что-то вроде вызова – если, конечно, она застанет его там. Выйдя из своих покоев, она неожиданно столкнулась с Михаилом. Муж окинул ее насмешливым взглядом, на миг остановившись глазами на книге в ее руках, и сказал:
– Ты сегодня принарядилась на славу, дорогая! На какое сражение отправилась – конное или пешее?
– Что за глупости? – она возмущенно вздернула подбородок. – Я иду в библиотеку вернуть книгу и взять что-нибудь еще.
– А-а, понятно. Ну, желаю удачи! – сказал император еще насмешливее и, протянув руку, поиграл нитками жемчуга на ее груди. – Надеюсь, там будет, кому оценить твою сбрую, кроме пыльных пергаментов и засушенного Прокопия! – и, не дожидаясь ответа жены, он пошел дальше.
Фекла с негодованием посмотрела ему вслед. «Будет, кому оценить»?.. Вдруг румянец залил ее щеки. Неужели муж о чем-то догадывается?.. Этого еще не хватало! Нет, не может быть… Разве он шутил бы так спокойно, если бы… Но – «желаю удачи»?! Что он этим хотел сказать?..
Когда она подошла к двери библиотеки, грудь ее вздымалась, как после бега, а ноги подкашивались. Она постояла немного, пытаясь успокоиться. Внезапно дверь отворилась и вышел Прокопий – пожилой монах-библиотекарь, худой как щепка, с лицом, похожим на сморчок; он толкал перед собой тележку, нагруженную рукописями. Увидев императрицу, монах упал в земном поклоне, а поднявшись, сказал:
– На многие лета да продлит Бог ваше царство, августейшая! Смиреннейше прошу прощения… Святейший просил срочно доставить ему эти книги! Я должен идти… Но там господин Иоанн, он, как и всегда, прекрасно послужит твоему величеству вместо меня, недостойного!
– Да-да, конечно, отец Прокопий, не беспокойся, – сказала Фекла, словно со стороны слушая свой голос и ощущая, как у нее к щекам приливает кровь, а руки холодеют.
Прокопий оставил дверь открытой, и императрице ничего не осталось, кроме как войти. Иоанн сидел там, где его обычно можно было застать в отсутствие библиотекарей – у высокого окна напротив двери, в низком глубоком кресле, с книгой на коленях. У его ног, развалясь, лежал большой черный кот, постоянно живший в библиотеке для защиты книг от мышей. Чрезвычайно независимого характера, в руки он никому не давался и только Грамматику разрешал себя гладить и чесать за ухом. Очевидно, Иоанн слышал разговор Феклы с Прокопием, потому что императрица, войдя, натолкнулась на внимательный взгляд, разом охвативший ее всю и отметивший всё – выражение ее лица, то, как она была одета, руки, судорожно сжимавшие рукопись Ареопагита… В следующий миг игумен отложил книгу на столик, встал и поклонился августе.
Встреча, которой она так боялась, прошла вполне безмятежно. Иоанн вел себя в высшей степени почтительно, голос его был тих и холодноват, а взгляд направлен мимо собеседницы или вниз – ни «глубины», ни «разящих клинков», ни усмешек. Фекла не только не упала в обморок, но спокойно поздоровалась и обменялась с игуменом несколькими фразами по поводу прочитанного ею Ареопагита, а также относительно рукописи, что просматривал Грамматик. Это оказалась Аррианова история царствования Александра Македонского, и императрица, заинтересовавшись, попросила игумена отложить книгу для нее, когда он закончит с ней работать, а Иоанн сказал, что может дать ей Арриана хоть сейчас. Фекла с улыбкой поблагодарила игумена, только губы у нее иногда подрагивали, но поскольку Иоанн не смотрел ей в лицо, это казалось не таким уж страшным…
С тех пор они при случае общались по-прежнему, и Грамматик ни разу ни словом, ни жестом, ни взглядом не напомнил о происшедшем. Императрица была ему за это благодарна, хотя иногда с невыносимой горечью думала, что ему это ничего не стоило: «опыт» был окончен, и больше она не интересовала философа даже в качестве смеси веществ, которую болтают и нагревают в котелке, чтобы понаблюдать за происходящими изменениями… «Но я сама виновата! – думала она. – Кто это из отцов сказал, что не демоны нас искушают, а наши желания становятся демонами для нас?.. А что было с Марией… Не мое дело судить кого бы то ни было… Пусть Бог рассудит всех!»
Горячий поток, унесший ее, когда она сидела перед Иоанном на скамейке между двух розовых кустов, словно бы остыл и подернулся льдом, но она знала, что впечатление это обманчиво: тонкий лед в любой момент мог проломиться. Иногда она слышала, как он начинает похрустывать, и тогда спешила проститься с Грамматиком. Она знала, что игумен не мог не понимать, в чем тут дело, однако это ее мало смущало: ничего ужаснее того разговора в парке уже всё равно не могло произойти.
Но настал день, когда лед затрещал, а она не захотела уйти. Это случилось в библиотеке, когда августа расспрашивала Иоанна о том, с чего ей лучше начать читать Плутарха.
– «О доблести женской», вероятно, – улыбнулся игумен. – Потом, пожалуй, «Пир семи мудрецов»… А дальше, если понравится, – что захочешь, августейшая.
– «Пир семи мудрецов»? Он… такой же, как «Пир» Платона?
На самом деле она хотела спросить, про то же ли он, однако не решилась. Но Грамматик – уже в который раз! – ответил на ее мысль:
– Нет, он не про любовь, а на более общие темы и иной по стилю. Например, мудрецы решают там вопросы: что всего старше, что всего мудрее, прекраснее, больше, разумнее, что всего полезней и, напротив, вреднее… Много разных вопросов и краткие ответы на них. Думаю, тебе будет интересно, государыня.
– В таком случае, я, пожалуй, начну с этого «Пира мудрецов». Благодарю за совет, Иоанн. Ах да, я еще хотела спросить…
Она подняла на него глаза и забыла свой вопрос, потому что ощутила, как ее захлестывает огненная волна. Первая мысль была – уйти! Но Фекла внезапно подумала: «А толку? Зачем уходить, если это всё равно всегда во мне? Чего я добьюсь, уйдя? Лишусь в очередной раз интересной беседы… Как будто их у меня много было в жизни!» Она отвела взгляд, поудобнее устроилась в кресле и попыталась вспомнить, о чем же она собиралась спросить. Грамматик почти неуловимо улыбнулся и сказал:
– Ходить по лезвию ножа на самом деле не так уж опасно, августейшая. Главное – сохранять равновесие.
Императрица вспыхнула и тихо проговорила:
– Кажется, именно это я на самом деле и хотела у тебя спросить, отец игумен, – она вдруг улыбнулась и продолжала, не поднимая глаз. – Как тебе удается читать мои мысли? Просто колдовство какое-то!
– О нет, августейшая. Всего лишь проницательность.
13. Учитель и ученица
Эроса нынче узнал я: жесток он. Как видно, недаром
Львиным вспоен молоком и воспитан он в чащах дремучих.
(Феокрит)
Марфа два дня приходила в себя после визита брата. Георгий, конечно, узнал, что императорский сын остановил свой выбор на Кассии, но она «дерзко ответила» на его вопрос, и потому он взял в невесты другую. Протоспафарий впал в дикий гнев, какой не находил на него за всю его жизнь. Как?! Эта девчонка! Она посмела! Неслыханно!.. Он, Георгий, мог бы стать родственником императора – о, какие это сулило выгоды, должности, титулы, деньги! А он и его родные всего этого лишились по милости этой дуры! Вот оно, это вольное воспитание, к чему привело! Он всегда говорил сестре, что излишняя самостоятельность не доведет до добра!.. Это их монахи испортили! Этот студийский святоша, будь он неладен!..
На другой день после смотрин Георгий прямо из дворца, не заходя домой, отправился к сестре. Марфа сидела в саду и читала, Евфрасия тут же на лужайке играла с двумя котятами, Кассия была у себя наверху. Когда служанка доложила о приходе Георгия, Марфа прошла в гостиную ему навстречу.
– Что, сестрица, доигрались? – закричал протоспафарий, даже не поздоровавшись. – Доигрались?!
– Ты о чем, Георгий? Что это ты такой… растрепанный?
– Будешь тут растрепанным с вами, ослицами!
– Да что случилось?
– А тебе будто и дела нет, что ты не стала тещей императора!
– Ну, не стала. Но чем я виновата, если Кассия ему не понравилась?
– Не понравилась?! – Георгий вытаращился на сестру. – Э, да ты, верно, и впрямь не знаешь! Ну, конечно, девчонка скрыла… Маленькая святоша! Безмозглая монашка!
– Послушай, прекрати кричать и ругаться, или я сейчас уйду! Ты можешь спокойно сказать, в чем дело?
– Спокойно! – воскликнул Георгий, но под гневным взглядом сестры всё же сбавил тон и заговорил тише, хотя по-прежнему очень возбужденно. – Тут не до спокойствия! Император выбрал другую, ты говоришь? Наивная дурочка! Это так тебе Кассия сказала, да? А ты и поверила?
– Что ты хочешь сказать?
– А то, что он сначала хотел выбрать Кассию, да только она ему надерзила, и пришлось ему выбрать другую… потому что уж очень неприлично выходило! Ты подумай, что она сделала! О-о!.. Мы с тобой могли бы сейчас быть родственниками императора! И всё провалилось из-за этой девчонки! Ну, как она могла, а?! – протоспафарий в сердцах стукнул кулаком по столу.
Марфа, пораженная, смотрела на брата и не знала, что сказать. Значит, Кассия скрыла от нее… но почему?! Не хотела огорчать? Но ведь Марфа дала ей понять, что вовсе не рвется войти в родство с императорским домом и понимает нежелание дочери идти на смотрины… Брат довольно подробно рассказал, что произошло во время выбора невесты, но ясности всё равно не было. Кассия сказала свою ответную фразу нарочно, чтобы Феофил не взял ее в жены, это несомненно… Но почему она не рассказала об этом?..
Марфа не стала подвергать дочь допросу, однако начала исподтишка наблюдать за ней. Сначала, впрочем, она не заметила ничего необычного, кроме того, что девушка в первые дни после смотрин была несколько подавлена, но это прошло, а после исповеди у архиепископа Евфимия Кассия как будто бы вернулась в прежнее свое состояние, была весела, писала стихи, много читала, занималась со Львом и с младшей сестрой – девушка сама давала Евфрасии уроки. Марфа уже было успокоилась и подумала, что, возможно, дочь скрыла происшедшее, просто чтобы не пугать и не огорчать ее, ведь внешне поведение Кассии на смотринах выглядело несколько дерзким, а Марфа настаивала на участии в них именно ради того, чтобы не гневить императора… Но к середине лета она стала замечать, что Кассию словно бы тоскует и порой явно не находит себе места. Иногда мать заставала ее сидящей за книгой, но глядящей не в нее, а в пространство, и думающей явно о чем-то постороннем. О чем?.. И глаза у нее иной раз так блестят странно… Марфа даже вызвала врача, под предлогом собственного недомогания, а заодно заставила и Кассию показаться ему. Он послушал ее пульс, заглянул в глаза, в рот, задал несколько вопросов: «Тут не колет? Там не режет?» – пожал плечами и сказал:
– Юная госпожа совершенно здорова, дай Бог и дальше так!
Но уже переступая порог дома, он обернулся к провожавшей его Марфе и, загадочно улыбнувшись, произнес:
– Хариклея! – и поклонившись, вышел.
Марфа удивленно поглядела ему вслед. Какая еще Хариклея?.. Ах, да, это героиня повести Илиодора… Марфа читала ее много лет назад, и они с Василием потом обсуждали ее – повесть напоминала рассказы о христианских мученицах: целомудрие, твердость и мужество героини, побеждающие всё… Но что хотел сказать врач? Надо будет перечитать, что ли, эту повесть… Впрочем, ведь эту книгу муж у кого-то одалживал… У кого, Марфа уже не помнила. А вот, пожалуй, у Льва нет ли ее? Он говорил, что у него много книг…
Когда учитель после очередного урока с Кассией направился домой, Марфа вышла к нему и спросила, нет ли у него повести про Хариклею. Лев ответил утвердительно и обещал принести в следующий раз. И вот, наконец, в среду утром Марфа устроилась с книгой в саду в плетеном кресле. Повесть весьма увлекла ее: она обнаружила, что почти всё забыла, и читала словно впервые.
«Отвергает она брак и упорно желает оставаться всю жизнь девственницей, – читала Марфа сетования названного отца Хариклеи. – Моя жизнь невыносима: я надеялся выдать ее замуж за сына своей сестры, юношу очень учтивого, приятного нрава и умного, но это не удалось из-за такого ее сурового решения…»
«Забавно! – подумала Марфа. – Наверное, брат мог бы примерно так же рассуждать о поведении Кассии…»
«Ту опытность в разнообразных суждениях, которой я ее научил, чтобы подготовить к выбору наилучшей жизни, она применяет для восхваления девственности, сближая ее с блаженством бессмертных, называя ее незапятнанной, ненарушенной, непорочной и понося эротов, Афродиту и весь брачный сонм…»
А это как похоже!»
«Как описать состояние, в котором мы, придя, застали Хариклею? – читала Марфа немного дальше. – Она всецело была под властью своей любви, цвет сбежал с ее щек, и блеск очей был словно водой потушен слезами. Лишь увидев нас, она приняла спокойный вид и через силу старалась придать обычное выражение взгляду и голосу. Харикл обнял ее, осыпал тысячью поцелуев и нежными ласками. “Дочка, дитя мое, – говорил он, – неужели ты скроешь свой недуг от меня, отца твоего? Тебя сглазили, ты молчалива, словно виновата в чем-то, между тем как виновен здесь дурной глаз”…»
– И это тоже похоже, – пробормотала Марфа. – Но «дурной глаз» тут, конечно, не при чем…
«Меня не сглазили, я, по-видимому, больна какой-то иной болезнью…»
Марфа остановилась. Так! Неужели… врач имел в виду именно этот… недуг? Хотя… почему бы и нет? Кассия сейчас как раз в таком возрасте… Но в кого она могла влюбиться? И где? И когда?.. Увидела кого-нибудь во дворце?..
Но точно ли так? И ведь она молчит, не говорит! А сама… да, сохнет… Надо всё-таки это выяснить!
В тот же вечер за ужином Марфа, внимательно наблюдавшая за дочерью, едва притрагивавшейся к еде, наконец, спросила:
– Ты что такая скучная? Что с тобой? Может, – она улыбнулась, – тебе что-нибудь купить?
– Нет, мама. Не поможет…
Марфа обошла стол и села рядом с дочерью, взяв ее за руку.
– Что случилось?
Кассия помолчала, вздохнула и сказала, чувствуя, что мать уже о многом догадывается, и нет смысла скрывать:
– Зря я пошла на эти смотрины! Лучше бы мы навлекли на себя гнев императора, как ты боялась… Да точно ли навлекли бы? Это еще неизвестно, а так… я только беду себе нажила!
– Беду?..
– Да. Ведь страсть – это бедствие… А я…
Она закрыла лицо руками.
– Ты влюбилась?
Кассия отняла руки от лица и ответила, не поднимая глаз:
– Да.
– Но… в кого же?
– В императора Феофила.
– О, Боже! Но…
– Да! Я ему возразила, ты знаешь… Я знаю, дядя рассказал тебе, я слышала, как он тут кричал… Только это не потому, что я не подумала. Я ответила так нарочно, чтоб он не выбрал меня. Но… Помнишь, что писал мне отец Феодор? «Избегай взглядов мужчин, чтобы не быть пораженной или не поразить»… Вот, я и поразила… и сама поражена!
В субботу Кассия пошла в Книжный портик – посмотреть, не появилось ли там каких-нибудь новых книг, и заказать список «Никомаховой этики». Знакомый продавец радостно приветствовал девушку, записал ее заказ, а когда она принялась рассматривать книги на прилавке, сказал:
– У нас, госпожа, такая книга появилась… очень интересная! Господин Филипп недавно ездил в Эвиссу и вот, привез оттуда. Тебе она должна понравиться!
Он открыл шкаф, где лежали особо ценные рукописи, достал оттуда книгу в обложке, обтянутой синей кожей, с золотым узором из птиц и цветов, и положил перед Кассией. Девушка открыла книгу наугад и прочла: «Ведь несчастная любовь приводит в неистовство. Я знаю, что не должна так поступать, но, говоря о таинствах Эрота, я не чувствую никакого стыда. Ведь я говорю об этом с человеком, посвященным в них. Ты-то понимаешь, что я испытываю. Для других людей стрелы этого бога остаются невидимыми. Никто не может показать стрел, которые нанесли рану, – одни влюбленные знают, насколько они мучительны…» Щеки ее порозовели, но она продолжала читать, не в силах оторваться. Пришли новые покупатели, продавец разговорился с ними, а Кассия всё читала и читала. Наконец, она остановилась и закрыла книгу, потом снова открыла уже ближе к началу, полистала, зарумянилась еще больше, и тут торговец, распрощавшийся с очередным покупателем, обратился к ней:
– Ну как, госпожа, нравится тебе книга? Я ведь нарочно отложил ее, никому не показывал, тебя ждал, думал – ты-то должна оценить эту повесть!
– Да, я ее возьму, господин, – тихо ответила девушка после небольшого молчания.
В понедельник Лев пришел, как обычно, давать очередной урок. В гостиной его уже ждали – ученица стояла у окна. Он вошел и остановился, точно прирос к полу: такой Кассию он еще никогда не видел. На ней была очень нарядная темно-синяя шелковая туника, расшитая серебром и искусно, так что было хорошо видно фигуру, препоясанная широким серебряным плетеным поясом с кисточками из жемчужных нитей; вместо мафория – только серебристая повязка вокруг головы, тоже украшенная жемчугом; толстую косу, перекинутую на грудь, переплетала серебряная лента. Когда он вошел, Кассия поздоровалась, сделала два шага к нему и остановилась. Глаза девушки странно блестели, точно ее лихорадило, на щеках играл румянец. Она явно забавлялась его изумлением и в то же время делала вид, что ничего необычного не происходит. Никогда еще она не казалось ему такой красивой. Но что означала ее выходка?.. Лев был в смятении. Он знал, что не должен смотреть, но то и дело устремлял на нее глаза – и почти каждый раз встречал ее взгляд, в котором сверкал какой-то вызов. «Я погиб! – подумал он. – Неужели она… хочет меня соблазнить?» Эта мысль показалась ему невероятной и постыдно-дерзкой, он тут же отругал себя за нее. А может, она поняла, что он к ней неравнодушен… и решила его испытать?.. Жестоко с ее стороны! Но он всё равно должен выдержать!
Он принял деловой вид, уселся, как обычно, за стол и сказал, что сегодня расскажет о сопоставлении христианского учения с учением эллинских философов на примере «Стромат» святого Климента и отчасти об аллегорическом толковании некоторых мифов…
– Аллегории? – перебила его Кассия. – Вот это кстати, господин Лев! Мне тут по случаю попалась одна книга… Она не философская, а просто про жизнь и… очень мирская по духу. Мне бы вот хотелось узнать, можно ли ее истолковать аллегорически?
– Почему же нельзя? Всё можно истолковать аллегорически.
– Очень хорошо. Давай тогда сегодня устроим внеплановое чтение. Ты не будешь против?
– Нет, отчего же.
Она встала, взяла с подоконника книгу в синей обложке, раскрыла и положила перед учителем. «Ахилла Татия, Повесть о Левкиппе», – прочел Лев.
– Читать с начала, госпожа?
– Да, – Кассия снова уселась в кресло, чуть наклонившись вбок и опершись локтем на ручку, а другой рукой теребя свою косу.
Чтение сразу увлекло Льва. Книга была ему незнакома, и это разжигало интерес, изящество же слога повести поразило его. Он уже было обрадовался такому «внеплановому чтению», надеясь хоть немного отвлечься от страстных мыслей, но радость была очень недолгой. Прочтя слова Клитофонта по поводу «таинств» Эрота: «Ты вызываешь своим вопросом целый сонм рассказов, похожих на сказки», – Лев вздрогнул. «Любовная повесть? Значит, она это нарочно? Значит… Боже мой, что же мне делать?..»
Но приходилось продолжать.
«…В тот миг, как я увидел ее, я погиб. Ведь красота, ослепившая глаза и проникшая в душу, ранит более стрелы. Дорогу любовным ранам открывают наши глаза. Я почувствовал, как душу мою одновременно обуревают восторг, смятение, трепет, стыд, бесстыдство…»
Лев остановился.
– Какое точное описание страсти, не правда ли, господин Лев? – сказала Кассия.
Он взглянул на нее. Девушка улыбалась, но улыбка была странной: Льву пришло в голову, что Кассии хочется плакать, а не смеяться.
– Да, – сказал он. – Но пока я не вижу тут повода для аллегорий, – в его голосе прозвучали мрачные нотки.
– Ну, как же? – возразила девушка. – Не то же ли самое можно найти в «Песне песней», а ведь святые отцы только аллегорически и толковали ее.
– Да, – промямлил Лев и выдохнул: – Глаза надо беречь! Не столько телесные, сколько душевные.
– Твоими бы устами нектар пить! – усмехнулась Кассия, как показалось Льву, с долей сарказма. – Но читай дальше.
«…Ведь рассказы о любви всегда разжигают влечение. Даже если человек стремится обуздать себя благоразумием, то чужой пример обязательно побуждает его к подражанию…»
Лев опять взглянул на Кассию. «Так ты для того и заставляешь меня читать это?» – спрашивал его взгляд. «А как ты думаешь?» – ответили ее глаза. Но он всё еще отказывался верить – и в то же время не знал, читать ли дальше. Прерваться и спросить прямо, зачем всё это? Или делать вид, что ничего не происходит? Или прекратить урок, сославшись на… например, на то, что он внезапно вспомнил о неотложном деле?.. Между тем Лев ощущал теперь неотступное желание читать дальше – и продолжал. Как ни странно, голос его больше не срывался, хотя сердце колотилось, а на щеках показался румянец. Он знал, что Кассия наблюдает за ним, но уже не смущался этим. Какая-то дерзость поднималась в его душе.
«…“Отец, – отвечает Харикл, – задумал женить меня. Причем он прочит мне в жены уродку, таким образом суля мне двойное зло. Ведь жена – сама по себе уже зло, даже если она красива, а уродливая жена – это зло вдвойне. Но отец спешит породниться с ней, чтобы таким образом получить богатство. И я, несчастный, должен жениться на ее деньгах, продают меня в рабство”. Когда Клиний услышал это, вся краска сошла с его лица. Он принялся отговаривать мальчика от вступления в брак и при этом осыпал бранью весь женский род. “Отец понуждает тебя вступить в брак. В чем же ты провинился, чтобы надевать на тебя эти оковы?”…»
– Ты, должно быть, согласишься, что жена – зло, а брак – оковы? – спросила Кассия.
– В этом, конечно, есть немалая доля истины, – ответил Лев, не глядя на нее. – Потому-то я раньше всегда думал, что брака лучше избегать. То есть не потому, что женщины – зло сами по себе… Это, конечно, не так… Но потому, что это действительно рабство – прежде всего для ума…
– Раньше думал? А теперь что же, передумал?
– Н-нет… То есть…
– А что ты думаешь о женской красоте? Точно ли она смягчает приносимое женщиной зло? Ах, да, мы еще до этого не дошли. Читай же дальше! Там еще много интересного.
«…О женщины, способные на всё! Они любят и убивают, они не любят и тоже убивают!..»
– Да, – проговорил Лев, прервав чтение. – Простор для аллегорий! Всё верно – животворит только небесная любовь, а земная – убивает.
– И иначе не бывает? – тихо спросила Кассия.
– Думаю, нет. Страсти всегда губительны.
– А может ли Бог и погибельное обратить ко благу?
– Может, конечно… Но только если мы сами будем стремиться к Богу.
– А если нет сил?
– Ты же знаешь, госпожа, что выше сил искушений не бывает.
– Ты в этом уверен? – в ее голосе послышалась насмешка.
Лев уже не был в этом уверен. Кажется, еще немного – и он явно обнаружит свою неуверенность… Неужели она этого и хочет от него? Но зачем?! А если… если она так намекает, что ждет предложения… выйти за него замуж?.. Нет, это был бы слишком необычный способ… Так в чем же дело?!..
– Ну, продолжай! – сказала она нетерпеливо; никогда еще она не говорила с ним в таком тоне.
Он с трудом собрался с силами, и чтение возобновилось.
«…Неужели ты не знаешь, что значит смотреть на возлюбленную?…Свет красоты, из глаз пролившийся в душу, это своего рода обладанию любимой, хотя бы и на расстоянии. Оно сладостнее, чем настоящее слияние тел, потому что необычно…»
Лев снова умолк. И как теперь смотреть на нее? Ведь он выдаст себя одним только взглядом! А не смотреть – нет сил…
– Что же ты остановился?
Лев выпрямился, закрыл книгу и в упор взглянул на свою ученицу.
– Чего ты хочешь от меня, Кассия?
Он впервые назвал ее просто по имени, без прибавления слова «госпожа», ощущая, что так нужно. Дерзость в ее взгляде мгновенно исчезла, и в лице проглянуло что-то беззащитное и страдальческое. Она подошла к столу и села напротив Льва, не поднимая на него глаз.
– Да, так честнее, – сказала она очень тихо после небольшого молчания. – Чего я хочу? А ты до сих пор не догадался, господин Лев?
– У меня возникли разные мысли на этот счет, но всё же я хочу слышать от тебя самой. Ты, может быть, не знаешь, но я обещал твоей матери… блюсти себя и не позволять по отношению к тебе ничего противного благочестию. Однако такое чтение… Но я вижу, с тобой что-то произошло?
– Скажи, Лев, – она тоже назвала его впервые просто по имени; глаза ее были опущены, она будто боялась взглянуть на него и слегка покраснела, – у тебя в жизни были… женщины?
– Нет.
– Правда? А я думала, что, может быть… У вас, мужчин, с этим, говорят, проще… Значит, мы в равном положении… невинных девственников! – она усмехнулась.
– Теперь я уже не могу назвать себя невинным, – тихо проговорил он.
– Я тоже… Странно, да?
– Почему же? Даже один великий святой сказал: «Не познал я жены – и я не девственник». Обычное искушение.
– Обычное?..
Она оперлась локтями об стол и, уткнувшись лбом в скрещенные руки, медленно проговорила:
– Обычное – это когда видишь кого-то и… соблазняешься мечтаниями… Потому что он красив, например, а ты плохо следишь за собой и поддаешься помыслам… просто похоть. Но вот, бывает, ты долго живешь, не думая ни о чем таком, тебе даже думать об этом не хочется и противно, никто на тебя не производит никакого впечатления…
– И ты уже думаешь, что все эти чувства – ерунда, и ты обойдешься без этого?
– Да-да, примерно так!
– Я тоже рассуждал в таком духе, – усмехнулся Лев. – Ты не читала Илиодора, историю про Хариклею?
– Нет.
– А я тут заглянул на днях, освежить в памяти… «В такую великую беду он впал, так сильно палим он любовной тоской, он теперь впервые охвачен любовью. Он рассказывал, что до сих пор не имел дела с женщинами, и много раз клялся в этом; всегда он испытывал презрение к женскому полу, к самому браку и к любви, когда слышал об этом рассказы, – пока, наконец, красота Хариклеи не обличила, что не от природы был он так сдержан, но просто до вчерашнего дня не встречал еще женщины, достойной его любви».
– Да! Как это точно!.. Да, ты встречаешь человека – и всё вдруг переворачивается, все эти твои представления… И ты понимаешь… чувствуешь, знаешь… что он – твоя «половина», как там, у Платона… И вот, что тогда?
– Тогда надо вступать в брак, я думаю.
– А если нельзя?
– Нельзя? Почему?
– Ну, разные могут быть причины. Например, он еретик… Или… или ты уже обещала посвятить себя Богу… В общем, так или этак, а надо от него отказаться… навсегда! Понимаешь? Невыносимая боль! Но это не всё… Отказавшись, ты не освобождаешься… Ты всё равно хочешь его – душой, телом, всем существом влечешься к нему… И хотя с ним уже ничего невозможно, всё равно страсть не отпускает… И хочется даже… отдаться первому встречному!
– И ты для этой цели выбрала меня?
Она молча кивнула, не поднимая глаз.
– Но я не возьму.
– Из благочестия будешь лицемерить? Ведь ты же хочешь, я вижу.
– Да, но не так. Я… хотел бы… взять тебя в жены…
Она передернула плечами.
– Я не пойду за тебя… и вообще ни за кого.
– Ты хочешь идти в монастырь?
– Да, я уже давно решила… Но вот, – голос ее задрожал, – что со мной случилось…
– Я тоже давно решил не жениться, а только заниматься науками. Думал, что жена будет только мешать этому…
– Что ж, теперь передумал?
– Ты бы не помешала.
Она вздохнула.
– Но, видно, не судьба, – сказал он.
– И что дальше? – она положила руки на стол и взглянула на него. – Будешь бороться?
– Да. Что же еще делать?
– Я вот тоже боролась… А теперь уже что-то больше не могу.
«Кого же она полюбила?» – подумал Лев. Тут он вспомнил, как странно она вела себя на том уроке по «Пиру» после трехнедельного перерыва. Может, она тогда куда-то уезжала и познакомилась с кем-то?..
– Не могу! – повторила она. – Платон – лжец, вот что я скажу! «Эроту служат добровольно»! Как бы не так! Нет ничего сильнее, чем это насилие!.. Тебе легко будет… отказаться от надежды на меня?
– Нет, но это не имеет значения.
– А что имеет значение? Благочестие?
Она вдруг быстро встала с места, обошла стол и очутилась рядом со Львом, пододвинула стул, села. Если бы он сделал легкое движение, их колени соприкоснулись бы, он мог бы сейчас ее обнять…
«Я не выдержу!» – с ужасом подумал он.
– Видишь, до чего я дошла? – голос ее дрожал. – Готова умолять первого встречного… соблудить со мной! Так ты не хочешь? Зря! Знаешь ли ты, сколько мужчин дорого бы заплатили за такое предложение? – ее губы кривила усмешка. – Ну что ж… придется поискать другого… Не все же такие глупцы, как ты!
– С другим ты не сможешь…
– Дойти до такой откровенности? Да, это будет труднее. Впрочем, у меня есть один родственник… Его не пришлось бы долго уговаривать и не нужно было бы ничего объяснять. Вот только он мне противен слишком…
– А я… не противен?
– Нет.
Наступило молчание. Лев сидел, не шевелясь, почти не дыша, не глядя на нее. Это стоило ему таких усилий, что на лбу выступила испарина. Он пытался мысленно молиться, но не мог даже прочесть до конца Иисусову молитву и только повторял: «Господи, спаси нас, погибаем!..»
– Это пройдет, – наконец, проговорил он еле слышно.
Она качнула головой и закрыла лицо руками. Он взглянул на нее и ощутил властное желание привлечь ее к себе, утешить… Нет! Если он сделает хоть одно движение к этому, – всё пропало!
Лев резко поднялся, обошел стол и сел с противоположной стороны, в глазах у него на миг потемнело. Кассия осталась сидеть неподвижно, опустив взор.
– Ты выдержал искушение, Лев, – сказала она, помолчав. – Значит, скоро освободишься… Тебе хорошо!
– Ты тоже освободишься…
– Нет!.. Не знаю… Ты думаешь, что я тоже не совсем поддалась искушению? Просто я тебя не люблю. Если б сейчас на твоем месте был он, меня бы ничто не остановило.
Лев стиснул зубы. «Как больно! – подумал он. – Я не избежал общей участи… А думал, буду одни науки любить… Философ! – он язвительно усмехнулся про себя. – Но… кто же он?»
Кассия словно прочла его мысли.
– Больше ничего не скажу, не спрашивай! – она встала. – Ну, вот тебе и урок… как связываться с женщинами! Красивая женщина – великое зло, да… Без всяких аллегорий! Знаешь, я думаю, нам лучше на время прекратить занятия.
– Да.
– Я сообщу тебе письмом, когда можно будет опять приходить.
Она говорила быстро, отрывисто, сухим тоном, глядя в сторону; на щеках ее горели два красных пятна.
– Хорошо.
– Забудь обо всем, что тут было.
– Постараюсь…
– Прости меня!
– А ты – меня!
– Бог простит… И помолись обо мне, Лев!
– Попробую… А ты – обо мне, Кассия…
– Да.
…Больничник осторожно переворачивал тонкие листы: эта рукопись с разными химическими описаниями и указаниями была написана на папирусе и разваливалась от старости.
– «Очищение олова», – бормотал монах, – «Удвоение серебра»… «Иной способ»… Чего тут только нет! Даже «отбеливание жемчуга»… Да еще и не один способ… Ого! Целых четыре подряд! Кому бы это могло понадобиться, интересно?
– Тем, кто носит жемчуга, конечно, – усмехнулся Грамматик; стоя у окна своей «мастерской» с двумя стеклянными колбами в руках, он отливал из одной в другую водный раствор камеди. – Жемчуг тускнеет от времени… Вообще, эта рукопись местами производит впечатление записок фальшивомонетчика.
– Пожалуй, – рассмеялся больничник. – Да и не только! Вон тут дальше: «изготовление смарагда», «изготовление жемчуга»… Интересно, почему так много способов именно для смарагда? Чем он так уж ценен в сравнении с другими камнями?
– Камень Гермеса Тривеличайшего. Древние верили, что он возбуждает стремление и любовь к ученым занятиям, посвящает в тайны мудрости…
– А, точно, Скрижаль! Как это я позабыл!.. «Размягчение хрусталя»… Хм… «Изготовление хрисопраса»… А ведь забавно! Может, Гермес-то ничего особенного и не имел в виду, когда избрал для своей Скрижали именно смарагд… А потомки из этого вывели целые легенды о зеленом камне!
– Что ж, – Иоанн принялся растирать в медной ступке пестиком кристаллы серы, – за каждой легендой так или иначе скрыта некая действительность. В каком-то смысле смарагд действительно возбуждал и продолжает возбуждать любовь к наукам: в попытках истолковать Скрижаль люди открыли немало интересного! Думаю, что и еще откроют.
– Это похоже на историю про человека, который сказал своим сыновьям, что если работать в некий день в году, то разбогатеешь, а вот что это за день, он забыл…
– Да, – улыбнулся Грамматик. – «Вечный прообраз, установленный природно, по которому бывает бываемое», как сказал Ареопагит.
– Но тогда, – больничник поднял глаза на игумена, – может, и сама Скрижаль говорит вовсе не о «философском камне», а о чем-то другом?
– Или «философский камень» – о чем-то другом, а не о получении золота. Ведь было бы странно, если б такой ученейший муж, как Гермес, зашифровал в свои указания способ изготовления металла, дающего всего лишь земное могущество и господство. Тем более, что даже в этом падшем мире далеко не всё покупается золотом. Самое начало Скрижали уже не допускает такого низменного толкования.
– «Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно…» Ты думаешь, отче, что Тривеличайший имел в виду… что-то духовное?
– Не сомневаюсь.
– Но что?
– Проще всего истолковать Скрижаль как пророчество о воплощении Христа. Но это самый высокий смысл, духовный. Конечно, здесь должны быть и душевные смыслы.
– А телесный смысл? Тогда должен быть и он?
– Да, только вряд ли он состоит в изготовлении «философского камня», который превращает вещество в золото.
– Как же толкуется Скрижаль в смысле пророчества о воплощении?
– «То, что внизу, подобно тому, что вверху, да осуществятся чудеса единой вещи». Сын, сошедший на землю, подобен вышнему Отцу, и сошел Он, чтобы «разделенное собрать воедино», по апостолу, соединить и ангелов, и людей, да и вообще всё творение в едином Боге. Не так ли?
– Действительно!
– «Происхождение от Единого» – сотворение мира, а второе «рождение» – во Христе. «Солнце» – Бог-Отец, «Луна» – Богоматерь, «Ветер» – Святой Дух, «Земля» – земная плоть, воспринятая Христом. «Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю», – это о тридневной смерти и погребении. «Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с большим искусством», – это, думаю, уже о воскресении и как раз о том, чего не признают нынешние еретики: плоть Христа по воскресении утратила прежнюю дебелость и то, что они называют описуемостью. Восхождение «от земли к небу» и обратно и восприятие силы – это уже о жизни христианина во Христе. «Таким образом ты приобретешь славу мира, поэтому отойдет от тебя всякая тьма». «Сила всякой силы» – конечно, божественная благодать. Отсюда и заключение Скрижали вполне понятно.
Больничник слушал игумена с восхищением. В последнее время Иоанн стал гораздо чаще делиться с ним своими мыслями по поводу ученых изысканий, и это, с одной стороны, окрыляло монаха, но, с другой стороны, его не покидало опасение, что такой подарок судьбы может быть в любой момент от него отобран, и Грамматик опять «закроется» и превратится в того молчаливого аскета, каким он был до недавнего времени – занятого умной молитвой и отвечавшего лишь на вопросы, и то весьма кратко… Иногда больничника посещало странное чувство – что Иоанн, возможно, хотел бы на самом деле поговорить не с ним, а с кем-то совсем другим. Впрочем, может быть, монаху это только казалось.
14. «Вещество огня»
Всё земное тяготеет к земле, всё влажное сливается воедино, равно как и воздушное; так что нужны преграды и усилие, чтобы разобщить их… И поэтому всё причастное общей разумной природе равным образом стремится к родственному ему или даже в большей степени. Ведь поскольку оно совершеннее по сравнению с другим, постольку в нем сильнее склонность к сближению с себе подобным и слиянию с ним воедино.
(Марк Аврелий)
Брат Анф, открыв помыслы и выслушав очередное наставление игумена о воздержании, целомудрии и хранении ума, вздохнул, помолчал и, не удержавшись, сказал:
– Хорошо об этом говорить, отче! А вот сделать это… – он осекся и опустил голову. – Прости, отче! Мне тяжело…
– Ты думаешь, я рассуждаю об этом отвлеченно? – тихо сказал Феодор. – Нет, чадо, я говорю по горькому опыту. Но горечь потом обернется сладостью. А если поддаться страсти, будет совсем противное тому. Приятности томят и жгут, сулят золотые горы и неземные наслаждения… Но подумай: если завтра ты умрешь, куда денутся эти золотые горы и помогут ли они тебе на страшном суде? И какие наслаждения там ждут растливших здесь свое тело?
Когда Анф вышел от игумена, тут же зашел брат Николай и поклонился Феодору:
– Благослови, отче! Тут тебе письмо.
«Честный отче, желаю тебе и твоей братии здравствовать. Со мной случилась большая беда. Очень нужно поговорить и исповедаться. Письмом не могу. Не знаю, что делать. Можно ли приехать к тебе? Бога ради, помолись о мне, грешной и погибающей. Кассия».
Игумен медленно сложил листок. Писавшая явно была в сильном смятении. Что могло случиться?.. Но не успел он положить письмо на стол, как раздался стук в дверь – громкий и властный. Николай по знаку Феодора открыл, и в келью вошел императорский асикрит Стефан, весь покрытый дорожной пылью. Он поклонился игумену и подошел под благословение.
– Чем обязаны твоему посещению, господин Стефан? – спросил Феодор, внимательно оглядывая гостя.
Тот вместо ответа протянул Феодору письмо.
– О! – только и сказал игумен, взглянув на печать.
Прочитав, он посмотрел на Николая.
– Что, отче? – спросил тот.
– Император вызывает меня в столицу.
– Ого!.. – тихо произнес Николай.
– Не бойтесь, отцы, – сказал Стефан. – Я знаю, с чем это связано. Государь опасается, как бы ты, отче, не перешел на сторону негодяя Фомы, а потому предпочитает видеть тебя в Константинополе.
Игумен покачал головой и слегка улыбнулся.
– Государь поступил бы куда лучше, если б утвердил православие, тогда не пришлось бы боятся теней и призраков.
– Это ты-то призрак? – рассмеялся Стефан.
– Я-то не призрак, а вот возможность моего перехода к мятежникам – самый настоящий призрак… Впрочем, я поеду, конечно.
– В таком случае, собирайтесь, отцы. Мне велено сопровождать вас.
Не только Студийский игумен был вызван в столицу. Император, посовещавшись с патриархом и синклитиками, в конце августа решил собрать в Константинополе по возможности всех наиболее известных исповедников, поскольку в народе ходили слухи, будто Фома обещает восстановить иконопочитание, и император стал опасаться, что сторонники икон окажут ему поддержку. Но опального патриарха император приглашать в Константинополь не стал, только приказал усилить за ним надзор.
– Не хватало еще, чтоб Никифор тут во время осады стал настраивать народ против законной власти в пользу мятежников! А с него, пожалуй, станется… Нет, пусть сидит на Босфоре!
Что Царственный Город должен готовиться к нашествию бунтовщиков, стало окончательно ясно ближе к осени. В июле войско Фомы, воспользовавшись безлунной ночью, от прибрежного селения Оркосия переправилось через Геллеспонт во Фракию. Фома не остановился и тогда, когда император прислал ему голову «Констанция». «Сын Константина», оставленный в Азии, получая от «отца» одну за другой вести о том, как успешно мятежники продвигаются к Пропонтиде, впал в мечтательное настроение. Он нашел некоего прорицателя – бродячего монаха, шатавшегося по окрестным селениям, изображая провидца и произнося разные речи, которые можно было истолковать несколькими, часто взаимоисключающими способами, – и вопросил его, как окончится предпринятое Фомой дело. Монах долго стоял с закрытыми глазами, изображая погруженность в молитву, и, наконец, твердо заявил, что «Константин победит всех врагов своих». «Констанций» осыпал «провидца» золотом и принялся во всеуслышание разглагольствовать перед своими воинами, что вскоре они вступят в столицу. Но не прошло и месяца, как «сын» мятежника, беспечно ехавший верхом вне войскового строя, попал в засаду, устроенную Олвианом. Стратиг Арменьяка отрубил «Констанцию» голову и послал ее императору, а Михаил переправил ее «отцу». Фома приказал похоронить голову с царскими почестями и от своего замысла не отступил. Перейдя через Геллеспонт, он нашел поддержку, в первую очередь, у местных славян, а затем и у прочих жителей. Несмотря на то, что незадолго до появления мятежников Михаил лично объехал Фракию и призвал граждан выступить против бунтовщиков, не щадить крови, выполнить свой долг и не посрамить ни верности императору, ни собственной доблести и мужества, увещания эти имели мало успеха: как только из Азии хлынуло огромное войско Фомы, почти все сочли за лучшее не сопротивляться этой «саранче», ведь не было никакой уверенности, что мятежник вскоре не войдет в Константинополь…
Тут «Константину» опять повезло. В то время на одном из Кикладских островов жил в изгнании Григорий Птерот, племянник убитого императора Льва. Когда Михаил был венчан на царство, Григорий явился к новому василевсу не с прославлениями, а с укорами, обвиняя в убийстве. Михаил, хоть и разгневался, обошелся с ним поначалу кротко, уверяя, что не хотел смерти Льва, сказал, что «видит море отчаяния и глубину горя» Птерота, и посоветовал терпеливо перености удар судьбы. Однако, поскольку Григорий не унимался и пытался восстановить синклитиков и придворных против нового императора, Михаил уже на третий день сослал Птерота. В царствование Льва Григорий неоднократно занимал должность стратига в разных фемах, и Фома, узнав о нем, пригласил опального военачальника в свое войско, представившись ему мстителем за «неправедное убиение лучшего из ромейских государей». Птерот, хоть и знал, что Фома восстал изначально еще против Льва, почел за лучшее не вспоминать о том и принял командование над десятью тысячами восставших.
Призванный Фомой мятежный флот пошел от Лесбоса через Геллеспонт в Пропонтиду, а сам Фома со всем войском начал продвигаться к Константинополю. Положение стало угрожающим. Михаил вызвал к столице Олвиана и оставшегося ему верным стратига Опсикийской фемы Катакила с войсками, а сам усиленно готовился к осаде – теперь было ясно, что ее не избежать.
Прибывшим в Город исповедникам император разрешил жить, где им заблагорассудится, и даже предложил Феодору вновь занять Студий. Игумен отказался, заявив, что вернется в обитель только в случае окончательного торжества православия над ересью, и вместе с Навкратием, Николаем и еще несколькими братиями поселился в доме логофета Димохари. Вскоре после приезда Феодор и Навкратий навестили Марфу с Кассией, были с восторгом встречены хозяйками и домочадцами: их накормили и забросали вопросами, а потом Марфа спросила, не может ли игумен исповедать их всех, и, конечно, не получила отказа. На исповеди Кассия рассказала о выборе невесты для императора, обо всех последующих искушениях от помыслов, о том, как она еще нарочно распаляла сама себя, читая любовную повесть Ахилла Татия, и даже попыталась соблазнить собственного учителя…
– Да, – сказал Феодор после небольшого молчания, – «как болезнь постигает рождающую во чреве, и не избегнет»… Я надеялся, что тебе удастся перейти эту опасную развилку безбедно… но увы! Конечно, не следовало участвовать в этих смотринах, но раз уж так вышло, то ничего не поделаешь, надо терпеть последствия. Видно, таким людям, как мы, необходимо пережить большие потрясения от страстей, прежде чем достичь «огражденного града».
Кассия вопросительно взглянула на него.
– Как мы?
– Да. Мне тоже когда-то было шестнадцать лет, и я доставил немало печалей моей матери, прежде чем принял ангельский образ.
Кассия смотрела на игумена в удивлении. Она всегда думала, что этот подвижник встал на стезю добродетели с самого детства, а оказывается, и он тоже когда-то был «обычным» человеком… Внутри у нее словно потеплело.
– Лучше не вспоминать о том, – продолжал Феодор, – но в утешение тебе могу сказать, что совсем не уверен, смог бы я тогда поступить на твоем месте так же, как ты. Ты всё-таки устояла.
– Что в том пользы, если я об этом теперь жалею?! – Кассия опустила голову.
– Не говори так. Между помыслами и делом всё же есть разница. Но тебе надо будет еще долго быть осторожной… В тебе много «вещества огня», и нужно много времени и труда над собой, чтобы оно претворилось в «воду, вопиющую и глаголющую: гряди к Отцу!»…
– Да… Я думала, что эти… любовные страсти… пройдут мимо меня… Как я обманулась!
– «Не верь себе, пока не ляжешь в гроб», как говорят отцы. Есть люди от природы пылкие… Эту природную горячность вряд ли можно угасить, но нужно направлять ее на полезные дела, а иначе она будет расточаться на всякие страсти и погубит нас.
«Да! – подумала Кассия. – Сколько отец Феодор сделал для Церкви, для православия!.. Если б я смогла хоть каплю из этого! Значит, он правильно расточает природный пыл, а я…»
– Помолись за меня, отче! – проговорила она жалобно. – Мне так тяжело… Просто ужасно!
Игумен кивнул. Девушка помолчала и сказала:
– Я до сих пор не совсем понимаю, почему это возникло с такой силой… Отцы пишут о блудной страсти, как о телесном вожделении и больше ни о чем. Но…
– Ты хочешь сказать, что здесь не только это?
– Да! Одно это само по себе не могло бы, мне кажется, так увлечь меня. Ведь и раньше я встречала… красивых юношей… Но меня это совершенно не трогало!
Феодор внимательно поглядел на нее.
– У тебя никогда не было друзей? Я имею в виду тех, с кем ты могла бы делиться своими мыслями… равных тебе.
– Н-нет… В детстве я всё больше общалась с отцом, но он погиб, а с мамой… сначала мы с ней много общались, обсуждали разные книги… Но потом… я стала…
– Более начитанной, чем она? И тебе стало с ней скучно?
– Не то, чтобы скучно… Но я не могла уже с ней говорить обо всем том, что мне было интересно… Я всё была одна… Наши близкие родственники вообще не любят ученость. А дочки маминых подруг… я ни с одной из них не смогла по-настоящему подружиться, их интересовали куклы, а потом женихи… Только вот господин Лев появился в последнее время… С ним хорошо! Но вот ведь, как я ему… чуть не отплатила! – голос ее задрожал, и она прижала руку к губам.
– Ничего, – тихо сказал игумен, – бывает. Слава Богу, что до греха не дошло! Значит, кроме учителя, общаться тебе было не с кем. И когда ты услышала о молодом императоре, что он умный, начитанный…
– Да, я уже думала об этом! Когда я жила во дворце, мне приходили помыслы, что с ним должно быть интересно, раз он такой… А потом оказалось, что это он, что его я встретила тогда в Книжном портике!
– Да, понятно. Отцы, действительно, говоря о блудной страсти, пишут в основном о вожделении тела, потому что оно встречается чаще всего. С этим тоже тяжело бороться, но гораздо тяжелее борьба с вожделением души.
– Души?
– Человеку хочется общения с себе подобными по уму и по склонностям. Это легко может вылиться в пристрастие, и с этим борьба очень тяжела… Но надеюсь, ты справишься, чадо. Ведь ты знаешь: есть, ради чего!
– Да, есть ради Кого!.. Отче, я бы хотела уже поскорее уйти в монастырь.
Игумен покачал головой.
– Это так быстро не получится, чадо. В Патерике есть история, как брат задал старцу вопрос, хорошо ли будет, если он вырвет из своего огорода все овощи, чтобы не иметь никакого утешения. И старец ответил ему, что это хорошо, если есть силы на такую жизнь, а иначе потом этот брат насадит себе других овощей.
– Ты думаешь, отче, я тоже насажу себе других овощей?
– Это вполне может случиться. Ты ведь еще не окончила изучать философию с господином Львом?
– Нет. Там еще далеко до конца…
– Тебе это интересно?
– Да, очень!
– Вот тебе и овощи. Уйдешь сейчас в монастырь – потом будешь жалеть, что не доучилась. Будь на твоем месте другая, я бы, возможно, немедленно благословил на постриг, а тебя не могу. Но за другую я мог бы опасаться, что, протяни она долго в мирской жизни, охладеет в своем намерении монашествовать. За тебя не боюсь. Особенно после случившегося с тобой во дворце.
– Почему?
– Выбор, сделанный в таких условиях, можно сказать, необратим. Ты принесла слишком большую жертву ради него.
Девушка опустила голову.
– Да, это правда! – прошептала она.
– Поэтому советую тебе сначала окончить учебу. А там, даст Бог, устроится и с постригом. Бросит ли Господь Свою невесту после того, как вложил ее в такое горнило искушения? Не унывай, чадо! – Феодор улыбнулся. – Возможно, твоя мать права, и это случилось промыслительно, для чего-то важного. И такой опыт может принести пользу, если дальше стараться вести себя, как до́лжно. А как должно, ты ведь знаешь, госпожа.
– Да, отче, – она помолчала и сказала совсем тихо: – Вот еще… иногда жалко мне, что я больше никогда не увижу императрицу, его мать… Она такая хорошая! Она мне понравилась…
Кассия и не подозревала, что Фекла часто вспоминает о ней, потому что сын продолжал очень беспокоить августу. Через три месяца после свадьбы стало ясно, что Феодора ждет ребенка, и Фекла постаралась окружить ее еще большей заботой, чем раньше: будущая мать была так молода, неопытна и в то же время капризна, а предстоящих родов очень боялась… Феофил, узнав о ее беременности, стал к ней более внимателен, и императрица-мать вздохнула было с облегчением, но один случай вновь возбудил все ее прежние страхи и тревоги. Как-то раз она застала невестку в слезах и испуганно принялась расспрашивать, что случилось. Феодора долго не хотела признаваться и отговаривалась, что «ничего такого, просто взгрустнулось, ведь в таком положении, говорят, это бывает», – но Фекла видела, что причина в другом, и продолжала настаивать. Тогда молодая императрица снова расплакалась и, уткнувшись в плечо свекрови, проговорила еле слышно:
– С тех пор, как… как узналось, что у меня будет ребенок… мы ведь с Феофилом… больше не встречаемся ночью… Нет, я знаю, что так надо… Но мне кажется… что он этому рад…
– Чему?
– Тому, что ему больше не надо… со мной спать!
Фекла, как могла, успокоила Феодору, уверяя ее, что это ей показалось, что муж ее любит и стал к ней в последнее время даже более внимателен и нежен. Феодора действительно утешилась – то ли потому, что императрица-мать говорила убедительно, то ли потому, что молодой женщине хотелось верить в лучшее. Но сама Фекла встревожилась: успокаивая невестку, она говорила вполне искренне, но позже, обдумав всё еще раз и понаблюдав за сыном, подумала, что Феодора вполне может быть права…
Наконец, августа решила поговорить о сыне с его учителем, ведь Феофил общался с Грамматиком гораздо больше, чем с кем бы то ни было еще. После того, как игумен ободрил императрицу относительно «хождения по лезвию ножа», ее жизнь вошла в новое русло. Она не только больше не боялась подолгу разговаривать с Иоанном, но старалась делать это почаще, любила обсуждать с ним прочитанное, делиться впечатлениями, спрашивать его мнение, и он не отказывался общаться с ней, – более того, порой к ней приходила мысль, которую она, правда, гнала от себя как опасную: он делает это не только потому, что отказаться беседовать с августой было бы дерзостью, но и потому, что эти разговоры доставляют удовольствие и ему… Довольно скоро их беседы так удлинились и стали касаться вещей столь разнообразных, что Фекла, наконец, нерешительно спросила у Грамматика, не лучше ли им встречаться, например, в «школьной», а не в библиотеке, куда время от времени заходили разные, порой слишком любопытные люди и рядом почти всегда болтался Прокопий или его помощники. Игумен согласился, и вскоре их встречи стали ежедневной традицией, так что, прощаясь, императрица уже не спрашивала, «как насчет завтра», – напротив, они предупреждали друг друга в том случае, если кто-то не мог придти в установленное время после обеда. Иногда они устраивали прогулки по дворцовым паркам, и Грамматик рассказывал о разных растениях, птицах, насекомых… Император знал о том, сколько времени его супруга стала проводить с Иоанном, но ни разу ничего не сказал ей по этому поводу. А Фекла словно позабыла о муже, и если бы не ночные встречи, происходившие изредка – гораздо реже, чем раньше, – по его желанию, да церемонии и праздничные обеды, где она сидела рядом с Михаилом, он для нее ничем не отличался бы от кого-нибудь из придворных. Император вообще отдалился от жены и даже насмешничать над ней почти перестал; в другое время это удивило бы ее, но сейчас ей, увлеченной общением с Грамматиком, было недосуг думать о том, почему муж ведет себя так или этак. Она была рада, что он почти исчез с ее горизонта: и всегда казавшийся ей чужим и лишним в ее жизни, Михаил стал особенно неуместен теперь, когда Фекла получила возможность общаться так и с таким человеком, как ей всегда мечталось.
Разговор с игуменом о молодом императоре состоялся после обычной встречи императрицы и Грамматика в «школьной». Фекла задержала Иоанна, и они вместе вышли на примыкавший к зале балкон.
– Отче, я хотела узнать твое мнение по одному вопросу… Помнишь, перед выбором невесты Феофилу я спрашивала тебя, найдет ли он свое счастье? Так вот, теперь… я хочу спросить: как по-твоему, нашел ли он его?
«Счастлив ли Феофил?» – Фекла мучилась этим вопросом, хотя задать его сыну решилась только раз.
– Насколько это в моих силах! – ответил юноша и перевел разговор на другое.
Иоанн, как думалось Фекле, лучше всех мог знать, что творилось в душе Феофила. Они смотрели на море, синевшее за спускавшимися к нему уступами террасами дворцовых садов. Игумен медлил с ответом. Заметив его колебание, Фекла проговорила тихо, но горячо:
– Иоанн, скажи правду! Что ты думаешь? Счастлив ли он в браке?
Забывшись, она во внезапном порыве взяла его за руку; игумен мягко, но решительно убрал ее под мантию. Фекла ужасно покраснела и отступила на шаг. Грамматик сделал вид, будто ничего не произошло.
– По-видимому, к своей супруге он относится хорошо, – сказал он, – но думаю, он пока еще не забыл ту, другую…
– Кассию! Я так и боялась… Господи! Я думала, устраивая этот выбор невест, сделать, как лучше… поэтичнее… Но кто же мог подумать!
– Государю хотелось бы иметь супругой женщину, если и не равного с ним ума, то, по крайней мере, со сходной любовью к наукам. Августа не такова, увы, и их склонности во многом не совпадают. Думаю, именно здесь главная причина того, что он не может быстро забыть о своем первом увлечении.
Императрица слушала, опершись на перила балкона, обратив к Иоанну тонкий профиль и даже чуть отвернувшись, румянец по-прежнему играл на ее щеках. «Что я сделала! – думала она. – Как я могла?! И почему это получилось так… естественно?.. Как долго я смогу ходить по лезвию ножа и не падать? Отцы говорили, что для человека естественна добродетель… что она “недалека от каждого из нас”… А мне кажется, что для меня естественен грех! Естественно взять его за руку… И неестественно быть рядом и всё время сдерживаться! Господи, что же мне с этим делать?!..»
– Госпожа Кассия, – продолжал тем временем Иоанн, – как я убедился, действительно на редкость образована и умна для девицы… и даже не только для девицы. Поразительная красота в сочетании с умом… А юный государь впечатлителен.
– Но ведь Феофил не мог знать о ее уме!.. Впрочем, – тихо добавила императрица, – такие вещи чувствуются…
– Знающие люди сравнивают такого рода любовь с ударом молнии. Молния, безусловно, имеет свои причины появления, но ее удар всегда неожидан, глядя со стороны, а часто и глядя изнутри, и всегда разителен… К тому же Феофил имел возможность убедиться в ее уме и на деле, ведь она продолжила цитату, а это уже говорит о многом.
– Да… И почему только она так повела себя на смотринах?! Если не хотела, чтоб ее выбрали, что ж тогда согласилась участвовать?
– Самоуверенная девушка! – усмехнулся Иоанн. – И смелая. Решила испытать судьбу.
– Что ты имеешь в виду?
– Она сама призналась, что не хочет быть избранной, потому что уже выбрала «лучший жребий». Но она хотела получить подтверждение, что правильно избрала путь. Думаю, что судьба ее так или иначе проучит. Впрочем, таким, как она, это бывает полезно.
– Так вот в чем дело!.. – Фекла чуть помолчала. – Право, если б она мне сказала, что не хочет, я бы отпустила ее… Или если б ты мне сказал, что она не хочет…
– Да, я мог бы сказать. Но мне стало любопытно, получит она свой жребий или нет. Я люблю наблюдать подобные вещи.
– «Опыты»? – тихо спросила императрица.
– Да.
«Но ведь Феофил, по сути, стал жертвой этого опыта! – подумала она. – Впрочем, если тут был божественный промысел… или попущение?.. Ах, нам ли разобраться в этом?!»
– Всё же я поначалу не думала, – заговорила она вновь, – что Кассия произвела на него такое сильное впечатление…
– Я тоже не думал, но, как теперь понимаю, ошибся. Для умного человека ум в женщине бывает гораздо привлекательней, чем ее красота. А тут и то, и другое – опасное сочетание! – Грамматик умолк, и Фекла краем глаза заметила, как его пальцы на мгновение стиснули мраморные перила. – Но думаю, трижды августейшая, не стоит всё же так беспокоиться. Дело молодое! Забудется… Всё проходит.
– Всё ли? – спросила Фекла, повернула к нему лицо и вдруг поняла, что Иоанн уже некоторое время смотрит на нее.
– Да, – в голосе игумена зазвенел металл.
Но в его взгляде промелькнуло что-то такое, что заставило сердце августы прыгнуть и стремительно забиться. Она опустила глаза почти в испуге, но в следующий миг вновь подняла их, однако Грамматик уже отвел взгляд. «Нет, не может быть… Показалось?!.. Показалось…» – и в груди у нее заныло.
– Что ж, дай-то Бог! – сказала Фекла, но голос ее прозвучал не очень уверенно.
Иоанн вернулся к себе в монастырь и, поскольку до вечерни еще оставалось время, пошел в «мастерскую» и закрылся там. Подойдя к полке, где стояли разные растворы, он снял с нее одну из склянок, поболтал и поднес к окну. Табашир – странное кристалловидное вещество, образующееся в узлах бамбуковых стеблей, которое Грамматик заказал знакомому купцу привезти из Египта, желая изготовить смарагд по одному своеобразному рецепту из папирусного сборника, – уже три дня пролежал в квасцах, пора было вынимать его…
Игумен не сказал августе о том, чего в глубине души начинал опасаться. Если б на месте Феофила оказался, например, его бывший друг Константин, всё было бы проще: окажись его жена не такой, как он рассчитывал, это не стало бы для него трагедией, а потребность в общении с умными людьми он вполне удовлетворял бы с друзьями. Скорее всего, Константину даже в голову не пришло бы искать в жене друга в собственном смысле слова…
Иоанн приготовил медный котелок с плотно закрывающейся крышкой и зеленоватый порошок медной окиси и потянулся за небольшим стеклянным сосудом, куда еще вчера налил нужное количество самого едкого уксуса.
Но Феофил, в отличие от Константина, был гораздо тоньше и глубже, и в этом заключалась особенная опасность. Императрица хотела сделать женитьбу сына поэтичной, но не учла, что Феофил, при всем своем уме, здравомыслии и некоторой жесткости, был всё-таки слишком платоник… Она, возможно, не догадывалась, что в этом сын был похож на нее, потому что до недавнего времени сама себя не сознавала, настолько ее внутренняя сущность был подавлена с самой юности…
Пальцы Иоанна – тонкие и чувствительные и в то же время очень сильные – стиснули сосуд с уксусом, и тот вдруг, треснув, буквально разлетелся, едкая жидкость обожгла порезанную осколками руку. Грамматик не вскрикнул, только поморщился и быстро сунул руку в стоявшую тут же лохань с водой. Промыв, перебинтовал чистой льняной тканью, предусмотрительно хранившейся тут же в особом ящичке, посмотрел на осколки и лужицу на полу и усмехнулся.
Теперь игумен понимал, что утонченность и глубину молодой император унаследовал от матери. От женщины, которая совет Иоанна не бояться ходить по лезвию ножа, так смиренно приняла лишь на свой счет…
…Лев сидел за книгой, но сосредоточиться на чтении не мог. Из соседней комнаты, отделенной дощатой перегородкой слышался шепот то матери, то игумена Феодора, слов было не разобрать. Наконец, Студит что-то сказал, и наступило молчание. Затем мать ответила – глухо, но не шепотом, и Лев расслышал:
– Простить могу. Забыть – нет.
Игумен заговорил вновь. Лев задумался над услышанной фразой. «Простить – значит ли и забыть? Или это разные вещи? Бог, когда прощает человеку грехи, изглаживает их совсем, как бы их и не было, но забывает ли Он их? Ведь Он же всё равно знает, что они были. Раз мы помним их, значит, Он – тем более. Он просто не поминает их нам, но ведь это не то же, что забвение… Но не всё ли равно, ведь Бог бесстрастен. А вот мы… Может ли страстный человек разграничить прощение и забвение? Да, наверное, если ближний показал себя, скажем, непорядочно по отношению к тебе, то можно его простить, не таить зла и не питать мстительных чувств, но вряд ли потом было бы разумно иметь с ним серьезные дела… Это и будет значить – простить, но не забыть. Но если никаких дел с ближним мы иметь уже не можем… например, мы умираем… или он уже умер… а мы всё-таки вспоминаем бывшее от него зло… Не есть ли это злопамятство?..»
Давняя мечта Льва познакомиться со Студийским игуменом, наконец, осуществилась. После исповеди Кассия ощутила большое облегчение и воспрянула душой, так что ее учитель это заметил, а она, в свою очередь, поймав несколько вопросительных взглядов, сказала ему, что приехал ее духовный отец, она исповедалась и чувствует себя гораздо лучше.
– А кто он, если не секрет? – спросил Лев.
– Отец Феодор, игумен Студийский.
– О!.. А я ведь еще десять лет назад хотел с ним познакомиться… да вот, уехал, а потом начались все эти гонения…
– Правда? Ну, теперь я точно вас познакомлю! Отец Феодор обещал иногда навещать нас. Когда в следующий раз он соберется к нам, я непременно сообщу тебе!
Но молодой человек познакомился со Студитом даже еще скорее, правда, при печальных обстоятельствах. Мать Льва внезапно слегла с жестоким приступом боли; впрочем, болело у нее в боку уже давно, около года, но она всё перемогалась и не обращала внимания, а тут ее так прихватило, что она сразу оказалась прикованной к постели. Вызванный Львом врач, осмотрев больную, задав ей разные вопросы и ощупав ее живот, покачал головой и сказал, что у нее сильная опухоль, которую, по-видимому, вылечить уже невозможно, и печень может отказать в любой момент, а тогда – смерть. Он выписал шарики из смеси петрушки, аниса, тмина, укропа и белены, но предупредил, что это только для уменьшения болей, остановить же саму болезнь невозможно. Каллиста уже знала, что ученица ее сына знакома со Студийским игуменом, и попросила Льва позвать Феодора: она хотела исповедаться ему перед смертью. Так великий Студит попал ранним октябрьским утром в жилище, теперь уже из двух комнат и малюсенькой кухни, которое снимали Лев с матерью на третьем этаже деревянного дома в Эксаконии, недалеко от цистерны святого Мокия.
Каллиста исповедалась долго; наконец, игумен позвал Льва и попросил помочь причастить умирающую – подержать плат. Когда всё было окончено, Каллиста улыбнулась и проговорила:
– Благодарю тебя, отче! Помолись обо мне, чтобы Господь… простил мне… и избавил от вечной муки!
– Помолюсь, чадо, – ответил игумен. – «Не бойся, только веруй!» Господь милостив!
На другой день у больной начался сильный жар, она всё время просила пить, но вода казалась ей горькой. Лев не отходил от матери. К вечеру лихорадочный блеск в ее глазах еще усилился, на пожелтевших щеках проступали красные пятна. Она взяла сына за руку; ее ладонь была горячей, как уголь. Запекшиеся губы шевелились с трудом, и он наклонился к ней, чтоб она не напрягалась при разговоре.
– Сынок, – прошептала она, – я отхожу… Молись за меня, милый!.. Ну, дай, я благословлю тебя, мой мальчик! – она с трудом приподняла руку и перекрестила его. – Господь да сохранит тебя, да умудрит, да направит пути твои! Лев… вот еще что… Я знаю, ты когда-нибудь встретишься с ним… с Иоанном, дядей твоим… Так вот, передай ему… передай, что я его простила! Передай непременно!
– Да, мама, – ответил Лев, потрясенный. – Мама!
– Не плачь, милый! Прости меня!.. Не плачь… Всё проходит… и все проходят… уходят… Я думала… что многое имеет значение… Теперь, перед смертью, вижу… ничего, ничего в этой жизни не имеет значения! Страсти, страдания… Всё, за что мы цеплялись… за что любили и ненавидели… Ах! Правее всего монахи, которые отрекаются от всего этого!.. Вот, я всю жизнь не могла простить… А что пользы в этой бесконечной злобе?.. Я одна была во всем виновата… Всё теперь, скоро всё порастет травой… Монахи косят траву…
Лев тревожно вглядывался в лицо матери. Начинает бредить?.. Она улыбнулась.
– Ты, верно, пойдешь в монахи, Лев?.. Это хорошо бы… Слушай, мальчик мой! Ты умный… Ты лучше меня знаешь всё… Но вот что я… об одном прошу, слушай! Никогда не будь злопамятным, Лев! Слышишь?
– Да, мама, я буду стараться! – он пожал ее руку.
– Ну, вот, милый… хорошо… Всё хорошо… Не скорби! Жизнь короткая… скоро проходит… Не трать понапрасну время, Лев! Ты… знаешь, как надо… Ты… умный… Слава Господу… за всё!..
Ночью она умерла.
15. Риза
Ни один человек, желающий отличиться перед другими и стать выше других в государстве, не захочет, чтобы при нем слава отечества уменьшалась, если не будет вынужден к тому судьбою.
(Дексипп)
В конце октября император приказал закрыть Золотой Рог. Константинопольцы сбежались смотреть, как дромон с огромной железной цепью отошел от Акрополя и медленно поплыл к Галатской крепости на противоположном берегу залива. Тяжелые звенья на больших деревянных поплавках одно за другим опускались в воду, и толпившиеся на берегу горожане окончательно поняли, что столицу ждут тяжелые дни.
Бунтовщики подошли к Городу в начале декабря. Фома думал, что константинопольцы, наслышанные о его успехах в Азии и Фракии, увидев воочию собранное им огромное войско, сами откроют ему ворота, но этого не произошло: когда мятежник на белом коне приблизился к Золотым воротам, защитники столицы со стен осыпали славянина градом поношений и оскорблений.
– Что, закрыто? – кричали ему. – Ай-ай! А ты через стену, через стену! Лестницу приставь! Да ты с хромой ногой-то не влезешь! Но у тебя народу много, подсадить есть кому! Давай, не трусь! А мы тебя с почетом встретим!
Пущенное кем-то копье вонзилось футах в семи от лошади Фомы, и она, испуганно мотнув головой, попятилась назад. Со стен раздался свист, смех, торжествующие крики. Фома сплюнул и вместе с сопровождавшими его отрядами отправился вдоль стен к Золотому Рогу, где расположился лагерем у монастыря святых бессребреников Косьмы и Дамиана, решив направить основной удар на Влахерны. В тот же день к вечеру флот бунтовщиков порвал цепь и проник в залив.
– Вот дьяволы! – выругался император, когда ему доложили об этом.
– Я так и думал, что цепь не поможет, – сказал Феофил. – Если б это были варвары, тогда да, а эти ведь идут на наших кораблях!
Наутро отец с сыном поднялись на башню у Харисийских ворот, чтобы обозреть окрестности Города. Сопровождавший их логофет дрома Иоанн хмуро смотрел на раскинувшийся в районе Космидия огромный лагерь. Разведка уже донесла, что войска мятежников, оставшиеся на азиатском берегу Пропонтиды, прочесывают всю местность и дошли до Эвксинского Понта в поисках возможных засад противника. Между тем Олвиан со своими войсками пока еще задерживался в Арменьяке: после гибели «Констанция» бывшие с ним бунтовщики частью разбежались, частью прорвались к прибрежным областям, а частью перешли на сторону императорских войск. Михаил приказал никого из них не карать, но принимать всех, кто пожелает вернуться под знамена законного императора, – с того времени, как Фома ушел во Фракию, а сарацины вновь стали беспокоить границы, таких желающих становилось всё больше, и Олвиан обещал придти на помощь столице уже с немалым войском. Но пока положение Царицы городов было опасным.
Несколько дней мятежники готовили для штурма стен тараны, «черепахи», камнеметные орудия. Флот Фомы, собравшись у морских стен, ждал знака, чтобы идти в атаку. Для императора настали беспокойные дни и бессонные ночи: он почти круглыми сутками пропадал на укреплениях, ободрял воинов, обсуждал с архонтами, как лучше отразить штурм. Прежний василевс в этом отношении проявил себя в свое время как нельзя лучше, и новому теперь надо было держаться на той же высоте. Михаил приказал водрузить боевое знамя прямо на кровле Влахернского храма и, по совету патриарха, решил устроить крестный ход по стенам Города, поручив сыну вместе с Антонием вести процессию. 9 декабря, в праздник Зачатия Богородицы святой Анной, патриарх с молодым императором возглавили крестный ход, который с древом Креста Господня и с ризой Богоматери обошел Город по стенам с пением тропарей и молениями о даровании победы.
«Богородица Приснодева, человеков покров, ризу и пояс пречистого тела Твоего державное Граду Твоему обложение Ты даровала…» – певчие старались, пели громко, чтобы слышали и защитники столицы, и мятежники. Феофил подпевал, поглядывая со высоты стен на лежавший внизу Город. Не хотелось даже думать о том, что мятежники могут ворваться сюда. «Господи, защити нас! Посрами бунтовщиков! Матерь Божия, покрой Твой Город Твоею ризою!» – молился Феофил про себя, и вдруг его охватило ощущение присутствия Богоматери – совсем рядом, здесь, с ними, словно действительно Пречистая невидимо подошла и простерла над Городом покров… Было радостно и трепетно, и в душе таинственным образом крепла уверенность, что Богородица услышала молитвы, и Константинополь не будет взят. Ощущали ли это другие – патриарх, клирики, певчие?.. Когда крестный ход, спустя много часов, вернулся к той же башне, откуда началось шествие, и риза Богоматери была возвращена на свое место во Влахернский храм, все валились с ног. Феофил пошел отдохнуть в Анастасиев триклин, где была приготовлена трапеза, пригласив патриарха, протопсалта и еще нескольких клириков, в том числе Сергие-Вакхова игумена, отобедать вместе с ним. Антоний выглядел усталым, но был доволен.
– Я уверен, государь, что теперь наши воины и граждане воспрянут духом! – сказал он, когда все уже сели за стол.
– Я тоже так думаю, – ответил император. – Интересно, а что почувствовали мятежники? Они ведь тоже видели наше шествие, – Феофил взглянул на Грамматика. – Как ты думаешь, отец игумен, какое действие оно произвело на бунтовщиков?
Иоанн ел оливки, но взгляд его был отрешенным и прозрачным. Когда император обратился к нему, игумен чуть вздрогнул, взглянул на василевса и ответил с улыбкой:
– Полагаю, многие из них испугаются. Если у Фомы есть голова на плечах – а судя по тому, что он сумел дойти со своим войском даже досюда, он не глуп, – он, скорее всего, в ближайшее время попробует пойти на приступ, чтобы не тянуть. Промедление в таких обстоятельствах часто бывает губительным. Можно вспомнить, например, бывшее при Версиникии…
Крестный ход действительно посеял сомнения и некоторую растерянность среди бунтовщиков.
– Как бы нам не пришлось сражаться не только с видимыми силами, но и с невидимыми! – перешептывались многие архонты и простые стратиоты.
Чтобы не дать времени подобным толкам распространиться и уронить дух в войсках, Фома решил на следующий день идти на штурм. К вечеру императорская разведка донесла о том, что мятежники готовятся к сражению. Феофил в это время стоял на одной из влахернских башен вместе с логофетом дрома.
– Значит, завтра предстоит горячий день! – сказал молодой император.
– Да, – ответил Эксавулий. – Но ветер меняется, государь. Слава Пречистой! Господин друнгарий говорит, что завтра, возможно, в заливе будет неспокойно. Значит, флот мятежников не сможет подойти к стенам!
Вечером Михаил с Феофилом зашли к императрице, где застали и Феодору, которая расшивала узором из роз чепец для будущего младенца. Пелагия и Афанасия, особо приближенные кувикуларии Феклы, сидели тут же, одна за ткацким станком, а другая за вышивкой. Сама императрица-мать читала вслух какую-то книжку, изредка взглядывая на возившуюся тут же на ковре дочь. Когда оба императора вошли, Фекла умолкла, кувикуларии встали и поклонились, а маленькая Елена с радостным криком бросилась к отцу. Михаил приласкал дочь, знаком приказал кувикулариям выйти и, подойдя к жене, заглянул в книгу.
– Что читаем?.. О! Интересно! «Ликург наказывал лаконцам: “Бегущих врагов не убивайте, чтобы они считали, что бежать выгоднее, чем оставаться”». Недурной совет!
– «Стратегемы»? – улыбнулся Феофил.
– Да, – кивнула Фекла.
– С каких это пор вас потянуло на военные рассказы? – спросил Михаил. – Впрочем, ты, дорогая, иногда почитываешь такое, но наша милая Феодора, кажется, не любительница подобных сочинений?
– Нет, это я предложила почитать что-нибудь военное, – быстро сказала Феодора, вспыхнув. – Эта осада…
– Кстати, а что там мятежники? – с беспокойством спросила Фекла.
– Готовятся к штурму.
Обе императрицы побледнели.
– Ах, Михаил! – сказала Фекла. – Не наступает ли час расплаты… за то, как мы взошли на царство?
Император сдвинул брови.
– Опять ты за свое! Хоть и много ты книг читаешь, но они тебе не впрок! Прокопия ты прочла уж не знаю, сколько лет назад, когда я о нем и не слыхал… Перечитывала даже! А что толку? Мне вот его наш философ сейчас читает, и знаешь, что? Хороша была супруга у великого Юстиниана, не чета тебе! Когда он готов был всё бросить и бежать, она сказала, что предпочитает умереть в пурпуре, и правильно сделала! Так что, моя дорогая, бери с нее пример и не причитай тут, как старуха!
– Мне кажется, – робко сказала Феодора, – что, даже если и было что-то сделано неправильно, теперь карать весь Город, всех нас… И потом… если даже человек сделал что-нибудь плохое… – она остановилась и испуганно взглянула на свекра, но увидев, что он смотрит на нее благосклонно, ободрилась и продолжала, – ведь потом он может заслужить прощение от Бога, если будет поступать, как нужно… Я всегда молюсь, чтобы мы победили!
– Вот разумная речь, Бог свидетель! – воскликнул Михаил. – Учись, дорогая, у нашей Феодоры!
– Да ведь и я молюсь, чтобы мы победили, – тихо сказала Фекла. – Я просто…
– Мы победим, победим! – вскричала вдруг Елена, внимательно слушавшая разговор взрослых.
– «Устами младенцев»! – улыбнулся император и ласково потрепал девочку по голове. – Аминь! Вот, дорогая, и у дочери поучилась бы уму-разуму, чем без пользы квохтать, как курица! Лучше молитесь, чтобы нам завтра отразить этих негодяев! А за свои грехи расплатимся на том свете, так что я в любом случае получу свое, не беспокойся, дорогая! – он усмешливо взглянул на жену.
– Не ссорьтесь, – примирительно сказал Феофил. – Быть может, этот мятеж действительно послан как наказание, но если мы справимся с ним, то думаю, это будет знаком благоволения Божия, – Феофил взглянул на мать и улыбнулся. – Не бойтесь! Я уверен, что Божия Матерь защитит Город!
На рассвете следующего дня Фома подал сигнал к сражению. Вскоре после перехода во Фракию он усыновил некоего Анастасия, незадолго до того сбежавшего из монастыря и предавшегося мирской жизни, и назвал его Констанцием вместо убитого «сына». Фома поручил ему вести бой вдоль сухопутных стен Города, поскольку до монашества тот служил в войсках и даже был комитом, а сам со множеством воинов и орудий принялся штурмовать влахернские башни: осаждавшие приставили длинные лестницы, подвели «черепах» и тараны. Ветер дул в спину мятежникам, и это облегчало стрельбу. На стены летели стрелы и камни, стоял ужасный крик, бунтовщики всеми силами старались вселить ужас в горожан и взять столицу, применяя всё, что можно – стрелы, огонь, гелеполы. Но защитники сражались мужественно и, несмотря на противный ветер, стрелы густым дождем летели на осаждавших и мешали им пользоваться лестницами. Большинство осадных машин так и не удалось подвести вплотную к стенам, а те, что доходили, действовали слабо и не могли не только сокрушить стены, но даже согнать с башен императорских воинов. Сражение продолжалось весь день, но мятежникам так и не удалось совершить ничего значительного. Становилось понятно, что им попросту не хватает военного опыта для подобного предприятия. Но самая большая неудача постигла флот бунтовщиков: к полудню ветер усилился настолько, что в Золотом Роге, слывшем одной из лучших гаваней, где суда находили покой, даже если на Босфоре и Пропонтиде поднималось сильное волнение, внезапно началась настоящая буря, разметавшая все корабли Фомы, так что они не смогли толком даже начать штурм морских стен.
– Богородица помогает нам! – воскликнул Феофил, стоявший вместе с отцом на угловой влахернской башне; они взглянули друг на друга и улыбнулись.
На другой день мятежники вновь пошли на штурм, но защитники уже настолько воспрянули духом, что вторая атака была для осаждавших еще менее удачной, чем первая. Императорские воины пустили в дело стрелометы, отогнавшие мятежников далеко от стен: побросав почти все осадные машины, они с позором отступили. Бунтовщики еще несколько раз пытались возобновить атаки, но так же безуспешно, а на шестой день внезапно выпал снег, и Фома дал приказ к отступлению. Лагерь мятежников был снят, они отошли в глубь Фракии и расположились на зиму ближе к болгарской границе, где проживало больше всего славян, симпатизировавших Фоме.
Вскоре прибыл гонец от стратига Олвиана и сообщил, что войско собрано и готово идти на защиту столицы.
– Отлично! – сказал Михаил. – Теперь, если весной этот негодяй еще сунется сюда, мы зададим ему жару!
Из донесений разведки было ясно, что мятежники не отказались от своих намерений и весной попытаются вновь атаковать Город, поэтому исповедники, собранные по приказу императора в столицу, по-прежнему жили под защитой ее стен. Кроме Феодора с Навкратием и Николаем, здесь по домам у разных доброжелателей жили и другие студиты. Дорофей и еще несколько монахов поселились у Марфы, а логофет Димохари предоставил Феодору с братией просторное помещение, и они жили там небольшой общиной; для богослужений туда приходили и братия, обитавшие в других местах Города. Когда мятежники сняли осаду, в Константинополь прибыли еще некоторые из студийской братии. Император, узнав, что в столице по разным местам обитает уже много студитов, вновь предложил Феодору занять их монастырь, но игумен опять отказался. Он и прежде, пока жил с братией в Крискентиях, говорил своим монахам:
– Может быть, вас печалит слух, что наши монастыри разрушаются врагами Господа? Но в этом нет никакой печали. Ибо монастырь и храм Божий – мы, которым сказано: «Если кто разорит храм Божий, того разорит Бог». Кроме того, и прежде часто храмы и монастыри разрушались нашими преследователями, но, промыслом Божиим, опять приводились в первоначальное состояние. Может быть, и то волнует вас, что мы не владеем монастырями в достаточном количестве, не имеем возможности возобновлять их, насаждать и делать всё другое прекрасное? Но я так далек от того, чтобы волноваться, что весьма стыжусь за таких людей. Ибо если наше преследование и весь подвиг совершаются из-за ниспровержения веры, а она еще не восстановлена, но имя Божие еще хулится и святые отцы наши предаются анафеме, то какая польза владеть монастырями? Не есть ли это, скорее, всеми признаваемый вред и предательство истины? Кто, пробежав половину, получит награду за победу, когда приказано не только пробежать целое поприще, но пробежать так, как определено законом? Ведь Писание говорит: «Никто не увенчивается, если незаконно будет подвизаться».
Поэтому студиты оставались вне Студия, и император оставил их в покое, приказав, однако, следить, чтобы они не вели никаких речей в пользу мятежников. Но вскоре он убедился, что опасения напрасны: игумен Феодор называл Фому и его сторонников не иначе как «агарянами» и не выказывал никакого сочувствия их начинаниям.
В феврале у Феофила и Феодоры родилась дочь, и молодой император предложил Грамматику стать крестным отцом девочки.
– Сочту за честь, государь! – ответил игумен с поклоном. – А как решили назвать новорожденную?
– Мария, – ответил Феофил, пристально глядя на учителя.
Тот остался совершенно спокоен, чуть заметно улыбнулся и сказал:
– Царское имя!
Крещение состоялось на сороковой день после появления девочки на свет.
– Крещается раба Божия Мария, во имя Отца, аминь, – патриарх погрузил младенца в воду, – и Сына, аминь, – Антоний совершил второе погружение, – и Святого Духа, аминь!
Погрузив девочку в третий раз, он вынул ее из купели. Иоанн протянул руки с пурпурным полотенцем, принял новокрещенную и на удивление ловко обернул ее концами полотна. Мария, ошалевшая от произведенного над нею действа, несколько мгновений, казалось, раздумывала, что же ей теперь делать, и совсем было собралась заплакать, но тут ее глаза – большие и темные, как у родителей, – встретились с глазами ее крестного отца. Феофил, наблюдавший за ним, поразился: Иоанн вдруг улыбнулся крестнице такой улыбкой, какой, пожалуй, никто при дворе никогда не видел у Грамматика. И девочка не заплакала. Она улыбнулась в ответ и протянула к Иоанну пухлые ручки.
…Николай собрался нести в Книжный портик только что законченную рукопись Псалтири. Это была уже третья его работа, которую он нес продавать туда: хозяин лавки сразу оценил прекрасный почерк монаха и сказал, что будет покупать всё, что бы тот ни предложил. Студийский игумен решил пойти вместе с учеником – взглянуть на книги в тамошних лавках и кое-что купить: некоторые нужные им рукописи во время скитаний были утрачены или отобраны иконоборцами, а на днях совершенно развалился старенький тропологий. Правда, Николай тут же вызвался его переписать, но Феодор сказал, что проще купить готовый, тем более что деньги у них, благодаря приношениям почитателей, скопились немалые. Студиты не так скоро добрались до лавок, как рассчитывали: на улице игумена то и дело кто-нибудь узнавал, останавливал, просил благословения… Когда они вошли в Книжный портик, Николай зашел во внутреннее помещение центральной лавки, где продавались в основном богослужебные книги, чтобы сговориться насчет продажи своей работы, а Феодор принялся неторопливо рассматривать рукописи на прилавке и в боковых витринах. Высокий монах, листавший у конца прилавка какой-то кодекс, взглянул на Студита и вдруг сказал, закрыв книгу:
– Вот так встреча! Приветствую тебя, отец Феодор!
Игумен повернулся к говорившему: перед ним стоял Иоанн Грамматик. Последний раз они виделись шесть с лишним лет назад во дворце, когда Феодор, вызванный к императору, наотрез отказался принять постановления иконоборческого собора и услышал от василевса, что в таком случае будет сослан и при жизни Льва не вернется в Константинополь. Во время того разговора «Ианний» стоял на одной из ступеней возле трона и наблюдал за Студитом… С тех пор Грамматик почти не изменился, лишь в черных волосах появились серебряные пряди, а во взгляде прибавилось остроты и в то же время какой-то прозрачности. Всё тот же уверенный и спокойный тон, всё та же неуловимая улыбка.
– Здравствуй, господин Иоанн.
– Действительно ли ты, отче, желаешь, чтобы нечестивая глава «колесницы дьявола» здравствовала? – насмешливо спросил Грамматик.
– Ради ее покаяния – почему бы и нет? – отпарировал Феодор.
– Ты всё-таки надеешься, что я еще покаюсь?
– Тебе не хуже меня известно, что ни один человек не безнадежен, пока жив.
– Но это не мешало тебе выражать уверенность, что меня вместе со святейшим Антонием «скоро поразит Троица», – Грамматик усмехнулся. – Твои пророчества уже широко разошлись! Теперь ваши единоверцы ожидают, что какой-нибудь новый Моисей, если не Сам Господь Бог, вот-вот поразит «нечестивого Ианния». Что же будете вы делать, если этого не случится?
– Потерпим еще, нам не привыкать, – Феодор говорил негромко и спокойно, не менее внимательно глядя на Иоанна, чем тот на него.
– Да уж, верно, придется потерпеть! Среди ваших я не вижу никого, кто мог бы стать оным Моисеем. Скучна ваша братия и не очень-то умна, насколько я могу заключить из встреч с ними, а их у меня было немало, как ты знаешь.
– Но на доводы отца Навкратия, к примеру, ты в свое время не нашел, что возразить.
– Это правда, – кивнул Иоанн. – Но с тех пор немало воды утекло.
– У тебя появились новые соображения?
– Неужели такой твердый противник каких бы то ни было «диспутов с еретиками» согласится их выслушать?
Взгляды двух игуменов скрестились, словно мечи. Торговец из-за прилавка смотрел на них, чуть приоткрыв рот.
– В частном порядке я не отказался бы послушать твои доводы, господин Иоанн, – чуть улыбнулся Студит. – Мы не во дворце или темнице, и здесь нет императора и сановников, чтобы рассудить нас и вынести свое решение. Напротив, мы в подходящем месте для философского спора, ведь в этом портике такие беседы велись издавна.
– Что ж, – в глазах Сергие-Вакхова игумена вспыхнул огонек, – пожалуй, с тобой обсудить известные вопросы действительно было бы интересно.
– Итак?
– Насколько я помню, отец Навкратий утверждал, что, изображая на иконе ипостась Христа, вы не приходите к ереси Нестория, поскольку ипостась Слова является способом существования двух соединенных природ, и что во Христе есть личные признаки, по которым Он отличается от прочих людей, но они не создают отдельной человеческой ипостаси. Согласен ли ты с этим?
– Безусловно.
– Так вот, если говорить об ипостасных отличиях, то один человек отличается от другого в первую очередь не внешним видом, а происхождением, страной обитания, похвальным или непохвальным поведением. Внешность меняется с течением жизни довольно сильно, а если бы мы стали рассуждать, например, об отличии друг от друга близнецов, то говорили бы именно об их поведении, нраве и прочее. И что такое человек? Разумное, смертное, способное к пониманию и познанию живое существо. Эти свойства познаются лишь умом и могут быть правильно изображены тоже лишь умом и словом, но никак не живописью. То же самое с поведением, нравом, происхождением. Когда мы говорим о том, чем отличается Иисус Христос от Иисуса Навина, то указываем, что один был Сыном Марии, родился в Вифлееме, жил там-то, делал то-то, а другой был сыном Навина, родился и жил в другое время и совершал иные дела. Но мы при этом ничего не говорим о том, какой был рост, цвет волос или глаз у того и другого – хотя бы потому, что мы этого в точности не знаем. А если б и знали, то всё-таки, говоря об их отличиях, делали бы упор не на этом. Заметь, что в Евангелии нигде не сказано ровным счетом ничего о внешности Христа.
– Это так, но Человек Иисус всё-таки имел определенную внешность, так же как и Иисус Навин. Или ты с этим не согласишься?
– Соглашусь.
– Тогда ты должен согласиться и с тем, что, как Иисус Навин, будучи человеком, изобразим, как любой человек, так должен быть изобразим и Христос.
– А вот с этим не соглашусь. Но прежде ответь мне на такой вопрос: вы считаете иконы достойными поклонения, поскольку на них изображено воплощенное Слово, не так ли?
– Так.
– Мне же думается, что, хотя Христос и имел по человечеству определенные особенности, но, изображая эти особенности, мы не изображаем воплощенное Слово. Ты можешь изобразить некие телесные черты, но это еще не есть Христос, ведь ничто из тех существенных признаков человека, о которых я только что говорил и которые описываются лишь словом, нарисовать невозможно. А признаки, изобразимые красками, преходящи: мы знаем, что Христа уже не узнавали по воскресении даже ученики. Лука и Клеопа узнали Его не при встрече и даже не во время разговора, а при преломлении хлеба. Иоанн сказал: «Это Господь», – не тогда, когда апостолы увидели Его, а тогда, когда по Его приказанию поймали много рыб. Апостолы узнавали Его по делам, а не по внешнему виду. Плоть, воспринятая Словом, обозначала не отдельного человека, а человека вообще, и потому Христос неописуем.
– «Человек вообще»? Это, конечно, интересный поворот мысли. Но если плоть Господня обозначала «человека вообще», то как она существовала во Христе? Природа может существовать лишь в отдельных ипостасях. Если, по-твоему, никаких особенностей определенного человека во Христе узреть нельзя, то получается, что Он воплотился лишь в представлении, а это манихейство. Когда Христа брали под стражу, Он спрашивал: «Кого ищете?» – и потом: «Если Меня ищете…» Как Он мог бы такое сказать, если б не имел никаких зримых особенностей, отличавших Его от остальных людей? Как Он мог бы и назваться именем собственным Иисус, если б не имел, как все люди, ипостасных особенностей отдельного человека? Нет, Он имел личные свойства и потому описуем.
– Ты не совсем меня понял. Плоть Господня имела особенности, свойственные человеческой природе в целом, но не имела таких личных особенностей, которые могли бы вечно оставаться в ипостаси Слова. А потому воплощенное и воскресшее Слово изобразить нельзя. После воскресения Господь мог как быть узнаваем учениками, так и оставаться не узнанным. Мы даже не можем утверждать, что Он не являлся, например, Луке и Клеопе в одном внешнем образе, Марии Магдалине в другом, а Иоанну с Петром в третьем.
– Ты считаешь, что Христос имел некие личные признаки, но все они являются отъемлемыми, а то даже и изменяющимися, случайными, и не пребывают в ипостаси Слова вечно?
– Теперь ты понял меня правильно. А то, что в Нем неизменно сохраняется, то есть воспринятое человечество, неизобразимо, будучи общим, а потому и не может быть поклоняемо в иконах. Но и мы по воскресении все изменимся и «облечемся в нетление и бессмертие», как говорит апостол, и «каков Небесный, таковы и небесные». Христос во Своем втором пришествии явится всем, и все люди узна́ют друг друга. Почему узнают? Разве потому, что они все друг друга видели раньше и знают в лицо? Нет, но по духовному действию, к которому описуемость не имеет ровно никакого отношения. И оценят друг друга не по телесным признакам, а по деяниям предосудительным или похвальным, совершенным в земной жизни, – именно они и имеют значение, именно они и пребудут вечно, так же как вечно пребудут геенна и рай.
– Уж не считаешь ли ты, что и мы по воскресении станем неописуемыми?
– В каком-то смысле – да, поскольку тогда «Христос будет всяческая во всем». Ведь и ограниченность тоже частично исчезнет: как Воскресший проходил чрез запертые двери, так это сможем делать и мы, хотя сейчас человеческой природе это совершенно несвойственно. Даже ангел, когда выводил Петра из темницы, открывал перед ним двери, чтобы он прошел, а уж найдется ли кто святее Петра! Христу же по воскресении открывать дверь не понадобилось.
– По-твоему, описуемость не есть одно из неотъемлемых свойств человеческой природы? Это невозможно принять. Если уничтожить описуемость, уничтожится сама природа, и уже не будет никаких людей вообще. Всё, что ограничено как-либо пространством, имеет и начертание, имеет отношение к линиям, точкам, фигурам. А неописуемое не имеет отношения ни к чему из этого. Значит, если Христос неописуем, то Он окажется не бывшим ни в определенном внешнем образе, ни в пространстве, ни в теле. Но Писание говорит, что Он явился в человеческом виде, был ограничен и пространством, живя в Назарете, и стал плотью. Значит, Он описуем, иначе и быть не может.
– Ты рассуждаешь в категориях этой жизни. А тогда «разгоревшиеся стихии растают» и всё изменится. «Се, творю всё новое», как сказано в Откровении.
– По-твоему, «новое» означает, что описуемость тогда уничтожится? – спросил Феодор немного насмешливо.
– Что мне запрещает так думать?
– Да, конечно, о том, что еще только будет, можно вообразить, что душе угодно. Но это такая область, куда я, пожалуй, вступать не рискну, поскольку я отнюдь не свят, и не всеведущ, а потому предпочитаю оставаться при том учении, которое оставили нам святые отцы. А они учили, что по воскресении мы, как и Христос, отложим лишь дебелую грубость этой земной плоти, а не саму плоть. Но дебелость и описуемость – вовсе не одно и то же, – Феодор пристально взглянул на Грамматика и добавил: – На самом деле в этом споре любопытнее всего одно: почему тебе так хочется, чтобы поклонение иконам было сведено до уровня народного суеверия?
– Возможно, – ответил Иоанн с усмешкой. – Но ведь это вопрос не догматический, не так ли?
– Скорее, аскетический.
– Пожалуй. Но за аскетическими советами я к твоему почтенству не обращался.
– Совершенно верно, поэтому, полагаю, нам пора завершить нашу беседу.
– Согласен. Мне было весьма приятно побеседовать с тобой, отче. Хотя тебе со мной, вероятно, не так уж приятно, – Грамматик еле заметно улыбнулся.
– Приятно? Скорее, поучительно. Прощай, господин Иоанн!
– Прощай, господин Феодор!
Оглянувшись вокруг, Студийский игумен заметил у стены Николая, смотревшего на него во все глаза, кивнул ему и направился к выходу. Пока они с Грамматиком разговаривали, в портик набилось довольно много народу. Люди слушали, качали головами, кивали, пожимали плечами, но никто не осмелился подать голос одобрения или возмущения – при взгляде на двух игуменов невольно вспоминалось Гомеровское: «Так на Олимпе бессмертные между собою вещали». Можно было созерцать это издали, глядя снизу вверх, но не участвовать самому…
– Кто это? – спросил Николай, когда они с Феодором были уже у дверей.
– Иоанн Грамматик.
– Ианний?!
Николай обернулся. Иоанн смотрел им вслед, и на губах его играла странная улыбка – студит не смог понять, что за ней скрывалось: насмешка или… некая тонкая печаль?..
– Думаю, он никогда не согласится с нами, – говорил Феодор, рассказывая по возвращении Навкратию о неожиданной встрече. – Он создал очень стройную и логичную систему. Если можно так сказать, слишком логичную.
– И из гордости не захочет от нее отказаться… как от красивого творения своего ума? – спросил Николай.
– Конечно, гордость тут играет свою роль, – ответил игумен после небольшого молчания, – но дело не только в ней.
– Да, – кивнул Навкратий. – Когда я с ним встречался… он всё-таки признал, что тогда ему нечего было мне возразить. Теперь он нашел новый довод – этого самого «человека вообще»…
– Если вспомнить все доводы, которые он выдвигал в разное время, – задумчиво проговорил Феодор, – то возникает мысль, что ему нравится учение, где Бог оказывается, так сказать, как можно более духовным, высоким и далеким, неприступным… точнее, приступным, но далеко не каждому желающему и не сразу… Бог близкий к каждому, если так можно выразиться, «слишком близкий», его не устраивает. Он верит в воплощение, но не приемлет излишней, по его мнению, плотяности… Христова вера для него – учение еще более «для избранных», нежели это можно заключить из Евангелия. Возможно, это связано с особенностями его внутренней жизни – отчасти с успехами в умной молитве, а отчасти с гордостью. Недаром он говорил тебе, брат, – Феодор взглянул на Навкратия, – о том, что при молитве мы не должны воображать никаких икон.
– Ну да, – усмехнулся эконом, – а поклонение иконам уравнивает преуспевшего аскета с грубым простолюдином, высокообразованного философа с невежественным земледельцем!
– Что же получается? – воскликнул Николай. – Значит, и умная молитва приносит вред? Получается, если б он не так в ней преуспел, он не впал бы в ересь? Как странно!.. Но с чего ты взял, отче, что он в ней преуспел?
– Это видно по некоторым признакам, – сказал Феодор. – Но ты напрасно удивляешься, чадо. Умная молитва не всегда делает человека неуязвимым даже против грубых грехов и страстей, что же говорить о таком тонком грехе, грехе ума, как ересь! Неуязвимость перед бесовскими кознями дает только одно – смирение.
– Да, – усмехнулся Николай, – только вот многие уступают ереси или каким-нибудь каноническим беззакониям тоже «из смирения» – мол, если такой-то епископ или игумен это принял, то разве мы умнее его… и тому подобное.
– Неверно понятое смирение иногда бывает хуже гордости! – вздохнул Навкратий.
– Совершенно верно, – согласился Феодор. – Потому что люди забывают апостольские слова: «Подобает повиноваться больше Богу, чем людям».
16. Женщина и философ
(Николай Гумилев)
- И звезды предрассветные мерцали,
- Когда забыл великий жрец обет,
- Ее уста не говорили «нет»,
- Ее глаза ему не отказали.
Ночь перевалила уже далеко за середину. Грамматик, в одном хитоне, сидел на табурете в «мастерской» перед печью, поставив ногу на перевернутый котелок, опершись локтем на колено и подперев рукой подбородок, и задумчиво наблюдал, как в тигле плавится металлическая смесь. Иоанн думал об императрице. Если он хочет эту женщину – а это уже не было вопросом, – то надо ли ему последовать своему хотению? Желание само по себе значения для него не имело, главным был вопрос о цели, и при решении подобных дилемм игумен исходил не из представлений о грехе или добродетели, не из соображений об осторожности или неосторожности, не из предвидения тех или иных последствий: нужно было понять, будет ли то, что ему хочется сделать, сопряжено с неким опытом – и каким именно. Грамматик знал, что если здесь возможен опыт из доселе неизвестных ему, то страсть исследователя будет требовать его осуществления, пока не возьмет свое. Если же ничего нового он тут не узнает и не испытает, то нужно было подумать, как дальше противиться соблазну, поскольку – теперь Иоанн вынужден был это признать – соблазн стал слишком велик.
Когда игумен сказал императрице, что главное – сохранять равновесие, он имел в виду не только августу: он и сам к тому времени ощутил под ногами «лезвие ножа», однако смотрел на происходящее как на своего рода игру. Но после того как встречи с Феклой стали ежедневными, он вскоре понял, что недооценил возможные последствия этого опыта. Императрица неожиданным образом отличалась от тех женщин, с которыми Грамматику когда-либо приходилось более-менее близко общаться. С одной стороны, она обладала удивительной непосредственностью и почти не умела притворяться – он читал в ее душе, как по рукописи, вышедшей из-под пера придворного каллиграфа. Но хотя Фекла понимала это, она не испытывала досады, а в последнее время уже и не смущалась, как прежде: проницательность Иоанна ее не пугала и не оскорбляла, а восхищала и даже облегчала ей общение с ним – она знала, что притворство перед ним бесполезно, и это ей нравилось, потому что притворяться она не любила. С другой стороны, он видел, что общение с ним, обсуждение прочитанного, иногда совместное чтение, беседы о разных учениях или жизненных явлениях доставляли ей огромную радость, причем не вследствие ее страсти к нему: ей действительно было интересно всё то, что она узнавала, – от истории до химии, от астрономии до богословия. Игумен и не подозревал, что женщина может быть столь благодарной слушательницей, столь жадной до знаний. Он мог быть с ней не только вежливым и любезным, но и холодным, высокомерным, насмешливым, – ее отношение к нему нисколько не менялось: она его любила – таким, каким он был. Ни одна из женщин, с которыми он прежде имел дело, не была к этому способна: все они любили его таким, каким себе – в той или иной степени ложно – представляли, а когда обнаруживали, что он не таков, как им хотелось, их любовь превращалась в ненависть. Правда, Мария сумела почувствовать в нем то, чего он тогда еще сам не осознавал, и не разлюбила, – но она и не захотела идти за ним, предпочтя остановиться там, где у нее было то, больше чего она взять не могла. Иоанн узнал об этом от Александра, когда после встречи в «школьной» догнал выбежавшего из залы монаха… Но Фекла любила, ничего не ожидая, ни на что не напрашиваясь, ничего не требуя. Она была счастлива тем, что могла получить от Грамматика сейчас, и он понимал, что она всю жизнь неосознанно стремилась именно к такого рода общению со сродным ей умственно и духовно человеком и теперь пила из найденного источника, как истомленный жаждой путник. Она принимала это как подарок судьбы, пользовалась им и радовалась, пока было можно. Игумен знал, что если он завтра скажет императрице, что больше не будет с ней встречаться и беседовать, она примет это безропотно и, хотя будет очень страдать, не перестанет любить его и ни в чем не обвинит. Всегда отмерявший свое общение с другими по некой внутренней мерке, для каждого своей, Иоанн с удивлением ощущал, что эта мерка для Феклы приближалась к бесконечности: он мог обсуждать с ней самые разные вещи, зная, что она не поймет его превратно и не осудит. И о чем бы у них ни заходила речь, разговор всегда выходил увлекательным и прекрасным в своей свободе и непосредственности.
Но всё-таки в императрице ощущалась некоторая скованность – конечно, из-за старания «сохранить равновесие». И Грамматик всё чаще задавался вопросом: а надо ли и дальше это равновесие сохранять? Если б в иные мгновения Фекла догадалась заглянуть в глаза игумену, она бы поняла, что не одна балансирует на лезвии ножа. И теперь, глядя на плавящийся на огне металл, Иоанн думал о том, что «непреклонная секира» в его груди, как-то незаметно и неожиданно для него самого, тоже расплавилась… Если бы дело было только в плотской похоти и, быть может, в подспудном стремлении потешить свою гордость через обладание первой женщиной Империи, то Грамматик продолжил бы жизнь аскета, борясь с охватившей его страстью. Однако сейчас он окончательно понял, что тут возможен опыт особенного рода: перед ним была женщина, которую он мог сделать счастливой, оставаясь самим собой, потому что она любила его именно такого, со всеми его вкусами, привычками и склонностями, принимая его совершенно, – и это было тем более ценно, что он был уже зрелым человеком, с понятиями вполне сложившимися и с характером, который мало кому приходился по нраву.
Но всё это казалось мелочью по сравнению с другим. Иоанн всегда думал, что настоящая дружба между мужчиной и женщиной невозможна, а известного рода страсти бывают замешаны на плотском влечении и определенных душевных стремлениях, вроде жажды властвовать или, наоборот, покоряться, – но теперь он увидел, что это не так. Чувство, внушенное ему императрицей, не сводилось к этому, оно было вызвано внутренним сродством, как это ни странно было признать. Женщина, выросшая из послушной девочки, не испытавшей в детстве никаких неприятностей и забот, настолько покорной, что она не усомнилась по прихоти отца выйти замуж за человека, который предстал перед нею впервые в день помолвки и совершенно ей не понравился; жена настолько смиренная и благочестивая, что она всю жизнь почти безропотно несла крест этого тягостного замужества и стремилась только к тому, чтобы исполнять заповеди и хорошо воспитать любимого сына; августа, быть может, самая непритязательная и невластолюбивая из всех, когда-либо живших в Священном дворце, – и мужчина, который с детства не желал покоряться никому и ничему, в юности скитался по жизни и много повидал и испытал, воспитал сам себя методично и жестко, превыше всего ценил свободу и независимость, любил научные занятия и опыты, презирал людей, потому что слишком хорошо их знал, и испытывал наслаждение, ощущая свою власть над другими и сознавая, что может их заставить делать то, что ему хочется; монах, постригшийся для того, чтобы иметь полное право на одиночество и жизнь, не связанную с другими людьми; игумен, вынужденный принять руководство обителью и ставший, вероятно, одним из лучших ее настоятелей, чрезвычайно уважаемым братиями, но не в силу особенного благочестия, а благодаря мощи ума, огромной учености и всё тому же знанию человеческой природы, – казалось, между ними не было ничего общего. Но, столкнувшись, благочестивая покорность и горделивая самодостаточность вдруг дали трещины – и открылись такие глубины, о которых не подозревали ни императрица, ни игумен. Никогда еще Грамматиком не овладевало это властное желание отдать другому человеку всё, без остатка, без расчета, без меры, – так, как Фекла была готова отдать себя ему. Иоанн всегда думал, что подобная близость между людьми вообще невозможна, но теперь понял, что ошибался. Женщина, над которой он мнил поставить очередной ни к чему не обязывающий опыт, довела его до того, что он должен был теперь поставить опыт, прежде всего, над самим собой.
За окном уже светало. Грамматик снял котелок с огня, опустил на подставку, разворошил угли и некоторое время задумчиво смотрел, как, переливаясь огненными волнами, они постепенно темнели. О возможных внешних последствиях предстоявшего опыта Иоанн не беспокоился. Снятие сана? Никогда не стремившемуся ни к сану, ни к чинам, игумену было не жаль их лишиться, а мнение людей его вообще не волновало: он всю жизнь проводил опыты – и только одно это интересовало его по-настоящему. Но даже если б он дорожил чинами и людским уважением, и тогда бы он без колебаний пожертвовал всем этим для предстоявшего опыта: ради познания самого себя любая цена не казалось ему слишком высокой. Гнев императора? Этот вопрос отпал еще до того, как Грамматик задался им всерьез. Как-то раз, когда Иоанн закончил чтение василевсу очередного отрывка из Симокатты, Михаил поблагодарил его и вдруг спросил:
– Отец игумен, ты ведь часто общаешься с моей супругой?
– Довольно часто, государь. Августейшая взяла в обычай советоваться со мной относительно выбора чтения и беседовать о прочитанном.
– Что ж, очень хорошо. Я рад, что вы с ней сошлись, – император чуть усмехнулся, – и что она довольна. А то я ее вкусы никогда не мог удовлетворить, ведь я, видишь, человек малоученый.
– Всегда рад угодить моим августейшим повелителям, – поклонился Иоанн и подумал: «Двусмысленно, однако!»
Теперь, вспоминая тот разговор, игумен понимал, что он, скорее, имел вполне определенный смысл… Оставалось только решить вопрос о месте встреч: оно должно было соответствовать понятию о счастье, и какой-нибудь угол, где то и дело пришлось бы опасаться, что помешают, явно не подходил. Грамматик подошел к столу, зажег светильник, взял лист папируса, открыл чернильницу и выбрал в деревянной коробочке перо поострее. Письмо вышло кратким: Иоанн просил брата, чтобы тот сразу же по получении записки приказал слугам убраться в его комнатах и в «Трофониевых пещерах», а особенно постараться об уюте в помещениях второго этажа, поскольку игумен собирается приехать с гостьей. Грамматик чуть заметно улыбнулся, представив, как удивится Арсавир, прочтя такое послание.
Днем они с императрицей, по обычаю, встретились в «школьной» и, усевшись за мраморный стол наискосок друг от друга, стали обсуждать повесть Илиодора о Хариклее, которую Фекла закончила читать накануне. Повесть ей чрезвычайно понравилась, она с восторгом похвалила и сюжет, и стиль, и тонкие зарисовки чувств и характеров героев. Иоанн согласился с августой.
– Между прочим, – сказал он, – по некоторым сведениям, автор был епископом Трикки.
– Это в Фессалии?
– Да. Но я сомневаюсь, что эта легенда верна. Очевидно, читателям хотелось возвести повесть в разряд благочестивого чтения, сделав автора христианином.
– Да еще и епископом! – Фекла улыбнулась. – Немудрено: повесть прекрасна! Я давно ничего не читала с таким интересом! Правда, может быть, это потому… – тут она запнулась и слегка покраснела.
– Это естественно: чем тема произведения ближе для читателя, тем оно ему интереснее, – в голосе Иоанна вдруг появилась странная мягкость, почти нежность, впервые за всё время их общения.
Сердце августы забилось так, что, казалось, могло выскочить из груди, и она проговорила, не поднимая глаз:
– Знаешь, Иоанн, я подумала о Феофиле, когда читала… Как там говорится: «Души их с первой встречи познали свое родство и устремились друг к другу, как к достойному и сходному»…
– Да, я тоже думаю, что это похоже на случившееся с юным государем.
Всё тот же мягкий, неожиданно мягкий тон! Императрицу вдруг охватило чувство, что разговор идет вовсе не о Феофиле. Хотя изначально она собиралась поговорить именно о сыне, но…
– Я еще подумала… Я думала об этом и раньше, когда читала «Пир»… Ведь не всегда бывает так, что люди… понимают такое свое родство с первой встречи… Но всё равно, если в них есть внутреннее сходство, то постепенно это обнаруживается…
– Да. Если это родство существует, то оно не может не проявиться рано или поздно.
Лицо Феклы на миг точно озарилось, но этот свет тут же утонул в залившем ее щеки румянце. Не в силах взглянуть на игумена, она молча теребила медную застежку книжного переплета, и пальцы ее дрожали. Иоанн смотрел на нее, зная, что́ сейчас произойдет, и испытывал чувство, подобное тому, какое, вероятно, могло бы охватить искателя «философского камня», если б он, совершая очередной опыт, увидел, как из темной смеси разных веществ вдруг начинает выступать золото.
«Я всё испортила! – между тем думала августа. – Зачем я об этом заговорила?!.. Он может признать это, просто признать, и ничего больше, а я… Я не могу так… И сейчас… всё будет кончено!» Его признание существующего между ними душевного родства наполнило ее невыразимым счастьем, но уже в следующий миг она ощутила, что больше не в силах противиться своей страсти, и эта мысль погрузила ее в отчаяние.
– Иоанн, прости! – наконец, произнесла она еле слышно. – Надо что-то делать…
«С этим ничего не сделать! И теперь мы не сможем больше встречаться!» – она готова была разрыдаться и с трудом договорила:
– Я больше не могу… сохранять равновесие!
– Больше и не нужно, – тихо сказал Грамматик и накрыл ее руку своей.
У Феклы на несколько мгновений прервалось дыхание, и она замерла, словно не веря в происходящее и боясь спугнуть внезапное «видение». Иоанн чуть сжал ее руку. Императрица тихонько вздохнула и подняла на него глаза. В них сияло такое счастье, что Грамматик вздрогнул. Они встали одновременно, игумен обогнул стол и подошел к августе.
– Философ решил, – проговорила она, слегка запрокинув голову и глядя в его глаза, мерцавшие и переливавшиеся, словно расплавленная сталь, – что этот опыт всё-таки будет ему интересен?
– Да. Он нашел «философский камень», в существование которого не верил.
Когда их губы соприкоснулись, Иоанн перестал понимать, как он мог так долго оттягивать начало этого «опыта», а Фекла поняла, что держалась на лезвии ножа только потому, что ее удерживали там руки, теперь обнимавшие ее.
Назавтра в это же время они были на втором этаже особняка с видом на Босфор, таким знакомым Иоанну с детства. Игумен любил Босфор, но о глубине этой любви догадывался, и то отчасти, лишь его брат. С самого малолетства Иоанн никому не жаловался на свои неприятности, не плакал и не ныл, не искал утешения ни у кого: он шел в сад, туда, откуда было видно море, иногда забирался на дерево, а когда подрос, стал перелезать через забор и убегать на берег, – он мог созерцать Босфор часами, словно черпая в его синеве успокоение и силы переносить горести и выуживая из его волн ответы на возникавшие недоумения. Как будто всегда один и тот же и всё же каждый раз иной, этот морской вид помогал Иоанну и сосредотачиваться, и отдыхать, утешал и ободрял. Это была тайная и глубокая любовь, Грамматик ощущал, что она взаимна, и потому никогда, даже при сильном ветре, не боялся вверять себя и свою лодку босфорским волнам, уверенный, что здесь с ним ничего плохого не случится. За годы, прошедшие после бегства из дома, Иоанн научился внутри себя находить силы для преодоления трудностей, но каждый раз, оказываясь на знакомых берегах, испытывал странный трепет и чистую, ничем не омрачаемую радость встречи со старым, мудрым, всё понимающим другом, а когда случалось, что душевные силы всё-таки иссякали, Грамматик знал, где почерпнуть их вновь. Но теперь он был счастлив поделиться «своим» Босфором: на этих берегах, которые одни знали его душу, он хотел впервые раскрыть ее, целиком и без оглядки, перед другим человеком – уверенный, что Фекла, как и Босфор, примет его всего, поймет и ни в чем не осудит.
После объяснения в «школьной» они расстались, договорившись, что на другой день императрица придет на пристань Сергие-Вакхова монастыря, переодетая «по-монашески», и Иоанн отвезет ее в «место, быть может, не лучшее на земле, но которое должно понравится божественной августе», как выразился он с улыбкой. Она пришла в черном хитоне и такой же пенуле, завернувшись в нее полностью и надвинув капюшон так, что лица почти не было видно; ее провожала Пелагия. Двум приближенным кувикулариям императрица доверяла совершенно: Пелагия и Афанасия были семнадцати лет взяты горничными для Феклы, за полгода до того дня, когда Сисинию вздумалось породниться с «будущими государями», с тех пор были при хозяйке неотлучно, знали и ее вкусы и характер, и то, как протекала ее жизнь с мужем; императрица сделала их кувикулариями после воцарения. Вечером, вернувшись из бани, она сказала Пелагии, что та завтра должна будет проводить ее на пристань, а на другой день встретить, и велела ей с Афанасией говорить всем, кто ни будет спрашивать августу, что она лежит с ужасной головной болью и никого не хочет и не может видеть, – это не вызвало бы подозрений, поскольку такие приступы с Феклой действительно иногда случались. Теперь, вероятно, они будут случаться гораздо чаще… Ну, что ж! Ведь она стареет… При этой мысли императрица едва не рассмеялась.
Пелагия, выслушав ее приказание, чуть улыбнулась и сказала:
– Да, государыня. Ты можешь ни о чем не беспокоиться.
Фекла не ощущала ни стыда, ни страха перед возможными последствиями. Еще недавно красневшая, когда ее одолевали греховные помыслы, сейчас, решившись на всё то, о чем прежде боялась помыслить, она не чувствовала ни смятения, ни каких бы то ни было колебаний: то, что произошло и еще должно было произойти, представлялось ей неизбежным и единственно возможным. Когда Иоанн взял ее за руку в «школьной», она про себя даже удивилась, как она могла так долго мучиться и пыталась бороться с тем, что нельзя было победить – и что побеждать было не нужно. Теперь ей казалась странной и неразумной вся прежняя борьба с собой: напротив, не отдаться полностью человеку, который целиком завладел ее душой и понимал ее почти без слов, было так же неестественно, как столько лет принадлежать телом человеку, с которым у нее не было никакой внутренней связи… Она почти стыдилась всей прежней жизни с мужем, бесполезных попыток принудить себя чувствовать то, чего она не чувствовала, довольствоваться тем, чем она не могла удовлетвориться, – и она нисколько не стыдилась того, что собиралась сделать. Только умом она понимала, что окончательно падает в грех, но это сознание никак не задевало ни души, ни сердца. «Я не могу иначе. Это никак не может быть иначе», – она прошептала эти слова, возвратившись из «школьной» и войдя в свою молельню, она повторила их про себя, ложась спать, – и в ее сердце не было смущения. Когда Иоанн поцеловал ее, она поняла, как давно и как сильно он хотел этого, и доверилась ему полностью и не раздумывая: раз он решился на это, значит, так нужно, значит, это не может и не должно быть иначе, – и теперь она ничего не боялась.
Иоанн, проводя Феклу на корму, к скамье под навесом, сказал шепотом:
– Я вижу, ты догадалась снять пурпурную обувку, августейшая.
– Ты считаешь меня совсем тупицей? – она возмущенно взглянула на него.
Глаза его смеялись, она тоже улыбнулась и прошептала:
– Мне кажется, всё это происходит во сне.
– Я читал, что некие восточные мудрецы полагали, будто сны это вторая жизнь, иногда более действительная, чем здешняя… А это что? – он посмотрел на небольшой холщовый мешок у нее в руках.
– Увидишь, – улыбнулась она лукаво.
Небольшая парусная лодка, легкая и очень быстроходная, на которой они отплыли из столицы, принадлежала лично игумену. Гребцами на ней состояли слуги Арсавира – тот переуступил их брату, и Грамматик хорошо платил им за то, чтобы они всегда содержали лодку в готовности, ни о чем не спрашивали и держали язык за зубами. Холодный стальной взгляд, сопровождавший изложение условий работы, раз и навсегда лучше слов пояснил, что они должны быть исполнены в точности. Дежуривший на пристани монах тоже не задавал лишних вопросов: сергие-вакховы братия уже давно усвоили, что не следует ни интересоваться, ни обсуждать с кем бы то ни было, куда и зачем ездит и с кем общается их настоятель. Впрочем, если б они могли видеть игумена, уплывающего в лодке с женщиной, никому бы из них не пришло в голову истинное объяснение этому: с одной стороны, за прошедшие годы они искренне полюбили Грамматика, уважали его как подвижника и духовно умудренного руководителя и полностью ему доверяли; с другой стороны, простая логика подсказала бы им, что игумен вряд ли действовал бы так открыто, если б замыслил что-то недолжное… Кто еще мог увидеть Иоанна и что подумать о нем, его не интересовало: игумен никому не собирался давать отчет в своих действиях – по крайней мере, никому из земнородных.
Высадившись на маленькой пристани, принадлежавшей Арсавиру, императрица с игуменом поднялись немного вверх по выложенной камнями лестнице с широкими ступенями, походившими на миниатюрные террасы, прошли вдоль высокой кирпичной стены, окружавшей особняк, и проникли внутрь через небольшую дверь, ключ от которой Иоанн держал при себе. Он пользовался этим входом, когда не хотел, чтобы Арсавировы домочадцы знали о его приезде; в выделенную для него часть особняка также вела с улицы отдельная дверь. Брат выполнил просьбу Иоанна, и здесь всё сверкало чистотой. Во время краткого нашествия мятежников и зимней осады Города особняк не пострадал: когда стратиоты из армии Фомы, вломившись, стали требовать зерна и мяса, Арсавир немедленно согласился выдать им того и другого, сколько угодно, но взамен очень просил оставить и его, и местных жителей в покое. Мятежники действительно никого и ничего не тронули: Фома заботился о популярности и приказал не безобразничать и не грабить в окрестностях столицы, требуя у жителей только съестных припасов, мулов и лошадей. Фекла была удивлена, узнав, что Грамматик вырос в таком доме. Она знала от Феофила, что есть некое место на Босфоре, куда Иоанн время от времени удаляется «пофилософствовать», но не представляла себе, что это столь богатый особняк. Еще больше она поразилась, когда игумен показал ей подземные помещения: там было уютно и так легко дышалось – совсем не верилось, что находишься на несколько этажей под землей. Пока императрица разглядывала «пещеры», бо́льшая часть которых была занята пифосами с вином, маслом и зерном, Иоанн задумчиво наблюдал за ней. Когда они поднялись на верхний уровень пещер, в комнату, отделанную под жилую, Фекла с улыбкой повернулась к игумену:
– Такое место – просто мечта отшельника!
– Да, – усмехнулся Грамматик, – когда тут есть свет, книги, сносная еда и постель, а не темнота, каменный пол и хлеб с водой раз в день.
Она широко распахнула глаза.
– Отец, – пояснил Иоанн, – запирал меня тут в детстве, когда я не слушался. Тогда здесь было далеко не так уютно. Я провел тут в общей сложности несколько недель и с тех пор недолюбливаю эти подвалы.
– Значит, ты после этого сбежал из дома? – тихо спросила императрица.
– Нет. Но именно сидя здесь во тьме на холодном полу, я решил, что непременно сбегу. Взгляни! – отогнув ковер на стене, он приблизил светильник к каменным плитам, и Фекла разглядела нацарапанные каким-то тупым предметом слова: «Никогда не плакать!»
– Ты это исполнил?
– Да.
Иоанн предложил императрице сесть в кресло, над которым на каменном выступе горел круглый светильник из разноцветных стекол, а сам опустился на баранью шкуру, брошенную у стены напротив в нише прямо на пол, и немного рассказал Фекле о своем детстве, о том, как он «воевал» с отцом из-за иконописи, как сбежал из дома, скитался и бедствовал, начал зарабатывать на жизнь и даже едва не стал известным живописцем, как учился, живя в столице, а потом начал преподавать. Рассказал вкратце и об отношениях с Марией, и о том, чем они закончились, и почему Мария не приняла его предложения бежать – то, что сообщил ему Александр.
– Она была права: я действительно скоро соскучился бы с ней. Но не потому, что больше всего люблю науки, а потому, что она, если можно так сказать, видела во мне существо высшего порядка… Любовь, основанная на восхищении, преклонении, страсти, но не на дружбе. Я понял это гораздо позже. Но в своем восхищении она была очаровательна, а я был молод и тщеславен… Впрочем, поначалу я не собирался заводить дело так далеко. Но меня захватило, не смог удержаться. Не смог, не захотел… Но что теперь говорить! С тех пор я решил, что мне лучше держаться подальше от женщин: близкое знакомство со мной приносило им мало хорошего. К тому же мне представлялось, что все они примерно одинаковы, а философия и науки влекли меня неизмеримо больше, чем какие-либо женщины. Но, – его лицо было в тени, и Фекла скорее угадала, чем увидела тонкую улыбку, – даже монашество не спасло меня.
Она перебралась с кресла на шкуру и села рядом с Грамматиком.
– Всё-таки одну женщину ты сумел сделать счастливой, философ!
– Еще не совсем, – улыбнулся он, – но сегодня же исправлю это положение, – он сжал ее руку и тут же выпустил: вчерашний поцелуй в «школьной» разжег в них обоих столь сильный пламень, что Иоанн опасался не совладать с собой. – Только не здесь. Наверху.
Когда они поднялись на второй этаж, Грамматик снял мантию, повесил на крючок у двери и ненадолго покинул Феклу, чтобы зайти к Арсавиру.
– Ну, брат, ты меня поразил! – воскликнул тот, когда они поздоровались. – Ты не пошутил? Ты действительно… приехал с гостьей?
– Да, и прошу тебя велеть слугам приготовить ужин на двоих и доставить наверх. Пусть постучат и оставят у двери на столе, я заберу. Скажи им, чтобы старались хорошенько – как если бы принимали саму императрицу! Да не смотри на меня так, – рассмеялся игумен. – Монахам тоже иногда бывает нужно развлечься. Кстати, я намерен так развлекаться и дальше… неопределенное время. Так что не удивляйся, если я теперь часто буду наведываться сюда не один.
Арсавир молча глядел на младшего брата, и в его голове прыгали мысли: всё-таки шутит – хотя как будто и нет – с кем же он приехал – чем они будут заниматься, неужели этим – а как же монашество, священство – зачем ему это нужно – он всегда презирал женщин – или он поддался тому же искушению, что и прочие – но как это могло случиться с ним – это ему не свойственно – и это на пятом десятке – не сошел ли он с ума – да нет, не похоже – но что же всё это значит, дьявол побери?!..
– Да ничего особенного не значит, – сказал Иоанн, наблюдавший за ним, прислонясь к дверному косяку. – Просто новый опыт… сродни герметическому. Понимаешь?
– Ах, опыт… – проговорил Арсавир. – А что же она, эта твоя гостья… она согласна, чтобы ты проводил с ней опыт?
– Да, и весьма счастлива в нем участвовать, – улыбнулся Иоанн. – Антисфен Афинский был прав, когда сказал, что сходиться нужно только с теми женщинами, которые будут тебе за это благодарны… Впрочем, нет нужды говорить об этом, – он взялся за ручку двери. – Распорядись же, брат, насчет ужина. А мы заранее тебя благодарим!
– Постой… Что вам готовить-то? Постное или как? Сейчас ведь и рыбы не положено…
– В брачных чертогах не постятся, как известно, – и игумен с улыбкой скрылся за дверью.
Возвратившись к себе, Грамматик остановился у порога, изумленный, и машинально закрыл за собой дверь на засов. Императрица стояла у окна в темно-красной тунике – той самой, в которой когда-то пришла в библиотеку «бросить вызов философу». Расшитый жемчугом узкий пояс с кистями, завязанный лишь на один узел, обхватывал ее талию, распущенные волосы струились по спине, на ногах были пурпурные башмачки. Черные одеяния и пустой холщовый мешок были сложены на сундуке в углу. Фекла с улыбкой подошла к Иоанну, положила руки ему на плечи и сказала:
– Знаешь, я иногда мечтала об этом… о том, что делаю сейчас, но была уверена, что этого никогда не будет, потому что философ не снизойдет… и потому, что это грех… И потом каялась в таких мыслях. А теперь, когда всё сбывается, я не чувствую никаких угрызений совести… Оказывается, я порочная женщина!
– О, безусловно! – тихо рассмеялся он, обнимая ее. – Так же как и я – наипорочнейший монах, – он легким движением руки развязал ее пояс, и тот пестрой змеей соскользнул на пол. – Я велел сотворить для нас ужин, достойный божественной августы, и пока его готовят, у нас есть время предаться пороку!
Когда ужин прибыл, они, одевшись, устроились на террасе с видом на Босфор: пили вино, закусывая сыром, жареной рыбой и оливками, следили за чайками, изредка взглядывали друг на друга, улыбались и снова устремляли взгляд на море. Март выдался теплым, но Иоанн на всякий случай закутал ноги императрицы шерстяным одеялом. Они почти не разговаривали; только когда солнце стало клониться к закату, а ветер с моря посвежел, они вернулись в дом, Грамматик закрыл двери на террасу, затопил камин и расстелил перед ним большой, мягкий и толстый ковер, они уселись на него рядом, глядя в огонь, заговорили – и время исчезло, исчезло всё: земля, море, небо, самый дом, где они находились. Только огонь и они двое, и впереди целая ночь: разговоры, ответы на незаданные вопросы, страстные ласки тут же на ковре, в красноватом свете камина, наполняемые вином кубки, снова разговоры… Когда поднявшееся над Босфором солнце заглянуло в комнату, императрица спала на узкой кровати, укрытая одеялом, а хозяин дремал перед потухшим камином, завернувшись в собственную мантию. На полу у камина стояли на серебряном подносе пустой кувшин, два кубка из лилового стекла и тарелка с несколькими дольками апельсина, а рядом валялись туника из красного шелка и два пурпурных башмачка.
…Спустя две недели, когда Иоанн с Феклой были в «школьной» и разбирали Аристотелеву «Большую этику», раздался стук в дверь, и сразу, не дожидаясь ответа, вошел император. Вторжение застало любовников врасплох: обычно их никто здесь не беспокоил, а если кто и стучал, то дерзал открыть дверь только после разрешения императрицы. Войдя, Михаил усмехнулся: его жена сидела у окна в глубоком кресле, голова ее была непокрыта – шелковый мафорий, небрежно сброшенный, сползал по плечу на пол; Грамматик примостился тут же на широком подлокотнике кресла с пером в руке и что-то показывал августе в книге, лежавшей у нее на коленях. Иоанн мгновенно поднялся императору навстречу, а Фекла схватилась было за мафорий, но сообразила, что всё равно уже поздно, и, закрыв книгу, подумала отстраненно: «Интересно, прибьет он нас или нет?»
– Прошу прощения, что помешал вам, – сказал Михаил. – Но я не отниму у вас много времени. У меня есть одна новость, которая, возможно, будет вам интересна.
– Мы очень внимательно слушаем, трижды августейший, – ответил игумен.
Казалось бы, это превосходило последнюю меру наглости, но император только ухмыльнулся.
– Сегодня утром разведка донесла, что мятежники перешли в наступление. Возможно, через несколько дней они будут у стен Города и опять начнут осаду. В любом случае, с завтрашнего дня все ворота будут закрыты, и везде будет поставлена военная стража. Все пристани тоже будут закрыты, и суда будут выпускать только по разрешению логофета дрома. Вот, собственно, всё, что я хотел довести до вашего сведения. Счастливо оставаться! – и, не дожидаясь какого-либо ответа, он покинул залу.
Императрица с глубоким вздохом откинулась на спинку кресла и рассмеялась.
– Так он и правда всё знает! А я никак не могла поверить, что эти его намеки… Он уже давно такие странные вещи иногда говорил мне, знаешь!.. Ты понимаешь, что это значит, Иоанн?
– Еще бы. Но, сказать честно, я подозревал это…
Михаил знал всё с того самого дня, когда Фекла в первый раз вернулась с Босфора. В последнее время он нечасто заходил на женскую половину императорских покоев, но в тот день незадолго до вечерни, проходя мимо, захотел взглянуть на дочь и внучку. У невестки он застал и жену, хотя не ожидал этого – заметив, что ни вечером накануне, ни утром императрица не была на богослужениях в Фарском храме, которые обыкновенно старалась не пропускать, император подумал, что она, видимо, опять слегла с головной болью… Феодора качала колыбель с малышкой, Елена, сидя на ковре, складывала башню из кубиков, Фекла читала книгу, трое кувикуларий занимались вышивкой, – всё, как всегда. Но когда Михаил взглянул на жену, он невольно вздрогнул и, пока находился в комнате, то и дело украдкой посматривал на нее. Он понял, что ошибся, когда-то сравнив ее с увядавшей розой, превратившейся в «бутончик»: нет, она никогда не была розой, она вообще никогда не цвела, но была просто зеленым стеблем без цветов, потом действительно появился бутон – и теперь он стал распускаться. Уже перед самым уходом император окинул жену взглядом и сказал без тени иронии:
– Ты сегодня очень красива, дорогая!
Фекла посмотрела на него как-то странно и спросила:
– Знаешь ли ты, что ты впервые в жизни сказал мне эти слова?
Михаил внезапно растерялся. Феодора перестала качать колыбель и любопытно взглянула на свекровь, потом на свекра. Кувикуларии сделали вид, что ничего не слышали. Фекла почти неуловимо улыбнулась и опустила глаза в книгу, – и в улыбке жены император вдруг увидел словно отражение знакомой улыбки «философа».
– Да, я… непоэтичен, – пробормотал Михаил и, попрощавшись, вышел.
Он сразу же послал одного из слуг в Сергие-Вакхов монастырь и велел потихоньку узнать у кого-нибудь из монахов, служил ли игумен накануне вечерню, а затем полунощницу и утреню, и если нет, то по какой причине. Слуга принес ответ: Иоанн вчера днем уехал на Босфор к брату и вернулся назад сегодня незадолго до полудня. На вопрос, было ли это вызвано желанием отдохнуть, монастырский екклесиарх простодушно заметил, что вряд ли, поскольку игумен не выглядел усталым, но, напротив, «был воодушевлен – наверное, ездил поделиться с братом новыми идеями».
«“Воодушевлен”… Что ж, всё понятно!» – усмехнулся про себя император и задумался.
Ревности он не чувствовал, желания скандалить с женой тоже не было. Правда, он всё же ощущал некоторую растерянность: хотя он давно делал Фекле разные намеки по поводу ее отношения к Грамматику и даже, не удержавшись, самому игумену намекнул о слабости императрицы, это было во многом «представлением», – Михаил всё-таки не ожидал, что Иоанн поддастся искушению. Но теперь император внезапно почувствовал себя сводником. Он смутно помнил, что по законам Империи мужу, знавшему о прелюбодеянии супруги и не обличившему ее, полагалось даже какое-то наказание, однако мысль об этом не вызвала у Михаила ничего, кроме усмешки. Его занимало другое: «Интересно, действует ли в этом мире закон возмещения? Если я дам одной голубке порезвиться, прилетит ли когда-нибудь другая в мою голубятню?..» Император закрыл глаза, и перед ним возникло лицо кареглазой женщины, цвета волос которой он не знал…
Сейчас, когда он затворил дверь «школьной» и медленно пошел по коридору, это лицо опять встало перед ним. «Мечтать не вредно… – подумал император, стискивая зубы. – Хотя и пользы от этого тоже никакой!» А всё же интересно, смогла бы она, предложи он ей это, поступить так же, как Фекла с Иоанном?
«Вряд ли… Я ведь не философ… Не умею быть таким… обаятелем!..»
В это время в «школьной» игумен стоял у окна в некоторой задумчивости.
– Если б мне кто-нибудь сказал, что такое возможно, я бы не поверила! – воскликнула Фекла. – Впрочем, он меня никогда не любил… Должно быть, ему и не жаль! – она помолчала. – Но почему он так легко меня отпустил? Это всё же странно! Всё-таки жена… приличия…
– Быть может, понял, что всё равно не сможет удержать.
– Думаешь? Да, тут он не ошибся! – императрица улыбнулась.
– Интересно, как долго продлится осада, – сказал Иоанн. – Этот мятеж с самого начала недооценили, а теперь Бог знает, чем всё это закончится и когда.
– Неужели они могут взять Город?
– Вряд ли. Но неприятности доставят.
– А что же будет с твоим особняком? – с беспокойством спросила Фекла.
– Надеюсь, ничего страшного, как и зимой.
– Дай Бог! Было бы жалко, если б его разграбили… Там так хорошо! Но где же мы теперь будем… пить вино?
Их глаза встретились.
– Это вопрос, – сказал Грамматик.
– Это не вопрос! – тряхнула головой Фекла. – Если мой муж оказался таким любезным, то… нам ничто не мешает это делать прямо у меня!
Иоанн взглянул на нее с некоторым удивлением и улыбнулся.
– С каких пор, августейшая, ты стала такой наглой?
Она вскочила с кресла и в следующий миг прижалась к Грамматику.
– С тех пор, как повелась с тобой, почтеннейший отец! Правда, я хорошая ученица?
– Совершенно прекрасная!
– Тогда поцелуй меня… Ну, нет, не так, философ, ты умеешь целоваться лучше!
– Мы всё же пришли сюда ради Аристотеля, – сказал он с шутливой строгостью.
– Ты прав. Продолжим! – она опять уселась и положила книгу на колени. – Но сегодня же ночью я жду от тебя и иных уроков, на новом месте! – ее глаза озорно блестели.
– «С судьбой не воюют и боги»!
17. «Пророчества не уничижайте»
(Гомер, «Одиссея»)
- Правду сказал ты, – вполне заслужил он подобную гибель.
- Так да погибнет и всякий, кто дело такое свершил бы!
В начале апреля мятежники вновь подошли к Константинополю и направили удар на Влахерны. К этому времени император собрал уже немалое войско, но армия Фомы по-прежнему превосходила его численностью, и Михаил решил попытаться провести с восставшими переговоры, хотя Феофил не поддержал эту идею, сказав:
– Лить воду в дырявую бочку!
Он оказался прав: когда Михаил с башни обратился к мятежникам, уже получившим от Фомы сигнал к бою и подступившим к стенам Города, с речью, которую по фразе повторяли вслед за ним через металлические рупоры два глашатая с такими мощными голосами, что их прозывали «Иерихонскими трубами», – то ни обещания многих благ и свободы от наказания в случае перехода на сторону императора, ни увещания «не марать себя кровью единоплеменников и братьев» не возымели никакого действия. Восставшие осыпали Михаила насмешками.
– Что-что? – кричали они. – Громче, шепелявый, тебя не слышно! Твои крикуны плохо стараются, а ты сам – как рыба, рот разеваешь, а слов не слыхать! Испугался? То-то! Скоро мы спустим тебя со стены вниз головой!
Когда послышались первые дерзкие ответы бунтовщиков, император сделал знак рукой логофету дрома. Тот склонил голову и быстро скрылся в узком проеме, откуда уходила вниз лестница, а Михаил вновь обратился к осаждавшим, вызвав очередной шквал насмешек. Мятежники еще продолжали выкрикивать разные оскорбления в адрес василевса, когда сразу из нескольких ворот Константинополя с боевым кличем высыпали императорские отряды и бросились в атаку. Вылазка защитников столицы была чрезвычайно удачной: множество бунтовщиков было перебито, остальные ударились в бегство, однако Михаил велел не преследовать их, поскольку у Фомы в резерве были еще большие силы и отдаляться от стен Города было опасно. Но особенно блистательной победой увенчалось морское сражение: корабли Фомы тоже пошли было в атаку и начали метать камни по выплывшим им навстречу императорским триерам, но при виде внезапно вышедших из Города и устремившихся в битву войск среди мятежников началось смятение. Почти все корабли, повернув назад, поспешили к берегу, некоторые тут же перешли на сторону императора, а другие поспешили к сухопутному войску бунтовщиков. Императорские корабли преследовали их и часть мятежных судов сожгли, а большинство захватили в плен. Так Фома потерял всю ту немалую часть своего флота, которая к тому времени находилась у стен Константинополя.
Узнав о том, сколь бесславно окончилась первая же атака мятежников на столицу, Григорий Птерот крепко задумался. Понаблюдав за Фомой во время зимовки, он проникся к нему презрением, видя его пристрастие к попойкам и то, что он человек не столь далекого ума, как это могло бы показаться, глядя на первоначальные успехи его бунта. Как раз за несколько дней до того как Фома предпринял новый штурм столицы, к Григорию тайно пробрался студийский монах Захария с письмом из осажденного Города. Птерот думал, что письмо от игумена Феодора, с которым он прежде состоял в переписке, но это оказалось послание от самого императора. Михаил предлагал ему уйти от мятежника, обещая прощение и даже пост стратига, а также сообщал, что супруга и дети Григория находятся в тюрьме с тех самых пор, как Птерот присоединился к Фоме, но в случае «благоразумного принятия» императорского предложения будут отпущены на волю. Когда войско Фомы потерпело поражение, а флот в Золотом Роге потерян, Григорий, проведя в размышлениях всю ночь, решил, что если он перейдет на сторону императора, тот, конечно, может обмануть насчет помилования… но может и не обмануть; если же он останется с мятежниками до конца, то точно поплатится головой, – и он написал императору, что принимает его предложение, обещая немедленно начать военные действия в тылу бунтовщиков. Захария с письмом Птерота отправился в Константинополь, а Григорий, отделив часть войска, находившегося под его командованием, начал военные действия в тылу у Фомы. Тот, опасаясь, как бы Григорий не переманил на свою сторону другие войсковые части, и желая устрашить собственных стратиотов и военачальников на случай, если кто-нибудь из них тоже замышляет измену, собрал конный отряд из наиболее опытных и храбрых воинов и, не снимая осады с Города, совершил бросок в тыл, завязал сражение с Птеротом, обратил его в бегство и, настигнув, убил.
Окрыленный удачей, Фома возвратился под стены Царствующего Города, разослал везде письма о том, что одержал блестящую победу, и приказал остальной части своего флота, стоявшей в это время у берегов Эллады, двигаться к столице. Дождавшись попутного ветра, флот достиг бухты Виридис на северном берегу Пропонтиды, между Гераклеей и Константинополем. Но в столице уже были осведомлены о морском маневре мятежников, и императорский флот, вооруженный огнеметами, незаметно приблизился к бухте и, внезапно напав на бунтовщиков, часть судов сжег, а остальные захватил, за исключением нескольких быстроходных кораблей, которые ускользнули и, войдя в Золотой Рог, поспешили соединиться с сухопутным войском Фомы. С тех пор значительных действий на море мятежники уже не предпринимали.
На суше бои под стенами Города шли с переменным успехом, стычки чередовались с перестрелками. Императорскими войсками руководили Олвиан и Катакил, но поскольку ни одна сторона не получала решительного перевеса, василевс начал и сам вместе с отрядами выходить на врага, чтобы воодушевить защитников столицы. Феофил, заметив, что отец несколько утомлен, сказал, что вполне может время от времени сменять его. Михаил одобрил желание сына, зато императрицы испугались. Когда оба императора вечером накануне очередной, запланированной на утро вылазки, руководить которой должен был Феофил, сообщили об этом супругам, Фекла только молча прижала руку к груди, а Феодора, побледнев и выронив из рук вышивание, поднялась и, сделав два шага к мужу, остановилась. Ей хотелось броситься и обнять его, но в его глазах сквозил тот странный холодок, который всегда сдерживал ее в подобных порывах.
– Ты поведешь войско? Но ведь… это опасно! – воскликнула она.
– «Тех, кто чересчур любит жизнь, по большей части неизменно постигает гибель», – сказал молодой император с усмешкой, – как прекрасно выразился историк Прокопий из Кесарии, которого ты, впрочем, не читала. Правда, если б и читала, всё равно, скорее всего, сказала бы ту же глупость. А что, по-твоему, отец будет сражаться, а я – сидеть за стенами?
Ему хотелось прибавить: «Рядом с тобой?» – но он сдержался и сказал только:
– Неплохое занятие для императора!
«Кассия никогда бы не сказала такой глупости!» – подумал он с горечью, и снова боль повернулась в его сердце острым ножом.
– Мы не удерживаем тебя, Феофил, – сказала Фекла, стараясь казаться спокойной, хотя бледность выдавала ее. – Но мы хотим, чтобы ты был осторожен…
– Не бойся, мама, я буду вести себя хорошо.
Эти слова, которые она не раз слышала от сына в детстве, в другое время вызвали бы у нее улыбку, но сейчас она едва не расплакалась. Феодора стояла, как побитая, Феофил не смотрел на нее. Михаил внимательно оглядел всех троих, усмехнулся и сказал:
– Уж эти женщины! Вечно делают трагедию на пустом месте! Пойдем, Феофил.
Молодой император направился к двери, ни говоря больше ни слова. Михаил взглянул на невестку и жену чуть насмешливо и поднял руку в прощальном жесте. В коридоре он догнал сына.
– Феофил!
Юноша обернулся. Михаил сказал, глядя ему в глаза:
– Они, конечно, квохчут, как перепуганные курицы… Но ты всё же смотри, будь осторожен… Не надо глупостей. Тем более, что нет глупостей глупее, чем те, что делаются из-за женщины.
– Разумеется, – ответил Феофил, а в глазах его читалось: «Но мне больно».
Михаил положил руку ему на плечо.
– Да, я понимаю, – сказал юный император, – надо быть сильным.
Наутро после обычного молебного пения патриарх лично преподал благословение Фео филу и архонтам, и императорский сын повел отряды на мятежников. «С нами Бог!» – трижды восклицали воины каждого отряда, выходя из ворот Города. Конечно, Феофил волновался, когда в полном боевом вооружении, в тяжелом панцире, со шлемом на голове, верхом на коне, защищенном железными налобником и нагрудником, впервые выехал на настоящее сражение – но он никому и ни за что не признался бы, что у него на миг замерло сердце, когда он увидел приближающуюся конницу Фомы. «Ничего, – усмехнулся он про себя, – Парис должен стрелять метко! Самое время показать, чему я научился… В твою память, крестный!»
Император занял место ипостратига в первой линии, а Катакила отправил во вторую, вспомогательную. Они двигались вниз по склону, хотя и едва заметному, но всё же открывавшему достаточный обзор войска противника. Когда первые ряды сошлись с врагом и разгорелся бой, Феофил снял с плеча лук, сделанный из двух длинных рогов, вынул из колчана и заложил стрелу, одновременно осматривая строй противника. Прекрасно знавший правила построения ромейского войска – а иных правил мятежники не знали, – Феофил быстро вычислил вражеских архонтов: именно на них он собирался направить свои стрелы. Высмотрев одного из сотников, император приподнял лук и, дождавшись момента, когда тот, готовясь бросить дротик, повернулся так, что шея оказалась не закрыта щитом, быстро натянул тетиву до самого уха и выстрелил. Он видел, как всадник упал, пораженный в горло его стрелой, но странным образом ровно ничего не ощутил – словно бы он не убил впервые в жизни человека, хоть и врага, но всё-таки живого человека, к тому же согражданина, а просто жизнь убитого прервалась в силу обыденной необходимости. «Так вот это и происходит? И это всё?» – подумал он почти с разочарованием, снова натягивая тетиву. Но кто-то должен победить – а значит, кто-то должен быть убит, иного не дано.
Феофил стрелял и уже не задумывался о том, скольких человек отправил к праотцам или серьезно ранил, – а иного не приносил ни один из его выстрелов: Константин недаром сравнивал друга с троянским царевичем. После того как стрелами Феофила были поражены несколько передовых архонтов и более двух десятков декархов, отряды мятежников смешались и под усилившимся напором императорского войска ударились в бегство. Ромеи немного попреследовали бегущих и перебили некоторое количество врагов, после чего Феофил приказал собрать трофеи, прежде всего оружие, а также тела немногих павших из императорского войска, и возвращаться в Город. Со стен их встречали восторженными криками, а логофет дрома приветствовал василевса гомеровскими стихами:
«Так, Аполлон дальномечущий, ты и великий и тяжкий Труд рассыпал ахеян и предал их бледному бегству!»
С отцом они увиделись за ужином, когда Феофил уже успел побывать в бане и смыть с себя пот, пыль и усталость.
– Ну, я рад за тебя! – сказал Михаил. – Нам, видимо, еще предстоят беспокойные дни. Проклятый Фома! Я недооценил его: он всё-таки собрал большое войско, дьявол бы его взял!
– Быть может, стоит пригласить на помощь болгар? – спросил Феофил. – У нас ведь с ними мирный договор, и заметь: они до сих пор не предприняли ничего против нас, хотя Фома давно хозяйничает во Фракии, и они могли бы воспользоваться этим, чтобы напасть на приграничные области. Значит, Омуртаг честен и стремится соблюдать договоренности, а там ведь, насколько я помню, говорилось и о военной помощи. Возможно, настала пора этим воспользоваться!
Михаил нахмурился.
– Просить помощи у варваров? Не лучший выход!
– Да, конечно, это некоторое унижение для державы, но мы и без того достаточно унижены – уже второй раз попали в осаду и не имеем сил отразить тех, кого сами же раньше презрительно называли «сбродом»!
– Хм… Это, конечно, правда, но… Нет, пока подождем! Быть может, справимся сами.
Однако, как у Фомы не было сил взять столицу штурмом, так и у Михаила – окончательно прогнать мятежников. Бои продолжались всё лето и всю осень. Несмотря на то, что войско бунтовщиков постепенно таяло, Фома упорно продолжал осаду и не ушел даже с наступлением зимних холодов. И хотя нехватки еды и воды в Городе не ощущалось – после уничтожения большей части флота Фомы продовольствие в столицу доставлялось морем без особых затруднений, – однако Михаил начинал опасаться, что затяжная осада вскоре может вызвать недовольство в народе. Наконец, посоветовавшись с Синклитом и патриархом, император последовал совету сына и обратился за помощью к болгарам, разрешив им в случае победы над мятежниками забрать военную добычу и пленных.
Весной, когда прошел уже год с начала второй осады Города бунтовщиками, войска хана Омуртага внезапно появились во Фракии и, совершив быстрый бросок, встали лагерем на востоке от Ираклии, на Кидуктской равнине. Весть о вступлении болгар в пределы Империи заставило Фому снять осаду и отправиться против нового врага. Завязалось сражение, мятежник был наголову разбит, всё его войско обратилось в бегство и рассеялось по окрестностям. Пока Фома думал о том, как опять собрать своих воинов и приготовиться отразить нежданного противника, Омуртаг, взяв богатую добычу и пленных, не стал более медлить во Фракии, но удалился восвояси, очень довольный и гордый победой, послав в Константинополь гонца с сообщением о поражении Фомы. Когда о случившемся узнали на тех мятежных кораблях, что еще стояли в Золотом Роге, их команды немедленно отправили посланцев к императору и перешли на его сторону. Разведка доносила, что войско Фомы сильно поредело. Становилось ясно, что игра бунтовщика проиграна. В столице все воспрянули духом, и Михаил стал готовиться к решающему походу против Фомы. Тот, тем временем, собрав остатки своих отрядов, встал лагерем за несколько стадий к западу от Города, на поле Диабасис, при впадении в Пропонтиду Черной реки. Отсюда мятежники продолжали совершать вылазки и грабить окрестности и пригороды столицы, но под стенами Константинополя больше не появлялись.
В начале мая Михаил с верными Олвианом и Катакилом в сопровождении отборного войска выступил из Города и двинулся на Фому. Мятежник решил прибегнуть к хитрости и, чтобы разделить неприятельские полки, приказал своим воинам, как только начнется бой, обратиться в притворное бегство, отступить ровно настолько, чтобы нарушился строй противника, а затем повернуть назад и нанести решительный удар. Но Фома не учел настроения своих стратиотов: третий год оторванные от домов и семей, запятнавшие руки кровью соотечественников и грабежами, разочарованные в своем вожде, они теперь понимали, что взялись за безнадежное дело, которое уже ничего не принесет им, кроме дальнейших лишений и, быть может, гибели – непонятно, ради чего. Они восприняли приказ Фомы как удачный повод, чтобы покончить со всем этим дурным предприятием. Последние сомнения отпали, когда мятежники, осуществив приказанный им маневр, увидели, что императорское войско устремилось вслед за ними не вразброд, как то предполагал Фома, а сохраняя строй, по всем правилам военной науки. Бунтовщики пустились в беспорядочное бегство и совершенно рассеялись. Сам Фома с небольшим отрядом добрался до Аркадиополя и укрылся там, а усыновленный им Анастасий заперся в крепости Виза неподалеку. Многие из покинувших в тот день Фому вскоре явились к Михаилу и присягнули ему на верность. Император осадил Аркадиополь, но, не желая лишний раз воевать с согражданами, не стал штурмовать город, а решил взять его измором – он знал, что там не было запасов продовольствия. Фома, однако, ожесточился и сдаваться не хотел: он удалил из города всех жителей, неспособных носить оружие, и непригодный для военных действий скот, причем уже не давал себе труда убеждать, а действовал угрозами. Это возбудило в городе всеобщее неудовольствие, и когда осажденных стал терзать голод, многие начали тайно убегать – кто через ворота, кто спустившись со стен на ремнях – и сдаваться на милость императора. Наконец, спустя пять месяцев, положение осажденных сделалось совершенно невыносимым: съели не только всё продовольствие, но и павших от голода лошадей, дошли до гнилых кож и шкур, – и тогда некоторые из граждан тайно вступили в переговоры с василевсом и, вымолив себе прощение, в середине октября схватили Фому, связали и передали Михаилу. Император устроил торжественную церемонию попрания ногами побежденного мятежника, а затем велел посадить его в железную клетку и хорошенько охранять. Когда наутро василевс в сопровождении архонтов вновь пришел к заключенному бунтовщику, Фома воскликнул трагическим голосом:
– Смилуйся надо мной, истинный император!
– Ты принимаешь меня за дурака? – насмешливо спросил Михаил. – Нет, мерзавец, тебя ждет публичная казнь, и чем страшней и позорней ты извергнешь свою черную душонку, тем лучше!
– Думаешь избавиться от меня и зажить спокойно? – ядовито спросил славянин. – Среди твоего окружения еще много тех, кто сочувствовал и помогал мне! Сохрани мне жизнь, и тогда я назову тебе их имена. Ведь такие люди могут в любой момент восстать против тебя!
– Вот негодяй! – ответил император. – Ты готов купить свою жалкую жизнь ценой жизни других людей? Назовешь имена твоих сообщников? Ха-ха! Я не Лев, чтобы поддаваться на подобные штуки!
Лицо Фомы исказилось злобой, и он не проговорил, а почти прорычал:
– Что же ты притащился сюда, триумфатор? Проваливай, шепелявый урод! Чем скорей ты покончишь со мной, тем лучше! Или ты хочешь призвать меня к покаянию перед смертью? – он сипло расхохотался.
– Призвать к покаянию? – император пожал плечами. – Зачем? Это твое личное дело. Я только хотел сказать тебе, что, хотя мы с тобой начинали на равных, но не на равных оканчиваем. Не правда ли?
– Еще неизвестно, каков будет твой конец! – прохрипел Фома.
– Надеюсь, лучше, чем твой, – улыбнулся Михаил. – А твой не за горами. И ты, верно, никогда не думал, почему это так получилось? Так я тебе скажу. В Писании говорится: «Пророчества не уничижайте»!
– И что?
– А то, что ты не поверил филомилийскому монаху, и вот результат.
– Какому еще монаху?
– Вот, ты и забыл уже. А я всегда помнил. Я потому и от Вардана тогда ушел, что не верил в его успех. И ты, если бы помнил о Филомилии, тоже не остался бы с Турком. И уж, по крайней мере, не стал бы поднимать мятеж и добиваться провозглашения. Так-то. Ну, прощай. Много бед причинил ты Империи… Думаю, Бог воздаст тебе по заслугам!
В тот же день, при собрании всего войска и окрестных жителей, Фоме отсекли руки по локоть и ноги по колено, после чего посадили задом наперед верхом на осла и выставили на всеобщее обозрение. Все, проходя, плевали в изувеченного мятежника и кидали в него грязью, а вечером Фома был посажен на кол и испустил дух, тело его выкинули за городом в яму с отбросами. Спустя неделю та же участь постигла и Анастасия, которого защитники Визы тоже выдали императору. Несколько отрядов мятежников еще держались во фракийских городках Пании и Ираклии и в азиатских крепостях Кавале и Саниане, но не могли устоять перед императорскими войсками, и к концу ноября последние оплоты бунтовщиков пали. Михаил возвратился в столицу, совершив пышный вход в Город через Золотые ворота. Были устроены празднества со скачками на Ипподроме, причем император приказал провести плененных мятежников перед народом со связанными за спиной руками, но потом всех отпустил и не наложил ни на кого никаких взысканий, только нескольких наиболее отличившихся на службе у Фомы архонтов отправил в ссылку. С затянувшимся бунтом было наконец-то покончено.
…Православным исповедникам, собранным в столице по приказу императора, было разрешено покинуть Город через месяц после снятия осады, когда стало ясно, что после поражения от болгар Фома уже не оправится. Студийский игумен с учениками удалился на полуостров Святого Трифона при Астакенском заливе напротив Принцевых островов и там устроил жизнь по тому же распорядку, как некогда в Крискентиях. Продолжали прибывать рассеянные в пору гонений и мятежа студиты, совершались и новые постриги. Приношения почитателей текли рекой: «Мне столько подают, что я устаю принимать», – говорил Феодор в одном из писем. Почти ежедневно приходили какие-нибудь гости, чтобы повидать знаменитого исповедника, – епископы, игумены, клирики, монахи, миряне…
В июле Феодор с избранными учениками отправился в составе довольно большой группы православных, чтобы повидать пустынника Иоанникия, жившего на Трихаликсовой горе близ Брусы. Поселившись там еще в царствование Ирины и Константина, Иоанникий почти безвыходно прожил на горе тринадцать лет. Когда на ромейский престол взошел Лев Армянин, отшельник перешел на более пустынную гору Алсос и только после воцарения Михаила вернулся в свою келью у вершины Трихаликса, где и жил, почти не спускаясь вниз. Евстратий, игумен расположенного неподалеку Агаврского монастыря, часто навещал пустынника. Приходили к Иоанникию за советом и многие другие монахи из окрестных обителей и скитов. Шел двадцать девятый год его отшельнических подвигов, и Иоанникий был известен чудотоворениями и даром прозрения уже не только по всему Олимпу и Вифинии, но и за их пределами. В свое время Студийскому игумену приходилось даже унимать слишком пылких своих братий и вразумлять тех, кто думал, что общежительное монашество не так быстро приводит к спасению души, как пустынножительство, и стремился к отшельнической жизни. Игумен приводил примеры тех пустынников и столпников, которые не только не спаслись, но сошли с ума, впали в ересь и даже сделались гонителями православных или вообще стали бродячими монахами, живя бесстыдно.
– Это искушение дьявола – внушать чужое, чтобы ты лишился и своего, – говорил Феодор в одном из своих огласительных поучений братиям. – Поэтому апостол и взывает: «Каждый, в чем призван был, братия, в том да и пребывает пред Богом». Безмолвником призван – нечего тебе думать об общежитии, в общежитие призван – нечего думать о жизни в безмолвии. «Каждый же во своем чине» угождай Господу. Каждый имеет для себя примеры, сообразно с которыми должен устроять свою жизнь, – и, приведя примеры разных святых, подвизавшихся в послушании и общежительном монашестве, игумен продолжал: – Этим подражай, а не пустынникам. Пусть отец Иоанникий с подобными ему имеет пустыню и гору, а ты возлюби послушание и гостеприимство. Он в настоящее время не терпит гонения, а ты гоним за правду. Он не заключен в темницу, а ты находишься в темнице ради Господа. Он не бит, а ты избит за Христа. Насколько это выше тех подвигов!
Игумен знал, что такие его речи дошли до Олимпа, и что кое-кто из тамошних подвижников недолюбливает его. Особенно усилилось недовольство некоторых олимпийцев после вмешательства Студийского игумена в распрю из-за пустынника Феоктиста, проведшего много лет в суровых подвигах на одном из предгорий Олимпа. Когда Феодор, возвращаясь из Смирны, оказался в районе Брусы, некоторые монахи, пришедшие повидать его, сообщили, что Феоктист проповедует странные воззрения: будто Богородица существует предвечно, а бесы после второго пришествия будут прощены и вновь станут ангелами, и еще некоторые неправославные учения – например, пустынник утверждал, что один монах будто бы может избавить от вечного осуждения сто пятьдесят умерших грешников, бывших в его роду. Эти мнения постепенно стали смущать многих на Олимпе: одни монахи считали Феоктиста еретиком и не хотели общаться не только с ним самим, но и с теми, кто ходил к нему за благословением и советами – а таких было немало, поскольку пустынник был известен как строгий аскет и молитвенник, – другие говорили, что в его воззрениях нет особого греха… Студит написал Феоктисту послание, увещевая оставить еретические мнения, но ответа не получил, а когда уже поселился в Крискентиях, навещавшие его вифинские монахи сообщили, что пустынник продолжает распространять свои соблазнительные взгляды. Феодор снова написал ему, убеждая покаяться и перестать смущать православных. «Хотя бы ты, почтеннейший, совершал даже дела великого Предтечи, но, коль скоро не оставишь свои богохульные мнения, всё равно подвергнешься вечному осуждению, напрасно трудясь в подвигах». Феоктист и на этот раз не ответил Студиту, а некоторые из олимпийцев возмутились против игумена, говоря, что он «лезет не в свое дело» и «дерзает указывать, как надо верить, пустынникам, состарившимся в таких подвигов, каких этот Феодор и следа не видал»…
Когда игумен узнал, что некоторые отцы собираются сообща навестить Иоанникия, он счел полезным тоже отправиться к подвижнику: если старец что-нибудь имел против него, это могло быть удобно разрешено при личном свидании; если же пустынник относился к Студиту вполне дружественно, то всё же было бы полезно лишний раз показать другим, что отшельник и игумен сохраняют мир и любовь между собой: Феодора в последнее время очень расстраивало то, что, не успели ослабнуть гонения от еретиков, как православные стали ссориться между собой – и если бы только из-за чьих-то ложных мнений, как в случае с Феоктистом! Но нет – нередко поводом для ссор служили просто слухи и сплетни…
Когда пришедшие к Иоанникию епископы, игумены и монахи собрались в Ильинском метохе Агаврского монастыря у подножия Трихаликса, они послали одного брата сообщить пустыннику о своем приходе: подниматься к старцу на довольно крутую гору по узкой тропинке было тяжеловато. Вернувшись, посланный монах сообщил, что пустынник сейчас спустится. Тем временем собравшиеся приветствовали друг друга, обменивались новостями. Вокруг Феодора немедленно собралась большая группа отцов, и пока он отвечал на благопожелания и вопросы, пришедший с ним Навкратий разговорился с несколькими монахами из Пеликитской обители, но внезапно умолк на полуслове. Собеседники студийского эконома, удивленные, проследили за его взглядом и увидели сидевшего невдалеке на бревне под сосной старого, почти совершенно облысевшего монаха, на чьем лице читались усталость и почти безнадежие. Тогда как все пришедшие, разделившись на группы не менее чем по пять человек, увлеченно беседовали, а некоторые, особенно игумен Феодор, были окружены десятками отцов и братий, рядом с лысым монахом не было никого, кроме одного монаха лет пятидесяти; оба сидели молча и поглядывали на остальных.
– Кто это? – спросил один из пеликитской братии.
– Иосиф, бывший эконом Великой церкви.
– Тот самый?!
Навкратий кивнул. В это время монах – тот, что поднимался на гору сказать Иоанникию, что его желают видеть отцы; звали его Петр, и он, судя по всему, явно был недоволен тем вниманием и любовью, которыми пользовался у собравшихся Студийский игумен, – увидев, что Навкратий пристально смотрит на печально известного эконома, подошел к Иосифу и заговорил с ним. Тот вымученно улыбнулся, что-то ответил… Навкратий глядел на него и думал: «Всё-таки за всё приходится расплачиваться, и не только в будущей жизни, но и в этой! Вот человек, который всегда старался держаться на плаву, избегать неудобств, гонений, угождать власть имущим… И к чему он пришел?.. Сколько ему сейчас лет? Должно быть, уже около семидесяти… Перед лицом смерть, – и какая память останется о нем?.. Никому не пожелаешь! Впрочем, святые говорят, что наказываемые в этой жизни еще не безнадежны…» Размышления его были прерваны чьим-то возгласом:
– Отец Иоанникий!
Все поднялись с мест и повернулись к калитке в монастырской ограде. Там, опираясь на суковатую палку, стоял высокий, сухой, совершенно седой монах в поношенном хитоне из грубой шерсти; бледное лицо старца точно светилось изнутри.
– Приветствую вас, отцы мои и братия! – сказал Иоанникий.
Отшельник и его гости поклонились друг другу в пояс, и старец, жестом пригласив всех садиться, сам опустился на то самое бревно под сосной, где до его прихода сидел Иосиф; сейчас бывший эконом стушевался и стоял позади всех.
– Я рад, что вы пришли посетить мое недостоинство, – улыбнулся старец.
– Мы тоже рады видеть тебя, честной отец! – раздались голоса.
– Отче, ты, верно, как раз можешь разрешить нам одно недоумение! – сказал, поднявшись с места, Керамейский игумен Иосиф. – Я прошу прощения, что дерзаю так сразу выступать со своим вопросом, – он оглядел собравшихся, – но я уверен, он заинтересует и всех прочих. Дело в том, что мы тут немного поспорили с отцом Евстратием, – он слегка поклонился в сторону невысокого сухощавого монаха, игумена Агаврского монастыря, большого почитателя Иоанникия, – какой образ монашеского жития выше и совершеннее, общежитие или отшельничество. Отец Евстратий считает, что таких великих дарований, каких сподобляются от Бога пустынники, никогда не могут получить монахи в общежитии, поскольку по необходимости развлекаются разными трудами и суетой. Я же не согласился с ним, поскольку, как это видно из житий и наставлений святых отцов, бывало, что не только общежительные монахи, но даже и некоторые благочестивые миряне превосходили отшельников, по данной им от Бога благодати. И вот, мы хотели бы узнать твое мнение по этому вопросу.
– Вопрос тем более интересный, – добавил митрополит Халкидонский Иоанн, – что среди нас находится и всем известный игумен Студийский, ревностный сторонник именно общежития!
– Как, неужели и отец Феодор пришел посетить нас, смиренных? – спросил Иоанникий, поднимаясь с бревна и оглядывая собравшихся.
Студийский игумен встал и сделал несколько шагов вперед.
– Да, почтенный отец, и я очень рад наконец-то познакомиться с твоей честностью!
– Ну, слава Богу! – тихо сказал старец, подходя к нему. – Слава Богу, всё устрояющему к пользе рабов Своих!
Два подвижника обнялись и облобызались, а потом, отступив на шаг, еще раз оглядели друг друга. Оба чуть заметно улыбались, и, глядя на них, Никита Мидикийский сказал:
– Мне кажется, ответ на заданный вопрос ясен!
– Совершенно верно, отче, – взглянул на него Иоанникий. – Апостол говорит нам, что в каком звании кто был призван, тот в нем и должен ходить пред Богом. Я же, грешный, хочу еще сказать, что нет добродетели выше смирения, а оно состоит и в том, чтобы никого не судить.
Немного спустя все, поднявшись, просили пустынника вкусить с ними пищи и вместе отправился к трапезе. Тут возникло некоторое замешательство: когда все расселись за длинными столами на лавках, оказалось, что двоим не хватило места – это были бывший эконом Святой Софии и его брат-игумен. Тут монах Петр, кинув в сторону студитов исполненный злорадства взгляд, подошел к Иоанникию и довольно громко сказал:
– Отче, я вижу, что некоторые из отцов не успели занять места. Думаю, они и есть самые смиренные из наших гостей!
Старец сощурившись посмотрел на стоявших у двери монахов.
– Почтенного отца Пимена я припоминаю, – сказал он. – Но кто это вместе с ним?
– Это господин Иосиф, он был некогда игуменом Кафарским, а потом экономом Великой церкви, – пояснил Петр.
Теперь уже все собравшиеся повернулись к Иосифу, и он, казалось, готов был провалиться сквозь землю.
– Вот оно что! – промолвил Иоанникий. – Что ж, брат, – он взглянул на Петра, – по-твоему, я должен похвалить отца Иосифа за проявленное смирение? Пожалуй, оно и заслуживает похвалы, но я бы удивился, если б этот отец теперь не проявил его, тем более в таком собрании… Раз ты пришел сюда, отче, – обратился он к бывшему эконому, – то присаживайся, вот и скамью несут, – в трапезную, действительно, вошли два монаха, неся еще одну небольшую скамейку. – Но я хотел бы сказать тебе нечто, и раз уж так вышло, то пусть оно будет сказано перед всеми. Я знаю, ты и раньше желал видеть меня, но я не принял тебя, и ты, полагаю, понимаешь, почему. А ныне, когда уже настало время твоего отшествия из этой жизни, благовременно тебе испросить прощения у всех, кого ты соблазнил и для кого был источником скорбей в прошлые годы, и подготовиться к исходу. Говорят, когда ты был экономом, почтеннейший, то хорошо исполнял то, что касается экономства… Не буду сейчас вспоминать об иных вещах, о которых, думаю, и сам ты вспоминаешь с раскаянием. Теперь с тем же тщанием, с каким раньше ты заботился об имуществе храма, тебе до́лжно позаботиться об имуществе твоей души, ведь тебе скоро предстоит отдать его на суд нелицеприемного Судии. И ради этого полезно было бы тебе то тленное имущество, которым ты владеешь, раздать нуждающимся, чтобы эта милостыня заступила тебя в час нужды и страшного посещения Господня.
Иосиф, красный от смущения – у него порозовела даже лысина, – поклонился сначала Иоанникию, а затем и всем собравшимся и проговорил:
– Простите меня, честные отцы, и ты, отче! Благодарю тебя за вразумление и предупреждение… Обещаю, что исполню твое святое наставление! – и он поскорее опустился на скамью, чтобы, наконец, перестать торчать у всех на виду.
– Вот и слава Богу! – сказал старец. – А теперь, братия, подкрепимся тем, что Господь сегодня послал нам!
После трапезы все еще долго беседовали на скитском дворе и разошлись только к вечеру.
– А не удалось этому Петру нас поддеть! – сказал Николай, когда наутро они со Студийским игуменом и братиями, простившись с приютившими их на ночь монахами Агаврского монастыря, пустились в обратный путь. – И чего это он так нас не любит?
– Да пусть его! – махнул рукой Феодор. – Надо заботиться не о том, чтоб нас любили, а о том, чтобы самим стараться всех любить.
– Интересно, Иосиф действительно скоро умрет? – задумчиво проговорил Навкратий.
– Я слыхал, что отец Иоанникий уже не раз предсказывал близкую кончину разным людям и никогда не ошибался, – ответил игумен. – Посмотрим.
Месяцем позже к студитам на Трифонов полуостров дошла весть, что эконом Иосиф, раздав всё свое имущество бедным, умер на восемнадцатый день после посещения Иоанникия.
– Ну, что ж, – сказал Феодор, узнав об этом, – да будет милостив к нему Господь!
18. Сестры
Так, – случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, – Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.
(А. Грин, «Алые паруса»)
В конце июня Марфа с дочерьми наконец-то смогла поехать в свои поместья и посмотреть, как отразился на них прошедший бунт. Кассии не хотелось уезжать из Константинополя, но мать сказала, что ей нужно хоть немного вникнуть в хозяйственные дела, раз она пока не ушла в монастырь:
– Вдруг со мной что-нибудь случится? А тогда ты должна будешь суметь управиться с хозяйством. Евфрасия все же еще слишком юная… И потом, кто знает, может, и в монастыре тебе пригодятся хозяйственные познания…
Сестре осенью должно было исполниться шестнадцать. Ее волосы, такие же темно-каштановые, как у Кассии, вились крупными кольцами, но лицом, особенно карими глазами и чуть вздернутым носом, девушка походила на мать. Подвижная и веселая, в последнее время она стала любимицей всех домочадцев и слуг, и в доме часто слышался ее звонкий голос или кифара, звеневшая под ее руками. Учитель музыки нашел у нее большой талант к игре и даже сказал, что здесь она превзошла старшую сестру, хотя обогнать Кассию в пении ей нечего и думать. Марфа с тревогой ожидала, что ее брат опять начнет подыскивать женихов – уже для другой племянницы, – но в августе того года, когда Кассия участвовала в смотринах, Георгий на вопрос сестры, придет ли он с семейством в сентябре на традиционный праздничный обед, неожиданно сказал:
– Нет, моя дорогая, больше мы к вам не ходоки! После прошлого обеда мои сынки со своими женками перессорились, до рукоприкладства дело дошло! А всё из-за твоей синеглазой дурехи! Больно она у тебя красивая стала, а проку нет, один вред! Ну, я тебе говорил, что от нее окружающим одни слезы будут – как в воду ведь глядел! Так что пируйте сами, в гордом одиночестве! Да вы ведь об этом всегда и мечтали… монашенки! – он презрительно усмехнулся. – Я всё хотел, как лучше, да с вами, сумасшедшими, видно, только дьяволу впору справиться! Живите, как хотите, выходите, за кого хотите… или не выходите… Что хотите, то и делайте, хоть всем скопом в монастырь проваливайте! Да, может, таким дурам, как вы, там самое и место!
«Ах, почему ты не дошел до этого чуть пораньше?!..» – подумала Марфа. После ухода брата она пошла к себе в комнату, упала на постель и разрыдалась. Ей стало жаль всех сразу: погибшего мужа, брата, с которым у нее никогда не было общего языка, старшую дочь, собиравшуюся в монастырь и в то же время втайне страдавшую от поразившей ее любви, младшую, чья жизнь еще неизвестно, как устроится… «Мы все – игрушки в руках судьбы! – подумалось ей. – Никто не знает не только того, что будет через год, но и того, что будет завтра… А когда назавтра случается что-то, о чем ты и не помышлял, никто не знает, зачем это происходит… Промысел? Что пользы верить в существование промысла, если это всё равно не помогает понять происходящее?.. Верить, что Бог лучше нас знает, что и как нужно устроить? Да, только… только это не утешает!..»
– Мама? Мамочка, что с тобой? – Евфрасия, проходя мимо комнаты матери, услышала всхлипы, вошла и испуганно теребила ее за плечо. – Кто тебя обидел? Дядя что-нибудь плохое сказал?
Марфа повернула к ней мокрое лицо, приподнялась на локте и погладила дочь по голове.
– Нет, ничего, милая, ничего страшного! Просто… взгрустнулось…
– Тебе, наверное, одиноко, да? Ну, подожди, вот я выйду замуж и нарожаю тебе много-много внуков!
Марфа улыбнулась сквозь слезы.
– Тебе еще немножко рано замуж. Или ты уже решила, за кого выйдешь?
– Нет, – смущенно ответила Евфрасия. – Но я… молюсь, чтоб Бог мне послал того, кто… ну, в общем, его! Ведь если просить, то Бог пошлет, правда?
– Конечно, родная.
К счастью, основная масса мятежников прошла южнее, ближе к морю, и в Марфины владения заходили только отдельные отряды, поэтому земледельцы не слишком пострадали от грабежей, а господский дом избежал разорения. Кассия теперь редко ездила верхом и потому отдала сестре свою лошадь, показав и место, где она занималась скачкой с препятствиями. Евфрасия была в восторге и почти ежедневно стала наведываться туда, в седле она держалась даже лучше сестры. Спустя три недели по приезде в имение, девушка с утра отправилась на обычную прогулку верхом и, выехав на знакомую дорогу, пустила Афину рысью. Вскоре она уже была на любимой лужайке и, легко перескочив через поваленные деревья, направила лошадь к холму. И у всадницы, и у лошади было прекрасное настроение, Афина птицей взлетела к вершине холма и тут почти нос к носу столкнулась с удивительно красивым конем гнедой масти. Его седок, осадив стремительное животное, издал тихий возглас изумления. Евфрасия от неожиданности приоткрыла губы и несколько мгновений молча смотрела на молодого человека, возникшего будто из-под земли. Во взгляде девушки не было испуга – только любопытство.
– Ты кто? – наконец, спросила она.
«Сама непосредственность!» – подумал тот, улыбнулся и сказал в ответ:
– А ты кто?
– Я первая спросила!
– Да, логично. Я Акила, если тебе это о чем-то говорит.
– Совершенно ни о чем, с чего бы это? – удивилась девушка и ехидно добавила: – Ты что, думаешь, о тебе должен знать весь мир?
Евфрасия не знала о том, что сын их соседа два года назад сватался к ее сестре и получил отказ.
– О, нет! – улыбнулся Акила. – Я не настолько тщеславен.
– Но всё же тщеславен? – чуть насмешливо спросила девушка. – И насколько же?
– Настолько, чтобы сознавать, например, что я умен, образован и хорошо езжу верхом, – в тон ей ответил молодой человек.
«И к тому же красивый», – подумала Евфрасия, искоса глядя на него. Но вслух она сказала совсем другое:
– А вот мы сейчас проверим, как хорошо ты ездишь! Давай наперегонки – отсюда вон туда и через канаву, а потом через деревья! Сумеешь? Я – запросто! – и, не дожидаясь ответа, она развернула лошадь.
У Акилы перехватило дыхание, когда он увидел, как она помчалась вниз по склону. Спустя мгновение он уже летел следом, и через канаву они перемахнули одновременно, но за третьим поваленным деревом Евфрасия оказалась чуть-чуть раньше. Оба слегка перевели дух, и Акила воскликнул:
– Ты просто амазонка! И у тебя великолепная лошадь!
– Афина! – разрумянившаяся девушка ласково потрепала животное по холке. – По правде говоря, это лошадь моей сестры, но она отдала ее мне, сама она теперь почти не ездит…
– Почему же? Не любит?
– Нет, любит, но… Точнее, раньше очень любила, а теперь она в монастырь уйти готовится, так думает, верно, что монахи такими вещами увлекаться не должны… Но вообще, она больше всего любит книги. Она очень умная… просто ужас, какая умная! Я вот тоже учусь, да только такой умной, как она, мне не быть!
– А это нужно – быть такой умной, как она?
– Не знаю… Может, и не нужно… Зато я лучше нее играю на кифаре! Ах, я так люблю играть! А сестра хорошо поет, стихиры даже сама пишет… Но вот чего бы я действительно хотела, так это быть такой же красивой, как она! Она такая красивая, она даже… – тут Евфрасия остановилась, вспомнив, что Кассия просила никому никогда не говорить о ее участии в выборе невесты для императора. – Ну, в общем, это описать невозможно! И ведь надо же – в монастырь решила идти! Так жалко! – девушка чуть-чуть пригорюнилась. – Не понимаю я ее, честно сказать…
– Что ж, – Акила смотрел в сторону, чтобы ненароком не выдать горечи, зашевелившейся в его сердце, – вероятно, ее можно понять: если она такая красивая, как ты говоришь, то и Жениха выбрала «прекрасного более всех сынов человеческих»…
– Как святая Екатерина, – пробормотала Евфрасия. – А я бы всё равно на ее месте ни за что не пошла в монастырь! Эти черные одежды, посты, службы бесконечные, поклоны, без позволения ничего нельзя сделать, никуда пойти… Брр! Я вот люблю поесть!
– Не похоже что-то! – молодой человек окинул взглядом ее стройную фигуру.
Девушка вспыхнула.
– Нет, правда люблю! Ну, не объедаться, конечно, но чтоб вкусно было… Мясо люблю… Нет, монастырь не для меня! Я хочу замуж и родить много детей!
Она умолкла и впервые за весь разговор очень смутилась. «Ведь это, может, грех, что я тут с ним… так разговариваю… свободно!.. И про такие вещи! Ой!.. Что он обо мне подумал? Наверное, решил, что я такая неприличная!» Она совсем зарделась и быстро сказала, не глядя на Акилу:
– Прости, господин, я что-то заговорилась, а мне надо домой, – она стала поворачивать лошадь.
– Уже? – спросил Акила растерянно. – Постой, госпожа… скажи хотя бы, как тебя звать?
Она взглянула на него и опустила ресницы.
– Евфрасия.
– Красивое имя! Ты, должно быть, младшая дочь госпожи Марфы?
– Да, – она удивленно вскинула глаза. – Откуда ты знаешь?
– Ну, я знаю, что там, в доме на холме, живет вдова с двумя дочерьми… Мы соседи. Я сын патрикия Феодота, наши земли граничат с вашими.
Он внимательно смотрел на девушку, но не заметил ни малейших признаков того, что она знает о его неудавшемся сватовстве к ее сестре, – и это почему-то обрадовало его.
– Вот здо́рово! – воскликнула Евфрасия, уже опять забыв о том, что «это, наверное, неприлично». – Что ж вы до сих пор не заходили к нам в гости? Моя мама обрадовалась бы! Она любит гостей! Правда, в Городе к нам ходят всё больше монахи… Но думаю, она и вам была бы рада! Мне кажется, что ей иногда бывает одиноко…
Она опять умолкла. «Почему я ему это рассказываю? Я его впервые вижу, а уже такое про маму!..»
– Но ведь без приглашения ходить в гости довольно странно.
– В таком случае, я приглашаю тебя, господин Акила! – сказала девушка немного торжественно. – Приезжай… завтра к полудню, например. У нас все будут рады! – она улыбалась так обезоруживающе, что ей невозможно было не верить.
Но он всё же не верил – зная то, чего не знала она. «И сестра будет рада?» – вертелся на языке вопрос, но Акила промолчал. «Если они не сказали ей, значит, не хотели, чтоб она знала. Не мешаться же в их семейные дела! Довольно того, что она предупредит их, а там – будь, что будет!» И он сказал:
– Хорошо, благодарю, госпожа Евфрасия. Я обязательно приеду.
Вернувшись с прогулки, девушка спрыгнула с лошади, почти не глядя бросила поводья подскочившему конюху и стрелой влетела в дом. Марфа с Кассией и приказчиком что-то обсуждали, стоя в гостиной у окна.
– А вот и я! – крикнула Евфрасия, входя.
Все обернулись к ней.
– Наездилась? – улыбнулась Марфа.
– Да, и знаете, кого я встретила? Акилу, сына нашего соседа! Он такой… забавный! Я его в гости пригласила, завтра к полудню! Обещал приехать! Ведь правда здорово? У нас здесь так редко бывают гости почему-то! Я сыграю ему на кифаре, а ты, Кассия что-нибудь споешь! Мама, прикажи приготовить обед повкуснее! Я сказала ему, что люблю хорошо поесть! – Евфрасия звонко рассмеялась.
Она выпалила всё это одним махом и, только замолчав, увидела, что мать смотрит растерянно, а сестра – вообще так странно, что девушка даже испугалась; только приказчик широко улыбался и кивал.
– Я что-то не так сделала? – спросила Евфрасия тихо.
– Ну, почему же? – Марфа уже успела взять себя в руки и улыбнулась. – Пригласила, и хорошо! Я знаю, что это очень хороший молодой человек… Конечно, мы угостим его, и ты сыграешь на кифаре!
Но Евфрасия смотрела на сестру.
– Кассия, ты что? Ты почему такая… Ты не рада?
– Нет, я рада…
Кассия постаралась улыбнуться, но у нее плохо получилось: мысль об Акиле вызвала у нее воспоминание обо всем, происшедшем два года назад, – столь живое, как будто в ее сердце повернули раскаленный кинжал.
– Может, по-твоему, я поступила неприлично, пригласив его к нам? – спросила Евфрасия с некоторым вызовом.
– Что ты! – Кассия улыбнулась уже совершенно искренно. – Какие глупости! Прости, просто сегодня… у меня очень болит голова…
На другой день около полудня Кассия глянула в окно и увидела, как во врата особняка въезжает всадник. «Конь, кажется, всё тот же… – подумала девушка. – А ведь с тех пор словно много жизней прошло!..» Подойдя к зеркалу, она поправила темный мафорий так, чтоб не было видно волос, и с тоской подумала, что ничто не поможет ей скрыть свою красоту… Иногда Кассия почти понимала ту девственницу из патериковой истории, которая, узнав, что безумно влюбившемуся в нее юноше больше всего нравятся ее глаза, выцарапала их расческой… Акила приехал потому, что его пригласила сестра… но ради чего?.. В любом случае надо сразу же дать ему понять, что намерения Кассии не изменились, чтоб он не вздумал начинать ничего такого… Но как это сделать, чтобы Евфрасия не заметила, не подумала что-нибудь не то?.. Нельзя было вообще не спускаться к гостю, чтобы не обидеть сестру, но при этом надо было делать вид, что они встречаются впервые, чтобы не пришлось рассказывать Евфрасии про историю со сватовством – вряд ли ей будет приятно узнать об этом!.. И неизвестно еще, как поведет себя гость…
«Чем дольше я остаюсь в миру, тем больше всё запутывается! – думала Кассия. – По счастью, к лету мы со Львом должны закончить занятия, и тогда…» И тогда! Что тогда – это был самый мучительный вопрос, ответа на который девушка тоже не знала.
Когда она вошла в гостиную, там уже были мать и сестра. Акила как раз склонился перед Марфой в почтительном поклоне.
– О, а вот и моя сестра! – весело сказала Евфрасия. – Ее зовут Кассия. Кассия, познакомься, это Акила!
Акила медленно обернулся и поклонился ей.
– Здравствуй, госпожа Кассия. Я рад нашему знакомству.
«Что ж, слава Богу! – подумала она, глядя ему в лицо. – Значит, он и сам не хочет, чтобы Евфрасия знала о том…»
– Здравствуй, господин Акила, – улыбнулась она. – Мне тоже очень приятно с тобой познакомиться.
– Ну, вот, как чинно! – сказала Евфрасия. – Прямо как на приеме у императора, наверное!
– О, нет, – с улыбкой сказал Акила, – во дворце всё гораздо более напыщенно.
– Откуда ты знаешь? – полюбопытствовала Евфрасия.
– Я прослужил там три года в отряде схолариев, так успел насмотреться.
– О! Как здорово! Там, говорят, очень красиво? Наш папа тоже служил во дворце…
– Да, там очень красиво, – сказал Акила, но ему не хотелось распространяться на эту тему, и он воскликнул, окидывая взглядом комнату: – Но у вас тут тоже прекрасно! Редко можно встретить дом, отделанный с таким вкусом!
– Это всё мама! – с гордостью сказала Евфрасия. – А в Городе у нас в доме еще красивее! Но мне всё равно больше нравится здесь… Я тут люблю жить больше, чем там!
– Правда? – спросил Акила. – Я тоже. Здесь простора больше… и спокойнее, меньше суеты…
– Да-да! – Евфрасия радостно смотрела на него. – И можно много ездить верхом!
Разговор потек свободно и весело. Правда, больше всего щебетала Евфрасия, Кассия и Марфа говорили мало. Зашла речь о недавнем мятеже, и Акила упомянул, что во время осады выходил за стены Города сражаться с бунтовщиками.
– О! – воскликнула Евфрасия. – Страшно, наверное, воевать? Ах, нет, это мы трусихи, мужчинам не должно быть страшно! И много бунтовщиков ты убил?
– Разве их считаешь? – ответил Акила. – В бою смотришь только на то, как поразить противника и самому не быть пораженным.
– Ты, наверное, сражался в императорских полках?
Когда Евфрасия задала этот вопрос, Кассия словно бы поежилась. «Как бы переменить тему?» – подумала Марфа, заметив это, но не успела еще ничего придумать, как разговор принял опасный оборот.
– Да, – кивнул Акила.
– А правда ли, мне наш приказчик говорил… Он слыхал, на рынке рассказывали, что государь Феофил очень метко стреляет! Говорят, он каждым выстрелом убивал кого-нибудь… Неужели это правда?
– Сущая правда! Убивал или ранил… Мы все восхищались им! – Акила улыбнулся. – Господин логофет однажды сказал, что молодой государь стреляет лучше, чем Парис!
Кассия побледнела и встала.
– Простите меня, – сказала она тихо, – у меня что-то голова вдруг заболела… Я пойду лягу.
– Ой, как жаль! – воскликнула Евфрасия. – А я думала, ты споешь нам что-нибудь красивое… Ну, иди, конечно… Какая ты бледная стала!
«Какой же я осёл! – подумал Акила. – И надо было упоминать про это сравнение с Парисом! Где Парис, там и “яблоко Афродиты”, а Кассии, конечно, неприятно вспоминать ту историю! Нужно впредь быть осторожным… А впрочем, – он искоса взглянул на Марфу, – мне, скорее всего, больше и не придется бывать здесь… Надо ли было вообще приезжать?..» Марфа словно прочла его мысли.
– Евфрасия, – сказала она, вставая, – ты пока сыграй нашему дорогому гостю на кифаре, а я пойду посмотрю, что у нас с обедом. Надеюсь, ты останешься на обед, господин Акила?
И она вышла, с улыбкой представив, как возмутился бы ее брат, узнав, что в ее доме царят такие «вольные» порядки… Слава Богу, Георгий уже никогда не будет вмешиваться в их жизнь! Но… Улыбка сошла с ее лица. Кассия, Кассия! Что будет с ней?..
Молодой человек уехал домой, только когда солнце стало клониться к закату. Евфрасия с матерью провожала его до крыльца, девушка так и сияла. Акиле понравилось у них в гостях? Не хочет ли он приехать еще раз? Когда он смог бы? Послезавтра, как здорово! Мама ведь не против? Конечно, не против… Чудесно, тогда до встречи? До встречи… Евфрасия стояла на крыльце, пока всадник на гнедом жеребце не скрылся за поворотом дороги, а Марфа пошла к старшей дочери. Дверь в ее комнату оказалась приоткрытой. Кассия стояла у окна и тоже смотрела, как уезжает Акила. Мать положила руку ей на плечо, девушка чуть вздрогнула и повернулась к ней.
– Послезавтра он приедет опять, – сказала Марфа. – Евфрасия пригласила его, а я не могла сказать что-то против…
Кассия снова отвернулась к окну.
– Мама, вы поступите хорошо, если будете вести себя так, как вам нравится, не оглядываясь на меня.
Марфа молча погладила ее по плечу.
– Ах, зачем только все происходит так, как оно происходит?! – вырвалось у нее.
– Если б знать! – прошептала Кассия.
Акила стал частым гостем в белом особняке на холме, а почти во все те дни, когда он не приезжал, они с Евфрасией всё равно встречались – на утренних прогулках верхом там, где впервые познакомились. Кассия взяла себя в руки и, какие бы разговоры ни велись в гостиной, больше ни разу не уходила «с головной болью». Впрочем, она чаще всего недолго сидела вместе со всеми, а потом удалялась к себе. Евфрасия всё-таки уговорила ее один раз спеть под кифару, но больше уже не смогла: Кассия во время пения поймала на себе такой взгляд Акилы, что в следующий раз отказалась петь наотрез. Евфрасия немного обиделась, но ненадолго, тем более что Акила сказал ей, что ему больше нравится игра на кифаре без пения. Впрочем, этот случай был единственным, когда молодой человек выдал себя; в целом он держался по отношению к Кассии очень сдержанно, а бо́льшую часть внимания уделял ее сестре. Лето близилось к концу, и Кассия собралась возвращаться в Город. Марфа не стала задерживать ее; она уже мало обсуждала со старшей дочерью хозяйственные дела, но, напротив, начала понемногу посвящать в них Евфрасию, которая неожиданно проявила такой интерес к хозяйству, какого раньше в ней никто не замечал. Кассия понимала, о чем думает мать, и по вечерам молилась, чтобы всё поскорее устроилось к лучшему.
26 августа Акила, приехав в очередной раз в гости, проведенный слугой в гостиную, неожиданно застал там одну Кассию: она смотрела в окно, выходившее в сад.
– Здравствуй, госпожа Кассия!
Она вздрогнула, обернулась – и снова ее взгляд заставил его сердце прерывисто забиться. Это случалось с ним почти каждый раз, когда он встречался с ней глазами, хотя он старался держать себя в руках и всегда мысленно проклинал свою слабость.
– Здравствуй, господин Акила, – девушка посмотрела на водяные часы в углу. – Ты приехал немного рано. Евфрасия еще не спустилась.
– Прошу прощения! – сказал молодой человек слегка смущенно.
– Ты можешь подождать ее здесь, а я должна сегодня вас покинуть, прости! У меня много дел… сборы в дорогу, – она направилась к двери.
– Ты уезжаешь? – он всё еще стоял на пороге, не проходя в комнату.
– Да, завтра, – она остановилась в трех шагах от него.
Акила понимал, что должен пожелать ей счастливого пути и дать пройти, – но не двинулся с места. В горле у него внезапно пересохло.
– Я… – проговорил он хрипло. – Можно задать тебе один вопрос, госпожа?
– Да, конечно, – она не поднимала глаз.
– Два года назад ты писала мне, что решила идти в монастырь… но до сих пор не ушла… Может быть, ты передумала становиться монахиней?
Кассия взглянула на него; ее глаза отливали в этот миг такой холодной синевой, что Акила внутренне поежился.
– Господин Акила, – она говорила негромко, но очень жестко, – если ты ездишь сюда ради меня… то тебе лучше здесь больше никогда не появляться!
– Что значит – больше никогда не появляться?! – раздался за спиной молодого человека голос Евфрасии.
Она только что подошла и услыхала лишь последние слова. С золотистой повязкой на темных волосах, одетая в белую тунику и с такой же накидкой на плечах, девушка в этот миг походила на оскорбленного ангела. Обернувшись и посмотрев на нее, Акила внезапно сделался почти таким же белым, как ее одеяние, и прислонился к дверному косяку. Евфрасия взглянула на него, потом на сестру, тоже побледневшую при ее появлении, и, сделав шаг к Кассии, гневно сверкнула глазами.
– Как ты смеешь прогонять моего гостя? Я пригласила его, а ты гонишь? Да еще навсегда? Это тебе надо давно уйти отсюда навсегда! Где твой любимый монастырь? Что ты тут торчишь? Да еще прогоняешь моих гостей! Ты здесь не хозяйка! Ты всё равно уйдешь в монахи, и тебе это всё не нужно! Или тебе завидно, что ко мне приходит Акила? А может, ты ревнуешь? Сама упустила императора, так теперь хочешь, чтоб и у меня никого не было? Хочешь, чтоб и я усохла в каком-нибудь монастыре?!
Она вдруг умолкла, зажала рот рукой, и глаза ее округлились от ужаса: она осознала, чего только что наговорила. Девушка зарыдала и бросилась прочь. Акила несколько мгновений смотрел ей вслед.
– Боже мой, что я наделал! – прошептал он и, схватившись за голову, кинулся к выходу.
Кассия упала на табурет возле двери и долго сидела без движения, похожая на мраморное изваяние.
– Ты права, сестренка, – проговорила она, наконец, чуть слышно, – мне давно надо уйти отсюда навсегда… И только ли отсюда? Надо ли вообще мне было появляться на свет?..
Марфа, вернувшаяся через час из виноградников, ожидала застать веселую беседу гостя с дочерьми, но вместо этого нашла пустую гостиную и растерянных слуг. Маргарита сообщила ей, что «господин Акила приезжал, да скоро вдруг выбежал и уехал, будто сам не свой», а обе дочери «запершись у себя и не выходят, а госпожа Евфрасия плачет будто». Марфа, смутно догадываясь о том, что могло произойти, пошла сначала к Кассии и постучалась. Дочь сразу открыла; она была бледна, но следов слез на ее лице мать не заметила. Кассия рассказала ей о случившемся.
– О, Боже! – Марфа бессильно поглядела на дочь. – Неужели он так тебя любит?
– В том-то и дело, что он любит не меня! Это не любовь, а просто… что-то такое, что будоражит кровь, когда он меня видит… А любит он – ее! И она права: если б меня тут не было, не было бы и… всего этого сегодняшнего! Я всем только мешаю! Зачем Бог дал мне эту красоту? Она принесла одни беды! Всем, и мне тоже! Я только всех вокруг искушаю! Зачем я вообще родилась… такая?! – и она разрыдалась.
Марфа молча гладила ее по плечу, пока она не перестала плакать, а потом тихонько поцеловала в висок и вышла. Когда она подошла к комнате младшей дочери, дверь открылась, и Евфрасия, с распухшим от слез носом, бросилась в объятия матери.
– Мама! О, мама! Я такая ужасная! Я наговорила им такого… ужасного! Я сама не знаю, как я такое могла… Что теперь будет? Они не простят меня? Кассия… не простит?.. А он… неужели он больше никогда не приедет?!..
Через полчаса Евфрасия тихонько вошла в комнату сестры. Кассия лежала на кровати лицом к стене.
– Кассия! – девушка бросилась на колени перед кроватью. – Кассия, милая, прости меня! – она уткнулась носом в одеяло.
Кассия приподнялась и через несколько мгновений, опустившись на пол рядом с сестрой, обняла ее.
– Ну, что ты, маленькая? – она гладила рыдающую девушку по голове. – Не плачь! Всё будет хорошо! Ты просто не всё расслышала, что я сказала ему, а только конец. Я сказала ему… сказала, что если он ездит сюда, чтобы просто… поиграть с тобой, а не всерьез, то лучше ему здесь не появляться.
Евфрасия подняла голову и посмотрела в глаза сестре.
– Ты правда… правда ему так сказала?
– Правда, – ответила Кассия, целуя ее в лоб. – Наверное, зря сказала, потому что он и не собирался с тобой играть. Просто я боюсь за тебя… Так хочется, чтобы ты была счастлива!
– О, Кассия! А я… я так испугалась!.. Вот и наговорила… всего этого ужасного… Прости, прости меня, дуру! Ты хорошая! Я ничего не хотела… Я испугалась, что он уйдет… и больше не придет… О, что он обо мне мог подумать?!.. Как ты думаешь, он не… он еще приедет?
– Конечно, приедет! – улыбнулась Кассия.
– О, Господи, хоть бы он поскорей приехал! – Евфрасия ткнулась лицом в плечо сестре и сказала еле слышно: – Я люблю его!
Вернувшись домой, Акила поднялся в свои комнаты на втором этаже, бросился в кресло и долго сидел, покусывая костяшку большого пальца на левой руке, а потом сложил руки на груди и закрыл глаза. По дороге он истощил на себя все ругательства, какие знал, и сейчас сидел молчаливый и суровый, словно пустынник. Семь лет он думал, что чувство, внушенное ему Кассией в их первую встречу, действительно было настоящей любовью… Нельзя сказать, что у него не было поводов так думать: ведь как он ни старался в течение пяти лет, пока учился в столице, а затем был зачислен в отряд схолариев и служил во дворце, забыть синеглазую девушку, но когда он вновь увидел ее в день выбора невесты для юного государя, оказавшись в числе почетной стражи, стоявшей при входе в Золотой триклин, он понял, что не только не забыл ее, но теперь она взволновала его гораздо больше – повзрослевшая и еще похорошевшая… Посватавшись и получив отказ, Акила попытался выкинуть ее из головы и найти другую невесту – тем более, что отец уже давно побуждал его жениться и старался подыскать подходящую девицу. Хотя ни одна из девушек, которых находил отец, на взгляд Акилы, не шла ни в какое сравнение с Кассией, он послушно знакомился с ними и с их родителями, но каждый раз после нескольких визитов, когда прилично было бы завести речь о помолвке, чувствовал необъяснимое отвращение. Он честно рассказал об этом отцу, и патрикий, вздохнув, сказал:
– Ну, что ж, видно, не нашел ты еще свое счастье… Ищи сам, Бог с тобой! Торопить я тебя больше не буду, сынок.
Акила тогда с горечью подумал, что, скорее всего, он уже нашел «свое счастье», но оно не захотело даться ему в руки… Евфрасия была первой девушкой, от которой на его душу повеяло чем-то особенным, словно бы тонким ароматом прекрасного цветка. Он никогда прежде не испытывал ничего подобного в общении с женщинами, в том числе и с Кассией, так восхитившей его красотой и умом. В Евфрасии не было ни такой красоты, ни такого ума, но в ней было другое, что привлекало более красоты, восхищало более ума… Акила затруднился бы определить, что это такое: точно какая-то чудесная мелодия звучала в ней. Но тень прежней влюбленности продолжала смущать его и не давала видеть ясно. Он понял это только тогда, когда увидел перед собой ангела – выкрикивающего гневные слова, глядящего с ужасом, убегающего в слезах… Что теперь подумает о нем Евфрасия? А госпожа Марфа? Ведь Кассия, скорее всего, расскажет ей о происшедшем… О, Господи! Акила едва не застонал. Что делать? Дождаться завтрашнего дня и явиться к ним с извинениями? А если Кассия расскажет сестре о том, что он когда-то сватался к ней, и теперь… Ведь ей надо будет оправдаться от обвинений, брошенных сестрой, а что тут может быть лучше, чем рассказать правду?.. Его прошиб холодный пот. О, нет, нет, только не это!..
Он вскочил, выбежал из комнаты, спустился по лестнице, прыгая через две ступени, и, едва не сбив с ног горничную, вылетел из дома и бросился в конюшню. Геракл, уже вдоволь насладившись ячменем, дремал в стойле и удивленно помотал головой, когда конюх вновь принялся седлать его. Акила погонял коня всю дорогу и, только завидев белые стены знакомого особняка, перевел дух и немного отпустил поводья. Маргарита, вытрясавшая на дворе круглые шерстяные коврики, увидев гостя, всплеснула руками и, побросаав коврики, побежала в дом. Молодой человек последовал за ней и, смущенный, поднявшись на крыльцо, остановился перед дверью. Вдруг она распахнулась: на пороге стояла Марфа.
– Здравствуй, господин Акила, – сказала она с улыбкой. – Хорошо, что ты так скоро воротился. Входи.
На его щеках показался румянец. Он проследовал за хозяйкой в гостиную и там, когда она повернулась и взглянула на него чуть вопросительно, шагнул вперед и сказал:
– Госпожа, два с лишним года назад я не ошибся, когда попросил у тебя руки твоей дочери. Но я ошибся в том, рука какой из твоих дочерей мне на самом деле нужна. Теперь я осознал свою ошибку и хочу ее исправить, если ты позволишь мне это.
В засиявших глазах Марфы блеснули слезы.
– Конечно, мой дорогой, – улыбнулась она. – Лучшего мужа для Евфрасии я не могла и желать.
…Свадьбу отпраздновали в январе, и молодые почти сразу уехали из столицы, чтобы жить попеременно в имении то у Акилы, то у Евфрасии. Марфа совершенно успокоилась относительно будущей судьбы их фракийских владений: теперь было, кому позаботиться о них, – Акиле исполнилось уже двадцать пять, он хорошо разбирался в хозяйственных делах, и с таким мужем не страшно было отдавать в руки младшей дочери бразды управления большим имением. Маленькая хозяйка сияла; уезжая, она обещала матери «скоро-скоро народить много-много внуков» для нее…
Кассия надеялась, что сестра исполнит свое обещание, и понимала, что тогда мать, конечно, уедет жить во Фракию и нянчить внуков, обе дорогих ей женщины наконец-то будут счастливы, а вот она сама… До конца занятий со Львом оставалось около трех месяцев, подходило время принимать постриг, но Кассия не знала, в какой монастырь поступить. Студийский игумен называл несколько обителей, с чьими настоятельницами или насельницами состоял в переписке, – среди прочих монастырь на острове Принкипо, Гортинскую и Клувийскую обители, где монахини сохраняли православие и не общались с иконоборцами, – но при этом не советовал Кассии ничего определенного, оставляя свободу выбора. Конечно, надо было бы посетить указанные Студитом обители и посмотреть на тамошнюю жизнь, но девушка боялась ехать: насколько когда-то, в ранней юности, ею владели восторженные мечтания о том, как она поступит в монастырь и будет жить в безусловном послушании и трудах ради Бога, настолько теперь ею овладели опасения. Нет, она не боялась ни подвигов, ни трудов, ни самоограничения, ни постов – ее страшило другое.
«Я отказалась ради небесного Жениха от жениха земного, причем такого, в котором нашла бы настоящего друга, о каком всегда мечтала, – но неужели затем, чтобы провести всю жизнь среди людей… с которыми нельзя будет даже поговорить о том, что я столько лет изучала?» Кассия знала, что далеко не в каждом монастыре, тем более не в каждом женском, она найдет тех, с кем можно было бы беседовать о диалогах Платона или о символических толкованиях Гомеровских поэм… а даже если б и нашла, они, скорее всего, сочтут такие беседы излишними для монахов. «Зачем же, в таком случае, мне нужно было изучать всю эту философию? Зачем отец Феодор благословил меня на это? Чтобы я потом не пожалела? Но если я окажусь среди сестер, у которых на уме только псалмы и жития святых… я, пожалуй, еще быстрее пожалею – если не о том, что оказалась в таком окружении, так о том, что потеряла несколько лет на изучение предметов, которые мне не понадобятся… А скорее всего, и о том, и о другом!..»
Наконец, в мае она решила съездить на Принкипо и посмотреть тамошний монастырь: всё-таки в нем постригались в основном женщины из знатных семей, а значит, можно было не опасаться, что нравы там слишком грубы. Курс философии был окончен; конечно, они со Львом изучили не всех философов и направления, какие существовали у эллинов, но дальнейшие занятия она могла продолжать при желании и сама. Учитель пообещал к ее возвращению в Город составить план, по которому она могла бы дальше продолжить свое образование.
Принцевский монастырь по праву считался одной из богатых и привилегированных женских обителей: каменные здания, где каждая насельница имела отдельную келью; большой светлый храм, богато украшенный фресками, не пострадавшими от иконоборцев; прекрасный сад, виноградник, огород, козы, гуси и куры; обитель украшали пруд и цветники; в главном здании монастыря располагались маленький скрипторий и библиотека. По приезде Кассию провели к игуменье, и девушка попросила позволения пожить у них, посмотреть на здешнюю жизнь, поработать вместе с сестрами. Игуменья приняла ее с радостью и сразу выделила ей отдельную келью в монастырской гостинице. Кассия отпустила горничных, велев им приплыть за ней через три недели.
– Ах, госпожа! – сказала Маргарита, утирая слезы. – Тут так хорошо, так красиво, что ты, наверное, захочешь остаться… Вот мы приедем, а ты и скажешь, что уже всё!
– Ну, не так сразу, – улыбнулась девушка. – В любом случае еще кое-что надо будет уладить дома. И потом… тут красиво, да, но ведь главное не в этом.
На третий день после приезда Кассия познакомилась с Мегало, супругой покойного Сигрианского игумена Феофана. Хотя в монашестве ей дали имя Ирина, оно не совсем «прижилось», и ее нередко называли по-старому, особенно давние знакомые и друзья, в том числе Феодор Студит, который время от времени писал ей. Мегало было за шестьдесят, она провела в обители уже почти сорок четыре года и с того дня, когда Феофан привез ее сюда, ни разу не покидала острова. От игумена Феодора Кассия знала, что Мегало была родом из Константинополя и происходила из очень знатной и богатой семьи, была образованна и умна, и потому девушке было особенно интересно поговорить с ней о том, как складывалась ее монашеская жизнь. Монахиня была уже слишком немощна для телесных трудов и бо́льшую часть времени проводила в молитве или чтении. Когда вечером она сидела на лавочке в монастырском саду, Кассия подошла, поклонилась, и сказала, что знает о ней от Студийского игумена и хотела бы немного побеседовать. Та была рада услышать о Студите, расспросила Кассию, как жилось игумену в столице во время мятежа, и что слышно о нем теперь. Феодор был на Принкипо три года назад, и они повидались, но Мегало не решилась много расспрашивать его. С тех пор она получила от игумена несколько кратких писем и не осмеливалась слишком часто беспокоить его, хотя Трифонов полуостров находился совсем недалеко. Впрочем, вести о жизни Феодора так или иначе быстро доходили до островов, как и его поучения, которые студиты записывали и размножали, однако Мегало всегда рада была услышать об исповеднике что-нибудь еще. Кассия рассказала, что знала, и принялась расспрашивать монахиню о том, как устроена здешняя монастырская жизнь, что читают сестры и чем занимаются. Картина вырисовывалась обычная: молодые сестры посылались в основном на хозяйственные работы, способные к пению и чтению были заняты в церкви за богослужениями; трудившимся на хозяйственных послушаниях удавалось попадать в храм, конечно, далеко не на все службы; перепиской книг в монастыре занимались, но мало; библиотеку составляли творения святых отцов и книги Священного Писания, из светских произведений тут были только несколько трактатов по медицине и сельскому хозяйству.
– Философией или поэзией здесь не занимаются? – спросила Кассия.
– Ты имеешь в виду эллинскую философию и мирскую поэзию? Конечно, нет. Некоторые сестры пишут каноны и стихиры, у матери игуменьи есть даже трактат по стихосложению, и если она видит, что у сестры есть способности к песнотворчеству, она дает его изучить… Но на моей памяти у нас было всего трое таких сестер, они уже преставились к Богу.
– Скажи, матушка, а когда ты поступила в обитель, ты сразу привыкла к здешним порядкам? Прости, что спрашиваю, я не из любопытства, просто… я сама думаю о поступлении в монастырь и сейчас ищу обитель, куда могла бы удалиться из мира.
– Я понимаю. Поначалу мне было нелегко… В те времена жизнь здесь была гораздо суровее, чем сейчас, да и я сама была совсем не готова к такой перемене.
– Разве ты… не стремилась к монашеской жизни, матушка? – спросила Кассия.
Мегало пристально взглянула на нее, помолчала и ответила:
– Я бы не стала отвечать тебе, дитя, если б не видела, что тобой движет не праздное любопытство… Впрочем, дела эти давно минувшие, и меня уже не смутишь такими воспоминаниями. Теперь я думаю, что во всем был Божий промысел, и всяко моя жизнь прошла гораздо лучше, чем могла бы сложиться в миру… Ведь мой отец был другом самого императора, а муж уже в молодых летах получил чин спафария и был императорским стратором. Если бы мы с ним остались в миру, дальнейшую нашу жизнь представить легко. Вряд ли она была бы очень спасительной… и уж по крайней мере, точно не такой спасительной, как монашеская. Но в двадцать лет понять это мне было трудно, – она умолкла, задумчиво глядя на синевшую за соснами и пальмами Пропонтиду.
Кассия смотрела на нее и думала: «Ей было трудно понять, что монашество лучше мирской жизни, но она всё-таки пришла сюда, а я давно всё поняла, но… идти сюда… мне что-то не хочется!»
– К монашеству стремился Феофан, – продолжала монахиня. – Если б не настояние родителей, он бы никогда не женился, хотя нас с ним обручили еще в детстве. Настаивали не только родители, но даже сам государь… Но как только император Лев скончался, Феофан стал уговаривать меня избрать монашескую жизнь. О, он был красноречив! – Мегало улыбнулась. – В конце концов я согласилась, потому что не хотела огорчать его. Я понимала, что если буду настаивать на продолжении совместной жизни, это не сделает ее счастливой… А если бы муж ушел в монахи против моей воли, мне всё равно некуда было бы деваться. И я согласилась… Но первые несколько лет, скажу честно, я очень мучилась, мне даже не раз хотелось сбежать отсюда… Если б не Феофан, кто знает, как бы всё обернулось! Но он заботился обо мне: когда привез меня сюда, пожертвовал на обитель много денег, и мне сразу дали отдельную хорошую келью, а потом он всё время писал мне, ободрял, укреплял… Да, если б не он, мне пришлось бы несладко… Но ничего, дело прошлое! Теперь я уже ни о чем не жалею, слава Богу за всё! Но тебе, дитя, могу сказать одно: когда у человека нет иного выхода и иного выбора, то легко понять, в чем состоит воля Божия, и легче смиряться с неудобствами – а они везде будут, такие или иные, без скорбей нигде не проживешь. Если же выбор есть – конечно, выбор между возможностями, не противоречащими Божиим заповедям, – то, мне думается, надо избирать лучшее.
Когда, спустя три недели, Маргарита с Фотиной приплыли за своей госпожой и Кассия зашла к игуменье взять благословение на дорогу, та внимательно посмотрела на девушку и спросила:
– Ну, как, госпожа Кассия, приедешь еще к нам?
– Я подумаю, матушка.
Вернувшись домой, девушка запиской сообщила Льву, что опять находится в Городе. Он пришел на другой день утром и принес обещанный «философский план». Кассия просмотрела его и подняла глаза.
– Благодарю тебя, Лев! Благодарю за это и за всё, чему ты научил меня. Ты прекрасный учитель! – она помолчала, глядя на лежащие перед ней листки, исписанные красивым почерком ее преподавателя, и добавила с грустной улыбкой: – Правда, я не уверена, что у меня будет возможность заниматься по твоему плану.
– Почему же?
– Боюсь, что если я уйду в монастырь, то буду постигать философию каких-нибудь садово-огородных работ, тканья и шитья… или, в лучшем случае, каллиграфии… Как сказала одна девушка, монахам не положено изучать Платона, – Кассия усмехнулась. – Правда, я тогда ей возразила, что это нигде не запрещено, но в жизни дело обстоит, скорее, так, как говорила она… В общем-то, в этом есть своя логика: зачем для спасения души знать, о чем говорится в «Пире» или «Политике», в «Метафизике» или «Этике»? «Лествица», Патерик, толкования отцов на Писание, жития святых – вот пища подвижников! Конечно, епископы и священники должны быть так или иначе сведущи в мирских науках, ведь им приходится иметь дело с людьми разных званий и положений… Но зачем всё это простым монахам?
Она снова взяла в руки листки с «философским планом», несколько мгновений смотрела на них, вдруг побледнела, бросила их на стол и отошла к окну. Лев пристально наблюдал за девушкой. За почти три года занятий с Кассией, страсть его к ней совершенно угасла. Это стоило ему немалых усилий, но в целом, раз взяв себя в руки, собрав волю в кулак и запретив себе думать об определенных вещах, он достаточно быстро справился с собой: осталось только то, что было до любовной вспышки – восхищение ученицей, удовольствие от занятий и бесед с ней. В сущности, их отношения превратились просто в хорошую дружбу.
– Эта логика подходит для многих, – сказал он тихо. – Но для тебя – нет.
Она повернулась к нему.
– Да, но что, по-твоему, мне в таком случае делать? Предпочесть любовь к наукам любви ко Христу, как сказали бы некоторые?
– Зачем такая дилемма? – улыбнулся Лев. – Платон сказал, что «подлинно преданные философии заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью», а чем же иным занимаются монахи? Обе любви нужно просто объединить.
– Как? Разве что… создав собственный монастырь?
– Почему бы и нет?
Кассия села на стул у окна и какое-то время молча раздумывала.
– Идея заманчивая! – наконец, сказала она, поднимая глаза на учителя. – Но пока я не совсем представляю, как ее осуществить.
– Что ж, время терпит, я думаю. Главное – определить цель и стремиться к ней. Ты ведь помнишь: «Робкие мужи еще никогда не водружали трофеев». А чтобы тебя не смущала мысль, что ты «коснеешь в мирской суете», мы можем, пока суд да дело, еще продлить занятия философии, тем более, что план уже составлен. Это будет хорошей подготовкой для создания обители!
«Время терпит»? Да, но… если б не эта тоска! Если б не боль, шевелившаяся в ее сердце, когда она, проходя по Средней улице, видела сверкающий купол Золотого триклина… Ей хотелось поскорей убежать отсюда прежде всего именно поэтому – чтобы не видеть, чтобы меньше было поводов вспоминать. Но… на самом деле она обманывала себя: то, что жило в ее сердце, осталось бы с ней, убеги она хоть до крайних пределов Империи… Изживать страсть надо было изнутри. «А ведь если я уйду в какой-нибудь монастырь вроде этого на Принкипо, то там будет только еще больше пищи для этой страсти и тоски! Если я буду лишена всего того, что могла бы иметь, если б сделала иной выбор, то никогда не перестану вспоминать о нем!.. Нет, Лев прав! И иного выхода нет». Она вздохнула и улыбнулась:
– «Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов»! Всё-таки хорошо учиться у философа!
19. Персть земная
(Сергей Калугин)
- Бог мой! Это не ропот – кто вправе роптать?
- Слабой персти ли праха рядиться с Тобой?
- Я хочу просто страшно, неслышно сказать:
- Ты – не дал, я – не принял дороги иной.
В мае у Феофила с Феодорой родился сын. Мальчика окрестили Константином, крестным отцом, как и у Марии, стал Сергие-Вакхов игумен. После рождения наследника престола во дворце как будто бы воцарились покой и всеобщее довольство. Михаил заботился о восстановлении разоренных мятежом областей Империи, по обыкновению был несколько театрален и насмешлив. Феодора занималась детьми, которые теперь поглощали почти всё ее время и внимание, и Феофилу это нравилось – можно было не беспокоиться, что жене скучно. Феодоре нравилось возиться с малышами, и, по молчаливому согласию с императрицей-матерью, она почти целиком взяла на себя и воспитание маленькой Елены. Разница в возрасте между сестрой Феофила и его дочерью составляла всего четыре года, и юная августа вскоре стала относиться к Елене почти как к собственному ребенку, к великому облегчению Феклы, которая по-прежнему пребывала по отношению к дочери в некоторой растерянности: «Что же с ней делать?..» Молодой император стал изучать с Грамматиком латынь и продолжал углубляться в философию. Фекла на удивление похорошела, так что эпарх даже обмолвился, что августа-мать по красоте скоро не будет уступать своей невестке, но это приписывали тому, что императрица достигла пределов земного счастья – столь прекрасно устроила женитьбу любимого сына и дождалась от него внуков…
Разговоры по поводу того, что Фекла стала много общаться с Иоанном, император пресек с самого начала, обмолвившись несколько раз, что сам «попросил философа заниматься науками с августейшей, чтоб она не скучала». Кувикуларии августы слишком любили свою госпожу, чтобы сплетничать о ней с посторонними, а прочие, если даже что-то заподозрили, в любом случае боялись вызвать гнев императора: при дворе быстро стало известны слова василевса, что любой, кто «вздумает чесать языком» по поводу императрицы и Грамматика, понесет суровое наказание. Игумен часто проводил ночи или в Священном дворце – как думали его монахи, накануне служб в одном из тамошних храмов: после убийства императора Льва был введен новый порядок, и клирики, собиравшиеся утром служить во дворце, оставались там с вечера, – или на Босфоре, где, как считали братия монастыря, ему «лучше думается», ведь он, по слухам, продолжал истолковывать знаменитую Скрижаль!
В этом была доля истины. Однажды Иоанн, придя вечером в покои августы, протянул ей зеленую пластину с выгравированной надписью.
– Взгляни! Искусственный смарагд, я изготовил его по одному интересному египетскому способу.
– Надо же, а блестит, как настоящий! – подойдя к окну, Фекла поворачивала пластинку в последних лучах заходящего солнца. – Красота! А что тут написано?
– Текст Гермесовой Скрижали.
– О! – она подняла пластинку к начинавшему темнеть небу. – Как мелко, тонкая работа! Какой же ты искусник, Иоанн! А читается легко… «Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно: то, что внизу, подобно тому, что вверху, да осуществятся чудеса единой вещи…»
Дочитав, она немного помолчала и воскликнула:
– Ведь это – про любовь!
– Не попробуешь ли истолковать? – с улыбкой спросил Грамматик.
– А что, и попробую! – задорно ответила императрица. – «Чудеса единой вещи…» Ну, да. Эта вещь – любовь. «И подобно тому, как все вещи произошли от Единого чрез посредство Единого, так все вещи родились от этой единой сущности». Разве не по любви создал Бог мир? И разве не плодом любви является каждый рождающийся человек… по крайней мере, должен являться? Солнце – мужчина, Луна – женщина, отец и мать, всё правильно, ведь для рождения любви нужны двое… Ветер… о, ветер это, должно быть, буря страсти! «Земля ее кормилица» – это про плоть, конечно. «Вещь эта – родительница всяческого совершенства во всей вселенной». Ну, это и так ясно! «Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю». Да, если любовь настоящая, то плотское единение не умаляет ее, здесь Платон был не прав… Мы с тобой имеем тому доказательство, не так ли, философ?
Он молча улыбнулся. Императрица продолжала:
– «Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно, с большим искусством…» – она задумалась. – Конечно, это о разделении любви «правой» и «левой», по Платону, но не только… Знаешь, еще до того, как мы с тобой оказались на Босфоре, я однажды смотрела на твои руки… и подумала, что вот руки химика, и они, должно быть, могли бы ласкать женщину так же изящно, тонко, выверенными движениями и в то же время вдохновенно… словом, искусно… как отмеряют вещества для опытов, как переливают растворы… как только и нужно делать – во всем, и в земной любви тоже, и иначе не достичь совершенства! Теперь знаю, что не ошиблась… Я очень неприличные вещи говорю?
– Нет, прекрасные. Продолжай!
– «Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как высших, так и низших областей мира…» Ну, разве это не про любовь? И вышняя, и нижняя, «Афродита небесная» и «Афродита пошлая», правда? «Таким образом ты приобретешь славу мира, поэтому отойдет от тебя всякая тьма». Это уже, конечно, про любовь небесную… «Эта вещь есть сила всякой силы, ибо она преодолеет всякую самую утонченную вещь и проникнет собою всякую твердую вещь…» Разумеется! Это верно и о земной любви, и о божественной! «Так был сотворен мир…» Ну вот, всё понятно, по-моему… Как тебе такое толкование?
– Великолепное! Даже не могу решить, к какому роду толкований его отнести – духовному, душевному или телесному… Пожалуй, тут всё сразу!
Фекла осторожно положила изумрудную пластинку на столик у окна, подошла к Иоанну и обняла его.
– Я и понятия не имела, что способна на такие толкования, пока не узнала тебя… точнее, пока не стала совершенно твоей. Всё-таки настоящее познание приходит только через опыты… Теперь я понимаю, почему ты так пристрастился к ним с детства!.. Вот что значит быть женщиной философа!
– Да, но из всех женщин только одна оказалась способной ею стать, – улыбнувшись, ответил он и поцеловал ее.
Наступила осень, непривычно резко, пронизывающе холодная, с порывистыми ветрами и частыми дождями. Иоанн сказал императрице, что, быть может, уже пора начать «зимнюю жизнь», перенеся ночные встречи из его особняка во дворец. Но Фекле хотелось еще раз «пофилософствовать на ковре у камина», и за два дня до своих именин она снова пришла к знакомой пристани. Августа слегка покашливала, и Грамматик бросил на нее беспокойный взгляд.
– Пустяки! – улыбнулась она. – Прошлой ночью я не закрыла окно и немного замерзла… Вот мы с тобой погреем вино, выпьем, и всё пройдет!
Но когда они уселись перед пылавшим камином, спиной к дополнительно разожженной Грамматиком жаровне, оба только в нижних хитонах, Фекла вдруг передернула плечами и призналась, что ей почему-то зябко – у огня, вот странно! Иоанн обнял ее, ощутил, что она дрожит, как в ознобе, и прикоснулся губами к ее виску.
– У тебя жар, – сказал он. – Не надо было ехать сюда сегодня!
Он поднялся, стянул с кровати шерстяное одеяло и стал укутывать императрицу, но она остановила его:
– Сначала сядь рядом.
Когда они вместе закутались в одеяло, она прижалась к Грамматику и положила голову ему на плечо.
– Обними меня покрепче… Я тут думала вчера, что люди проводят жизнь в разных страстях, и это такая внутренняя горячка… А когда-нибудь она прорывается наружу горячкой внешней, и человек заболевает и умирает… Знаешь, почему мне захотелось непременно приехать сюда? Мне подумалось, что, может, скоро это всё закончится…
– Что за мрачные мысли?
– Так, предчувствие… А вчера ночью, как раз когда я замерзла, мне приснилось, что я умираю. То есть… снилось то, что будет после, когда умру… Будто я плыву одна в темноте по какой-то черной воде. Везде чернота, понимаешь? И ничего вокруг не видно, одна эта темная вода. А мне надо плыть… куда-то переплыть… И тут я начинаю тонуть. Вода эта черная, она меня затягивает вглубь, будто в водоворот. И такая она холодная, ужасно холодная! И я хочу за что-нибудь уцепиться, а не за что – вокруг ничего и никого… И такой страх, такой ужас леденящий!.. Нет, это не пересказать… Я проснулась, и мысль вдруг – вот так после смерти будет: никто не поможет, и утонешь в этой черной воде… Каждого будут топить свои грехи…
– Темные воды Стикса…
– Да, похоже! Может, древним тоже снились такие сны?
– Да, одинаковые сны иногда могут сниться разным людям. Древние многое знали, хотя и смутно. Тот же Платон – помнишь, что пишет о суде и будущей жизни?
– Да, удивительно, как близко к христианству!.. Но видишь, несмотря на сон, я опять здесь! Всё-таки странен человек, правда? И боится возмездия, а всё равно грешит… Ведь я понимаю, что ужасно грешила в последнее время – а ни о чем не жалею! Нет во мне сожаления, и всё тут… Я вот думаю: если каяться, то что это будет за покаяние, если я всё равно не жалею?
– На днях один монах спрашивал меня об этом. Я сказал ему, что человек должен каяться, как может, а Бог милует, как Сам знает. Если нет сокрушения или слез, то их не выжмешь из себя силой, да это и не нужно.
– Но ведь покаяние – это изменение жизни, а я ничего не меняю. Как не было сил противиться, так теперь нет сил что-то менять… Да и желания нет. Всё равно, если б заново, я бы опять то же сделала!.. А ведь я всю жизнь почти прожила так тихо… Разве что на мужа раздражалась, роптала иногда, что отец так выдал меня замуж… А так – всё было ровно, спокойно… А вот! Что ты сделал со мной, философ? – она повернула к нему лицо.
– А ты со мной что, моя августа? – тихо проговорил он. – Ведь и я двадцать лет думал, что с женщинами в моей жизни покончено навсегда.
– Просто Платон оказался прав, – улыбнулась она. – А впрочем, не в этом дело… Разве я могла бы не полюбить тебя, мой философ?
За ночь еще похолодало, и ветер пробирал до костей. Иоанн попросил у брата теплый плащ, чтобы укутать императрицу, но она всё равно замерзла, пока они плыли по Босфору, и кашляла всё сильнее. На следующий день торжественно отмечалась память святой первомученицы Феклы, именинница принимала поздравления, но праздничный обед вынесла уже через силу, а вечером слегла в жару. Десять дней ее лихорадило почти без перерыва, мучили головные боли, иногда болело в спине и в боках. Врачи предписали полный покой, сказали, что постель должна быть как можно мягче, прописали водяные и соляные грелки, а на ночь непременно медовый напиток; насчет питания больной у них вышел спор: главный придворный лекарь сказал, что лучше всего ограничиться первые дни ржаным супом, но два других врача возражали ему, говоря, что больная может отощать, а в такой болезни это опасно, советовали давать ей хотя бы вареную рыбу с ориганом; насчет питья все согласились, что нужно давать больной очень сладкое темное вино. Фекла, послушав ученые споры сынов Асклепия, слабо улыбнулась и сказала, что у нее и так почти нет аппетита, а от ржаного супа он вряд ли появится; в итоге остановились на рыбе и вареной в козьем молоке чечевице с кунжутом. На десятый день кашель усилился, из легких пошли выделения с гноем, но мало. Врачи с беспокойством ожидали, как дело пойдет дальше.
С самого начала болезни Фекла велела никого не пускать к ней, кроме мужа, детей, невестки, врачей и двух приближенных кувикуларий, и поручила своему препозиту всем, приходящим навестить ее или узнать о ее здоровье, выражать от ее имени благодарность за любовь, – видеть лишних людей она не хотела.
– У меня осталось слишком мало времени, – сказала она.
– Помилуй Бог, трижды августейшая! – воскликнул препозит. – Да продлит Господь житие твое на многие и многие лета!
Августа только слабо качнула головой. Она послала Афанасию сказать Сергие-Вакхову игумену, что она заболела, и поэтому их обычные занятия отменяются, и передать записку, где стояла одна фраза: «Если мы больше не увидимся, прости меня, молись за меня и знай, что, если бы не ты, я бы никогда не узнала, что такое счастье». Когда у нее были силы слушать, она приказывала кувикулариям читать ей вслух Евангелие или Псалтирь, а когда уставала, то просто лежала с закрытыми глазами и молилась про себя, пока не засыпала. Впрочем, на вторую неделю болезни ее стала мучить бессонница. Врачи давали ей на ночь молоко, но оно только несколько смягчало грудь, однако кашель не прекращался, и больная с каждым днем слабела.
7 октября императрице передали большую просфору из Сергие-Вакхова монастыря, где отмечался престольный праздник. Фекла улыбнулась и долго ела подарок, отщипывая по кусочкам, а когда доела последние крошки, сказала Пелагии:
– Ну, вот, теперь можно и умереть.
– Господи, помилуй и спаси! – воскликнула кувикулария. – Ты еще, даст Бог, столько же проживешь, августейшая!
– Зачем, Пелагия? – тихо спросила императрица. – Я уже получила от судьбы так много… Проживи я еще одну жизнь, не имела бы больше счастья, чем в последнее время. Чего мне еще желать? Когда-то я думала, что мне не очень повезло в жизни… но надеялась найти утешение в сыне, во всяких делах благочестия… За сына благодарю Бога! А вот с благочестием не вышло… Хотя я честно старалась, но счастье нашла не в добродетели, а в грехе, и к иному счастью, видно, неспособна. Ну вот, погрешила, и довольно! Святые перед смертью просили время на покаяние… Но святые умели каяться, я всё равно не сумею, как они! Пока я лежала больная, я молилась… И если Бог примет мое покаяние – Его милость! А не примет – праведен суд!
На четырнадцатый день болезни августа была в том же положении, а боль в спине и боках даже усилилась. Главный врач стал хмуриться и качать головой. Самой больной он пока не говорил ничего определенного, но императору наедине сказал, что дело может обернуться скверно. Известие напугало Михаила, но заметивший это врач, конечно, не мог догадаться, что император боится вовсе не близкой смерти жены, а тех перспектив, которые могли в результате открыться перед ним. Безумная мечта, овладевшая им три года назад, всё это время оставалась лишь мечтой, желанием, иногда наполнявшим его горечью, иной раз вызывавшим досаду на самого себя за «слабость», – но мог ли он подумать, что судьба так скоро предоставит ему возможность эту мечту осуществить? Однако эта возможность замаячила на горизонте, и император испугался: а что, если дело пойдет не так, как ему мечталось?.. Молиться искренне о выздоровлении жены он не мог, но понимал, что просить о скорейшем осуществлении его мечты было бы не очень-то благочестиво, и потому молился лишь о том, чтобы исполнилась воля Божия.
Прошла еще неделя. Императрица потеряла аппетит и совсем ослабела, иногда по ночам у нее начинался бред. В субботу сын заходил навестить ее с утра, но Пелагия сказала, что августа только что уснула, и Феофил вновь пришел вечером. Мать не спала и на вопрос о самочувствии ответила:
– Сегодня мне стало так легко, знаешь… почти ничего не болит… Я, сынок, верно вот-вот умру.
– Мама! – он сжал ее руку.
– Видно, так Богу угодно… Когда я умру, молись за меня…
Он опять сжал ее пальцы, губы его дрогнули; он хотел что-нибудь сказать, но не находил слов. Они помолчали.
– А помнишь, – тихо сказала Фекла, – когда ты был маленький, ты раз спросил у меня, как стать императором?
Феофил ненадолго задумался.
– Да… помню.
– Удивительно, правда? Вот как сбываются детские мечты…
– Да, – Феофил помолчал. – И мечты, и пророчества, всё сбылось… Только непонятно, что теперь со всем этим делать!
Мечты! Все его мечты, как ни странно, сбылись. Стать императором, судить по правде… Воевать с врагами… «Найти свою половину»… Но счастья это ему не принесло!
– Бывает, мама, – сказал он тихо, – что одна мечта, сбывшаяся не совсем так, как думалось, сводит на нет всё прочее!
Лицо его потемнело. Фекла протянула руку и погладила сына по колену.
– Не сводит, Феофил. Да, не всё получается так, как мы хотим. Но, должно быть, так нужно для нас. Ты говоришь: что делать? Жить. Что же еще можно делать? Жить и стараться понять, зачем всё получилось именно так.
Он взглянул на мать.
– Да разве это всегда можно понять?! Послушай, мама… Я ведь знаю, что ты никогда не была в восторге от твоего замужества… И вот, ты понимаешь, зачем тебе было послано такое испытание?
– Конечно, – она улыбнулась. – Ради того, чтобы появился ты, мой мальчик. Я старалась вырастить тебя таким, чтобы я могла гордиться тобой. И ты таким вырос! Даже более того… Не только я, любая мать могла бы гордиться таким сыном! А испытание… что ж, оно было, но было и утешение. Сейчас, когда я вспоминаю бывшее, то помню только хорошее, оно такое ясное! А что было горького – как туман застлал, словно и не было этого… Но греховного много… – она помолчала. – Хорошо, что Господь еще дал мне время помолиться перед смертью, не внезапно забрал… Теперь я лишь благодарю Бога за всё… и за тебя – в первую очередь! И я бы хотела, чтобы ты в конце жизни мог так же быть благодарным Богу за всё – и за то, что сейчас кажется тебе горьким. И чтобы ты уже не задавал никаких вопросов, «зачем» и «за что»… Помнишь, в Евангелии Господь говорит апостолам: «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем»? Мне кажется, здесь как раз об этом… Но я верю, Феофил, что ты еще обретешь свое счастье!
«Земная жизнь – пыль! – думал Феофил, уходя от матери. – Земное счастье – блажь… Точнее, если верить философам и святым, оно – в добродетели… Значит, я неспособен к такому счастью, – он горько усмехнулся. – Мама!.. У нее был я… Она может, умирая, гордиться мною… Чем смогу гордиться я, когда буду умирать? Если я не могу быть добродетельным, то, по крайней мере, надо позаботиться о том, что называют земной славой!.. Мудрецы говорят, что чем добродетельней человек, тем счастливее, а я, чем больше стараюсь вести себя добродетельно, тем несчастней становлюсь! Должно быть, потому, что стараюсь только внешне, а внутренне не в силах… И земного счастья лишен, и к высшему неспособен! Если это наказание, то за что? А если испытание… то ради чего?!..»
В воскресенье оба императора после литургии пришли проведать Феклу. Михаил рассказал о том, как прошла служба и как Феофил сам руководил хором и пел так, что даже самые болтливые из патрикиев смолкли и слушали с восхищением. Императрица смотрела на сына с улыбкой, и Феофил тоже улыбался ей в ответ, хотя его сердце терзалось скорбью. Наконец, отец с сыном поднялись, и молодой император, поцеловав мать в щеку, пошел к двери. Михаил последовал за ним, но уже у самого выхода вдруг остановился, вернулся и, посмотрев на жену пронизывающим взором, тихо спросил:
– Ну что, игумена-то позвать?
Фекла вздрогнула, и румянец выступил на ее бледных щеках. Она опустила ресницы, помолчала и ответила еле слышно:
– Если возможно.
– Разве для ромейской августы есть что-то невозможное? – сказал Михаил с чуть заметной усмешкой.
«Что ж, – подумала она, глядя вслед мужу, – я не просила, он сам предложил… Воля Божия!»
У Грамматика мучительной болью сжалось сердце, когда, подойдя к ложу императрицы, он увидел, как Фекла бледна – почти до прозрачности. Он понял, что она, скорее всего, не доживет и до следующего дня.
– Здравствуй, Иоанн, – тихо сказала она, взглядом приказала дежурившей у нее в тот день Афанасии отойти к двери, и продолжала еще тише. – Я очень хотела тебя видеть, но не звала… Думала, что хотя бы теперь… нужно покончить с этим, – она убрала руки под одеяло.
– Я так и понял, поэтому не пытался навестить.
– Я знаю, поэтому не ждала тебя. Просфору съела, – она улыбнулась, – и думала, что вот и прощание. Но сегодня Михаил сам предложил позвать тебя… и я решила, что значит – воля Божия…
– Государь великодушен до конца!
– Да… Он всё-таки оказался более… чутким… чем я думала всю жизнь… Иоанн!
– Да?
– Я хочу исповедаться патриарху. Я должна сказать про то, что было… конечно, без имен, но ведь он наверняка догадается…
– Мне это не повредит, не тревожься об этом.
Афанасия кинула на них взгляд и вышла из спальни, оставив августу наедине с игуменом. Когда за кувикуларией опустилась завеса, Фекла улыбнулась.
– Иоанн! Благодарю тебя за всё, что ты мне дал! Я была так счастлива! За эти три года я прожила жизнь… несравнимо лучшую, чем всё, что у меня было раньше! Пока я тут лежала эти дни, я молилась, каялась, но… Всё равно то, что было у нас с тобой, хоть и грех, я считаю даром судьбы, и я за этот дар тоже благодарила Бога… хотя это, наверное, очень дерзко и совсем неправильно. Но ты теперь молись за меня, чтобы Господь простил мне… Всё равно ты монах… и будешь жить, как прежде… Всё-таки на мне грех, что я… соблазнила тебя… Прости! Иногда мне думается, что ты пожалел меня, дав мне всё это… то, что другим не досталось.
– Я хотел посмотреть, смогу ли хоть одну женщину сделать счастливой. Кажется, смог, – нежная улыбка тронула его губы и отозвалась сиянием в ее глазах. – Потому что ты – это ты. То, что тебе досталось, и могло достаться только тебе. И мне тоже есть за что быть тебе благодарным. Но прости меня! Я повинен в этом соблазне больше тебя… Конечно, я буду молиться.
Они немного помолчали, глядя друг на друга. Наконец, губы императрицы дрогнули, и она чуть слышно произнесла:
– Ну, всё. Прощай, мой философ! Или… до встречи – там?
Игумен поднялся, почти такой же бледный, как она.
– До встречи, моя августа!
Когда Иоанн ушел, Фекла велела сообщить патриарху, что она желает исповедаться, и Антоний пришел с Дарами. Императрица сомневалась, станет ли он ее причащать, узнав о прелюбодеянии, но патриарх, выслушав ее исповедь, ничего не сказал, благословил августу и причастил ее. Фекла приняла Святые Тайны и, испив теплого вина, растворенного водой, вновь откинулась на подушки; в глазах ее стояли слезы. Она взглянула на патриарха и тихо проговорила:
– Благодарю, владыка. Я еще… хочу сказать тебе несколько слов.
Патриарх кивнул архидиакону и иподиаконам, чтобы те отошли. Антоний приблизился к изголовью умирающей.
– Думаю, я сегодня отойду, святейший… Молись за меня, чтоб Господь избавил мою душу от вечных мучений!
– Господь да помилует тебя, чадо, – так же тихо ответил Антоний.
– У меня к тебе последняя просьба, владыка.
– Я исполню всё, что в моих силах, государыня.
– Прошу тебя, не наказывай никого… за то, что я сделала.
Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу.
– Хорошо, августейшая, – сказал патриарх.
– Обещаешь, владыка?
– Обещаю.
Император пришел к жене после вечерни. В покоях стоял полумрак, уютно мерцали светильники. Сидевшая в изножии постели императрицы Афанасия вскочила при виде Михаила и с поклоном отошла к дверям. Симеон, придворный врач, шепнул василевсу на ухо, что августа может преставиться в любой момент. Михаил подошел и сел у изголовья. Умирающая открыла глаза.
– Всё в порядке? – спросил император.
– Да, – ответила Фекла еле слышно, посмотрела на мужа долгим взглядом и прошептала: – Прости меня!
– Глупости! – сказал Михаил. – Не бери в голову.
Он взял ее за руку, тихонько пожал, наклонился и поцеловал императрицу в лоб. Фекла закрыла глаза и глубоко вздохнула. Император выпрямился, взглянул на жену, вдруг быстро поднялся и повернулся к врачу:
– Симеон!
Тот подошел, посмотрел в лицо августы, склонился, пощупал пульс, перекрестился и тихо проговорил:
– Августейшая государыня скончалась.
Наутро тело почившей после заупокойной литии во дворце, было на золотом одре торжественно перенесено в храм Святых Апостолов для отпевания. По его завершении, магистр оффиций возгласил:
– Войди, царица, зовет тебя Царь царствующих и Господь господствующих! – он повторил это трижды и прибавил: – Отложи венец от главы твоей!
Препозит приблизился к одру, снял с головы усопшей диадему, а вместе нее возложил порфировую повязку, и тело с пением «Святый Боже» положили в саркофаг из белого мрамора в Юстиниановой усыпальнице.
Перед поминальным обедом Феофил, найдя среди приглашенных клириков Сергие-Вакхова игумена, сказал ему, что их уроки отменяются на неделю, и про себя поразился, как Грамматик побледнел и осунулся. У Феофила впервые мелькнула мысль, что мать и учителя связывало, что-то более глубокое, чем просто дружеские отношения между любознательной августой и ученым игуменом. Впрочем, относительно матери он давно подозревал, что она питает к Грамматику определенное пристрастие, но теперь подумал, что, возможно, философ тоже относился к императрице не совершенно философски… «Видно, не бывает на свете чистой философии! Во всех сидит одна и та же персть, в одних больше, в других меньше… но никто не избавлен!..» Наутро Феофил, встретив в одном из переходов дворца эконома Сергие-Вакхова монастыря, поинтересовался, чем занят Иоанн.
– Отец игумен после литургии уехал на Босфор к брату, – ответил монах. – Устал, видно: бледный, как мертвец… Сказать честно, я его таким никогда еще не видел!
«А мне куда уехать?» – думал Феофил, через четверть часа садясь на коня. В сопровождении кандидатов он выехал через Скилы на Ипподром, а оттуда проследовал к Книжному портику. Посмотрев там книги и немного поговорив с торговцами, он вышел, раздал милостыню собравшимся у портика нищим и беднякам, и хотел ехать дальше, когда ему в ноги бросилась плачущая женщина. Один из кандидатов поднял ее и спросил, чего она хочет. Захлебываясь слезами, она рассказала, что ее муж, долгое время проработав со старшим сыном в помощниках у одного пошивщика обуви, решил открыть собственную мастерскую и для этого ссудил большую сумму денег, но спустя полгода скоропостижно умер, не успев отдать всего долга, и теперь заимодавцы требовали денег, угрожая отобрать мастерскую. Если б они согласились подождать, сын, уже ставший хорошим мастером, смог бы отдать долг сполна, но они не хотели… Император сделал знак рукой кандидату, у которого на поясе висел мешок с милиарисиями. Тот подошел, и Феофил взял три горсти серебряных монет, положил в развернутый тут же кандидатом льняной плат, собственноручно завязал и протянул узелок вдовице. Она упала ему в ноги, величая «благодетелем и спасителем», эти крики тут же были подхвачены собравшимся вокруг народом.
«Куда же от них уедешь? – грустно подумал Феофил. – Раз уж такой крест возложил Бог, надо нести! Впрочем, чем я недоволен? – усмехнулся он про себя, вновь вскакивая на коня. – У меня есть всё, чего только может пожелать человек на земле… всё, кроме одного! Стагирит был прав: “Не получать того, к чему стремишься, – всё равно что ничего не получать”… Только перестану ли я когда-нибудь стремиться к тому, чего не получил? Разве что сделаюсь самодостаточным, по тому же Аристотелю… Добродетельным и самодостаточным… Только ведь и они нуждаются в друзьях! В друзьях, да, но не в женах… – он стиснул зубы. – Когда же это кончится?!..»
«Вот и кончился… опыт», – думал Грамматик, поднимаясь по главной лестнице на второй этаж Арсавирова особняка.
– Один приехал? – спросил брат, оглядывая игумена, когда они вдвоем очутились на террасе и Иоанн сразу же опустился в любимое плетеное кресло. – Я всё ждал, что ты приедешь или хоть напишешь, убираться у тебя там или нет… Да какой ты бледный! Ты не болел? – Грамматик молча качнул головой. – Что, рассорился… с твоей женщиной?
– Нет. Мою женщину вчера похоронили в храме Апостолов.
– Что?!.. – Арсавир на несколько мгновений потерял дар речи; Иоанн смотрел мимо него на расстилавшийся впереди Босфор. – Ты… шутишь, должно быть?
– Ничуть.
Арсавир отошел к периллам террасы, облокотился и долго стоял, следя за чайками. Было довольно прохладно, но ни один из братьев не замечал этого. Наконец, старший с усмешкой повернулся к младшему.
– Да, это в твоем духе: если что брать, то уж не мелочиться! Если власть, то такая, чтобы заставить последовать за собой целую Империю… Если женщина, то…
– Давай не будем об этом, – Иоанн слегка нахмурился. – Дело в другом, но объяснять я ничего не намерен.
Он умолк и закрыл глаза. Арсавир пристально взглянул на него и внезапно, подойдя, присел на корточки рядом с креслом и положил руку на плечо Грамматику.
– Прости, брат!
– Пустяки, – сказал Иоанн, не открывая глаз. – Пройдет. Лучше прикажи принести вина.
Вернувшись от Арсавира два дня спустя, игумен, не заходя в монастырь, отправился к патриарху и передал через келейника просьбу принять его по личному делу. Когда он вошел, Антоний окинул его внимательным взглядом и спросил:
– Что, отче, пришел каяться?
– Да, пора.
– А ты знаешь, – сказал патриарх, надевая омофор, – что горячо любимые нами иконопоклонники распустили слух, будто ты устраиваешь на Босфоре оргии?
Иоанн приподнял бровь.
– Еретик, умею читать мысли, ищу философский камень, волхвую да еще и оргии устраиваю… Завидная слава!
– Ты всё шутишь, а ведь тебе бы следовало быть поосторожнее… Тебя видели в лодке, якобы вместе с монашкой, и тут, и там, когда вы подплывали, видимо. Вот и пошел слух, что ты водишь к себе красивых монахинь и устраиваешь оргии…
– Что-то от оргий в этом было, – задумчиво сказал Грамматик.
– Всё шутишь! – покачал головой патриарх.
– Владыка, меня еще твой предшественник пытался убедить, что в моем положении надо вести себя осторожнее, и ему я ответил тогда то же, что сейчас скажу тебе: я никогда не просил ставить меня в такое положение и не собираюсь ради него отказываться от тех опытов, которые мне интересны. А моя репутация в известных кругах всё равно уже так испорчена, что заботиться о ее улучшении, тем более в этих кругах, было бы весьма глупо.
– Разумеется, хотя «никого нельзя заставить отчитываться в бездействии», глупо было бы подражать Гальбе… Но знаешь, иногда кажется, что ты нарочно делаешь то или иное, чтобы лишиться твоего положения.
– Нет, святейший. Но теперь я действительно должен его лишиться.
– Посмотрим… Что ж, помолимся!
Когда исповедь окончилась, они какое-то время молчали.
– Вот что я скажу тебе, отец игумен, – наконец, заговорил патриарх, – епитимию ты, безусловно, заслужил, но я предоставляю тебе назначить ее самому.
– Как, всё-таки «отец игумен»? – с усмешкой спросил Иоанн.
– А чего ты ждал? – Антоний снял омофор. – Если я тебя смещу, твои монахи меня съедят с потрохами! Затевать такое было бы неразумно. Не суд же над тобой прикажешь устраивать? Оба государя этому отнюдь не обрадовались бы. И толку от этого всё равно никакого не будет, только шум, соблазн, да еще иконопоклонникам повод для торжества. Ты знал, что делал, так теперь сам и наказывай себя! Но сан и всё прочее я за тобой оставляю.
– Думаешь, повторится патериковая история про елеонского монаха, который требовал у правителя покарать его за грехи, а тот отказался?
– Ха!.. Ну, а почему бы и нет, собственно? Но надеюсь, ты не станешь заковывать себя в железо и говорить всем, что тебя заковал патриарх?
– О, нет! – ответил игумен с коротким смешком. – Есть и другие способы покарать себя.
– Вот и ладно… И потом, сам посуди: наказание должно быть неприятным для наказуемого, а если б я устроил над тобой суд с лишением сана, это принесло бы гораздо больше неприятностей нам, чем тебе.
Грамматик усмехнулся. Они с патриархом хорошо понимали друг друга, и немудрено: сын священника, бывшего некогда сапожником и рукоположенного в пресвитера за свою благочестивую жизнь, Антоний, в миру звавшийся Константином, благодаря покровительству кое-кого из богатых прихожан, очень уважавших его отца, получил прекрасное образование и в молодости давал детям частные уроки грамматики, читал в Сфоракии лекции по праву и, вероятно, занимался бы этим до сих пор, если б не шум, поднятый родителями одного из его учеников: тот обвинил учителя в развращении его сестры. Существовали две версии причин этого скандала: не то там действительно имела место любовная история, не то девица пыталась совратить Константина, но, не преуспев, со злости поступила, как некогда египтянка с Иосифом Прекрасным. Сам учитель не любил вспоминать тот случай, вынудивший его принять постриг с именем Антоний в так называемом Митрополичьем монастыре, который он и возглавил через несколько лет, после смерти настоятеля, по общему желанию братии. Новый игумен любил пошутить и часто по разным случаям монастырской жизни цитировал античные комедии и трагедии; братия души в нем не чаяли, зато монахи из других обителей нередко порицали его и называли «баснословом». Впрочем, это нимало не заботило Антония и нисколько не помешало его последующему назначению на Силейскую кафедру. Со времени работы в группе «антикенсоров» при Льве Армянине у Антония с Иоанном завязалось что-то вроде дружбы: нельзя сказать, чтобы они пускались друг с другом в откровенности, но при случае любили поговорить, пошутить и пофилософствовать.
– Посему, – продолжал патриарх, – изобретай себе неприятности сам, отче. Тем более, что я обещал не карать тебя в связи с этой историей.
– Обещал? Кому?
– Ей.
– Вот как!..
Опять на некоторое время повисла тишина.
– По-твоему, я слишком снисходителен? – спросил патриарх с усмешкой.
– Возможно, что не слишком. Хотя большинство не согласилось бы с этим.
– Большинство!.. Большинство всегда интересуется сплетнями и никогда – истиной.
– Вот именно, владыка. Как говорил Аврелий, «если вообще есть что-нибудь в жизни, что влекло бы к ней и в ней удерживало, то лишь одно: возможность жить в общении с людьми, усвоившими те же основоположения, что и мы». А таких людей мало, и всегда жаль упускать возможность подобного общения. Иногда ради этого приходится несколько отступать от добродетели, что поделать! В этом, конечно, есть некое противоречие с философской точки зрения… Но у каждого свои слабости, в том числе у философов, – Иоанн слегка улыбнулся, хотя понимал, что вряд ли обманет этим патриарха: впервые в жизни он не смог потопить свою боль в Босфоре и, даже не глядя в зеркало, мог сказать, что вид у него неважный. – Впрочем, Аристипп считал, что нужно не столько воздерживаться от наслаждений, сколько «властвовать над ними, не подчиняясь им». А я думаю, главное, чтобы не притуплялись умственные способности. Если ум на месте, всё прочее поправимо.
– Поразительный ты всё-таки человек! – патриарх пристально взглянул на игумена. – Но ты что-то бледен, почтеннейший, – Антоний подошел к шкафчику из черного дерева и достал с верхней полки стеклянный кувшин с вином и два кубка. – Выпьешь?
– Пожалуй.
…Как только прошли сорок дней после смерти императрицы, Михаил, внешне довольно успешно изображавший должную скорбь – впрочем, ему по-своему было жаль покойную, однако не слишком, – призвал к себе великого папию и сказал ему наедине:
– Вот что, брат, я хочу жениться. О, только не надо так таращить глаза, дорогой мой! Таково мое желание – полагаю, этого объяснения достаточно. Молчи и слушай внимательно. Ты ведь знаешь, я люблю представления, и теперь на очереди еще одно. Побудить меня к женитьбе должен Синклит. Я еще поговорю об этом с препозитом и логофетом, но первому говорю тебе. Господа синклитики должны будут в ближайшее время всячески склонять меня к новой женитьбе. Естественно, я буду отказываться, уверяя, что свято и незабвенно чту память моей покойной супруги. Но господа синклитики будут настаивать, говоря примерно так: «Не подобает августейшему императору жить без жены и оставлять наших жен без госпожи и императрицы!» Тогда я, как бы нехотя, соглашусь. Впрочем, – он хитровато улыбнулся, – я не стану долго противиться, к середине декабря уступлю. А там и до свадьбы недалеко будет! Всё понял, брат?
– Понял, государь, – проговорил папия, слушавший императора с возрастающим изумлением. – Э-э… А что, невеста…
– Невеста уже выбрана. Но кто она, я объявлю, когда уступлю уговорам Синклита.
Уговоры эти начались спустя неделю и продолжались до 18 декабря. Синклитики припадали перед Михаилом и то просили, то увещевали, а то и настаивали на том, что императору необходимо «вновь обязать себя законом супружества, чтобы сохранялось благочиние в ромейском государстве, и чтобы служительницы его величества не оставались без августейшей госпожи». При этом, однако, почти у всех в глазах сквозило недоумение: если само по себе желание вторично жениться еще можно было понять, то никто не понимал, почему император так спешит с этим делом. Наконец, в воскресенье Михаил объявил собравшимся на прием чинам:
– Обдумав всесторонне ваши просьбы и настояния, я склоняюсь к тому, чтобы уступить вашим увещаниям. Но, поразмыслив хорошенько, я рассудил, что мой новый брак должен быть полезным не только тем, что доставит удовольствие вашим почтенным супругам, вновь даровав им госпожу и августу, но и тем, что укрепит наше государство и будет способствовать миру и порядку в нем. Все вы знаете, за кого выдавал себя проклятый мятежник Фома, и как успешно своей богомерзкой выдумкой он поначалу соблазнял простой народ. Желая раз и навсегда прекратить саму возможность для подобных толков, я намерен породниться с той, в ком действительно течет кровь августейшего Константина, а именно – с его дочерью Евфросиной, которая в настоящее время проживает в Свято-Троицком монастыре, что у Силиврийских ворот.
В тот же день в обитель были отправлены двое патрикиев. Они сообщили Евфросине о решении императора и Синклита, и сказали, что на следующее утро за ней будет прислана повозка, чтобы доставить ее в Священный дворец. Император находился у себя в покоях, отдыхая после литургии, когда ему сообщили о том, что невеста привезена и ожидает в приемной.
– Приведите ее! – велел Михаил, вставая с кресла.
Когда препозит ввел монахиню, она поклонилась и, поднявшись, продолжала стоять, не поднимая взора, очень бледная. Михаил заметил темные круги у нее под глазами и подумал, что она, должно быть, не спала в эту ночь. Император велел препозиту и страже выйти, запер за ними дверь и подошел к Евфросине. Она по-прежнему смотрела в пол, и в ней ощущалось сдерживаемое напряжение. А Михаил, увидев ее, был охвачен столь сильным волнением, что приготовленные речи вылетели у него из головы, и он совершенно потерялся.
– Ты, верно, сегодня плохо спала, Евфросина? – наконец, спросил он, понимая, что вопрос выглядит чрезвычайно глупо.
Она вздрогнула и тихо ответила, не поднимая глаз:
– Да, государь.
Он помолчал, прошелся из одного конца комнаты в другой и снова остановился перед монахиней.
– Что ж, ты… не рада, я вижу? А помнишь, ты сказала, что у тебя нет и никогда не будет выбора? Как видишь, ты ошиблась.
Она опустила голову и ничего не ответила. У него так билось сердце, что кровь шумела в ушах.
– Мне казалось, – продолжал он, – что ты… не очень-то счастлива жизнью в монастыре… Я думал, ты будешь рада перемене участи… тому, что появится выбор… Но, кажется… я ошибся, – он с трудом выговорил последнее слово.
– Разве у меня появился выбор, государь? – проговорила Евфросина чуть слышно, не поднимая головы. – Не по твоему ли приказу меня доставили сюда?
Император побледнел, несколько мгновений молча смотрел на нее и сказал:
– Ты права, – голос его был глух. – В таком случае выбирай. Если ты не хочешь остаться здесь, я немедленно прикажу вернуть тебя в обитель и отменю все распоряжения относительно женитьбы. Мне ведь не впервой… разыгрывать представления! – усмехнулся он и побледнел еще больше.
Щеки Евфросины окрасились румянцем. Она взглянула на Михаила, тут же опустила взор, глубоко вздохнула, медленно подняла руки к горлу – и шерстяная мантия соскользнула с ее плеч и упала на пол. Так же медленно Евфросина сняла куколь, кинула его на стул, вытащила из волос несколько шпилек, и тяжелые волны пшеничного цвета рассыпались по ее плечам. Она подняла глаза и улыбнулась.
– С того дня, как ты приходил к нам в обитель, я перестала стричься. Подумала, что раз у меня… немонашеские мысли, то нечего и стричься по-монашески… пока не поборю помысел. Но так и не поборола. Видишь, они как раз успели отрасти…
– Чтобы ты стала самой красивой в мире невестой! – сказал император, заключая ее в объятия.
20. Софисты
…Во всем, что связано с поступками и их пользой, нет ничего раз и навсегда установленного… Частные случаи не может предусмотреть ни одно искусство…; напротив, те, кто совершает поступки, всегда должны сами иметь в виду их уместность и своевременность, так же как это требуется от искусства врача или кормчего.
(Аристотель, «Никомахова этика»)
На следующее утро во время приема чинов император объявил, что свадьба состоится через две недели после Богоявления. Ближе к вечеру Феофил, найдя отца в Консистории, решительно выслал всех посторонних и закрыл дверь. Михаил насмешливо наблюдал за сыном.
– Что ты хочешь мне сказать, дорогой?
– Не притворяйся невинностью, отец! – резко ответил молодой император. – Признаться, я весьма… удивлен, мягко говоря. Мне, конечно, хорошо известно, что между тобой и матерью не было того, что называют любовью… Но неужели ты не мог подождать хотя бы год после ее смерти, прежде чем ввести сюда другую женщину? Я уж не говорю о том, откуда эта женщина и кто она…
– О! о! – взгляд императора стал еще насмешливее. – Какие мы чувствительные и целомудренные! «Другую женщину»! «Откуда и кто она»! Вот именно: откуда и кто она! Надеюсь, ты понимаешь смысл предстоящего события как политического хода?
– Понимаю, – нахмурился Феофил, – но…
– Понимаешь, – прервал его Михаил. – Прекрасно! Кажется, подобный ход сам по себе не возмущает тебя. Что же тебя возмущает, сын мой? Что после смерти моей дражайшей супруги прошло слишком мало времени, и что я решил ради политических целей растлить монашку? Так? Именно это тебя не устраивает?
– Да, это. И я не вижу, почему это должно меня устраивать!
– За тебя я не могу решать, дорогой, но вот лично я очень хорошо вижу, почему это вполне должно устраивать меня. Отчего бы, скажи на милость, мне, потеряв жену, не жениться вновь, если мне хочется? Думаешь, твоя мать перевернется в гробу от такого непочтения к ее памяти? Ну, а я, напротив, полагаю, что она не будет на меня в обиде, коль скоро сама она при жизни мужа, только лишь ради своего удовольствия, частенько развлекалась с вашим любимым игуменом прямо в этом дворце!
– Что?!!..
Феофил сжал кулаки и сделал шаг к отцу, но вдруг остановился, словно оглушенный ударом по голове, и медленно опустился на стул.
– Ага, я вижу, ты понял, мой мальчик. Мне, право, весьма прискорбно, что я вынужден сообщать тебе такие вещи, но ты сам напросился. Впрочем, я, признаться, не думал, что увлечение твоей матери является для тебя тайной.
– Я… – Феофил внезапно охрип, – думал, что они…
– Ты думал, что их связывает только, так сказать, умственно-духовная дружба? О да, сначала оно так и было, конечно! Но возвышенные увлечения – вещь коварная!.. Впрочем, я твою мать нимало не порицаю, я всё-таки был неподходящим мужем для нее, что ни говори. А вот игумен меня, признаться, удивил! Вроде на женолюба не походил… Но не устоял и наш философ! Правда, боролся, как и положено, ведь долгонько он ее не брал, хоть я и дал понять, что нож ревнивца с моей стороны ему не угрожает…
Феофил ошарашено смотрел на отца. Слова Михаила падали на него, как удары молота, он не сразу осознавал их смысл, а осознавая, ощущал, как перед ним всё застилает какой-то туман. Его учитель и мать! Значит, они всё это время… Или сколько там времени это длилось?.. Теперь он вспоминал, что мать в последние, по крайней мере, года два далеко не так часто появлялась на вечерних и утренних службах в Фарском храме, как раньше… Значит, они в это время… Мать, конечно, женщина, поддалась слабости, страсти… Но Иоанн – как он мог?!!.. И отец всё знал?! Отец «дал понять» Иоанну?!..
– Ну, что ты так смотришь, дорогой? Ты, кажется, опять меня осуждаешь. Странно! Ты ведь всегда жалел мать, что она всю жизнь была связана с таким невежественным пнем, как я, а когда я и сам ее, наконец, пожалел и позволил ей взять от жизни то, чего ей не хватало, ты опять считаешь меня виноватым? Ты ж вроде философию изучал… – Михаил сделал неопределенный жест рукой по направлению к потолку, – логику, там… Чему тебя философ-то учил, любимый ваш? Философ, надо отдать ему должное, умен, а вот тебе-то он, похоже, свой ум так и не передал до сих пор. Видно, неспособный ученик попался… А может, философ в последнее время слишком увлекся… философией страсти? Но его можно простить: мать-то твоя была красавица, что ни говори! А как у них дело пошло, так ого! Пожалуй, философа, как любителя химических опытов, такое превращение должно было занимать! Не у каждого в руках женщина так расцветет! Мне иной раз прямо завидно становилось. Но я им не мешал, заметь! И они это оценили. А ты вот не ценишь. Хотя всё это было ради счастья твоих любимых матери и учителя, не так ли? Видишь, я и говорю: не доучил тебя философ логике-то…
Феофил встал.
– Прости, отец… Я должен идти.
– Пойдешь философу счет предъявлять? – усмехнулся император. – Смотри, не вздумай его калечить, он нам еще пригодится!
– Да нет, бить его я не собираюсь, – медленно ответил Феофил и покинул Консисторию.
Когда он пришел в Сергие-Вакхов монастырь, в храме только что началась вечерня, служили игумен и два диакона. Феофил не пошел на императорское место на галереях, а встал сразу при входе, у самых дверей. Он очень любил торжественно-строгое, «пустынное» пение здешнего хора, но сегодня эта красота, равно как и вообще служба его не трогали: он почти не сознавал, что читают и поют, и машинально крестился на «Господи, помилуй». Когда вечерня кончилась, игумен вышел говорить поучение братии, заметил Феофила, и слово Иоанна было кратким.
– Братия и отцы! – сказал он. – Древний философ Нилоксен однажды сказал: «Сколько вздора принимаем мы на веру, и с какой радостью измышляют и выслушивают иные люди неподобные слухи о мудрых мужах!» Я же скажу, что мы не только о мудром, но и о любом человеке рады измышлять вздор только на основании того, что нам кажется, будто из тех или иных известных нам событий, поведения, слов, неизбежно следуют определенные выводы. Между тем мы почти никогда не можем знать о человеке не только всего того, что необходимо для правильного суждения о нем, но даже и ничтожной доли этого – и, тем не менее, дерзаем судить и осуждать всех и вся, несмотря на то, что это прямо запрещено Спасителем. Почему же мы оказываемся в таком плачевном и нелепом положении? Потому, что мы слишком высокого мнения о собственной проницательности и о своем знании жизни. Если мы постигли несколько закономерностей, то уже думаем, что знаем все. Если нам известны причины чего-либо из случающегося, то мы уже думаем, что легко можем понять причины и всего прочего. А ведь даже одинаковые на вид события могут иметь причины самые разные, а одна и та же причина вести к разным следствиям, в зависимости от привходящих обстоятельств. Мы же, не дав себе труда изучить, как подобает, жизнь и людей, судим о них так, словно имеем обо всем непосредственное откровение от Бога. Что же нам делать, чтобы не попасть в такое смешное положение? Прежде всего, никогда не надо торопиться делать выводы. Поспешность в выводах – признак невежества. Лишь в редких людях это бывает признаком глубокого знания сущего, которое позволяет быстро выносить суждения. Человеку необходимо много учиться, много читать, немало прожить, узнать самых разных людей, прежде чем его суждения приобретут точность и верность, да и то далеко не во всех случаях, ибо жизнь сложна и иной раз ставит нас в такие обстоятельства, где все наши прежние знания оказываются непригодными. Итак, не будем никогда спешить с суждением о ком бы то ни было, если только речь не идет о еретиках, открыто попирающих соборно установленные догматы веры в Господа Бога, во Святой Троице поклоняемого – Отца, и Сына, и Святого Духа, Ему же слава во веки веков, аминь! Я был сегодня краток, братия, поскольку к нам пожаловал августейший государь Феофил, поприветствуем же его! – и, взяв поданное диаконом кадило, игумен сошел с амвона и направился к императору.
Когда все монахи поклонились Феофилу по чину и стали расходиться, Грамматик, вновь подойдя к своему царственному ученику, пристально взглянул на него и сказал:
– Как видно, государь, тебя привел сюда важный вопрос.
– И весьма важный. Не можем ли мы побеседовать наедине?
Они прошли в «гостевую» келью, Феофил сел в кресло у окна, а Грамматик – на стул чуть наискось от него.
– Итак, ты считаешь, я пришел потому, что принял на веру какой-то вздор? – спросил молодой император с долей сарказма.
– Возможно и такое, но ведь я для начала должен узнать, что именно привело тебя сюда, государь.
– Охотно скажу! – Феофил, не выдержав, встал, прошелся по келье до двери и обратно и повернулся к игумену, который тоже поднялся и стоял, слегка опершись рукой о спинку стула. – Сегодня у меня был разговор с отцом по поводу его новой женитьбы. И он изволил сообщить мне… что моя мать – как он уверял, с его ведома и согласия – в последнее время… не знаю, правда, какое именно, но думаю, что, по крайней мере, около двух лет… что она… была твоей любовницей!
Иоанн не изменился в лице, только в глазах его появился металлический блеск.
– Не лучше ли тебе сесть, государь? – сказал он. – Право же, бегать по комнате – занятие, не подходящее для императора и философа.
Феофил в упор посмотрел на игумена.
– А блудить с замужней женщиной – занятие, для философа подходящее? Для монаха в особенности?
– Думаю, что нет, – спокойно ответил Грамматик. – Но полагаю, для толкового продолжения беседы государю следует определиться: хочет ли он поговорить о том, подобает ли вообще монаху или философу блудить с женщиной, или он хочет обсудить случай, о котором ему поведал августейший отец?
– Нет, я, пожалуй, не хочу обсуждать ни того, ни другого, – Феофил сел. – Первое и так понятно, а второе… В конце концов, это не мое дело. Вряд ли уместно… заглядывать в чужую постель!
– Весьма похвальное решение. Но о чем же, в таком случае, государь хотел бы поговорить со мной?
– О чем? – император смерил игумена взглядом. – О том, что всему есть предел, даже софистике! Или ты станешь утверждать, что есть такой блуд, который не является проступком, и что блуд возможно совершать с кем следует, когда следует, как следует?
– О, нет, опровергать тут Аристотеля мне не по силам, не говоря о том, что это было бы неразумно.
– Всё-таки не по силам? Ты умеешь смиряться! – сказал Феофил с едкой усмешкой. – Что ж, отлично! Так вот, мне стало интересно: как это человек, такой умный, образованный, всё знающий и понимающий, от земных предметов до божественных, каким являешься ты… человек, взявшийся учить других, как жить, принявший роль истолкователя догматов, учителя добродетели… как он может при этом совершать такие вещи, которые даже у невежд заслуженно считаются предосудительными и греховными?! И, кажется, даже нисколько не сожалеть о содеянном?
– Вопрос относительно сожаления о содеянном я предлагаю оставить, – сказал игумен с некоторой жесткостью. – Что до остального, августейший, то я, конечно, польщен такой характеристикой, но мне не совсем понятно, почему ты считаешь меня учителем добродетели.
– То есть как – почему? А что ты делал, например, сейчас в храме, когда говорил поучение братии? Не учил ли ты добродетели неосуждения? Или, если перейти ближе к теме… Вот, скажем, придет к тебе один из твоих монахов каяться в блудных помыслах… в том, что он хочет обладать такой-то женщиной… Что ты ему скажешь? Что если тяжело сопротивляться, то можно грешить?
– Нет, конечно. Я скажу, что нужно противиться похоти, во что бы то ни стало. Кстати, похожий разговор с одним монахом был у меня как раз на днях.
– Почему же ты самому себе этого не сказал?
– Потому что у меня и у этого монаха разные пути достижения одной и той же цели. Человеку, проходящему мимо клетки с разъяренным зверем, достаточно просто не подходить близко, чтобы избежать когтей. А человек, который находится со зверем в одной клетке, должен заботиться, прежде всего, не о том, чтобы не быть подранным когтями, а о том, чтобы не быть съеденным.
– При чем здесь то, о чем мы говорим?
– Я объясню. Брату, о котором речь, ничто не мешает достигать своей цели – спасения души, – действуя обычным путем. Поэтому я дал ему обычный для такого случая совет. Я не являюсь учителем добродетели. Я даю каждому советы относительно того, как ему удобнее достичь цели с наименьшими потерями. Но люди бывают разные. Для иных обычный и, так сказать, прямой путь не подходит, и им нужно использовать обходные маневры. Духовная война в этом смысле не отличается от телесной.
– Интересно, что же это может так мешать монаху достигать спасения души прямым путем, – сказал Феофил ядовито, – чтобы ему пришлось в качестве обходного маневра блудить с замужней женщиной? «Дело, достойное настоящего софиста, защищающего свои пороки и силой слова закрывающего истину!»
Иоанн скрестил руки на груди.
– Конечно, подобные определения вполне правомерны. Но если государь и дальше желает обсуждать вопрос в таких выражениях, то никакого проку из нашей беседы не выйдет, и я предлагаю ее завершить. Если государю угодно было дать мне понять, что я человек порочный, поправший монашество и священство, блудник и развратитель, то он это уже сделал. Я согласен, что я человек порочный, развратитель, который, заметив в женщине преступную слабость, не только позволил ей развиться, но даже отчасти посодействовал этому и потом без зазрения совести этим воспользовался, блудник, недостойный ни священного сана, ни игуменства, – и я самым честным образом предлагал патриарху меня их лишить. На что святейший по разным соображениям не пошел – это его дело, а я в данном случае подчиняюсь суждению своего епископа. Конечно, нимало от этого не переставая быть человеком порочным, развратителем и прочее. Если государь именно это хотел мне сказать, то, думаю, мы можем окончить нашу беседу.
Иоанн понимал, что после такой дерзкой речи последует или вспышка гнева, или согласие разобраться. Глядя на молчавшего Феофила, игумен видел, что в нем происходит внутренняя борьба.
– Скажи мне, зачем тебе понадобился… такой маневр, – тихо проговорил император, наконец, не глядя на Грамматика. – Я больше не буду тебя… ругать.
– Думаю, для каждого человека можно найти некое определение, которое описывает его по чертам характера и стремлениям, наиболее ясно и сильно выражающим его сущность. Правда, это не всегда бывает легко, но для самого себя я такое определение могу дать сразу: я – исследователь. Я провожу опыты, чтобы познать нечто новое, что поможет мне понять сущность тех или иных вещей и явлений, составляющих этот мир, равно как и познать самого себя. Это стремление сидит во мне с раннего детства, оно было всегда. «Болезнь» великого афинянина состояла в том, что он «не отпускал пришельца, пока не заставлял его померяться с ним силой в рассуждениях», а моя – в том, что я не упускаю возможности поставить некий новый опыт и, подобно Сократу, «хотя здорово бывал бит, никогда не отступал – столь страшная любовь обуяла меня к подобным занятиям». Поэтому каждую возможность сделать то или другое я рассматриваю, прежде всего, с точки зрения того, что мне принесет этот опыт: чего я добьюсь, совершив его? Что открою нового для себя? Что познаю нового в себе самом? Если я сочту, что я могу через данный опыт познать и понять нечто новое, я сделаю этот опыт, и ничто меня не остановит.
– И если этот опыт… будет противен заповедям, ты всё равно его совершишь?
– Да.
– Но это по сути безбожие! Получается, ты способен хладнокровно принести заповеди в жертву опытам, чтобы что-нибудь познать! Зачем ты пошел в монахи, если легко можешь попрать обеты ради какого-нибудь опыта? Как ты можешь вообще считать себя христианином, если интересы исследователя для тебя стоят выше Евангелия?
– Это не так. Выше Евангелия для меня ничто не стоит. Но в Евангелии сказано, что, прежде чем строить здание, следует рассчитать, хватит ли средств, чтобы его окончить, и прежде чем идти на бой с превосходящим войском противника, следует подумать, хватит ли у тебя сил победить его. Древние философы недаром говорили, что надо познать самого себя. Так вот, я знаю, что страсть к опытам во мне настолько сильна, что бороться с ней – по крайней мере, на данной ступеньке моей жизни – занятие совершенно бессмысленное. Поэтому если на меня вдруг находит соблазн совершить нечто против заповедей, я прежде всего пытаюсь понять, что мною движет – просто похоть, например, или та самая страсть исследователя. С обычными страстями я буду бороться, как бы сильно они ни нападали. Но если я пойму, что мною движет страсть к опытам, я не противлюсь ей, потому что это враг, идущий с сотней тысяч войска против моего десятка, и сопротивление приведет лишь к тому, что он всё равно меня преодолеет, рано или поздно, но при этом разбив всё мое войско, так что я лишусь возможности противиться и тем врагам, с которыми раньше успешно боролся. Поэтому если я борюсь, то борюсь ради заповедей, и если я сдаюсь, то в некотором смысле ради них же – чтобы не расточить и то, что удалось собрать.
– Ты хочешь сказать, что когда ты исполняешь добродетели, то твоя цель – спасение души, а когда ты совершаешь грех ради очередного опыта, то и тогда твоя цель – спасение души, через отступление для сохранения войска?
– По крайней мере, я стараюсь, чтобы это было так. Замечу, что Аристотель не назвал бы меня распущенным. Если ты помнишь: «Человек, который ищет излишеств в удовольствиях или излишне, или по сознательному выбору ради самих излишеств, но отнюдь не ради чего-то другого, что из этого получается, – такой человек и есть распущенный». Но, разумеется, это ни в коей мере не является оправданием.
– А тебе не приходило в голову, что страсть, если она сильна, может убедить тебя в том, что влечет именно к новому опыту, а не просто ко греховному наслаждению?
– Конечно, такая опасность есть. Но на то мне даны ум и способность к рассуждению – и, смею надеяться, далеко не малой силы, – чтобы я мог определять это правильно. Хотя, конечно, я не огражден от ошибок, как и все люди. Но и тот путь, которым я иду, тоже не для всех. Бог наделил меня способностью к рассуждению, возможно, соразмерной страсти к опытам; а людей с такой силой этой страсти я, сказать честно, в жизни не встречал. Людей с жаждой познания, совершенствования – да. Но это всё же другого рода одержимость, нежели та, которой «болен» я, – Иоанн улыбнулся.
– Значит, то, что было у тебя с моей матерью…
– Тоже было определенным опытом.
– А она об этом знала?
– Да.
Феофил несколько мгновений молча смотрел на Иоанна, потом встал, прошелся по келье, остановился перед картой на стене, спиной к игумену, и сказал с иронией:
– Что-то мне вспомнилась история с Аполлонием Косским и Амитис… Правда там она, можно сказать, совершала «опыты», заботясь о своем здоровье, а он был одержим страстью. Ну, а тут наоборот: она любила, а ты утолял страсть к опытам!
Грамматик некоторое время молчал, а потом тихо сказал:
– Государь, ты, кажется, плохо знал свою мать.
– Почему? – спросил император, не оборачиваясь.
– Потому что думаешь, что она могла отдаться тому, кто ее не любил.
Феофил резко повернулся и посмотрел в бледное – чрезвычайно бледное в этот момент – лицо игумена. «Я, верно, несправедлив к нему!» – мелькнула у него мысль, но император всё же постарался сохранить ироничный тон:
– Как, неужели философ допустил, чтобы его постигло «расстройство ума»?
– Такое иногда случается и с философами, – усмехнулся Иоанн. – Впрочем, расстройство расстройству рознь. Если человек, охваченный страстью, всё же не теряет способности делать те дела, которыми занимался до упомянутого расстройства, значит, всё не так страшно, как кажется. Этим, кстати, и отличается маневр от простой одержимости: цель маневра – удовлетворяя непреодолимую страсть, сохранить способность в остальном вести жизнь по-прежнему, а при одержимости человек ищет только удовлетворять страсть снова и снова, не думая о чем-либо другом и часто теряя способность заниматься делами.
– Утоление голода, чтобы иметь возможность подумать о чем-нибудь другом, кроме пустого желудка, – еще не чревоугодие? Логично, – Феофил помолчал. – Только… если ты ее действительно любил, то вряд ли ты уступил страсти к опытам, а не любви!
– Если б и так, не заслуживает ли это снисхождения в твоих глазах, государь? – спросил игумен, пристально глядя на императора.
– Возможно, – усмехнулся тот. – Но в таком случае все эти твои рассуждения о «непреодолимой страсти к опытам» не имеют никакого смысла!
– Любовь тоже может быть опытом или его частью.
– Ответ поистине философский!.. Ладно, Иоанн, я больше не буду тебя мучить.
– Пустяки, государь.
Возвращаясь из монастыря во дворец, Феофил думал, что Грамматик непостижим. Слова и понятия, которыми объяснялись поступки большинства людей, к нему словно бы не подходили, и даже если игумен сам прилагал их к себе, они как будто бы значили что-то неуловимо иное… «Духовный судит обо всем, а о нем никто судить не может»?.. Как это Иоанну удается, даже впав в грех, оставаться таким «духовным»? Потому что не просто грех, а «маневр»?.. Экая, в самом деле, софистика! Поистине, «у Эзопа на всякую вину готово оправданье»!.. Впрочем, Иоанн, похоже, живет по правилу Аристотеля: «лучше познавать, чем быть познанным», так что, даже рассказывая о себе, умудряется оставаться непознанным…
Император прошел в оружейную залу, снял со стены кинжал из великолепной дамасской стали, с позолоченной рукояткой, украшенной рубинами, – один из трофеев, взятых некогда его крестным при победе над Фефифом, – и, почти не целясь, метнул в висевшую на противоположной стене мишень из досок, где были начерчены несколько вписанных один в другой кругов. Кинжал вонзился строго перпендикулярно доске, в самый центр мишени, в черный кружок величиной с номисму.
– «Не осуждай ты любезных даров золотой Афродиты», – пробормотал Феофил, снял со стены и метнул другой кинжал, потом взял третий…
Изобразив кинжалами ровный крест, перечеркнувший круги на мишени, император отошел к окну. Как ни трудно было понять Сергие-Вакхова игумена, был в мире некто, еще более непостижимый для Феофила, – девушка, которая сказала ему «нет» несмотря на то, что в ней вспыхнула та же страсть, что и в нем…
Молодой император больше ни словом не обмолвился с отцом на тему будущей женитьбы и старался внешне вести себя так, как будто ничего не произошло. Гнев, овладевший им поначалу, вскоре остыл, и, размышляя о случившемся, Феофил иногда думал, что игумен, видимо, сказал правду, и он действительно плохо знал свою мать. Да и почему, собственно, Иоанн не мог полюбить ее? Разве он не человек и не может подпасть действию страсти? Обеты, заповеди? Ну, а сам-то он не нарушил бы заповеди, если бы сейчас вдруг Кассия… Пожалуй, даже не задумался бы!.. А отец… Мать он не любил, а теперь – политический маневр… Понятно!
Но вскоре Феофил понял, что плохо знал и отца. За два дня до Богоявления оба василевса вместе с патриархом и Грамматиком сидели в Малой Консистории и строили предположения о том, что ответят король франков Людовик и папа Римский в ответ на отправленные им весной императорские послания – от этого зависело многое. Послания были по поручению Михаила составлены Феофилом вместе с Грамматиком. После упоминания о церковном разделении, продолжающемся в восточной Империи, и выражения об этом должной скорби в письме Людовику говорилось, что иконопочитатели, вопреки соборным постановлениям, не только продолжают поклоняться иконам, но относятся к ним по-язычески суеверно, а некоторые бегут из Империи в Рим и распространяют там клеветы на императора и законную церковную иерархию. «Многие из клириков и мирян, – утверждалось в послании, – изменив апостольским преданиям и не соблюдая святоотеческих постановлений, измыслили нечто дурное. Прежде всего они изгнали из святых храмов честные и животворящие кресты и на их место водрузили иконы, перед ними повесили лампады и воскуряли ладан, и вообще воздавали им такое чествование, как честному и животворящему Кресту, на котором благоволил быть распятым нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш. Они пели перед ними псалмы, поклонялись им и от тех икон просили себе помощи». Приведя далее несколько примеров бытовавших в народе суеверий, таких как употребление соскобленной с икон краски в качестве причастия, авторы письма продолжали: «И многое другое подобное этому существовало в церквах, что непозволительно и противно нашей вере и что ученейшим и разумнейшим мужам казалось непристойным. Поэтому православные императоры и ученейшие священники решили составить поместный собор для обсуждения этого вопроса, каковой собор и состоялся по вдохновению Святого Духа. Общим голосом они запретили все это, приказали снять иконы с низких мест и дозволили оставить их на высоких местах, чтобы изображения служили только взамен писания, возбранив невежественным и нетвердым в вере людям поклоняться им, возжигать пред ними лампады и воскурять благовония. Точно так же и мы теперь думаем и соблюдаем это, отлучая от Церкви Христовой тех, кто упорствует в суеверных измышлениях такого рода». В послании также рассказывалось вкратце о подавленном бунте Фомы, а в заключение императоры просили короля франков оказать содействие в умиротворении Константинопольской Церкви через посредничество перед папой и изгнание из Рима восточных беженцев, которые враждебно настраивают западных братьев против Империи, поскольку эти «хулители» являются людьми неблагонадежными и недостойными доверия. В качестве приложения франкам была отправлена подборка текстов в пользу иконоборчества, составленная Грамматиком и им же, вместе с придворными переводчиками, переведенная на латынь. Отправившиеся к Людовику в Руан послы – протоспафарий Феодот и диакон Феодор Крифина, ставший экономом Святой Софии, после того как Иосиф, напуганный страшной участью императора Льва, отказался от должности, – отвезли королю в подарок ткани и драгоценные одежды.
Михаилу хотелось как можно скорее получить ответ – по возможности благоприятный – от короля и от папы, но он небезосновательно опасался, что западные богословы будут «слишком медленно соображать». Патриарх успокаивал его, говоря, что там всегда так было, «что с них взять – образование не то». Игумен сказал, что в любом случае время терпит, и, насколько можно судить по некоторым писаниям аахенских богословов времен императора Карла и Алкуина, которые Грамматик имел возможность изучить по латинскому списку с оригинала, франкские богословы должны встать на сторону истинных догматов. Феофил слушал разговор внимательно, но сам больше отмалчивался. Наконец, Михаил сказал, что можно разойтись. Грамматик откланялся и направился к выходу, за ним последовал Феофил, а патриарх подошел к Михаилу и тихо проговорил:
– Августейший, я бы хотел обсудить с тобой вопрос, касающийся твоей предстоящей женитьбы.
– А, прекрасно! – сказал император. – Феофил, погоди уходить! Отец игумен, ты тоже вернись. Святейший хочет обсудить еще кое-что!
Все снова заняли свои места.
– Э-э… – патриарх был несколько смущен. – Августейший, в народе уже поползли всякие толки… Некоторые недовольны твоим вступлением во второй брак, тем более… с монахиней… Подозреваю, тут опять мутят воду студиты. Но как бы то ни было, мне подумалось, что надо принять определенные меры к тому, чтобы успокоить недовольство…
Феофил слегка нахмурился; Михаил, напротив, не выказал ни раздражения, ни беспокойства.
– Какие же меры ты предлагаешь, святейший?
– Эм… Быть может, мы обсудим это наедине?
– Да нет, зачем же? – улыбнулся Михаил. – Ведь тут все свои, не стесняйся, владыка!
На лице патриарха отразилось легкое удивление, у игумена одна бровь поползла вверх.
Феофил взглянул на отца, и у него возникло подозрение, что Михаил сейчас что-нибудь «выкинет».
– Конечно, августейший, – сказал Антоний, – я не предлагаю применить к тебе и твоей будущей супруге каноны, полагающиеся… хм… при растлении монашествующих…
– Но это было бы и неправильно, святейший, – возразил император. – Думаю, подневольный постриг вполне можно вменить, как не бывший, не так ли?
– Тут… э… существуют разные подходы, государь, – ответил патриарх. – Многие считают, что даже если родители обещали посвятить ребенка в монахи до его рождения, то это всё равно, что обет…
– Да, люди во всем могут заходить до дури далеко, даже в благочестии! – насмешливо сказал Михаил. – Но как там философы-то учили? Благочестие должно быть с разумом, не так ли, сын мой? То бишь с рассуждением, не правда ли, отче?
Император по очереди взглянул на Феофила и на Грамматика. Феофил ничего не ответил, только смотрел на отца пристально и выжидательно, что вызвало у Михаила легкую усмешку. По лицу игумена было трудно что-либо прочесть. Когда император обратился к нему, Иоанн кивнул и ответил:
– Безусловно, августейший. Между прочим, восемнадцатое правило святого Василия Великого гласит, что, хотя давшая обет девства и падшая подлежит епитимии прелюбодейцы, но «обеты тогда признаём действительными, когда возраст достиг совершенного разума, ибо детские слова в сем деле не подобает почитать совершенно твердыми», и потому следует принимать обеты только в возрасте от шестнадцати лет. Но и это лишь тогда, когда девица проявит твердое и сознательное расположение. «Ибо, – говорит святой Василий, – многих приводят родители, и братия, и некие из родственников прежде совершенного возраста, не по собственному их стремлению к безбрачию, но промышляя чрез то для себя нечто житейское. Таковых не должно легко принимать, доколе не узнаем ясно собственного их расположения».
– Восхитительно! – усмехнулся Феофил.
– Вот именно! Прекрасно! – воскликнул император с довольной улыбкой. – Вот что значит – говорить с рассуждением! Итак, поскольку девицу, о которой речь, во время оно никто не озаботился спросить о ее собственном расположении, то постриг совершился против правил, и его можно считать никогда не бывшим. Видишь, отец игумен, – вновь обратился он к Иоанну, – я тоже, когда надо, умею быть софистом! – он перевел взгляд на патриарха. – Следовательно, остается только вопрос второго брака, не так ли?
– Да, государь. Мне думается, что, ради успокоение умов наших подданных… вам с супругой было бы разумно назначить епитимию, положенную для второбрачных… Это один год отлучения от причастия, согласно четвертому правилу святого Василия.
– Всего-то? – сказал Михаил весело. – Какая мелочь, святейший!
– Гм! – патриарх был несколько удивлен. – Я рад, государь, твоей готовности следовать святым канонам…
– Но стоит ли свадьба таких затрат? – заметил Феофил несколько жестко.
– Тебе кажется, что я роскошествую, мой дорогой? – усмехнулся Михаил. – В этом есть доля истины, но почему бы мне не позволить себе то, чего желает душа, хотя бы и с переплатой, как тебе думается? Моя покойная супруга, – тут император взглянул на Иоанна, – под конец своего жития улучила желанное ей. А теперь и я хочу улучить желанное мне. По-моему, это будет справедливо!
Патриарх, никак не ожидавший, что разговор примет столь откровенный характер, растерянно посмотрел на императора, не понимая, какую цель он преследует, так оборачивая беседу, и перевел взгляд на игумена. Феофил слегка побледнел и тоже впился глазами в Грамматика. Иоанн и бровью не повел, только скрестил руки на груди и спокойно сказал:
– По-моему, тоже.
– Вот и славно! – воскликнул Михаил. – Я знал, что мы с отцом игуменом поймем друг друга, нам ведь не впервой! – он усмешливо посмотрел на Грамматика и обратился к патриарху. – Что с тобой, святейший? Я же сказал: здесь все свои! Все мы знаем, о чем речь, не так ли? Поэтому я предпочел сказать без утайки, что, вступая в брак…
Феофил резко поднялся и произнес, в упор глядя на отца:
– Ты делаешь «политический ход государственной важности»?
– Дорогой мой, – улыбнулся Михаил, – ну, ты ж ученый человек, ума палата! Сколько книг прочел, не чета твоему невежде-родителю… Но даже вот я, благодаря нашему несравненному философу, – он взглянул на игумена, – ознакомился с некоторыми историческими сочинениями и вынес оттуда простой вывод: главное для императора – найти для любого своего действия благовидное объяснение!
– Да, вывод неглупый, – сказал Феофил. – Достойный если не философа, то софиста. Пожалуй, я возьму его на вооружение. А теперь позвольте мне вас покинуть. Я люблю театральные представления, но в умеренном количестве.
…После свадьбы и коронации Евфросина получила не только титул августы, но и почетное именование «матери императора». Феофил, впрочем, называл ее исключительно «августейшая» и предпочитал поменьше общаться с мачехой. Всё в ней было ему неприятно: ее красота, ее смиренное поведение, ее тихая улыбка, ее любовь к мужу – стыдливая, но такая, что ее нельзя было не заметить. Конечно, он старался не выказывать своей неприязни, но императрица не могла не догадаться, как пасынок относится к ней. Зато маленькая Елена сразу привязалась к мачехе, и Евфросина, как могла, старалась заменить ей мать, чья смерть поразила девочку. Отец сказал ей, что «мама просто ушла жить к Богу, и мы с ней еще увидимся», и Елена поначалу то и дело спрашивала, скоро ли они увидятся, а когда поняла, что никто этого точно не знает и что, как видно, это случится не так быстро, как ей хотелось, некоторое время пребывала в грустном недоумении. Евфросине постепенно удалось развеять эту печаль, и девочка вскоре стала относиться к ней, как ко второй матери. Феодора тоже полюбила новую августу и общалась с ней гораздо охотнее, чем с собственной матерью. Они быстро нашли общий язык, вместе возились с детьми, придумывали новые узоры для вышивки, читали стихи и обсуждали трагедии Еврипида и Софокла, к чтению которых Феодора в последнее время пристрастилась. Феофил не стал ограничивать жену в общении с новой августой – помимо того, что это не так уж легко было сделать, он не считал себя вправе доставлять Феодоре лишние скорби, прекрасно сознавая, что жизнь с ним и так приносит ей мало счастья…
На самом деле он понимал настоящую причину своей неприязни к мачехе: он не считал ее особенно порочной женщиной – дело было в отравлявших его мыслях. «Итак, все нашли свою любовь! Все получили свое, так или иначе, даже “бесстрастный философ”! Что бы там ни витийствовал Иоанн, а только… никому из них не было дела до добродетели – ни ему, ни матери, ни отцу, ни Евфросине! Все они насладились или теперь наслаждаются известного рода счастьем… Только я почему-то его лишен! За что я так наказан?!.. Или это так выражается особая любовь Божия ко мне – “кого Я люблю, тех обличаю и наказываю”, – и я должен радоваться? Только почему-то хочется сказать в ответ на такую любовь: “Выйди от меня, Господи, ведь я человек грешный!”…»
В первое время после свадьбы Михаила и Евфросины в Городе поговаривали о том, что мать новой августы тоже должна перебраться во дворец и, наконец, хоть под старость лет «взять свое», возвратившись к той жизни, которой когда-то насильно лишилась по прихоти мужа. Но Мария, привыкшая в духовных делах советоваться со Студийским игуменом, и тут не изменила своему обычаю и написала ему письмо, где рассказала об обстоятельствах, при которых ее дочь сменила монашеские одеяния на императорский пурпур, и о том, что многие теперь ждут и ее появления при дворе, чего ей самой совсем не хочется: «Я уже не в том возрасте, чтобы возвращаться к оставленной много лет назад суете, – писала бывшая императрица, – и к тому же не знаю, будет ли это угодно Богу, поступок же дочери меня немало опечалил. Она только теперь призналась мне, что никогда не хотела быть монахиней, что принесла обеты скрепя сердце, по принуждению Принцевской игуменьи, и потому считает, что настоящий случай даруется ей Богом как справедливое утешение. Но я подозреваю, что она не договаривает главного, и что на самом деле тут, как это ни удивительно, большее значение имеют ее чувства к государю, хотя я решительно не могу понять, каким образом могло вспыхнуть в ней это увлечение…» В ответном письме, упомянув о бедствиях, перенесенных Марией – несправедливом разводе и изгнании в монастырь, – и похвалив ее за терпение и благочестие, игумен писал, что ей лучше не покидать обители: «Иные будут говорить иное: чтобы мать следовала за дочерью, ибо это бывает, говорят, даже и у зверей, по естественному влечению. Пусть кто-нибудь думает так, а мы, уничиженные, повторим слова Господа: “Кто Матерь Моя и кто братья Мои”?» Получив такое наставление, бывшая императрица предпочла остаться в обители, и при дворе вскоре опять забыли о ней.
Родственники Феодоры по-разному отнеслись к появлению у нее новой свекрови. Флорина избегала выражать открыто осуждение в адрес императрицы, однако попыталась внушить дочери, что не стоило бы ей тесно общаться с женщиной, которая «так легко попрала монашеские обеты и вернулась от ангельского жительства в суетный мир». Но Феодора резко воспротивилась этим увещаниям.
– Послушай, мама, – сказала она ядовито, – если мир так плох и суетен, то что же ты до сих пор в нем задерживаешься? Видно, тебе он всё же нравится? И чем виновата Евфросина, если ее чуть ли не в детстве постригли, даже не спросив, хочет она того или нет?! Ты вот считаешь ее порочной, а я тебе скажу, что я гораздо порочнее ее! Я бы на ее месте сбежала из монастыря уже давным-давно! И прошу тебя, больше не приставай ко мне с такими разговорами, а не то… а не то я пожалуюсь на тебя свекру!
Братья и сестры молодой императрицы, отнеслись к семейным переменам во дворце достаточно философски, предпочитая вообще не обсуждать скользкую тему. Зато дядя Феодоры удивил всех, в том числе императора: стратиг Анатолика не только не приехал на свадебные торжества, но еще и написал Михаилу довольно резкое письмо по поводу сделанного им выбора новой супруги. Император, столь же неожиданно для всех, пришел в такой сильный гнев, какого никто у него и не помнил. Он немедленно издал указ о смещении Мануила с должности и вызвал его в столицу для разбирательства – правда, в качестве предлога было выдвинуто не его дерзкое письмо, а доносы, поступавшие на стратига еще во время мятежа Фомы – говорили, будто он тайно помогает бунтовщикам. Император тогда поглядел на это сквозь пальцы, но теперь решил дать делу ход. Мануил, однако, не приехал, а вскоре из Амория пришла весть, что бывший стратиг тайно бежал, и следы его теряются у арабской границы.
После этого случая никто при дворе не дерзал как-либо порицать второй брак императора, тем более что, вскоре после сообщения о бегстве Мануила, Михаил вызвал к себе Феоктиста, который в бытность императора доместиком экскувитов был его секретарем, а теперь уже занимал пост хранителя чернильницы, и сказал ему:
– Феоктист, у тебя есть один неоспоримый талант. Я, правда, не знаю, воздастся ли тебе за его преумножение на том свете, но, по крайней мере, на этом он должен пригодиться. А именно, ты умеешь донести нужные сведения всем, кому необходимо их донести, быстро и так, что источник сведений остается в тени.
Патрикий молча поклонился.
– Так вот, – продолжал император, – потрудись хорошенько над тем, чтобы в стенах Священного дворца отныне никто и никогда ни словом не касался моей второй женитьбы и обстоятельств, ее сопровождавших. Если же кто-нибудь всё же вздумает об этом заговорить, то, кто бы он ни был, говорить ему более не придется, потому что ему отрежут язык.
21. Оттенки
(Виктор Цой)
- Есть два цвета – черный и белый,
- А есть оттенки, которых больше.
«Длинно письмо достоинства твоего и притом исполнено укоризн, то смиряющееся, то восстающее против нашего ничтожества, будто мы без разбора и исследования принимаем клеветы на тебя, а также безрассудно произносим суждения, притом относительно предметов весьма важных. Мы же, привыкнув устраняться от таковых, объявляем, что мы выслушиваем их болтовню, как детские шутки, и говорим так, чтобы угодить не людям, но Богу, испытующему сердца наши, хотя мы и грешны в других отношениях…»
Кассия положила письмо Студийского игумена на стол и нахмурилась. Она никак не думала, что обстоятельства, сопровождавшие смерть Акилиного отца, перерастут в нешуточный скандал. Патрикий Феодот, после подавления бунта Фомы назначенный стратигом Фракии, ревностно предался исполнению новых обязанностей, обучал войска, объезжал фемные города и следил за тем, как они укреплены и охраняются, так что после назначения на новый пост бывал у себя в имении лишь наездами. Хозяйство полностью взяла в руки его жена Исидора, женщина волевая и несколько суровая. Познакомившись с ней, Кассия было заопасалась относительно того, как сложатся отношения у сестры со свекровью, но Евфрасия обладала настолько счастливым характером, что, нимало не притворяясь, не заботясь о том, чтобы кому-то понравиться, и ведя себя совершенно естественно, привычным и единственно возможным для нее образом, она почти сразу так расположила к себе свою новую родню, что все буквально души в ней не чаяли, а Феодот сказал Акиле:
– Долго ты искал жену, сынок, но уж нашел, так нашел! Такое сокровище того стоит!
Евфрасия как-то особенно полюбила свекра и, когда он бывал дома, проводила с ним бо́льшую часть времени, так что Акила иногда в шутку прикидывался, что ревнует. Но на самом деле он понимал, что жене просто с детства не хватало рядом отца, и потому ее тяга к Феодоту вполне объяснима. Сына, родившегося у молодых супругов в октябре, решили назвать Адрианом, и он оказался по характеру таким же непоседой, как мать: едва научившись ползать, он стал делать это так быстро, что иной раз его едва успевали ловить и удерживать вдали от не слишком подходящих для малыша мест. Евфрасия почти всё свое время проводила с ним, а когда приезжал свекр, она переселялась к нему в имение из своего особняка, где они с Акилой и Марфой жили после рождения ребенка, и Феодот мог вдоволь наиграться с внуком. Исидора была более сдержанной, но и она то и дело бросала домашние дела, чтобы повозиться с маленьким Адрианом.
И стратиг, и его супруга держались иконопочитания; Исидора, как с радостью узнала Кассия, давно переписывались со Студийским игуменом, обращаясь к нему за духовными советами. Постепенно девушка ближе сошлась с патрикией, и та сказала, что ей давно хочется устроить где-нибудь на принадлежащих им землях приют для гонимых монахов. Ее желанию вскоре суждено было исполниться. Кассия по-прежнему жила в столице, примерно раз в месяц на несколько дней приезжая к родственникам во Фракию, и вот, весной в особняке близ форума Константина появился иеромонах Дорофей: приехав в Константинополь с поручением от игумена Феодора, он зашел навестить своих давних благодетельниц. Кассия рассказала ему, какие перемены произошли в жизни ее родных и узнала от Дорофея, что на Трифонов полуостров приезжал градоначальник Никомидии и грозился разогнать оттуда всех студитов, если они будут «продолжать мутить воду»: до императора дошли порицания, высказанные по поводу его новой женитьбы игуменом Феодором. После этого часть братий разъехалась, тем более, что в том месте собралось уже столько студитов и туда приезжало так много гостей, что иной раз не всем хватало келий, – а сам Феодор с некоторыми братиями подумывал о том, чтобы перебраться на Принкипо. Кассия спросила, не хотел бы Дорофей с кем-нибудь из братий переехать на жительство в имение Феодота. Иеромонах обещал поговорить об этом с игуменом и, получив от Феодора благословение, через месяц перебрался во Фракию. К его приезду Исидора велела построить несколько келий недалеко от стоявшей возле ручья, в миле от ее особняка, небольшой часовни, где монахи и стали совершать богослужения. Поселившись на новом месте, студиты – в их числе были давние знакомые Кассии Симеон и Зосима – жили по прежнему монастырскому уставу, работали на огороде, а также занимались пошивом монашеских одежд, отправлявшихся игумену для раздачи братии, и перепиской книг, в основном псалтирей, которые Симеон раз в два месяца возил на продажу в столицу. Стратиг и все его родственники и домочадцы окормлялись у студитов, а раз в неделю отец Дорофей посещал и Марфин особняк, чтобы совершить литургию в домовой часовне.
Студиты, знавшие о намерении Кассии принять постриг, были немного удивлены, видя, что она до сих пор остается в миру, но не любопытствовали о причинах. А она никому не рассказывала о своих планах и только со Львом после занятий иногда обсуждала возможное устройство будущей обители.
– Знаешь, – сказала она один раз с легкой усмешкой, – я подумала, что, должно быть, немало хороших советов мне мог бы дать один человек, к которому я за ними никогда не обращусь.
– Почему? – удивился Лев. – И что это за человек?
– Иоанн, нынешний Сергие-Вакхов игумен, – Лев чуть вздрогнул, но Кассия не заметила этого и продолжала: – Судя по тому, что рассказывают о порядках в его обители, мне бы пригодился его опыт.
– Да, – сказал Лев, немного помолчав, – пожалуй… Я и сам бы не прочь с ним познакомиться.
– Мне один раз довелось с ним поговорить. Правда, тогда я не знала, что это он… Может, и хорошо, что не знала, а то наша беседа вышла бы, пожалуй, малоприятной.
– А она была приятной? – Лев с любопытством смотрел на девушку, но не решился спросить, при каких обстоятельствах она познакомилась с Иоанном.
– Да, и притом довольно поучительной… для меня. Кто бы мог подумать! До того я считала его… чуть ли не злым демоном!
– А на самом деле?
– На самом деле он… можно сказать, обаятелен, – улыбнулась девушка. – По крайней мере, со мной он был именно таким. Умен и к тому же очень проницателен…
Она вдруг погрустнела и умолкла.
– Я иногда думаю, – сказал Лев, – что, поскольку человек – существо мыслящее и разумное, то наиболее сильная симпатия… притяжение или как бы это ни назвать… возникает между людьми умными, причем поверх всех барьеров, в том числе разногласий в вере.
Кассия взглянула на него очень странно и тут же опустила взор.
– Да, – сказала она тихо, – это похоже на правду… И я даже не могу теперь сказать, прекрасно это или ужасно!
– А раньше могла? – Лев чуть заметно улыбнулся.
– Раньше?.. Раньше я не задумывалась об этом всерьез… Не было повода. Но мне казалось, что, раз ничего нет важнее догматов, то, конечно, ради них надо презирать всё прочее… То есть я и сейчас так думаю, но раньше мне казалось, что, стоит выбрать правильный путь, идти по нему будет… не то, чтобы легко, но как бы… бесповоротно, что ли. Я, наверное, непонятно выражаюсь?
– Нет, я понимаю. Не ожидаешь таких развилок, где вдруг начнешь сомневаться, что правильно выбрал путь изначально.
– Да! Жизнь… иногда преподносит сюрпризы, – Кассия помрачнела. – Прав был Соломон: «Во многом знании много печали»! Чем больше знаешь, тем больше различаешь оттенков… Жить бы проще, видеть только черное и белое, как легко! – она усмехнулась.
– Большие познания, конечно, создают некоторые сложности в жизни, – согласился Лев, – но и делают ее такой прекрасной, какой никогда не смогут увидеть ее невежды! Разве ты не согласишься, что «один день человека образованного дольше самого долгого века невежды»?
– Соглашусь, конечно, – улыбнулась девушка. – Иначе я давно бы уже была где-нибудь на Принкипо, а не изучала бы тут с тобой философию.
План устройства будущей обители постепенно складывался в ее уме, и она уже собиралась поделиться своими замыслами с игуменом Феодором, как вдруг случилась эта неприятная история!..
Стратиг Феодот время от времени бывал в столице и вращался при дворе, но никто из его родных и в мыслях не держал, что он состоит в церковном общении с иконоборцами – патрикий никогда не говорил об этом, а бывая у себя в имении, исповедовался и причащался у отца Дорофея. Правда открылась после того, как его знакомая Евфросина, игуменья Клувийской обители, случайно встретилась со стратигом на улице. Евфросина знала Феодота еще с тех пор, когда был жив ее отец, занимавший пост стратига сначала в Арменьяке, а потом в Элладе: Феодот тогда служил под его началом и был им любим как друг, хотя по возрасту был значительно моложе. После смерти мужа его супруга Ирина с дочерью ушли в монастырь, но изредка переписывались с Феодотом; Ирина много лет была настоятельницей обители и скончалась совсем недавно. Евфросина рассказала Феодоту, что они с матерью в апреле были в Вифинии у старца Иоанникия, и отшельник предсказал Ирине скорую кончину, а ее дочери – настоятельство. Так оно и случилось: Ирина умерла через месяц после посещения прозорливца, а сестры обители единодушно избрали Евфросину на игуменство.
– Слава Богу, что мама смогла перед кончиной принять православное причастие! – сказала игуменья. – Я написала отцу Феодору, и он прислал к нам одного из студийских отцов с Дарами. Успел приехать! А я так беспокоилась… мама уже была очень плоха, как-то внезапно болезнь ее схватила… Вот я и думала: неужели без причастия отойдет?
– Ну, – сказал стратиг, – в крайнем случае можно было бы пригласить кого-нибудь из здешних.
Евфросина ошарашено взглянула на него.
– Иконоборцев?! Да что ты говоришь, господин Феодот? У еретиков нет причастия! У них не причастие, а пища демонов! Как можно перед смертью так оскверниться? Упаси Господь!
– Э-э… – Феодот несколько растерялся. – Разве это такое уж прямо… осквернение? Мне кажется, что при тяжких обстоятельствах… Тем более, если человек верует православно, разве Господь его отвергнет? Ведь главное – как он в душе верует…
– Что ты такое говоришь, господин?! Апостол учит, что нет общения у верных с неверными. Какая может быть православная вера, если человек общается с врагами православия, с отвергшими Христову икону? – игуменья внимательно поглядела на смущенного стратига и спросила: – Да ты уж не причащаешься ли сам с ними?!
Она угадала: Феодот действительно, бывая в столице и участвуя в праздничных церемониях вместе с императором, приобщался в Святой Софии. Правда, сначала он не хотел этого делать, но эпарх предупредил его, что это может вызвать недовольство императора: Михаил, хоть относился к иконопочитателям терпимо, не любил, когда в его ближайшем окружении слишком явно проявляли приверженность к иконам – ведь всё, относящееся к иконам, должно было «погрузиться в великое молчание». Феодот был храбр на войне, но при этом всегда робел перед вышестоящими. Гонения на иконы при императоре Льве он благополучно пережил в провинции, но теперь, оказавшись на высоком посту и почтенный таким доверием василевса, опасался прогневать его. Итак, он уступил увещаниям эпарха и еще некоторых знакомых, уверявших его, что такое приобщение из рук иконоборцев – пустая видимость, ничего не значащая, коль скоро стратиг остается по вере иконопочитателем…
Евфросина принялась горячо убеждать Феодота, что он поступает дурно и, по сути, идет против Христа. Стратиг в замешательстве спросил, что же ему теперь делать. Игуменья сказала, что немедленно напишет отцу Феодору – она уже много лет состояла со Студитом в переписке, а в последнее время получила от него несколько писем с утешениями в скорби по почившей матери и наставлениями о том, как руководить сестрами и управлять обителью.
– Что отец Феодор напишет, то и надо сделать. Сделай это непременно, молю тебя, ради спасения твоей души!
Узнав от Евфросины о происшедшем, Студийский игумен тут же написал стратигу. «О, несчастье! – говорилось в письме. – Что это за невольное увлечение? Что это за принудительное причастие под страхом телесных страданий в случае отказа участвовать в иноверном хлебе?» Феодор призывал стратига «не увлекаться временем» и не бояться властей больше, чем нужно, и призывал к покаянию: «Может быть, почтенная душа твоя скажет: “Кто уязвил – Тот и уврачует нас”. Для этого именно и есть епитимия. Действительно, нет ничего неисцелимого, если оно врачуется».
Стратиг получил это письмо, когда был уже сильно болен: на другой день после встречи с Евфросиной у него внезапно случился приступ печени, такой острый, что Феодот сразу оказался прикованным к постели. Он послал сообщить об этом Кассии и одновременно отправил одного из слуг к жене во Фракию. Исидора сразу же приехала, а вслед за ней и Акила с Евфрасией; малыша оставили на попечении Марфы. Врачи не говорили ничего определенного, поили больного варевом из оригана с медом и другими целебными сиропами. Стратигу стало лучше, но боли продолжались. Однако никому не верилось, что он может умереть – ведь еще недавно он был вполне крепок, да и возрастом не старик…
Феодот рассердился, прочтя письмо Студита.
– Тут дышать тяжело от боли, а он о каких-то епитимиях говорит! – пробормотал стратиг, не сообразив, что игумен ничего не мог знать о его болезни, и сначала никому не рассказал о содержании письма.
Кассия, видя, что положение больного не особенно улучшается, предложила послать за отцом Дорофеем, чтобы он приехал причастить стратига. Но тут рассердилась Ефрасия:
– Ты что, думаешь, что он умрет, да?! Нет! Я не хочу, чтобы он умер! Этого не может быть! – она разрыдалась. – А вам только бы дай кого-нибудь на тот свет напутствовать!.. Не надо никакого отца Дорофея! Вот он поправится, и тогда мы все вернемся к нам и вместе причастимся!
Она не могла выразить это словами, но Кассия понимала: на самом деле сестра боялась, что у нее второй раз отберут отца, а ведь она с ним успела пообщаться так мало, мало!.. Исидора была сумрачна. Она сурово поговорила с врачами и выбила из них ответ: судя по тому, что существенных улучшений в болезни не наступает, следует в ближайшие дни ожидать кризиса, и тогда – или-или. Патрикия сказала Евфрасии и Кассии, что надо бы действительно пригласить отца Дорофея, и ради успокоения невестки целый вечер уверяла ее, что Господь через причастие укрепит больного, и Феодот, конечно же, быстрее поправится.
– Но ведь он не умрет, правда? Не умрет? – повторяла Евфрасия.
Акиле было так тяжело всё это слышать и видеть, что он осунулся, на него было просто жалко смотреть. Кассия отправила одного из слуг за Дорофеем. Когда Исидора сообщила об этом мужу и сказала, что Святые Тайны, конечно, укрепят его, Феодот вдруг помрачнел, какое-то время молчал, тяжело дыша и морщась от боли, а потом проговорил:
– Помру я, мать! Видно, наказал меня Господь…
– Помилуй Бог, о чем ты?! – воскликнула патрикия.
Стратиг велел ей достать из шкатулки письмо Студийского игумена. Прочтя, Исидора уронила руки на колени.
– Так ты и правда причащался с ними?
Феодот вкратце рассказал жене о разговоре с Евфросиной и о том, что он действительно неоднократно принимал причастие у иконоборцев, боясь прогневать императора, а всем своим и отцу Дорофею на исповеди не говорил об этом потому, что боялся упасть в их глазах. К тому же ему думалось, что он действительно совершает не очень страшное отступление, коль скоро продолжает почитать иконы и во всем остальном верить православно…
Дорофей опоздал: прибыв в столицу, он застал стратига уже несколько часов, как умершим. Евфрасия рыдала, Акила пытался ее успокоить, Кассия читала у тела Псалтирь, Исидора готовилась к похоронам. Иеромонах совершил отпевание усопшего, стратига похоронили, и только уже после поминального обеда Исидора показала Дорофею письмо Студийского игумена и сказала, что Феодот, конечно, покаялся бы в своем грехопадении, но увы, не успел… Так думали все, в том числе и Кассия, но Дорофей всё же был смущен и написал Феодору письмо с вопросом, как быть с дальнейшим поминовением почившего. Игумен ответил, что если «имевший прежде общение с ересью по страху человеческому» покается перед смертью, и умрет в общении с православными, то поминать его можно, если же покойный «не успел причаститься Тела и Крови Господних – ведь хлеб еретический не есть тело Христово, – то нельзя дерзать поминать его на литургии», поскольку «божественное не может быть обращаемо в шутку».
После этого Дорофей сказал, что, как это ни прискорбно, он не может поминать почившего стратига за богослужением. Это вызвало среди родных Феодота всплеск чувств, от печали до бурного возмущения. Марфа впала в уныние; Акила был чрезвычайно расстроен, хотя старался не показывать этого; Исидора, ошеломленная, решила сама написать Студиту, несколько раз начинала письмо, рвала, начинала снова и, наконец, разразилась посланием, исполненным жалоб и полуприкрытых укоризн. Евфрасия же и не думала скрывать свой гнев: она не только не пожелала понять логики Феодоровых рассуждений, но обвинила скопом и его, и всех студитов в немилосердии, сказала отцу Дорофею, что они «ради своих догматов и живых людей не щадят, не то что мертвых», ужасно плакала и, наконец, заявила, что больше не будет причащаться у студитов, потому что они «жестоки и несносны». Это, в свою очередь, привело в смущение Дорофея с братией, и они снова написали игумену, вопрошая, нельзя ли всё же уладить дело с поминовением, ведь Феодот, по словам его супруги, сожалел о сделанном и собирался покаяться. С письмом к игумену отправился Зосима и вскоре принес всё тот же ответ: «“Что общего у света с тьмою”? Не может быть поминаем среди православных не имевший общения с православием, – хотя бы в свой последний час. Ибо где он застигнут, там и будет судим, и с каким напутствием отошел в жизнь вечную, с тем и останется».
Акиле с трудом удалось успокоить жену, и через месяц она всё-таки смирилась, принесла сына на причастие, причастилась и сама, испросив прощения у студитов, и как будто успокоилась. Зато ее возмущение передалось сестре. Кассия поначалу крепилась, старалась быть спокойной и утешать других, но когда все, наконец, более или менее утихомирились и смирились с происшедшим, ее внутреннее напряжение разразилось грозой. Толчком послужило сообщение вернувшегося с Трифонова полуострова Зосимы: с некоторым смущением монах рассказал, что история с почившим стратигом вызвала толки среди студийской братии и некоторые укоряют Кассию в том, что она, живя в столице, не могла вовремя повлиять на Феодота, а когда он заболел, не позаботилась о том, чтобы он смог поскорей принять православное причастие; кое-кто даже поговаривал, будто Кассия и сама «поколебалась в православии» – ведь когда-то она претерпела бичевание за переписку с игуменом Феодором, а теперь уже готова оправдать то, что он осуждает, – общение стратига с иконоборцами… Это не только было далеко от истины, но еще усилило противоположность между взглядами на происшедшее студитов и Льва. Кассия рассказала учителю об истории с почившим стратигом, и Лев сказал, что не видит никакого особенного нарушения в том, чтобы поминать его за упокой, коль скоро он перед смертью сожалел о содеянном.
– По-моему, подходить тут с точки зрения буквы закона – просто фарисейство, – сказал Лев.
Кассия не выдержала и написала Студийскому игумену довольно резкое письмо, где подробно рассказывала об обстоятельствах, сопровождавших кончину стратига, и говорила, что Феодор мог бы всё же не огорчать так родных усопшего, ведь они были уверены, что он собирался покаяться в общении с еретиками, но просто не успел, и считать его совершенным отступником от веры было несправедливо. Девушка также выражала недоумение относительно того, что некоторые студиты пересуживают ее поведение, не имея никаких верных понятий о том, почему она поступает так, а не иначе… И вот, от Феодора пришел ответ.
«Чего же ты хочешь? – вопрошал игумен. – Того ли, чтобы мы, подобно торгующим, отвечали каждому в угоду ему? Или того, чтобы мы право правили слово истины? Итак, не гневайся же на нас, смиренных. Неуместно ни тебе самой, ни госпоже сестре, ни кому-либо другому решаться осмеивать и порицать нас». Он писал, что к покойному стратигу расположен благосклонно, но огорчен, что Кассия и ее родные, «отличающиеся знанием и преданные благочестию, при конце не были водимы истинной любовью к нему», не позаботившись прежде всего о том, чтобы он причастился у православных. «Так мы думаем и говорим, – заключал Феодор. – Если же иные говорят иное, то они властны в словах своих, а мы будем молчать». Кассия ничего не написала в ответ и не стала показывать это письмо никому из родных, а лишь сообщила, что Студит ответил ей то же самое, что и прочим.
– Ну, конечно! – насмешливо сказала Евфрасия. – Ведь он такой благочестивый, святой! Разве он мог бы иначе!
«Оттенки! – думала Кассия. – Игра света и тени… Быть может, святые… словно бы живут в мире, где над головой чистое небо, и солнце сияет так ярко, что между светом и тенью граница ясна. А наше небо затянуто тучами, границы размыты… А когда появляется солнце, оно светит сквозь листву, и в этих пятнах света и тени трудно разобраться…»
– Мне кажется, не стоит так огорчаться и гневаться, – сказала она сестре. – Отец Феодор подходит с точки зрения существующих правил, и это справедливо: если отменить правила, всё придет в беспорядок. Но Бог может любому оказать Свое милосердие помимо правил. В конце концов, молимся мы за усопших в храме или дома, Господь всё слышит, и помилование – в Его воле. Будем молиться, а уж что из этого выйдет… узнаем, когда умрем.
– Наверное, – вздохнула Евфрасия и, помолчав, внимательно посмотрела на сестру. – Ну, а ты… что?
– Я?.. Думаю, пора постригаться.
– И что? Неужели поедешь к нему… после всего этого?
– Нет, – Кассия покачала головой. – К нему не поеду, но не из-за этого, а потому, что я уже просила его когда-то, но он написал мне, что не будет постригать меня, а предоставляет это кому-нибудь более достойному.
– Да?.. И к кому же ты тогда поедешь?
– Думаю.
В тот вечер она поднялась к себе и долго сидела у окна, глядя, как в темнеющем небе загорались звезды. За последний месяц она поняла, что надо торопиться с постригом, потому что окружающая суета, как она ни старалась от нее отгородиться, всё-таки достигала до нее и опутывала лишними узами и зависимостями. «Ощутив пламень, беги, ибо не знаешь, когда он погаснет и оставит тебя во тьме», – это изречение Лествичника время от времени приходило ей на ум. Впрочем, вероятность, что пламень погаснет просто от замедления в миру, была невелика, ведь случаи, когда девицы или вдовы спасались в миру, живя по-монашески, но не принимая пострига, встречались не так уж редко. Но Кассия сама пообещала Богу принять монашество, а кроме того, и не хотела оставаться в миру. Хотя, конечно, это было заманчиво: жить у себя дома, продолжать заниматься науками со Львом, читать книги, исполнять молитвенное правило, благотворить монахам и неимущим – и ни от кого при этом не зависеть… Но Кассия понимала, что такое времяпровождение было хорошо только как подготовка к чему-то иному – к тому, что могло стать делом жизни: ей нужно было такое занятие, которое потребовало бы от нее напряжения всех сил – ума, души, тела, – заполнило бы ее жизнь так, чтобы в ней не осталось места для тоски по тому, от чего она отказалась на выборе невесты императору. А это могло осуществиться только в том случае, если б новую жизнь она сама для себя однозначно сочла лучшей, нежели потерянная. Итак, всё снова упиралось в создание собственного монастыря. И об этом надо было говорить не со Студийским игуменом.
Нет, Кассия не думала, что Студит не поймет ее или поймет неправильно, если б она попыталась объяснить, почему она не пожелала, к примеру, идти в монастырь на Принкипо, или поделиться мыслями о том, в какого рода обители ей хотелось бы жить, – ведь до истории с поминовением почившего стратига она собиралась рассказать игумену о своих планах. Он, конечно, понял бы ее, но… Оттенки! Теперь она начала осознавать, что, сколь бы ни было велико ее восхищение студитами и их подвигами, уважение к их монастырскому уставу и порядкам, это всё же было не совсем то, что нужно для нее самой. Хорошо быть образованным и знать философию, чтобы при случае опровергнуть ересь и не растеряться перед таким противником, как Иоанн Грамматик, но зачем монаху, – спросил бы тот же отец Дорофей, – «просто так, для себя», углубляться в какого-нибудь Платона или символически толковать Гомера? Хорошо знать метрику и вообще правила стихосложения и музыку, чтобы уметь составлять стихиры и каноны или писать эпиграммы благочестивого содержания, как это делал игумен Феодор, но зачем монаху писать стихи на светские темы или эпиграммы на такие произведения, как «Повесть о Левкиппе»?.. Человек мирской, как Лев, имел полное право этим заниматься, но монах, рассказав о таких занятиях, мог услышать вполне резонный вопрос: «А зачем тебе это?» Кассия не знала, как на него ответить, чтобы ее поняли. Что это дает для спасения души? Занимает ум, чтобы он не блуждал? Но для этого есть молитва. Трудно привыкнуть сразу так много молиться? Упражняйся и привыкнешь со временем. Можно было бы привести слова Василия Великого, что деятельность ума на пути постижения разных неясностей полезна, поскольку «нужно, чтобы занятый этим ум был отвлекаем от худшего», но на это могут возразить, что святой отец говорил здесь об изыскании точного смысла Писания, а вовсе не светских и языческих книг… Мирское – мирским, не монахам. Да, святые отцы умели извлекать пользу и из языческих сочинений и толковать их символически в православном смысле, но то было во времена, когда язычников было еще много и они были опасны, а зачем это теперь, когда «весь мир наполнился христианским учением»? Как объяснить эту внутреннюю жажду познания, осмысления? Феодор, сам получивший хорошее образование, в том числе философское, писал Кассии, что дар слова – лучшее ее украшение, он благословил ее не бросать изучение философии, он мог бы ее понять. Но что сказать о его окружении и особенно о тех монахах, что постоянно посещали его, среди которых было много насельников с Олимпа, где в чести был старец Иоанникий, в свое время не получивший вообще никакого образования?.. Не скажут ли они, что ее стремление к знаниям есть нечто, сходное с чревоугодием, только в отношении не желудка, а ума?.. Она знала – внутренне, для себя, – что ей это нужно, но объяснить это тем, кто не знает подобной жажды, она была не в состоянии. Как говорится, «если ты сам не ощущаешь таких вещей, я уже не в силах тебе объяснить»… Опять же, не станут ли потом осуждать отца Феодора, если он благословит ее на создание задуманной ею обители? Случай с покойным стратигом и так вызвал немалые толки; говорили, что игумену пришлось даже в одном из поучений упомянуть об этом и разъяснить свои взгляды… Кассия догадывалась, что его непреклонность в этой истории была связана отчасти с тем, что у него было слишком много завистников, которые только и ждали повода обвинить его в каком-нибудь «отступлении». Не хватало еще стать причиной для новых сплетен!..
– А почему бы тебе не поговорить с патриархом Никифором? – спросил Лев свою ученицу, когда она поделилась с ним своими мыслями. – Я знаю, что он получил прекрасное образование, долго служил в императорской канцелярии, а когда удалился на Босфор, то жил там, хоть и по-монашески, но не постригаясь, и занимался науками вместе с несколькими друзьями.
– Я думала об этом. Но ведь он меня совсем не знает… Ты думаешь, он поймет, чего именно мне хочется?
– А ты ему скажи, что, по слову божественного Григория, ты «была воспитана и получила образование, приличное своему происхождению и назначению», и назначение это полагаешь в том, чтобы «смирить кичливость эллинских философов», – Лев улыбнулся.
– Да, только где они теперь, эти философы? – рассмеялась Кассия. – Разве что Иоанна Грамматика к ним причислить? Кстати, это мысль! Скажу: хочу создать ученую обитель назло Ианнию!.. Впрочем, если серьезно, то, пожалуй, мне в любом случае надо ехать к патриарху. Если у кого и брать благословение на создание обители, то у него – чтобы меньше потом пересуживали…
– Да, именно. Что до любви к наукам, то, думаю, патриарх поймет тебя и не скажет, что это «гордыня».
– В конце концов, – пробормотала девушка, – святой Григорий Богослов не сомневался говорить во всеуслышание, что гордится своим даром слова, значит, мне есть, кому подражать… Хотя, пожалуй, кто-нибудь на это скажет: «Вот, вздумала сравнить себя с великим Григорием!»
– Так что ж, ведь противники нашего образа жизни тоже не прочь сравнить себя с какими-нибудь святыми пустынниками, не изучавшими философию! – усмехнулся Лев. – Во всяком деле, я думаю, нужно твердо знать, для чего ты его делаешь и что оно тебе дает, и тогда из чтения любых книг можно извлечь пользу. Если же не знать, зачем это тебе, так и Евангелие будешь без толку читать!
Когда учитель ушел, Кассия пошла в библиотечную комнату и, достав книгу со словами Григория Богослова, открыла «Слово в похвалу философу Ирону», прочла его от начала до конца, закрыла рукопись и какое-то время сидела в задумчивости, а потом обратила взор на икону Спасителя в углу и прошептала:
– Что ж, я, наверное, плохая невеста… Но Ты Сам такую выбрал!
…Женщина стояла вполоборота к нему, прислонясь спиной к колонне, и смотрела на открывавшийся перед ней великолепный вид на море. Несмотря на конец ноября, день выдался неожиданно теплым, солнечным и безветреным, и на женщине не было даже плаща. Мафорий она спустила с головы на плечи – видимо, думая, что здесь ее не настигнет посторонний взгляд. Нитка жемчуга блестела в иссиня-черных волосах, уложенных вокруг головы так, что несколько густых волнистых прядей спускались по спине почти до талии – поразительно тонкой, перетянутой широким золотым поясом. Огромные темные глаза, губы, похожие на розовый бутон, маленькая, будто выточенная из мрамора рука, белевшая на затканной красными цветами темной зелени туники, – всё это разом предстало взгляду Евдокима и ослепило его. Он глядел на нее так, как, должно быть, мог смотреть какой-нибудь язычник, если бы перед ним внезапно явилась Афродита. Он даже не задавался вопросом, кто эта женщина и насколько вообще прилично так поедать ее глазами, – он весь превратился в зрение.
Между тем женщина оторвала взгляд от морской глади, слегка нахмурилась, и по тени, омрачившей ее лоб, Евдоким понял с каким-то внутренним ясновидением, что она снедаема скорбью, настолько сильной, что он почти физически ощутил, как ей больно. Ему захотелось подойти к ней, сказать что-нибудь утешающее, ободряющее… Он бессознательно сделал шаг вперед – и вдруг под ногой хрустнула веточка. Женщина вздрогнула, повернулась в его сторону, и когда она, сделав несколько шагов, обошла подстриженные садовниками кусты самшита, Евдоким увидел на ее ногах красные башмачки. Императрица!
Пораженный юноша вышел из-за миртового куста, за которым укрывался, и распростерся перед августой. Когда он поднялся, не смея смотреть на нее, она подошла, уже закрыв голову мафорием.
– Здравствуй, господин! Кто ты и как попал сюда?
– Прости меня, государыня, – с трудом выговорил юноша. – Я тут с отцом, мы были на приеме у августейшего… А потом отец разговорился с господином эпархом, а мне разрешили немного погулять в саду… Но я, кажется… зашел, куда не должно…
– Ничего, это не страшно! Как тебя звать?
– Евдоким.
Он родился в Каппадокии и приехал в столицу с родителями в возрасте десяти лет. Его отец, патрикий Василий, служил в императорском казначействе, а Евдоким рос в основном на попечении матери. Евдокия была очень богобоязненна, сама научила сына читать по Псалтири и каждое утро ходила вместе с ним в церковь. После переезда в Константинополь его отдали в училище, и мальчик утром всегда отправлялся в храм на службу, а оттуда на занятия, если же день был праздничный, сразу возвращался домой. Хотя на уроках они разбирали разные эллинские произведения, дома Евдоким читал только Священное Писание и книги святых отцов. К пятнадцати годам он уже настолько преуспел в изучении разных предметов, что дядя посоветовал отдать его в школу права в Сфоракии. Юноша учился хорошо, учителя и сверстники любили его за тихий и спокойный, но в то же время твердый характер, честность и отвращение ко всякому злословию и осуждению. Он тоже ко всем относился тепло, но ни в каких увеселениях соучеников не участвовал, по-прежнему с утра ходил в храм, а после занятий сразу возвращался домой. Мать не могла нарадоваться на благочестие сына и была немного обеспокоена, когда ее муж решил записать его на придворную службу; но Василий решительно заявил, что «если уж его нравы до сих пор никто не испортил во всех этих школах, так уж, верно, и не испортит», – и повел Евдокима во дворец. Михаилу понравился юноша – высокий, стройный, кареглазый, с мужественным лицом, обрамленным темными кудрями, он словно сошел с изображения какого-нибудь античного героя, – и император тут же повелел зачислить Евдокима в отряд схолариев.
– Сколько тебе лет? – спросила императрица.
– Семнадцать, государыня, – ответил Евдоким и несмело поднял глаза на августу.
Вблизи она поразила его еще больше. Впервые в жизни он видел такую красивую женщину, к тому же совсем рядом. Она с любопытством рассматривала его… да, просто с мимолетным любопытством. А он ощущал, как от ее взгляда его бросает в жар, и вдруг его охватило страстное желание обнять ее, привлечь к себе – желание столь внезапное и сильное, что он испугался и отступил на шаг. Никогда в жизни не думавший так о женщинах, стыдившийся даже смотреть на них, Евдоким ужаснулся: о чем он смел подумать! Он возжелал женщину, и какую – супругу императора! Ведь это значит, по Евангелию, что он уже «прелюбодействовал с нею в сердце своем»!..
В глазах юноши как в зеркале отразилось всё, что он чувствовал, и Феодора словно увидела в нем себя четыре с половиной года назад, когда она точно так же смотрела на Феофила, стоявшего перед ней с золотым яблоком в руках… «Бедный мальчик!» – подумала она и сказала:
– Ну, ступай, Евдоким, а то отец потеряет тебя!
И, не дожидаясь от юноши поклона, августа быстро спустилась с террасы по боковой лестнице и скрылась между кустов мирта.
Евдоким несколько мгновений стоял, как столб, не шевелясь и даже почти не дыша. Наконец, он встряхнул головой, повернулся и стремительно пошел обратно по дорожке, приведшей его сюда, – скорей, скорей, словно стремясь убежать от только что представшего перед ним видения, которое зажгло в нем нестерпимый пламень…
Он уже не мог услышать, как в зарослях мирта, упав на мраморную скамью и уткнувшись лбом в ее высокую прохладную спинку, безудержно рыдала императрица.
22. Обитель
Есть вещи, которые надо делать самому, даже если не умеешь.
(Г. К. Честертон)
В Фомино воскресенье в Свято-Феодоровский монастырь на Босфоре собралось из разных мест до сотни исповедников – митрополиты, епископы, игумены, монахи. Прибыл с Принкипо и Студийский игумен с Навкратием, Николаем и еще несколькими братиями – они уже несколько месяцев назад перебрались на остров, где построили себе кельи, устроив некоторые из них, в том числе для Феодора, прямо в местных пещерах. Патриарх возглавил воскресную литургию, а по ее окончании все были приглашены к праздничной трапезе. Когда все стали занимать места, патриарх, сидевший во главе стола, нашел глазами Феодора Студита, подозвал и указал ему место на скамье рядом с собой, а затем, обратившись ко всем, сказал:
– Позвольте, братия, многострадальному отцу Феодору председательствовать наравне со мной – хотя он, мудрый, вовсе не желает этого, – чтобы нам обоим, сидя вместе, совершить преломление хлеба. Ведь кто больше явил знаков любви к общему Владыке, тому больше и воздастся, как изрек Господь в Евангелии. И как существует различие в жизни святых, так бывает оно и в почестях, и Бог соразмеряет награду с заслугами каждого. А если так у Бога, то да будет так и у нас, смиренных!
Игумен сел рядом с патриархом, улыбаясь чуть смущенно и в то же время так обезоруживающе, что никому из присутствовавших и в голову не пришло завидовать ему: все понимали, что если кто среди них и был достоин сидеть рядом с главой Церкви, то это, конечно, Феодор.
– Да, – тихо проговорил Петр, митрополит Никейский, обращаясь к сидевшему рядом с ним митрополиту Синадскому Михаилу, – это справедливо! Никто больше Феодора не понес трудов ради православия!
Михаил кивнул и ответил так же тихо:
– К тому же… если б не самовластие государя Никифора, Феодор стал бы патриархом… Как люди не стараются установить свою волю, а промысел Божий в конце концов всем воздает должное!
Николай с противоположного конца стола смотрел на своего игумена и не замечал, как слезы текут по его щекам.
После трапезы исповедники, не расходясь, еще долго беседовали. Когда патриарх, а за ним и остальные, наконец, поднялись и направились к выходу, к Никифору с поклоном подошел один из монастырских послушников и тихонько сказал:
– Святейший, там тебя уже часа три дожидается какая-то юная госпожа, из столицы приехала. Говорит, что у нее очень важное дело.
– Вот как? Что ж, до вечерни еще есть время… Скажи, что я сейчас приду поговорить с ней. Она в привратной келье?
– Да.
Кассия дожидалась патриарха в пристройке для приема женщин, находившейся у врат обители; сопровождавших ее Геласия и Маргариту она оставила в повозке. Ждать пришлось долго, поскольку она приехала в монастырь, когда только началась общая трапеза, и один из монахов сказал ей, что позвать сейчас святейшего нет никакой возможности:
– У него сегодня великое собрание честных отцов! Только что к трапезе пошли… Придется тебе обождать, госпожа.
– Конечно, я подожду, отче. А что… может быть, и Студийский игумен тоже здесь?
– Да, да! – радостно закивал монах. – Отец Феодор тут! Без него ни одно такое собрание не обходится! Святейший его перед всеми отличает! И не дивно: кто еще столько претерпел за веру, сколько он?!..
Кассия просидела в привратной келье три часа, как на иголках. Сначала она окрылялась надеждами, потом, напротив, ей стали представляться всякие ужасы. Вдруг патриарх не благословит ее замысел, а велит поступать в какой-нибудь определенный монастырь? Или посоветует отправляться за благословением к духовному отцу? А если она скажет, что это игумен Студийский, то не позовет ли он его и не спросит ли его мнения? А Феодор… ведь она так и не ответила ему на последнее письмо! Что он подумал о ней? Может быть, он теперь скажет патриарху, что она – девица своенравная, непокорная и гордая, и потому лучше всего ее отправить в такую обитель, где ее будут сурово испытывать на смирение?..
«Что ж, – думала она с печальной иронией, – может, мне действительно для спасение души нужно именно это… Только ведь я гордая, я на такое не пойду… Зачем я вообще приехала сюда? Смогу ли я объяснить святейшему, чего мне хочется?.. Объяснить святейшему, чего мне хочется! Цель обличает гордыню сама по себе!.. Не лучше ли убраться подобру-поздорову и не искушать судьбу? Я и так один раз ее искусила… Нет, никто, кроме Льва, не поймет меня! Кроме Льва и, должно быть, Ианния… Какая насмешка судьбы!.. Мартинакий сказал бы сейчас, что всё оттого, что я слишком много читала эллинские сочинения вместо Священного Писания! Слишком много, но всё же не больше, чем Грамматик!.. И не больше, чем…» – и она опять мысленно оказалась в Золотом триклине. «Не правду ли говорят, что “чрез женщину излилось зло на землю”?» Да, правда, – могла бы она ответить, и тогда всё сложилось бы совсем иначе… И если сейчас у нее ничего не выйдет с монастырем, значит… значит, она сделала неправильный выбор! Ну и что, призвание? Призвание на что? Шить хитоны или обрезать виноградные лозы вместо того, чтобы заниматься философией и писать стихиры и эпиграммы? Ах! Зато – послушание, смирение, спасение души! Ей вспомнилось из Еврипида:
«– Удел рабов – трусливо прятать мысли.
– А каково от грубости терпеть?
– Да, жить среди глупцов… какая пытка…»
Какая гордость! Какое превозношение над монахами, которые в простоте спасают свою душу, не заботясь о том, что там писали Аристотель или Платон!
– Что ж, Феофил, – прошептала Кассия, – если сейчас ничего не выйдет, значит, я ошиблась, когда отказала тебе! – и она сама испугалась произнесенных ею слов.
Тут дверь в келью отворилась, и вошел патриарх. Последний раз Кассия видела его больше одиннадцати лет назад, и с тех пор он не очень изменился, только стал совсем седым.
– Здравствуй, владыка! – она поклонилась и подошла под благословение.
Патриарх благословил ее, и вдруг всё смятение, обуревавшее девушку, совершенно ее оставило.
– Здравствуй, госпожа…
– Кассия.
– Кассия? Мне сказали, ты из Константинополя? Это не ты ли написала стихиру в честь Первоверховных? – улыбнулся патриарх и вдруг принялся напевать: – «Светильники великие Церкви, Петра и Павла восхвалим…»
Девушка растерялась от неожиданности. Она никак не думала, что ее первое сочинение дошло до самого святейшего.
– Да, владыка, – смущенно ответила она.
– Значит, чадо отца Феодора? Что ж, рад с тобой познакомиться, почтеннейшая! Присаживайся, – он указал ей на стул и сам сел напротив. – Что привело тебя к нашему смирению?
– Я… – Кассия вдруг забыла все приготовленные фразы. – Я хотела… – она набрала побольше воздуха и выдохнула, словно бы падая в пропасть: – Я хочу создать монастырь и приехала просить у тебя на это благословение, святейший.
– Вот как! – Никифор внимательно посмотрел на нее. – Что ж, это весьма похвальное намерение! Но сколько тебе лет, госпожа?
– В этом году будет двадцать два, – ответила она и вспыхнула, подумав: «Сейчас он, конечно, скажет, что я слишком молода, и посоветует отправляться куда-нибудь на Принкипо!»
Но патриарх ничего подобного не сказал.
– Ты сочиняла еще какие-нибудь гимны, кроме того в честь апостолов? – спросил он.
Кассия опять растерялась.
– Да, я… немного… вот, недавно – в честь святых Адриана и Наталии…
– Может быть, споешь нам? Арсений! – крикнул патриарх в сторону двери, которую, войдя, оставил приоткрытой. – Иди-ка сюда, послушай!
В комнату вошел дежурный монах и остановился у порога.
– Вот, наша гостья – госпожа Кассия, та самая, что сочинила гимн в честь Первоверховных, который тебе еще так понравился, помнишь?
– О, да, святейший! Дивно красивый! – монах воззрился на девушку. – Так это ты его сочинила, госпожа?
– Да, – ответил за нее патриарх. – А сейчас она нам споет еще одно свое сочинение. Просим, госпожа!
– Я… – Кассия встала, щеки ее горели. – Хорошо, владыка, я попробую…
Она глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, помолчала и негромко запела:
– Прекрасно! Просто прекрасно! – воскликнул патриарх. – Не правда ли, брат? – восхищенный Арсений молча кивнул. – Бог действительно дал тебе великое дарование, госпожа. Смотри же, не зарой талант в землю!
– Я стараюсь, владыка.
– Господь да поможет тебе! Можешь идти, Арсений, – монах поклонился и вышел, а патриарх снова окинул девушку внимательным взглядом. – Я слышал о тебе госпожа – и о том, что ты с детства решила идти монашеской стезей, и о том, что пострадала за иконы в прошедшее гонение. Благословен Бог, укрепляющий против ереси и столь юных девиц! Знаю и о том, что Господь даровал тебе большой ум и способности к наукам. Поэтому думаю, что такая, как ты, вполне способна создать обитель, несмотря на свою молодость… Но, как видно, ты задумала особенный монастырь, не похожий на другие?
«Как он узнал?» – мелькнуло у нее в голове.
– Да, святейший, – кивнула она. – Я… я потому и приехала сюда, что мне подумалось, что тебе я легче смогу объяснить… Сначала я думала поступить в какой-нибудь монастырь из тех, что уже есть… Но в последнее время… я стала понимать, что… устав в тех обителях, по крайней мере, женских… как бы это сказать… больше направлен на телесную деятельность и на чтение книг только с аскетической целью… то есть только таких, где написано, как монах должен проводить жизнь. А я… прочла много всего, в том числе много философских сочинений… Мы с моим учителем разбирали эллинские произведения, занимались символическими толкованиями… В общем… мне хотелось бы жить в монастыре, где сестры занимались бы не только и даже не столько телесными трудами, сколько умственными, науками, перепиской книг, может быть, теми же символическим истолкованием древних писателей… Мне кажется, это тоже может быть полезно для души… и для борьбы с еретиками тоже! Ведь вот, Иоанн Грамматик, например, очень силен в философии и благодаря этому многих сумел запутать…
– Ты права, – согласился патриарх. – И понятно, к чему стремится твоя душа. Итак, не видя среди существующих обителей такой, ты решила создать ее сама?
– Да, – Кассия вздохнула с облегчением: похоже, патриарх действительно ее понял, хотя она и объяснила всё довольно сумбурно.
– А справишься? – спросил Никифор, пристально глядя на нее.
– Божьим содействием, владыка! – улыбнулась она.
– Да будет так! – патриарх поднялся. – Но вопрос этот, конечно, серьезный, госпожа Кассия, поэтому мы еще должны будем обсудить всё это подробнее. Сейчас у нас будет вечерня… Пожалуй, ты можешь присоединиться к нам. Одета ты почти по-монашески, так что надеюсь, братию не смутишь, – он чуть заметно улыбнулся. – Дева мужеумная! Пойдем теперь в храм, а после службы еще побеседуем.
По дороге он спросил девушку:
– Ты особо почитаешь святых Адриана и Наталию?
– Меня сестра моя попросила написать им стихиру, – смущенно улыбнулась Кассия. – Она недавно вышла замуж за очень хорошего человека, и у них как раз всё решилось в день памяти этих святых. С тех пор они очень чтят этих мучеников…
– Понятно, – улыбнулся патриарх. – Вот что, госпожа Кассия, если ты что-нибудь еще будешь писать из гимнов, присылай и нам сюда. Очень уж красиво у тебя получается!
– Хорошо, владыка.
В храме Кассия забилась в самый дальний угол, за колонну у входа, чтобы не обращать на себя внимания, и удивилась, когда, сделав отпуст вечерни и сказав краткое слово, патриарх сошел с амвона и направился прямо к ней, позвав с собой и Студийского игумена.
– Вот, отче, гляди: твое ведь чадо?
– Мое, – улыбнулся Феодор, чуть удивленно взглянув на девушку, которая так растерялась, что даже не могла ничего сказать, а только поклонилась ему. – Здравствуй, госпожа Кассия! Какие ветры занесли тебя сюда?
– Ветры философии, надо полагать! – сказал Никифор. – Как говорил один от древних, «каждый проводит свои дни с друзьями именно в тех занятиях, какие он любит более всего в жизни, потому что, жилая жить сообща с друзьями, люди делают то и принимают участие в том, в чем мыслят себе совместную жизнь». А госпожа Кассия предпочитает философию, не так ли?
– Да, владыка, – проговорила Кассия.
– И не дивно! – продолжал патриарх с улыбкой и взглянул на Феодора. – Кажется, ты, отче, называл наше время «временем философии»? Я слышал, ты кому-то писал об этом.
– Да, правда, – кивнул игумен. – Но вот не думал, что это дойдет и до тебя, святейший! Пожалуй, мои слова точно может передать Николай. Сам я далеко не всегда помню, что кому писал, а он, по-моему, всё наизусть заучивает, – улыбнувшись, Феодор повернулся и взглянул на Николая, который смиренно ожидал его чуть поодаль. – Брат, подойди сюда! Вот, познакомься, наконец: это госпожа Кассия.
– Я уже наслышан о тебе, госпожа, – поклонился Николай, – а теперь рад и познакомиться.
– Я тоже очень рада, наконец, познакомиться с тем, чьи подвиги и чудесный почерк мне давно известны, – ответила девушка с улыбкой, кланяясь в ответ.
– Николай, ты не помнишь, кому я писал письмо о «времени философии», вернее, что там точно говорилось? – спросил игумен. – Святейший вот интересуется.
– Сейчас, отче, – Николай немного помолчал, глядя в пол. – Да, вспомнил! Это было письмо кому-то из мирян, ты хвалил его за дружбу и благочестие, а про философию там говорилось так: «Видишь, как я философствую в это время философии? Ибо философия есть средство избежать гибели от ереси, к которой Бог да соблюдет тебя непричастным».
– Аминь! – сказал Никифор. – Так вот, отче, твое чадо приехало ко мне за благословением на создание обители, и нам бы надо еще немного обсудить этот замысел. Если ты не имеешь других планов, я бы хотел, чтобы ты присоединился к нам.
Они втроем просидели у патриарха около двух часов. Кассия, наконец, совершенно успокоившись, смогла внятно изложить свои мысли и планы, начала было извиняться перед игуменом за то, что не написала сначала ему, но Феодор прервал ее и сказал, что прекрасно понимает, почему она поехала именно к патриарху, и что она поступила вполне разумно. Патриарх задал девушке кое-какие вопросы из разряда: «А что ты будешь делать, если…» – но у Кассии на всё нашелся ответ, поскольку со Львом они успели не по одному разу обсудить «скользкие места» ее плана.
– Что ж, – наконец, сказал Никифор, – ты хорошо подготовилась к осуществлению своего замысла, как я вижу. Такую обитель, по-видимому, нужно создавать в столице. Клувийская игуменья даже во время гонений сумела оградить себя и сестер от общения с ересью, а сейчас время гораздо более благоприятное. Даже владыка Евфимий свободно живет в Городе, несмотря на свою «дерзость», – патриарх улыбнулся. – Конечно, мы не знаем, что будет впереди, но поэтому же не стоит и загадывать, – он на несколько мгновений ушел в себя, точно прислушиваясь к некоему внутреннему голосу, а потом взглянул на Кассию. – Пожалуй, если ты приедешь ко мне осенью, я постригу тебя, чадо, а пока готовься… Бог да вразумит тебя и да соблюдет от искушений, как знает Сам!
Когда Феодор с девушкой вышли на монастырский двор, Кассия взглянула в уже темневшее небо, вздохнула и тихо сказала:
– Прости меня, отче, что я тогда написала… такое злое письмо… Мне было жаль сестру и родственников… Они так огорчились!
– Я понимаю, – ответил игумен. – Что делать! Не всё в жизни получается по нашему хотению… Но я сужу в меру своего скудного понимания. Может быть, я и не прав, чадо, но пусть тогда Бог рассудит нас по смерти!
Девушка ощутила, как у нее к горлу подступают слезы.
– Нет, – прошептала она, – лучше… пусть… там мы просто будем все вместе!
– Да будет! – игумен благословил ее. – Господь да сохранит и наставит тебя, чадо!
Кассия с Маргаритой и Геласием переночевали в соседнем селении, а утром пустились в обратный путь. Впервые за много месяцев Кассия ощущала в душе чистую и ничем не омраченную радость. Всё-таки выбор был сделан правильно, и она пойдет тем путем, на который направил ее Господь, а искушения – что ж, без них не стяжать совершенства!
Между тем в Свято-Феодоровском монастыре после литургии и общей трапезы приехавшие к патриарху исповедники стали собираться в обратный путь. Во время прощальной беседы Феодора с Никифором у них зашла речь о Кассии.
– Я рад за нее, – сказал Студийский игумен. – Именно такое дело ей нужно, и, надеюсь, она справится. Правда, одно только меня беспокоит… Ведь когда монастырь будет создан, ты, владыка, поставишь ее игуменьей?
– Да, – кивнул патриарх. – Тебя смущает ее молодость?
– Молодость и то, что она все же еще далека от бесстрастия и не так опытна, как бы надо для того, чтобы руководить другими. Хотя она уже давно, можно сказать, живет почти по-монашески, но это ведь всё же не то, что настоящее послушничество.
– Вспомни, отче, «Слово к пастырю» Иоанна Синайского, – и Никифор процитировал на память: – «Видел я – хоть это и редко случается, – что страстные, по некоторым обстоятельствам, начальствовали над бесстрастными и мало помалу, устыдившись своих подчиненных, отсекли собственные страсти. Думаю, что воздаяние за спасаемых произвело в них эту перемену: и таким образом, начальствование в страстном устроении послужило для них основанием бесстрастия». Случай в чем-то похожий. Но тут дело и в другом, – он помолчал немного. – Своей волей я бы не поставил ее на игуменство так сразу… может быть, и обитель благословил бы строить не в столице… Но здесь воля не моя. Я еще вчера за вечерней это понял, и сегодня снова молился… Так должно быть, а зачем – Бог ведает. Я только должен исполнить Его волю.
– Что ж, да будет воля Его! – тихо проговорил игумен.
…Вернувшись домой, Кассия через неделю отправилась во Фракию и первое, что она сказала матери после приветствия, было:
– Мама, «дай мне причитающуюся часть имения»!
– Пойдешь на страну далече? – улыбнулась Марфа.
– Ну, телесно нет, остаюсь в Городе, а духовно – да, ухожу, но, надеюсь, в противоположную сторону, чем блудный сын. Я была у святейшего, и он благословил строить обитель, а в сентябре думаю ехать опять к нему, обещал постричь.
– О! Ну, слава Богу! – Марфа оглядела дочь. – Наконец-то я вижу тебя счастливой!
– Да, я ужасно рада! И я там встретила отца Феодора, прощения попросила, и он всё понял, мы так хорошо поговорили с ним… А я боялась, что он обиделся на меня… Глупая я! Разве такие люди могут обижаться?.. Ну вот, а сейчас мне нужны деньги. Я уже месяц назад присмотрела место под обитель, и как от патриарха приехала, сразу отправилась туда узнать насчет цены и условий продажи. Вроде ничего не изменилось, но надо спешить: хозяин намекнул, что появились еще покупатели, так что он теперь будет смотреть, кто больше даст…
– Что за место?
– Это в долине Ликоса, почти у берега, недалеко от Диевой обители, и Константинова стена там близко. Очень уютно, красиво, тихо! Мне там очень понравилось. Если бы всё получилось, мама, я была бы так счастлива!
Спустя две недели участок был куплен, а в середине мая там уже стоял деревянный забор и началась стройка. Кассии не пришлось продавать свою часть имений посторонним: Исидора, узнав о ее намерении, сказала, что «нечего разбазаривать земли», и Акила купил у свояченицы то, что она собиралась продать, и обещал, что они с Евфрасией непременно будут жертвовать на обитель часть доходов. Впрочем, Кассия небольшую часть земель пока оставила за собой, предполагая прикрепить их к будущей обители. Константинопольский особняк оставался за Марфой. Но денег от продажи земли и так должно было с избытком хватить на строительство обители, тем более что Кассия не собиралась строить большой монастырь. К ее удивлению, еще не успев начать строительство, она уже обзавелась двумя будущими сестрами: ее горничные Маргарита и Фотина, узнав, что госпожа хочет создать собственную обитель, стали со слезами проситься взять их туда.
– Тогда вам придется учиться грамматике, каллиграфии и еще всякой премудрости! – строго сказала Кассия. – Потому что главным нашим делом будут не какие-нибудь огородные работы или шитье, а переписка книг.
– Мы будем учиться! – воскликнула Маргарита. – Мы постараемся, госпожа!
– Да, – сказала Фотина. – Ну, а если… не очень будет получаться… то ведь кому-то всё равно надо будет сестрам обед варить, например, правда же?
Анна, двоюродная сестра Кассии, узнав о ее планах, неожиданно проявила большую заинтересованность и, благодаря связям в придворных кругах и дружбе мужа с семейством эпарха, оказала немалую помощь: быстро был найден хороший архитектор, нанята опытная артель строителей и организованы покупка и подвоз строительного материала – камня, кирпича, извести, глины, песка, мрамора; всё это в основном подвозилось морем, а черепицу закупили в местных мастерских. Кассия каждый день бывала на стройке и часто брала с собой Льва, который, с интересом изучив чертежи зданий и храма, дал архитектору кое-какие полезные советы.
Муж Анны, уже давно не злившийся на «синеглазую святошу», – под влиянием жены он немного остепенился: по крайней мере, пьяным на улице его уже никто не видел, да и в блудилища заходить он тоже перестал, – даже гордился тем, что Кассия строит собственный монастырь и при случае не забывал упоминать об этом в разговорах со знакомыми придворными, рассчитывая, что будет и сам выглядеть более достойно в лучах благочестия своей родственницы. И вот, как-то в августе, патриарх, разговаривая с Сергие-Вакховым игуменом, сказал:
– Кстати, интересная вещь! Я недавно узнал… Помнишь ту девицу, что надерзила государю Феофилу на смотринах? – Иоанн кивнул. – Так вот, она строит собственный монастырь! И похоже, она из иконопоклонников, потому что ни ко мне, ни к кому-либо из наших она за благословением на это дело не обращалась.
– Вот как! Улучила, наконец, «лучший жребий», – усмехнулся Грамматик и, в ответ на вопросительный взгляд Антония, продолжал: – Она ведь еще тогда собиралась в монахи. Затем, думаю, и надерзила, чтобы государь не выбрал ее.
– Неужели? Вот оно что!.. А я, признаться, до сих пор иногда удивляюсь, что это на нее тогда нашло… Но откуда тебе известно?
– Она сама сказала, когда я беседовал с ней. Но ей судьбу захотелось испытать! – игумен чуть нахмурился. – Знал бы я, чем это обернется, так, пожалуй, попросил бы августейшую удалить ее со смотрин.
– Да, неприятно, конечно, получилось… Но дело прошлое! Государь, мне кажется, вполне доволен своим браком.
Иоанн чуть приподнял бровь.
– Но всё же лучше не говорить ему про эту Кассию и ее монастырь, святейший, – сказал он. – Боюсь, это может вызвать у него неприятные воспоминания.
Игумен произнес это спокойным, почти небрежным тоном, но, простившись с патриархом, погрузился в раздумья. После женитьбы Феофил сразу дал понять, что больше никогда ничего не желает слышать о происшедшем на смотринах, и во дворце об этом опасались заговаривать даже шепотом. Постепенно история стала забываться, поскольку внешне брак молодого императора действительно казался счастливым, и только близко общавшиеся с царственными супругами могли бы заподозрить обратное. Однако, поскольку обе императорских четы исповедовались у патриарха, Грамматик не предполагал, что Антоний совершенно ни о чем не знает. Но он не знал, – Иоанн видел, что патриарх не притворялся. А это означало, что ни Феофил, ни Феодора даже духовнику не признавались в том, от чего больше всего страдали – а что оба они страдали, игумен, по определенным признакам и по некоторым фразам, иной раз проскальзывавшим у молодого императора, видел ясно. Каждый загонял болезнь вглубь и не хотел ни с кем о ней говорить, – значит, недуг был еще тяжелее, чем Грамматик опасался в то время, когда Фекла спрашивала у него, счастлив ли ее сын… Впрочем, Иоанн теперь знал, какой сильной может быть страсть, вызванная глубинным сродством душ, и Феофила он понимал… но что же Феодора? Страсть и страдания, мучившие ее, были, очевидно, иного рода. Пожалуй, она до сих пор держит всё внутри потому, что еще надеется… Как долго это может продлиться?.. «Посмотрим! – подумал Грамматик. – Помочь всё равно невозможно. Остается только наблюдать… А долго эта Кассия не постригалась! Не поколебалась ли в своем намерении, увидев Феофила? Может, потом еще не раз пожалела о том, что возразила ему! – игумен усмехнулся. – Впрочем, если она иконопоклонница, то, пожалуй, это хорошо, что они с государем не сошлись!»
«Слава Богу, что мы с ним не сошлись! Разве можно даже сравнить всё то, что было бы у меня там, с тем, что у меня есть сейчас!» – думала Кассия, в праздник Рождества Богородицы возвращаясь в Город из Свято-Феодоровской обители. Они сидели в повозке втроем, притихшие и похожие на только что умытых детей – новопостриженные монахини: Маргарита стала Лией, а Фотина – Христиной, только Кассии патриарх оставил прежнее имя. Повозку подбрасывало на ухабах, но они ничего не замечали: как будто еще не до конца веря в происшедшее, каждая прислушивалась к себе, к тихой радости, ровным пламенем горевшей в сердце, и каждая думала: «Как же теперь надо жить, чтобы это не погасло, а разгоралось всё больше! Господи, Ты Сам помоги мне, грешной!»
В обитель уже можно было поселяться: хотя храм был еще не завершен, но жилое здание и трапезная окончены, а в ближайшее время должны были быть достроены помещения для скриптория и библиотеки и каменная ограда. Главным из того, что еще предстояло, было внутреннее убранство храма: Кассия хотела непременно украсить его мозаиками и фресками, но пока не могла отыскать мастеров – годы гонений на иконы привели к тому, что найти живописцев, согласившихся бы взяться за отделку целого храма в столице, было нелегко. Однако проводить богослужения можно было пока и в домовой часовне, сделанной в жилом здании. Лето у Кассии прошло в усиленных занятиях с ее горничными, которые столь рьяно взялись за учебу, что хозяйка попросила Льва помогать ей в их обучении, на что он с удовольствием согласился. Фотине учеба давалась нелегко, зато Маргарита преуспевала на удивление, к тому же у нее оказался прекрасный почерк, и Кассия понимала, что со временем она будет незаменима в скриптории. Заботы по строительству монастыря и занятия с будущими сестрами поглощали всё свободное время девушки, и она почти позабыла о прежних страданиях и сомнениях: всё связанное с участием в смотринах и с Феофилом словно подернулось туманом и отошло вдаль. Постриг стал как бы печатью, наложенной на прошлое – оно было пережито, закрыто и, хоть и не забыто, перестало волновать ей душу и будоражить помыслы. Единственным, что немного печалило ее, было предстоявшее прощание с учителем: хотя они со Львом собирались переписываться, но живое общение должно было окончиться, и каждый ощущал, что ему будет не хватать другого.
– Ну, что ж, – сказала Кассия. – Одно теряешь, другое приобретаешь… Без этого нельзя.
– Ты-то многое приобретаешь, – ответил Лев, с легкой грустью глядя на свою ученицу. – А что приобретаю я? По-моему, ничего.
– Только пока, – улыбнулась девушка. – Но подожди немного, и ты тоже что-нибудеь непременно приобретешь! Не грусти! А пока вот тебе подарок на память.
Она протянула ему книгу в синей обложке с золотым узором из цветов и птиц.
– О! – Лев был немного удивлен. – Благодарю, но почему именно эта книга?
– Так мне подумалось. Пусть это будет… что-то вроде военного трофея.
– Как знак окончания войны? – Лев пристально взглянул на девушку. – Или «в битву пойдем, невзирая на раны: зовет неизбежность»?
После того урока, когда Кассия попросила у Льва символически истолковать «Повесть о Левкиппе», они больше никогда не говорили о том, что открыли друг другу в тот день. Чуть позже Лев попросил у девушки повесть, чтобы дочитать, прочел и вернул, но они не возвращались к ее обсуждению или толкованию. Однако учитель, наблюдая за ученицей, догадывался, что она еще не поборола поразившую ее страсть. И теперь, когда она покидала мир, он всё же решился спросить об этом.
– Мне кажется, – тихо ответила Кассия, – что Троянская война, наконец, окончена, и Илион разрушен.
– Рад за тебя, если так! – улыбнулся он. – Но всё же позволь пожелать, чтоб тебе не пришлось блуждать по морям, подобно Одиссею!
– Благодарю, Лев! – сказала она очень серьезно. – Это действительно важное пожелание, – и, увидев, что он собирается убрать ее подарок к себе в сумку прибавила: – Посмотри, там и дарственная надпись есть, только не в начале, а в конце. Точнее, это эпиграмма… Но я ведь пишу не как един от древних, так что в начало помещать ее не стала…
На внутренней стороне задней обложки Лев прочел:
Он взглянул на Кассию и улыбнулся:
– Если говорить о жене в смысле супруги, как в повести, то это, конечно, часто бывает недалеко от истины. Но если говорить о жене философствующей, то я должен признаться, что для меня было счастьем и подарком судьбы познакомиться с такой!
23. «В память вечную будет праведник»
Муж сей и не оставил нас, он будет жить с нами, если только мы, как сам он сказал, будем исполнять его заповеди.
(Св. Навкратий Студит)
Собрание православных в патриаршем монастыре на Босфоре, которое застала Кассия, оказалось последним в таком составе. Впрочем, и на нем веяло некоторой грустью: многие уже знали, а остальные узнали теперь, что скончались двое исповедников – игумен Павло-Петрский Афанасий и игумен Халкитский Иоанн, причем обе смерти явились для всех полной неожиданностью. Афанасий не болел даже одного дня, но просто после вечерней службы пришел к себе и, почувствовав внезапную усталость прилег на постель, а когда один из живших при нем монахов через четверть часа постучался и, не получив ответа, заглянул в келью, то нашел игумена уже мертвым.
О том, как умер Иоанн, в подробностях мог поведать всем Феодор Студит, присутствовавший при его кончине. Халкитский игумен с некоторыми своими братиями жил недалеко от студитов, и Феодор, узнав о его болезни, отправился навестить исповедника. С тех пор, как начались гонения на иконы при Льве Армянине и Иоанн, воспротивившись решению иконоборческого собора, был изгнан с Халки и брошен в тюрьму, Феодор поддерживал с ним переписку. В первом письме к заключенному игумену Студит похвалил его за то, что Иоанн «изгнан со Христом» и тем самым «ярче солнца воссиял среди братьев по чину монахов», однако не упустил случая и напомнить о прежних разногласиях, чтобы уже совершенно покончить с ними: «Я потерпел хорошее поражение и, побежденный, даже радуюсь, усвояя себе твой победный венец. Такова любовь по Богу. Ты знаешь, о чем я говорю, – о том, что я порицал тогдашнее падение, хотя его и не считали таковым. Твое благоговение стало стремиться к большему совершенству. Я принадлежу тебе, друг. Но как я здесь выражаю благодарность, так и тебя прошу согласиться там. В чем же именно? В том, что и тогда к темнице присуждали за истину. Это я говорю не ради себя – да не будет! – но для того, чтобы Бог чрез признание этого укрепил тебя в настоящей темнице, дабы ты “подвизался законно”…» В ответном письме Иоанн согласился, что Студит, конечно, был прав, и признался, что две эпиграммы, оставленные Феодором на память, он помнит наизусть, да и вообще знакомство со Студийским игуменом принесло ему в свое время большую пользу, теперь же он счастлив получить от него письмо и надеялся продолжать переписку и дальше. Они постоянно переписывались, пока продолжалось гонение, а после воцарения Михаила не раз встречались. Никому бы, пожалуй, и в голову не пришло, что когда-то один был узником другого.
Когда Феодор прибыл к заболевшему Иоанну, он нашел игумена уже при смерти и был поражен таким внезапным и быстрым исходом сподвижника по борьбе.
– Я захвачен врасплох! – таковы были последние слова умирающего, наведшие уныние на его учеников.
Феодор, как мог, успокоил монахов, сказав, что предсмертные слова их игумена, конечно, показывали его смирение, как это бывало и при кончине других великих подвижников: например, преподобный Памво, умирая говорил, что «отходит так, как бы еще и не начинал служить Богу», а много ли найдется столь великих подвижников как он?
– Бог не забудет трудов приснопамятного отца вашего, братия! – сказал Студийский игумен. – Ведь он на деле предпочел Христа всему земному. Не был ли он в миру смотрителем императорских имуществ, не получал ли за это немалое жалованье, не был ли он знатного происхождения, не имел ли множество богатых и знатных родственников? И всё это он оставил, «все ради Христа вменил в тщету», подъял духовное состязание, истратил свои богатства на то, чтобы, не жалея труда и пота, создать обитель – монастырь прекрасный и благоустроенный, поистине украшение острова! Вы знаете, братия, какие бесчинства устроили там христоборцы после изгнания нашего отца и нового исповедника, и как он печалился сердцем, получая известия о том. Да воздаст ему Господь за все те печали небесной радостью! Всем вам известны его любовь к Богу, воздержание, приветливость к ближним, простота, всегдашнее радостное настроение и прочие добродетели. Что же до ошибок, которые ему как человеку случалось совершать, то я уверен, что он загладил их нынешним исповеданием, заключениями за почитание иконы Христовой и твердым стоянием в истине до последнего часа! Так он получил вечную славу и в монашеском чине, и во всей Церкви Божией! Посему не печальтесь, братия, и веруйте, что Господь уготовал ему место вечной жизни в райских селениях!
Возвратившись к студитам, Феодор в очередном огласительном поучении привел последние слова почившего игумена и сказал:
– Мыслей же своих он не раскрыл. Но мы чувствовали, откуда такое беспокойство. Это я сказал не для того, чтобы набросить тень на него – да не будет! – но для того, чтобы и себя устрашить, и вас предостеречь, чтобы мы не были захвачены врасплох, чтобы не было нужды в час смерти произнести такие же слова, но приготовимся без смущения встретить его, ибо написано: «Я приготовился и не смутился».
Но тот год оказался поистине несчастливым для православных. 23 мая, тоже совершенно неожиданно для всех, умер митрополит Синадский Михаил. Освободившись из ссылки, он поселился в Вифинии, вокруг него жило много монахов, приходило и немало посетителей. Михаил всех принимал, угощал, окормляя телесно и духовно, его гостеприимство и приветливость были удивительны. Феодор, тоже нередко посещавший его, прибыл к митрополиту в вечер Пятидесятницы. На другой день после богослужения всем собравшимся, по обычаю, была предложена трапеза. И вот, встав из-за стола, митрополит внезапно охнул и приложил руку к затылку: боль, вступившая в голову, волной прошла через весь позвоночник, и Михаил вынужден был немедленно лечь в постель. Феодор возвратился к себе встревоженный, на другой день вновь навестил митрополита и нашел его в сильных страданиях и жестокой горячке. Михаил уже едва мог говорить и слабыми жестами давал понять, что надежды на его жизнь не осталось. На третий день он умер.
«И вот, – писал Феодор вскоре после погребения новопреставленного исповедника Петру, митрополиту Никейскому, – лежал этот блаженный муж – ибо хорошо описать и это, как некоторое дивное зрелище, – почтенный лицом, ангелоподобный видом, как будто душа, отошедшая к Господу, оставила какие-то лучезарные черты на священном теле, с которым и в котором она служила Святой Троице…»
Эта внезапная смерть повергла в печальные размышления многих, в том числе и студитов. Еще не прошла весна, а уже умерли трое исповедников, в минувшее же лето скончался митрополит Халкидонский Иоанн; поневоле многим приходила мысль: «Кто следующий?..» Николай каждую ночь у себя в келье с жаром молился о продлении лет жизни своему игумену, но сам Феодор не надеялся прожить долго. В том же самом письме Никейскому преосвященному, чье болезненное состояние ему было известно, он вопрошал: «Ты же что? Привязан к телу или считаешь, что нужнее уйти отсюда? Мы и раньше знали, что ты уже сильно утомлен. Но не лучше ли было, чтобы мы, удрученные старостью, совершенно бесполезные в жизни, только грехи на грехи нагромождающие, оставили эту несчастную плотскую темницу?..» Николай запечатывал это письмо со слезами. Игумен, взглянув на него, тут же продиктовал ему другое письмо – епископу Диррахийскому Антонию. Похвалив его за ревность в проповеди истины и сообщив о смерти игуменов Афанасия и Иоанна и митрополита Михаила, Феодор под конец говорил: «Еретики думают, что исповедническое общество Христово убывает, но они не знают, что оно еще более умножается, воодушевляясь ревностью прежних подвижников и становясь окрыленным воинством. Христос же еще спит, одним отверзая дверь покаяния по неизреченной благости, испытывая любовь других, чтобы увенчать их венцом терпения, а иных, как очищенное золото, непрестанно облекая прекрасною диадемой славы Своей».
Летом Феодор вместе с другими исповедниками побывал у Диррахийского епископа, по его приглашению, и когда они уже прощались, Антоний сказал игумену:
– Надеюсь, мы еще свидимся!
– В этой жизни уже вряд ли, владыка, – покачал головой Феодор.
– Печальные слова, отче! – проговорил епископ. – Хотя для тебя, наверное, радостные… Но всё же это было бы несправедливо! – вырвалось у Антония. – Ты столько боролся за торжество православия – и не увидишь его?!
– На небе всегда торжество православия, – улыбнулся игумен. – И если я попаду туда, то не о чем сожалеть, если же не попаду, то мне уж будет точно не до того… Молись за меня, владыка, чтобы мне неосужденно предстать пред Господом! А земное торжество… Что ж, говоря по-человечески, конечно, хотелось бы увидеть. Но ведь мы все – одно Тело Христово, и кто узрит чаемое, тот и порадуется – и за меня тоже!
Но митрополит Никейский Петр предварил игумена на пути в Горний Иерусалим – он умер 10 сентября, и на Принкипо весть об этом получили накануне праздника Воздвижения Креста Господня. На сам праздник Феодор, говоря обычное поучение, напомнил братиям, что нужно хранить себя чистыми от грехов, и завершил слово так:
– Это блаженная жизнь, которую мы, братия, улучили по милости Божией. В ней мы пребываем и постараемся еще более преуспевать в ней, пред всеми смиряясь с благоговением, упражняясь во всяком послушании, облекаясь во всякое смиренномудрие, приобретая себе всякую душевную чистоту, видя смерть, действующую пред лицом нашим. Ибо нас уже оставил и наш духовный отец Петр, святейший митрополит Никейский, чей исход счастлив, поскольку он преставился во время гонения. С ним и мы да удостоимся наследовать царство небесное во Христе Иисусе, Господе нашем, Коему слава и держава со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков!
В начале ноября Феодор слег с приступом своей давней желудочной болезни. Она в последние месяцы терзала его всё чаще и сильнее, так что он почти не мог принимать никакой пищи и телом совсем высох, братия без жалости не могли смотреть на него. Сначала игумена мучил озноб, так что он трясся, как от холода, потом охватила горячка, но на четвертый день Феодор вдруг почувствовал себя легче настолько, что даже смог присутствовать на службе, правда, стоять был не в силах и молился сидя. Наступало воскресенье, и за утреней было прочитано поучение Феодора, которое он заранее продиктовал Николаю.
«Братия и отцы! – говорилось в нем. – Я был болен, однако, вашими молитвами, снова выздоровел. Но надолго ли я выздоровел? Нет, настанет день смерти, когда выздоровление уже не обретет места; настанет, говорю, день смерти, и я должен буду разлучиться с вами», однако «будет некогда время, когда мы увидимся друг с другом – о, если бы только в неизреченной радости и в жизни нескончаемой!» Затем Феодор обратил взор в прошлое, к тем скорбям за веру, перенесенных студитами: для одних гонение «служило поводом к преуспеянию в добродетели, и таковые просияли, “как светила в мире”, возвещая слово жизни», получив великие духовные блага; «но для других то же гонение было причиной греха и преступления, то есть для тех, кто, провождая своевольную жизнь и забыв повиновение, сам себя обесславил», – игумен имел в виду тех из студитов, которые, живя в рассеянии, изменили правилам монашеской жизни, пристрастились к миру, накупили рабов или занялись торговлей… Феодор молил братий поступать так, чтобы через них «слово благочестия распространялось даже между самыми беззаконниками и руководило их к познанию истины».
Когда Навкратий прочитал это поучение, игумен вдруг ощутил прилив бодрости, так что даже окружающие заметили внезапное изменение его состояния: он словно бы ожил и настолько укрепился, что смог сам совершить литургию и преподать всем собравшимся Святые Тайны. После этого он пошел в трапезную, где приветствовал некоторых из прибывших гостей из числа исповедников и, побеседовав с ними, на прощание сказал:
– Может быть, это и дерзновенно, отцы мои, но ныне для меня пришло время сказать словами апостола: «знаю, что более не узрите лица моего во плоти все вы», с кем вместе подвизался я, смиренный, ради царствия Божия, и «посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Молитесь же за меня, грешного, чтобы мне неосужденно предстать пред Судией!
Пришедшие с плачем обнимали игумена и просили его молиться за них, когда предстанет лицу Божию. Николай, не в силах видеть и слышать всё это, выскользнул из трапезной, пошел к себе в келью и сел, скрючившись, на рогожке в углу под иконами. Он не мог уже ни плакать, ни молиться. Он вспоминал, как молился за игумена, когда Феодор умирал после бичевания в Вонитской крепости, – и ощущал, что теперь, сколько бы ни молиться, вымолить не удастся. Но почему, почему?!.. Разве сейчас отец не так же нужен всем, как тогда? Разве не мог бы он прожить еще лет двадцать, например? Жили же подвижники да и сейчас, бывает, живут по восемьдесят, по девяносто лет!.. Конечно, эти бичевания, эти ссылки и болезни истощили Феодора… Но всё-таки – почему Господь не может дать ему сил, чтобы он прожил еще хотя бы немного?!.. «О, почему я не умер раньше?! – думал Николай. – Как я переживу его смерть? Как буду жить дальше?..»
Из трапезной игумен отправился к себе, снова лег и, подозвав Навкратия, который почти всегда находился при нем, тихо спросил:
– Утомил я тебя, брат, должно быть, такими вопросами, но уже последний раз вопрошаю: не осталось ли чего-нибудь, что мы непременно должны были сделать?
– Нет, отче, – ответил эконом, глотая слезы. – Слава Богу, ты исполнил всё должное и как должно!
«Не оставили ли мы чего-нибудь без внимания?» – этот вопрос в той или иной форме Феодор часто задавал Навкратию в последний год, и теперь студийский эконом понимал, что игумен готовился к близкой смерти, о которой ему, по-видимому, было открыто заранее. «И я не догадывался, глупец! – думал Навкратий. – А отец не сказал… по смирению, конечно… Господи! Как мы все будем без него?..»
Во вторник отмечалась память святителя Павла Константинопольского, и Феодор снова совершил литургию, а вечером, побеседовав с братиями, пошел к себе в келью, прочел обычное правило и лег спать. В середине ночи у него снова случился желудочный приступ, и он позвал одного из братий, дежурившего у дверей его кельи. Весть о том, что игумену стало хуже, распространилась молниеносно, и тут же сбежались братия. Феодор, однако, успокоил их и отослал, хотя болезнь не отпускала его, и он страдал весь следующий день, а в четверг призвал всех своих монахов и оглядел их таким взором, что они поняли: наступает час прощания.
– Братия и отцы! – негромко произнес игумен, и вокруг наступила благоговейная тишина. – Эта чаша есть общая, ее испили все отцы наши, ее испию и я и отойду к отцам моим. Вот завещание, которое я оставляю вам: храните веру непоколебимой и ведите жизнь беспорочную. Более этого мне нечего сказать вам, ибо я прежде сказал уже вам всё, что должен был сказать, и учил вас всему, – он помолчал немного и продолжал: – Владыке нашему архиерею передайте от меня приветствие со всем почтением и пожелание спасения, также и господину нашему епископу, – архиепископ Иосиф, брат игумена, был в отъезде, – равно и прочим отцам, епископам и священникам Христовым и исповедникам, претерпевшим страдание ради Господа, всем братиям, друзьям и знаемым, и тем, кто подвизался на одном с нами поприще веры, как малым, так и великим.
Он умолк. Братия плакали, стараясь подавить рыдания, чтобы не нарушать тишину и чинность. Навкратий подошел к ложу игумена и спросил:
– Отче, что повелишь ты относительно тех монахов и мирян, которые подверглись наказанию и несут епитимии?
– Господь да простит всех! – ответил игумен и трижды благословил братию. – Господь мира да будет со духом вашим! – и он простился со всеми присутствовавшими.
Между тем слух о болезни Студийского игумена разнесся по окрестным местам, и стеклось множество народа. Пятницу и субботу Феодор провел, благословляя и приветствуя приходящих, беседуя с ними, несмотря на продолжающиеся боли, всем преподавая последние наставления и отпуская с миром.
Утром воскресного дня, когда совершалась память мученика Мины, прочитав обыкновенные псалмы и молитвы, игумен причастился Святых Таин и молился до полудня, когда почувствовал внезапную слабость и еле слышно приказал присутствовавшим зажечь восковые свечи и петь 118-й псалом. Лишь только братия дошли до стиха: «Во век не забуду повелений Твоих, ибо ими оживил Ты меня», – и еще не успели окончить его, как лицо Феодора просияло, словно на него упал солнечный луч, и игумен испустил дух.
Келья, а затем и вся окрестность огласились воплями и рыданиями, теперь уже никто не старался да и не мог сдерживаться. Весть о смерти великого Студита разошлась во мгновение ока, и уже к обеду стал стекаться народ. Люди шли потоком – монахи и миряне, священники и епископы, бедняки и знатные вельможи, ремесленники и земледельцы, купцы и мореплаватели, начальствующие и рабы. Каждый нес что-нибудь для погребения исповедника – кто свечи из дорогого белого воска, кто тканые покровы, кто серебряные, золотые или выточенные из драгоценных камней сосуды, кто ароматы и благовония. Погода внезапно испортилась, к двум часам пополудни разразилась буря, продолжавшаяся до вечера и всю ночь, на море разыгралось сильное волнение, но это никого не остановило: все спешили оказать последнюю почесть почившему игумену. Феодор был погребен на другой день, когда буря прекратилась и вновь засияло солнце; впрочем, если б даже оно вдруг погасло, вокруг не стало бы темно – так много горело свечей и светильников. И от самого тела игумена словно исходило некое сияние, как будто душа, исходя к Богу, оставила на нем сверкающий след. Когда были пропеты положенные на погребение псалмы и молитвы, тело Студита было предано земле в той самой келье, где он жил в последние два с половиной года, молился, писал письма и, несмотря на немощь, занимался рукоделием. Тут возникла некоторая сумятица и толчея, поскольку всем собравшимся хотелось получить хотя бы малую часть одежды почившего – никто не сомневался, что они погребали святого. Собравшиеся епископы и студийская братия едва сдержали натиск и предотвратили беспорядок. Несколько дней всем приходящим поставлялись поминальные трапезы.
Братией овладело жестокое уныние. Николай все дни проводил при гробе почившего игумена, даже работал в соседней келье, и только этим немного утешался. Навкратию же приходилось утешать и других – как студитов, не присутствовавших на погребении игумена и теперь прибывавших из рассеяния припасть к его гробнице, так и других монахов, мирян и клириков, стекавшихся на Принкипо. Приходившие, в свою очередь, пытались утешить осиротевших монахов, но те в первое время были настолько подавлены скорбью, что не могли принять никакого утешения. Впрочем, и всем почти казалось невероятным, что покинул жизнь тот, кого сам патриарх-исповедник называл столпом и опорой Церкви. Что же теперь будет? Кто теперь приготовит к борьбе? Кто укрепит в подвигах за истину? Кто через письма сообщит нужное? Никто, никто!.. И Навкратий изо дня в день, собираясь написать окружное послания рассеянным братиям – теперь эта обязанность лежала на нем, вступившем на место почившего игумена, по желанию как самого Феодора, так и всех братий – и то и дело садясь за стол, чтобы выполнить этот печальный долг, снова и снова бросал перо. Начальная фраза письма: «Претерпевающим гонение ради Господа и рассеянным повсюду братиям и отцам грешный Навкратий желает спасения», – много дней оставалась без продолжения. Наконец, когда игумен – да, теперь игумен Студийский, как ни невероятным казалось это ему – «О, лучше б этого никогда не было! Зачем я, несчастный, дожил до этих дней?!..» – в очередной раз сел за письмо и вновь бессильно отложил перо, Николай, только что зашедший взять чистых листов для разлиновки, взглянул на Навкратия и тихо сказал:
– Отче, если тебе тяжело, то, может, ты продиктуешь, а я напишу?
Игумен взглянул на него. «Юный сподвижник», как привык называть Николая бывший студийский эконом, незаметно для него совсем повзрослел: в этом году ему исполнилось уже тридцать три. Возраст Христа!.. Что ж, страдание, пережитое Николаем из-за смерти любимого игумена, было, конечно, самым тяжелым крестом из всех, что ему пришлось претерпеть за последние годы, – и теперь Навкратий видел, что брат вышел из этого последнего горнила искушений мужем совершенным, «как серебро расплавленное, очищенное седмижды». И игумен устыдился, подумав: «Что ж я малодушничаю? Довольно! Надо делать должное, как бы ни было тяжело…»
– Благодарю, брат, но я сам, – ответил он и решительно взялся за перо.
«Скончался общий ваш отец, – писал Навкратий, – тот, говорю, отец, который любил вас нежной отеческой любовью, как истинных своих чад, как делателей винограда Господня, как послушных сынов, как Христовых воинов, как верных исповедников, как своих сотрудников и соучастников во многих или лучше – во всех его подвигах! Преставился общий отец наш, бывший учеником и подражателем Христовым, устами Церкви, украшением священников, столпом веры, правилом монахов, евангельским пастырем, преемником апостолов, славным исповедником, готовым на все мучения, светом Православной Церкви, учителем вселенной…»
Николай, с пачкой листов в руках, стоял за спиной игумена, читал через его плечо появлявшиеся на пергаменте горестные строки, и слезы текли по его щекам.
«Быв доселе поражаемы многими другими бедствиями и злоключениями, мы однако же еще не получали столь тяжкого и опасного поражения. Но вот, для нас помрачился теперь прекраснейший мир, сетует Церковь, рыдают народы, что не стало борца, что умолк провозвестник и мудрый советник. Священное сословие ищет своего началовождя, исповедники – соисповедника, борцы – своего подвигоположника, больные – врача, скорбящие – утешителя… Мы ходим теперь с печальным и унылым лицом. Мы сделались предметом поношения и радости для противников и еретиков…»
Это было правдой: иконоборцы действительно, если не радовались, то, по крайней мере, вздыхали с облегчением, узнавая о смерти Студита: ушел из жизни главный и самый опасный их противник, и хотя остались его опровержения, письма и ямбы, но они, конечно, не могли заменить живого человека, а если б кому-то пришли в голову новые доводы против икон, Феодор уже не смог бы их опровергнуть. Иконоборцы не хуже нового Студийского игумена сознавали, что главная опора иконопочитателей изъята из постройки, «и грозит опасность, чтобы по падении такой опоры не пали другие, и чтобы чрез это не обнаружилось то, что было в них гнилого».
– Ну вот, – сказал патриарх Сергие-Вакхову игумену, когда весть о кончине Студита дошла до Константинополя, – прорицавший нам скорую смерть умер, а мы с тобой всё еще живем! – он усмехнулся.
– Что ж, – ответил Иоанн, пожимая плечами, – мы тоже не вечны, святейший. Феодор сделал себе имя как среди единомышленников, так и среди врагов – по-моему, завидная участь!
– Ну, с этой точки зрения у тебя не должно быть поводов для зависти! – Антоний хмыкнул.
– Да, в этом смысле мы с ним достойные противники, – усмехнулся Иоанн. – Но на самом деле сейчас еще рано говорить о том, кто какое имя себе сделал. Пока у каждого из нас много сподвижников и много недругов. Но неизвестно, что будет лет через… пятьдесят хотя бы. Если наша Церковь устоит в православии, нас с тобой, владыка, грядущие роды будут, возможно, ублажать. Ну, а если дело опять повернет к иконопоклонству, точно будут проклинать! В любом случае вечная слава нам обеспечена, не так ли?
– Как ты странно рассуждаешь! – воскликнул патриарх. – Можно подумать, тебе всё равно, какое учение истинно! Я уж не говорю о вечной участи каждого из нас самой по себе…
– Нет, святейший, мне не всё равно, но почему бы и не порассуждать, так сказать, отвлеченно? Мы ведь говорим о том, что называется земной славой, а с ней дело обстоит именно так, как я сказал. Что до славы небесной, то это материя тонкая. Вот, допустим, вспомним великого Юстиниана. Мы имеем прекрасную «Церковную историю» Евагрия Схоластика, который не усомнился отправить этого императора прямо «в преисподние судилища». Или взять Прокопиевы хулы, существующие наряду с его же панегириками! Мы сейчас этого государя почитаем во святых, а для его современников и ближайших потомков это было совсем не очевидно. Зато земная слава сама по себе, хорошая или дурная, очевидна всегда. А суд Божий в любом случае не тот, что человеческий. Конечно, когда проходит время, десятилетия или столетия, потомки постепенно разбираются и выносят суждения о том, кто был прав, а кто нет. Но я бы не рискнул сказать с уверенностью, что эти суждения всегда соответствуют суду Божию.
– Да, но… есть же случаи, когда это соответствие явно! Если Церковь сочла человека святым или, напротив, еретиком, то какие тут основания для сомнений, коль скоро мы верим, что Церковь есть «столп и утверждение истины»?
– Э, владыка, – улыбнулся Иоанн, – это тоже не всегда верно. Вспомни небезызвестного Евагрия. Хоть он соборно осужден, в книгах мы встречаем его как «блаженного авву», в том числе у людей, писавших после осудившего его собора. И то, и это – часть церковного предания. Другой пример: святитель Евтихий Константинопольский. В одних книгах читаем, что он был изгнан с престола за ересь, в других – что, напротив, за исповедание православия. Святой Григорий Двоеслов утверждает, что этот патриарх впал в ересь, но перед самой смертью покаялся. Возможно такое? Конечно. Но можем ли мы точно знать, действительно ли он покаялся в своих догматических воззрениях? Ведь очень вероятно, что он ни в чем таком не каялся и умер с чувством выполненного долга, уверенный, что пострадал за православие, – о чем как раз и говорит его житие. Как бы то ни было, во святых он почитается. Вполне возможно и обратное: человек всю жизнь пробыл в ереси, и его осудили как еретика, а между тем перед смертью он покаялся пред Богом, только об этом, допустим, никто или почти никто не узнал. Примет ли Бог его покаяние? Думаю, безусловно. Будут ли его в Церкви анафематствовать до скончания мира сего? Тоже безусловно, только как это влияет на его вечную участь? Ведь ясно, что на соборах ереси проклинают, прежде всего, чтобы оградить паству от их тлетворного влияния. Затем и анафемы изрекаются, чтобы остеречь людей от следования за еретиками, а то и не за ними самими – они ведь и умереть к тому времени могут, как в случае с Оригеном, – но за теми зломудрствующими, которые провозглашают их своими учителями. Но все ли из тех, кто поименно осужден на соборах, на самом деле мучатся в геенне огненной? Думаю, на этот вопрос ответить невозможно. Как говорится, увидим ясно, когда умрем, – Иоанн снова улыбнулся. – Прошу прощения, святейший, я немного увлекся… Целую лекцию прочел!
Патриарх несколько мгновений пристально глядел на игумена и, усмехнувшись, сказал:
– Твоя лекция весьма занимательна, отче… Всё-таки ты действительно великий софист, как зовут тебя наши противники! Похоже, ты уже заранее просчитал, как тебе не остаться в проигрыше и в случае, если тебя по смерти прославят, и в случае, если проклянут!
– Возможно, – рассмеялся Грамматик. – Но заметь, владыка: прославят меня или проклянут, а эпитет «великий», пожалуй, и так, и этак будет сопровождать мое имя! Так что ты прав: мне действительно не стоит завидовать покойному Феодору.
– Да, но эпитеты, которыми тебя наградили и еще наградят на этом свете, вряд ли помогут тебе на том, если вдруг тебе придется там несладко.
– Разумеется. Но вопрос моей вечной участи не зависит ни от кого, кроме меня, и не разрешим никем, кроме Бога. А потому и касается только Его и меня.
…Патриарх перечел полученное накануне письмо и задумался. Это был уже шестой донос: анонимный, как и прежние, он сообщал «его святейшеству мудрейшему предстоятелю Нового Рима, благочестивейшему и твердейшему хранителю православных догматов», что в недавно построенной по соседству со Свято-Диевым монастырем женской обители организован «притон иконопоклонников, откуда злочестивая ересь распространяется по Царствующему Городу и далее». Антоний и сам знал, что эти монашки, которых и было-то там всего пятеро, много занимаются перепиской книг и распространением писаний против иконоборцев, но формального повода добиваться каких-либо прещений против монастыря пока не было: с одной стороны, все имели полное право верить, как хотят, ибо на то было высочайшее позволение; с другой стороны, иконопочитательские апологии распространялись частным образом, а в открытую монахини предлагали на продажу в Книжный портик в основном псалтири, Евангелие и жития святых. Кроме того, патриарх опасался лишний раз докучать императору церковными делами: внимание Михаила в последнее время поглотила война с арабами.
Агаряне, воспользовавшись тем, что Империя была ослаблена недавним восстанием Фомы, и многие области охранялись из рук вон плохо, в течение полутора лет захватили на Крите двадцать девять городов и обратили жителей в рабство, заодно опустошив Эгину и еще некоторые острова. Переговоры с халифом ни к чему не привели, и император дважды посылал на Крит военный флот, но оба раза безуспешно. Второй поход, под предводительством Кратера, при Михаиле назначенного стратигом фемы Кивирриотов, и вовсе окончился сокрушительным провалом: несмотря на то, что ромеи, сражаясь с агарянами целый день от восхода до заката, одержали победу и могли бы даже захватить вражескую крепость Хандак, они не воспользовались успехом, а принялись беспечно пировать, похваляться взятой добычей и пьянствовать, не позаботившись о должном укреплении лагеря и о страже. Это привело к тому, что враги, напав глубокой ночью, перебили почти всех, а стратиг, пытавшийся бежать на торговом судне, был схвачен арабами на острове Кос и казнен. Император, однако, не оставил надежд освободить Крит и другие острова и подумывал о снаряжении туда нового флота, но тут его внимание отвлекла Сицилия, где, в результате поднятого турмархом Евфимием восстания, поднялась такая смута, что возникла опасность потерять и этот остров: турмарх не только убил тамошнего стратига Фотина, но, когда некоторые из сторонников мятежника отложились от него и, вновь присягнув императору, в сражении разбили бунтовщиков и овладели Сиракузами, вступил в сговор с африканскими арабами, предложил эмиру верховную власть над островом и выплату дани в обмен на действительную власть на Сицилии с титулом императора. 17 июня пятого индикта агаряне под предводительством кади Асада с большим войском высадились в Мазаре и принялись хозяйничать на острове, не очень-то обращая внимания на Евфимия. Теперь многое зависело от того, как пройдет сражение ромейского войска с арабским. Император с тревогой ждал вестей, и в таких обстоятельствах приступать к нему с разговорами об анонимных доносах представлялось патриарху довольно-таки неуместным, тем более, что в целом император был доволен ходом церковных дел. На состоявшемся два года назад в Париже соборе франкские епископы, использовав присланную им из Константинополя подборку текстов из Писания и отцов, осудили иконопочитание и обратились к папе с призывом сделать то же самое, как и Франкфуртский собор тремя десятилетиями раньше. Папа до сих пор отмалчивался, но было очевидно, что мнение западных богословов для него важнее, нежели противостоящих иконоборчеству на востоке…
Однако последний донос относительно нового монастыря, полученный патриархом, сообщал, что там размножают письма и поучения покойного Студийского игумена, в том числе «порочащие его августейшее величество и божественную августу, честнейшую его супругу», причем прилагалась и выдержка из Феодоровой проповеди, где игумен увещевал братий держаться заповедей, чтобы избежать «гнева, грядущего на сынов противления», и говорил: «Что и ныне есть сыны непослушания, много примеров. Один же главнейший – пример императора, не только в отношении ниспровержения веры, но и в отношении заключения противозаконного супружества. Как можно об этом не сетовать, как не скорбеть? Ведь снова произведен соблазн в Церкви Божией…» В свое время, когда стало известно об осуждении студитами нового брака императора, Михаил не стал затевать гонений против них, хотя и был раздражен, высказав Феодору свое недовольство через никомидийского градоначальника. Но если, – думалось патриарху, – он теперь узнает, что у него под боком продолжают распространять хулы покойного игумена, то, возможно, отнесется к этому уже не так снисходительно. Пожалуй, его гнев может пасть и на Антония, особенно если узнается, что он был извещен, но не принял мер… И вот, этим утром патриарх, наконец, поставил императора в известность о деятельности женского монастыря Пресвятой Богородицы в долине Ликоса. Но последствия этого разговора были довольно неожиданны для Антония. Император, выслушав его, нахмурился и спросил:
– А кто там игуменья?
– Госпожа Кассия, государь… та самая, что была на смотринах, когда твой августейший сын выбирал себе невесту.
– Неужели? Вот как!.. Занятно… – Михаил задумался. – Игуменья в таком возрасте? Ей ведь еще нет и двадцати пяти! И Никифор ее сделал настоятельницей? Любопытно…
– Я тоже удивился этому, августейший. Но, быть может, Никифор счел, что она справится… Она ведь, говорят, весьма начитанна и умна.
– Что ж, возможно… Вот что я тебе скажу, святейший. Мне сейчас недосуг заниматься подобными вопросами, сам знаешь, каковы наши сицилийские дела… Так что ступай, владыка, к моему августейшему сыну и обсуди всё это с ним. Да и вообще, мне хотелось бы, чтобы ты церковные дела, если они не касаются чего-то действительно серьезного, решал с ним и с нашим дорогим философом. Слишком жесткие меры нежелательны, а подробности обсудите сами.
Антоний несколько смутился, ведь Грамматик не советовал напоминать молодому императору о надерзившей ему на смотринах девице. Но теперь выхода не было, и на другой день патриарх зашел в «школьную» ко времени окончания занятий и, поприветствовав императора и его учителя, сказал:
– Государь, меня привел к тебе один церковный вопрос. Я поначалу обратился с ним к твоему августейшему отцу, но он велел обсудить это дело с тобой.
– Церковный вопрос? – переспросил Феофил. – Что ж, давай обсудим, святейший. Вот и отец игумен здесь, может, и он что посоветует. Присаживайся, владыка.
Антоний сел и несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями.
– Дело вот в чем, государь… В Городе прошлой осенью появилась новая женская обитель, маленькая, пока там всего пять сестер… Но их деятельность, как кажется, может нанести вред вашей державе.
– Каким образом? – спросил император чуть удивленно. – Чем же они занимаются?
– Они заняты в основном перепиской книг и вообще разных сочинений, в том числе, как стало известно, еретических, в защиту лжеименных икон. Я получил несколько доносов на этот счет, но не хотел до времени беспокоить ваши величества… Однако теперь я счел нужным обсудить этот вопрос, поскольку меня известили, что они распространяют проповеди покойного Студийского игумена, в том числе порочащие вашу державу… Вот, например, такого содержания, взгляни, государь! – патриарх протянул ему присланную с последним доносом выписку из поучений Студита.
Феофил прочел и нахмурился.
– Да, это хорошо бы прекратить, – сказал он. – Значит, они иконопоклонницы? Кто там игуменья?
– Да, они еретики. А игуменья там, как ни странно, весьма молода… Из богатой семьи, со связями, родственники ее при дворе служат. Собственно, она построила этот монастырь на свои средства… Госпожа Кассия.
Император побледнел и непроизвольно скомкал лист с выпиской, который всё еще держал в руке. Взгляд Грамматика приковался к лицу Феофила.
– Вот как! – голос императора был очень спокоен. – Это не та ли, что была в числе моих возможных невест? Когда же она постриглась?
– Да, это она, государь. Постриглась она в прошлом году, насколько мне известно.
– Что ж, она вышла замуж и уже овдовела?
– Нет, она и не была замужем, государь.
Феофил стал таким бледным, что это даже испугало патриарха, но сказал всё тем же спокойным, почти бесцветным тоном:
– Понятно, – на самом деле для него всё стало непонятнее, чем когда бы то ни было. – И много ты получил доносов об этом монастыре?
– Пока шесть. У меня есть подозрение, что по меньшей мере три из них написаны кем-то из Диевой обители, она там неподалеку…
– Да, диевские монахи чрезмерно любопытны, это известно! – усмехнулся Иоанн. – И завистливы, к тому же… Тамошний эконом пытался писать доносы и на меня, еще при святейшем Феодоте.
– Неужели? – Феофил с любопытством взглянул на Грамматика.
– Да. Пришлось его припугнуть – сказать, что если еще пикнет, я нашлю на него порчу. Поскольку он действительно считает меня колдуном, о чем и в доносе было, он испугался.
Император рассмеялся.
– Ты умеешь извлекать пользу и из сплетен!
– Разумеется, – улыбнулся игумен. – Из них можно извлечь немало пользы, если знать, как.
– Но я должен заметить, государь, – вмешался патриарх, – что доносы относительно монастыря госпожи Кассии не являются сплетнями. Мне и из проверенных источников известно, что эта обитель действительно занимается распространением ереси, хотя и не очень явно… Но вот это последнее известие относительно хулы на твоего августейшего отца и его супругу меня обеспокоило…
– Да, это нехорошо, конечно, – кивнул Феофил. – Но есть ли у тебя полная уверенность, что это известие истинно?
– Честно говоря, пока нет… Но мне известно, что госпожа Кассия действительно поддерживает связи со студитами. Поэтому вполне вероятно…
– Вероятно, но пока не точно! – прервал его император. – В любом случае, думаю, рано выносить решение… Вот что, святейший: если к тебе еще будут поступать какие-либо сведения относительно этого монастыря, переправляй их ко мне. Когда можно будет заключить что-то более определенное, мы поговорим о том, что делать. А пока, мне кажется, рано.
– Как тебе угодно, государь, – ответил патриарх.
Когда Антоний покинул «школьную», учитель и ученик некоторое время молчали. Наконец, игумен спросил, пристально глядя на императора:
– Сведения будут складываться в особый ящик, храниться со тщанием и не получать никакого дальнейшего хода?
Феофил усмехнулся.
– Твоя проницательность, отче, действительно способна навести на мысли о колдовстве. Да, именно так.
– Ты думаешь, это разумно, государь?
Император в упор взглянул на Грамматика.
– А ты сам всегда поступал так, как велит разум, Иоанн? Впрочем, изволь: да, это разумно. Почему бы и нет? Ты сам говорил, что иногда приходится уступать кое-что, чтобы не погубить всего… Маневр, просто маневр, отче!
Он встал, подошел к окну и какое-то время смотрел на море. Маневр!.. «Может быть, – подумал Феофил, – я еще захочу… вкусить!» Он чуть вздрогнул и обернулся к Грамматику.
– Мне кажется, Иоанн, что мы слишком много значения придаем деятельности иконопоклонников. Студит мертв, и сколько бы кто ни распространял его речи, из могилы он уже не встанет! Франки поддерживают нас, восточные молчат, а если б и заговорили, то они далеко и задавлены агарянами… Куда им до нас, если, например, в Иерусалиме не смогли разобраться всего с одним франкским монастырем!.. Феодор уверял своих сторонников, что и восток, и запад против нас, но это, скорее, желаемое, чем действительное. С папой вышло неприятно, конечно, но теперь он вряд ли осмелится слишком резко выступать против Парижского собора и Людовика… В общем, что бы тут не писали еретики, они чаще всего просто пускают пыль в глаза. Большинство всё равно всегда придерживается мнения властей, а остальным можно позволить иногда попискивать из подвала, – император усмехнулся, – по крайней мере, пока. Не так ли?
– Ты прав, государь. Можно еще заметить, что, хотя у иконопоклонников даже до сих пор есть собственный патриарх, это им мало помогло.
– Вот именно. Хотя ведь Никифор тоже пишет апологии…
– Основная мысль которых заключается в том, что «Мамона» злочестив, а мы – «тупы и глупы», – насмешливо сказал игумен. – Не знаю, у многих ли из тех, кого еретики хотели бы убедить, хватит терпения дочитать до конца подобные сочинения!
– Разве что у почитателей автора! – Феофил пожал плечами. – Да ведь Никифор стар и, говорят, теперь почти всё время болеет… Может, тоже скоро умрет!
Ссыльный патриарх умер в начале лета следующего года. Он давно ожидал смерти и готовился к ней. Весть о кончине Студийского игумена повергла Никифора в глубокую печаль; он затворился у себя в келье и целую неделю провел в молитве, вкушая только хлеб и воду, а когда выходил, то ни с кем не разговаривал. Он так осунулся, что келейники впали в смятение, хотя и не дерзали заговорить с патриархом. Но на седьмой день вечером Никифор неожиданно вышел из кельи с лицом радостным и светлым и отправился в храм к вечерне, а после нее сказал братии слово:
– Конечно, возлюбленные, прискорбна дошедшая до нас весть о преставлении блаженнейшего отца нашего и исповедника Феодора, и никто из православных не может, думаю, не опечалиться, услышав об этом. Все мы скорбим, потому что покинул нас столь дивный муж, угас светлейший светильник, закрылись уста, хранившие разум и ведение, умолк язык, возвещавший всем святые догматы. Но, поскорбев, как подобает, нужно исполнить и другую заповедь апостола, который говорит: «Всегда радуйтесь, о всем благодарите», – значит, радоваться нужно даже и в такой скорби, какая постигла нас ныне, и даже благодарить за нее. Как же это? – скажет кто-нибудь. Трудно, а то и вовсе невозможно понять это неверным и не знающим Бога, но нам, верующим, легко уразуметь эту заповедь. Ведь, хотя и ушел от нас этот божественный отец, но разлучился от нас только телом, духом же пребывает с нами, если только своими грехами или, не дай Бог, отступлением от православия, мы сами не отдалимся от него. Мы потеряли сподвижника, но приобрели молитвенника и заступника. Не достойно ли это радости, братия? Не следует ли нам возблагодарить Бога, что один из нас уже предстал лицу Его? «В память вечную», по слову Господню, будет сей праведник, «от слуха зла не убоится»! И теперь, по слову божественного праотца Давида, уже не отец Феодор придет к нам, но мы пойдем к нему, чтобы вновь встретиться и вечно ликовать в неизреченной радости. Потщимся же, братия, вести жизнь неукоризненную и веру нашу до конца сохранить непорочной, чтобы сподобиться этой встречи на небесах и нескончаемого веселья!
С тех пор патриарх вел себя по-прежнему, только стал молчаливее и по ночам совсем мало спал, больше молился наедине, а братиям монастыря и приходившим к нему прикровенно давал понять, что для него уже «настает время отшествия». За несколько месяцев до смерти он окончил большое сочинение – «Обличение и опровержение беззаконного, неопределенного и поистине лжеименного определения, вынесенного отступившими от соборной и апостольской Церкви и присоединившимися к чуждому мудрованию на разорение спасительного домостроительства Бога-Слова», – это было как бы завещание патриарха всем верным. Незадолго до кончины Никифор, совсем ослабев, слег в постель. Впрочем, никакие боли его не мучили, и трудно было сказать, от чего именно он умирал, – казалось, просто иссякла отпущенная ему жизненная сила. Приходящих к нему проститься и взять благословение патриарх наставлял держаться иконопочитания и не страшиться еретических нападок. Утром 2 июня патриарх подозвал келейника:
– Николай, скажи братии, чтобы приготовили всё к погребению. Нынешний день я уже не переживу.
Вскоре все монахи и случившиеся в обители гости собрались у одра умиравшего.
– Вот и ты нас покидаешь, владыка! – со слезами воскликнул Николай. – А победы православия до сих пор нет, и неизвестно, когда же придет избавление… и придет ли оно?
– «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь»? – еле слышно проговорил патриарх. – Грех роптать, чадо! Не долготерпит ли Он нашим грехам, и не должны ли мы поэтому терпеливо ждать Его благоволения? Страха же от еретиков «не убоимся и не смутимся, ибо с нами Бог»! И «благословен Господь, что не предал нас в добычу зубам их», но «сеть их сокрушилась, и мы были избавлены»! – Никифор помолчал, закрыв глаза, а потом обвел взглядом собравшихся у его одра и сказал: – Осталось еще время и полвремени. «Терпением вашим спасайте души ваши»!
Никифор с трудом поднял правую руку и осенил себя крестным знамением. В тот миг, когда его рука вновь опустилась на одеяло, душа патриарха покинула его тело.
«Что может означать “время и полвремени”?» – спросила Кассия у Льва в письме, рассказав о последних словах святейшего, которые пересказал ей брат Арсений из Феодоровской обители. «Судя по всему, – написал ей в ответ Лев, – святейший имел в виду некое число лет, кратное трем. Может быть, три года, может, шесть, а может, девять, двенадцать или больше».
– Как неопределенно! – вздохнула Кассия, складывая лист. – Ну, что ж… придется подождать!
24. Любовь и логика
(Гомер, «Одиссея»)
- Странно, как люди охотно во всем обвиняют бессмертных!
- Зло происходит от нас, утверждают они, но не сами ль
- Гибель, судьбе вопреки, на себя навлекают безумством?
Феодора смотрела из-под полуопущенных ресниц, как муж одевается. Судя по положению солнечной полоски на стене, было еще рано. Феофил собирался на прием чинов – в последние несколько недель он руководил всеми официальными церемониями вместо отца, который слег с почечным приступом и не покидал своих покоев. Феодора была совсем сонной: они с мужем заснули поздно, и она могла еще несколько часов валяться в постели. Но мучительный вопрос, не дававший ей покоя уже два месяца, снова заскребся у нее в мозгу.
В мае во дворце торжественно отмечали день рождения маленького Константина: ему исполнилось пять лет, и императорские дети на несколько дней стали предметом всеобщего внимания, мальчика завалили разнообразными подарками, заодно много гостинцев досталось и его сестре. Марии было уже семь, и почти все замечали, что она похожа на покойную императрицу, свою бабушку. Феофил особенно любил дочь и, когда выдавалось свободное время, всегда проводил с ней час-другой. Когда сын подрос, вечера в императорских покоях часто были наполнены веселой возней отца и детей, в которой участвовала и Феодора. В эти моменты их семейная жизнь со внешней стороны совершенно походила на идиллию – и тем горше было Феодоре после таких вечеров засыпать одной в темной спальне. Но если она засыпала и не одна – что, впрочем, случалось не так часто, как ей хотелось, – это мало что меняло: раз установившиеся между супругами, точнее, установленные Феофилом отношения отличались неизменностью – и это постоянство доводило молодую императрицу до отчаяния. Феодора то и дело пыталась уверить себя, что муж относится к ней так просто потому, что он «такой и есть» и другим быть просто не умеет, но сердце не верило уговорам рассудка… Иногда она начинала даже ревновать мужа к детям: Феофил иной раз смотрел на Марию с такой нежностью, с какой никогда не глядел на жену, и при его возне с маленьким Константином в его взгляде вспыхивали такие веселые искры, каких Феодора никогда не видела у него за всё время, проведенное с ним наедине. Да он почти и не шутил с ней и не вел веселых разговоров… Он вообще не вел с ней разговоров! Он только отвечал на вопросы, если она их задавала… и то не на все. Часто он просто пожимал плечами или говорил что-нибудь усмешливое, уходя от ответа…
И вдруг она получила что-то вроде намека на объяснение всему, и намек этот был ужасен. В день рождения Константина, после всех церемоний, поздравлений и праздничного обеда, мальчика, наконец, уложили спать, а Феофил с дочерью ушел погулять в парк. Когда он пришел забрать девочку от матери, у Феодоры сидели ее брат Варда и сестры София с Ириной. Мария, пристроившись на коленях у Варды и водя пальцем по раскрытой книге, читала:
Когда вошел отец, девочка бросилась к нему с радостным криком:
– Папа! Смотри, папа, я тут дяде Варде «Одиссею» уже читаю!
– О! – улыбнулся Феофил. – Молодец!
– Да, государь, – сказал Варда, – она у вас тоже разумом щедро одарена! Читает уже очень хорошо, а ведь не так давно учиться начала!
– Ну, с таким учителем немудрено! – заметила Ирина.
Когда Марии пошел шестой год, Феофил поручил Сергие-Вакхову игумену учить ее грамоте, и теперь она уже умела читать и считать. Грамматик говорил, что девочка очень смышленая, и улыбался: «Вся в августейшего отца!»
Феофил с дочерью ушли, а Феодора с братом и сестрами еще посидела немного, а потом предложила тоже прогуляться, пока не стемнело. Они немного прошлись по парку и уселись на скамью у пруда. Издалека слышался звонкий смех Марии – очевидно, они с отцом вовсю веселились.
– Всё-таки до чего Мария похожа на свою бабку! – сказала Ирина.
– Да, – отозвалась София, – а если она и по характеру будет на нее похожа, то чего лучшего и желать!
– Да, покойная августа была во всех отношениях прекрасной! – сказал Варда. – Удивительная женщина! Совершенно не кичилась, так просто вела себя со всеми…
– А ведь мы ей, можно сказать, все обязаны по гроб жизни! – сказала София.
– Чем это? – удивилась Феодора.
– Так ведь это она решила устроить такую церемонию с выбором невесты. И потом, она сама говорила мне, что из всех девушек ты понравилась ей больше всех, и она сказала об этом Феофилу накануне выбора, – Фекла действительно, в пылу «налаживания отношений» с новыми родственниками в первые дни после смотрин, проговорилась об этом Софии. – Августейшая уверяла, что нисколько не давила на сына, и я ей верю. Видимо, их вкусы просто совпали. И вот, мы все здесь!
– Вот как, – тихо сказала Феодора, бледнея. – А я думала… – она не договорила и внезапно встала. – Простите, я должна вас покинуть!
Когда она скрылась за поворотом дорожки, София с Ириной переглянулись. Варда поглядел вслед императрице, перевел глаза на Софию и, усмехнувшись, проговорил:
– Не знаю, сестрица, обругать тебя или не стоит. Ты, кажется, окончательно развеяла туман самообольщения в душе нашей августейшей сестры.
Феодора почти бегом добралась до своих покоев и, запершись в спальне, ничком упала на кровать. «Их вкусы совпали»!.. О, нет, ведь она-то помнила, кого хотел выбрать Феофил на самом деле! И значит… Она до сих пор думала, что всё-таки понравилась ему… может, и не так, как та, но всё же понравилась… А оказывается… оказывается, он всего лишь последовал совету матери – от безысходности! Так вот откуда все эти его странности, насмешливость, холодное обращение!.. И эта страстность по ночам, когда он сводил ее с ума своими ласками и одновременно повергал в недоумение – настолько разительную противоположность этот пыл составлял с поведением мужа во всё остальное время… Значит, это всего лишь способ утолить вожделение – и только! Неужели так?! А если… спросить его самого?..
Но она не решалась спросить, и сейчас ей опять стало страшно: она боялась того, что могла услышать в ответ. И в то же время… нет, так всё-таки дальше невозможно!
– Феофил!
– Да? – он повернулся к ней. – Ты что не спишь? Такая рань!
Он немного раздвинул занавеси на окне, подошел к большому зеркалу, взял со столика золотой гребень и стал причесываться. «Нет, не надо спрашивать, не надо!» – мелькнуло у нее. Но она всё же спросила:
– Феофил, ты… ты меня любишь?
Он даже не обернулся, только на мгновение перестал причесываться и сказал:
– Вот так вопрос с утра! Да еще после такой ночи.
Он зачесал волосы на висках назад, бросил гребень на столик и повернулся к жене.
– Ты плохо спала?
– Перестань издеваться! – вспылила Феодора.
– Разве я издеваюсь? – казалось, он был искренне удивлен.
– Ты смеешься надо мной!
– А ты надо мной нет? Вопросы о любви обычно задают до свадьбы, но в то время ты их не задавала – значит, то, что ты знала, тебя устраивало. А с тех пор ведь ничего не изменилось.
Она села на постели, прикрыв грудь одеялом. «То, что ты знала». До свадьбы она знала… что он потрясающе целуется и красиво читает стихи… Он и сейчас потрясающе целовался и иногда читал ей стихи. Правда, иной раз ей казалось, что он при этом словно иронизирует – не то над ней, не то над самим собой… «Тебя устраивало». Но разве она могла думать, что это всё?! Разве она думала, что его поведение тогда, на первом обеде, говорило о чем-то действительно серьезном? Ведь потом он всё же был другим – гулял с ней, разговаривал, рассказывал всякие вещи… Значит, это было… только данью вежливости?!..
– Ты меня не любишь!
– Еще того не легче. А из чего ты это заключила, позволь узнать?
– Я это чувствую!
– Вот как? Любопытно, – несколько мгновений он в раздумье смотрел на нее. – Как по-твоему, любовь к Богу, например, это чувство?
– Н-нет, – ответила она не очень уверенно.
– Почему так робко? Ответ верен. Не чувство. А любовь к ближнему?
Она молчала, сердито глядя на мужа.
– Не знаешь? Ладно, я тебе скажу: она тоже не чувство. Любовь к Богу состоит в соблюдении Его заповедей. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», – это ты помнишь, надеюсь? Равно как и любовь к ближнему заключается в исполнении заповедей по отношению к ближнему. А сама любовь к Богу и ближнему есть Бог, действующий в нас. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает». Поняла?
– Вроде бы. Но при чем тут…
– Сейчас увидишь. Соответственно, отсутствие любви выражается в несоблюдении заповедей, в пренебрежении обязанностями в отношении ближних. Так какими из них я пренебрег по отношению к тебе, что ты обвиняешь меня в нелюбви?
Его рассуждение так ошеломило ее, что она молчала, не зная, что сказать. А он продолжал:
– Рассудим логически. Мы с тобой живем… уже восемь лет. Нажили детей, в том числе наследника. Так?
– Так…
– Была ли ты когда-нибудь мною недовольна с телесной стороны?
– Нет, – ответила она, слегка краснея: что Феофил, по выражению Варды, «ночью был на высоте любовной науки», Феодора отрицать не могла.
– С вещественной, в смысле средств к существованию и прочее?
– Нет. Но послушай!..
– Погоди, не будь так нетерпелива, – он слегка улыбнулся. – А с нравственной стороны как?
– С нравственной?..
– Изменял ли я тебе, был ли я с тобой груб? Или, может быть, я плохо обращался с детьми или с твоими родственниками?
– Да нет…
– Есть ли во вселенной хоть одна женщина, у которой положение выше твоего?
– Нет…
– Так чего тебе еще нужно?
Феодора смотрела на мужа и ощущала свое полное бессилие перед ним – таким прекрасным и таким непонятным, которого она так любила и при этом до сих пор знала, если не брать в расчет плотскую близость, не намного больше, чем в тот день, когда он вручил ей золотое яблоко! Чего ей еще нужно? Вот, в самом деле, вопрос!..
– Но ты говоришь вообще о любви к ближним! – вскричала она. – Как ты тут расписал, можно любить кого угодно, даже совсем чужих людей! А мы муж и жена!
– И что? – спросил он спокойно. – В браке люди перестают быть ближними друг другу? Чем, по-твоему, отличается любовь в христианском браке от христианской любви вообще? Чем отличаются муж и жена от всех прочих людей? Они точно так же должны соблюдать заповеди в отношении друг друга, как и в отношении посторонних людей. Отличие только в том, что они еще спят вместе, но могут и не спать, если не хотят, рожают детей, если Бог пошлет, и воспитывают их. Кажется, против этих условий я тоже не погрешил, что и прошедшая ночь показывает, – он подошел к окну, несколько мгновений смотрел в сад и снова повернулся к жене, но теперь он стоял спиной к свету, и она почти не могла разглядеть выражение его лица. – Правда, к любви это отношения уже не имеет.
– То есть как не имеет? – удивилась Феодора.
– Так ведь настоящая любовь одна – христианская, и только против нее грешить нехорошо. Но ночные развлечения и чадородие к ней не относятся, а не то надо было бы христианам всем спать со всеми и рожать детей, чтоб заповедь о любви исполнить. Не так ли?
Она растерянно помолчала и воскликнула:
– Тьфу, да я ведь не о том! Я о любви мужчины и женщины, мужа и жены!
– О нет, тут надо разделять. Любовь мужчины и женщины это одно, а любовь мужа и жены в христианском браке – совсем другое.
– Как?!
– Первая есть страсть, и если я, так сказать, чем-то против нее «согрешаю», то это, скорее, добродетель. А вторая есть исполнение заповедей, о чем я уже говорил. Итак, какую заповедь я не исполнил по отношению к тебе или к нашим детям?
Феодора безмолвно смотрела на мужа. Она, быть может, впервые в жизни столкнулась с таким логичным построением, и совсем не понимала, как и что тут можно возразить. Она не привыкла раскладывать свою жизнь по логическим полочкам и связывать такими цепями рассуждений. «Он надо мной смеется!» – но доказать это не представлялось возможным: внешне Феофил был вполне серьезен.
– Или ты жаждешь именно любви как любви мужчины и женщины? – спросил он.
– Да, – ответила она тихо.
– Для этого у нас есть ночь, и она только что была.
– Разве эта любовь сводится лишь к постели?! – возмутилась Феодора. – А общение? А дружба, единодушие? Общаешься ведь ты с другими, например, со своим Иоанном! А со мной… мне иногда кажется, что ты меня презираешь! Ни о чем поговорить не хочешь! Разве это любовь?!
– Да, Аристотель действительно говорил, что «влюбленность тяготеет к своего рода чрезмерной дружбе», тут ты права. Но для дружбы нужны общие интересы. Ты говоришь, я тебя презираю, а мне кажется, что я тебя жалею. Вряд ли ты обрадовалась бы, если б я стал рассуждать с тобой о «Диалогах» Платона…
– Как будто единодушие невозможно помимо любви к Платону! По-моему, не обязательно иметь во всем одинаковые вкусы, чтоб оно было!
– Не обязательно, согласен. Единодушие, о котором ты говоришь, происходит из некоего созвучия душ… Одной общности знаний и склонностей, конечно, недостаточно, чтобы создать его, но если этой общности почти нет, то очень маловероятно, что мелодия зазвучит. По тому же Аристотелю, недостаток общения убивает дружбу, но чтобы было общение, нужны общие интересы, и если их нет, общаться по необходимости будет не о чем, а значит, не будет и дружбы. И в любом случае созвучие душ… не берется человеческими усилиями. Это даруется свыше… или не даруется, – он умолк и отвернулся к окну.
– А без созвучия, значит, только постель и жалость! Вот это твоя любовь? – сказала Феодора почти враждебно.
Он обернулся, бледный, но она не могла разглядеть этого.
– Если и так, каким заповедям это противоречит? В Писании сказано, что жену надо «питать и греть», как «немощный сосуд», и про постель там говорится: «чтобы не искушал сатана невоздержанием»… Но где там сказано о том, что муж должен вести с женой беседы и вообще проводить с ней много времени?
Феодора закусила губу, помолчала и выпалила:
– Была бы на моем месте другая, ты не задавал бы таких вопросов!
«Вот как! – подумал Феофил. – Ревность? С чего бы вдруг? Что это с ней случилось… после стольких лет замужества?»
– Возможно, – сказал он с некоторой холодностью. – Хотя я не понимаю, чего ради ты заговорила об этом, ведь мы уже выяснили, что я тебе не изменял. Но ты, кажется, опять не совсем поняла. Вести с женой беседы – не есть ни грех, ни добродетель. Может быть, ты и не заметила, но до и отчасти после свадьбы я потратил некоторое время на то, чтобы выяснить твои вкусы и склонности и понять, что мы с тобой мало найдем тем для разговоров… Впрочем, дело не в этом, а в том, что, говорю я с тобой о прочитанных книгах или не говорю, гуляю я с тобой по парку или нет, я ничем не погрешаю против заповеди о любви в христианском ее понимании. Даже напротив: если б я такими беседами и прогулками чрезмерно и без нужды увлекался, это был бы признак пристрастного отношения и греховной жизни. Пожалуй, это был бы еще и соблазн ближних, а именно – тебя. Христианин ведь должен при всех своих делах помнить о Боге. А ты вспоминаешь о Нем, когда говоришь со мной? Я еще до свадьбы заметил, когда мы с тобой гуляли по вечерам, что ты слушаешь меня как сирену, совершенно забывая обо всем окружающем. Уж не говорю о ночных развлечениях – тут и вовсе не до памяти Божией. А ведь так не должно быть. Златоуст, например, считал, что возможно и при этом молиться, но только менее сосредоточенно. Мы же с тобой, если кому и приносим жертвы по ночам, то никак не Христу умом, а Афродите душой и телом. Надо заметить, что это совсем не аскетично.
Феодора растерялась. «Не аскетично»? Да, получается, то, чего ей хочется, ни в какую аскетику не вписывается… А должно вписываться? Получается, должно… Значит, Феофил прав? Как всегда! Всегда он «прав», хотя она точно знает, что он не прав!..
– Иоанн хорошо обучил тебя… софистике! – наконец, проговорила она.
– Софистике – возможно, но философом я стать всё-таки не смог. Впрочем, это не имеет отношения к нашему разговору. Как видишь, я, напротив, поступаю с тобой по любви – помогаю не увлекаться слишком тем, что мешает спасению души. А ты не только этого не ценишь, но даже вообще об этом не думаешь. Но довольно. Полагаю, я ясно высказался… А что до любви мужчины и женщины, то один философ сказал, что это «расстройство ума, пленение души и безумие тела»… Поэтому, с христианской точки зрения, чем меньше мы будем подвержены такой любви, тем лучше. Ведь ты, кажется, хочешь еще и добродетельной быть? – и, усмехнувшись, он вышел из спальни.
Феодора вскочила с постели. Ей хотелось догнать мужа и со всей силы влепить ему пощечину. «Добродетельной»? Нет, в этот миг она не хотела быть добродетельной. Впрочем, так ли уж она хотела этого и раньше?.. И что есть добродетель? Смиряться, когда любимый человек вот так издевается над тобой?! Когда ощущаешь, что тот, кто должен быть самым близким, оказывается дальше далеких земель, далеких звезд… несмотря на то, что бывает ночью! Плоть соединяется с плотью, плоть доставляет удовольствие плоти… Но где его душа? Где душевная близость, где внутреннее единение? Никогда, никогда этого не было! Он – словно запертая башня, и не найти ни входа, ни даже щели, чтобы заглянуть внутрь… И если она все эти годы надеялась, что это может измениться со временем, то теперь он сам дал понять, что ничего другого, кроме того, что есть, уже не будет… Феодора до боли закусила губу. Добродетель!.. Что же, терпеть всё это… как ниспосланное Богом испытание? Не жаловаться, не противоречить… быть просто гетерой, с которой хорошо проводить время ночью… и чем-то вроде Агари, использованной Авраамом только для рождения ребенка… И всё потому… всё потому, что он хотел выбрать другую, а не выбрал потому… потому, конечно, что она прилюдно посмела возразить ему, и гордость не позволяла настаивать!.. А она – зачем она тогда возразила ему, эта вздорная девица? Не захотела смириться с принижением женщин? Значит, и у нее гордость, и у него, никто не захотел уступить… Зато теперь Феодора должна смиренно служить… чем-то вроде блудницы! О, да, он хорошо ей платит! Целая Империя – разве малая плата за ночи страсти, но без любви?.. Но в Песне Песней сказано, что «если отдаст муж все имение свое за любовь, уничижением уничижат его»… Любым имением, даже целым царством не откупиться!.. А что там тогда говорил Никомидийский отшельник – что вознесет ее Бог за смирение? Вот так вознес! Лучше б она осталась в Эвиссе, чем это возвышение – о да, великое, но обретенное такой ценой!..
Феодора взяла с полки у зеркала серебряный ларец, украшенный лазуритом и янтарем, открыла его, достала оттуда золотое яблоко и хмуро принялась его разглядывать. Больше всего ей сейчас хотелось запустить этим яблоком в Феофила или, на худой конец, выбросить его куда-нибудь подальше… А может, отдать в переплавку на монеты? Вот было бы символично!.. Она положила яблоко в небольшой мешочек из пурпурного шелка, расшитый жемчугом, закрыла ларец и поежилась: она и не замечала, что до сих пор раздета, а сейчас ей стало холодно. Феодора надела нижнюю тунику, шагнула было к окну, но внезапно повернулась, бросилась на кровать и зарыдала. Самым ужасным было вовсе не то, что Феофил выбрал ее от безысходности и потому не любил и не хотел внутренней близости с ней, а то, что, несмотря на всё свое возмущение «гордостью», из-за которой, как думалось Феодоре, Кассия и Феофил так странно разошлись на смотринах и в результате заставили ее «мучиться», несмотря на внутренние вопли, что лучше было бы ей остаться в Эвиссе, она ни за что не уступила бы свое место сопернице, потому что любила мужа, хотела быть с ним и принадлежать ему, хотя бы даже ценой «мучений». Значит, по сути, она соглашалась на такую цену – и в то же время не хотела ее платить…
После разговора с Феофилом она несколько дней раздумывала над его словами, пытаясь найти какое-нибудь достойное возражение, но безуспешно. Она вновь и вновь перебирала высказанные мужем доводы и, наконец, однажды вечером, когда император пришел к ней в спальню, с вызовом посмотрела на него и спросила:
– Что, дорогой, опять пришел приносить жертвы Афродите?
– Да, дорогая, – в тон ей ответил Феофил, снимая плащ и вешая его на крючок у двери. – Боги жаждут жертвоприношений, к счастью, пока не кровавых.
– Вот странно, – голос Феодоры зазвучал насмешливо, – что ты, такой умный, любитель философии, соглашаешься на такое неаскетичное времяпровождение! Ведь ты же считаешь любовь неблагочестивым занятием?
– Да, такую любовь, какая связывает нас с тобой, Феодора, – Феофил подошел и, глядя ей в глаза, провел кончиками пальцев по ее шее от уха до ключицы. – Но в ней есть немало весьма приятного, не так ли? Думаю, ты не обрадуешься, если я решу отказаться от нее в пользу более аскетичной жизни, – его руки обвились вокруг ее талии, и Феодора затрепетала, как это бывало всегда: стоило мужу прикоснуться к ней, как она почти переставала владеть собой. – Хотя, конечно, такое занятие нельзя назвать философским… Впрочем, – он усмехнулся, – иные философы знавали толк и в нем, хотя и считают это расстройством ума. А ученик, как говорится, не больше учителя…
Он умолк и поцеловал Феодору тем долгим поцелуем, который всегда лишал ее воли, а потом мягко повалил на кровать.
– Постой! – проговорила Феодора, когда он стал снимать с нее тунику. – Какие философы? Какого учителя?.. Ты что, имеешь в виду Иоанна?!
– Именно, – ответил Феофил, раздеваясь сам. – Ты, кстати, можешь поговорить с ним о том, каким образом можно совмещать философию и нефилософские занятия, не оставляя при этом дела спасения души, – в его голосе послышались саркастические нотки. – А с меня что взять? Я далеко не так благочестив, как монахи! Роскошествую, «питаюсь пространно», плоть воюет на дух, а дух слаб и не в силах противиться… Так что, дорогая, приходится пока угождать и Афродите, – он заключил жену в объятия, и Феодора забыла о своих вопросах.
Но совет поговорить с Грамматиком о совмещении философии и любви она не забыла, хотя он показался ей довольно неожиданным. «Что может этот аскет понимать в любовных делах? – думала она. – Да еще в том, как совмещать их с философией? На что это намекал Феофил?.. Может, он просто решил подшутить надо мной?..» Феодоре казалось весьма странным и даже неприличным заводить с игуменом подобный разговор, однако к ней пришла другая мысль: Иоанн беседовал со всеми девицами, бывшими на смотринах, – интересно, что же он подумал о них? Кого этот философ счел более подходящей парой для будущего императора? Никого или… тоже ту, как и сам Феофил?..
Феодора редко общалась с Сергие-Вакховым игуменом и в глубине души побаивалась его. Он всегда был с ней почтителен, но она ощущала, что вокруг него словно очерчен некий невидимый круг, и за эту линию лучше не заходить… Впрочем, кажется, покойная свекровь была допущена внутрь этого круга: Феодора помнила, что Грамматик много общался с Феклой, и та находила в этих беседах, судя по всему, большое удовольствие. Юной августе, однако, не приходило в голову, что у императрицы-матери мог быть к Иоанну личный интерес: игумен не блистал красотой и в глазах Феодоры не обладал обаянием, а его холодность, ощущавшаяся за дежурной почтительностью, отталкивала ее. Правда, в последние годы Грамматик уже не производил такого впечатления, как поначалу: Феодора по-прежнему считала его слишком гордым, но не могла не заметить, что от него уже не веяло той презрительной надменностью, которая чувствовалась в нем в первые два-три года жизни юной августы во дворце, – теперь было всё же не так страшно поговорить с ним, и она решилась. Спустя несколько дней, как бы случайно оказавшись в том дворцовом переходе, которым игумен обычно уходил после занятий с Марией или Еленой, и столкнувшись с Иоанном, она задержала его и сказала, что хотела бы с ним побеседовать. Грамматик остро взглянул на нее и, слегка поклонившись, сказал, что он «всегда к услугам августейшей государыни». Они поднялись на второй этаж портика и там, облокотившись на перила и глядя на террасу с фонтаном, разбитую перед переходом Сорока мучеников, Феодора, немного помолчав, сказала:
– Может быть, тебе мой вопрос покажется неожиданным, но мне нужно кое-что выяснить для понимания… некоторых вещей, и потому приходится обращаться к прошлому… Ты помнишь, отец игумен, как ты беседовал с девушками накануне выбора невесты Феофилу?
– Да, августейшая.
– Потом, когда мы уже ожидали в Золотом триклине перед смотринами, некоторые девицы говорили, будто о результатах тех бесед было доложено жениху и его родителям, но одна девушка… забыла, как ее звали… Она сказала, что это не так, поскольку ты сам заверил ее, что на Феофила никто не будет влиять, и выбор невест будет непредвзятым. Это правда?
– Да, государыня. Я действительно сказал об этом госпоже Софии, ее звали так.
Иоанн казалось, нисколько не удивился тому, что молодая императрица решила поговорить с ним на такую тему.
– Точно, София, – кивнула она. – Хотя какая разница… Значит, Феофилу ничего заранее не сообщали, кто что читал и о чем говорил с тобой?
– Нет. Думаю, он и сам не пожелал бы этого.
– Вот как!.. Но ты, господин Иоанн, верно, ожидал, что выбор… я имею в виду первый выбор Феофила… будет именно таков, каким он был?
– Почему я должен был этого ожидать, августейшая?
– Ну, как же? Ведь ты наверняка знал, кто из двенадцати… всех умнее?
Игумен бросил на Феодору пристальный взгляд.
– Я-то знал. Но государь Феофил – нет.
– Не знал, а всё равно выбрал так, будто знал! – пробормотала Феодора. – Но ты, – она в упор взглянула на Грамматика, – конечно, был за первый выбор?
– Не могу сказать, что я был за какой-то определенный выбор. Конечно, первый представлялся мне более подходящим…
– То есть, – перебила его императрица, – по-твоему, она ему больше подошла бы, чем я?
– По-видимому, да.
– Ты не боишься говорить правду! – усмехнулась Феодора.
– Но ведь ты, государыня, хочешь услышать именно правду, не так ли? – по губам игумена пробежала улыбка.
«Это как посмотреть, – подумала императрица. – Хочу услышать правду, но… предпочла бы ее не слышать…» – а вслух сказала:
– Почему же ты тогда не был за определенный выбор, например, за первый?
– Мои предпочтения в этой области, августейшая, всё равно не имели в то время значения, да и сейчас его не имеют, – ответил Иоанн несколько холодно. – Ведь не я избирал невесту государю Феофилу, а он сам. Вкусы его относительно женщин были мне в точности неизвестны. Думаю, они и ему самому тогда были неизвестны в точности, поскольку до женитьбы он вообще не интересовался женщинами. Моим делом было проследить, чтобы среди возможных невест не было малообразованных и тупоумных в своем благочестии девиц.
– О! – воскликнула Феодора. – Это интересно! Как же ты определял степень нашего тупоумия?
– Степенью начитанности и склонностью к науке вообще и к чтению мирских книг в частности. Впрочем, должен признаться, что лично я удалил бы со смотрин еще больше девиц, чем их было удалено.
– Почему же их не было удалено больше?
– Видишь ли, августейшая… Я думал, что женщина неспособна стать истинным другом, а потому, как мне представлялось, следовало избегать только, так сказать, наиболее заметных выражений того, что я считаю тупоумием.
– Ты и сейчас так думаешь?
– Мы говорим о том, что было тогда, государыня.
Феодора кинула на игумена любопытный взгляд.
– Выходит, – сказала она, – никто ничего заранее точно не знал и ничего не подсказывал Феофилу? Я имею в виду результат выбора.
– Лично я не подсказывал ничего. За остальных не поручусь. В любом случае было ясно, что в деле выбора должно сыграть роль нечто, действующее помимо соображений рассудка.
– Что же именно?
– Что? – Грамматик слегка пожал плечами. – Любовь.
– То есть «расстройство ума»? Говорят, ты именно так называешь ее?
– Да. Ведь если мы говорим о чем-то, действующем помимо рассудка, то без расстройства ума тут не обойтись.
– Вы с государем очень логично рассуждаете! – в голосе Феодоры прозвучало раздражение. – Значит, всякая любовь… всякая любовь мужчины и женщины, – она слегка покраснела, – непременно сопровождается расстройством ума и, как выражается мой августейший супруг, принесением жертв Афродите, и потому христианину, если он благочестив, следует ее всячески избегать?
– Безусловно.
– И ты сам всегда поступал именно так? – Феодора в упор взглянула на Грамматика.
Иоанн чуть приподнял бровь.
– Как бы кто ни поступал на практике, августейшая, это не отменяет теории, если она верна.
«Так он и сказал! – подумала императрица. – Глупо было и спрашивать… Но, видно, Феофил прав: у этого аскета тоже… что-то было… не сходящееся со всеми этими прекрасными теориями!»
– Так всё-таки способна женщина стать для мужчины другом, а не просто… – Феодора остановилась на мгновение, – любовницей… или не способна?
– Способна. Но для этого нужна совокупность определенных условий, которая редко встречается в жизни и во многом зависит от прихоти судьбы. Заранее предугадать такие отношения и тем более взять их силой человек не может.
– «Взять их силой»… Феофил недавно сказал мне, что бывает, мол, некое «созвучие душ», а оно дар и силой не берется…
– Да, «созвучие душ» – подходящее выражение, – сказал игумен и умолк, хотя Феодора ждала, что он продолжит.
– Хотела бы я знать, – проговорила она с досадой, – на каком основании эта самая судьба одним посылает такие условия для «созвучия душ», а другим не посылает!
Иоанн посмотрел на императрицу так остро, что она вздрогнула: ей почудилось, что в этот миг Грамматик видел ее насквозь, вместе со всеми ее помыслами, вожделениями, сомнениями и обидами…
– Я могу высказать только собственное мнение об этом, августейшая, которое, разумеется, не притязает на совершенную истину. Знаешь ли ты, государыня, такую поговорку: «Сбудется, если кто пожелает»? У меня есть подозрение, что судьба, в конечном итоге, посылает каждому именно то, к чему он сознательно, а иногда и бессознательно, но сильнее всего стремится. Ведь есть разница, когда человек желает некоторой вещи изначально, или когда он начинает желать ее лишь после того, как поймет, что этой вещи у него нет, но она гораздо лучше, нежели то, что он имеет.
Феодора снова вздрогнула.
– То есть… ты хочешь сказать…
– Я хочу сказать, – игумен чуть заметно улыбнулся, – что многие женщины изначально хотят мужчину как такового, хотят того, что сопряжено с плотскими усладами, хотят, чтобы мужчина угождал им, защищал их, заботился о них. К такой страсти всегда примешивается и тщеславие: женщина хочет через своего мужа возвыситься в глазах других, если он, скажем, красив и мужествен, или обладает высоким положением и тому подобное. Надо заметить, что такое же поведение свойственно животным. Но очень мало встречается таких женщин, которые стремятся найти в мужчине прежде всего друга и более удовлетворения «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской» ценят внутреннюю красоту, внутреннюю близость и сродство душ. Многие, конечно, могут начать это ценить, но только тогда, когда поймут, что лишены этого и лишение доставляет им страдание. Удивительно ли, что такая близость при распределении жизненных даров обходит их стороной? Ведь это дар столь же драгоценный, сколь редко встречающийся.
Феодора слушала Иоанна, чуть закусив губу, и сознавала, что он очень точно описал ее положение: действительно, не владели ли ею тщеславие и плотская похоть, когда она мечтала о муже-«Гекторе», и не отмахивалась ли она от Варды, когда брат говорил ей, в сущности, о необходимости той самой внутренней близости с будущим мужем, которой она теперь так жаждет? Тогда ей думалось, что всё должно сложиться хорошо как бы «само собой», а сейчас…
– Так что же, это рок? – спросила она. – Ничего нельзя исправить?
– Это зависит от привходящих обстоятельств, государыня. Если человек изменит свою жизнь, свои занятия, привычки и интересы, тогда внутренняя близость может появиться. Но это вовсе не обязательно. Конечный итог зависит еще от очень разных, порой трудноуловимых обстоятельств. Обсуждаемая нами материя, августейшая, весьма тонка.
– То есть всё равно такое внутреннее сродство есть исключительно дар судьбы… точнее, дар Божий?
– Или искушение.
– Искушение?
– Да, если смотреть с христианской точки зрения.
– Почему?
Игумен помолчал несколько мгновений, устремив вдаль отсутствующий взгляд.
– Потому что нет вещи более непреодолимой, нежели любовная страсть, замешанная не просто на влечении к телесной красоте, но на душевной и умственной близости и внутреннем сродстве. Правда, такое искушение становится даром, если человек в результате сумеет понять нечто важное. Искушения для того и попускаются людям. Кто их сумеет использовать правильно, для того они становятся даром, а кто не сумеет, тот сам будет виноват, поскольку не старался понять то, что должен был понять. В любом случае, государыня, подобные вопросы каждый должен решать сам с собой, здесь нет советников, да и быть их не может, по самой сущности явления. Ведь «никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем». Как говорил святой Марк Подвижник, советы ближних бывают полезны, но для каждого нет ничего пригоднее собственного рассуждения.
Разговор с Грамматиком дал Феодоре кое-какие объяснения, много пищи для размышлений, но ясности в ее жизнь не внес. Между тем дело шло к тому, что скоро она должна была из младшей августы превратиться в первую и единственную: Михаил, очевидно, доживал последние дни, а после его смерти Евфросина удалится обратно в монастырь и вернется к прежней жизни – об этом никто не говорил, но обе императрицы прекрасно понимали, что именно таково желание молодого василевса. Феодоре так хотелось, чтобы с этой переменой произошло изменение к лучшему и в ее отношениях с мужем!.. Но, вновь и вновь перебирая в уме сказанное Феофилом и его учителем, она убеждалась, что надежды ее тщетны: игумен выразился весьма обтекаемо насчет того, что, даже изменив свою жизнь и интересы, Феодора совсем не обязательно станет мужу ближе, но сама императрица подозревала, что истинная причина того, что никакой близости не появится, состоит в том, что Феофил любит другую, – любит с той самой страстью, о которой Иоанн сказал, что нет ничего ее непреодолимее…
«Этот философ, видно, не из одних книг почерпнул свои познания о любви! Интересно, откуда же еще? – думала Феодора, стоя сентябрьским вечером на балконе дворца Вуколеон возле одной из мраморных колонн и наблюдая, как бледно-желтое солнце посылало на землю прощальные лучи, готовясь погрузиться в розовато-серые воды Пропонтиды. – Душевная близость и умственное сродство…» Внезапно августа вздрогнула: она вспомнила, как много времени когда-то проводили вместе ее свекровь и игумен… Но уже в следующий миг эта догадка показалась ей совершенно невозможной и была отброшена, тем более что Феофил, очевидно, должен был знать об истории Граматика, потому и послал Феодору «поучиться» у него, – а разве мог бы он это сделать да и вообще продолжать общаться с Иоанном, как ни в чем не бывало, если б тут была замешана его мать!.. «Но не затем ли он меня к нему послал, чтобы Иоанн еще раз объяснил мне, только более философски, что ли, то же самое – что ничего не было и не будет?..»
Холодный ветер налетал порывами, покрикивали чайки, императрица куталась в пурпурный плащ и думала, что вот-вот останется единственной богоизбранной августой, владычицей Империи ромеев, прекраснейшей из женщин, матерью порфирородного наследника, супругой блистательного василевса… Ей было двадцать пять лет, ее окружала неслыханная роскошь, десятки слуг в любой момент были готовы бежать со всех ног, чтобы исполнить ее самое ничтожное пожелание, – а императрице казалось, что во всем свете нет женщины более несчастной, чем она. Если можно было сравнить человеческую жизнь с игрой в кости, то Феодора сделала ставку на единственное желание – быть любимой тем, кого она полюбит, – и проиграла. Кости судьбы упали так, что именно этого – и только этого – не было в ее жизни, и это обесценивало всё остальное. Можно было теперь сколько угодно рассуждать о том, что это случилось с ней из-за «неправильного» понимания любви, из-за тщеславия и малого интереса к ученым занятиям, но все эти объяснения не утешали и не избавляли от страданий.
«“Собственное рассуждение”! – думала Феодора, глядя на лиловевшее море. – Как всё хорошо и как будто бы понятно, когда читаешь в книгах или слушаешь умных людей, и как всё становится непонятно, как только пробуешь приложить прочитанное и услышанное к собственной жизни! Что мне делать? Смириться с тем, что есть, ничего не требовать и не ждать более того, что есть? Феофил прав: у меня есть всё, чего только можно пожелать… “Чего тебе еще нужно?” Действительно: любовь – такая мелочь! Да еще “расстройство ума”, мешает спасению души… Пожалуй, я должна радоваться, что Господь так вразумляет меня… так помогает спасаться!..»
Она закрыла глаза и прислонилась плечом к колонне. Солнце, уже готовое окончательно скрыться в фиолетовом облаке на горизонте, вызолотило влажные полоски на щеках императрицы. Становилось холодно. «Простудиться и умереть! – мелькнула у нее мысль. – И тогда конец всем мучениям, недоумениям… Дети!.. Ничего, Феофил нашел бы им мачеху… Ее? – Феодора открыла глаза. – А ведь и правда: неизвестно, что стало с той девицей… Может, она не замужем… Хотя нет, это вряд ли, с ее-то внешностью! Ну, могла уже и овдоветь… А если и нет, императору всё позволено, может расторгнуть чужой брак, жениться… Вон, свекор вообще на монахине женился, и ничего! Что Феофилу теперь помешает? Тогда ему гордость не позволила выбрать ту, потому что она посмела возразить ему на виду у всех, а теперь ничто не будет препятствовать… Ну, нет! Этого не будет! Никогда!» Губы Феодоры сжались в тонкую линию. Если золотое яблоко и не принесло ей того, о чем она грезила в юности, то другой оно всё равно не достанется!
Императрица решительно развязала пурпурный мешочек, висевший у нее на поясе, вынула оттуда злополучный знак избрания, несколько мгновений разглядывала его, а потом подняла руку и размахнулась, что было сил. Через несколько мгновений «яблоко Афродиты», описав дугу и сверкнув в последних лучах заходящего солнца, опустилось на морское дно, и воды Пропонтиды сомкнулись над ним навсегда.
…Михаил лежал, откинувшись на гору подушек, прикрытый до пояса шерстяным одеялом. Феофил, войдя, поздоровался с отцом и сидевшей у его изголовья мачехой, приказал кувикулариям и врачу выйти, и подошел к императорскому ложу. Евфросина поднялась и бесшумно покинула комнату, Феофил сел на ее место. Император окинул сына внимательным взглядом и хрипло проговорил:
– Ну что, Феофил, пришел прощаться? Да, пора! Наши эскулапы, как и положено, выражаются туманно, – он усмехнулся, – да я-то знаю, что долго не протяну… Сегодня с утра так прихватило, думал, уж и патриарха с причастием не дождусь… Но Бог милостив, дождался и его, и тебя вот… Ну, напутствий я тебе долгих говорить не стану… Ты и сам всё лучше меня знаешь, а чего не знаешь, – он снова усмехнулся, – в книгах прочтешь, или жизнь научит. Надеюсь, ты будешь править лучше меня и, как говорится, сохранишь и преумножишь оставленное… А что плохо сделано, исправишь…
Феофил знал, что имеет в виду отец. Крит по-прежнему оставался в руках агарян, несмотря на то, что посланному туда с большим флотом Оорифе удалось освободить многие мелкие острова. Сицилийские дела тоже всё еще были не улажены: хотя присланный на Сицилию дисипат Феодот повел военные действия довольно успешно, а арабы, из-за разразившихся в их войске голода и эпидемии, значительно ослабели и удерживали только города Минео и Мазару, но… Бог знает, удастся ли до конца справится с этими варварами!..
Михаил помолчал, собираясь с силами.
– Прости меня, если можешь, – проговорил он.
Феофил вздрогнул и на несколько мгновений закрыл глаза, перед ним чередой понеслись картины прошлого. Император Лев и его сыновья… Прогулки верхом, игры, разговоры… Утро Рождества, игумен, обнимающий его, рыдающего, за плечи… Мать у его постели с темными кругами под глазами… Выбор невесты… Кассия!.. Свадьба с Феодорой, коронация… «Ты счастлив?» – вопрос, на который он не мог ответить прямо… Смерть матери… Разговор с отцом о матери и Иоанне… Евфросина… Недавний разговор с женой… И вот, скоро он станет единоличным правителем Империи… Ценой крови крестного, изуродованных друзей… и с нелюбимой женщиной рядом! Да, не во всем этом, конечно, вина отца… Отец даже поддержал его тогда, после выбора невесты… Да и много ли отец видел сыновней любви, еще прежде того, как получил царство?.. Теперь Феофил понимал, что отец вовсе не был так груб и бесчувствен, как они с матерью привыкли думать. Да, он был необразован, не умел тонко выражаться, часто бравировал своей «неотесанностью»… Но сейчас, вспоминая разные мелкие случаи, мимолетные фразы из своего детства и юности, вспыхивавшие перед его мысленным взором друг за другом, будто молнии, Феофил осознавал, что отец любил и его, и по-своему даже мать… что бы там ни было… А мать? Мать не только его не любила, но и… И ведь отец простил ее! «Мы, быть может, могли бы понять друг друга! – подумал Феофил. – Но теперь уже поздно…»
Он открыл глаза и встретил взгляд императора – страдальческий и почти угасший… Феофил провел рукой по лицу и сказал очень тихо:
– Бог да простит тебя, отец, а я тебя прощаю.
Он опустил голову, а потом опять посмотрел в глаза отцу и сказал дрогнувшим голосом:
– И ты прости меня!
Лицо умиравшего просветлело. Поморщившись – каждое движение причиняло ему боль, – он приподнялся на постели, перекрестил сына и сказал:
– Да благословит тебя Бог, да продлит Он твое царство, да приведет тебя в Царствие Свое! Хорошо, что ты… отпустил мне… Теперь можно и умереть. Прощай, сынок!
Михаил опять откинулся на подушки и закрыл глаза – силы совсем, видимо, оставили его. У Феофила предательски задрожали губы.
– Прощай, отец! – прошептал он, встал и почти бегом вышел из комнаты, опустив голову, чтобы схоларии у входа не заметили слез, блестевших в его глазах.
Часть IV. Игуменья и император
Лилия Виноградова
- Для нашей невозможнейшей любви
- Среди людей нам как бы нет пространства.
- Но видит Бог, и грешникам Своим
- Он посылает муки постоянства.
- Мы любим через тысячи «нельзя»,
- Через границы, годы и признанья.
- Ты улетишь, с собою унося
- Мое «люблю» сквозь вечное прощанье.
- Я с этим умиранием сживаюсь.
- На двух недостижимых полюсах
- Расселись черный дрозд и белый аист.
- Мы встретимся с тобой на небесах.
1. День отмщения
(Виктор Цой)
- Я ждал это время – и вот, это время пришло:
- Те, кто молчал, перестали молчать.
Император Михаил умер 2 октября восьмого индикта и был похоронен в саркофаге из зеленого фессалийского мрамора в Юстиниановой усыпальнице, рядом с Феклой. «Вот и вся жизнь! – думал Феофил, глядя, как закрывают тяжелую крышку саркофага. – Когда-нибудь и меня так же… А что потом?.. Ведь никто этого не знает! Добродетельно ты жил или не очень, совершал ли ты явно греховные поступки или, напротив, праведные, это ни о чем не говорит! Можно долго грешить, а перед смертью покаяться… Или, напротив, совершить под конец что-нибудь, что перечеркнет всё хорошее, что ты сделал… И “все правды его не вспомнятся”… Можно иметь тайную добродетель, которая спасет, даже если ты грешник… Как с тем монахом, что никого не осуждал… Или, наоборот, один тайный порок обесценит все твои добродетели… Патриарх сейчас скажет слово о том, каким хорошим императором был отец… Может, и не очень далек будет от истины. Но что в том пользы? Разве можем мы знать, как нас будут судить и за что осудят или, наоборот, оправдают?..»
После смерти Михаила при дворе царило выжидательное настроение: все гадали, что нового принесет единоличное правление молодого императора. На то, что обойдется без перемен, никто не надеялся – слишком разными были характеры и вкусы отца и сына. Однако в первое время после смерти отца Феофил ничего особенного не предпринимал, только выделил большую сумму денег для раздачи нищим, а также в больницы, богадельни и странноприимницы на помин души покойного.
Спустя неделю после похорон Феофил приказал, чтобы на монетном дворе готовились к чеканке новых монет, и встретился с художником, который рисовал изображения для печатей. Когда ему доложили, что готов образец новой номисмы, император, в сопровождении эпарха и нескольких синклитиков, отправился на монетный двор.
– Вот, государь, – поклонившись, сказал Артемий, начальник мастерской. – Такая она вышла.
Он протянул императору блюдо из кроваво-красной яшмы, где лежала только что отчеканенная пробная номисма. Феофил взял монету, подошел к окну и стал внимательно рассматривать свой портрет, крест на обороте, надписи. Обернулся к эпарху и кивнул ему, тот подошел.
– Как тебе? – спросил император. – Нравится?
– По-моему, прекрасно, августейший! – эпарх всмотрелся в монету. – Да, сходство схвачено удивительно!
– Думаешь? – Феофил слегка улыбнулся. – Мне кажется, такой стиль не позволяет говорить об истинном сходстве.
Ромейские монеты, действительно, уже много веков назад утратили тонкость выделки и настоящее портретное сходство изображений, свойственные чеканке времен расцвета Древнего Рима. Конечно, изображения разных императоров отличались друг от друга, но не настолько, чтобы можно было всерьез говорить об «удивительном» сходстве изображения с первообразом. Однако Феофил видел, что в портрете на новой монете, действительно схвачено нечто, позволявшее говорить о сходстве, и ему было интересно, как эпарх определит, что же это такое.
– Истинное искусство, державный государь, – сказал эпарх, – состоит в умении изобразить тело так, чтобы сквозь него видна была душа! Передать телесное сходство могут многие, а вот внутренний, так сказать, портрет…
– Полагаешь, здесь передан мой внутренний портрет? – и, не дожидаясь ответа, император обратился к Артемию. – А ты что думаешь?
– О чем, трижды августейший?
– Да вот, господин эпарх говорит, что главное в искусстве – передать не внешнее сходство, а внутреннее. Как по-твоему, передано тут внутреннее сходство?
– Да, государь! Еще когда Филарет сделал рисунок, многие говорили, что ему удалось ухватить…
– Что ж… – Феофил продолжал вертеть в пальцах монету, рассматривая ее. – Будь по-вашему, – он взглянул на Артемия и улыбнулся. – Мне она тоже понравилась.
Белокурый бородач так и просиял.
– Значит, начинаем чеканку, августейший?
– Начинаем! А господину Филарету я жалую литру золота. Истинное искусство надо поощрять! Не правда ли? – обернулся он к эпарху.
– Да, государь, да благословит небо твою премудрость и щедроты!
Феофил опять вгляделся в свой портрет на монете. Или Филарет и впрямь душеведец, или… Император на мгновение чуть нахмурился. Или он так и не научился скрывать?.. Или просто именно это так сильно, что трудно скрыть? Хотя и не все замечают, конечно… Но Филарет заметил. Император вспомнил, как беседовал с ним в саду у пруда… Да и о чем беседовал? В общем-то ни о чем… Но мастер сумел уловить тайную печаль, которая и сейчас опять сжимала Феофилу сердце.
«А ведь она увидит! – подумал он. – Деньгами пользуются все…»
Он подкинул в воздух монету, поймал, сжал в кулаке и, попрощавшись с Артемием, вышел из мастерской.
На сороковой день по кончине отца император утром объявил, что в воскресенье, на память апостола Филиппа, состоятся бега на Ипподроме, чтобы повеселить народ как после происшедшего печального события, так и перед наступающим Рождественским постом. Над большими вратами Ипподрома водрузили знамя, возвещавшее грядущие скачки, началась подготовка лошадей, и Город пришел в движение: обсуждали возниц и коней, делали ставки, гадали, что нового покажут мимы между забегами… Вечером того же дня император послал сообщить Евфросине, что хотел бы поговорить с ней и просит зайти к нему в приемную. Вдова пришла, одетая в простые темно-синие тунику и мафорий, которые не снимала после смерти мужа, и Феофил, пригласив ее сесть, прошелся по комнате и, остановившись перед мачехой, сказал:
– Августейшая, боюсь, что наша беседа будет не из тех, что можно счесть приятными, но я, тем не менее, вынужден к ней приступить. Мне бы не хотелось никого осуждать, но я считаю, что тот, кто произнес монашеские обеты, хотя бы это было сделано и не совсем охотно, должен проводить жизнь согласно данным обещаниям. Поэтому я бы настоятельно просил тебя в ближайшее время удалиться туда, где ты жила до того, как стала супругой моего отца. Не думаю, что тебя заставили принять монашество, приставив к горлу нож, а потому твое пребывание во дворце можно счесть… временным увлечением… или, если угодно, приятным отдохновением от монашеских трудов, – он чуть усмехнулся, – но опять же временным. Сейчас, полагаю, ничто не должно мешать тебе вернуться к той жизни, на которую ты, волею судеб, была призвана изначально.
Евфросина слушала Феофила, опустив глаза, а когда он умолк, поднялась с кресла и тихо ответила:
– Да, государь, ты совершенно прав. Я готова вернуться в монастырь хоть завтра. Ведь я ничего не принесла с собой, придя сюда, а значит, собирать мне нечего. Но, возможно, было бы разумно проститься с Синклитом и придворными… Впрочем, если тебе это не угодно, я не настаиваю.
Она стояла перед ним такая тихая, смиренная, покорная, что Феофил вдруг почувствовал себя неблагодарным грубияном. Эта женщина не сделала ему ровно ничего дурного за всё то время, пока он знал ее. Напротив, если не прямо, то косвенно она была даже его благодетельницей: воспитывала сестру, помогала Феодоре растить детей, благодаря ей молодая августа не чувствовала себя однокой, как это могло бы быть, не женись отец вторично. Более того, Феофил знал, что мачеха искренне восхищалась им, и если б он сделал хотя бы небольшой шаг навстречу, их отношения могли бы стать гораздо сердечнее… Он не сделал этого шага, а теперь, по сути, выгонял ее, как собаку, не сказав не единого слова благодарности! «Что я за пень!» – подумал он и шагнул к императрице.
– Прости меня, Евфросина! – он впервые назвал ее по имени. – Я… я, конечно, повел себя, как последний грубиян… Я не должен был так… Я благодарю тебя… за Елену, и за помощь Феодоре… – он с трудом подбирал слова. – Я не считаю тебя какой-то… преступницей, вовсе нет! Просто…
Он умолк. Было больно, и он не знал, как и что сказать дальше, как объяснить и надо ли вообще объяснять. Евфросина подняла на него глаза.
– Я всё понимаю, Феофил, не мучь себя. Просто твоей отец и я были счастливы, а ты нет.
Император вздрогнул и чуть побледнел; он не ожидал, что мачеха столь проницательна.
«Как я ни стараюсь скрыть, но, видно, не выходит! – подумал он с горечью. – Впрочем, ведь она все эти годы общалась с Феодорой, могла и по ней догадаться… А может, и отец что-то рассказал…»
– Да, – ответил он глухо и отошел к окну.
Евфросина следила за ним взглядом.
– Но я ждала много лет, Феофил, – тихо сказала она. – Двенадцать лет я вообще не могла понять, почему жизнь так обошлась со мной. А потом еще три года страданий… Под конец я почти перестала надеяться, что это мучение закончится.
Он повернулся к ней с усмешкой.
– Думаешь, если я еще подожду, то тоже что-нибудь получу? Боюсь, что у меня не тот случай!
«Если б я вообще мог понять, что это за случай! – подумал он. – Пожалуй, если я когда-нибудь и решусь… на маневр… то чтобы, по крайней мере, узнать, зачем она это сделала! Вот только, если я ее увижу, боюсь, я не смогу остановиться только на том, чтобы узнать…»
– Что-нибудь ты непременно получишь. Но не обязательно то, что я. Тебе горько было видеть чужое счастье… Но ведь за любое счастье такого рода приходится платить, Феофил. Или до, или после. А то и до, и после.
«Она права! – думал он, глядя на мачеху. – Так ли легко было отцу сознавать, что мать его не любит? А уж то, что она сделала под конец… Как бы мало он ее ни любил, вряд ли эта история была ему приятна… И он даже не мог знать, как долго она продлится!.. А Евфросина? Ведь ей предстоит вернуться в монастырь и, должно быть, нести епитимию… Получается, вся жизнь – епитимия за любовь! За неправильную любовь?..»
– Вот мне бы и хотелось знать, за что плачу́ я! – тихо проговорил он. – Плачу давно и дорого… Видно, в конце концов получу море счастья?
Феофил горько усмехнулся, и вдруг ему захотелось всё рассказать Евфросине, всё с самого начала. Может быть, тогда стало бы легче… может, увиделся бы какой-нибудь выход… Но он задавил в себе этот внезапный порыв.
– Ладно, нет смысла обсуждать это, – сказал он хмуро. – Я могу завтра на приеме чинов объявить, что ты собираешься удалиться в монастырь, а послезавтра устроить прощальный прием и обед. Как ты на это смотришь?
– Прекрасно! – она улыбнулась и вдруг, подойдя к императору, чуть дотронулась до его плеча. – Прости меня, Феофил, я, должно быть, сделала тебе больно… Я мало что понимаю, но одно могу сказать: ты очень хороший, умный и сильный, ты всё вынесешь и когда-нибудь всё поймешь. Только не отчаивайся!
Когда на следующее утро было объявлено, что Евфросина покидает дворец, все поняли: началось! После приема чинов хранитель чернильницы подошел к великому папии и шепнул:
– Как ты думаешь, что будет дальше?
Папия пристально взглянул на него и тихо ответил:
– Знаешь, господин Феоктист, что бы ни было, а я бы тебе одно посоветовал: сиди тихо и не высовывайся! А то кости по всякому могут упасть… Можно после и своих не собрать!
В пятницу овдовевшая императрица прощалась с придворными и их женами, одаривая всех и принимая последнее поклонение, потом был торжественный обед, куда были приглашены наиболее приближенные чиновники, а когда в Фарском храме началась вечерня, крытая повозка, запряженная белыми мулами, в сопровождении шести патрикиев, уже везла Евфросину к Силиврийским воротам. Император пожертвовал в Свято-Троицкую обитель большую сумму золотом и впредь собирался следить, чтобы тамошние насельницы ни в чем не нуждались.
Простившись с мачехой, Феофил снова испытал то же мучительное чувство, которое охватило его при прощании с умиравшим отцом: «Мы, вероятно, могли бы понять друг друга, но теперь уже поздно», – и это почти испугало его. «Отчего так выходит? – подумал он. – Вот, опять получается, что я оказываюсь… слишком “праведным”… и этим только лишаю себя и других того хорошего, что могло бы быть… Да ведь и с Феодорой, по сути, то же самое! Зачем я заставляю ее страдать? Чего мне стоит быть с ней помягче, почаще общаться? Не так уж она и глупа, в самом деле! В конце концов, при желании я мог бы позаботиться о ее развитии, читать с ней того же Платона… Может, ей даже понравилось бы, как знать! Вместо этого я всё время ее отталкиваю… и ради чего? Ведь всё равно я буду жить с ней, а не… – он закрыл глаза. – Кассия! Зачем ты это сделала?! Неужели я никогда не узнаю?..»
В дверь постучали. Феофил вздрогнул, передернул плечами и, подойдя к двери, открыл. Это был препозит, он пришел спросить распоряжений относительно завтрашнего приема чинов и грядущих бегов – следующий день был последним перед скачками: лошадей должны были привести в стойла при Ипподроме, подготовить к бегам и накормить, кинуть жребии возницам, составить список коней и упряжек, украсить Ипподром, окончательно определить порядок выступления акробатов, мимов и других артистов – словом, день предстоял беспокойный.
– Со скачками пусть всё идет, как обычно, – сказал император. – Впрочем, зайди ко мне завтра после вечерни, я дам тебе еще кое-какие указания… А вот утром я хотел бы видеть сразу весь Синклит и нижних чинов… до мандаторов включительно, а также весь придворный клир. Так что после доклада логофета сразу начнется общий прием.
Когда препозит ушел, император усмехнулся. Хотя он только что пенял сам себе за жестокосердие, однако то, что он собирался предпринять завтра, вряд ли станет свидетельством его мягкости и кротости… «Но я должен это сделать! – подумал он. – Я слишком долго ждал… И я обещал, что сделаю это!»
На другое утро в тронном зале Магнавры после доклада логофета дрома начался общий прием чинов: синклитики и низшие чиновники входили согласно рангам, поклонялись императору и становились там, где им указывал магистр оффиций. Патриарх восседал на своем обычном месте, дворцовый клир стоял тут же, в том числе и Грамматик. Наконец, когда все, кого пожелал видеть император, были в сборе, Феофил, оглядев присутствующих, сказал:
– Я собрал сегодня всех вас, о, мой народ и клир, желая довершить, во славу Божию, то, чего не успел сделать мой августейший отец. Он всячески стремился различными чинами, дарами и иными благодеяниями почтить тех, кто помог ему взойти на царство. Однако он покинул этот бренный мир раньше, чем предполагал и желал, и потому, чтобы не показаться неблагодарным, не только оставил меня наследником ромейского престола, но и поручил мне исполнить его добрую волю и воздать по заслугам всем тем, кого он, по тем или иным причинам, не успел в достаточной мере отблагодарить при своей жизни. Итак, пусть же те, кто некогда помог ему получить престол, выйдут и покажутся перед всеми, чтобы я мог знать, кому следует воздать за попечение о нашей державе.
Он говорил очень спокойно и мягко, и понять, к чему на самом деле клонится его речь, было не так-то просто. Покойный император действительно поскупился на награды тем, кто посодействовал его воцарению – но отнюдь не потому, что «не успел», а потому, что попросту и не собирался. На другой день после коронации он даже повелел арестовать и казнить трех непосредственных убийц императора Льва, нанесших ему смертельные раны, хотя, по понятным причинам, никакого дальнейшего расследования дела устраивать не стал. Богато одарив всех синклитиков, он возвел своего секретаря Феоктиста в чин патрикия, кое-кому из друзей пожаловал разные звания, но никакого заметного награждения участников дворцового переворота не произошло. Кое-кто из придворных был этим недоволен, однако роптать вслух никто не решился ни тогда, ни после. Такая видимая «неблагодарность» Михаила, однако, вполне могла объясняться желанием отстранить от себя подозрения в том, что он был непосредственным вдохновителем переворота, и, с этой точки зрения, его завещание сыну «восстановить справедливость» выглядело довольно правдоподобно. Но, с другой стороны, многие еще помнили, как относился Феофил к императору Льву, и желание вознаградить, по сути, его убийц, могло показаться подозрительным. Однако, в связи с только что происшедшим удалением из дворца второй жены покойного императора, в голову приходила и иная мысль – о желании Феофила исправить то, что в действиях отца ему казалось неподобающим. Как знать, не счел ли он таковой и неблагодарность Михаила содействовавшим его воцарению, ведь и сам Феофил оказался на престоле благодаря им…
Но на раздумья времени не было: император ждал, надо было решаться, и невозможно было ни посоветоваться, ни обсудить друг с другом, что делать. И вот, один за другим, из рядов синклитиков и прочих чинов стали выходить люди: среди них были патрикии Прот и Анфим, несколько царских телохранителей и кувикулариев, начальник хора и кое-кто из певчих, бывших за богослужением в то роковое рождественское утро… Император внимательно наблюдал за ними, но лицо его по-прежнему было непроницаемо. Феоктист между тем быстро переглянулся с великим папией, и тот чуть заметно качнул головой, но хранитель чернильницы и сам чувствовал подвох: он-то хорошо помнил тот разговор с Михаилом вечером за игрой в кости накануне переворота и понимал, что Феофил, проведший детство и раннюю юность рядом со Львом, вряд ли мог стремиться облагодетельствовать убийц своего крестного, даже если отец действительно завещал ему это сделать…
А жаждущие быть облагодетельствованными продолжали выходить на середину залы – теперь уже не только принявшие непосредственное участие в рождественском перевороте, но и выразившие после него бурный восторг и сочувствие Михаилу, а таких было немало, в том числе среди тех, кто накануне смены власти ничего не подозревал. Протоспафарий Антоний, при Льве Армянине бывший друнгарием виглы, а при Михаиле ставший стратигом Фракии после смерти Феодота, тоже был из их числа и, глядя как другие выходят в надежде получить дары и, быть может, чины, внутренне колебался: конечно, было соблазнительно получить что-нибудь от императора, даже если это будет всего лишь слово благодарности, однако свойственная стратигу осторожность не давала сделать решительный шаг. От добра добра не ищут! Его положение при дворе и без того было достаточно высоким и прочным, жаловаться было не на что, и некий внутренний голос нашептывал ему, что надо бы поостеречься от излишней алчности… В таких мыслях Антоний поднял глаза и вдруг увидел, как его сын с подобострастной улыбкой выходит на середину залы и кланяется императору. После протоспафарий не мог понять, почему именно в этот миг он осознал, что происходит нечто ужасное. «Куда ты, стой!» – хотел он крикнуть Михаилу, но лишь прижал руку к груди…
Наконец, все, кто хотел выйти, стояли на середине залы; больше никто не двигался с места. Император оглядел вышедших и произнес:
– Что ж, я очень рад вас видеть перед собой, господа! Сейчас всех вас внесут в список… – он повернулся к протоасикриту. – Господин Лизикс, запиши имена всех этих людей и представь список мне на вечернем приеме, – он вновь обратился к чаявшим наград. – Будьте уверены, почтеннейшие, что вам будет воздана почесть, подобающая людям, столь доблестно пекущимся о благе нашей державы, как вы!
По окончании приема император, прощаясь с патриархом, поймал на себе пристальный взгляд Сергие-Вакхова игумена, чуть усмехнулся и сказал:
– Отче, зайди сегодня в «школьную» на четверть часа пораньше.
Они с Грамматиком встречались там уже не для занятий, а раз или два в неделю, когда император желал побеседовать о прочитанном или что-нибудь обсудить. Однако уроки в «школьной» шли своим чередом ежедневно, кроме воскресных дней и великих праздников: Иоанн занимался с дочерью и сестрой Феофила, а с весны начал учить грамоте и маленького Константина.
– Как тебе понравился сегодняшний прием? – спросил император у игумена, когда они встретились в «школьной» перед началом занятий Грамматика с Еленой и Марией.
– Зрелище было весьма поучительным, – ответил Иоанн. – Но ведь это только первая часть, государь?
– Совершенно верно. Вторая будет разыграна завтра, – Феофил усмехнулся. – В этом есть некая ирония судьбы: я, можно сказать, начинаю свое самостоятельное правление с «представления» в духе моего отца, а ведь меня частенько раздражала эта его манера…
– Значит, – сказал игумен, внимательно глядя на императора, – я не ошибся: ты действительно не собираешься награждать этих людей.
– Нет, отчего же? Я их не обманул: они получат награду… Точнее, они ее получают в настоящее время. Помнишь историю о том, как Дионисий пообещал награду кифареду?
– «Вчера ты порадовал меня своим пением, а я тебя – поданной тебе надеждой, так что ты уже получил награду за доставленное удовольствие»?
– Именно.
– А что же будет завтра, августейший?
– Завтра, как я опять же обещал, они получат то, что заслужили.
По улыбке, пробежавшей по губам василевса, Грамматик окончательно понял, что очередной опыт – едва ли не самый длительный из всех, какие он когда-либо предпринимал, – можно считать оконченным: «Я хотел попробовать вырастить императора-философа, и это удалось… Что ж, посмотрим теперь, что из этого выйдет!»
– Кстати, Иоанн, я хочу пригласить тебя поглядеть на вторую часть представления. Тебе ведь наверняка будет любопытно, – Феофил улыбнулся.
– Да, весьма любопытно. Но для меня это будет неканонично, государь.
– О! – чуть насмешливо сказал император. – Всегда ли ты был таким ревностным блюстителем канонов?
– Скажем так: всегда, но не во всем. Но на скачках я не бывал с тех пор, как стал монахом.
– Похвально! Но я думаю, если ты придешь между забегами, когда состоится представление, это не станет таким уж страшным нарушением. Я пришлю к тебе кого-нибудь с утра сказать, когда именно приходить.
Не все, кого тем субботним утром протоасикрит внес в список «к представлению», смогли безмятежно насладиться поданной надеждой. Стратиг Фракии, к немалому удивлению своих домашних, вечером закатил сыну что-то вроде истерики.
– Ты зачем вылез?! – орал протоспафарий, размахивая руками. – А ну, как государю доложат, что ты решил обмануть его?
– Спокойно, папа, спокойно! – несколько высокомерно отвечал Михаил. – Во-первых, я сразу выразил всяческое почтение новому государю, а ведь тогда были и такие, кто порицал его… тот же Птерот, ты помнишь! Так что я действительно поддержал новое царствование, обмана тут нет! Да разве все, кого сегодня представили к наградам, деятельно участвовали в тех событиях? Смешно! Там половина вылезла таких же, как я! И дураки бы мы были, если б упустили возможность получить милости державного! Не понимаю, право, чего ты испугался!
Стратиг и сам не понимал этого, но страх, охвативший его на утреннем приеме чинов, не проходил…
Наутро Феофил стоял у окна на верхнем этаже дворца Кафизмы и наблюдал за происходившим на Ипподроме. Трибуны были уже почти заполнены. Венеты и прасины, в ожидании выхода императора в ложу, поприветствовав друг друга обычными возгласами, пели славословия в честь императора и его супруги.
– Господи, спаси Феофила, императора ромеев! – выводили певчие.
– Господи, спаси! – трижды возглашал весь народ.
– Августе помоги, в Троице воспеваемый!
– Господи, спаси! Господи, спаси! Господи, спаси!
– Порфирородных сохрани, на небесах славимый!
«Если б все эти прошения так же легко исполнялись, как их распевают!..» – усмехнулся император. Вошедший препозит сообщил, что всё готово к началу бегов.
– Подсвечник принесли? – спросил Феофил.
– Да, августейший.
– Хорошо.
По неширокой каменной лестнице император спустился в свои покои этажом ниже, где веститоры облачили его в хламиду, а препозит возложил ему на голову корону. В первые годы его соправительства с отцом все эти длинные церемонии, с их бесконечными «Повелите!», одеваниями, поклонениями и славословиями придворных и димов, несколько утомляли и порой раздражали Феофила, но потом он привык к ним, они даже стали действовать на него умиротворяюще своей размеренностью и устоявшимся порядком. С одной стороны, можно было действовать почти машинально и при этом думать, о чем хочется, с другой – в этом церемониале виделся как бы образ общего порядка мироздания: всё идет, как заведено императором, и будет продолжаться неизменно, пока самодержец не решит внести что-нибудь новое, – как и во вселенной всё идет раз и навсегда установленным Творцом порядком, и «чин естества» изменяется только «там, где хочет Бог»… Правда, иногда, думая об этих параллелях, Феофил горько усмехался: образ всемогущего Бога на деле был далеко не всемогущ… Но этим утром ему вдруг стало приятно от мысли, что он может в любой момент переменить устоявшийся порядок, включить в него что-нибудь новое и необычное, и никто не посмеет возразить. В этот день, впервые самостоятельно открывая бега, он был в предвкушении той неожиданной сцены, которая сегодня будет разыграна перед его подданными… Он начинал понимать любовь своего отца к «представлениям», и было немного грустно от того, что это случилось, когда отец уже умер, но Феофил ясно видел, что это и не могло случиться раньше, но пришло в свое время. Значит, и всё прочее, что сейчас непонятно, когда-нибудь станет понятным, Евфросина права?..
В сопровождении кувикулариев он вышел в малый триклин, где принял поклонение от патрикиев и стратигов и прошел в большой триклин, где его должны были приветствовать остальные синклитики. С Ипподрома, тем временем, раздавалось пение венетов, которые в этот раз начинали, согласно выпавшему жребию:
– Взойди, боговдохновенное царствование!
– Взойди, выбор Троицы! – вторили прасины.
– Взойди! Взойди! Взойди! – кричал народ.
– Взойди, Феодора, августа ромеев! – приветствовали венеты императрицу, которая тоже готовилась со свитой вступить в ложу.
– Взойди! – трижды повторял народ.
– Взойдите, служители Господа!
– Взойди, боговенчанный владыка с августою!
Наконец, наступил момент выхода в ложу. Император кивнул препозиту, тот сделал привычный знак церемониймейстеру, который торжественно возгласил:
– Повелите!
– На многие и благие лета! – возгласили присутствовавшие, и церемониймейстер, взяв край императорской хламиды, сделал небольшую складку на конце, вручил его василевсу, и Феофил вместе со свитой поднялся по мраморным ступеням и через высокие бронзовые двери вышел в ложу. Славословия загремели с утроенной силой. Император, встав перед троном, концом хламиды крестообразно трижды благословил всех присутствовавших на Ипподроме: сначала трибуны прямо перед собой, на противоположной стороне, потом направо венетов и налево прасинов. Славословия народа и дворцовой гвардии, выстроившейся на стаме под императорской ложей, во всеоружии и с поднятыми знаменами, продолжались еще добрые четверть часа, а когда закончились, препозит по знаку императора ввел патрикиев, стратигов и другие чинов, чтобы те заняли свои места на скамьях под императорской ложей. В самой ложе оставалась только личная охрана и самые высшие чины из ближайшего окружения василевса. «Сейчас начнется!» – подумал Феофил, чуть заметно кивнув актуарию и мысленно уже прикрывая уши: как только лошади поскачут, расслышать что-либо даже вблизи будет трудно… Впрочем, в этом есть своя выгода: можно вести частный разговор при многочисленных свидетелях, не опасаясь, что они услышат. Актуарий взмахнул белым платком – это был знак, что можно начинать бега. На трибунах воцарилась почти мертвая тишина. По завершении последних приготовлений к заезду, стоявший посередине арены маппарий поднял руку, по этому знаку служители одновременно убрали заграждения перед упряжками, и четыре колесницы рванулись вперед. Трибуны взорвались оглушительным криком. Когда лошади пошли на седьмой круг, и вопли зрителей усилились так, что Феодора с улыбкой прижала ладони к ушам, не переставая при этом следить за скачками, император заглянул во врученный ему с утра актуарием лист, где был расписан порядок забегов и выступлений мимов и акробатов, знаком подозвал препозита и, когда тот приблизился и наклонился, сказал ему на ухо:
– Сцена со львом после третьего забега. К этому времени подсвечник должен быть здесь. Поднесешь его, как только я кивну тебе.
В первом забеге выиграл возница венетов, во втором – прасинов; это еще больше разожгло всеобщее возбуждение. После третьего забега в императорской ложе появился Сергие-Вакхов игумен и, поприветствовав августейшую чету, удалился вглубь ложи, где один из кувикулариев тут же уступил ему место. Тем временем, внизу на сцене укротители готовились дать представление с участием льва и собак. Феофил заранее, сразу после смерти отца, приказал подготовить его, сам следил за репетициями и остался доволен.
Укротители поклонились императору и императрице, и представление началось. Сначала лев стоял с грозным видом, рыча и бия себя хвостом по бокам, а окружавшие его собаки, поджав хвосты, смирно располагались вокруг, всем своим видом выказывая покорность и подобострастие. Затем, по знаку укротителя, собаки медленно стали приближаться ко льву, сужая круг, всё с тем же покорным видом, но уже держа хвост кверху. Наконец, второй укротитель щелкнул бичом, и собаки набросились на льва, тот упал наземь и лежал, словно мертвый, а собаки с лаем и словно торжествуя запрыгали, а потом, успокоившись, разлеглись или расселись вокруг с видом полного довольства и беспечности. И тут первый укротитель подошел ко льву, повязал ему на шею красную ленту и, отскочив в сторону, подпрыгнул и трижды хлопнул в ладоши. Лев встал и издал грозный рык, собаки с визгом отскочили и, все как одна повалившись набок, лежали, подобно мертвым. Укротители, встав по обеим сторонам льва и взявшись за его гриву, поклонились зрителям; те разразились бурными аплодисментами. Император улыбался, но только один человек из бывших вместе с ним в ложе мог бы понять, что значила его улыбка; и хотя Иоанн, стоя сзади, не видел ее, он знал, что василевс улыбается.
Когда аплодисменты утихли, а укротители увели зверей со сцены, Феофил поднялся, сделал знак глашатаю, и тот, поднеся ко рту металлическую воронку-рупор, приготовился повторять императорские слова.
– Мы видели сейчас весьма занимательное представление, господа, – сказал василевс. – Смысл его, полагаю, достаточно ясен: псы, как бы много их ни было, не должны безнаказанно оскорблять льва, царя между зверями земными. А теперь я хочу напомнить всем об оскорблении, нанесенном совсем недавно, на нашей памяти, царствовавшему над людьми, – он кивнул препозиту, и тот немедленно извлек из приготовленного свертка подсвечник из позолоченной меди, у которого один рожок был отломан, и поднес императору; Феофил взял его и поднял, показывая всем. – Вот этот подсвечник был поврежден почти десять лет назад ударом меча, что само по себе печально, причем в храме, что уже возмутительно, но ужаснее всего то, что это произошло во время богослужения, когда был убит августейший государь Лев, убит не где-нибудь, а прямо в святом алтаре. Итак, сегодня я хочу вопросить мой народ: чего достойны совершившие такое преступление в священном месте?
– Смерти! – раздался справа крик димарха венетов.
– Смерти! Смерти! – подхватил народ.
Когда крики стихли, император заговорил вновь:
– Это решение и мне представляется справедливым, – он сделал знак протоасикриту, и Лизикс поднес ему список, составленный накануне на приеме чинов. – Вот здесь записаны люди, которые не далее, как вчера признались не только в том, что так или иначе принимали участие в богомерзком деянии, но и в том, что хотят получить за это воздаяние. Сейчас их имена станут вам известны, – и он через хранителя чернильницы передал список глашатаю, тот зачитал его и вернул Феоктисту, который был в этот момент белым, как полотно.
В той части трибун, где находились «представленные к награде» из числа не имевших права на присутствие в императорской ложе, – Феофил нарочно повелел посадить их всех вместе, под предлогом грядущего награждения, произошло движение: кажется, кто-то рванулся бежать, но василевс предусмотрительно поставил у выходов стражу.
– Итак, – сказал император, обращаясь к эпарху, – возьми всех их, господин эпарх, и воздай им воздаяние по заслугам, поскольку они не только не побоялись Бога, замарав руки человеческой кровью, но и убили императора – помазанника Божия.
На трибунах поднялся страшный шум.
– Покарать убийц! – вопили со всех сторон. – Смерть нечестивцам!
Между тем на присутствующих в императорской ложе, среди которых тоже были некоторые из чаявших «наград», словно напал столбняк. Несколько мгновений никто не мог произнести ни слова, а затем поднялся истошный крик.
– Смилуйся, государь! – голосили несчастные, накануне утром покидавшие дворец в предвкушении милостей.
– Х-хвала справедливому суду н-нашего государя! – заикаясь, произнес Феоктист, силясь унять дрожь в руках, державших роковой список, и думая, что он сам едва избежал той же участи.
– Да живет справедливейший государь! – раздались вокруг крики придворных, тем более громкие, чем больше радовались те, кому вчера хватило ума и осторожности не поддаться тщеславию и сребролюбию.
– Пощади, августейший! Заклинаем милостью Божией! – прорыдал патрикий Анфим, падая ниц.
Странная улыбка пробежала по губам императора.
– Сейчас время не заклинаний, а убийств! – сказал он.
Много лет Феофил ждал того момента, когда сможет сказать эти слова, и теперь наслаждался произведенным впечатлением: почти все присутствующие либо помнили, либо знали по рассказам, как был убит предшественник покойного Михаила, и поняли, что молить о милости бесполезно. Лев Армянин был отомщен.
…Дверь в скрипторий была приоткрыта, и Кассия услышала разговор сестер.
– Всё-таки он красавец! – в восхищенном голосе Лии звучало легкое смущение.
– Чрезвычайный! – ответила Миропия, семнадцатилетняя девушка, троюродная сестра Акилы, поступившая в обитель полгода назад, после того как юноша, с которым ее обручили родители, умер в результате неудачного падения с лошади. – Я однажды его видела вблизи, мы с мамой были в Артополии, а он как раз был там со свитой, милостыню раздавал бедным… Всё же он очень благочестивый, хоть и еретик!
– Да, он еще и очень справедливый, как говорят! – голос у Ареты был звонкий, и ей всё время приходилось себе умерять, чтобы говорить потише. – Счастлива, наверное, августа, имея такого мужа! Ведь он сам ее выбрал!
Рука Кассии, уже протянувшаяся к дверной ручке, на миг повисла в воздухе. Игуменья резковатым движением открыла дверь и вошла. Сестры умолкли в некотором замешательстве.
– Смотри, матушка, – сказала Лия, – император новую монету выпустил! Мы сейчас только что из Книжного, получили деньги за псалтири.
Кассия взяла у нее золотую номисму. На монете был изображен Феофил – в короне и лоре, с крестом в левой руке и державой в правой. Огромные глаза, печальный взгляд. На обороте – крест и надпись: «Господи, помоги рабу Твоему». Игуменья снова перевернула номисму и вдруг на мгновение застыла. Это была первая монета, где Феофил был изображен один и «по-взрослому» – с усами и бородой: при его отце он, как соправитель, изображался на обороте номисм еще юным, а с бородой только в последнее время, рядом с отцом. Кассия не раз держала в руках эти монеты и разглядывала их, не ощущая ничего особенного. Но сейчас, против всякого ожидания, случилось иное: ей странным образом почудилось, что через монету… нет, как бы сквозь монету на нее смотрит Феофил. Кассия ощутила, как кровь отхлынула у нее от сердца. Она положила номисму на стол, чтобы не было заметно, как у нее задрожали пальцы.
– Красивая монета. Сколько псалтирей продалось?
– Все, кроме одной, – ответила Арета. – Господин Никита просил нести еще поскорее, с узорами!
Арете, подруге Анны, двоюродной сестры игуменьи, было двадцать четыре года. Она прожила с мужем семь лет очень счастливо и безбедно; правда, у них не было детей, о чем оба супруга скорбели и много молились Богу о даровании ребенка, но в позапрошлом году муж Ареты был в составе войска послан на Сицилию, и ему не суждено было вернуться – в августе пришла весть о его гибели в сражении. Молодая вдова очень тяжело переживала потерю, так что Анна даже опасалась за ее здоровье. Однажды ради духовного утешения она привела подругу в Кассиину обитель, и Арете так понравилось там, что спустя два месяца она, продав свой дом и всё имущество, поступила в монастырь. Она была образованна, хотя и не очень начитанна, но под руководством игуменьи быстро стала восполнять упущенное. У нее был хороший почерк и к тому же обнаружился художественный вкус, так что вскоре Арета стала незаменимой в скриптории; кроме того, в ней чувствовалась деловая жилка, и Кассия сделала ее монастырской экономиссой, что наконец-то избавило ее от необходимости вникать до мелочей в хозяйственные дела обители.
– Хорошо, – сказала Кассия. – Лия, надо будет сделать список «Уставов» Великого Василия. Пришло письмо из Солуни от матери Анны. Им нужно для обители. Вы с Миропией разделите работу пополам, чтобы побыстрей было готово.
– Да, матушка!
– Почерк у вас обеих хороший… Миропия, ты только следи за хвостиками у альфы. Они у тебя часто слишком длинные выходят, глаз на них натыкается, нехорошо.
– Я постараюсь, матушка! Я стараюсь, но эти хвостики… ускользают они от меня!
– А ты меньше думай о том, какой ты у нас хороший каллиграф, тогда хвостики и поймаются, – улыбнулась игуменья.
– О, это правда, матушка! – сказала Лия, слегка покраснев. – У меня так оно и было, только не с альфой, а с хи…
Уходя, Кассия с трудом подавила в себе желание унести с собой номисму, с которой смотрели глаза, огромные и печальные…
В келье она села за книгу толкований Златоуста на Евангелие от Иоанна, прочла полстраницы и осознала, что совсем не понимает того, что читает. Она прижала руки к вискам, закрыла глаза – и жаркая волна накрыла ее, словно не было нескольких лет внутреннего покоя… Словно она только вчера вернулась из Священного дворца! Она медленно встала, закрыла книгу и пошла во внутреннюю келью, зажгла светильник, несколько мгновений постояла, глядя на икону Богоматери. А потом опустилась в угол на плетеный коврик и заплакала.
2. Философы
Умен не тот, кого случай делает умным, а тот, кто понимает, что такое ум, умеет его распознать и любуется им.
(Ф. де Ларошфуко, «Максимы»)
Лев стоял у окна гостиной и смотрел на высокую апсиду и величественный купол храма Сорока мучеников. Над позолоченным крестом плыли облака, похожие на хлопья молочной пены. За пять месяцев Лев так и не успел привыкнуть к новому виду, сменившему неровную серую стену соседнего дома, которую ему приходилось созерцать на прежнем месте жительства. Он чувствовал себя странно – как будто у него выросли крылья, и он парил, подобно орлу, в почти недосягаемой высоте, наслаждаясь свободой, небом, солнцем, и в то же время порой возникало желание ущипнуть себя покрепче, чтобы проверить, не снится ли ему всё это.
Мог ли он подумать, что в октябре минувшего года сама судьба вошла к нему в лице опаленного солнцем и исхудавшего вихрастого молодого человека, в котором Лев поначалу не узнал своего прежнего ученика! Но это действительно был Андрей – юноша, три года назад, окончив у Льва курс математических наук, поступивший на службу секретарем к протоспафарию Фотину. Вскоре после этого Фотина назначили стратигом на Сицилию, и Андрей, в надежде сделать карьеру на службе у стратига, отправился вместе с ним. Однако на острове началось восстание Евфимия, и вскоре юный асикрит попал в плен к арабам, те вывезли его в Африку и продали в рабство; в конце концов, после различных мытарств, несостоявшийся секретарь стратига оказался в Багдаде, отданный в услужение одному из секретарей халифа. Новый хозяин, сириец по происхождению, оказался человеком довольно свободных взглядов – он осмеливался открыто критиковать Коран, находя в нем противоречия, – и к тому же был очень болтлив. Расторопностью и умением слушать Андрей приглянулся своему господину, и тот часто призывал его к себе и делился разными придворными сплетнями. Однажды сириец рассказал, что халиф – большой любитель всяких наук и особенно интересуется геометрией.
– О, геометрия! – печально вздохнул юноша, к тому времени уже вполне сносно изъяснявшийся по-арабски. – Как я любил ею заниматься, когда был свободен!
– Ты знаешь геометрию? – недоверчиво спросил его хозяин и рассмеялся. – Экая басня! Слуга, раб, еще и бороды не отрастил, а знает геометрию! Может, ты и астрономию знаешь? Ха-ха!
– Знаю, – невозмутимо ответил Андрей.
– Да ты всё врешь, негодяй! А ну, как я отведу тебя во дворец ко владыке, а там проверят, что ты знаешь? Ведь если ты соврал – не сносить тебе головы!
– Ну, отведи, – юноша пожал плечами. – Думаешь, господин, ты меня испугал? Ну, казнят меня, и что? Может, это и лучше, чем такая жизнь… вдали от родины, в рабстве у варвара!
– Это я-то варвар?! – завопил сириец. – Ах ты, щенок! – он с размаху ударил слугу по лицу. – Завтра же поведу тебя к повелителю верующих, там тебе покажут геометрию, паршивец!
Полночи Андрей молился, а потом спокойно уснул – почему-то с уверенностью, что его жизнь скоро изменится к лучшему.
Когда секретарь рассказал Мамуну, что его слуга из числа пленных ромеев похваляется, будто знает геометрию и астрономию, «но, конечно, врет, как все эти греки», заинтересованный халиф выразил желание побеседовать с юношей, и сириец тут же ввел его в приемную залу. Впервые попав во дворец, Андрей был поражен его великолепием: от разноцветных мраморов, росписей, ковров и шелков рябило в глазах, но приемная зала, куда его ввели, превосходила роскошью всё, что он видел по пути. Халиф восседал на покрытом золототканым шелком сарире, в позе, обычной для арабов, одетый в шелковые одежды, расшитые золотом и длинную черную мантию, рядом с ним стоял визир, по сторонам множество евнухов, а вокруг стража. Андрей поклонился халифу и скромно стоял, опустив взор. Хозяин косился на него с тайным злорадством, уверенный, что, даже если «щенок» и знал что-нибудь из геометрии, всё это должно было вылететь у него из головы при виде дворцовой роскоши и грозных стражников халифа. Мамун, внимательно оглядев юношу, спросил, говорит ли тот по-арабски, и, получив утвердительный ответ, поинтересовался, действительно ли он знаком с геометрией. Андрей подтвердил это, сказав, что окончил полный курс этой науки.
– Глупости! – высокомерно сказал халиф. – Что у вас там в Греции за учителя! Нет в мире настоящих учителей математической науки, кроме тех, что здесь у меня!
– Но ведь это легко проверить, о, повелитель верующих, – улыбнулся юноша. – Призови твоих учителей, и пусть они покажут свою ученость и расспросят меня о моей, и тогда ты сможешь рассудить, чьи учителя лучше.
– Клянусь Аллахом, он прав! – сказал Мамун и приказал немедленно позвать своих математиков, принести доски для черчения и все необходимые принадлежности.
Был приглашен и переводчик – пленный грек из Тарса, уже восемь лет живший у арабов и давно принявший ислам. Геометры нарисовали на доске углем прямые, круги, треугольники и четырехугольники разных видов, поясняя, какой треугольник равнобедренный, а какой равносторонний, указывая, какой четырехугольник называется квадратом, а какой ромбом, изложили определения и аксиомы и, похваленные халифом, встали по обеим сторонам доски с довольным видом, пренебрежительно разглядывая стоявшего перед ними бедно одетого молодого человека. Андрей внимательно выслушал их, рассмотрел чертежи, уточнил у переводчика кое-какие детали и сказал:
– Вы всё хорошо начертили и верно рассказали, как всё это называется, правильно изложили и аксиомы. Но ведь во всяком деле главное – причины, и, как сказал великий мудрец Аристотель, если мы не знаем причины, то не знаем и истины. Как же вы вещи называете, а почему они таковы, не объясняете? Вот, скажем… например, вы начертили равносторонний треугольник через линию и два круга, всё верно, именно так его следует чертить. Но как вы докажете, что он действительно равносторонний? Понятно, что если измерить его сторону нитью и приложить нить к каждой из остальных, мы увидим, что они равны. Но можете ли вы доказать это из самого чертежа?
Геометры растерянно переглянулись. А юноша продолжал:
– Или вот, допустим, треугольник. Вот, я продолжу его сторону, любую… скажем, эту, – он взял уголь и, приложив линейку к доске, провел нужную линию. – Мы получили внешний угол. Больше ли он любого из внутренних противолежащих углов треугольника?
– Больше! – ответили геометры халифа почти хором.
– Верно, – сказал Андрей. – А можете ли вы это доказать?
Воцарилось молчание, а затем старший геометр смущенно сказал:
– Мы просим тебя объяснить нам это, юноша!
Он объяснил – и это, и многое другое. Попросив еще доску, он принялся чертить, вспоминая прежние уроки, чертя линию за линией, рисуя круги, поясняя, отмеривая, доказывая. Уголь крошился в его руках, не поспевая за вдохновением. Окружающие смотрели, почти затаив дыхание, а когда молодой человек закончил, почти все присутствовавшие зааплодировали, в том числе и хозяин Андрея, уже позабывший, что привел его сюда для того, чтобы халиф приказал «срубить голову молокососу».
– Откуда ты родом, юноша? – спросил главный геометр.
– Из славного Города Константина! – с гордостью ответил Андрей.
– Сколько же там у вас таких ученых мужей?
– Множество! Да я вовсе и не особенно ученый, я так, ученик… До моего учителя мне далеко!
Его тут же забросали вопросами об учителе, жив ли он и как он живет, и Андрей сказал, что этот ученейший человек жив и еще не стар, что живет он небогато, зарабатывая на жизнь уроками, «а если сказать честно, то и вовсе бедно он живет, ученики у него есть, но при дворе он неизвестен и совсем не знатен». Халиф немедленно приказал принести лучшего пергамента и чернил и продиктовал письмо ко Льву, которое по-арабски записал секретарь-сириец, а переводчик ниже передал по-гречески. Затем, по приказу Мамуна, была принесена прекрасная одежда для Андрея, халиф богато одарил юношу и, вручив ему письмо, велел как можно скорее доставить его в Константинополь к «мудрейшему Льву», обещая в случае успеха предприятия еще больше одарить молодого человека, освободить его и взять на придворную службу.
Всё это походило бы на сказку, если бы не письмо, привезенное Андреем. «Как по плоду дерево, так по ученику мы познаём учителя, – писал халиф. – Добродетелью и глубиной познаний превзойдя науку о сущих, ты остался неизвестен своим согражданам, не пожинаешь плодов мудрости и знания и не получил от них никакой чести. Посему не откажись прибыть к нам и научить нас своей науке. Если это совершится, склонит пред тобой голову весь арабский род, а даров и богатства ты получишь столько, сколько никто никогда не получал».
Потрясенный Лев не знал, что и сказать, а ученик, растроганный возвращением на родину и встречей с учителем, проливал слезы. Когда оба немного успокоились и собрались с мыслями, то, обсудив положение, решили, что принять предложение халифа нет никакой возможности. Во-первых, Лев совершенно не хотел перебираться к агарянам: богатства и почести его не прельщали, а перспектива общаться с восточными варварами просто пугала. Во-вторых, такое предприятие было и небезопасным: если вдруг по дороге или на границе Лев вызовет подозрение и у него обнаружат письмо халифа, это может быть чревато обвинением в государственной измене. Кроме того, Андрей не имел ни малейшего желания возвращаться к Мамуну, несмотря на все его обольстительные посулы. Юноша сказал, что самым лучшим было бы обратиться к императору и показать ему письмо халифа. Но ни Лев, ни Андрей не имели доступа ко двору, и хотя у Льва обучались двое мальчиков, чьи отцы были синклитиками, он находил неудобным пытаться через них добраться до василевса. Тогда Лев письмом спросил у Кассии, не могла бы она как-нибудь помочь. Игуменья познакомила его со своей двоюродной сестрой, а Анна, в свою очередь, связалась с хранителем императорской чернильницы, и тот согласился встретиться со Львом и Андреем. Прочтя письмо халифа, Феоктист пришел в возбуждение, расспросил Льва, какие науки и насколько хорошо он знает, и заявил, что это, действительно, совершенное безобразие, когда «столь ученый муж до сих пор пребывает в такой безвестности». Он забрал с собой письмо Мамуна, чтобы показать императору, а спустя два дня Лев вместе с Андреем были приглашены в Священный дворец. Пока их многочисленными залами и переходами вели к василевсу, Андрей смотрел вокруг, раскрыв рот и, наконец, воскликнул, что здесь еще роскошнее, чем во дворце халифа, но всё сделано с бо́льшим вкусом. Лев вел себя сдержаннее, чем его бывший ученик, но тоже весьма впечатлился дворцовым великолепием.
Император принял их в «школьной», без каких бы то ни было церемоний. Сначала он приказал Андрею подробно рассказать о его жизни в плену и о встрече с халифом, был очень доволен тем, как юноша посрамил арабских геометров, и, похвалив молодого человека, сказал, что с завтрашнего дня берет его на службу в императорскую канцелярию, после чего ошалевший от столь внезапного карьерного взлета юноша был одарен десятью номисмами и отпущен. Затем император вкратце расспросил Льва о его жизни и занятиях и стал задавать вопросы иного рода: он прошелся по всем наукам, составлявшим грамматический и математический циклы, и перешел к философии, причем Лев, отвечая, отметил про себя, что Феофил везде касался ключевых тем и понятий, по знанию которых можно было бы сразу судить, насколько человек сведущ в той или иной науке. Наконец, окончив экзамен, император сказал с улыбкой:
– Что ж, господин Лев, если бы, уйдя сегодня отсюда, ты продолжал вести ту жизнь, что вел до сих пор, агаряне по праву могли бы счесть меня безумцем и невеждой, а ты с полным правом мог бы последовать призыву халифа. Но мы, разумеется, не дадим такого повода ни им, ни тебе. То, что мы с тобой, наконец, познакомились, пришлось весьма кстати: я уже давно подумываю организовать в Городе публичную школу, но до сих пор не видел человека, достойного преподавать в ней. Наш придворный философ… Ты, должно быть, знаешь об Иоанне, игумене Сергие-Вакхова монастыря?
– Да, государь, я наслышан о нем.
– Так вот, он, конечно, мог бы стать таким учителем, но, во-первых, ему мешают его церковные обязанности, во-вторых, он уже занимается с моими детьми, а в-третьих, занят собственными опытами… Думаю, ты о них скоро узнаешь, я непременно познакомлю вас с Иоанном. Ты же, насколько я могу судить, как раз тот человек, который нам нужен, и я бы очень хотел видеть тебя преподавателем, если, конечно, – император снова улыбнулся, – ты сам ничего не имеешь против.
– Я буду счастлив, государь! – совершенно искренне ответил Лев.
Император сообщил о своем решении препозиту, еще раз окинул Льва взглядом и велел отвести его к своим личным портным, чтобы те сняли с него мерки и побыстрее сшили одежду, какую подобает носить человеку, преподающему науки от имени императора. Только облачившись спустя несколько дней в новые одеяния, Лев понял, что одежда всегда сидела на нем мешком просто потому, что он заказывал ее у дешевых портных.
Через две недели после разговора с императором он уже переехал вместе со своими книгами и нехитрыми пожитками в новое жилище – двухэтажный уютный особняк с небольшим садом и прудом, располагавшийся на задворках храма Сорока мучеников, построенного при императоре Тиверии на месте старой тюрьмы Претория. Рядом с новым домом Льва находилось большое здание с несколькими светлыми залами и множеством более мелких помещений, относившееся к храмовому хозяйству, где по приказу императора был сделан срочный ремонт: два зала оборудовали для занятий, третий – под библиотеку. Уже в ноябре Лев начал преподавать. Среди его учеников было много детей придворных, но не только: школа была бесплатной, содержалась на средства из казны, и посещать ее могли все желающие из числа получивших начальное образование. Лев преподавал грамматику, поэтику, риторику, диалектику, арифметику с геометрией и астрономию, получил доступ и в патриаршую, и в императорскую библиотеки. Сам Феофил посетил несколько его лекций, остался чрезвычайно доволен и даже повысил первоначально назначенное ему жалование, и без того немаленькое. Словом, Лев чувствовал себя, почти как в земном раю.
Император, как и обещал, вскоре познакомил Льва с Сергие-Вакховым игуменом. Лев ожидал этой встречи с замиранием сердца. Об Иоанне он слышал два отзыва – очень отрицательный от своей матери и в целом положительный от Кассии, – и знал множество слухов и сплетен; Грамматик уже стал почти легендарной личностью, и Льву было странно сознавать, что этот человек – его родственник, причем не столь уж и дальний… Император с игуменом появились на небольшой галерее, тянувшейся под вторым рядом окон по западной стороне залы и соединявшейся с катехумениями храма Сорока мучеников, когда началась очередная лекция. Лев сразу догадался, кем был высокий монах, пришедший с Феофилом и простоявший всё занятие, опершись на балюстраду и внимательно слушая. Это было последнее занятие в тот день, и когда оно закончилось и все учащиеся разошлись, император с Грамматиком спустились с галерей по узкой деревянной лестнице и подошли к преподавателю. Лев приветствовал василевса поклоном и пожеланием долгих лет царствования.
– Вот, господин Лев, выполняю обещание! – весело сказал император. – Привел отца Иоанна, игумена Сергие-Вакховой обители. Он о тебе уже наслышан!
– Но вряд ли так, как я о нем, – улыбнулся Лев, глядя на Грамматика. – Я очень рад нашему знакомству, – он поклонился. – Должен признаться, что мечтал о нем еще в юности, но как-то не сложилось.
– Что ж, лучше поздно, чем никогда, не так ли? – сказал игумен с улыбкой и ответным поклоном. – Я тоже рад познакомиться с одним из умнейший людей нашего времени. Как я уже смог понять по только что бывшему уроку, молва не противоречит действительности.
– Господин Лев, – сказал Феофил, – не покажемся ли мы тебе навязчивыми, если напросимся к тебе в гости? Полагаю, беседовать в домашней обстановке будет гораздо приятнее.
– Вы окажете мне великую честь, государь!
Они просидели у Льва до темноты, беседуя на самые разные темы, без какого бы то ни было порядка и даже иногда без видимой связи. На улице было промозгло и сумрачно, то и дело принимался моросить противный дождь, но в небольшой гостиной краснели угли в жаровне, уютно мерцали светильники, удобные кресла были покрыты шерстяными одеялами, а в хрустальных кубках – подарке хранителя чернильницы – рубиново переливалось родосское вино. Грамматик медленно потягивал его, закусывая оливками, время от времени задавал вопросы или отвечал сам, но вообще говорил мало, больше слушал, и Лев ощущал на себя его взгляд – то пристальный и изучающий, то острый и пронизывающий, то прозрачный и как будто отсутствующий, но можно было догадаться, что от этого отсутствующего взгляда так же мало ускользало, как от пронзительно-острого, похожего на стальной клинок. Лев пытался представить, каким Иоанн мог быть в молодости, чем занимался и что пережил, прежде чем стал таким, как теперь, но у него плохо получалось. Вдруг император, который, казалось, довольно беспечно наслаждался беседой и вином, сказал с улыбкой:
– Могу поспорить, господин Лев, что ты изо всех сил стараешься разгадать загадку по имени Иоанн Грамматик. Должен тебя предупредить, что это невозможно. Я знаком с отцом игуменом уже почти шестнадцать лет, а сказать, что разгадал его, не могу и, думаю, никогда не смогу.
Лев несколько растерялся, а игумен улыбнулся:
– Августейший знает, чем польстить!
– Мне кажется, – сказал Лев, – что умного человека разгадать вообще довольно сложно. В любом случае, вряд ли это возможно, если он сам не захочет открыться.
– Совершенно верно, – кивнул Иоанн. – А чтобы этого захотеть, нужны очень веские причины. Но всё же, господин Лев, я не прочь послушать твои соображения о моей персоне, ведь у тебя они наверняка есть. Обо мне рассказывают всякое, и тебе, думаю, многие из этих басней должны быть известны, но вряд ли столь умный человек, как ты, может придавать им большое значение.
– Я действительно не склонен верить слухам, – сказал Лев. – Но у меня есть и иные сведения о тебе, господин Иоанн, – он улыбнулся. – Впрочем, слухи, если уметь отделять зерна от плевел, тоже могут быть источником сведений, хотя, конечно, источником весьма мутным.
– Отлично! – воскликнул император. – Итак, господин Лев, что же ты думаешь о нашем «несравненном философе», как называл его мой покойный родитель?
– Отец игумен – человек очень образованный и умный, – начал Лев, пристально глядя на Грамматика, – любит науки и, возможно, ради преумножения своих познаний склонен иной раз проводить рискованные опыты, не всегда понятные для окружающих… Он всему знает цену, в том числе себе, и себя ценит весьма высоко. Он хорошо изучил не только книги, но и людей, очень проницателен… и поэтому, вероятно, не для всех приятен. Если он поставит себе цель, то идет к ней, невзирая на препятствия. Никогда не говорит, не подумав, и ничего не скажет неосторожно. Пожалуй, мало интересуется тем, что думают о нем окружающие. Способен обращаться с людьми жестоко, если сочтет это нужным для дела… Впрочем, при желании может быть очень обаятельным. Вероятно… – тут Лев остановился.
– Не бойся, господин Лев, я не обидчив, – сказал игумен с улыбкой, поворачивая в пальцах кубок.
– Вероятно, в молодости у него были какие-то истории с женщинами, и они оканчивались для этих женщин малоприятно… По-видимому, отец игумен очень мало задумывается о том, какой след он оставляет в жизни тех, с кем ему приходится сталкиваться. Для него важны, прежде всего, собственные цели и соображения, а то, как это может отозваться в жизни других людей, его мало волнует… Вот, пожалуй, и всё.
– Прекрасно! – император зааплодировал и посмотрел на Грамматика. – Как, Иоанн, неплохо господин Лев разгадал загадку?
– Пожалуй, довольно хорошо, – ответил игумен, глядя на Льва с интересом. – Но не могу не заметить, что картина нарисована грубоватыми штрихами. Впрочем, с учетом того, что мы только сегодня познакомились лично, рисунок весьма неплох!
– Полагаю, ты должен отплатить господину Льву тем же, – улыбнулся Феофил.
– Если он не будет против.
– Отчего же, мне весьма интересно услышать отзыв о себе, – сказал Лев.
– Что ж… – игумен пригубил вино и, поставив кубок на столик, стоявший между собеседниками, несколько мгновений молча оглядывал того, чей словесный портрет собирался набросать. – Господин Лев влюблен в науки, очень любит преподавать и делает это прекрасно. При этом он бескорыстен, в том смысле, что равнодушен как к бедности, так и к богатству: способный безропотно сносить бедность, он с удовольствием будет пользоваться богатством, при этом совершенно не привязываясь к нему. Пожалуй, он относится к тому редкому роду людей, которых богатство и благополучие не могут испортить, какими бы большими они ни были. Ближних он старается не огорчать, в обращении мягок, не любит ссор. На происходящее в жизни смотрит философски, и большинство человеческих стычек и споров, даже по достаточно важным вопросам, представляются ему мелкими. Более всего он любит покой и безмолвие, нарушаемое только шелестом страниц или скрипом пера, и потому старается держаться подальше от каких бы то ни было столкновений и диспутов. Боевой дух ему не свойственен, поэтому, при прочих равных условиях, он предпочтет жизнь тихую и мирную, среди книг, друзей и учеников, жизни, которая может принести большую известность и славу, но чревата беспокойством и участием в идейных спорах… Словом, – Грамматик улыбнулся, – у него «душа философа, который всю свою жизнь занимается собственными делами, не мешаясь попусту в чужие», и он, вероятно, мог бы повторить знаменитую молитву Сократа: «Боги, дайте мне стать внутренне прекрасным! А то, что у меня есть извне, пусть будет дружественно тому, что у меня внутри. Богатым пусть я считаю мудрого, а груд золота пусть у меня будет столько, сколько ни унести, ни увезти никому, кроме человека рассудительного».
– Замечательно! – сказал император. – Господин Лев, как тебе эта характеристика?
– Я польщен! – тихо ответил Лев и улыбнулся. – И восхищен проницательностью господина Иоанна: он прав, я действительно не «боец».
– Моя проницательность, хотя и не только она, снискала мне даже славу колдуна, как ты, вероятно, знаешь, – с улыбкой сказал игумен, снова взяв со столика кубок и поднося к губам. – Но вот что меня заинтересовало: какая женщина, знавшая меня в молодости, рассказывала тебе про меня, господин Лев?
Лев пристально взглянул на Грамматика и ответил:
– Твоя троюродная сестра Каллиста, господин Иоанн.
– О! – Грамматик приподнял брови, но и только; Лев не заметил, чтобы это известие взволновало или смутило игумена. – Любопытно! Значит, ты с ней знаком? Сказать честно, я стараюсь поменьше иметь дело с родственниками, исключая родного брата, поэтому с госпожой Каллистой не виделся уже больше тридцати лет и ничего не знаю о ее судьбе. Впрочем, кажется, она и сама – не любительница общаться с родней: мой брат никогда не упоминал о ней, хотя вообще о жизни наших родственников осведомлен достаточно хорошо… Она еще жива?
– Она умерла восемь лет назад, – ответил Лев, несколько мгновений колебался, и, наконец, тихо проговорил: – Это моя мать.
– Вот как! – Иоанн отставил кубок с вином и поднялся. – Племянник?
– Да, – ответил Лев, тоже вставая.
Он был смущен, не знал, как себя вести и как теперь поведет себя Грамматик, и даже почти пожалел, что сообщил об их родстве.
– Просто чудеса! – воскликнул изумленный император.
– Да, нежданно-негаданно, – улыбнулся игумен. – Что ж, я рад!
Он шагнул к племяннику и обнял его неожиданно тепло. В этот миг Лев понял, что описанный им портрет Иоанна, пожалуй, действительно весьма груб: этот человек был гораздо сложнее, его еще предстояло разгадать, если только это вообще возможно…
Ученики очень быстро так полюбили Льва, что многие оставались после занятий, чтобы обсудить те или иные вопросы, не только относительно наук, но и вообще по жизни, спрашивали советов по выбору чтения. Лучшим из них Лев позволял пользоваться книгами из своей личной библиотеки. Книжное собрание при школе тоже пополнялось быстро стараниями переписчиков, нанятых по приказу василевса для копирования необходимых книг из императорской и патриаршей библиотек.
Среди учащихся попадались очень способные, но из всех далеко выдавался вперед один – семнадцатилетний сын патрикия Сергия и Ирины, которая приходилась золовкой Каломарии, сестре императрицы Феодоры. Этот смуглый черноволосый юноша с подвижным лицом и пытливым взглядом темных глаз, поражал своей начитанностью, любознательностью и необыкновенной памятью: он мог с первого раза запомнить прочитанное близко к тексту и почти дословно воспроизвести услышанное на занятиях. Родители его были богаты и, очевидно, нанимали ему неплохих учителей: в новооткрывшуюся школу он пришел с уже изрядным запасом знаний, весьма сведущим в грамматике и риторике, так что Лев сомневался, что может сообщить ему в этих областях много нового. Однако Фотий усердно ходил на все лекции, постоянно что-то записывал в тетрадь, а его вопросы и реплики во время общих дискуссий и обсуждений показывали, что в каждой науке он хотел дойти до самой сути, постичь все глубины и высоты. Но Лев ощущал, что юношей движет не просто любознательность молодого ума, не просто стремление получить хорошее образование и даже не любовь к знаниям как таковая – нет, Фотий стремился к чему-то большему: мечтал ли он сам стать со временем учителем, двигала ли им любовь к славе, желание получить известность?.. Пока Лев не мог ответить на этот вопрос, он лишь ощущал, что этот юноша – без сомнения, лучший из его учеников – не прост и вряд ли судьба его будет непростой… Поневоле Лев иногда сравнивал его с Кассией: без сомнения, по способностям и мощи ума Фотий далеко превосходил ее, но Льву, по внутреннему чувству, было не так приятно заниматься с ним и отвечать на его вопросы – потому ли, что юноша всегда держался как бы на некотором расстоянии от собеседника и в нем не ощущалось той открытости, что была в других? Или, быть может, потому, что Фотий происходил из семьи, где нравы были весьма строгими – это чувствовалось иной раз по тому, как юноша ставил вопросы: он на всё смотрел, прежде всего, с точки зрения учения Церкви. Само по себе это еще не было удивительным, но эта направленность была чересчур ярко выражена, можно сказать, нарочито ярко – иной раз Льву казалось, что Фотий, хотя и успешно изучал эллинских авторов и их философию, в душе относился к ним слишком уж презрительно. По крайней мере, Лев с трудом мог себе представить возможность вести с Фотием такие беседы о Платоне или Гомере, какие он когда-то вел со своей первой ученицей…
Между тем письма от Кассии в последнее время стали реже и короче, и Лев, не зная, чем это объяснить, наконец, прямо спросил ее в очередной краткой записке, не рассердилась ли она на него за поступление на службу к императору. «Что ты, Лев, – написала в ответ игуменья, – я и не думала сердиться. Напротив, я очень рада за тебя! Вот и ты приобрел многое взамен утраченного. Прости, если я ненароком огорчила тебя. Я сейчас всем пишу мало и кратко, не только тебе. Я не хотела говорить об этом, но раз уж ты спросил, то скажу, тем более, что ты – единственный из моих друзей, кому я могу это сказать так, что ты поймешь с полуслова. Оказалось, что Илион еще не разрушен, и теперь я совсем не знаю, когда окончится Троянская война. Прошу тебя, молись за меня, грешную».
…Из сестер Кассииной обители разве что Лия с Христиной, давно и близко знавшие игуменью, могли заметить, что с ней творится неладное, но, поскольку она явно не была расположена говорить об этом, молчали и даже между собой ничего не обсуждали. Правда, более склонная к праздной болтовне Лия однажды попыталась заговорить о том, что «матушка наша какая-то скучная стала в последнее время», но Христина строго повела на нее глазами и ничего не ответила. Как она и сказала, еще будучи Фотиной, что если у нее и не заладится дело с учебой, то «кому-то всё равно надо будет сестрам обед варить», так и вышло: мать Христина, хотя и научилась довольно бегло читать и неплохо писать, но дальше этого не пошла, в отличие от Лии, и проводила бо́льшую часть времени при трапезной. Она очень любила свое послушание, и сестры иногда шутили, что «с такой поварихой выходит не воздержание, а сплошное ублажение чрева», – Христина готовила вкусно и даже из самых простых вещей то и дело умудрялась приготовить что-нибудь необычное. При этом, однако, она не забывала о молитве, в свободное время не пропускала ни одного богослужения, внимательно слушала святоотеческие чтения и поучения игуменьи, а за работой старалась постоянно читать про себя Иисусову молитву или вполголоса псалмы. Она и в миру не была слишком разговорчива, а после пострига, углубившись в себя, сделалась совсем немногословной, и игуменья часто ставила ее в пример слишком болтливым сестрам.
В обители было уже семь монахинь и четверо послушниц, в числе последних и Анна, двоюродная сестра Кассии: после того как ее незадачливый муж подставил сам себя под карающий меч императорского правосудия, вдова раздумывала недолго и вскоре после похорон Михаила поступила в монастырь. Она не слишком страдала от потери мужа; их дочь умерла, не дожив до трех лет, а сын вскоре после родов, которые были трудными, так что едва не убили саму Анну; врач сказал, что больше детей у нее не будет. Правда, Георгий поначалу сильно противился намерению дочери, но ей на помощь пришел тесть, убедивший протоспафария не мешать Анне: стратиг Фракии был так потрясен судьбой сына, что на другой же день после злополучного представления на Ипподроме подал в отставку, а через месяц заявил близким, что уходит в монахи – и действительно, уладив все домашние дела, немного спустя после поступления Анны в Кассиину обитель, удалился на Олимп, откуда прислал письмо, что поступил в Агаврский монастырь, и с тех пор от бывшего стратига никто не получал никаких вестей.
Кассия редко покидала монастырские стены: и на рынок, и в Книжный портик отдавать рукописи на продажу и получать деньги ходили учиненные на эти послушания сестры. Игуменья только иногда заходила в портик взглянуть на книги и сама покупала благовонный ладан для храма, но последнее случалось всего несколько раз в год. Лия, заведовавшая делами, связанными с продажей работ сестер по переписке, всегда ухитрялась по дороге в Книжный узнать самые последние новости и докладывала их игуменье. Каждое воскресенье в обитель приходил из студийский иеромонах Феоктист, чтобы отслужить литургию. Вообще же жизнь столичных иконопочитателей сосредоточилась вокруг владыки Евфимия, по прежнему жившего в Городе. Архиепископ Сардский за годы, проведенные в столице, стяжал такой авторитет у горожан, что к нему постоянно приходили люди – кто за благословением, кто за советом; его посещала даже патрикия Флорина, мать августы. Во дворце на это, очевидно, смотрели сквозь пальцы, что, как будто бы, свидетельствовало о терпимости к «раскольникам»; с другой стороны, казнь причастных к убийству Льва Армянина породила толки и опасения, что молодой император скоро доберется до православных, но пока отношение к ним со стороны властей оставалось прежним. Лев в одном из писем к Кассии заметил, что ни император, ни хранитель чернильницы, ни даже Сергие-Вакхов игумен ни разу не поинтересовались, как он относится к иконам. Он считал, что наказание Феофилом «поднявших руку на помазанника Божия» было связано не с иконопочитанием, а с любовью императора к правосудию.
Действительно, Феофил установил определенные дни, когда лично разбирал на крытом ипподроме наиболее важные судебные дела, а каждую пятницу верхом на коне, в сопровождении свиты, отправлялся через весь Город по Средней улице во Влахернский храм Богоматери, причем ехал очень медленно и в это время никому не возбраняли приближаться к нему: каждый мог обратиться к василевсу со своей скорбью, и для людей, потерпевших какие-либо обиды и неприятности и не могших добиться правосудия из-за корыстности или человекоугодничества судей, это была часто единственная надежда на справедливое решение их дел. Кроме того, император, выезжая в Город, имел обыкновение пешком ходить по рынкам, осматривать товары и интересоваться ценами, а также тем, не обвешивает и не обсчитывает ли кто из продавцов своих покупателей – обиженные могли свободно пожаловаться василевсу: хотя его сопровождала свита из придворных и охрана, он не возбранял нуждающимся обращаться к нему. Уже к весне всё это, вместе с постоянно раздаваемой им милостыней бедным и нищим, стяжало к нему почти общенародную любовь, а чиновники, особенно в судах, и торговцы стали вести себя не столь нагло, как прежде, но с оглядкой, как бы на них не пожаловались императору. Кое-кто из иконопочитателей был недоволен такой всеобщей любовью к иконоборцу; поговаривали, что Феофил это делает нарочно, чтобы завоевать народные симпатии, а потом ему будет удобнее снова начать гонения на веру…
– Как ты думаешь, такое действительно может быть? – спросила как-то раз Анна у Кассии.
– Откуда же мне знать? – игуменья пожала плечами. – Скорее, это у тебя надо спросить: ты и твои родные бывали при дворе, вы гораздо лучше меня должны знать тамошнюю жизнь и характеры.
– Смотря чьи, – ответила Анна. – Ведь государь Феофил не такой, как все… И потом, он довольно замкнут и очень хорошо владеет собой. Не знаю, близок ли он по-настоящему с кем-нибудь, кроме Иоанна Грамматика…
«А с женой?» – чуть не спросила игуменья, но вовремя одернула себя. Разговор смутил ее, но меньше всего ей хотелось, чтобы Анна догадалась об этом. С того момента, когда Кассия взяла в руки недавно вычеканенную золотую монету, покой и ясность, которыми она наслаждалась три года после пострига, оставили ее и больше не возвращались. Император занимал ее мысли едва ли не больше, чем в первые месяцы после участия в смотринах, хотя в то время ей казалось, что еще сильнее быть одержимой этой горячкой невозможно. Но оказалось – возможно. Она старалась внушить себе, что сейчас эта страсть выглядит еще бессмысленней, чем раньше: ведь теперь она еще меньше знала того, мысли о ком мучили ее, вынуждали молиться иногда ночи напролет, поститься строже обычного и класть поклоны. Прошло столько лет, он повзрослел и изменился, даже внешне, а тем более, конечно, внутренне… Кого же она любила сейчас? Всё того же юношу? Нет, но того, кто взглянул на нее с монеты – и кого она совершенно не знает. Но тут услужливо наплывали мысли: так ли совершенно? Ведь ей известно, что он еще более образован и начитан, чем был тогда, в их первую и вторую встречи, – Лев в одном из писем с восхищением рассказывал об уме и познаниях василевса в самых разных областях… Справедлив, милостив к бедным и обиженным, нелицеприятен… Усерден к божественным службам… Заботится о народе, вот и школу бесплатную устроил для юношей… По прежнему красив… Словом, если б не ересь, он мог бы показаться самим совершенством!..
Один раз Кассия, по примеру читанных ею в житиях историй, даже прижгла себе руку на свечке, чтобы хотя бы физическая боль заглушила досаждавшие ей мысли, но тут же осознала, что это не выход. «Именем Иисусовым бей супостаты»? Да, разумеется, она молилась, каялась, просила помощи в борьбе со страстью, – но всё это помогало лишь временно: страсть отступала, самое большее, на несколько дней, чтобы потом опять вернуться, часто с удвоенной силой и иной раз в самый неподходящий момент – на игуменью вдруг наплывала волна, и ей почти физически начинало не хватать воздуха. Один раз это случилось, когда она говорила поучение сестрам после утрени, и она с трудом закончила свое слово, а сестры встревожились: уж не заболела ли матушка? Что она могла им сказать? Да, она была больна, но не тем недугом, который можно вылечить сиропами или примочками… Но это нелепо! Просто нелепее не придумать!.. Если это еще могло иметь какой-то смысл тогда, когда он только собирался жениться, то теперь он женат, у него красавица-супруга и двое любимых детей… Да он уже наверняка и думать забыл про Кассию!
За что?!..
За гордость? Или – «ангел сатаны, да мне пакости делает, да не превозношусь»? Ведь она стала игуменьей почти сразу после принятия пострига, в то время как другие по много лет проходят искус на самых тяжелых и низких послушаниях… Ей казалось, что игуменство не надмевает ее – но, быть может, только казалось, и Господь, предупреждая возможное падение, напомнил ей о том, что она – плоть и кровь, и возноситься ей нечем, даже если б она и вздумала превознестись?.. Что ж, возможно, но… Но это невыносимо!
В таких мыслях она шла в один из первых дней апреля по Средней, в сопровождении Анны направляясь на рынок благовоний: в храме кончался ладан, покупку которого игуменья никому из сестер не доверяла. Когда они проходили по форуму Константина мимо здания Синклита, Анна вдруг остановилась и сказала:
– О! Взгляни-ка, мать, какая красота!
Кассия, старавшаяся смотреть больше себе под ноги, подняла голову и застыла. Перед Синклитом появилась новая статуя – беломраморная, сделанная удивительно искусно и виртуозно раскрашенная, она, казалось, вот-вот оживет. Феофил был изваян верхом на белом коне, в золотистом скарамангии и пурпурной хламиде; конь нетерпеливо приподнял переднюю ногу, готовый устремиться вперед; всадник одной рукой натягивал поводья, а в другой держал скипетр; вид у него был мужественный и решительный.
– Красиво, правда? – спросила Анна, подходя поближе; игуменья машинально последовала за ней. – Очень похож! Наверное, это ваял…
– Анна, ты ли это? Матушка ты моя дорогая! – какая-то женщина внезапно схватила ее за руку.
Это была знакомая Анны, ипатисса, с которой они много общались, когда покойный Михаил служил при дворе. Взглядом испросив у игуменьи разрешение поговорить, Анна отошла с бывшей подругой чуть в сторону, ко входу в портик, а Кассия так и осталась перед статуей императора, точно ее ноги приклеились к мраморной плите. Она и не замечала, что стоявшие у входа в Синклит стражники весьма бесцеремонно разглядывали ее, а высокий монах, как раз в это время вышедший из здания, проследив направление их взглядов, чуть приподнял одну бровь и, несколько мгновений понаблюдав за игуменьей, еле заметно улыбнулся и направился в ее сторону.
– Жалеешь о сделанном выборе, госпожа Кассия? – раздался сбоку голос, показавшийся ей знакомым.
Вздрогнув, она повернулась и замерла: рядом стоял Сергие-Вакхов игумен. Он был всё такой же, только поседел, стал как будто сухощавее и от этого казался еще выше; ей пришлось чуть запрокинуть голову, чтобы взглянуть ему в лицо. Стальные глаза смотрели остро и пристально. Кассия внутренне поежилась и постаралась ответить как можно спокойнее, хотя выступивший на щеках румянец выдавал ее:
– Нет, господин Иоанн, не жалею.
«Что за странное начало разговора! – мелькнула у нее мысль. – Можно подумать, мы – хорошие знакомые и только вчера расстались!»
– Будто? – спросил игумен, глядя на нее чуть насмешливо.
Кассия хотела ответить что-нибудь резкое или даже вовсе не отвечать, но повернуться и уйти… Она посмотрела в ту сторону, куда отошли Анна с подругой и увидела, что там их уже нет. «Куда она делась?!..» А Грамматик сказал:
– Скрыть можно только от того, кто не умеет видеть.
Игуменья снова вздрогнула, опустила взгляд и вдруг поняла, что он прав, что притворяться перед ним бессмысленно, что он, возможно, всё предвидел еще тогда… Но зачем он заговорил с ней теперь?.. И почему она не ощущает к этому нечестиеначальнику и ересиарху никакой враждебности?!..
– Ведь есть разница – жалеть поистине или жалеть, так сказать, в виде искушения, господин Иоанн, – сказала она тихо.
– Не такая уж большая, госпожа Кассия. Когда-нибудь ты это поймешь.
Кассия вскинула на него глаза:
– Господин Иоанн, ты опять… – тут она осеклась, а он улыбнулся.
– Предсказываю тебе нечто? Но ведь мое первое предсказание сбылось, не так ли?
– И что? – она вздернула подбородок. – Это ведь не значит, что я сделала неверный выбор!
– О, нет! Но ты еще не познала себя. Потому что ты еще не испытала такого искушения, которое представляется истиной.
«Что тебе от меня нужно?!» – хотелось ей спросить, но вместо этого она молча окинула его взглядом и насмешливо спросила:
– Что же, если твое второе предсказание сбудется, прикажешь тебе об этом доложить?
– Не сто́ит. Я и так об этом узнаю.
Во взгляде Кассии отразилось удивление.
– Я понимаю, что выражаюсь несколько загадочно, – по губам Грамматика вновь пробежала улыбка.
– Не то слово!.. – почувствовав, что начинает раздражаться, Кассия немного помолчала и внезапно подумала, что, если уж они так странно встретились и вместо того, чтобы отвернуться друг от друга, как от еретиков, любезно беседуют, то почему бы и не спросить его кое о чем. – А вот… скажи, господин Иоанн… Один мой друг как-то выразился, что, поскольку человек – мыслящее создание, то самая большая симпатия или притяжение возникают между умными людьми, так сказать, поверх барьеров… через все «нельзя»… Как ты думаешь, это верно?
– Я в этом уверен. Но что я, если об этом говорит великий Григорий: «между соединенными чем бы то ни было любовь, не знаю почему, поселяется так же, как между связанными кровным родством», а существам словесным как раз свойственно «привлечение сродством по дару слова», – Иоанн пристально посмотрел на девушку. – Мы с тобой отчасти похожи, госпожа Кассия. Ты ведь тоже не любишь покоряться, – он усмехнулся. – Игуменья, не послушница! Это неплохо, но за это приходится платить. Но, пожалуй, нам лучше разойтись, как бы ни приятна была наша беседа. Сюда направляется августейшая, и она вряд ли будет рада увидеть нас перед этой прекрасной статуей, да еще вместе… А что до барьеров, то это вещь очень хлипкая. Прощай, госпожа Кассия!
Он чуть поклонился, пошел к портику и вскоре исчез в толпе. Кассия оглянулась и увидела, что на площадь действительно въехала верхом на лошади императрица, в сопровождении свиты. «Не довольно ли на сегодня… удивительных встреч?» – подумала игуменья. Феодору она не видела со дня выбора невесты Феофилу, и сейчас ей совершенно не хотелось с ней сталкиваться. «Впрочем, вряд ли она меня узнает… Хотя Иоанн ведь узнал… Но почему он сказал, что августа будет не рада? Вот еще притча!.. Да где же Анна?!..» Тут сестра как раз вынырнула из толпы с виноватым видом.
– Наконец-то! – сказала Кассия с облегчением. – Куда ты пропала? Пойдем скорей!
Анна принялась бормотать оправдания, но игуменья не слушала ее. «За это приходится платить». За то, что она не любит покоряться?..
3. Сложности
(Гомер, «Илиада»)
- Смерти не мог избежать и Геракл, из мужей величайший,
- …Так же и я, коль назначена доля мне равная, лягу,
- Где суждено; но сияющей славы я прежде добуду!
В апреле в Константинополь пришло известие о том, что 23 марта Мамун с большим войском выступил из Багдада по направлению к Тарсу и намерен вторгнуться в ромейские пределы. Халиф, как говорили, был обеспокоен тем, что восставшие под предводительством Бабека персы, усмирить которых не получалось уже почти пятнадцать лет, вступили в переговоры с ромеями относительно совместных действий против арабов; очевидно, Мамун решил показать противнику свою силу. Феофилу, в свою очередь, тоже хотелось явить поклонникам Аллаха мощь ромейского оружия, и он стал готовиться к походу. Однако перед тем, как впервые надолго покинуть столицу, император решил короновать соправителем сына, которому в мае должно было исполниться шесть лет.
Феодора испугалась: значит, Феофил может не вернуться и заранее решил позаботиться о наследовании престола? Но, памятуя свой злосчастный разговор с мужем во время восстания Фомы по поводу того, что сражаться «опасно», она не посмела ничего сказать о страшном, а только проговорила:
– Когда же ты хочешь устроить коронацию?
Они стояли вдвоем у окна в спальне августы.
– Думаю, на Пасху, – император взглянул на жену и обнял ее за плечи. – Не бойся. Я вернусь.
У императрицы перехватило дыхание. Феофил в последние месяцы стал к ней как будто более внимателен, чаще общался и даже приходил к ней то с одной, то с другой исторической книгой и зачитывал понравившиеся ему места, однако Феодора, измученная за предыдущие годы его холодностью и насмешливостью, боялась верить, что его отношение к ней начинает меняться. Но этот простой жест и сказанные им два слова так поразили августу, что она, не в силах что-либо сказать, уткнулась носом в плечо мужу и беззвучно заплакала. Он молча гладил ее по голове, а потом, чуть отстранившись, заглянул в ее мокрое лицо и, наклонившись, поцеловал ее. Слезы императрицы тут же высохли. «Неужели счастье еще возможно?» – подумала она.
«Может, я всё-таки еще смогу стать любящим мужем?» – подумал он. После разговора с мачехой он действительно решил попытаться сделать это и даже стал находить в общении с женой приятные стороны: ее суждения о книгах оказывались иной раз весьма интересными, да и вообще у нее обнаружился довольно живой ум. Правда, в Феодоре ощущалась робость и некоторая забитость, но в этом Феофил винил только себя. Вести с ней философские беседы он, впрочем, не пытался: хотя он предполагал когда-нибудь в будущем почитать с ней Платона, но пока не решался на это, опасаясь, что слишком разочаруется и не сможет дальше продолжать опыт «бытия любящим супругом»…
Иоанн Грамматик был лично послан императором сообщить патриарху о грядущей коронации. Антоний всё еще не совсем оправился от болезни легких: она постигла патриарха зимой и протекала так тяжело, что врачи было вовсе отчаялись в его жизни, а когда он всё же выкарабкался, у него началось воспаление уха заодно с сильным насморком. Патриарх всю зиму почти не вставал с постели и не мог толком заниматься церковными делами. Это побудило императора назначить Сергие-Вакхова игумена новым патриаршим синкеллом: по сути, Иоанн должен был руководить всеми делами вместо Антония и блестяще справлялся с этим поручением – впрочем, иного никто и не ожидал.
– Думаю, я уже вполне в силах быть на коронации, – сказал патриарх, когда синкелл доложил ему об августейшем решении. – Да и хватит уже валяться в постели… Все бока отлежал! – он улыбнулся.
– Пора, пора вставать, владыка! – кивнул Грамматик. – А то я уже подустал от беготни между монастырем, дворцом и патриархией… Даже нет времени на химические опыты, вот дожил!
– Ну, ты везде найдешь место для опытов, отче, не таких, так других, – с улыбкой ответил Антоний. – Только вот поберег бы ты себя всё же! А то, говорят, ты постишься слишком сурово, твои монахи даже стали опасаться за твое здоровье…
Эконом Сергие-Вакхова монастыря, действительно, пожаловался патриарху, что их игумен «совсем запостился, как бы он желудок себе не испортил такими подвигами». Патриарх и сам давно примечал, что Грамматик за императорскими или патриаршими обедами, в которых ему нередко приходилось участвовать, стал есть меньше и даже не притрагивается к своему любимому сыру, хотя когда-то полушутя признался Антонию, что хороший сыр – его «самая большая слабость»…
– Я вкусил слишком много нектара, святейший, – сказал синкелл. – Теперь приходится поститься, чтобы не вышло расстройства внутренностей.
Иоанн посмотрел в глаза патриарху, и тот понял.
– Ну… Да, но смотри все же… Епитимии ведь для того, чтобы врачевать, а не чтобы убивать… Голова-то не будет плохо работать?
– Не будет. Чтобы голова не болела, нужно есть сладкое. Мёд. Я, правда, его не очень люблю… что тоже, впрочем, кстати.
Коронация соправителем маленького Константина состоялась 17 апреля, в саму пасхальную службу, и на «Золотых бегах», устроенных, по обычаю, после воскресенья Антипасхи, димы приветствовали пением уже двух императоров. Отпраздновав в мае день рождения сына, Феофил спустя несколько дней ушел в военный поход.
Мамун, выступив из Багдада, некоторое время провел в Текрите, где праздновал свадьбу дочери, а затем отправился в Тарс, откуда, соединившись со своим сыном Аббасом, в середине июля пошел к ромейским пределам. Сыну он почти сразу приказал двигаться на северо-восток, к Малатии, чтобы воспрепятствовать возможным переговорам персов с ромеями, а сам, перейдя через Тавр по Киликийским Вратам, вторгся в Каппадокию. Военные действия обернулись для ромеев крайне неудачно. Еще до их подхода арабы, совершив быстрый переход, взяли и разграбили одну из крепостей, захватив большое подземное хранилище с зерном; впрочем, население крепости Мамун пощадил и оставил в живых. В июле он подошел к крепости Герон, и там произошло сражение с ромейским войском. На военном совете у императора архонты решили, что хватит и части войска, чтобы сразиться с врагами, и отговорили Феофила от личного участия в сражении. Противники сошлись ранним утром, причем арабы вступили в бой тоже лишь частично, и поначалу никто не имел решающего перевеса. Но около полудня ромеи дрогнули под тучами стрел – в агарянском войске служило много наемных турок, прекрасных стрелков из лука, – и стали отступать, а затем и вовсе обратились в бегство, потеряв многих убитыми. Судя по сведениям, выпытанным из пленных, оставшееся арабское войско численно превосходило ромейское, а один из языков сообщил, что часть арабов прячется в местных подземных пещерах. Учитывая, что дух войска упал после бывшего поражения, Феофил не решился вновь вступать в бой и дал приказ к отступлению. Герон пал 21 июля; халиф и тут даровал пощаду жителям по их усиленной просьбе, но крепостные стены сравнял с землей. Арабы взяли еще две каппадокийские крепости, после чего Мамун с богатой добычей возвратился в свои земли.
Феофил подъезжал к Константинополю в чрезвычайно скверном расположении духа, никто из архонтов не осмеливался заговорить с ним. Синклитики, по обычаю, встретили императора с войском у Золотых ворот. Феофил слушал привычные славословия и почти с гневом думал о том, что все эти прошения и пожелания – пустое сотрясение воздуха. Феодора попыталась его утешить, но только вызвала у него еще большее раздражение. Она была так рада его возвращению живым и здоровым, что поражение от арабов казалось ей мелочью, но императору оно, разумеется, представлялось в совсем ином свете. И Феофил в очередной раз подумал, что, будь на месте Феодоры Кассия, она бы наверняка сумела утешить его не так «бездарно» и нашла бы нужные слова…
Ко всему прочему, по возвращении его ждало письмо от Константина, сына императора Льва, тоже не доставившее василевсу радости. Феофил колебался, прежде чем написать своему прежнему другу. Хотя при жизни отца он часто мечтал о том, что, став единоличным императором, немедленно постарается вернуть друзей детства в столицу, но после смерти Михаила, задумавшись об этом всерьез, вдруг понял, что мечтал о возвращении людей, которых больше не существовало. В самом деле, что представляли собой теперь его бывшие друзья? – Феофил совершенно не мог этого сказать. Когда-то это были веселые мальчишки, любившие пошутить, поиграть «в цитаты», декламировать эллинских поэтов или Григория Богослова; однако уже девять лет, как они живут по-монашески, пусть даже, как предполагал император, и не слишком сурово подвизаясь – он знал, что на острове Халки, куда их сослали, они жили в монастыре с достаточными удобствами, – но всё-таки ведь это совсем другая жизнь… И – евнухи!.. Феофил с детства недолюбливал евнухов, и в свое время известие о насильственном оскоплении его друзей было для него по внутреннему чувству особенно оскорбительным… Ему было любопытно взглянуть, какими же стали его прежние друзья, но в глубине души он боялся этой встречи. Всё-таки из детства, от их дружбы, он сохранил самые приятные воспоминания – не затуманятся ли они в результате нового общения столько лет спустя, не обернутся ли разочарованием?.. Но всё же перед отбытием в поход император написал Константину: спрашивал, как живется его прежним друзьям в монашестве, и приглашал их перебраться в Город, выбрав самим монастырь для жительства. Феофил думал, что друзья могли бы поселиться в Сергие-Вакховой обители, о чем намекнул и в письме.
Но ответ оказался не таким, как ожидал император. Константин благодарил его за приглашение, но писал, что они уже привыкли за прошедшие годы к уединенной жизни и возвращаться в столичную суету им не хочется. «Передавай от нас приветствие Иоанну, – писал бывший соправитель, – мы благодарны ему за полученные знания. Но я должен сообщить, государь, что, даже вернувшись в Город, мы никак не смогли бы поселиться в обители у Иоанна, поскольку мы давно отреклись от иконоборчества и почитаем святые образа». Он рассказал и о чуде, в результате которого всё бывшее семейство Льва Армянина – и Феодосия, и три оставшихся в живых сына – обратилось к иконопочитанию. Это случилось на второй год их ссылки. Василий, онемевший в результате оскопления, не мог смириться с этим и не переставал молить Бога о возвращении голоса. В обители, где они жили, иконы не снимали, а только перевесили повыше, и в монастырском храме была одна красивая икона святого Григория Богослова. Василий часто взирал на нее и, наконец, однажды, по какому-то наитию, стал молить святителя вернуть ему голос. Приближалось Крещение Господне, и вот, в самый день праздника на утрени, когда подошло время чтения слова святого Григория «На Святые Светы явлений Господних», Василий стоял, по обычаю, под иконой святителя и вдруг услышал тихий, но явственно исходивший от образа голос:
– Возьми тетрадь и читай!
Юноша вздрогнул, взглянул на икону, потом на Константина, который уже шел на обычное место, чтобы читать слово, – и вперед него бросился к амвону. Брат изумленно взглянул на него, а Василий схватил тетрадку со словом святителя и начал читать звонким и ясным голосом:
– «Опять Иисус мой, и опять таинство – не таинство обманчивое и неблагообразное, не таинство языческого заблуждения и пьянства, как называю уважаемые язычниками таинства и как, думаю, назовет их всякий здравомыслящий, – но таинство возвышенное и божественное, сообщающее нам горнюю светлость! Ибо святой день Светов, которого мы достигли и который сподобились ныне праздновать, имеет началом крещение моего Христа, “Света истинного, просвещающего всякого человека, грядущего в мир”…»
Все присутствовавшие были поражены чудом, и молва о нем скоро вышла за пределы острова. Василий и оба его брата обратились к почитанию икон, а Феодосия, узнав об этом, чрезвычайно обрадовалась и открыла им, что сама простилась с иконоборчеством сразу после убиения Льва, но боялась признаться в этом сыновьям, а только молила Бога, чтобы Он вразумил их…
«Прости, мой августейший друг! – писал Константин в заключение своего ответа Феофилу. – Я, вероятно, огорчу тебя, но должен признаться, что больше не верю ни в истину иконоборчества, ни в его долговременный успех. Это дело уйдет вместе с теми, кто его поддерживал. Простой народ никогда не примет “чистого поклонения духом”, любезного нашему бывшему учителю, а люди знатные, как ты сам понимаешь, держат нос по ветру и угождают власть имущим. Как видишь, уже твой отец отказался от жесткой политики моего злосчастного родителя, да и ты не спешишь возвращаться к ней. Твои наследники тоже вряд ли захотят повторять этот опыт, тем более, что он столь печально окончился. Я, разумеется, ничего не стану тебе навязывать и ни в чем не буду убеждать или разубеждать. Ты умен и, думаю, сам во всем разберешься. Я слышал о том, как ты женился, и даже немного завидовал. Надеюсь, ты обрел свое счастье, и “небесная Афродита” одарила тебя той любовью, о которой ты мечтал. Желаю тебе Божьего содействия и многих лет царствования, а нас, смиренных, оставь здесь жить тихо и молить Бога о твоей державе».
Когда Константин перед отправкой зачитал это письмо братьям и матери, Феодосия печально покачала головой:
– Мне бы хотелось надеяться, что государь разберется… Но ведь там еще Иоанн!
– Да, он всегда имел на Феофила большое влияние, – задумчиво сказал Василий. – Но ведь уже прошло столько времени… Мы не знаем, какие у них сейчас отношения…
– Вряд ли Феофил позволит собой вертеть кому бы то ни было, хотя бы и любимому учителю! – сказал Константин. – Не таков характер!
– Да, но… – Феодосия нахмурилась. – Иоанн очень умен… Он умеет влиять на других! Вот ваш отец – тоже ведь был не слабохарактерный, но Иоанн сумел так повлиять на него, так убедить, что он и слушать ничего не хотел даже не о возврате к православию, а просто о смягчении гонений на исповедников! – она чуть помолчала. – Гордый губит всё, к чему прикасается!
– Не слишком ли ты сурова к Иоанну? – усмехнулся Григорий. – Он, конечно, горд, но кого он «погубил», если не считать нашего отца? Да и отец… Всё-таки, думаю, у него были и свои соображения так себя вести!..
– Не знаю! – вздохнула Феодосия. – Только от Иоанна у меня иногда возникало такое чувство, что люди перед ним – просто как стеклянные сосуды: если какой-нибудь возьмет в руку, то дальше – как повезет: захочет разбить – разобьет, посчастливится – оставит… Но разбить ему ничего не стоит, и если он захочет разбить, то ничто не избавит!
– По-моему, ты сгущаешь краски, мама, – сказал Василий. – Много ли ты общалась с Иоанном? Мы провели с ним гораздо больше времени, но я что-то не вынес такого впечатления от него, как ты.
– Мама – женщина, а Иоанн женщин недолюбливал, – улыбнулся Константин. – Думаю, всё дело в этом!
– Может, ты и прав, – сказала Феодосия. – Но всё равно за государя надо молиться, чтобы Господь вразумил его!
– А за Иоанна не надо? – усмехнулся Василий.
– Надо, но… – Феодосия помолчала и сказала совсем тихо: – Мне почему-то не верится, что он может изменить свои взгляды…
– Ну, это не наше дело! – решительно сказал Константин. – Наше дело молиться, а остальное пусть будет, как рассудит Бог!
Письмо старого друга вызвало у Феофила целый вихрь разнообразных мыслей – об иконопочитании и иконоборчестве, о церковной политике, о чудесах и исцелениях, наконец, о том даре «Афродиты небесной», который не содействовал его счастью, а напротив, почти отнял и самую надежду на него… «Был бы я таким любителем опытов, как Иоанн, – подумалось вдруг императору, – я бы показал это письмо Феодоре и посмотрел, какое впечатление оно произвело бы на нее… Но я этого делать не буду, – он усмехнулся. – Убеждения!.. Какие, например, убеждения у Феодоры? Ей хочется любви… вот и все ее убеждения!»
После первой вспышки раздражения на утешительные речи жены, Феофил извинился перед ней и по-прежнему старался вести себя, как любящий муж, но всё же ему слишком часто вспоминались те логические рассуждения, которые он развивал перед Феодорой ранним утром в спальне в ответ на вопрос, любит ли он ее. Всё-таки главное было в том, что должна быть дружба, без дружбы нет истинной любви… А дружба с ней… Нет, он не мог дружить с ней по-настоящему! Он мог только быть помягче… поснисходительнее… общительнее… «Но это не любовь, а аскетическое упражнение под названием “хороший муж”! – думал он. – Разве это честно по отношению к ней? Сейчас она еще не привыкла к тому, что я стал относиться к ней иначе… А потом привыкнет и захочет большего – а большего я дать не смогу! Не лучше ли было и не начинать?..»
Когда они с Иоанном в очередной раз сошлись побеседовать в «школьной», Грамматик заметил, что император мрачен. После нескольких взглядов, брошенных на него игуменом, Феофил сказал чуть насмешливо:
– Да, отче, некоторые сложности в жизни. Я ведь человек семейный, а за семейными людьми сложности ходят по пятам… Это вам, анахоретам, хорошо! А глядя на тебя, – продолжал он с легким сарказмом, – вообще можно решить, что монахи – самые свободные люди на свете, только не в отношении свободы от страстей и житейских попечений, а в отношении свободы делать, что хочешь, ничего не опасаясь.
– Возможно, – усмехнулся Иоанн. – Но я неподходящий пример для суждения о монахах. Чтобы иметь, так сказать, большие права в жизни, надо прежде потратить много сил и иной раз дорого заплатить. Далеко не все люди хотят прилагать много усилий и платить дорого, что же удивительного, что они всю жизнь так или иначе находятся в рабстве.
– Вероятно, ты прав, – сказал император, помолчав. – Но есть еще такая вещь как положение в обществе. Человек, вольно или невольно оказавшийся на определенной ступени лестницы, уже далеко не всегда может себе позволить свободно действовать. В юности я мечтал о «философской» жизни: науки, единомудренные друзья, книги, прогулки верхом, беседы… Что может быть лучше! Но случилось так, что мне пришлось стать императором. По своей воле я никогда не пошел бы под иго этого «блестящего рабства»!
Феофил протянул руку, снял с полки обломок горного хрусталя и стал рассматривать, поворачивая в лучах солнца, лившихся из высокого окна.
– Семейная жизнь тоже мне представлялась далеко не такой, какой она оказалась в действительности… Должно быть, я просто неверно думал о ней, а на самом деле она другой и не бывает… Но вот какая странность! – продолжал он после небольшого молчания. – Вроде бы заповеди одни для всех, в частности, первая и наибольшая. И если ты стремишься действительно возлюбить Бога всей душой и сердцем, то вряд ли станешь расточать себя направо и налево ради праздного общения с людьми. Но считается, что, например, монах не обязан поддерживать дружеские связи… Точнее, не обязан непременно уделять то или иное время людям, с которыми ему, может, и общаться-то не о чем… и скучно. А у семейного совсем не то. Хотя бы ты и любил своих родных по заповеди, и всяческие благодеяния им оказывал, но только не поболтай с ними о всяких пустяках, – море обид, сыплются попреки, иной раз самые нелепые… Вот, например… весьма странен упрек женщины в том, что ты не хочешь с ней дружить!
– Этот упрек прозвучал бы так же странно и из уст мужчины. Дружба по заказу вряд ли возможна.
– Вот именно. Дружба по заказу точно так же невозможна, как и любовь по заказу. Но с женщиной, – продолжал император с усмешкой, – нельзя дружить. С женщиной можно только спать.
– Чаще всего, но не всегда.
– Когда-то ты, кажется, считал по-другому.
– Да, но я ошибался.
Феофил взглянул на синкелла и отвернулся к окну, продолжая поворачивать в руках кусок хрусталя. Наконец, он положил его обратно на полку и усмехнулся.
– А я вот, напротив, раньше думал, как ты сейчас, а теперь начинаю склоняться к противоположному мнению.
– Я бы уточнил, государь: тебе хочется склониться к противоположному мнению.
Император не ответил. «А ведь дай им пожить друг с другом, – думал Иоанн, глядя на него, – так еще неизвестно, как бы они ужились – два таких характера…»
А Феофил смотрел в окно и думал: «Мне никогда и в голову бы не пришло, что мать сумеет понять Иоанна настолько, чтобы он счел ее своим другом! И однако же!.. Опять загадка, как почти всё у него!.. Впрочем, похоже, это для него самого было неожиданностью… “Любовь тоже может быть опытом”… Понятно, почему он не захотел сдерживаться! Кто бы захотел на его месте? И кто бы смог?.. Может, какой-нибудь подвижник… Но уж точно не я! Интересно, если задать ему прямой вопрос, что мне делать, – что он ответит? Что можно пойти на маневр?.. Идея, в общем, не глупа! Может, окажется так же, как с друзьями: когда-то дружили, а время прошло, вроде и незачем, и оснований нет… Я всё еще люблю ту девушку, но с чего я взял, что она осталась такой же до сих пор?.. А если получится наоборот, и я еще больше уверюсь, что она – моя “половина”?..»
– В жизни слишком много сложностей, – сказал Феофил. – Я устал.
– Что ж, августейший, – ответил игумен, – есть вещи несложные, но достаточно захватывающие, можно в виде отдыха заняться ими.
– Например?
– Например, спать с женщиной. Если дружить сложно.
– Язва! – рассмеялся император. – Но ты дал дельный совет. Я сегодня же ему последую.
Прошли осень и зима, и Феофил решил отомстить агарянам за летнее поражение. Совершив быстрый бросок до Каппадокии, ромейское войско разделилось: меньшая часть отправилась к Харсиану, а остальные во главе с василевсом перешли через Тавр. Появление ромеев у Тарса стало для агарян полной неожиданностью. Наличные войска не смогли создать должной обороны и были разбиты, ромеи взяли Тарс, а затем Массису, избив около двух тысяч арабов – почти всё городское население, – а оставшихся увели в плен. У Харсиана дела тоже пошли очень удачно: соединившись с местным стратигом и войсками, часть императорской армии напала на агарян, и ромеи не только разбили противника, отвоевав крепость, но и захватили множество пленных. Отправленные в столицу гонцы сообщили о победе, и в Городе стали готовиться к торжественной встрече василевса.
Триумфальный въезд императора в Константинополь отличался исключительным великолепием. Город, по выражению эпарха, был украшен, «как покой для новобрачных»: улицы от Золотых ворот до Медных дверей Священного дворца пестрели великолепными шелками, серебряными светильниками, розами всех оттенков. Феодора была в восторге, Феофил и сам под конец был несколько опьянен церемониями и славословиями. На другой день после триумфального въезда в Город во время торжественных приемов утром и вечером многие придворные получили повышения в чине, днем проводились бега на Ипподроме, в перерывах между заездами перед народом проводили пленных агарян и показывали захваченное оружие и другую добычу, а городским властям и гражданам раздали множество подарков.
– «Прекрасно было, по-моему, торжественное шествие местных жителей», – сказал императору синкелл через несколько дней, когда торжества по случаю победы над арабами закончились, и константинопольцы вернулись к обычной жизни, – Думаю, августейший, что Царственный Город давно не видел таких пышных торжеств и таких затрат на них!
– Что ж, – улыбнулся Феофил, – «удовольствие делает деятельность совершенной», так почему бы не доставить его себе и подданным? К тому же мы недолговечны. Разумеется, надо заботиться о том, чтобы стяжать добродетели… А если не получится, тогда, думаю, хотя бы славу, – он усмехнулся и, чуть помолчав, добавил: – Бог судил мне царствовать, а императору, как мне кажется, более других подобает быть великолепным, «великолепный же подобен знатоку: он способен разуметь, что подобает, и большие средства потратить пристойно».
– Да, конечно, я помню: «траты великолепного велики и подобающи, таковы и дела его».
– И «следовательно, дело должно стоить траты, а трата – дела или даже быть чрезмерной»… Если уж я не могу во всем следовать философам, то в том, в чем могу, надо стараться делать всё, как подобает, не так ли?
…Маленького Константина всегда влекла к себе вода. Едва научившись ходить, императорский сын во время прогулок тащил мать и нянек к пруду или на террасу Вуколеона, откуда мог подолгу смотреть на морскую синь и следить за медленно бороздящими ее судами. Он приходил в восторг, наблюдая за поднявшимися волнами и слушая тревожные крики чаек, его любимыми игрушками были парусные лодочки, маленькие дромоны и деревянные раскрашенные моряки. Он воображал себя то Ясоном или Одиссеем, заставляя сестру играть Медею или Пенелопу, то друнгарием ромейского флота, командуя игрушечными армадами военных кораблей и топя вражеские суда. Начав учиться, он немедленно забросал Иоанна вопросами о мореплавании, так что Грамматику даже пришлось заглянуть кое в какие книжки, которые он читал в юности, но успел подзабыть. Однажды Константин едва не свалился в воду, наблюдая за рыбками, плававшими в одной из открытых цистерн, вырытых в дворцовых садах, после чего Феофил строго наказал не оставлять его без присмотра на прогулках и на всякий случай научил сына плавать. Но время шло, и надзор всё больше тяготил мальчика: ведь он «уже совсем большой, семь лет, уже и исповедаться теперь надо, как взрослому!» – а без воспитателей или матери по-прежнему никуда не отпускают, «так нечестно!» Да и что такого страшного может случиться с ним в саду или парке, если тут везде охрана?..
Тот день был жарким. Императрице нездоровилось, и она лежала у себя в спальне. Дети с утра немного поиграли в саду, потом Константин занимался с синкеллом, а когда вернулся и вместо него в «школьную» отправились Мария с Еленой, мальчик решительно заявил, что хочет гулять. Евнух, сопровождавший Константина на прогулке, тяжело дыша, то и дело вытирал платком лоб. Мальчик завел его в тот угол сада, откуда было недалеко до его любимой большой цистерны с золотыми рыбками и принялся сосредоточенно изучать окружающие цветы и травы, внимательно рассматривая чуть ли не каждый листок и лепесток. Евнух опустился тут же на скамейку и вскоре начал подремывать, изредка, впрочем, вскидывая голову и ища глазами маленького императора. Но Константин, казалось, так увлекся исследованием растений, что и не думал куда-то уходить, и надзиратель, наконец, благополучно уронил голову на грудь и захрапел. Хитрость удалась. Чуть не подскочив от радости, Константин поднял с земли сухой сучок и бросил к ногам воспитателя; тот не проснулся, и мальчик, радостно улыбнувшись, пошел к цистерне, сначала осторожно, на цыпочках, а потом, удалившись от своего надзирателя, припустил бегом. Вокруг цистерны росли высокие платаны, создававшие довольно густую тень. Укрывшись за одним из толстых шершавых стволов, мальчик смотрел, как слуги набирали в цистерне воду, перекидываясь шутками, смысл которых ускользал от Константина. Наконец, нагрузив сосудами с водой телегу, запряженную двумя мулами, они отправились в обратный путь. Подождав, пока их голоса смолкнут вдалеке, маленький император покинул свой наблюдательный пункт и предстал удивленному взору стражника, сидевшего на лавке у цистерны. Константин тут же сообщил, что его «мама сама отпустила погулять одного», потому что он «уже большой и сам всё может», стал болтать про цветы, про птиц, потом перешел на рыб и, как бы между прочим, сказал, что очень хотел бы «вблизи посмотреть на рыбок, они так красиво плавают!» Умилившийся страж сказал, что, разумеется, можно «сойти по лесенке поближе к водичке и взглянуть, только осторожно». Константин пламенно пообещал, что будет «крепко держаться за перила» и к самой воде сходить не будет, а посмотрит на рыбок «так только, с верха лесенки». Мальчик очень любил этих рыбок и как-то раз даже спросил у матери, есть ли «в раю у Бога такие рыбки». Императрица ответила, что, конечно же, есть, у Бога всё есть, и рыбки, «много-много золотых рыбок, еще гораздо красивее этих»…
Лестница была каменной, неширокой, с деревянными перилами и оканчивалась маленькой площадкой у воды. Константин, немного спустившись и просунув голову в проем между точеными столбиками, принялся смотреть на рыбок – рыжие, большие и маленькие, они словно светились в прозрачной воде, как веселые огоньки. Мальчик с досадой вспомнил, что забыл взять с собой хлеба покормить их. «Ну, ладно, в следующий раз!» – подумал он. Но всё-таки с верха лестницы смотреть было не очень удобно, хотелось спуститься к самой воде, и Константин размышлял, сильно ли перепугается стражник, если сойти к воде, как вдруг услышал вдалеке голос евнуха, звавший его.
«Сейчас он придет сюда, а я так ничего и не успел!» – подумал мальчик и стал быстро спускаться. Вдруг на предпоследней ступеньке нога его поскользнулась на мокром камне, и Константин потерял равновесие, попытался ухватиться за перила, но не успел. Он еще услышал крик стражника, а в следующий миг ощутил глухой удар затылком, сверкнувший в его голове словно сотней золотых рыбок, прыснувших во все стороны ворохом искр, и больше уже не ощущал ничего – ни как он, перевернувшись, упал в воду и медленно погрузился на дно; ни как стражник с подбежавшим евнухом вытащили его и, положив на траву, пытались привести в чувство; не слышал ни их криков, ни воплей матери, которая, узнав о несчастье, прибежала из дворца в одной тунике, без мафория и плаща, долго трясла сына, целовала его, звала, а когда поняла, что всё бесполезно, испустила страшный крик и потеряла сознание; не видел, как подошел отец, мертвенно-бледный и словно постаревший, опустился на колени перед телом сына и несколько мгновений смотрел ему в лицо, а потом, взяв на руки, медленно поднялся и, ни слова не говоря и ни на кого не глядя, понес мальчика во дворец, – маленький василевс уплыл туда, где «много-много золотых рыбок»…
4. Ромейский ум и арабская гордость
Выше искушений становится тот, кто обучается не отклонять их от себя, но переносить всё, встречающееся с ним… Лучшее же врачевство от того, что приходит не от нас, – то любомудрие, которое в нас.
(Св. Исидор Пелусиот)
Императорская семья перенесла потерю чрезвычайно тяжело. Феофил продолжал заниматься обычными делами, но почти ни с кем не разговаривал, на лбу у него залегла морщина. Феодора после похорон сына целый месяц была больна и не выходила из своих покоев. Мария впала в горестное недоумение: она не могла понять, как это брат, еще вот только что бывший таким живым и веселым, теперь лежал неподвижный и холодный и больше никогда не встанет. Елена, уже пережившая такое после смерти матери, утешала племянницу, говоря, что Константин «пошел к Богу, и ему там хорошо, лучше, чем тут, а мы тоже к нему когда-нибудь попадем, только надо немного подождать»…
Между тем, через две недели после похорон Константина с арабской границы пришла весть, что Мамун снова собирается в поход на ромеев. Феофил, совершенно не расположенный в этот момент к каким бы то ни было военным действиям, отправил к в Адану посла, предлагая возвратить пятьсот пленных арабов в обмен на прекращение военных действий в этом году, тем более что войска нужны были на востоке: арабы еще в августе прошлого года взяли и сожгли Минео и одновременно осадили Палермо, и осада длилась до сих пор… Но Мамун не удостоил посла ответом и двинулся к Каппадокии. Его целью была Ираклия, однажды уже взятая Харуном ал-Рашидом, но затем вновь отвоеванная византийцами. Когда арабы подошли к городу, жители вышли им навстречу, прося мира в обмен на покорность. После этого агарянское войско разделилось: Мамун остался в метамирской области, где взял несколько ромейских крепостей, пощадив их жителей, один из военачальников халифа захватил много пленных в Тиане, сын Мамуна взял еще три крепости и столкнулся с ромейским войском под предводительством самого императора. Сражение окончилось в пользу агарян, и Феофил снова был вынужден отступить. Арабы вернулись в свои пределы в начале осени с большой добычей.
Возвратившись в Константинополь, император получил с Сицилии весть о взятии агарянами Палермо. Это означало, что враги еще больше закрепятся на острове. Посоветовавшись с Синклитом, Феофил решил назначить стратигом на Сицилию Алексея Муселе, из рода Кринитов. Несмотря на то, что этому молодому человеку было всего двадцать лет, он уже отличился в сражениях – император сам мог видеть его в бою во время похода на Тарс и Массису, – был мужественен и находчив. Феофил рассудил, что от Алексея, возможно, будет больше толку, нежели от более старших годами, но малоспособных в бою деятелей, из-за которых в последние годы ромеи теряли в Италии всё новые области. Синклитики одобрили выбор василевса, молодой армянин был возведен в чин патрикия и через несколько дней отправился к новому месту службы. Император, между тем, вызвал к себе синкелла и сказал, что решил послать его к Мамуну для переговоров:
– Если у кого и получится его убедить, так это у тебя… А если и не получится, то, по крайней мере, ты должен сделать другое важное дело. Надо возвратить Мануила.
Император хотел вернуть в Империю сбежавшего при его отце к арабам дядю Феодоры, весьма сведущего в военном деле. Хорошие полководцы были теперь нужны, как никогда, а мир с агарянами на востоке был бы весьма кстати, чтобы развязать ромеям руки для более широких действий на Сицилии.
– Что ж, – сказал Иоанн, – на старости лет погляжу, как живут агаряне!
– Не прибедняйся, отче, – ответил Феофил. – Какие твои годы! Ты, может, еще нас всех переживешь… По крайней мере, при твоем образе жизни имеешь все возможности к этому: выдержка железная, да и волноваться особо не из-за чего, – он печально улыбнулся и, помолчав, с горечью добавил: – А я вот иногда думаю, что «лучше бы я не родился или безбрачен погибнул»!
– Уверен, что большинство твоих подданных, государь, считает иначе, – возразил Грамматик.
– Какой в том прок? Я не настолько тщеславен, чтобы этим утешаться!
– Тем не менее, тебе это приятно, августейший. Отцы говорили, что «если человек не положит в сердце своем, что в мире нет никого, кроме него одного и Бога, то не найдет спокойствия». Поскольку мы этого не достигаем, то должны терпеть скорби. Но если мы и получаем раны, это тоже не повод унывать. Как сказал Лествичник, «воина, получившего во время сражения жестокие раны на лице, царь не только не повелевает отлучать от войска, но, напротив, наградой возбуждает еще к большей ревности».
– Я не вижу награды! Грешник «получает благое в жизни своей» в виде всяких греховных наслаждений. Праведник – в виде божественных озарений и подобного. У меня, конечно, немало возможностей для наслаждений, но наслаждаться так, чтобы забыть о горестях, я не могу… да и жизнь, как видишь, не дает! А озарения… – император усмехнулся. – Куда мне до них!..
– Сначала «разожгу их, как разжигается серебро, и испытаю их, как испытывается золото», – тихо сказал игумен. – А потом уже «он призовет имя Мое, и Я услышу его».
– Боюсь, это если и будет, то лишь на том свете!
– Не обязательно. Возможно, просто еще время не пришло. Всё, что случается с нами, происходит для того, чтобы мы поняли нечто. «Умные уразумеют», как сказал Даниил-пророк. Потому, думаю, и эллинские мудрецы говорили, что один день умного человека превосходит целый век глупца. Потому же он и прекраснее, хотя бы и был наполнен скорбями. Я уверен, что большинство так называемых счастливых людей, будь они способны понять, в чем состоит истинная прекрасность жизни, немедленно умерли бы от зависти к тебе, государь, – и, разумеется, отнюдь не по причине твоего царственного положения или богатства.
В сущности, Грамматик не сказал ничего нового для императора, Феофил и сам мог «уговаривать» себя такими же речами, – но, странным образом, слова Иоанна подействовали на его душу подобно бальзаму, и он вдруг совершенно успокоился, даже почти развеселился. Тяжесть, после гибели сына угнетавшая его невыносимо, отступила столь неожиданно, что император взглянул на синкелла с некоторым удивлением. Игумен чуть заметно улыбнулся и сказал:
– «Божественное прекрасно, мудро, доблестно и прочее; этим вскармливаются и взращиваются крылья души, а от всего противоположного, от безобразного, дурного, она чахнет и гибнет». Малодушие безобразно, августейший, не надо допускать его в себя. «Всё могу в укрепляющем меня Христе». А чего не можем сейчас, сможем со временем, если не будем ломать сами себе крылья души.
Спустя неделю синкелл, в сопровождении спафария, секретаря, переводчика и четырех слуг, отбыл в Адану, где после похода остановился Мамун, везя письмо императора к халифу и подарки. Ехали быстро, нигде не задерживаясь. Киликийские Врата впечатлили Грамматика, никогда еще не видевшего вблизи гор.
– Красиво здесь! – воскликнул он, глядя на возвышавшиеся справа и слева горные вершины, словно нарисованные на фоне небесной синевы.
Спафарий Филипп покосился на игумена и подумал: «Оказывается, у него бывает поэтическое настроение! Гм…»
В Адане их разместили в доме для послов рядом с дворцом халифа. Хаджиб лично позаботился о том, чтобы их поселили со всеми удобствами и хорошо накормили, а вечером зашел узнать, всем ли они довольны и завел с Грамматиком разговор, как-то незаметно перешедший на философские предметы и науки. Хаджиб был восхищен познаниями синкелла и тем, как он вел беседу, и высказал предположение, что на родине Иоанн, должно быть, «один из великих учителей». Игумен лишь улыбнулся, а Филипп, вступив в разговор, сказал, что Иоанн, действительно, один из самых ученых людей в столице, но есть и другие подобные ему – например, в Константинополе преподает в училище, открытом на средства императора, господин Лев, великий знаток математики, астрономии, поэтики и философии. Хаджиб заинтересовался и спросил, уж не тот ли это Лев, про которого рассказывал один пленный грек, посланный халифом с письмом к этому ученому мужу, но так и не вернувшийся. Грамматик подтвердил, что это именно он, что письмо халифа он получил, но покидать отечество не захотел, тем более, что для него открылись большие возможности для преподавания в Константинополе. Хаджиб покачал головой и сказал, что «повелитель правоверных» сильно расстроен тем, что господин Лев не прибыл сюда, и разгневан на посланного грека. Филипп осторожно поинтересовался, каково вообще настроение халифа. Хаджиб ответил, что Мамун не в духе, поскольку пришли вести о беспорядках в Египте. Когда араб ушел, Иоанн сказал:
– Похоже, мы прибыли не в самый удачный момент. Что ж, посмотрим… Возможно, нам всё же повезет.
Но им не повезло. На другой день халиф принял их во дворце со всей возможной пышностью, но разговор вышел кратким. Взглянув на надписание письма ромейского императора, Мамун сдвинул брови и сурово заявил:
– Клянусь Аллахом, я не буду читать письмо, которое ваш царь начинает со своего имени! – и возвратил послание Грамматику, не прочтя ни строчки.
Разгневанный Филипп после возвращения из дворца разразился всевозможными ругательствами в адрес «нечестивых варваров» и даже с пафосом процитировал Гомера, заменив имя:
– «Царь пожиратель народа! Зане́ над презренными царь ты, – Или, Мамун, ты нанес бы обиду, последнюю в жизни!»
Секретарь подавленно молчал. Переводчик, уже не впервые оказавшийся в составе посольства к агарянам, отнесся к происшедшему философски, сказал, что «и не такое бывало», и посоветовал спафарию не воздевать руки к небу в праведном гневе, а лучше подумать, что теперь делать. Не менее философски воспринял случившееся синкелл.
– Господин Филипп, не надо так яриться, – сказал он. – Вспомни, что мы находимся на варварской земле и среди варваров, но варваров, которые стремятся показать, что они не хуже нас. Такие люди, находясь в положении сильного, часто бывают надменны и грубы, в этом нет ровно ничего удивительного. Если уж ты изволил процитировать поэта, то прими из него и это: «Гнев оскорбленного сердца в груди укрощаем, по ну́жде». А нужда действительно настоит. Поэтому я думаю, тебе лучше как можно скорее отправиться к государю и привезти новое письмо, составленное так, чтобы халиф не отказался его прочесть.
После обеда спафарий в сопровождении секретаря и двух слуг отбыл в Византий, а Грамматик с переводчиком отправились гулять по Адане. Она стояла на реке Сайхан, достаточно глубокой, чтобы суда могли с моря подниматься до самого города, и потому тут пересекалось множество торговых путей. Здешние рынки в целом походили на константинопольские, правда, удивляло чрезвычайное обилие разнообразнейших ковров. Ветер дул со стороны реки, наполняя кварталы запахом свежей рыбы. Тут же на улицах ее жарили и продавали – горячую, с хрустящими краями, посыпанную пряностями и завернутую в листья салата или тонкие лепешки из теста. Переводчик, сглотнув слюну, с некоторой робостью сказал синкеллу, что «скушал бы рыбки»; Иоанн улыбнулся и тут же купил рыбы ему и себе. Когда они вернулись в свое жилище, их встретил ужин, поражавший обилием замысловатых и очень вкусных сладких блюд. Наутро, чтобы скоротать время, Иоанн принялся изучать с переводчиком арабский язык; отдельные слова и выражения он уже узнал по дороге из Константинополя, но ему хотелось большего. Переводчик как раз учил его, как правильно произносить очень трудный гортанный звук, когда пришел посланец из дворца и сказал, что «повелитель верующих» желает побеседовать с ромейским «сахибом» и приглашает Иоанна на прием.
На этот раз Мамун принял их почти без церемоний, возлежа на сарире, на террасе в небольшой зале, выходившей в прекрасный сад с фонтанами, прудом и множеством цветов. При халифе были только визир, хаджиб, несколько стражников и с десяток слуг-евнухов – для приема послов обстановка более, чем скромная.
– Наблюдая вчера за тобой, – сказал Мамун Грамматику, – я понял, что ты не из тех людей, которых можно удивить вещами мира сего, поэтому не вижу смысла удивлять тебя ими.
– Это весьма мудро, о повелитель верующих, – ответил синкелл с улыбкой.
– Аллах, велик он и славен, – сказал халиф, – уделил мне толику мудрости и вложил в мою душу любовь ко всяческому познанию. Я слышал, что ты человек ученый в своем народе, слышал и о том, что ты знаком со Львом, великим геометром. Так ли это?
– Да, повелитель верующих, – Иоанн слегка наклонил голову, – я хорошо знаком с господином Львом. Это, безусловно, один из ученейших мужей нашей земли.
– И не только вашей! – халиф чуть нахмурился. – То меня и печалит, что он не удостоил нас своим посещением, хотя я даже до сего дня сильно желаю видеть его!
– Повелитель арабов – большой знаток и ценитель жемчуга, – ответил Грамматик, – но не меньше таковым является и наш государь. Такие люди, как господин Лев, для него – предмет гордости. Думаю, ты и сам не согласился бы отдать в чужую землю одно из лучших украшений твоего царства!
– Ты прав, Иоанн… Но когда ваш царь успел оценить достоинства премудрого Льва? Его ученик сообщил нам, что Лев живет в бедности и безвестности.
– Жизнь, о повелитель верующих, подобна видам, которые созерцает плывущий по реке: сейчас он видит справа и слева одну картину, но не успеет оглянуться, как она уже изменилась.
Переводчик, уже знавший, что Мамун любит читать эти стихи – как говорили, собственного сочинения, – перевел их с лету и даже почти стихотворным размером. Халиф понял это, и его глаза довольно сверкнули.
– Прекрасные строки! – сказал синкелл. – Да, судьба действительно исправила свою ошибку в отношении господина Льва. Но если взглянуть с другой стороны, подобные «ошибки» судьбы бывают для нас весьма благодетельны, ведь в результате мы приобретаем полезный опыт. Для человека разумного все повороты судьбы идут на пользу, глупца же и счастье не пользует.
Они беседовали довольно долго, общение с Иоанном доставляло халифу видимое удовольствие.
– Что ж, – сказал он под конец, – я вижу, что ныне царствующий над греками умеет выбирать себе помощников!
Мамун отпустил Грамматика с переводчиком, пообещав снова принять их, когда возвратится Филипп. Переводчик, весьма воодушевленный прошедшей встречей, выразил Иоанну свой восторг и сказал, что теперь-то можно надеяться на благосклонность халифа к новому письму из Константинополя. Синкелл покачал головой:
– Не так-то прост этот «повелитель верующих»… Нужно быть готовыми ко всему.
Он оказался прав. Новое письмо императора, имевшее надписание: «Рабу Аллаха, знатнейшему из людей, царю арабов, от Феофила, сына Михаила, императора греческого», – было оставлено халифом без ответа, хотя василевс предлагал ему крупную сумму денег и выдачу семи тысяч пленных в обмен на возврат захваченных ромейских крепостей и перемирие. Уже перед тем, как отпустить послов, халиф, окинув взглядом унылого спафария, помрачневшего переводчика и нимало не изменившегося в лице синкелла, сказал Иоанну:
– Передай мудрейшему Льву это письмо, – он кивнул своему секретарю, и тот вручил Иоанну запечатанный пергаментный свиток. – А своему государю передай, – халиф улыбнулся чуть насмешливо, – что у нас, рабов Аллаха, тоже есть своя гордость!
На другой день Мамун отбыл в Кайсум, намереваясь оттуда отправиться в Дамаск. Путь же ромейских послов, с позволения халифа, лежал вглубь агарянской земли – к Багдаду, где Иоанн надеялся разыскать патрикия Мануила.
Пересекая бывшие ромейские владения, Иоанн думал о царствовании Юстиниана Великого и размышлял о том, что тогдашние планы по возвращению имперских территорий на западе были столь же велики, сколь и суетны, и о печальной судьбе местных христиан. К арабской столице он подъехал в настроении несколько меланхоличном, размышляя об изречении Дионисия Галикарнасского, что «история это философия в наглядных примерах». Из задумчивости его вывел голос ехавшего чуть позади спафария:
– А я и не подозревал, что ты так хорошо ездишь верхом, господин синкелл!
– Я никогда не забываю ничего из того, чему когда-либо научился, – ответил Иоанн. – Но мы уже почти у цели. Правда, в отсутствие халифа нам вряд ли покажут то, что называется варварским великолепием.
– Как знать! Агаряне любят блеснуть перед нашими послами, – сказал Филипп. – К тому же кто-то из сыновей Мамуна точно сейчас в Багдаде… В любом случае, я уверен, что распоряжения халифа на этот счет предварили наш приезд, и мы, скорее всего, уже сегодня узнаем, что нам тут покажут… или не покажут.
– Мансур, основатель этого города, назвал его Мадина-эс-Салам, – сказал переводчик, – «Город Мира». Но почему он всегда производит на меня такое зловещее впечатление?..
– Какое же еще он должен производить впечатление, – проворчал асикрит, – если тут ни одного храма, а почитают этого их лжепророка!
– Ты только не скажи такое кому-нибудь из здешних «правоверных»! – мрачно усмехнулся переводчик.
– Слава Богу, я не сошел еще с ума! – буркнул асикрит, озираясь по сторонам.
Багдад походил на пестрый, кричащий, суетливый водоворот. Уличной толчеей и лепившимися друг к другу домами вперемежку с величественными государственными зданиями он напоминал оставленное далеко за спиной «Око вселенной», но в глаза сразу бросалось разительное отличие: здесь не было христианских храмов, и это существенно меняло общий вид. Больших соборных мечетей было всего три на весь город; в будние дни жители ходили в небольшие молельни, расположенные при училищах, а зачастую на вторых этажах жилых домов с балкончиками, откуда пять раз в день звучал призыв к намазу. Воздух тоже был совсем другой – сказывалось отсутствие моря, которое, конечно, не мог заменить Тигр, лениво кативший через город темно-синие воды.
Послов разместили в так называемом дворце Саида, со всеми удобствами. Сын халифа ал-Аббас велел передать, что примет их через три дня.
– Недурно! – сказал синкелл, развалившись на низком диване среди пестрых подушек и оглядывая покои, где их поселили, ковры, занавеси из расписного шелка, вползавшие в окно душистые ветки роз.
– А там фонтан! – воскликнул Филипп, выглянув в примыкавший к покоям небольшой садик, окруженный стеной, полностью заплетенной розами.
Асикрит и переводчик тут же побежали сунуть голову под струи прохладной воды, спафарий поколебался несколько мгновений и последовал их примеру: было очень жарко. Иоанн остался один в комнате. Он провел рукой по гладкой поверхности дивана, обтянутого великолепным зеленым шелком, и закрыл глаза. И вдруг ему вспомнилось, что в последний раз на шелке он лежал как-то утром в одной из спален Священного дворца, и шелк этот был пурпурного цвета, уже взошедшее солнце пробралось в комнату через щель между занавесками, и блистающая полоска золотила обнаженное плечо спавшей рядом женщины… Грамматик тряхнул головой, отгоняя непрошенное воспоминание, и тут раздался негромкий стук в дверь.
– Наам! – сказал синкелл, пользуясь случаем употребить на деле свои познания в арабском.
Вошел чернокожий слуга, одетый в белоснежные рубаху и штаны, бело сверкнул прекрасными зубами и поставил на низкий столик перед Иоанном большой серебряный поднос, где стояли четыре высоких стакана из хрусталя, наполненные апельсиновым соком, и хрустальная же вазочка с выпечными сластями, источавшими аромат корицы. Игумен поблагодарил, опять по-арабски, и, велев слуге подождать, поднялся с дивана. Открыв один из дорожных мешков, сваленных в углу и еще не разобранных, он вынул оттуда большую чашу для умывания, сделанную из чистого золота и украшенную смарагдами и рубинами – император дал ему с собой два таких сосуда нарочно, чтобы произвести впечатление на агарян. Иоанн показал чашу слуге и словесно, а отчасти знаками пояснил, что хочет вымыть руки. Слуга, восхищенный драгоценным сосудом, с возгласом «О!» закивал, быстро вышел и вскоре вернулся в сопровождении еще двоих слуг, одного в голубом, а другого в зеленом одеянии. Они несли позолоченный кувшин, полный чистой воды, душистое мыло и полотенце. Спутники Иоанна уже вернулись в комнату, с мокрыми головами, руками и отчасти одеждой, и с любопытством смотрели, как Грамматик с невозмутимым видом вымыл руки над драгоценной чашей, умылся и неторопливо вытерся поданным ему льняным полотенцем, после чего, вручив каждому слуге по золотому, величественным жестом отпустил их «с миром».
– Я вижу, ты начинаешь входить во вкус, господин синкелл! – воскликнул Филипп.
– Раз уж я волею судеб попал сюда, то почему бы и нет? – ответил Иоанн с улыбкой.
Между тем, рукомойная чаша Грамматика впечатлила агарян: не успели ромейские посланники допить сок, как снова раздался стук в дверь, и, после данного синкеллом позволения, вошли уже целых восемь слуг: двое несли кувшины с соком, один – вазу с шербетом, еще двое – вазочки со сладостями, а остальные трое – мыло, полотенце и кувшин с водой. Переводчик сказал им, чтобы они поставили напитки и сласти на стол, но слуги после этого не ушли, а сказали, что «сахиб должен вымыть руки»…
– Этак они меня будут через каждые четверть часа заставлять мыть руки… а может, и «омовение сосудов и одров» совершать? – рассмеялся Иоанн, когда арабы ушли, наглядевшись на драгоценный рукомойный сосуд. – Сладости у них отменные, надо заметить!
– Да, и в этом есть своя ирония, – сказал переводчик. – Кормят сладко, а переговоры ведут жестко.
На другой день послы гуляли по Багдаду. Переводчика, переодетого на арабский манер, синкелл послал выяснить, где живет Мануил, а сам со спафарием и асикритом прошелся по местным рынкам и немного погулял по берегу Тигра. Когда они вернулись к себе, слуга доложил, что их уже полтора часа дожидаются посетители. Это оказались трое геометров халифа в сопровождении своего переводчика: они узнали, что из Константинополя прибыл человек, хорошо знакомый с «великим Львом», и горели желанием поговорить с ним. После двухчасовой беседы с Иоанном, во время которой он большей частью отвечал на их вопросы в области различных наук, они удалились почти с благоговением, восхищенные умом Грамматика и в придачу одаренные им: каждому, кто приходил к нему, Иоанн дарил по меньшей мере несколько золотых. Переводчик вернулся уже в сумерках, рассказал, что нашел Мануила, что тот живет богато, в прекрасном особняке, состоит на службе у халифа и даже не раз командовал войсками в походах внутри страны, большей частью против мятежников Бабека. Патрикий был не прочь вернуться на родину, скучал по родным местам и людям, однако хотел бы поговорить обо всем лично с Иоанном – очевидно, расспросить о том, насколько можно доверять императору и нет ли в его приглашении подвоха. Синкелл решил отправиться на встречу с Мануилом после визита к сыну халифа. Два дня прошли в прогулках и приемах: прознав, что из ромейских земель прибыл весьма ученый муж, люди из окружения халифа приходили взглянуть на Иоанна и побеседовать с ним.
«Варварское великолепие», показанное послам во время визита к Аббасу, могло поразить любое воображение. Их провели сначала через конюшни халифа, с сотнями прекрасных лошадей под серебряными и золотыми седлами и расписными покрывалами, затем по придворному зверинцу, где на цепях содержались львы, пантеры и другие дикие звери, потом по садам и через дворец, украшенный богатейшими тканями, коврами и драгоценностями. Оттуда через оружейные палаты с ценными доспехами и оружием послы проследовали в изящную беседку, где им предложили прохладительные напитки и сладости, а затем их повели дальше по дворцам – здесь, как и в Константинополе, их было несколько, соединявшихся между собой портиками. На протяжении всего пути гостей сопровождали слуги-евнухи в шелковых одеждах, с совершенно неподвижными серьезными лицами, и это в конце концов стало смешить асикрита. Переводчик, хотя уже бывал здесь, всё-таки снова был несколько ошеломлен, еще больше – спафарий и секретарь, только Иоанн не подавал вида, будто его что-то удивляет, но очень внимательно смотрел вокруг и всё примечал. Особенно его заинтересовало устройство главного дворца, где их принял Аббас – любезный и несколько манерный в своей нарочитой величественности. Когда они вернулись к себе, Грамматик тут же взял несколько листов, быстро набросал примерный план здания и сделал кое-какие зарисовки.
– Зачем тебе это, господин синкелл? – спросил Филипп.
– Покажу августейшему, быть может, он заинтересуется.
– Варварскими постройками? – асикрит недоверчиво покосился на рисунки, про себя поразившись, насколько они точны и наглядны.
– Государь любит красоту, – ответил Иоанн, – и умеет ее ценить. Велика ли важность, исходит она от варваров или от эллинского рода? Мудрый человек везде сумеет найти полезное.
На следующий день Грамматик встретился с Мануилом и передал ему от императора небольшой крест и хрисовул, во свидетельство о том, что патрикий мог возвращаться на родину в полной уверенности на почетный прием. Они с Иоанном договорились, что Мануил выедет из Багдада недели через три после отбытия посольства, и спафарий со слугами будут ждать его в одной из каппадокийских крепостей, тогда как сам синкелл без остановки поедет прямо в Византий.
Посольство провело в Багдаде еще две недели. В один из дней секретарь халифа, тот самый сириец, у которого когда-то состоял в услужении Андрей, пригласил Иоанна и его спутников к себе на пир, и Грамматик приказал слугам взять с собой обе умывальных чаши и во время пира одну из них незаметно спрятать, сделав вид, будто она потерялась.
– Мы устроим небольшой опыт, – улыбнулся он в ответ на вопросительный взгляд Филиппа.
Когда в разгар пира обнаружилась «потеря» умывальницы, агаряне подняли большой переполох и учинили розыск. Хозяин приказал перевернуть весь дом и в случае, если окажется, что чашу кто-то украл, «немедленно заковать негодяя». Розыски, однако, ничего не дали, и тогда Иоанн, вдоволь насмотревшись на поднявшуюся суету, во всеуслышание приказал своим слугам выкинуть в реку, на берегу которой стоял особняк, и вторую чашу.
– Пусть пропадает и эта! – сказал он.
Помимо впечатления, произведенного на всё окружение халифского секретаря, «опыт» имел и другие последствия: на другое же утро о поступке Грамматика рассказали сыну халифа, и тот призвал синкелла к себе для частной, без особых церемоний, беседы. Аббас остался ею столь доволен, что не только богато одарил Иоанна, но приглашал его еще несколько раз, в подробностях показал устройство главного дворца, сады, сокровищницу халифа. Игумен каждый раз после возвращения из дворца что-то чертил и писал на листах пергамента.
Вечером накануне отъезда послов ал-Аббас устроил пир на одной из дворцовых террас, выходившей в сад, освещенный разноцветными фонарями. Столы ломились от яств, перед пирующими выступали придворные поэты, музыканты, танцоры и шуты, а когда стемнело, вышли невольницы с лютнями и танцовщицы, одетые не особенно скромно, так что асикрит от смущения не знал, куда девать глаза. Спафарий был уже навеселе и без стеснения смотрел, как выгибались перед ним восточные красавицы, даже то и дело пытался прихлопывать в ладоши в такт музыке. Переводчик налегал на шербет и, глядя на «всё это неприличие», иногда посматривал на синкелла и думал: «Интересно, каково ему, монаху, смотреть на такие танцы? По нему и не скажешь, будто он видит что-то необычное… Даже бровью не двинул ни разу, вот так выдержка!.. Пожалуй… он похож на наблюдателя, изучающего… жизнь животных!..» Между тем Аббас неожиданно спросил Иоанна, нравятся ли ему танцовщицы.
– О, да, – ответил Грамматик, – они хороши, особенно вон та, в красных одеждах. Пожалуй, я еще никогда не видел такой гибкости!
– Если желаешь, Иоанн, можешь взять ее на ночь, – сказал Аббас. – Для дорогого и столь ученого гостя мне ничего не жалко!
Переводчик едва не поперхнулся и с заминкой перевел предложение халифского сына. Синкелл чуть приподнял бровь и, очень вежливо поблагодарив Аббаса, сказал:
– Но принять твое предложение я не могу, ибо последняя женщина, которую я знал, была столь прекрасна, что любая другая, как бы хороша она ни была, способна лишь омрачить это воспоминание, мне же совсем не хотелось бы этого.
«Ловко обернул! – с восхищением подумал переводчик. – Применяется к разуму варвара… Мне бы и в голову не пришел такой ответ!»
– Понимаю! – Аббас чуть наклонил голову.
Пир затянулся далеко за полночь. Когда ромейские посланники в сопровождении нескольких слуг халифа, факелами освещавших им путь, возвратились к себе, спафарий, поддерживая под локоть засыпавшего на ходу и спотыкавшегося секретаря, довел его до дивана и со смешком обратился к синкеллу, который, подойдя к окну, глядел на затопленный лунным светом садик:
– Сказать честно, господин Иоанн… Только прошу, не обижайся! В этом посольстве ты стал моим главным развлечением: смотрю я на тебя и удивляюсь, до чего в тебе много разнообразнейших талантов! Вот, например, сегодня – как ты ловко разыграл этого варвара с разговором о женщинах! Ведь он прямо-таки и поверил в твою шутку!
– Да, – кивнул переводчик, – я тоже оценил… А то я ведь поначалу даже испугался, когда он предложил такое! Мало ли, думаю, отказать – обидится, а принять невозможно… А господин Иоанн так ловко всё обратил в шутку, что никто и не понял!
Серебристый свет лился в окно, рисуя на полу пятно в виде арки, в которой темнела худая тень синкелла.
– Как говорили древние мудрецы, наша жизнь вообще – всего лишь комедия, – сказал Иоанн и направился к двери в свою комнату. – Доброй ночи, господа!
…Император действительно заинтересовался устройством багдадского дворца. Он как раз собирался восстановить Врийский дворец на азиатском берегу Пропонтиды, напротив Принцевых островов: построенный при императоре Маврикии, он обветшал и пришел почти в совершенную негодность, и Феофилу хотелось там всё перестроить. Синкелл посоветовал ему воздвигнуть новое здание в арабском стиле, и мысль императору понравилась, тем более что Иоанна в Багдаде сделал подробные чертежи и зарисовки. Феофил поручил архитектору Патрику заняться строительством, следуя описанием синкелла и под его непосредственным руководством. Дворец должен был стать почти точной копией багдадского, и по архитектуре, и по пестроте отделки, отличие состояло лишь в том, что император приказал устроить там два храма – один у спальных покоев, в честь Богоматери, а другой, большой, трехпридельный, у тронного зала. Работа закипела. Иоанн и архитектор увлеклись необычной задачей, и в иные дни синкелл с утра до вечера пропадал на стройке. Император тоже каждую неделю заглядывал туда, следя за ходом строительства.
А в целом жизнь шла своим чередом. Феофил по-прежнему занимался рассмотрением судебных дел и по пятницам совершал выезды в Город, посещая рынки и выслушивая жалобы простого народа. Но всё чаще, когда он по Средней улице подъезжал к стене Константина, его тянуло свернуть налево и поехать в сторону реки, до Диева монастыря, рядом с которым стояла маленькая обитель… Феофил ни разу не бывал в том квартале с тех пор, как узнал от патриарха о Кассиином монастыре, но ящик, куда складывались доносы и сведения о «неблагонадежной» обители, пополнялся почти ежемесячно. Император не только имел представление о занятиях тамошних монахинь, но даже получал новости о выездах игуменьи за пределы Города – а она изредка выезжала: или во Фракию, очевидно, навестить родственников, или на Принкипо, куда на могилу Феодора стекалось множество его почитателей. Император знал, что иногда игуменья выходит и в Город, в том числе в Книжный портик, иной раз представлял себе их случайную встречу, и мысль о ней одновременно соблазняла и пугала его: он был почти уверен, что не сможет держать себя в руках, но обнаруживать свои чувства при свидетелях – а во время выездов его всегда окружала свита – ему, разумеется, совершенно не хотелось. Именно это обстоятельство более всего удерживало его от того, чтобы перед Константиновой стеной повернуть к Ликосу, хотя он, конечно, мог менять свой путь, как заблагорассудится. Но магнит, находившийся там, на берегу реки, притягивал, и Феофил постоянно ощущал у себя в груди как бы кусок железа – даже независимо от того, думал ли он в это время о Кассии или нет, обуревали ли его греховные желания или на душе было спокойно… Он уже свыкся с этим странным ощущением и иногда почти отвлеченно начинал размышлять о его природе и смысле. Впрочем, подобные размышления всегда приводили к «Пиру» Платона и двум «половинам» целого, но смысла Феофил постичь не мог. Порой это чрезвычайно раздражало его, и тогда никто при дворе не мог понять причин внезапных вспышек императорского гнева на проступки или неловкости, в другое время вызывавшие у василевса разве что строгий взгляд или насмешку.
На досуге император сочинял стихиры и писал новые мелодии для старых ирмосов, потом они исполнялись на службах в Святой Софии, и Феофил по-прежнему любил по праздникам сам руководить хором, при этом каждый раз жалуя певчим большие суммы золотом. Иногда он занимался исправлением некоторых богослужебных текстов, обсуждая их с синкеллом.
– Знаешь, Иоанн, – сказал он как-то раз, – мне иногда кажется, что через всю жизнь проходит некий акростих, который надо прочесть.
– Красивое сравнение и очень точное, – ответил игумен. – Я тоже часто думаю об этом. Ведь есть божественный замысел о каждом человеке… Собственно, вся наша жизнь и состоит в том, чтобы понять этот замысел и жить в соответствии с ним.
– Не так-то просто его понять, – усмехнулся Феофил, – а жить в соответствии еще сложнее.
– Если б это было просто, не было бы сказано, что путь этот узок, и немногие обретают его.
5. Пророчество
Ты не можешь умереть, потому что я люблю тебя.
(«Матрица»)
Через несколько дней по возвращении синкелла из посольства Флорина вернулась во дворец после очередного визита к архиепископу Евфимию печальная и растерянная. Сардский владыка рассказал ей, что к нему на днях заходил архиепископ Солунский Иосиф, после смерти брата-игумена устроившийся в столице, в странноприимнице Святого Сампсона. Иосиф сообщил, что один из студитов, живших в Вифинии, приезжал к нему и привез запись прорицания, где говорилось, будто императора скоро поразит гнев Божий за то, что он не желает восстановить православие, и Феофил умрет. В пророчестве утверждалось, что военные поражения последних лет тоже были знаками гнева Божия, и поскольку император не вразумился этими несчастьями, равно как и смертью сына, то «постигнет его гнев до конца». Об образе его предполагаемой смерти, правда, ничего не говорилось. Студит сказал, что получил пророчество от олимпских монахов, уверявших, будто оно исходит от одного великого отшельника, который, по смирению, просил не разглашать его имя.
– Не знаю, госпожа, насколько можно доверять этому пророчеству, – сказал архиепископ Евфимий, – но, по крайней мере, думаю, что стоит принять его к сведению. Быть может, это знамение, подобное тому, каким был пророк Иона для ниневитян.
Два дня патрикия провела в колебаниях и раздумьях, много молилась и, наконец, решилась рассказать о пророчестве дочери. Выслушав мать, императрица ужасно побледнела, прижала руку к груди и несколько мгновений молча смотрела на Флорину, а потом вскричала:
– Нет! Этого не будет! Этого не может быть!
– Как не может? Все люди смертны, Феодора. Я тоже надеюсь, что пророчество не исполнится, но… Всё же нужно быть готовым ко всему… Послушай, – Флорина взяла дочь за руку. – Мне подумалось, что ты могла бы повлиять на Феофила… Я уверена, что владыка Евфимий прав, по крайней мере, в том, что военные поражения – знаки гнева Божия за ересь…
– За ересь? – Феодора вырвала руку и встала. – Тогда пусть и я умру вместе с ним! Разве я не такая же, как он? Я везде с ним, мы и причащаемся вместе… Как, по-твоему, я буду его убеждать в чем-то? Я не знаю богословия, никогда не знала! Да он просто посмеется надо мной, если я заговорю об этом!
– Мне кажется, Господь поможет убедить, даже если ты не знаешь… всех этих тонкостей, – сказала Флорина. – Все же ты сама чтишь иконы, хотя бы тайно, а это при нашем положении уже много…
Феодора, действительно, держала у себя в покоях иконы, пряча их в особом сундучке, и нередко доставала их и молилась перед ними. Но ей никогда не приходило в голову идти на большее и, к тому же, не хотелось лишний раз сердить Феофила – а мать и не предлагала ей ничего другого, хотя сама не причащалась с иконоборцами и об этом знали при дворе.
– И потом, – продолжала Флорина, – я могу дать тебе почитать кое-что про иконы, у меня есть диалоги с иконоборцем, написанные Студийским игуменом Феодором, владыка Евфимий дал мне копию… Думаю, если ты постараешься, то разберешься в этом, Феодора! Разве тебе не хочется убедить Феофила в истине? Даже и без богословия, если ты просто скажешь ему о пророчестве, он, может быть, задумается… Ведь он наверняка думает о том, почему все эти поражения на войне! Конечно, рассуждая по всей строгости, плохо, что ты причащаешься с иконоборцами… Но подумай: если ты сумеешь убедить Феофила, это будет таким великим делом, за него Господь может простить тебе и все прошлые грехи!
– Мои прошлые грехи? – Феодора нервно рассмеялась. – О, да, конечно! Мне очень хочется заслужить прощение всех грехов! Для этого нужно только убедить Феофила, так? Пересказать ему пророчество, да? То есть сказать ему, что Константин умер из-за его ереси? Ты подумала, как он это воспримет? Он так любил его!.. А ты хочешь, чтобы… чтобы я, по сути, обвинила его в смерти нашего сына! Этого ты хочешь, ты и твой Евфимий?!.. Я не сумасшедшая, чтобы говорить Феофилу такое! Тем более, что я сама в это не верю!
Императрица упала в кресло и разрыдалась.
– И вообще, – закричала она, отнимая руки от лица, – как смеют они рассуждать о нас, о Феофиле, о нашем мальчике?! Это не их дело! Пусть смотрят за собой!.. Прорицатели нашлись! Вот и пусть прорицают, а я буду молиться, чтобы Господь Феофилу дал долгую-предолгую жизнь, чтоб он пережил всех этих прорицателей! Об этом буду молиться, да, а не о том, чтобы он иконы почитал! И еще посмотрим, кто кого переживет!
«И чтоб вас вороны унесли с вашими иконами!» – чуть не сказала она, но вовремя прикусила язык, подумав, что, пожалуй, для матери это будет уже слишком… Хотя на миг ей действительно захотелось немедленно вытащить из сундучка все иконы и выкинуть их подальше. «Господи, прости меня! – подумала она. – Но что они лезут к нам со своими пророчествами? Не верю, что это Ты им открыл, нет!..» Она поднялась, отошла к окну, постояла там и снова повернулась к матери:
– Да хоть бы тут сам Илия-пророк предстал, не поверю! Не верю, что он умрет! Этого не будет, не будет!
Флорина печально вздохнула.
– Мы не можем знать будущего, Феодора! Посмотри, сколько умирает людей, еще гораздо моложе Феофила…
– Да, но сейчас этого не будет! Потому что… потому что я люблю его!
Мать августы только грустно покачала головой.
Слух о новом пророчестве быстро распространялся среди православных. Не прошло и двух недель, как Лия с Аретой, вернувшись из Книжного портика, куда ходили отдать новые рукописи на продажу и получить деньги, отчитались перед игуменьей и рассказали, что встретили приехавшего с Принкипо отца Симеона – он вместе с Навкратием и Николаем жил там, при гробе Студийского игумена. Симеон рассказал, что на могиле Феодора три дня назад исцелился расслабленный, принесенный туда родственниками; студит передавал поклон от отца Навкратия и других монахов Кассии и всем сестрам обители.
– Что ж, слава Богу! – сказала Кассия. – Больше никаких новостей?
– Нет, матушка, – ответила Лия.
Но вечером, придя на откровение помыслов к игуменье, она после исповеди сказала:
– Матушка, на самом деле была сегодня одна новость… Пока мать Арета говорила с господином Никитой, я отошла книги посмотреть и услышала разговор… Там два монаха стояли и разговаривали в углу, тихо, но я услышала. Они говорили, будто бы владыка Евфимий предрек, что государь Феофил скоро умрет!
В келье горел всего один светильник, и Лия не могла заметить, как побледнела игуменья.
– Вот как? – Кассия встала, подошла к столу, поправила фитиль и осознала, что не ощущает жара от огня – ее руки в этот момент были холодны, как лед.
«Лия о чем-то догадывается, раз не сказала мне этого днем, при Арете!.. Но не говорить же с ней об этом!» Между тем Кассия чувствовала почти непреодолимое желание с кем-нибудь поговорить о том, что ее мучило, рассказав всё с самого начала – о первой встрече с Феофилом, о смотринах и о том, что было после, о постриге, о монете… И спросить, наконец, что же со всем этим делать! На свете были люди, знавшие кое-что из этой истории – ее мать, Лев, – но они знали далеко не всё… Иоанн Грамматик! Вот кто, кажется, подозревал о многом… и даже, похоже, знал что-то, чего не знала она… Что? Откуда? И почему ей порой казалось, что если кто и мог бы дать хороший совет, то это он?!.. Мойра, выпрядающая нить ее жизни, кажется, большая шутница, сказали бы древние эллины! Но что же делать?.. Ей представлялось невозможным рассказать всё по порядку не только отцу Феоктисту, служившему в обители литургию, но и отцу Навкратию… Если бы жив был отец Феодор!.. А теперь – кому расскажешь? Разве что Льву?.. Льву, который теперь, должно быть, нередко видится с ним!.. Нет, это, пожалуй, создало бы ему какие-нибудь искушения… Никому не расскажешь, надо нести эту ношу самой… А она всё тяжелее!..
– Я подумала, матушка, – сказала тем временем Лия, – что лучше об этом пока при сестрах не говорить, потому что вдруг это неправда, а все взбудоражатся… Может, узнать у самого владыки?
Кассия едва не рассмеялась. Верно, Лия ни о чем вовсе и не догадывается, а она тут уже настроила себе предположений! Вот нелепость! Она взглянула на сестру и улыбнулась.
– Конечно, ты правильно поступила. Надо действительно узнать у него. Я это сделаю.
Когда все сестры исповедались, игуменья ушла во внутреннюю келью, затеплила лампаду и подняла взор к иконе Богоматери. «Скоро умрет»! Может ли это быть? Конечно, может, но… Умрет в ереси? Нет!.. Она каждый день молилась об обращении заблудших, поминала и его, но никогда не молилась о нем нарочито; самые пламенные ее молитвы были о том, чтобы избавиться от страсти к нему. Молиться о нем самом как-то особенно она боялась, помня наставление Лествичника, что не следует без разбора молиться о тех, воспоминание о ком может разжечь страсть. Но теперь она забыла свой страх, даже словно о себе самой забыла и принялась молиться о том, чтобы Феофил не умер в ереси. Мысль о его вечной погибели была невыносима настолько, что Кассия начала понимать слова Моисея: «И ныне, если Ты прощаешь им грех, прости, если же нет, изгладь меня из книги Твоей»…
Она очнулась внезапно, как от толчка, и поняла, что уснула за молитвой, от истощения телесных и душевных сил. Через несколько мгновений с улицы послышались глухие удары монастырского била: пора было идти на полунощницу. Кассия поднялась с пола и повела плечами, чувствуя себя разбитой. Пока она спала, светильник успел съесть всё масло и погас. Машинально повторяя в уме Иисусову молитву, она ощупью нашла ручку двери и вышла во внешнюю келью. В окно глядела луна. Кассия подошла к столу, перекрестилась на икону в углу и вдруг ощутила новый толчок, теперь словно изнутри – и в тот же миг ее душа наполнилась сияющей уверенностью: он не умрет! Разбитость и усталость улетучились в мгновение ока. Она не чувствовала ни уныния, ни страха, ни вожделений, ни какой-либо еще страсти – только счастье услышанной молитвы. «Господи! – подумала она, и слезы радости потекли по ее щекам. – За что мне это, я этого не стою… Помилуй меня, грешную!»
В тот же день она отправилась навестить Сардского архиепископа. Он был рад ее посещению, расспросил о жизни в обители, о сестрах, сказал, что у него всё по-старому, только всё сильней ощущается старость и немощь…
– Владыка, – сказала игуменья, – одна из моих сестер слышала, будто ты предсказываешь скорую смерть государя. Это правда?
Архиепископ взглянул на нее и ответил, понижая голос:
– Нет, мать, какой из меня пророк! Но такое пророчество действительно существует. Мне сообщил об этом владыка Иосиф, а к нему эта весть пришла из Вифинии. Так говорят на Олимпе.
– Значит, слухи! – сказала Кассия. – А уже так широко разошлись… Кажется, отец Иоанникий часто предсказывает людям близкую кончину… Не от него ли это идет?
– Не знаю, мать. Может быть, и от него… – Евфимий внимательно посмотрел на игуменью. – Тебя, я вижу, такое прорицание не радует?
Она чуть заметно вздрогнула и тихо ответила:
– Нет, владыка. По-моему, печально было бы, если бы нас радовали известия о чьей-то близкой смерти! Хотя, когда убили императора Льва, многие радовались… Но тогда была радость, скорее, не его смерти, а о том, что наконец-то окончились гонения…
Она умолкла, вспомнив, как еще при жизни убитого василевса написала поносительную эпиграмму против армян. Всё же тогда ей очень хотелось, чтобы Лев поскорей умер… Да и ей ли одной этого хотелось?.. А сейчас она возмущается, что кто-то ждет смерти Феофила! Почему? Потому что он «такой хороший, только еретик»? Но другие могут думать и иначе… А в ней просто говорит страсть… Но разве хорошо желать кому-то смерти?.. Нет, и то, что она тогда думала про императора Льва, было нехорошо…
– Впрочем, смерти его тоже радовались, конечно… Да я и сама… Но теперь я думаю, что это неправильно.
– Строго говоря, да, – кивнул архиепископ. – Но люди немощны… Многих нынешнее пророчество весьма порадовало, как мне известно. Если оно и ложно, то всё равно послужит для утешения народа. Ведь люди ропщут оттого, что конца ереси по-прежнему не видно… К тому же, весьма вероятно, что слухи дойдут и до дворца. Как знать, не заставят ли они государя задуматься и, быть может, одуматься? В общем-то, именно из последних соображений я отчасти посодействовал распространению этой вести… Хотя лично я не очень верю в то, что государь одумается.
– Понятно, – проговорила Кассия, немного помолчала и подняла глаза на архиепископа. – Но ты, владыка, хотел бы, чтобы государь поскорей умер?
– Я хотел бы, чтобы кончилась еретическая зима. И, если угодно, – голос архиепископа стал чуть жестче, – коль скоро это невозможно иначе, чем через смерть государя, то в этом смысле да, хотел бы. Хорошо, если возможно улучить оба блага – и обращение государя, и восстановление православия. Но если это невозможно, то следует предпочитать благо многих благу одного.
– А я всё-таки хотела бы, чтобы государь покаялся, – сказала игуменья совсем тихо.
«Как хорошо, что на той исповеди я не рассказала ему про смотрины! – подумала она. – Иначе бы он всё сейчас понял определенным образом! Но может быть, это и есть самое правильное понимание, а я просто обманываю себя?..» Ей стало горько и захотелось поскорей уйти. Когда она услышала от владыки Евфимия, что он узнал о пророчестве от Солунского архиепископа, ей пришла мысль зайти и к Иосифу, поговорить и с ним, но теперь это желание пропало. Что второй архиепископ скажет ей? Скорее всего, примерно то же, что и первый… Нельзя сказать, что они не правы, со своей точки зрения. И невозможно рассказать им, почему ей так сильно хочется совершенно другого. В конце концов, не убеждать же их молиться об обращении государя!
«Вот странная вещь! – думала Кассия. – Получается, пламеннее всего можно молиться, если сильно любишь. Но если еще не достиг совершенства, то к такой любви всегда примешивается пристрастие. Лествичник учит, что если есть пристрастие, то молиться надо осторожно или вообще не молиться, предоставив всё воле Божией… Что же, православные не будут молиться потому, что им хочется поскорей избавиться от еретика… А кто будет молиться? Те, кто с ним, кого он облагодетельствовал… и кто причастен одной с ним ереси? Услышит ли их Бог? Если и услышит, то послушает ли так, как православных?.. Какой-то заколдованный круг!.. И всё равно… всё равно я не смогу не молиться за него!»
– Боюсь, что это невозможно, – ответил между тем архиепископ после небольшого молчания.
– Почему?
– Потому что этот треклятый Ианний закрыл государю все входы и исходы! – в сердцах сказал Евфимий, всё еще бывший под впечатлением от недавнего разговора с тещей императора, которая рассказала ему об отношениях василевса и синкелла, горько вздыхая и сетуя, что Феофил гораздо больше и охотнее общается с игуменом, чем с женой или другими родственниками. – Он там главный советник, друг, наставник!
«И не удивительно! Знал бы он, как я мило беседовала с этим “треклятым Ианнием” прошлой весной… и еще не прочь побеседовать, если уж совсем честно признаться!» – подумала Кассия и спросила с легкой иронией:
– Даже если и так, не сильнее же он Господа Бога?
– Нет, конечно. Но видишь ли, мать, исходя из существующего положения дел вероятнее всего, что государь не покается…
– И значит, «исходя из существующего положения дел», нужно желать ему скорейшей смерти?
– Нет, но надо быть снисходительнее к тем, кто, по немощи душевной, ее желает.
Кассия помолчала и тихо качнула головой:
– Государь не умрет.
…Льву сказали, что император ждет его в библиотеке. Феофил сидел за столом в нише под сводчатым окном и внимательно изучал какую-то рукопись. Когда Лев поклонился и они поздоровались, император сказал:
– Взгляни! – он указал на кодекс. – Как ты ее находишь?
Лев внимательно осмотрел рукопись. Небольшая, в четверть листа, она занимала несколько тетрадей. Желтоватый пергамент не самой лучшей выделки был исписан ровным крупным почерком, однако писец, как заметил Лев, перевернув с десяток страниц, грамотностью не блистал. Заголовки, написанные киноварью, слегка выцвели.
– Думаю, государь, она довольно древняя. И вряд ли это было писано при дворе или в каком-нибудь знаменитом скриптории.
– Почему?
– Ошибок много.
– Да, я тоже подумал об этом. Судя по некоторым пометкам, ей уже около двухсот лет. Любопытнейший пергамент!
– Но ведь это не хроника? – Лев продолжал перелистывать книгу. – Похоже на городские предания…
– Так и есть, Лев! Рассказы о Тарсе, и притом весьма интересные… Иногда я думаю: много ли из того, что написано раньше и пишется сейчас, дойдет до потомков? Мне принесли эту рукопись, когда я был в Каппадокии, в Колонии в одном храме священник нашел в ризнице. Кажется, ее уже давно пытались читать только мыши… А проживет ли она еще лет двести, как ты думаешь?
– Трудно сказать, государь. Дольше всего живут те книги, которые часто переписывают. Собственно, жизнь книги зависти от того, насколько современники почитают ее ценной. Сочтут важной – перепишут, а не сочтут – так и затеряется в веках… Некоторые древние сочинения потому и не дошли до нас. А может быть, многие.
– Закономерно, но ведь печально! Значит, сохранность книг зависит напрямую от состояния умов людей, причем иной раз людей случайных. Вот представь: человек написал нечто прекрасное, его читали, переписывали… А потом пришло другое поколение, и ему это показалось скучным… Или книги по наследству достались тем, кто не интересовался этими вещами… Или земли захватили варвары, которые книгами будут костры разжигать… Уж не говорю о совсем печальных случаях – пожарах в библиотеках… И вот, всё пропало! А потом придет иной род, узнает, что была такая книга, захочет прочесть – а ее и нет!
– Я думал об этом, государь… Я тоже встречал в одной книге упоминание об одном важном математическом сочинении, но нигде не смог его найти. Видимо, оно утратилось.
– И что же? Такова воля Божия?
В голосе императора Льву почудился сарказм.
– Скорее, попущение. Должно быть, Господь отбирает то, чем люди не умели пользоваться должным образом.
– Возможно, это и справедливо, но как быть отдаленным потомкам? Вот ты сам, например, и хотел бы, как говоришь, воспользоваться, а не можешь. Получается, ты наказан за грехи каких-то неизвестных лентяев и тупиц?
– Я наказан за свои собственные грехи, – вздохнул Лев. – К тому же потомки не могут избавиться от предков. Может быть, в этом символический смысл сказанного о наказании «до четвертого колена»… Но, с другой стороны, надо думать, что ничто, по-настоящему важное для вечного спасения, не пропадет. А математика… Что математика? Любое положение, доказанное одним человеком, может в конце концов доказать другой. Так что пропажа тут не смертельна!
– Вот слова настоящего ученого! – улыбнулся император. – Впрочем, математика чисел легче, нежели… математика жизни.
– Числа не имеют свободной воли, – Лев тоже улыбнулся.
– И чувств… Святейший как-то сказал полушутя, что чувства родились из союза первобытного Хаоса с Тартаром и потому способны устроить для предавшегося им сущий ад. Ведь это по сути верно, как ты думаешь?
– Да, в целом это справедливо.
– В целом? Значит, ты признаёшь существование частных случаев, которые выпадают из общих правил?
– Я бы сказал по-другому, пожалуй, – ответил Лев, подумав. – Добровольное рабство чувствам действительно бросает человека в ад… сразу или позже, не суть. Но часто бывает так, что человек и не хочет этого рабства, но избавиться не может, хоть и прилагает все усилия… Это тоже ад, но другого свойства.
– Да, – усмехнулся Феофил. – Он еще злее, чем первый. Во много раз.
– Злее, да, – сказал Лев. – Но в этом аду есть надежда.
– Какая?
– Что Сошедший во ад сойдет и туда, разорит заклепы, и заключенным воссияет свет. Просто каждый проводит в этом аду свое определенное время… нужное для пользы его души.
– Польза души! И в чем она, по-твоему, заключается, философ?
Лев взглянул на императора. Очевидно, Феофил искал ответ на какой-то свой вопрос. «Но чем же я могу помочь ему? – подумал Лев. – Трудно советовать, не зная, в чем дело…»
– В том, чтобы понять то, что нужно, – сказал он. – Каждому свое… Когда ты в аду, то временами может казаться, что уже никогда не выйдешь, что это невозможно…
– Да, невероятно, при существующем положении дел.
– Но, как говорил Агафон, «вероятно и то, что много происходит невероятного», а уж христианам это тем более понятно: все наши догматы, в сущности, так или иначе «невероятны»…
Император молча перевернул несколько страниц рукописи и сказал:
– Между прочим, этот пергамент уже когда-то послужил для записи чего-то совсем иного… Ты заметил, что кое-где проступает соскобленный текст?
– Да, – Лев вглядывался в страницы. – Кажется, это сирийский… Любопытно!
– Ты знаешь сирийский?
– Увы, государь! Но если б и знал, прочитать это уже не сможет никто.
– Никто! – повторил император. – И тем не менее, пергамент хранит память о написанном…
Феофил встал, прошелся от окна к двери и вернулся обратно.
– Вот так и человек: ничто из бывшего уже невозможно в душе стереть до конца. Всё равно следы остаются, и душа помнит… даже если всё это не нужно, бесполезно, мешает… и никто никогда не прочтет эти письмена! Никто и никогда – как и этот сирийский стертый текст! А оно всё равно существует – там, в глубине, и не стирается!
Лев на миг поднял глаза на императора.
– Да, государь, это хорошее сравнение… Я как-то раз говорил с одной монахиней о подобном…
– И до чего же вы договорились?
– «Невозможное человекам возможно Богу».
Феофил чуть передернул плечами:
– Хочется верить, но не всегда верится… Тебе никогда не хотелось сбежать? От всего.
– Хотелось… Но это не выход.
– Для сильного человека. А для слабого?
– У язычников… для слабого был один выход. Христианам не оставлено и его.
– Но можно ведь просто бежать – не из жизни, а из данного места. Конечно, «этот клочок земли ничем не отличается от других, и живущие на нем испытывают то же самое, что и живущие на вершине горы»… Но иногда всё же очень хочется сбежать… Хотя вроде бы, – он саркастически улыбнулся, – чего мне желать? Многие бы сказали, что если уж я, сидя на троне, жалуюсь, то что же делать остальным!
– С трона, как и с паперти, выход один. Как сказал один философ, «спуск в аид отовсюду одинаков». Но, как сказала одна великая женщина, – Лев улыбнулся, – предпочтительнее умереть в пурпуре, чем сменив его на лохмотья.
– Притча о богатом и Лазаре вроде бы говорит обратное, – усмехнулся император.
– Она о другом – о том, что терпение ублажается, а невоздержание и немилосердие караются. Но невоздержанность и жестокосердие могут быть и у нищего. А терпение может явить и облеченный в пурпур. В Патерике есть рассказ о том, как монах искушался унынием и помыслы говорили ему: «Что ты тут сидишь, если ты всё равно никаких добродетелей не приобретаешь и не спасаешься?» А он отвечал помыслу: «Я сторожу эти стены Христа ради».
– Неплохо сказано! – улыбнулся император.
«Что ж… посторожим еще, – подумал он про себя. – Стен тут много! Есть, что сторожить… И есть, на что лезть…»
6. Архиепископ Сардский
Молю читающих книгу сию не устрашаться напастей, но разуметь, что мучения сии не к погублению, но на вразумление рода нашего.
(II Книга Маккавейская)
Через два месяца Сардский и Солунский архиепископы были арестованы: их обвинили в распространении клеветнических измышлений против императора. Пророчество в конце концов дошло до Феофила и вызвало у него, как и предвидела Феодора, только вспышку гнева.
– Похоже, им понравилось эта забава, – сказал он, обсуждая дело с патриархом и синкеллом. – Но я их отучу от таких игр!
Подобное пророчество действительно не было новым явлением. Месяцев за восемь до убийства императора Льва появились слухи о его скорой смерти, прорицание распространялось под именем Хинолаккского игумена Мефодия. Конечно, окажись игумен в Империи, он не ушел бы от тюрьмы и бичей, но в Риме он был недосягаем, а когда возвратился, ему были предъявлены уже иные обвинения. Второе пророчество касалось смерти императора Михаила, оно стало известно в столице почти сразу после его кончины, хотя на распространявшихся списках стояла гораздо более ранняя дата – 5 мая. Феофил не сомневался, что прорицание было фальшивкой, написанной после смерти отца. Оно было анонимным, но ходили слухи, будто автором является всё тот же Мефодий. Император послал на остров Святого Андрея чиновников, и они сурово допросили игумена, но Мефодий решительно отрицал свою причастность к этому делу. В конце своего царствования Михаил, уже предчувствуя скорую смерть, приказал освободить некоторых из заключенных по политическим делам, а другим, в том числе Мефодию и его соузнику, облегчить условия заточения. Однако им не пришлось долго наслаждаться этой передышкой: после допроса игумена вновь бросили в ту темницу, где он находился изначально. Ксенофонт, неожиданно как для тюремщиков, так и для самого Мефодия, захотел быть заключенным вместе с ним. Когда его спросили о причине такого странного пожелания – тем более, что он был уже стар и немощен, – он ответил, что «лучше умереть вместе со святым мужем, чем жить с нечестивцами», после чего его с побоями и руганью втолкнули к Мефодию, и обоих узников снова окружили мрак, насекомые, мыши, грязь и духота.
Хотя и третье пророчество было анонимным, очень скоро выяснилось, что оно распространилось через архиепископов Иосифа и Евфимия. Солунский владыка был заточен в той самой странноприимнице, где проживал, а Сардский попал в дворцовую тюрьму, где провел несколько дней, а затем был вызван к императору. Феофил в тот день был не в духе. Хмуро оглядев приведенного к нему старца – Евфимию шел уже семьдесят восьмой год, – он сказал:
– Ты, Евфимий, вроде бы монах и уже стар, вот и ходишь с трудом, я смотрю, и тебе бы надо заботиться о собственной душе, думать о переселении в мир иной и готовиться к нему. А ты принимаешь ежедневно толпы народа, как говорят, в том числе женщин, со всеми общаешься… Мало этого, ты распространяешь клевету и сеешь смуты в народе! Скажу прямо: ты ведешь себя подобно тем развратникам и безумцам, которые, вместо того чтобы заниматься собственными делами, лезут в чужие и, по слову апостола, «развращают целые дома, уча, чему не должно». Что за люди посещали тебя? И почему ты не живешь тихо в одиночестве?
Архиепископ поднял глаза на императора и ответил:
– Государь, ни я, ни мои единоверцы пока еще не получали приказа никого не принимать. Что же тут такого, если люди приходят побеседовать с нами? Твой августейший отец, когда выпустил нас из заточения, сказал нам, что мы можем жить, где угодно, принимать кого угодно из родственников, друзей или духовных чад и молиться о вашей державе. И вот, мы устроились, каждый, как мог и умел. За что же твое величество упрекает меня? Притом я должен заметить, что рядом с моим домом есть храм, куда ходит много народа. Должен ли я следить, кто приходит туда молиться? – взгляд Евфимия стал чуть насмешливым. – Разве, например, ваш патриарх Антоний наблюдает за тем, кто приходит в Великую церковь, и может назвать все их имена? Конечно, нет!
– Ты остроумен, Евфимий, – сказал император, – но ты нашел неподходящее место для того, чтобы это показать!
Он сделал знак стоявшему тут же эпарху, и тот, подойдя к архиепископу, сказал:
– Дожив до старости, ты так и не научился, как подобает разговаривать с августейшим государем! – и с размаху дал Евфимию четыре пощечины.
Старец пошатнулся, но не вымолвил ни слова.
– Снимите с него мантию и пояс! – приказал император и, когда это было выполнено, вновь сурово обратился к архиепископу: – Говори, кто к тебе приходил и зачем! Или ты хочешь сейчас же отведать бичей? Думаешь, выслушав твой блистательный ответ, я отпущу тебя и дальше распространять безумные прорицания и развращать народ?
Архиепископ молчал, опустив глаза. Феофил окинул его гневным взглядом, приказал отдать ему одежду и увести. На следующий день, в субботу, император велел одному из придворных клириков, диакону Константинакию, отвезти Евфимия в ссылку на остров Святого Андрея. Диакон с архиепископом отплыли, несмотря на дождь и противный ветер, на остров прибыли, когда уже стемнело, и Константинакий повел Евфимия в местный монастырь и запер в келье вместе с монахом-прислужником, отказавшимся покинуть архиепископа, хотя Константинакий еще в столице предупредил его, что на острове им всё равно придется расстаться, поскольку в темницу вместе с Евфимием келейника не пустят. Архиепископ почти всю ночь провел в молитве и только на рассвете забылся сном. В воскресенье никто не приходил к нему, кроме монаха, принесшего еду, а в понедельник около полудня пришел Константинакий и сказал, что при монастыре только одна темница, и именно туда велено заточить Евфимия. Диакон собирался пойти посмотреть, есть ли в ней место, поскольку там уже сидят двое преступников.
– Не беспокойся, господин, – сказал Евфимий, – мне всё равно не придется там долго находиться.
«Пожалуй, что и так, – подумал диакон, окинув взглядом старца, – вряд ли он протянет в тюрьме долго!..» Однако, увидев эту пещерную тюрьму, он понял, что «вряд ли» было неуместным: когда страж отворил скрипучую дверь, на Константинакия пахнуло таким спертым и зловонным воздухом, что он едва не задохнулся и закашлялся. Подождав, пока темница немного проветрится, он вошел со светильником в руке и огляделся. Два узника, монах и мирянин, щурясь, с любопытством глядели на него. Ксенофонт, лежавший на рогоже в левом углу и только приподнявшийся на локте при появлении Константинакия, выглядел уже совсем стариком и походил на обтянутый кожей скелет. Диакон подумал, что он точно скоро умрет. Мефодий, сидевший в правом углу, подтянув колени почти к подбородку и обхватив их руками, тоже был чрезвычайно худ и бледен, голова его была подвязана тряпкой. Константинакий сначала решил, что у заключенного болят зубы, но когда игумен заговорил, диакон понял, что у него что-то с нижней челюстью – она плохо слушалась и двигалась довольно странно. Но особенно поразило Константинакия то, что оба узника были совершенно лысыми.
– Здравствуйте, господа! – сказал диакон.
Ксенофонт лишь кивнул – похоже, у него не было сил даже говорить, – а Мефодий сказал:
– Здравствуй и ты, господин, тем более, что у тебя гораздо больше возможностей здравствовать, чем у нас, – он усмехнулся. – Чем мы обязаны твоему посещению?
– Я привез вам нового соузника.
– Что?! – раздался хриплый шепот Ксенофонта. – О, Господи! – он в отчаянии закрыл глаза и опустился на рогожу.
– Соузника? – Мефодий вытянул ноги и воззрился на Константинакия почти с гневом. – Сосмертника, скорее! Или господин изволит шутить? Разве тут есть место еще для одного человека?
Диакон и сам видел, что места здесь не было. Между рогожей Мефодия, лежавшей у правой стены, и рогожей Ксенофонта у противоположной было расстояние не более локтя, примерно столько же отделяло нижние концы рогож от двери. У изголовий между рогожами лежали две дощечки, куда, вероятно, клали еду, а слева от двери у ног Ксенофонта в полу виднелась закрытая деревянной крышкой дырка – отхожее место. В нише, выдолбленной в правой стене над головой Мефодия, стоял деревянный сундучок – вероятно, с чем-то, что нужно было прятать от мышей, а на выступе стены между ложами узников – глиняный подсвечник с оплавленным огарком и огниво. Константинакий с трудом мог вообразить, как эти два человека прожили тут многие годы. Слезы невольно навернулись у него на глаза, и он сказал дрогнувшим голосом:
– Да, тут у вас тесно… Я… попробую найти другое место…
– А кого к нам хотят подселить? – спросил игумен.
– Евфимия, бывшего архиепископа Сардского.
– Что?! – Мефодий вскочил на ноги, сделал шаг вперед, пошатнулся и ухватился за стену. – Он здесь? Прошу тебя, господин, позволь нам с ним свидеться!
«Вот как, они, видно, друзья! – думал Константинакий, идя по коридору к келье, где был заперт архиепископ. – Что ж, может, они теперь будут еще и рады новому соузнику, и мне не придется думать о том, куда его поместить!.. “Сосмертника”… Да если б они быстрее умерли, им же лучше – что за жизнь в такой дыре! Ведь выпускать их никто не собирается…»
– Вот, – сказал диакон, вновь открывая двери темницы и вводя Евфимия, – взгляни на место, куда приказано тебя заключить!
Архиепископ сделал шаг вперед и замер в изумлении.
– Здравствуй, владыка! – сказал Мефодий. – Вот, как Бог привел свидеться! Благослови нас, грешных!
Константинакий оставил их втроем в темнице, а сам ушел поговорить с игуменом монастыря о выделении для Евфимия другое места заточения – быть может, особой кельи или подвального помещения. Узники пробеседовали до обеда. Мефодию и Ксенофонту рассказывать было почти не о чем: как они жили, было видно и без слов, письма к игумену почти не доходили – стерегли его строго, – а его соузник был давно всеми забыт; только иногда Мефодий получал послания и кое-какие передачи, в том числе Святые Дары для причащения. Игумен попросил архиепископа исповедовать их с Ксенофонтом, после чего Евфимий причастил их, а затем, в свою очередь, повел рассказ. В отличие от узников, ему было, что сказать – о жизни исповедников, о кончине тех из них, кто уже отошел в мир иной, о собраниях у патриарха Никифора и о его смерти, о кончине Студийского игумена, об Иосифе Солунском, о положении при дворе и о влиянии Иоанна Грамматика на императора…
– Отнял от нас Господь столпов, – вздохнул архиепископ. – Только и остается, что перечитывать их писания… Не зря святейший посадил отца Феодора рядом с собой! Если б не он, что бы мы делали? – он поймал вопросительный взгляд Мефодия и спохватился: – А, да, ты же и не знаешь, отче, как это было…
Он рассказал о том собрании исповедников на Босфоре, когда патриарх отличил Студийского игумена перед всеми. Мефодий слушал, и в душе у него поднималось раздражение, которое он, впрочем, сумел не выдать.
– Ну, слава Богу, что хоть гонений нет! – сказал Ксенофонт. – А мы тут, владыка, сидим в этой дыре… Я уж, верно, и умру тут… Помолись за меня владыка, чтобы Господь принял мою грешную душу!
– Помолюсь, – улыбнулся архиепископ.
– Как же нет гонений? – возмутился Мефодий. – Если б не было, владыка не попал бы сюда!
– Я попал сюда не столько за веру, сколько за другое, – Евфимий чуть помолчал. – Хотя, конечно, я надеялся, что пророчество заставит государя задуматься, но, видно, просчитался… Кажется, госпожа Флорина совсем не знает и не понимает своего зятя…
– Судя по тому, как он с тобой обошелся, владыка, он просто грубый мужлан! – сердито сказал игумен.
– Нет, отче, – архиепископ качнул головой. – Просто он был очень разгневан. А то, что пророчество на него не подействовало, как раз и доказывает, что он не мужлан, – Евфимий грустно улыбнулся. – Я размышлял обо всем этом по дороге сюда и вчера, пока сидел взаперти… Думаю, мы слишком торопимся видеть смерть грешника, отче! Может, оттого Господь и не дает торжества веры…
Мефодий хотел возразить, но тут раздался скрежет ключа в двери, и вошел страж: он принес узникам обед. Они помолились и принялись за еду. Пережевывая недоваренные овощи, игумен обдумывал ответ на последнее рассуждение архиепископа, с которым был совершенно не согласен. Но возобновить разговор им было не суждено. Они еще не кончили обедать, как дверь вновь отворилась и на пороге появился красивый армянин лет сорока, среднего роста, крепко сложенный. Евфимий узнал его: это был патрикий Арсавир, муж Каломарии, сестры августы, недавно назначенный императором на должность логофета дрома. Он не поздоровался, только окинул узников взглядом и обратился к архиепископу:
– Мне очень жаль, господин Евфимий, что приходится отрывать тебя от трапезы, но нам настоятельно необходимо расспросить тебя кое о чем. Поднимайся, да поживее, нас ждут наверху!
Его тон заставил сердце Мефодия болезненно сжаться. «Что они собрались с ним делать? – подумал он. – Господи!.. Надо молиться!» Евфимия увели, дверь с лязгом закрылась. Игумен больше не мог есть и, задув свечу, упал на колени и стал молиться за архиепископа, его примеру последовал и Ксенофонт.
Евфимия привели на первый этаж здания, под которым находилась темница, в довольно просторное помещение, служившее в монастыре гостиной. Там архиепископа ожидали прибывшие с логофетом хранитель чернильницы и жезлоносец Косьма, один из императорских телохранителей. Феоктист задал архиепископу тот же вопрос, что он слышал от императора: кто посещал его, пока он проживал в столице?
– Я уже ответил на этот вопрос августейшему государю, – сказал Евфимий. – Мне нечего добавить.
– Ах, так! – сказал логофет. – Зато нам есть, чего добавить! – он повернулся к стоявшему у двери келейнику, приехавшему с архиепископом. – Раздень его и свяжи ему руки! – и Арсавир достал из сумки, лежавшей тут же на полу, бич из скрученных воловьих жил.
Монах со слезами принялся помогать Евфимию снимать одежды, а потом связал руки веревкой, которую дал ему Косьма. Архиепископа растянули прямо на полу, и логофет собственноручно дал ему десять ударов бичом. Прислужник, стоя на коленях у головы Евфимия, держал его за руку и плакал. Архиепископ не издал ни звука, только пальцы его так вцепились в руку монаха, что на ней остались синие отметины. Но это было лишь началом.
– Ну что, – спросил логофет, прекратив бичевание, – ты по-прежнему отказываешься говорить, кто приходил к тебе?
– Никто, кроме госпожи Флорины, тещи твоей и самого августейшего, – тихо ответил архиепископ.
– Оставь ее, говори о других! – раздраженно сказал Арсавир. – Я о других тебя спрашиваю, о них ты и должен отвечать!
Но Евфимий молчал. Тогда логофет, приказав жезлоносцу перевернуть Евфимия с живота на спину, дал ему еще тридцать ударов и снова задал тот же вопрос.
– Если у вас есть приказ и власть убить меня одним ударом, – еле слышно проговорил архиепископ, – вы сделали бы мне большое одолжение, господа, как можно скорее прекратив эту мучительную для меня жизнь.
– Старая обезьяна! – процедил логофет.
– Говори! – заорал, выйдя из себя, хранитель чернильницы. – Не может быть, чтоб под ударами ты не назвал имен!
Он выхватил у Арсавира бич, Косьма снова перевернул архиепископа, и Феоктист принялся бить его по спине еще сильнее. После пятидесяти ударов за истязание снова принялся логофет, дав Евфимию еще сорок ударов по груди и животу. Когда он остановился отдохнуть, хранитель чернильницы сказал распростертому на окровавленном полу архиепископу:
– Не воображай, что молчанием ты отделаешься от вопросов! Знай, что мы прибыли покарать тебя за твои преступления против императорской власти!
Евфимий с трудом разлепил искусанные губы и прошептал:
– Мне говорили, господин, что твои мать и сестра подвизаются в монашестве.
Феоктист вздрогнул и, нахмурившись, сухо сказал:
– Да. И что из этого?
Архиепископ несколько мгновений смотрел на хранителя чернильницы и ответил:
– То, что ты избрал себе хороший образ благочестия!
Феоктист побледнел, потом покраснел, хотел что-то сказать, но вдруг повернулся к логофету, мотнул головой в сторону двери и, ни слова не говоря, быстро вышел из помещения. Арсавир переглянулся с Косьмой, пожал плечами, бросил бич на пол рядом с Евфимием и, взяв сумку, последовал за хранителем чернильницы. Жезлоносец посмотрел на лежавшего на полу истерзанного архиепископа, и в его глазах промелькнула жалость. Келейник Евфимия заметил это и хотел уже о чем-то попросить Косьму, но тот, мгновенно посуровев и нахмурившись, отвернулся и быстро вышел.
Монахи отнесли Евфимия в келью, где он провел предыдущий день. Его келейник попросил позволения поговорить с Мефодием и, придя к узникам, рассказал им всё бывшее. Игумен, пораженный, несколько мгновений молчал, стиснув зубы и стараясь не расплакаться. Ксенофонт начал причитать и проклинать жестокость императорских посланцев.
– Чем можно облегчить страдания владыки? – спросил монах.
Этот практический вопрос привел Мефодия в себя, и он, стараясь не думать о том, во что должно было превратиться тело Евфимия после бичевания, деловым и сухим тоном объяснил, что нужно прикладывать к спине и груди тонкие тряпки, смоченные водой. Когда келейник ушел, страж закрыл дверь, и в тюрьме снова настал мрак, Мефодий улегся на свою рогожу лицом к стене и закрыл глаза. Им овладело какое-то бесчувствие, и молиться он был не в состоянии. Перед внутренним взором поплыли картины прошлого.
Молодость, проведенная в Сиракузах… Семья Мефодия была очень богатой, и ему наняли хорошего учителя. Мальчик изучил грамматику и чистописание, стал прекрасным каллиграфом и прочел немало книг, особенно его интересовала история… Когда ему пошел семнадцатый год, родители отправили его в Константинополь, где у них были родственники, которые обещали помочь юноше поступить на придворную службу. Мефодий был красив, умен, честолюбив и мечтал о блистательной карьере, нисколько не сомневаясь, что это ему вполне по силам. Но по дороге он, по настоянию матери, сделал небольшой крюк, чтобы навестить владыку Евфимия, находившегося в ссылке неподалеку – на острове Пантеллария, куда его отправил император Никифор после подавления мятежа Вардана Турка. Родители Мефодия хорошо знали архиепископа и как-то раз приезжали к нему в Сарды вместе с сыном, тогда еще десятилетним ребенком. Молодой человек застал Евфимия за сборами в дорогу: император, хотя не разрешил ему вернуться на кафедру, позволил перебраться ближе к столице, и Мефодий покинул остров вместе с архиепископом. Сначала юноша немного смущался перед Евфимием, не зная, о чем можно, а о чем нельзя говорить с ним – строгим на вид пятидесятилетним аскетом. Но очень скоро обнаружилось, что с владыкой можно было свободно беседовать о самых разных вещах – не только о церковных делах или о благочестии, но и о политике, истории, о книгах, в том числе мирских, даже о поэзии. Они почти подружились за время плавания, которое немного затянулось из-за плохих ветров, но для юноши пролетело быстро: Евфимий увлекательно рассказывал, и Мефодий узнал от него много интересного. Молодой человек, в свою очередь, рассказал Сардскому владыке нехитрую повесть о своей жизни и о планах на будущее. Архиепископ заметил, что Мефодий, как по всему видно, умен и смышлен, а потому продвинуться на службе ему будет нетрудно, и больше к этой теме они не возвращались. Однако, когда судно уже шло по Геллеспонту в Пропонтиду и Мефодий, стоя на палубе рядом с архиепископом, с любопытством смотрел на проплывающий мимо берег, Евфимий вдруг сказал:
– Значит, ты плывешь в Город за славой, Мефодий… Но если ты так любишь славу, почему бы тебе вместо преходящей славы не обогатиться лучше пребывающей?
– Что ты имеешь в виду, владыка? – удивленно спросил юноша.
– Взгляни! – архиепископ протянул руку к берегу. – Вот сейчас мы видим перед собой одно, а спустя четверть часа уже совсем другое. Так и та слава, к которой ты стремишься: в любой момент она может столь же быстро смениться бедствиями и бесславием… Ты читал исторические повествования и сам можешь вспомнить много примеров тому. И я скажу тебе, что сейчас вижу перед тобой два пути, ты волен выбрать любой: или придворные должности и чины, которые могут вознести тебя высоко, но только Бог знает, сможешь ли ты их удержать так долго, как захочется… Или раздать все твои деньги бедным, взять крест Христов и последовать по стопам Спасителя.
Молодой человек вздрогнул, взглянул на архиепископа и поразился, какое у того вдруг стало светлое лицо. Евфимий чуть улыбнулся.
– Ты подумал сейчас, что это принесет тебе лишь небесную славу после этой жизни, но вспомни, что сказано в Евангелии: оставив всё ради Христа, ты и здесь получишь это сторицей, и там унаследуешь жизнь вечную. Говорю тебе, Мефодий: если ты сейчас послушаешься моих слов и сделаешь сам себя нищим и бесславным, то некогда воссядешь с сильными народа и унаследуешь престол славы!
Мефодий послушался архиепископа и вместо Константинополя отправился в Вифинию, чтобы поступить в монастырь, указанный ему Евфимием… И вот, его наставник умирает, иссеченный бичами, а сам он уже десять лет сидит в этой дыре, похороненный заживо… Это и есть тот самый «престол славы»?!.. Игумена охватило отчаяние. Найдись у него сила, он бы, наверное, стал бить кулаками в дверь и громко проклинать мучителей Евфимия и даже самого императора – «и пусть бы меня казнили!» – но теперь он только вцепился зубами в рукав собственного хитона и затрясся от беззвучных рыданий.
Он не помнил, когда уснул. Его растолкал Ксенофонт: оказалось, был уже обеденный час следующего дня, и им принесли еду. Стражник сообщил, что Евфимий жив, но очень плох и долго не протянет. Отвести игумена на свидание с архиепископом страж решительно отказался, но согласился передать умиравшему Дары для причастия. Приближалось Рождество Христово, и никогда еще Мефодий не встречал его в таком мрачном расположении духа. Всю неделю до праздника архиепископ пролежал в келье, страдая от ран, не в силах даже ничего съесть. Келейник смог ему скормить только спелую грушу и часто поил водой – Евфимия мучила сильная жажда, а раны от бичей воспалились и гноились. Он умер на рассвете вторника, на следующий день после Рождества. Отпевать «еретика» было некому, кроме Мефодия, и, после некоторых препирательств с настоятелем монастыря, на другой день тело почившего принесли и положили на рогоже перед дверью темницы. Игумен вместе с Ксенофонтом и келейником Евфимия пропели положенные псалмы, стихиры и молитвы. Тело, всё так же на рогоже, положили в нарфике монастырского храма, а на следующий день, после приезда нескольких родственников покойного, поместили в простой деревянный гроб и похоронили почти без свидетелей.
Племянник и духовный сын Евфимия, спафарий, человек богатый и со связями, поднял в монастыре немалый шум, когда узнал, в каких условиях содержатся здесь узники, и даже заявил игумену, что «плевать хотел на этого логофета и на подлеца Феоктиста» и пожалуется самому императору – тем более, что Феофил, как стало известно, был недоволен тем, как его посланцы обошлись с Сардским владыкой, и даже во всеуслышание назвал Феоктиста и Арсавира «безмозглыми тупицами». Перепуганный игумен обещал исправить положение и действительно перевел Мефодия с Ксенофонтом в другое помещение, хотя тоже подвальное, но с окошком под потолком и более просторное: здесь хранили вино, и подвал освободили ради узников. Спафарий пожертвовал заключенным новую одежду и, по просьбе игумена, принес ему письменные принадлежности и хорошего пергамента, на прощанье сказав, что время от времени будет наведываться на остров и проверять, как содержатся узники. Ксенофонт величал его «благодетелем и спасителем», Мефодий благодарил более сдержанно, но в глазах его тоже сверкали слезы.
– Да, отче, – с горечью сказал спафарий, – вот так и гибнут лучшие люди! Забили, зарыли… и забыли…
– Нет, господин, не забыли, – сказал Мефодий. – Я напишу про владыку! Обещаю!
…Вскоре после смерти Сардского архиепископа Флорина заявила, что уходит в монастырь, решив превратить в обитель собственный особняк в Псамафийском квартале. Августейшую чету эта новость не огорчила: Феодора после разговора о пророчестве была сердита на мать, а Феофил никогда не испытывал к теще особых симпатий; впрочем, император выделил ей значительную сумму на постройку храма в новосозданной обители. Каломария вообще сказала, что мать «могла бы это сделать и раньше», сразу после смерти отца, «при ее-то благочестии», а Петрона не без яда заметил, что «для некоторых благочестие это такой молоток, чтобы стучать окружающим по голове»…
Феофил действительно был недоволен тем, как обернулась история с допросом Евфимия: посылая Арсавира с Феоктистом на остров Святого Андрея, он не предполагал, что они в своем усердии переусердствуют.
– Вот тупицы! – сказал он в сердцах синкеллу. – Теперь, пожалуй, из-за них меня станут обвинять в том, что я приказал убить этого старика! А Феоктист оправдывается: мол, он никак не мог поверить, что Евфимий ничего не скажет даже под бичами…
– Сардский владыка всегда был упрям, – заметил Иоанн. – Что делать! Не огорчайся, государь. Не думаю, что это вызовет много обвинений против тебя. Евфимий, как ни поверни, повинен в государственном преступлении – как еще назвать это их «пророчество»? А по политическим делам и не такое бывало при прежних государях… Если кто и будет слишком возмущаться, то всё те же иконопоклонники. Но они всегда недовольны, такое уж у них занятие, – Грамматик насмешливо улыбнулся.
– Наверное, ты прав… Впрочем, если меня эта история и огорчает, то не слишком. Я просто в последнее время бываю раздражителен… Иногда, знаешь ли, очень раздражает, когда не можешь понять, зачем в твоей жизни происходят некоторые вещи!
– Да, акростих жизни невозможно прочесть так быстро, как нам того хочется.
– Хорошо бы, если б его хоть когда-нибудь стало возможно прочесть! – Феофил побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. – Скажи-ка мне отче… Если б я пришел к тебе на исповедь и спросил, идти мне на «маневр» или нет, что бы ты мне ответил?
– Государь, – ответил синкелл, пристально взглянув на императора, – если ты придешь ко мне на исповедь и задашь такой вопрос, я дам тебе ответ в меру моего понимания. Но только если ты придешь на исповедь. В духовной жизни я не люблю условных вопросов и ответов. То, что я могу сказать тебе, будет или верно, или неверно. Ты же в любом случае всё равно поступишь так, как сам сочтешь нужным. Поэтому нет смысла говорить об этом. А на исповедь ко мне ты не придешь. По крайней мере, сейчас.
Феофил усмехнулся. Иоанна не обманешь!.. Да, он прав: сейчас императору не хотелось исповедаться у него. Исповедь в посты у патриарха ни к чему не обязывала: можно было назвать грехи в общих словах, получить разрешение, и всё – Антоний, если кающийся сам не задавал ему вопросов, никогда не пытался говорить каких бы то ни было поучений. С Иоанном так, разумеется, не получится. Если б император решил исповедаться у игумена, то не для того, чтобы просто получить разрешение от грехов, а для другого. Оба прекрасно это понимали, и именно к этому другому Феофил сейчас был не готов: он подозревал, что исповедь у синкелла будет тем, что можно назвать «мечом обоюдоострым, который проходит до разделения души и духа, составов и мозгов», знал, что это не может быть не больно, – и боялся этого. Когда-то ему думалось, что Иоанн попросту не сможет понять его страданий, а значит, и подать нужный совет, потому что сам никогда не испытывал такой страсти; теперь Феофил сознавал, что игумен, пожалуй, мог бы понять его лучше, чем кто бы то ни было, – и, однако, василевс не был готов к такому разговору… Он слишком ко многому обязывал бы, а император… Да, Иоанн и тут был прав: в вопросе о «маневре» Феофил не послушался бы никого, кроме себя. Он еще колебался, но… был ли это вопрос благочестия или всего лишь вопрос времени?..
– Ты прав, отче, – сказал он. – Но если… «маневр» осуществится… я приду к тебе на исповедь, – император говорил это, не отрывая взгляда от лица синкелла, но так и не смог прочесть ни намека на тайные мысли Иоанна.
– Как тебе будет угодно, августейший.
7. Знамения
Кто первый выдвигает обоюдоострый довод, тот обращает его против себя.
(Марк Фабий Квинтилиан)
После Пятидесятницы к Феофилу явился начальник прошений Стефан, сообщил, что «треклятый монах не желает отдавать долга», и спросил, каковы будут распоряжения василевса. «Ах да, этот отшельник!» – вспомнил император и удивился, как это он напрочь позабыл о нем.
Эта история началась еще в ноябре прошлого года, когда в Византий ко двору прибыли из Кивирриотской фемы жалобщики. Принятые василевсом, они сообщили, что некий Иоанн Эхил, бывший при императоре Михаиле наместником фемы, несправедливо отнял у них имущество, а теперь стал монахом, и взыскать с него что бы то ни было невозможно, поэтому пострадавшие «от великого произвола Эхила» просили василевса разобрать их дело и возместить убытки хотя бы за счет родственников нынешнего монаха Антония, богатых и занимающих начальственные посты. Феофил вызвал к себе Давида, брата бывшего наместника, и сказал ему, что надо восстановить справедливость. Давид растерялся: зная брата, он не верил, что Иоанн мог поступить несправедливо, но и привести решающих доводов в его пользу не мог, поскольку не знал в подробностях, за что именно и по какому суду было изъято имущество у жалобщиков. Давид попросил у императора отсрочки, обещая разыскать брата и лично доставить его ко двору, чтобы Антоний объяснил всё сам.
Бывший наместник подвизался в местечке Пандим близ Олимпа. Иоанн Эхил происходил из Палестины. Родители его были благочестивы и часто посещали одного отшельника высокой жизни, по имени также Иоанн, бывшего насельника Свято-Саввской лавры, подвизавшегося на горе недалеко от их городка. Они весьма почитали старца и однажды попросили его взять сына в прислужники. Монах согласился, поскольку был уже немощен, и мальчик приносил ему воду, хлеб и дрова, часто молился вместе с ним и читал ему Псалтирь – сам подвижник, до монашества занимавшийся разбоем, был неграмотен. Как-то раз старец после молитвы сказал Иоанну:
– Дитя, то, что я сейчас скажу, не в угоду тебе, но истину открою: ты выйдешь из пределов Сирии, будешь жить в ромейской земле, довольно времени пробудешь в миру, станешь правителем и военачальником, а потом отречешься от мира и послужишь Христу в монашестве.
Мальчик сообщил об этом родителям, и те сказали, что, верно, Бог открыл старцу будущее, что сын должен благодарить Господа за Его промысел и хранить себя чистым от всякого греха. Когда мать умерла, а отец вступил в новый брак, Иоанн, получив после матери наследство, вместе с братом Давидом и некоторыми другими христианами удалился из Палестины и, придя в византийскую фему Кивирриотов, поселился в приморском городе Атталии. Он был тогда цветущим юношей, высоким и очень мужественным на вид, и на него обратил внимание триерарх местного флота. Расспросив Иоанна о его происхождении и жизни, патрикий взял его на службу и немалое время испытывал в разных делах. Увидев, что Иоанн разумен, рассудителен и способен к начальствованию, триерарх доложил о нем императору Михаилу, а тот назначил Иоанна наместником в Кивирриотскую фему. На новом посту Иоанн строго относился ко всем нарушителям закона, а во время мятежа Фомы не только не поддержал восставших, но и по мере сил отражал их нападения, сохраняя верность Михаилу. По окончании бунта он побывал в Константинополе и, прожив там около десяти месяцев, возвратился в Атталию, обласканный императором. Несмотря на жизнь в миру, в брак Иоанн не вступал, но сохранял чистоту, усердно молился и строго соблюдал посты, памятуя предсказание о своем будущем монашестве. По молитвам Иоанна даже происходили исцеления. Однако время шло, росла его мирская слава, начальствование его было столь успешным, что его хвалили и ближние, и дальние – и вот, прорицание отшельника незаметно забылось, а вслед за забвением наместника постигло искушение. Быв приглашен однажды к одному из местных архонтов и увидев его дочь, Иоанн внезапно воспламенился такой страстью, что буквально потерял голову. Сначала он думал, что это «временное помрачение», много молился и почти ничего не ел, но страсть его только возрастала. Тогда, наконец, несмотря на довольно большую разницу в возрасте между ним и девушкой, он решил жениться, рассуждая в себе, что, по слову апостола, «лучше жениться, чем разжигаться». Родители девицы сочли его предложение за великую честь, и закипела подготовка к свадьбе. И вот, в самый разгар всех этих хлопот и приятных волнений, Иоанну сообщили, что его спрашивает какой-то монах. Черноризец, принятый наместником, по обычаю, со всяким почтением, сказал ему с поклоном:
– Авва Иоанн из разбойников послал меня к тебе, – и, вынув из дорожной сумы письмо, протянул Эхилу.
«Ты, чадо, сказанное тебе мною, смиренным, – говорилось в письме. – Ты словно не знаешь, что ты смертен и немного спустя покинешь эту жизнь. Зачем ты напрасно спешишь, торопишься переделать твои суетные дела? Тебе не предопределено иметь жену. Время мирской власти, о котором я говорил тебе, уже исполнилось, и тебе должно непременно вступить отныне на монашеский путь».
Прочитав это послание прозорливца, наместник отослал всех, удалился в свои комнаты и долго плакал там, а когда вышел, то уже не ощущал ни страсти, ни желания жениться. Угостив и приютив пришедшего инока, через три дня он отпустил его, а сам, призвав тайно самого верного слугу по имени Феодор, сказал ему, что бесповоротно решил стать монахом и нуждается в его помощи для осуществления своего намерения.
На следующий же день в доме наместника был дан пир, собрались родственники и друзья Эхила – всё люди заслуженные и знатные. За столом подавалось лучшее вино, себе же Иоанн поручил подавать варево из лука в кубке из красного стекла, так чтобы со стороны было похоже, будто и он пьет вино. Феодор усердно исполнял поручение, а когда упившиеся гости и все домашние уснули, Иоанн в сопровождении слуги отправился к столпнику Евстратию, подвизавшемуся недалеко от города, и тот постриг Иоанна в монахи, дав ему имя Антоний; с ним постригся и Феодор, получив имя Савва.
Узнав о случившемся, друзья и родственники новопостриженного в гневе едва не разрушили столп, где жил Евстратий, крича, что монах – злоумышленник и изменник, поскольку лишил их область такого замечательного наместника; особенно возмущался брат Антония. Наконец, Эхил, видя, что смятение растет и вокруг столпа собирается всё больше народа, спустился вниз и сказал Давиду:
– Что ты делаешь? Зачем навлекаешь на себя гнев Божий? Прекрати поносить отца Евстратия! Разве ты не знаешь, как сильны молитвы святых, и не боишься Бога? Если б я умер, разве не могли бы вы управиться без меня?
Увидев его в монашеских одеждах, все залились слезами, оплакивая его судьбу. Антоний еле-еле уговорил их возвратиться по домам.
Прожив немного у Евстратия, Антоний с Саввой, взяв благословение старца, отправились сначала в Аморий, где в подвигах и постах провели некоторое время, а затем в Никею. Там Антоний прожил девять месяцев в затворе, после чего, отпустив от себя Савву, ушел в Вифинию и поселился в одном из монастырей, а затем стал подвизаться в отдельной келье в пяти стадиях от него. Там и нашел его Давид.
Выслушав рассказ брата, Антоний пожалел его и отправился в столицу. Спрошенный императором о том, по какой причине он в свое время отнял имущество у жаловавшихся на него людей, монах ответил:
– Я, августейший, тогда отдал их под суд и взял их имущество, как врагов царства твоего отца и противников христиан, поскольку они участвовали в богопротивном мятеже Фомы. Имения их я отдал оруженосцам вашего владычества. Если открылось, что я распорядился плохо, то мудрость твоей державы да рассудит об этом.
Феофил смотрел на него и думал: «Поди, разберись теперь, кто из них был прав, и кто говорит правду… Да и до того ли мне сейчас! Эти жалобщики, верно, решили, что я не одобряю политику отца, раз наказал убийц крестного и принял обратно Мануила, и рассчитывают, что я окажу им благодеяния… Глупцы! Сделаешь что-нибудь одно – от тебя ждут и всего прочего, якобы логически проистекающего… Впрочем, ладно, я разберусь с этим монахом, но чуть позже». И он передал отшельника заведующему прошениями, приказав пока держать под стражей. Стефан сначала обходился с заключенным милостиво, надеясь получить от него деньги. Антоний же выпросил себе возможность по субботам и воскресеньям свободно ходить по Городу, сказав, что будет навещать друзей, прося их о помощи. Так прошло пять месяцев, и Стефан, наконец, потеряв терпение, приказал привести Антония и заорал на него:
– Так-то, негодная тварь, ты собираешь деньги для уплаты долга?
– Какие деньги? – сказал монах. – Я вовсе не намеревался их собирать.
– Ты сказал, что пойдешь к друзьям и попросишь помощи!
– Это правда. Я и ходил к друзьям. С тех пор, как я принял святую схиму, моими друзьями стали святые Божии, их я и просил о помощи. Мне жаль, что ты неправильно понял меня, господин.
Стефан несколько мгновений ошарашено смотрел на монаха, а потом схватил лежавший на столе бич из воловьих жил и неистово завопил:
– Я сейчас выбью твою душу из тела, если ты не отдашь золота, сколько определил государь император!
– Весьма дивлюсь я твоему решению, господин, – ответил Антоний всё так же спокойно, хоть и отступив на шаг. – Как ты хочешь получить золото от нагого человека? Ты же видишь: у меня нет ничего другого, кроме этого хитона – и ты требуешь от меня денег?
– Наглая тварь!
Позвав одного из слуг, Стефан вручил ему бич и приказал дать монаху пятьдесят ударов. Но слуга, взглянув на Антония, пришел в замешательство и, поколебавшись, решительно сказал, что не станет «бить Божьего человека». Взбешенный Стефан надавал слуге пощечин и вытолкал его вон, после чего собственноручно бичевал старца и приказал бросить его в темницу, забив ноги в колодки. Узнав об этом, жена заведующего прошениями заплакала и сказала ему:
– Безумец! Что ты сделал? Увы этому дому от неправедно пролитой крови! Как ты не боишься, что Господь отвернется от нас за такие дела?! Неужели мало тебе тех денег, которые ты вымогаешь у людей, и тебе надо бить и мучить, да еще монаха!
– Заткнись! – рявкнул на нее Стефан.
Через несколько дней, когда Антоний немного оправился после бичевания, Стефан доложил о заключенном императору, а после приема чинов, по приказу Феофила, привел к нему монаха и заявил, что тот пять месяцев морочил ему голову «иносказательной болтовней» и никаких денег отдавать не собирается, а только «проедал зазря государственный хлеб».
– Так освободи его сегодня же, – сказал император, даже ничего не спросив у монаха.
Стефан издал какой-то гортанный звук и поклонился в знак покорности. Император жестом приказал ему отойти к дверям и, обратившись к Антонию, сказал:
– Ступай, отче, туда, где ты жил, ничего не бойся… и молись за нас.
Монах поклонился, внимательно посмотрел на императора и тихо ответил:
– Молиться буду, по мере моих сил, государь. А ты, августейший, не унывай. Страсти так скоро не побеждаются.
Феофил чуть вздрогнул и посмотрел на старца вопросительно. «Что он знает? Откуда? Прозорливец?..» Этой ночью императора опять снедали вожделения и мечты о той, которую он давно должен был забыть, а утром он проснулся с чувством, будто наелся полыни, и до сих пор горечь не оставляла его душу. Неужели монаху открылось это?!..
– Не смущайся, государь, – сказал Антоний всё так же тихо. – Я тоже человек и знаю, что такое похоть. Дело бесов искушать, а наше – противиться, а если и падать, то сразу вставать и опять бороться. Господь многомилостив!.. Прощай, государь!
Антоний возвратился в Вифинию и зажил по-прежнему, ежедневно вознося молитвы о телесном и душевном здравии императора и всей его семьи, а когда прислуживавший ему монах заметил, что «государь ведь еретик», сомневаясь, можно ли за него молиться, отшельник строго взглянул на него и сказал:
– Чадо, в юности я, грешный, сподобился узнать великого подвижника, прозорливца и молитвенника, это он наставил меня на монашский путь и я многим ему обязан. Так вот, до монашества он был разбойником и убийцей. Только раз в году, переменив свой разбойнический вид, он ходил в Иерусалим поклониться святым местам, а потом опять принимался за прежнее и провел так многие годы. Но Господь даже такого злодея призвал к покаянию и сделал великим святым! Неужели, по-твоему, Он не может призреть и на государя? Ведь государь заботится о подданных, о бедных и обижаемых, прилежит к божественным службам и старается делать всё, чтобы, в меру своего разумения, благоугодить Богу! Сказано у апостола: «Молитесь друг за друга, да исцелитесь». И как могу я презреть просьбу государя, ведь он сам просил меня молиться за него! Ты, чадо, воспитан православными родителями, подвизаешься в православном монастыре и готов уже думать, верно, что в этом есть твоя заслуга, а ведь это только милость Божия. Подумай, что бы с тобой могло быть, если б тебя с детства воспитывали иконоборцы и внушали, что их ересь и есть самая истинная вера… Смотри, как бы нам, мнящимся быть богатыми, не оказаться окраденными на суде Христовом, если мы будем осуждать других!
Спустя две недели после того, как Антоний покинул Константинополь, заведующего прошениями постигла кара, о которой его предупреждала жена: императору подали жалобу, что Стефан вымогал деньги у одного из просителей, а когда началось разбирательство, выяснилось, что это далеко не первый случай подобного злоупотребления, и Феофил осудил Стефана на изъятие имущества и ссылку из Города вместе с семьей. Слуга, отказавшийся бичевать Антония, возблагодарил Бога, что не послушался приказа Стефана: он был уверен, что навалившиеся на заведующего прошениями бедствия были наказанием за грех против подвижника…
Врийский дворец, где император собирался проводить самое жаркое время года, к лету был достроен, оба храма в нем торжественно освящены патриархом, император устроил прием чинов и пышный обед, а на другой день, когда церемонии окончились, сам взялся показывать жене дворец, зная, что такая прогулка вдвоем доставит ей больше всего удовольствия. Феодора была поражена необычной отделкой помещений, пестрыми цветочными и растительными узорами, геометрическими орнаментами, множеством воздушных арок и узорчатых решеток. Когда император с женой дошли до одной из спален, где стены были выложены ярко-синим камнем, по которому шел золотой орнамент, напоминавший морскую рябь, нижняя часть стен была задрапирована зеленовато-синим шелком с золотым узором из рыб и причудливо переплетавшихся водорослей, а на темно-синем потолке мерцали золотые звезды, утомившаяся Феодора – она была уже на седьмом месяце беременности и быстро уставала – опустилась на большую обтянутую синим шелком подушку, лежавшую прямо на покрытом коврами полу, и, с улыбкой глядя на Феофила, сказала:
– Я в восторге! Арабы, наверное, не такие уж дикие, если живут в таких дворцах! Правда, сначала мне показалось, что всё слишком пестро, но теперь я вижу, что в этом есть своя особая красота… – она огляделась вокруг. – А эта спальня просто великолепна!
– Она в арабском стиле, но узоры я придумал сам, – сказал император. – Звездная ночь, морские глубины…
Вдруг он умолк. На месте Феодоры ему представилась девушка с синими глазами – такими же синими, как мрамор, покрывавший стены, – и он внезапно понял, что из всех оттенков камня выбрал в точности цвет ее глаз, а ведь он в тот момент совсем о ней не думал. Дворец, который должен был быть построен для нее. Тенистые сады с фонтанами и уютными уголками, где он должен был читать любимые книги с ней. Спальня, где, на мягчайших коврах или больших подушках – здесь, как это было принято у агарян, они были вместо кроватей – он должен был обладать ею. Ребенка, чье появление ожидалось в августе, должна была родить она…
– Красота! – сказала Феодора. – Слушай, почему ты так смотришь странно? Что-то не так?
– Да нет, всё так. Более, чем, – Феофил сел на подушку рядом с женой. – Я подумал, что тебе пойдет ожерелье с лазуритами такого же оттенка, как эти стены. И серьги… – он поиграл прядью ее волос. – А если б я взялся подражать халифам не только в строительстве, мне надо было бы в этом дворце держать для тебя целое собрание украшений и особых рабынь. Говорят, любимая жена Харуна ал-Рашида носила столько драгоценностей, что ходила, опираясь на двух невольниц, чтобы не упасть под тяжестью.
– Ой! – императрица рассмеялась. – Это уж слишком! – она положила голову на плечо мужу. – Наверное, ей надо было чем-то отличаться от других жен… У халифа ведь много их?
– О, да! Вернее, жен может быть только четыре, а вот наложниц – сколько угодно, до нескольких сотен.
– Какой ужас! Так они, наверное, – Феодора чуть покраснела, – по много дней ждут… своей очереди…
– Вероятно, – усмехнулся Феофил. – Впрочем, халифы, говорят, весьма любвеобильны… Но, конечно, их женам в любом случае не позавидуешь!
– Хорошо, что я у тебя одна! – улыбнулась августа.
– Да, ты у меня одна, – ответил император, глядя на синие стены.
«Но не единственная…»
Между тем наступление лета вновь принесло неприятные вести с арабской границы. Теперь новости оттуда доходили быстро, благодаря системе маяков, сделанных по предложению Льва. Философ – такое прозвище постепенно закрепилось за ним после того, как он возглавил школу при храме Сорока мучеников, – обмолвился в разговоре с императором, что можно было бы значительно ускорить получение вестей с восточных границ и даже с помощью одного и того же приспособления передавать разные сообщения. Для этого надо было сделать двое одинаковых часов, настроить их точно на одно и то же время, и одни поместить в каком-нибудь месте вблизи Киликийских Врат, через которые враги проникали на землю Империи, а другие – во дворце, устроив между этими пунктами цепь огневых маяков. Огонь, зажигаемый на маяке у границы в тот или иной час, должен был означать определенное событие – например, набег врагов, сражение, пожар и подобное; в течение того же часа сигнал мог по цепи маяков достигнуть столицы. Идея чрезвычайно понравилась Феофилу и он поручил Льву руководить изготовлением часов, а сам немедленно приказал начать строительство «огневой цепи» – от крепости Лулон через крепость на Аргейском холме, Исам и еще ряд крепостей, до Авксентиева холма, откуда сигнал был виден служителем дворцового маяка. На работы бросили большие силы и средства, и синклитики перешептывались, что «математик вытягивает у императора деньги на баснословную затею». Однако, когда затея была испытана в действии, как раз перед походом Мамуна на Ираклию, злословящие прикусили язык, а один из синклитиков даже написал в честь Льва хвалебные стихи, закончив их призывом установить «великому геометру» статую. Философ выслушал дифирамб с чуть смущенной улыбкой, поблагодарил и добавил:
– Что до статуи, то… я читал, что Катон Младший не позволял воздвигать себе статуй, весьма мудро обосновав это: «Предпочитаю, чтобы спрашивали, почему нет моей статуи, нежели почему есть».
Император, рассказывая об этом синкеллу, заметил:
– Я лишний раз убедился, что настоящий философ стоит того, чтобы ради него пожертвовать даже перемирием с врагами!
Действительно, Мамун, получив от Льва ответы на вопросы, заданные в переданном через Иоанна письме – то были разные затруднения из области геометрии, астрономии и философии, – был так восхищен, что даже написал письмо самому императору, прося прислать к нему Льва и обещая в обмен много золота и перемирие. Хотя именно этого Фео фил совсем недавно сам просил у халифа, теперь он ответил отказом, а Льву еще повысил жалование и возвел его в чин спафария.
И вот, Мамун, воротясь после подавления восстания в Египте, всего несколько дней пробыл в Дамаске и двинулся к ромейским землям. На этот раз агаряне решили взять важное ромейское укрепление – крепость, стоявшую на месте бывшего Фаустинополя, на пути, ведшем из Тарса через Киликийские Врата в Тиану. Император поначалу не слишком обеспокоился: в крепости был очень сильный гарнизон и неприступные стены, и Феофил полагал, что каппадокийцы справятся с опасностью своими силами. Мамун действительно стоял у крепости сто дней, но не мог ее взять ни силой, ни переговорами. Тогда, уже в середине августа, он приступил к настоящей осаде, выстроив укрепления и пустив в ход осадные машины. Ромеи, однако, не сдавались; они даже сумели захватить в плен Уджейфа, одного из агарянских военачальников, и, послав об этом сообщение в столицу, просили помощи, поскольку силы их истощались. Ромейское войско во главе с императором быстро выступило в поход, но, подойдя к крепости, было разбито арабами, занимавшими построенные по приказу халифа укрепления. Агарянам досталась богатая добыча, а защитники крепости, узнав о поражении, договорились с плененным Уджейфом, что он, в обмен на жизнь и свободу, выпросит у Мамуна пощаду им и всем жителям, если они сдадутся. Халиф согласился, поскольку осада слишком затянулась; к тому же Мамун взял много трофеев в результате сражения с императорской армией, и ему хотелось поскорей возвратиться в свои земли.
На обратном пути, в Дорилее, Феофил получил две новости из столицы. Логофет дрома сообщал, что бывший архиепископ Солунский Иосиф умер 15 июля в фессалийском захолустье, куда его сослали по приказу императора после смерти Евфимия Сардского. Похоронили Иосифа тихо, без всякого стечения людей, наскоро и в глухом месте; могилу его посещали разные монахи, как кажется, в основном студиты, но никаких беспорядков или попыток смутить народ не наблюдалось.
– Ну, слава Богу, хоть этот сам умер! – сказал василевс.
Вторая новость его не слишком порадовала: у Феодоры родилась дочь, а император надеялся, что будет сын. Впрочем, утешало то, что роды прошли хорошо: когда Феофил покидал столицу, августа чувствовала себя неважно и боялась одновременно и за мужа, и за будущего ребенка… В главном храме Дорилея был отслужен благодарственный молебен, а потом устроен небольшой торжественный обед для приближенных императора.
После обеда настоятель храма с некоторым смущением сообщил василевсу, что в городе есть одна церковь, посвященная Богоматери, где от Ее иконы в последнее время стало совершаться «чудесное знамение»: из груди Богоматери тонкой струйкой вытекает молоко, его собирают и раздают болящим; говорят, некоторые уже исцелились, а верующие всё чаще приходят с вопросами о том, почему такое бывает, если иконы это всего лишь «картинки, не достойные поклонения»… Император решил сам проверить, что там происходит, и в тот же вечер в сопровождении свиты отправился в этот храм. Появившись совершенно неожиданно для тамошнего причта и, не дав никому опомниться, он потребовал у настоятеля показать чудотворную икону. Священник был очень напуган и стал оправдываться, что он «и не знает, почему такое происходит», что икона – большое мозаичное изображение на южной стене церкви – «высоко, как и повелел трижды августейший», и даже что «всё это пустяки». Феофил насмешливо поглядел на него и сказал:
– Говоришь, не знаешь, в чем тут дело, отче? Что ж, сейчас попробуем разобраться.
Он приказал принести лестницу и приставить к стене перед иконой и сам поднялся посмотреть, откуда вытекает белая струйка, которая действительно была хорошо видна на фоне темно-синих одежд Богоматери и стекала по приделанному к низу иконы желобку в стеклянный кувшин, откуда ее разливали в крошечные керамические сосуды для раздачи верующим. Внимательно осмотрев икону, император спустился и, оглядев собравшуюся в храме толпу народа и множество свечей, горевших перед образом, в упор посмотрел на мертвенно-бледного настоятеля храма и спросил:
– Пустяки, говоришь, отче? А доходы всё это тебе приносит тоже пустяковые? – он повернулся к своим спутникам. – Полюбуйтесь на этого чудотворца! Сейчас мы попросим его показать, как он творит свои великие чудеса… Говорят, даже и исцеления, не так ли? Поистине, вера движет горы! Как говорится, слушайте и разумейте! По вере можно исцелиться даже от простого коровьего молока!
Они покинули храм, прошли в пристроенное к нему здание, и вскоре перед изумленными архонтами и телохранителями императора предстало не слишком хитроумное приспособление, по устройству напоминавшее водяные часы, с помощью которого молоко через трубочку, просунутую в проделанное в стене сквозное отверстие, понемногу вытекало на икону. Феофил приказал немедленно разломать «чудотворящий механизм», настоятеля храма арестовать и передать городским властям, чтобы те предали его публичной казни, и лично рассказал людям в храме, каким образом в них подогревали веру в чудеса от икон. Это разоблачение наделало в Дорилее много шума и побудило часть иконопочитателей всенародно покаяться и перейти к иконоборцам. Некоторые верующие, разгневавшись, даже забросали грязью «чудотворную» икону и устроили в храме бесчинства, так что церковь пришлось на несколько дней закрыть.
Вернувшись в Константинополь, император при первой же встрече с синкеллом рассказал ему о дорилейском жулике-настоятеле.
– Не таковы ли и все их древние и нынешние «чудеса», о которых они рассказывают? Я, право же, всё больше склоняюсь к такому мнению… Народу нужен предмет для поклонения, а чудеса, – Феофил усмехнулся, – не замедлят приложиться… Но какова наглость!.. Я всё чаще задумываюсь о том, что иконопоклонники совсем не ценят то снисхождение, которое мы им до сих пор оказывали… Им мало того, что они находятся на свободе, что их никто не преследует, что они вольны почитать иконы, – нет, им непременно нужны чудеса, исцеления, которыми они могут убедить толпу в своей правоте… а то и разбогатеть на народном невежестве!
– Даже если и не все бывающие у них чудеса ложны, это ни о чем не говорит, – заметил Иоанн. – Что у еретиков и беззаконников могут совершаться чудеса и знамения, об этом и любимый ими покойный Студит говорил и был совершенно прав. Поэтому удивляться тут нечему, августейший. Но чудеса сами по себе – не доказательство истины, а их отсутствие – не свидетельство о ереси. Еще Златоуст признавался, что ему часто задавали вопросы, почему ныне не происходит таких чудес и знамений, как в древности, и объяснял, что «люди тех времен были скудоумнее», поскольку недавно отошли от идолопоклонства, «ум у них был дебелый и тупой», они «не могли представить себе существование невещественных даров», поэтому в то время было много вещественных знамений.
– Да, я что-то такое припоминаю, но смутно… Откуда это?
– Из одной беседы на Пятидесятницу. «Итак, я в знамениях не нуждаюсь, – говорит он. – Почему это? Потому что научился веровать благодати Божией и без знамений». Правда, святой Иоанн имел в виду прежде всего способность говорить на языках, данную апостолам, но это с полным правом можно сказать и о разных других знамениях.
– То есть обилие чудес – признак скудоумия верующих? – Феофил усмехнулся. – Впрочем, ведь Спасителю в день суда многие скажут, что Его именем пророчествовали и творили чудеса, а Он им ответит: «Я никогда не знал вас»… К тому же надо еще уметь правильно истолковать знамения! Видишь, не так давно мне прорицали смерть за мою «ересь», а я всё еще живу, в отличие от распространявших пророчество… А ведь они утверждали, что меня постигнет кара за непочитание икон, что поражения от агарян – тоже из-за моей «ереси»… А я вот думаю, Иоанн… Эти военные неудачи не есть ли, напротив, следствие излишней снисходительности к иконопоклонникам? Я всё чаще думаю, что пора покончить с этой мягкостью. Все-таки в Евангелии не зря сказано: или «да, да», или «нет, нет»! А у нас выходит ни «да», ни «нет»… Не отсюда ли и все беды, особенно от арабов?
– Думаю, это вполне вероятно, государь. Хотя, разумеется, этого нельзя утверждать с точностью.
– Кто ж говорит о точности!.. – Феофил медленно вышагивал по «школьной» от окна к двери и обратно. – Понятно, что мы можем ошибаться относительно того, за что или зачем нас постигают неудачи… Но мне всё же кажется, что чрезмерная снисходительность к еретикам и раскольникам вредна в любом случае. Отец думал, что царствование моего крестного окончилась несчастливо, поскольку он переусердствовал в гонениях на еретиков… Но ведь провозглашение веры не обязательно подразумевает гонения на ее противников. К тому же политика моего отца не принесла особого благоволения Божия его царствованию, если смотреть хотя бы на внешние события: мятеж, какого давно уже не случалось, осада Города, потеря Крита, Сицилия… Получается, эта политика тоже вполне может быть неправильной, а иконопоклонники, между тем, наглеют всё больше: вот и до поддельных чудес дошли! Настоящих, видно, не хватает, – в голосе императора зазвучала насмешка. – Уж не говорю об их «пророчествах»!.. – Феофил чуть нахмурился. – Думаю, нужно вернуться к ясному исповеданию относительно иконопоклонства… Хотя набивать еретиками темницы, мне кажется, не стоит.
– Это было бы весьма мудро, августейший.
…Император, однако, еще выжидал до конца зимы: ему казалось, что должно произойти нечто в подтверждение правильности или неправильности его рассуждений. Вернее, Феофил знал, что́ это должно быть: он собирался принять окончательное решение после того, как станет известен результат нового посольства к Мамуну. «Сейчас я пока всё оставил по-прежнему, – думал император, отправляя к халифу послание, – и если он примет мое предложение, то я и оставлю всё, как есть… Если же не примет, это будет знак, что нужны изменения. И да свершится воля Божия!»
«Поистине, – говорилось в письме Феофила к Мамуну, – единение двух спорящих о своем счастье лучше для них, с точки зрения разума, нежели причинение вреда друг другу. Ведь ты не согласишься отказаться от уготованного тебе счастья ради того, чтобы счастье перешло к другому. Ты достаточно умен, чтобы не учить тебя. Поэтому я и написал тебе письмо, предлагая примириться и жаждая достичь полного мира, чтобы ты удалил от нас бремя войны. Будем же друг другу друзьями и союзниками, так что и доходы будут поступать каждому из нас непрерывно, торговля станет легкой, пленные будут освобождены, воцарится безопасность на дорогах и в пустынных местах. А если ты откажешься, то я не стану хитрить пред тобой и говорить льстивые речи: я выйду на тебя войной, возьму твои крепости, ополчусь и конницей, и пехотой. Но если я и сделаю это, то лишь после того, как обратился к тебе с предупреждением и поднял между нами знамя переговоров. Прощай!»
Ответ на это обращение не замедлил: послы привезли его 24 февраля, в первый день Великого поста. «Дошло до меня письмо твое, – писал халиф, – где ты просишь о перемирии, взываешь к согласию, прибегаешь то к мягкости, то к суровости, склоняешь меня предложением торговых выгод, непрерывности доходов, освобождения пленных, прекращения грабежей и войны. И если бы я не сделал выбор в пользу разумной медлительности, уделяя должное время на обсуждения каждой мысли и признавая верным взгляд на любое предстоящее дело только после того, как сочту, что мне обеспечены те его последствия, каких я желаю, то я бы в ответ на твое письмо выслал конницу из людей храбрых, мужественных, опытных, которые потщились бы оторвать вас от ваших домашних, приблизились бы к Аллаху через вашу кровь, сочли бы ради Аллаха за ничто ту боль, которую претерпят через вашу храбрость. Потом я прислал бы им подкрепление и дал бы им достаточно оружия, ведь они сильнее стремятся к водопоям смерти, чем вы – к спасению, боясь наносимого ими ущерба. Им обещано одно из двух высших благ: или готовая победа, или славная награда. Но я счел нужным обратиться к тебе с увещанием, правоту коего установит сам Аллах, ибо я призываю тебя и твоих подданных к признанию единого Аллаха, к принятию единобожия и ислама». Пригрозив в случае отказа новыми военными действиями, Мамун завершал письмо возгласом: «Спасен тот, кто следует по прямому пути!»
«Что ж, – подумал Феофил, – иногда и из уст варвара можно услышать истинное слово. Именно так, Мамун, ты прав: “Спасен тот, кто следует по прямому пути!” Аминь!» В первое воскресенье Великого поста император обнародовал указ, гласивший, что все христиане должны в отношении икон следовать постановлениям собора, состоявшегося восемнадцать лет назад при императоре Льве, и что, ввиду участившихся случаев злостного обмана верующих, открытая проповедь иконопочитания в Империи запрещается, если же кто-либо пребудет в еретическом заблуждении, то он волен в этом, но любые попытки совратить в заблуждение благочестивых граждан будут пресекаться.
Патриарх, однако, тщетно ожидал, что Феофил прикажет принять меры против монастыря Богородицы в долине Ликоса, хотя императору было хорошо известно, что тамошние монахини при случае не упускают возможности «совращать благочестивых граждан» в иконопоклонство. Когда Антоний выразил по этому поводу недоумение в разговоре с синкеллом, Иоанн только загадочно улыбнулся и сказал:
– Хороший полководец всегда оставляет себе возможность для маневра.
8. Ловушка
И вот все это должно было разрешиться и обнаружиться сегодня же. Мысль ужасная! И опять – «эта женщина»! Почему ему всегда казалось, что эта женщина явится именно в самый последний момент и разорвет всю судьбу его, как гнилую нитку?
(Ф. М. Достоевский, «Идиот»)
Феофил с некоторым волнением ожидал, что принесет приближавшееся лето в отношениях с агарянами: втайне он надеялся на изменения к лучшему – это подтвердило бы, что шаг, сделанный против иконопочитания, правилен. Однако в начале лета стало известно, что Мамун снова готовится к походу на ромейские земли, и император отправил к нему посла с письмом, где предлагал выгодные для арабов условия перемирия, и халиф мог выбрать любое из трех предложенных. Мамун, прочтя письмо, удалился в свою молельню, а возвратившись, дал послу такой ответ:
– Скажи своему царю: что до твоего предложения возместить мне расходы, то я внимаю всевышнему Аллаху, говорящему в святой Книге словами Билкис: «Я пошлю к ним дары и посмотрю, с чем вернутся посланные». Когда посол прибыл к Соломону, тот сказал: «Не хотите ли вы помочь мне богатством? То, что дал Бог мне, лучше, чем то, что Он дал вам. Нет, только вы сами радуетесь своим дарам». Что касается твоего предложения возвратить наших пленников, находящихся в ромейской земле, то в твоих руках одно из двух: или стремившиеся к Аллаху, велик он и славен, а не к сему миру, и достигшие, чего желали, или стремившиеся к благам мира сего – да не развяжет Аллах их оков. Что же до сказанного тобой, что вы исправите разрушения, нанесенные нашим землям, то даже если я выверну все до последнего камни ромейской страны, я не отомщу за женщину, которая спотыкалась в оковах, уводимая в плен, и кричала: «О, Мухаммад, приди к последовательнице твоей!» Так и передай твоему царю. Между мною и им – только меч!
Арабы вторглись в Империю и взяли несколько крепостей, причем Мамун всем ромеям предлагал или принять ислам, или платить большой налог, или пойти под меч. Большинство согласилось платить подать, и на всех захваченных агарянами землях христиане терпели великие унижения. В начале августа халиф, уже собиравшийся отбыть за Тавр, в ожидании сбора войск, разделившихся для военных действий в разных местах, стоял с лагерем возле одного очень чистого и холодного источника. Вода в нем была так прозрачна, что можно было, стоя на мосту через него, прочесть надпись на монете, лежавшей на самом дне, и так холодна, что никто из агарян не мог даже опустить в нее руку. Увидев в источнике большую серебристую рыбу, халиф пообещал награду тому, кто выловит ее, и один слуга сумел поймать рыбу и поднес ее Мамуну. Но рыба вдруг забилась, вырвалась из рук слуги и упала опять в источник, обрызгав водой горло и грудь халифа, и у него почти сразу началась сильная лихорадка: он всё время повторял, что ему холодно, и не мог согреться даже под грудой одеял, окруженный жаровнями. Мамун велел расспросить у пленных ромеев, как называется место, где они находились, и выяснилось, что его название можно истолковать как «протяни ноги свои». Врачи, бывшие при халифе, не понимали, что за болезнь охватила его, говорили, что ни в одной книге не описано такого, и ничем не могли помочь; через несколько дней Мамун умер и был погребен в Тарсе. Наследником своим он успел назначить брата, Абу-Исхака ал-Мутасима, но часть войск провозгласила халифом ал-Аббаса, который тогда стоял в только что укрепленной арабами Тиане. Мутасим немедленно отозвал племянника, приказал срыть новопостроенные укрепления и разогнать из Тианы всех поселенцев. Аббас присягнул Мутасиму, и тот вступил в Багдад.
Рассказ о странной смерти халифа быстро достиг Константинополя и был истолкован при дворе как божественное знамение. Император воспринял это как подтверждение правильности своих действий в отношении икон. Грамматик на другой день после того, как узнал новость, встретившись с василевсом, сказал:
– Как выразился один агарянский поэт, «возможно, то, что ты удержал, перестанет быть важным». Столько гордиться и чваниться, а умереть от взмаха рыбьего хвоста и холодной воды – право же, в этом видится перст судьбы! Уверен, государь, что в ближайшее время восточные варвары оставят нас в покое.
Такая уверенность могла бы показаться несколько опрометчивой, ведь пока прошло совсем мало времени после выдвижения нового халифа и нельзя было судить о его намерениях относительно ромеев… Но, как бы то ни было, в Константинополе уповали на лучшее.
В семейной жизни императора тоже всё шло почти прекрасно, если не считать того, что не было наследника престола, но это Феофил надеялся исправить в будущем: маленькой Фекле уже исполнился год, она росла здоровой и хорошенькой, и Феодора на днях сказала мужу, что вполне может «родить кого-нибудь еще»… После удаления Флорины в монастырь жизнь во дворце стала веселее: никто уже не «стучал благочестием по голове» императрицу и ее сестер и братьев, чему все были только рады. Император сблизился с Вардой и нередко любил поговорить с ним на философские темы. С женой Феофил тоже общался всё больше, читал и обсуждал исторические книги и после выездов в Город заходил к ней и рассказывал о том, что видел интересного: забавные случаи на улицах или рынках, необычные просители из числа искавших у императора защиты от произвола чиновников, странные нищие… Феофил умел рассказывать, а Феодора – слушать; порой они менялись ролями, ведь императрица тоже выезжала, и хотя они бывали в одних и тех же местах, августа часто обращала внимание на какие-то вещи, ускользавшие от императора, и ему было интересно сравнивать впечатления. «В конце концов, – думалось Феофилу, – не обязательно обсуждать с ней философию, для этого есть Иоанн… или хоть Варда. Зато с ней интересно поговорить о другом… Не так уж плохо! Я просто глупец, что не замечал этого раньше… точнее, не хотел замечать. Только травил себя попусту бесполезными мечтами!» Мысль о «маневре» приходила к нему всё реже: он как будто смирился с существующим положением, стал находить в нем приятные стороны, и хотя по-прежнему иной раз думал, что, будь на месте Феодоры Кассия, приятных сторон оказалось бы больше, ему уже было не так больно при этой мысли. «Возможно, я на пути к исцелению? – думал он. – Да и пора уже! Двенадцати лет страданий не довольно ли? Наверное, я должен был понять, что надо уметь отыскивать счастье там, где находишься, а не мечтать о несбыточном… Что ж, я, кажется, научился это делать… Может, потом пойму что-нибудь еще… По крайней мере, прожитое прожито не зря, а надо ли желать большего? Всё равно смысл акростиха, если это сравнение верно, станет полностью понятен только в самом конце. А пока, если хоть что-нибудь понятно, и за то слава Богу!»
Всё рухнуло в тот сентябрьский день, который Феофил после был готов одновременно благословлять и проклинать. Стояла прекрасная погода: жара уже спала, но еще не ощущалось дуновения осени, воздух был свеж и пропитан запахом цветов и моря. Император отправился в поездку по столице, на душе у него было спокойно, и ничто не предвещало того, что выезд обернется так, как ему и не представлялось. Началось с того, что на рынке благовоний один торговец от усердия преподнес ему ладан в миниатюрном ларце из кости с причудливым резным узором.
– Соблаговоли принять, державнейший государь, скромное приношение! Нижайше прошу не прогневаться на мое смирение… Это ладан благовонный! Успокаивает душу!
– Благодарю! – ответил император, принимая подарок. – А что за сорт ладана?
– Кассия, августейший государь!
Феофил стиснул ларчик так, что угол впился ему в ладонь, и в мозгу сверкнули, накладываясь одна на другую, несколько мыслей, в конечном счете все сойдясь к одной: положить этому конец сегодня же. В тот день его сопровождали только несколько схолариев и комит Евдоким. Обычно император выезжал с огромной блестящей свитой по пятницам, когда направлялся во Влахерны, а во время будничных выездов не любил брать с собой много сопровождающих. Сегодня их даже было меньше, чем всегда, поскольку Феофил собирался быстро вернуться во дворец и провести день за книгами. Присутствие Евдокима было весьма кстати: скромный, благочестивый, рассудительный и тихий, этот молчаливый каппадокиец не болтал попусту, отвечал только на вопросы, по сторонам не заглядывался и был, по-видимому, погружен во внутреннюю молитву. Вряд ли он мог заметить мгновенное замешательство императора при словах поднесшего ладан торговца, а главное, он как нельзя лучше подходил для осуществления плана, немедленно сложившегося в голове Феофила.
Ларчик с ладаном был отдан Евдокиму, и император поехал дальше. Лавки аргиропратов, Артополий, форум Константина… По привычке Феофил останавливался у разных прилавков, спрашивал о ценах, о том, как идет торговля, нищие получали медные оболы, народ выкрикивал приветствия императору, но мысли василевса были далеко. Вихрь, поднявшийся в его душе от одного только слова, произнесенного торговцем, еще полгода назад вызвал бы у него горькие мысли о том, почему судьба так насмеялась над ним, зачем всё так происходит, какова природа притяжения, которое он не в силах преодолеть, и какие-нибудь еще более или менее философские размышления… Но сейчас императора охватил гнев. Казалось, он почти ненавидел ее. «Я должен ее увидеть и покончить с этим! Глупец же я, что не сделал этого раньше! Двенадцать лет я страдал по собственной фантазии, и она мучит меня до сих пор, а ведь я стремлюсь к тому, чего давно нет!»
Девушки, которую он полюбил двенадцать лет назад, не существовало точно так же, как не существовало мальчиков, с которыми он дружил тогда, – теперь он был уверен в этом. Да и могло ли быть иначе? Как она жила все эти годы в своей обители? Разумеется, как и все монахи: молитвы, посты, труд, жизнь почти безвыходно за монастырской стеной, переписка святоотеческих книг, Евангелия, Псалтири – ведь известно, что носят ее монахини на продажу в Книжный портик. Иконопоклонница, как и его бывшие друзья! Когда-то веселые, зачастую ветреные, любившие игры, забавы, поэзию – а что сейчас? Монахи, молитвенники, «привыкли к такой жизни», не хотят возвращаться к прежней, не хотят общаться с Иоанном, потому что он «еретик»… Что ж, логично: любой путь, вольно или невольно избранный, неизбежно меняет тех, кто следует по нему. Но ведь и с ней – то же самое! А может быть, она… вообще стала такой же благочестивой занудой, как его теща!.. Аристотель, «Метафизика»? Да мало ли монахов в юности учились и достигали успехов в философии, но на что потом они употребляли ее? Взять хоть того же Феодора, чьи писания распространяли эти монахини: в свое время он получил хорошее образование, но использовал его, прежде всего, для борьбы с «ересью», а в обычной жизни его поучения братии не представляли ничего особенного… Вряд ли нашелся бы еще кто-нибудь подобный Иоанну, кто ссылался бы в проповедях на языческих философов наравне с отцами!.. И уж совсем безумно ожидать такого в женской обители!..
А между тем эта девушка… точнее, эта несуществующая фантазия постоянно висела над Феофилом как дамоклов меч, грозя разрушить всё, что он пытался построить – и что ему удавалось построить! Его жизнь, его занятия, его семья – какое право она имела вмешиваться во всё это, отнимать у него покой, разрушать его отношения с Феодорой?!.. Если здесь и не было любви, то всё-таки теперь он относился к жене далеко не так, как в день свадьбы или даже еще года три назад!.. И вот, стоило ему услышать имя Кассии, как вся эта постройка заколебалась, словно от землетрясения! И всё только потому, что он до сих пор верит в свою юношескую фантазию!.. Нет, довольно, довольно! «Успокаивает душу», сказал торговец? Что ж, отлично, вот и пришла пора, наконец, доставить своей душе окончательный покой и исцеление!
Несмотря на то, что ему хотелось «покончить с этим», как можно скорее убедившись, что его «фантазии» давно не существует, император не потерял самообладания, не гнал коня, и тот шел неспешной иноходью. На форуме Быка, у арки, ведшей с площади к долине Ликоса, Феофил отослал от себя всех схолариев, кроме комита, сказав, что хочет поговорить с ним и заодно прогуляться вдоль реки, по местам, где давно не был. Обсудив с Евдокимом несколько вопросов, касавшихся дворцовой охраны, император дал понять, что разговор окончен, и каппадокиец ехал чуть позади василевса молча, погрузившись, по-видимому, в молитву. От воды веяло прохладой, тут и там возвышались стены особняков и небольших обителей – берега Ликоса издавна облюбовали монахи и состоятельные граждане. Наконец, впереди, чуть вверх по склону холма, показался Свято-Диев монастырь, а недалеко от него, ближе к реке, за каменной стеной, император увидел купол небольшого храма и придержал коня.
Сердце Феофила билось так, что отдавало в ушах. Глядя на храм, где уже столько лет молилась она, император пытался разобраться в своих мыслях, чувствах и желаниях. Да, ему хотелось как можно скорее «покончить с этим», убедившись, что больше нет той, в кого он когда-то влюбился, и значит, ему уже не по кому страдать. Но теперь, находясь почти у цели, он ощутил нечто вроде страха перед разочарованием, которое его могло ждать и которое, как будто бы, он и хотел испытать: если он действительно убедится, что перед ним уже совсем не та Кассия, то, получается, он столько лет мучился совершенно зря? А как же Платон, а «две половины»?..
«Но ведь ты сам сказал тогда Иоанну, что с женщиной можно только спать, а значит, никаких “половин” не существует! Вот и убедись, наконец, в этом!»
А если… если она осталась прежней?..
«В любом случае, я узнаю, по крайней мере, почему она тогда отказала мне!»
Да, он всегда хотел это узнать. Но сейчас он и здесь ощутил страх перед тем, что мог узнать. Вдруг это будет… что-нибудь странное, недостойное представления о ней, лелеемого им все эти годы?..
«Но ведь ты сам хочешь разочароваться и положить этому конец, не так ли?»
Так, но…
«Да, страдать тебе тоже хочется только по достойным поводам! – язвил он сам над собой. – Разочарования испугался! Не повернешь ли обратно, философ?»
Но теперь он ясно понимал, что не сможет уехать отсюда, не зайдя в монастырь, что бы его там ни ждало. «Маневр» оказался ловушкой: Феофил был уже не в силах отказаться от того, на что пошел, казалось бы, вполне сознательно, а значит, как будто бы, мог это и делать, и не делать. «Не таков ли был и твой маневр, отче?» – мысленно обратился император к синкеллу и усмехнулся про себя.
– Я хочу зайти в эту обитель, – сказал император комиту схол, сам удивляясь, как спокойно и ровно звучал его голос, хотя внутри у него волновалась целая буря. – Про нее доносят, будто там еретики, – он спрыгнул с коня и отдал повод также спешившемуся Евдокиму. – Надо взглянуть самому. Жди меня тут, – и Феофил решительно направился ко вратам монастыря.
Ему не раз приходило в голову, что под предлогом проверки истинности доносов он может в любой момент посетить обитель Кассии без всякой свиты – в женские монастыри был закрыт доступ для мужчин, но император мог свободно входить всюду. Однако внутренний голос говорил ему, что вряд ли он справится с искушением, если увидит игуменью, – слишком сильна была страсть, которая влекла его сюда. И вот, наконец, он оказался здесь, привлеченный, как будто бы, не любовью, а гневом – и пытался понять, чего же он хочет…
«Хочу ее увидеть и убедиться, что это уже не та девушка и не моя “половина”!»
Император снял с крюка молоток на цепи и трижды ударил в висевшее у двери било. А если всё-таки она не изменилась, что тогда?.. Но отступать было поздно: раздался скрежет отодвигаемого засова, дверь открылась, сероглазая монахиня лет тридцати пяти, чье лицо показалось Феофилу смутно знакомым, вопросительно взглянула на него и в следующий миг склонилась, тихо воскликнув:
– Августейший государь!
Проходившая через двор с ведром в руке Христина, увидев, как Анна – в тот день она была привратницей – поклонилась вошедшему, и заметив на его ногах пурпурные сапоги, едва не выронила ведро, неловко взмахнула свободной рукой и, поставив свою ношу на землю, сделала несколько шагов к императору и тоже поклонилась.
– Здравствуй, мать, – сказал между тем Феофил поднявшейся Анне, – я хотел бы осмотреть вашу обитель и поговорить с госпожой игуменьей.
– Разумеется, государь, – ответила монахиня, – матушке сейчас сообщат… Христина, сообщи, Бога ради, матушке, что к нам пожаловал августейший! Прошу прощения, государь, я должна закрыть дверь, – она пошла закрывать, а император осмотрелся.
Обитель была небольшой: храм, несколько зданий и хозяйственных построек, сад и огород, цистерна для воды, ровные дорожки, выложенные каменными плитами и обсаженные цветами, везде чисто и ухожено. Феофил медленно направился к храму и внезапно остановился, пораженный мыслью: сейчас наверняка сбегутся приветствовать его все монахини, придет игуменья, и… И он выдаст себя на виду у всех!.. Маневр? Нет, поистине это была ловушка! Что же делать? Что будет?.. «Отступать поздно!» – подумал он, стискивая зубы.
– Что угодно государю посмотреть сначала? – раздался сзади голос Анны.
– Храм, – ответил он, не оборачиваясь, и пошел вперед.
Внешне церковь напоминала храм Святой Ирины в миниатюре. Воздушная и светлая, внутри она была отделана мрамором и украшена мозаиками и росписями. Кроткий лик Богоматери глянул на императора из восточной конхи, и Феофил оценил великолепную мозаику – игуменья где-то нашла настоящих мастеров. Он бросил взгляд вокруг, посмотрел вверх… Мозаики в куполе и росписи на боковых сводах были выполнены столь же артистично. Как он успел подметить, дежурившая в храме монахиня поглядывала на него несколько испуганно. «Ну, конечно! Они ведь наверняка думают, что я пришел из-за их иконопоклонства!.. Что ж, сделаю вид, что так и есть…» Он напустил на себя побольше суровости и вышел из церкви. На дворе его уже ждали несколько монахинь, все довольно молодые. Они поклонились императору с обычным пожеланием многих лет царствования; в глазах у всех сквозил легкий испуг. Но игуменьи среди них не было. «А она не торопится!» – подумал он и снова ощутил, как в нем поднимается гнев: он столько лет страдал, столько передумал, прежде чем переступить порог этой обители, а она даже не выходит его поприветствовать! «Какой же я глупец! Боялся чего-то, воображал невесть, что… А она и здороваться не желает… Что за дерзость!.. Или она хочет таким образом дать мне понять, что мне нечего здесь делать?..» На мгновение ему захотелось повернуться и уйти, ничего больше не осматривая и не дожидаясь игуменьи, но это желание заглушила злобная мысль: «Ну уж нет, теперь я не уйду! Дождусь, пока она соизволит появиться!..»
– На что еще угодно взглянуть августейшему государю? – раздался рядом голос подошедшей Анны: в таких непредвиденных обстоятельствах она без позволения игуменьи оставила на месте привратницы другую сестру, а сама решила сопровождать императора, поскольку лучше остальных сестер знала, как подобает вести себя с ним. – Вот там у нас кельи, здесь трапезная, там скрипторий и библиотека.
Феофил проследил за указаниями ее руки и внимательно взглянул на монахиню.
– Мне кажется, мать, я где-то тебя видел. Это могло быть?
– Да, государь. Мой муж был ипатом, и я часто сопровождала августу на праздничных выходах.
– Вот как! Что же…
Тут император сообразил, что вокруг стоят другие сестры и слушают, украдкой поглядывая на него и явно смущаясь. Одна из них, самая молоденькая, и вовсе залилась румянцем, когда встретилась с ним глазами. «Я их искушаю!» – подумал Феофил, обведя монахинь взглядом, и сказал:
– Вы можете идти на свои послушания, матушки, – он вновь обратился к Анне: – Значит, твой муж умер, госпожа… как твое имя?
– Анна, – ответила она, опустив глаза. – Мой муж… его казнили по твоему повелению, государь, когда ты приказал покарать тех, кто участвовал в убийстве августейшего Льва.
Император вздрогнул и не нашелся, что сказать. Перед ним стояла еще далеко не старая женщина, недурная собой, по-видимому, неглупая… Значит, она ушла в монастырь после смерти мужа… казненного по его приказу!.. Месть за крестного вдруг повернулась к императору другой стороной, и Феофил растерялся.
– Я не в обиде, государь, – сказала Анна, поднимая взор. – Конечно, мне жаль моего несчастного мужа… Но да будет милостив к нему Господь! А я рада, что сменила прежнюю свою жизнь на монашескую, пусть даже и таким образом… Бог всё устраивает к лучшему, мне кажется!
– Хорошо, если так, – тихо сказал император. – Нельзя ли мне взглянуть на ваш скрипторий и библиотеку, госпожа Анна?
– Конечно, государь! Я проведу тебя… Но где же матушка? – недоуменно добавила она.
«Да, интересный вопрос!» – с раздражением подумал император, но промолчал. В это время из трапезной вышла Христина, Анна помахала ей рукой, и когда та подошла, спросила:
– Христина, ты сказала матушке?
– Да. А разве она еще не вышла? – монахиня недоуменно посмотрела на василевса и бросила взгляд в сторону здания, где располагались кельи. – Матушка поблагодарила, что я предупредила ее, и отослала меня. Я думала, она сейчас же и выйдет. Не знаю, что ее задержало…
– Ничего, я подожду, – сказал император, и в его голосе зазвучали нотки сарказма, на что ответом были беспокойный взгляд Христины и любопытный Анны.
Феофил нахмурился и молча пошел ко входу в скрипторий, Анна последовала за ним.
В скриптории они застали Лию, Арету и Миропию. Христина, забежав, сообщила им о приходе императора, но они не посмели оставить послушание: к порядку в скриптории игуменья относилась особенно строго. Встав, сестры поклонились Феофилу; Анна представила их, в нескольких словах рассказала об их работе, о том, что большей частью сестры переписывают святоотеческие творения. «И писания о лжеименных иконах?» – так и хотелось спросить Феофилу, но он решил не пугать монахинь.
– А это чье место? – спросил он, кивнув на стол у окна.
– Тут трудится сама матушка! – ответила Анна. – Она самый лучший каллиграф из всех нас!
– Вот как! – император подошел, с любопытством заглянул в книгу, которую переписывала игуменья, и замер.
Это был список Платона. Лежавшая тут же незавершенная копия, точнее, одна из тетрадей для будущего переплетения в книгу, кончалась на словах из «Федона»: «Что за странная это вещь, друзья, – то, что люди зовут “приятным”! И как удивительно, на мой взгляд, относится оно к тому, что принято считать его противоположностью, – к мучительному! Вместе разом они в человеке не уживаются, но, если кто гонится за одним и его настигает, он чуть ли не против воли получает и второе: они словно срослись в одной вершине».
…Кассия сидела за столом в келье и писала стихиру. Она уже давно вынашивала ее, выстрадала, теперь нашла нужные слова, и в душе, наконец, зазвучала музыка к ним.
Она так увлеклась, что совсем отрешилась от действительности, ничего не замечая вокруг. Внезапно раздался стук в дверь, Кассия поднялась и отворила: перед ней стояла перепуганная Христина.
– Матушка! – сказала она взволнованно. – Там император к нам пожаловал! Хочет осмотреть обитель и поговорить с тобой!
Кассия побледнела и отступила на шаг. Феофил! здесь! сейчас!..
– Хорошо, Христина, иди, – еле выговорила игуменья.
«Я выйду», – хотела добавить она, но не добавила. Закрыв за сестрой дверь и прислонившись к стене, она попыталась собраться с мыслями. Император в обители!.. Зачем он здесь?.. Конечно, как игуменье, ей надо сейчас же выйти к нему, приветствовать… Нет, она не в силах этого сделать!.. Но ведь тогда он может сам придти сюда, к ней?.. О, Господи! Невозможно!.. Но он – здесь! Зачем?.. Верно, из-за их иконопочитания…
Мысль о том, что Феофил до сих пор может питать к ней какие-то чувства, не приходила ей в голову. Этот помысел смущал Кассию в числе прочих греховных мечтаний только поначалу, а позже игуменья довольно легко избавилась от него логическим путем: прошло много лет, император не делал никаких шагов к встрече, у него жена и дети, множество государственных забот – до нее ли ему! Конечно, он давно ее забыл! Впрочем, после издания василевсом указа против икон Кассия иногда с недоумением размышляла, почему к ним в монастырь даже никто ни разу не пришел поинтересоваться, что здесь происходит, хотя и при дворе, и в патриархии, конечно, знали, что в обители почитают иконы. Игуменья подозревала, что могут знать и о распространении ими писаний против ереси… Ей приходил в голову единственный ответ: у императора просто пока руки не доходят. И вот, кажется, дошли… Да, конечно, иконы – единственная возможная причина его прихода!.. И он непременно захочет говорить с игуменьей… Но это немыслимо!
То состояние внутреннего покоя и сердечного сокрушения, в котором она полчаса назад села писать стихиру, исчезло без следа. Искушение было слишком сильным. Сознание того, что Феофил сейчас находится буквально в нескольких шагах отсюда, привело Кассию в изнеможение. Но мысль о встрече приводила ее в ужас.
Она подошла к столу и села. Перед ней лежала недописанная стихира, и Кассия смотрела на листок почти с недоумением. Между тем моментом, когда она начала писать стихиру, и нынешним разверзлась пропасть. Кассия взяла в руку перо, потрогала пальцем кончик, укололась, вздрогнула… «Но может быть, до встречи все же не дойдет?.. Нет! Я не буду с ним встречаться! Нет, это невозможно! Он должен сам понять это!.. Впрочем, как он может это понять? Ведь он не знает, что я… А если он увидит меня, то поймет, ведь я не смогу скрыть… Боже!..» Она опустила голову на руки и какое-то время сидела, повторяя про себя: «Господи, спаси меня! Избавь меня от этой встречи!» Но молитва перебивалась совсем другими мыслями и воспоминаниями. Встреча в Книжном портике, цитаты из Платона… «Встретить предмет любви, который тебе сродни»… Выбор невесты, Феофил с золотым яблоком в руках… «Не правду ли говорят, что “чрез женщину излилось зло на землю”?»… Урок по «Пиру»… Мать, сообщающая о коронации и свадьбе Феофила… «Повесть о Левкиппе», попытка искусить Льва… «Если бы сейчас на твоем месте был он, меня бы ничто не остановило»… Акила и сестра… Встреча с патриархом и постриг… Три года покоя, разбившегося, как брошенная об пол стеклянная тарелка, от одного взгляда на монету… Статуя Феофила перед Синклитом…
Увидеть его… «В последний раз, может быть!» – пришел ей помысел.
– Нет! – сказала она вслух.
Но помысел был настолько ядовит, что вмиг отравил всё внутри разламывающей истомой – слишком ей знакомой…
Нет!..
Она выпрямилась и посмотрела на лежащий перед ней лист пергамента. Машинально обмакнула перо в чернила и перечла написанное: «…их же в раю Ева по полудни…»
«…Шумом уши огласивши…» – написала она дальше то, что уже было у нее в голове, когда в келью постучалась Христина, и что она не успела записать, – и услышала в коридоре чьи-то быстрые шаги. Походку всех сестер игуменья хорошо знала, и сразу поняла, что это чужая поступь. Бросив перо, Кассия вскочила из-за стола, скрылась во внутреннюю келью, заперлась, упала на пол перед иконой и стала шепотом читать Иисусову молитву.
9. «В страхе скрылась»
(Александр Блок)
- Я не открою тебе дверей.
- Нет.
- Никогда.
Когда Феофил увидел, какую книгу переписывала Кассия, перед ним на мгновение всё поплыло. Девушка, в чьем исчезновении он, придя сюда, хотел убедиться, не исчезла – и, похоже, если он в чем-нибудь убедится теперь, то именно в этом…
Он постарался взять себя в руки, перевернул несколько страниц Платона и, взглянув на монахинь, спросил с легкой улыбкой:
– Значит, вы тут читаете и переписываете не только святых отцов, но и эллинских мудрецов? Приятно удивлен!
– Да, государь, – ответила Лия. – Наша матушка именно так и хотела… то есть такой монастырь, чтобы и философию изучать, и науки! Она с нами занимается, кто к чему способен… Я вот до монашества вообще неученая была, едва-едва грамоту знала, а с матушкой столько всего изучила, и из мирской премудрости, и из божественной! – девушка все больше воодушевлялась. – Многие говорят, что это грех – мирское изучать, но наша матушка так не думает! У нее и учитель был такой, говорил, что ученость вышняя и земная это как бы два крыла: кто сумеет оба использовать во благо, тот высоко полетит, ведь Бог нам разум для того дал, чтобы его упражнять в познаниях… Мы вот и Аристотеля разбираем, и Платона, и ораторов читаем, и историков… Обсуждаем… Эпиграммы даже сочиняем! – тут Лия смущенно умолкла, подумав, что как-то уж слишком смело разговорилась с императором.
Потрясение, испытанное Феофилом, пока он слушал монахиню, было настолько сильным, что он, казалось, стал неспособен испытывать какие-либо чувства. Он не изменился в лице, даже не побледнел; слушая Лию, он разглядывал почерк Кассии – ровный, изящный, легкий, прекрасный, как и она сама… Ошибки не было: двенадцать лет назад он действительно встретился со своей «половиной». Именно в этом была причина притяжения, и с каждым словом Лии она становилась только очевиднее, как бы обретая плоть и объем. Ошибки и не могло быть: теперь Феофил понимал, что его желание убедиться в том, что той девушки, которую он любил, больше не существовало, было сущим безумием – впрочем, происходившим из понятного стремления избавиться от страданий и зажить спокойно… И вот, точь-в-точь по Платону, в погоне за «приятным» его настигло еще более мучительное – и в сердце кинжалом всё глубже вонзался вопрос: почему она тогда не взяла яблоко?!..
– Что ж, – сказал он, – я рад, что среди монахинь есть такие любители наук, как ваша мать игуменья… Должно быть, у вас тут хорошая библиотека?
– Да, государь, – ответила Анна. – Она тут рядом.
Они прошли в библиотеку – соседнее помещение, большое и светлое; вдоль стен стояли высокие, почти до потолка, шкафы, а посередине – три длинных деревянных стола и несколько лавок вдоль них. Наверху каждого шкафа были прикреплены узкие дощечки, обтянутые темно-синей тканью с вышитыми золотом изречениями: «Во оправданиях Твоих поучусь, не забуду словес Твоих»; «Слова мудрых, как иглы и вбитые гвозди, и составители их – от единого Пастыря»; «В тщательно собирающих пользу с каждой вещи, как и в больших реках, отовсюду обыкновенно прибывает многое»; «Ко всему, что ведет к добродетели и может сформировать характер, надо относиться очень внимательно»…
В этот час библиотека была пуста: в будние дни сестры читали книги в определенно установленное время с утра, и только в праздники желающие могли проводить за книгами хоть целый день, а по субботам и воскресеньям игуменья устраивала чтение вслух и обсуждение тех или иных произведений и давала сестрам задания на неделю: каждая должна была прочесть что-нибудь и потом пересказать всем остальным, или сочинить эпиграмму на прочитанное, или составить вопросы для обсуждения. Всё это Анна рассказала императору, пока тот оглядывался вокруг, а затем, подойдя к одному из шкафов, откинул крючок на дверце, открыл и взглянул на лежавшие на полках книги.
– Да, библиотека, как видно, у вас богатая! – промолвил он. – И сестры всё это читают?
– Мы стараемся, государь, – ответила Анна, – но, конечно, тут главная читательница наша мать игуменья. Думаю, не меньше половины книг сюда перешло из ее домашней библиотеки. А потом она собирала еще, переписывала сама, и из других монастырей ей присылали, даже издалека, из Палестины!.. Матушка уж сколько всего перечитала! И память у нее – дай Бог каждому! Может наизусть рассказывать целыми кусками! Она и сестер учит, у нас все образованы, даже те, кто при вступлении в обитель мало что знал…
В шкафу, который открыл Феофил, оказались мирские книги: на одной полке император обнаружил обе поэмы Гомера, список трагедий Еврипида, и кодекс с Софоклом; выше полкой лежали исторические сочинения – Иосиф Флавий, Фукидид, Геродот… Феофил открыл соседний шкаф: тут были творения святых отцов. Рядом с толстым томом слов Григория Богослова император обнаружил небольшую книгу в кожаной обложке, украшенной прорисованным золотом изображением Христа. Феофил раскрыл рукопись в начале и прочел: «Господина Иоанна из Дамаска третье защитительное слово против порицающих святые иконы». Мансур! Феофил когда-то прочел его первое слово на ту же тему, но оно не показалось ему убедительным, второе читать он уже не захотел, а третьего даже никогда не держал в руках.
«Во-первых, что́ есть икона? – читал он. – Икона, без сомнения, есть подобие и образец, оттиск чего-либо, показывающий собою то, что изображается. Но, во всяком случае, изображение не во всех отношениях подобно первообразу, то есть изображаемому, ибо одно есть изображение и другое – то, что изображается; и конечно видно различие между ними: это есть одно, а то есть иное. Я говорю вот что: изображение человека, если и носит отпечаток телесных черт, однако не имеет душевной силы, оно не живое, не мыслит, не издает звуков и не двигает членами…» В чем-то это любопытно перекликалось с написанным синкеллом рассуждением по поводу икон, где Грамматик доказывал, что иконопоклонники философски непоследовательны: «Если человек определяется как “существо смертное, обладающее способностью размышления и познания”, как же возможно вверять вещам бездушным и недвижным задачу показать то живое движение, обладанием которым Бог-Творец наделил всё разумное? Соответственно, поклоняющиеся Слову не могут назвать такое, сделанное из красок чудовище, “смертным”, ни “наделенным способностью размышления и познания”…» Феофил вспомнил, что покойный патриарх Никифор поносил иконоборцев за то, что они «несмысленно» считают, будто образ должен во всем отражать первообраз: очевидно, он тут следовал за Мансуром…
Император листал дальше. Это слово было посвящено видам образов и родам поклонения, а в конце Дамаскин призывал: «Братие, христианин познаётся по мере его веры. Поэтому приходящий с верою получит обильную пользу… Итак, да примем предание Церкви правым сердцем и без многих размышлений! Ибо “сотворил Бог человека правым, а эти взыскали многих размышлений”…» Феофил закрыл книгу. «Ну, да, – подумал он насмешливо, – нечего размышлять, веруй, и всё тут!.. Всё просто… Только вот… как же она-то, при ее любви к философии – тоже не размышляет?.. Впрочем, их Студит много нафилософствовал… Может, для нее это убедительно…»
Он подошел к шкафу у противоположной стены и обнаружил там философские книги. Император открыл первую попавшуюся рукопись, и сердце у него стукнуло и заныло: это оказался список диалогов Платона, и начинался он с «Пира». Феофил переворачивал страницы, и сердце ныло всё сильнее. Диалог с Диотимой…
«“Некоторые утверждают, – продолжала она, – что любить – значит искать свою половину. А я утверждаю, что ни половина, ни целое не вызовет любви, если не представляет собой, друг мой, какого-то блага…“Нельзя ли поэтому просто сказать, что люди любят благо?” “Можно”, – ответил я. “А не добавить ли, – продолжала она, – что люди любят и обладать благом?” – “Добавим”. – “И не только обладать им, но обладать вечно?” – “Добавим и это”. – “Не есть ли, одним словом, любовь не что иное, как любовь к вечному обладанию благом?” – “Ты говоришь сущую правду”…»
Феофил положил книгу на место и задумался. По окончательному определению Платона, любовь это «стремление к бессмертию»… Если истолковать это по-христиански, то надо любить лишь Того, Кто дает бессмертие, стремиться только к Нему, а не к смертному человеку… И Кассия поступила в высшей степени философски, приняв постриг, всё правильно… Но почему так больно?.. Всё равно он любит ее, а Бога… Бога, если уж говорить по всей строгости, он и не начинал любить! «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», а «кто нарушил одну из заповедей, стал повинен против всех», – и раз так, он ничего не соблюл по-настоящему, даже из того, что пытался… И если говорить о его самом сильном желании, то это вовсе не желание угодить Богу и соблюсти заповеди, нет: он хочет ее, и душой, и телом… Но что же делать? Он боролся столько лет, и всё напрасно… Похоть? Но ведь не только же! Даже странно, почему во всех аскетических писаниях говорится только о похоти, как будто больше никакой причины для влечения не может быть! Если б дело было только в этом, побороть это было бы легко, тем более, что у него есть жена!.. Но тут дело в душевном сродстве. Тогда, на выборе невест, он это больше чувствовал, чем знал… так что ж! Теперь он видит, что не ошибся! Где бы он мог еще найти такую девушку?! «Свою половину»!.. И это страсть души и тела одновременно… Впрочем, телесную страсть и Платон советовал сдерживать и жить «в единомыслии, владея собой и не нарушая скромности, поработив то, из-за чего возникает испорченность души, и дав свободу тому, что ведет к добродетели», чтобы по смерти «стать крылатыми и легкими»…
«Нет, я не аскет и не философ! – подумал Феофил с горечью. – Даже если б я поборол вожделение плоти, всё равно остается это душевное влечение, а ведь надо любить прежде всего Бога!..» Но, быть может, эта страсть души так мучит его, заставляя забывать о Боге и роптать, как раз потому, что до сих пор остается без пищи? Если б Кассия стала его женой, была бы рядом, всё могло бы быть вполне по-философски, разве нет?.. Наверняка!.. Но неужели она и тогда была такой умной, что всё вот так определила, рассчитала… решила «стремиться к бессмертию»?.. А он видел в ее глазах страсть… тогда… Всё-таки надо узнать, почему! Раз уж он пришел сюда…
Впрочем… столько лет прошло! Может, для нее это было всего лишь мимолетное впечатление, которое забылось… через неделю, месяц, год? С чего он взял, что она полюбила его так же, как он ее?.. Хотя, если по Платону, то… «своя половина»… Но даже если он и оказался ее «половиной», это еще не значит, что с ней все эти годы происходило то же, что с ним!.. Ведь она удалилась сюда ради Бога, и стремление к Богу должно преодолеть всё… Может, ей вообще теперь неприятно вспоминать ту историю, то увлечение… Не потому ли она и не вышла приветствовать его? Ведь она должна была тут умереть для мира… А он хочет с ней говорить… Путешествие в царство мертвых! Он пришел выяснять причину полученного двенадцать лет назад отказа… у покойницы! Не безумие ли? Не уйти ли, пока не поздно… от греха подальше?.. По сути своим явным нежеланием встречаться с ним она говорила: «Ты ничего не изменишь, ничего не узнаешь, уходи». Очень аскетично, прямо как в патериковых историях, где монахи не желали не только смотреть на женщин или встречаться со своими родственниками, но даже беседовать с другими монахами… И если он уйдет, это будет благочестиво! Очень!..
Кассия!.. Он опять вспоминал их поединок взглядов во время смотрин. Возможно, если б он не был уверен в том, что она тоже полюбила его, он бы ушел сейчас и оставил ее в покое… Но она полюбила – и отвергла! Ради монашества? Тогда почему она ушла в монастырь не сразу, почему тянула?.. Вопросы, вопросы без ответов!.. Уйти, так и не поговорив с ней – о, да, это было бы благочестиво, но… «Сколько лет я мучился! Всё, хватит… Больше не хочу! К дьяволу всё это благочестие! Хочу ее увидеть! Хотя бы увидеть…» Что может произойти, если он «хотя бы» увидит ее, – об этом Феофил старался не думать.
– Что ж, – сказал император, закрывая шкаф и поворачиваясь к Анне, – мать игуменья почему-то не торопится выйти, а мне настоятельно нужно расспросить ее кое о чем. Посему я бы просил тебя, госпожа Анна, показать мне, где ее келья.
Он сказал это как можно более сухим тоном, сопровождая слова жестким взглядом, и по беспокойству, мелькнувшему в глазах монахини, понял: она подумала, что он хочет говорить с игуменьей насчет икон. «Прекрасно! – усмехнулся он про себя. – Всё-таки от отца я унаследовал какие-то актерские способности!»
Они покинули библиотеку и снова оказались в скриптории, где три монахини попрощались с императором. Феофил пожелал им успехов в трудах, добавив чуть насмешливо: «Но только в богоугодных и благочестивых!» – снова поймал беспокойный взгляд Анны и почти развеселился: игра удавалась, и никто из монахинь, по-видимому, не догадывался, что у его визита в обитель могут быть иные причины, кроме иконопоклонства здешних сестер. Покинув скрипторий, они прошли через двор к жилому зданию. Войдя, император повернулся к Анне, взглянул вопросительно, в то же время давая понять, что больше не нуждается в проводнице, и она указала, что дверь в келью Кассии – последняя справа по коридору. Феофил сказал монахине, что она может идти. Анна поколебалась несколько мгновений, но так и не решилась ничего сказать, поклонилась ему в пояс и вышла, а император решительно направился к келье игуменьи.
Постучав и не получив никакого ответа, Феофил постоял немного и, наконец, толкнул дверь, вошел и замер: келья была пуста. «Где же она?!..» Он огляделся, увидел сбоку узкую дверь и понял, что она ведет в соседнее помещение. Он дернул за ручку; дверь чуть подалась, но не открылась. Император отошел и снова осмотрелся. Эта смиренная келья ничем не выдавала того, что в ней обитала прежняя обладательница немалых богатств, имений, рабов – та, которая едва не стала августой ромеев. Голые каменные стены, икона Богородицы с лампадой в углу, узкое деревянное ложе с плоской подушкой, покрытое темным шерстяным одеялом, у окна стол и стул, небольшой шкаф – вот и всё убранство этого жилища.
Шкафчик был приоткрыт, и Феофил принялся изучать его содержимое. Он нашел здесь «Беседы» преподобного Макария Египетского, Патерик, трактат Ареопагита «О божественных именах», Аристотелевы «Категории» и несколько тетрадей, переплетенных в кожаные обложки. Он взял одну и открыл. Это были эпиграммы о монахах.
«Что ж, – размышлял император, – обычные аскетические рассуждения! Впрочем… брань с плотью и в то же время – не с кровью и плотью… Ну да, разумеется: не с телом, а с его страстями, не с кровью, а со страстями, от которых она кипит… Неплохой стих!..» Он взял другую тетрадь и нашел там стихи на более общие темы. Первое, что попалось ему на глаза, были несколько эпиграмм, начинающихся со слова «лучше»:
«Почерк везде ее, – подумал он. – Сама ли она это сочиняла?..» Он пролистал тетрадь дальше и улыбнулся.
– Вот уж воистину! – прошептал император.
Он опустил руку с тетрадью. Боль и недоумение в душе всё росли. «За что я лишился ее?! И почему она не хочет даже поговорить со мной?..» Тут внимание его привлекла синяя полоска ткани, выглядывавшая из-под чистых листов пергамента, на нижней полке шкафчика. Он положил тетрадь на место, наклонился, приподнял стопку листов и вынул небольшую книгу, из которой торчало несколько закладок – тонких полосок из синего шелка. Это был «Ипполит» Еврипида. Феофил открыл на первой закладке и прочел:
На полях было написано почерком Кассии: «Огонь страстей гаси водою слез».
«Однако же!» – подумал Феофил. Он открыл на следующей закладке – это был диалог старого раба с Ипполитом:
На полях стояло псаломское: «Все боги язычников – бесы», – и ниже: «Наказание гордому – падение его». Напротив слов Ипполита: «Бог, дивный лишь во мраке, мне не мил», – стоял маленький крестик.
Феофил, на миг закрыл глаза, а потом подошел к столу, сел и продолжал читать места, заложенные шелковыми лоскутками:
На полях было написано: «Терпением вашим стяжите души ваши».
«Многими скорбями подобает нам войти в царствие небесное», – прочел император схолию на полях. «Боже!» – он провел рукой по лбу и раскрыл на следующей закладке:
На полях стояло: «О, да!» Феофил перевернул страницу.
У последней строки Феофил прочел на полях подчеркнутое: «Сделаемся мертвыми по отношению ко всякому человеку».
«Да!» – написала Кассия на полях. Феофил встал, прошелся по келье от стола до двери и остановился. Эта книга, спрятанная у игуменьи в келье, синие закладки, пометки на полях дали ему ответ – и такой ответ, на какой он едва ли надеялся, идя сюда. Теперь он знал, почему Кассия не вышла встречать его, почему не хотела говорить с ним, почему заперлась от него в соседней келье: как и он, она до сих пор спорила с Кипридой!
Император несколько мгновений смотрел на дверь, за которой скрывалась игуменья, снова подошел к столу и продолжал читать.
«Увы! – стояло на полях. – Но Богом моим перейду стену». Феофил устремил взгляд в распахнутое окно. Да, жизнь его строилась совсем не по его заказу… с тех пор как он встретил ту, которая… страдала от того же самого! «Богом моим перейду стену»? Что-то у него до сих пор не выходило… Как полез на эту стенку, так и лезет по сей день! Плохо молился, должно быть? О, да! А вот она-то, она – хорошо молилась тут, в монастыре?
«Но может быть, – ужалила вдруг Феофила мысль, – она после тех смотрин… полюбила еще кого-нибудь? Может, и в монастырь ушла поэтому?.. Ведь она не сразу ушла, так может…» Только ревности недоставало еще ему для полной чаши!..
Но под следующей закладкой он нашел сетование Ипполита, начинавшееся со слов:
У строки: «Что жены зло, мне доказать не трудно», – на полях стояла жирная точка. Император побледнел и закрыл глаза. «Чрез женщину излилось зло на землю»…
На этом месте кончались синие закладки. Но Феофил читал дальше.
Господи! «Гляди, вот дождешься, нарвешься на какую-нибудь умницу», – сказал ему тогда Константин… Да, Афродита сыграла с ним коварную шутку!
«О, да! – подумал он. – И доказательство – то, что я здесь!.. Мой бедный друг, ты был прав! Свершилось: я полез на стенку… и не какую-нибудь, а монастырскую!» Тут он обнаружил еще одну сбившуюся закладку и под ней прочел:
Вдоль этих строк на полях была проведена вертикальная черта.
– Вот и ее ответ! – прошептал Феофил.
Он закрыл книгу и некоторое время сидел, не двигаясь. Итак, она полюбила, но решила убить в себе эту любовь! Отказалась от императорского ложа, чтобы быть среди «избранных» – «невест Христовых»! Боролась со страстью… Поборола ли? Нет! А то бы вышла навстречу. Опасается искушения!.. Что ж, теперь ему поступить благочестиво, уйти, не видя ее? Ведь он хотел ее ответа – он его получил…
Он поднялся, подошел к двери во внутреннюю келью, приложил ухо, прислушался. Тишина. Дверь, судя по всему, закрывалась изнутри на крючок, и император, подергав посильнее, пожалуй, мог бы ее открыть; на мгновение ему представилась Кассия в его объятиях, и жар разлился внутри… Но…
Что, если б кто-нибудь узнал, как он зашел без приглашения в келью к монахине, да еще порывается ее видеть, хотя знает, что это будет соблазном для обоих? И о чем мечтает он тут?!.. Нет, всё-таки надо остановиться, пока он еще в силах это сделать!..
Феофил снова подошел к столу, взял книгу, собираясь вернуть ее на место, и тут обратил внимание на лежавший на столе лист пергамента, где было что-то написано с мелодической разметкой. Он отложил «Ипполита» на край стола, взял в руки лист, стал читать, и у него перехватило дыхание: перед ним была необыкновенно прекрасная, хотя и неоконченная, стихира. Он чувствовал, что это не просто произведение на определенную тему, но слова, высказанные из глубины души, пережитые внутренне. Значит, Кассия писала это, когда он подходил к келье, услышала его шаги и, их «шумом уши огласивши»… Император улыбнулся, взял брошенное игуменьей перо, обмакнул в чернила и написал продолжение: «в страхе скрылась». Потом выпрямился, немного подумал, снял с руки золотой перстень со вставкой из лазурита и положил сверху на пергамент. Убрав «Ипполита» в шкафчик, Феофил бросил последний взгляд на дверь, скрывавшую от него Кассия, постоял несколько мгновений, вздохнул и вышел из кельи, хлопнув дверью, так чтобы хозяйка могла понять, что незваный гость ушел.
Однако, закрыв за собой дверь и сделав два шага, Феофил остановился. Покинув келью Кассии, он понял, что переоценил силу своих благих намерений. Значит, всё-таки уйти, вот так, даже не видев ее, не обмолвившись с ней ни словом… А ведь он пришел именно для того, чтобы видеть ее! И если, входя в ворота обители, он еще мог думать о том, что между ними, вероятно, уже нет ничего общего, если, идя в ее келью, он мог размышлять о том, что для Кассии, возможно, будет вообще неприятна встреча с ним, то теперь он знал, что сродство их душ было гораздо больше, чем он мог подозревать раньше, и что блистательного властелина великой Империи и игуменью небольшого монастыря, навек похоронившую себя в стенах убогой кельи, связывала страсть, до сих пор ни им, ни ею не преодоленная… Непреодолимая? Феофила тянуло назад, как магнитом. Страсть, мучившая его столько лет, была готова сокрушить все барьеры, особенно теперь, когда он узнал, что язва, нанесенная Эротом Кассии, тоже далека от заживления… Уйти? Не соблазнять ее своим появлением? Уйти, чтобы самому не поддаться соблазну совершить недолжное?.. Уйти! Ведь именно этого требует благочестие!.. Уйти, не увидев ее, не услышав ее голоса?
«Не хочу!» – сказал он сам себе.
«Значит, хочешь согрешить?» – спросил внутренний голос.
«Да, хочу».
Вот так, это, по крайней мере, честно… А потом – хоть умереть! Вот до чего он дошел… Да, дошел… ну и что?.. Почему он должен уйти? Чем он виноват? В конце концов, это она виновата, она, своими руками разрушившая их счастье! И зачем?! Чтобы стать невестой не земного жениха, а небесного, спасать душу от мирских соблазнов, стяжать добродетели? Но если так, разве не должна была бы она уйти в монастырь сразу после смотрин, жить в послушании, смиряться, как это положено для новоначальных? А что она? Еще несколько лет прожила в миру, а теперь – игуменья, руководит сестрами, учит их философии…
Какое уж тут смирение! Если только… в сравнении с тем, что она могла бы повелевать Империей?!.. Феофил усмехнулся. И если она так любит философию, не оставляет мирских наук и книг, то не лучшее ли место для нее – дворец, а не обитель? Зачем же она выбрала монастырь?.. Хотя бы она и желала быть «средь избранных», но… это не случай Ипполита: тот никого не любил, а она полюбила – полюбила, когда еще была свободна… Так почему она?.. Неужели он так и уйдет, не разгадав этой загадки? А ведь другой случай вряд ли представится…
Феофил снова взялся за ручку двери.
…Кассия услышала, как хлопнула дверь. Ушел! Что же он делал в келье так долго?.. Она поднялась с колен и прислушалась. Тишина. Ушел ли? Еще немного постояв, она откинула крючок и приоткрыла дверь: во внешней келье никого не было. Кассия вышла из своего укрытия. В келье стоял аромат благовоний, выдававший недавнее посещение царственного гостя. Кассия вдохнула этот запах мирской жизни и ее соблазнов, внезапно вспомнилось: «Кассия! Аромат любви!» – и на игуменью опять нахлынуло то, что она в течение многих лет пыталась побороть. Она почти задохнулась от этой жаркой волны. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь Феофил найдет дорогу в эту келью! А она-то думала, что больше никогда не увидит его… Но ведь и не увидела, слава Богу!.. Слава Богу? – А между тем ее сейчас снедало жгучее желание его видеть… Неужели это никогда не кончится?! Она второй раз в жизни сказала ему «нет», и теперь – как больно, невыносимо!.. Вот разве что в окно можно увидеть, как он выходит за ворота… Посмотреть на него – в последний раз?..
Кассия сделала шаг к окну и услышала, как сзади отворяется дверь. В испуге она обернулась.
На пороге стоял император.
10. «Или поток Киприды остановишь?..»
(Сергей Калугин)
- Мы погибли, мой друг.
- Я клянусь, это было прекрасно!
Смятение Кассии было столь велико, что она не сразу сообразила, что императору надо сделать поклон. Феофил и сам не ожидал столкнуться с ней так прямо, хотя и желал именно этого, и был охвачен почти таким же смущением. Он затворил дверь; какое-то время игуменья и император безмолвно смотрели друг на друга, и на щеках у обоих разгорался румянец. Наконец, Кассия опомнилась и поклонилась василевсу, но, поднявшись, была не в силах произнести положенного приветствия, только стиснула руки на груди и, опустив глаза, пыталась мысленно молиться: «Господи, спаси меня, грешную!»
Феофил молча глядел на нее. На игуменье был хитон из черной шерсти и малая мантия, позволявшие видеть, что Кассия так же тонка и стройна, как и двенадцать лет назад. Она почти не изменилась за то время, что он не видел ее, только стала чуть бледнее – вероятно, от постов. Но что ж она не смотрит на него? «Ах да, ведь это неприлично! – подумал он с сарказмом. – А я так бесстыдно вошел, уставился на нее… Аскетика! Благочестие!.. Нет, довольно этого лицемерия!»
«Может быть, – пронеслось у него в голове, – не вздумай я тогда узнать, хочет ли она, всё было бы иначе; я бы женился на ней, а там… Вступил бы в действие другой язык, более убедительный… И кто меня дернул? Зачем надо было выяснять ее согласие? Глупец!.. И это мое самолюбие! Устыдился, что обнаружил перед ней свои чувства, что вокруг слышали, как она возразила… А теперь до чего дошел!.. Но раз уж дошел, то…»
– Кассия!
Она вздрогнула и подняла на него взор. Тот, чей образ она так долго и тщетно изгоняла из сердца, стоял перед ней, и она не могла противиться желанию взглянуть в его глаза… Не могла или не хотела? Она не в состоянии была сейчас разбираться в этом. Во взгляде императора, в единственном слове, произнесенном им, в том, как он его произнес, был ответ на вопрос, зачем Феофил явился сюда, – и этот ответ отнял у Кассии последние силы к борьбе. Если б ей кто-нибудь рассказал об этом еще час назад, она бы не поверила, но теперь она ясно видела: ни годы, ни брак с красавицей Феодорой не угасили первой любви василевса. И если он здесь, то… Огонь и сено… сгорит всё!.. Оставалось надеяться только на чудо… или на здравый смысл и совесть Феофила… Но может ли возобладать здравый смысл теперь, когда страсть, жившая под спудом все эти годы, вырвалась на волю, когда он так смотрит на нее?..
Надо было возмутиться, сказать ему что-то холодное, отрезвить… но она не могла. Его взгляд завораживал ее, распаляя в ней ответный пламень, и она с ужасом понимала, что этот огонь не угасить… Она даже была не в силах не смотреть на Феофила! И он ясно прочел в ее глазах ту страсть, которую впервые увидел в них, стоя перед ней с золотым яблоком в руках. Синие закладки не солгали: всё это время она боролась – и не поборола.
Она смотрела на него. Перед ней стоял уже не юноша, встреча с которым перевернула ее жизнь двенадцать лет назад, а мужчина: в нем чувствовалась сила и уверенность в себе – плоды жизненного опыта. И во взгляде императора была та страстность, что приходит от опыта: он знал то, чего она не познала, – и это влекло к нему еще сильнее…
Он шагнул к ней. Она отступила вплотную к столу и сказала, прервав, наконец, это красноречивое молчание, словно наполнившее келью жаром преступной страсти:
– Государь, ведь мы друг друга поняли, не так ли?
– Да, Кассия, – сказал он, делая еще шаг вперед. – И хорошо, кажется, поняли.
– Государь… я думаю… мы так же хорошо понимаем, что это не может иметь никакого продолжения… Тем более теперь.
– Почему же?
Если б он не смотрел так! Но… ведь она и сама смотрит на него так же… Она перевела дух и проговорила, стараясь унять дрожь в голосе:
– Суди сам, какие могут быть последствия. Уступить страсти один раз… или два, три? А потом? Ведь это не продлится долго, такое не скрыть… А дальше… одно раскаяние!.. Тебя ждут ссоры в семье, придворные сплетни… А меня – отлучение, позор, пересуды… Не говоря о Божием суде, от которого никому не уйти!.. И всё это ради краткого животного наслаждения! Неужели, по-твоему, оно того стоит?
Она с трудом подбирала слова, низводя страсть до того уровня, где ей и подобало находиться: только греховная похоть и ее последствия, никакой «поэзии»…
– Кассия, – в голосе императора зазвучала насмешливая горечь, – веришь ли ты сама в то, что говоришь? Думаешь, я здесь только из вожделения твоей красоты? У меня ведь есть вполне законный способ получать… животное наслаждение! Нет, я пришел кое-что узнать у тебя, Кассия. Ты права: сейчас между нами пропасть… Но ты сама создала ее, своими руками – зачем?! Ответь мне! Я двенадцать лет не могу найти ответа на этот вопрос – видишь, я долготерпелив!.. Но теперь я не уйду, не получив ответа! Когда ты стояла передо мной в Золотом триклине, ты была свободна, не была монахиней… И ты любила меня, Кассия, ведь я видел! Тогда мы поняли друг друга так же хорошо, как сейчас! Так зачем ты растоптала эту любовь – и свою, и мою?! Почему ты сказала «нет»?
Остатки ее намерений быть сухой и жесткой улетучивались с каждым его словом. Он хочет узнать… Видно, потому и возвратился…
– Феофил… – назвав его по имени, она сама испугалась этого и ощутила, как падает куда-то и не может или не хочет остановиться, – ты многого не знаешь… Но теперь… да, я расскажу… С юности я хотела посвятить себя Богу. Мой духовный наставник утвердил меня на этом пути. Я решила жить в девстве и совсем не думала о мужчинах, – она опустила глаза и продолжала, глядя в пол. – Отец погиб на войне, когда я еще была мала, а мать не противилась моему намерению. Придворная жизнь никогда не влекла меня. Мой отец был кандидатом, но для него ничего не было милее своего дома и семьи… У меня есть дядя, вот он всегда чувствовал себя при дворе, как рыба в воде… А я… глядя на него, я прониклась отвращением к такой жизни!.. У дяди были определенные правила, он всегда обо всем знал, «как надо», он хотел, чтобы и у нас с мамой всё было так же… чтобы мы жили, «как положено»… Он всегда корил маму, что у нас то или другое «не как у людей»… Я терпеть не могла эту надутую спесь, глупость, нелюбовь к наукам, страсть к деньгам и чинам! Дядя всегда был против того, что я много читаю и учусь… Он считал, что дело женщины – семья и дети, хозяйство… Он ругал маму, что она воспитывала меня так… «свободно»! Он хотел использовать меня для своих целей, стремился к новым чинам, к новым доходам, к почестям… Это он устроил так, что я попала на выбор невесты для тебя. Мечтал… породниться с императором!.. Я сама не хотела этого! Я еще в двенадцать лет решила, что стану монахиней…
Кассия остановилась, по-прежнему не глядя на Феофила. А он смотрел на нее, не отрываясь. Так вот как она жила… и вот почему они встретились в Золотом триклине! Благодаря этому протоспафарию Георгию… на свою беду! Беду?..
– Ко мне сватались разные молодые люди, – продолжала она, – но я была равнодушна к ним… У меня был очень хороший учитель, очень умный и благочестивый, молодой, но и к нему я не испытывала ничего, кроме дружеских чувств. Я думала, что так будет всегда, что любовные страсти пройдут мимо меня… Должно быть, за самоуверенность меня и постигло искушение…
Кассия совсем опустила голову и подумала, что рассказывает то, о чем давно хотела с кем-нибудь поговорить, – и кому рассказывает! Ему!.. Но, может быть, именно это и нужно?.. Она чуть помолчала и продолжала:
– Я попала на эти смотрины… Когда меня избрали для участия в них, я смутилась… я боялась! Я знала, что красива и что меня могут выбрать… Я хотела отказаться и не идти во дворец, но мама опасалась императорского гнева. Она уговорила меня не отказываться, а молиться Богу, чтобы свершилось то, что Ему угодно… Говорила, что если Богу угодно, чтобы я стала монахиней, Он не допустит этого брака. И я сама подумала, что это будет такой… проверкой призвания… Наверное, это был грех! Я… решила искусить Бога… и впала в искушение… Может быть, это еще потому, что я не была тверда. Во дворце я увлеклась разными помыслами… Мне понравилось там… понравилась государыня, твоя мать, понравился Иоанн… Он очень проницателен… Он сказал мне, что я испытываю судьбу, что это грозит непосильным искушением… и он был прав!.. Но я всё равно больше всего хотела монашества! Я молилась Богу, чтобы Он пронес земное царство мимо меня. И Он услышал мою молитву: ты решил спросить меня, согласна ли я… И я… подтвердила свой выбор. И всё было бы хорошо, если бы… – она замолкла и прижала руку к груди, словно пытаясь унять колотившееся сердце.
– Если бы?
Он знал ответ, но хотел услышать от нее самой. Краска совсем залила ее лицо, и Кассия ответила еле слышно:
– Государь, ты сам знаешь.
Феофил сделал еще шаг и оказался почти вплотную перед ней.
– Да, – сказал он почти так же тихо. – Теперь знаю.
Глаза Кассии широко раскрылись, она почти в ужасе взглянула на Феофила и тут же снова опустила взор. «Неужели он нашел эту книгу?.. Боже! Как он читает!..» А он продолжал:
Кассия судорожно вздохнула. Феофил мягко взял ее за плечо. Она вздрогнула всем телом, но отступать ей было уже некуда. Император другой рукой прикоснулся к ее подбородку, приподнял и посмотрел ей в глаза.
– Не надо! – сказала она, и губы ее задрожали. – Ты говоришь, что я… растоптала нашу любовь… Нет, Феофил, это не любовь! Это блудная страсть, животная похоть… Это язва, да!.. Ты говоришь, ты видел, что я… Да, это нетрудно было увидеть… Ты… очень красив, государь, и это так просто…
– Зачем так лгать? – тихо сказал он. – Тебя привлекла не только моя красота… как и я не одно прекрасное тело увидел в тебе. Моя жена тоже красива, очень, но я никогда не испытывал к ней даже ничтожной доли того, что к тебе! Ты говоришь о похоти, но я-то знаю, что такое красота, которая вызывает только похоть! Мой брак именно таков – и он вышел таким из-за тебя! Я мечтал о жене, которая будет мне другом, а женился на такой, с которой могу только спать! И это не любовь, да… Но мы с тобой говорим не об этом! Я сразу понял, что ты не такая, как другие… еще когда мы встретились в Книжном портике… Помнишь?
«Да!» – ответили ее глаза.
– И ты сама разве не поняла того же? Зачем лгать, говоря об одной красоте, о похоти?.. А помнишь того мальчика со мной в Книжном? Это был один из сыновей императора Льва… Ты ведь знаешь, что стало с ним и с его детьми… А это были мои друзья! Я провел с ними юность, мы выросли вместе, вместе учились, читали книги… отцов, древних философов, поэтов… Государь Лев был моим крестным, я любил его гораздо больше, чем отца. Когда я лишился его и друзей, мне показалось, что жизнь кончилась, не успев начаться… Увидев тебя на смотринах, я понял, что жизнь не кончилась, а только начинается! Ведь я молился накануне, чтобы мне найти «свою половину», как у Платона… И я понял, что нашел! Разве ты не ощутила того же? Ведь ощутила?
– Да, – сказала она почти неслышно, и слезы блеснули в ее глазах.
– Тебе больно, Кассия? А как было больно мне! Несравнимо больнее, чем когда я лишился крестного и друзей! Только что найдя тебя… я тут же тебя потерял! Зачем это? За что?! Я думал воскреснуть к жизни, а встретил… очередную смерть! И всё из-за тебя! Я выбрал Феодору просто потому, что мне было всё равно, а моей матери она понравилась больше других… Но мог ли я забыть тебя?! Да, я пытался обмануть сам себя, не думать о тебе… Пытался быть любящим супругом, – он усмехнулся. – И никогда не мог, никогда!
Губы Кассии дрогнули: она всё понимала, и боль, которую он выплескивал на нее, отзывалась в ней такой же болью. Феофил отпустил ее подбородок, но она уже не опускала голову, а продолжала смотреть в его глаза. Ей захотелось прикоснуться рукой к его щеке, провести по волосам, и она только силой воли удержала себя. Но слов удержать не могла.
– Бедный мой государь, – прошептала она.
Эти три слова, словно чудодейственное снадобье, вдруг уничтожили всю его боль, всю обиду, всё, что кипело в нем. Их обоих охватило одно и то же чувство – как будто они давно близко знают друг друга, словно они не сегодня впервые вступили друг с другом в разговор и что-то узнали друг о друге, а продолжают беседу давно начатую, давно длящуюся… давно… бесконечно…
Она вдруг ощутила, что ей сейчас невероятно хорошо – просто потому, что она стояла рядом с ним. Кажется, она бы так простояла вечность, и больше ничего не было нужно – просто стоять рядом и слушать его голос… Нет, даже если б он молчал… Просто молчать – рядом с ним… Ведь это так хорошо!.. Она вся была во власти этого чувства, только ее ум еще мог оценить со стороны: это страсть, это грех, надо сопротивляться, надо молиться… Господи!.. Она не могла ни молиться, ни сопротивляться. Зачем, если так хорошо? Она уже не хотела сопротивляться. Но когда Феофил провел кончиками пальцев по ее щеке, дрожь прошла по ее телу, она чуть опомнилась и попыталась отстраниться.
– Нет!.. Феофил, я понимаю всё, о чем ты… Да, дело не в одной красоте… и не только в похоти… Но всё равно это грех, это невозможно… Нет, нет! Я не хочу…
– Нет, Кассия. Ты хочешь. «Позорные слова теперь тебе полезней благородных!» Ты говоришь: страсть, грех… Но ты сама виновата! Если б ты стала моей женой, то мы бы… Всё было бы законно, никакого греха! Зачем ты отказала мне? Хотела стать монахиней? Но ты хотела этого до того, как мы встретились! До этого и я не глядел на женщин и не думал о них… Ты… ты просто испугалась, Кассия! Себя, своей любви, новой жизни, которая могла настать! Ты была создана, чтобы носить пурпур, а не эти черные тряпки! Ты просто спряталась сама от себя, решила бежать к тому, с чем свыклась… Ведь у тебя был план… такой благочестивый, правда? Всё было намечено, понятно, благоприлично, не так ли?.. Ты говоришь: ты искусила судьбу, пойдя на смотрины, и Бог наказал тебя… А ты никогда не думала, что Бог как раз привел тебя на нужный путь, просто дал выбрать? Не думала, что ты сделала не тот выбор?!.. И то, что ты до сих пор страдаешь, – на наказание ли за ошибку? Что пользы в этой бесплодной борьбе? Что толку в твоем сидении в монастырских стенах столько лет? Что толку и в моем браке с другой? Ведь я… целуя ее, я думал о тебе! Обладая ею, я мысленно был с тобой… И с тобой я в мыслях бывал гораздо чаще, чем с ней на деле! Ты краснеешь… но признайся – разве ты в этой келье мысленно не отдавалась мне?.. Ты сама видишь, что язва неисцельна! Двенадцати лет не довольно ли, чтобы понять это? Мой брак превратился в мысленное прелюбодейство… А твоя «ангельская жизнь» – в мысленный блуд! И зачем надо было устраивать нам обоим такое?.. Думаешь, я не пытался бороться с этим, не молился? Без толку! Я люблю тебя, Кассия, я не могу перестать тебя любить! И всё время эти два слова – «навсегда» и «никогда»… Знаешь ли ты, что это за пытка? Да, ты знаешь… Ты отказалась от любви земной ради небесной? Нет, ложь! Ты и сейчас любишь меня больше, чем… Его!
«Неправда!» – хотела она сказать и не смогла.
– То, что ты написала там про блудницу, – он посмотрел через ее плечо на лежавший на столе пергамент, – я прочел… Ты это писала о себе, я вижу. Да, «ночь мне есть разжение»… Только это не блуд, а та любовь, которую ты отняла у нас обоих! Разве только ночью это мучение? И разве его причина только в невозможности того, что бывает ночью?.. Я видел вашу монастырскую библиотеку… Теперь я знаю, чем ты занимаешься здесь… Кассия! Сколько раз я вспоминал тебя за чтением книг или обдумывая разные вещи! Перед смотринами я мечтал о такой жене, которая сможет меня понять, о единомышленнице, действительно помощнице!.. Кассия! – он вновь провел пальцами по ее щеке. – Моя божественная августа…
Да, она его понимала! Вся ее внутренность рвалась ему навстречу, и каждый раз, когда он произносил ее имя, сердце ее падало.
– Да, Феофил, мы могли бы… Но всё равно это греховная любовь! Бывает похоть тела, бывает и похоть души… Но всё равно это похоть, когда хочешь единения с человеком, а не с Богом… И всё равно… всё равно всё кончается плотской страстью! Вот ты – зачем ты здесь? Чтобы говорить со мной о книгах, о государственных делах? Чего ты хочешь? Разве этого, а не телесной сласти?
– А ты не хочешь? – спросил он тихо. – Да, я хочу тебя… Но это естественно! И не говори мне о «вышеестественной» жизни, ты сама оказалась к ней неспособной! Ты лишила нас друг друга, потому теперь так и хочется этого, но ведь не только этого! Хочется всего, что мы потеряли! И этого – тоже… Ты сама виновата в том, что так вышло, и ты ли будешь упрекать меня?
– Я не упрекаю… Наверное, ты прав… Но я не поддалась этому, когда была свободна и могла стать твоей женой, потому что уже решила посвятить себя Христу… Как же я могу поддаться сейчас, когда дала обет пред Богом?! Да, я много грешила мысленно… Но разве это значит, что надо и делом? Отпусти…
Но он не отпускал. Он опять читал «Ипполита», и от его голоса у нее всё сгорало внутри:
– Нет! – шевельнула она губами.
– Кассия!
Она больше не могла выносить его взгляд и опустила ресницы, уже зная, что сейчас произойдет, и понимая, что делает шаг в пропасть – не может не сделать. Тысячи невидимых нитей, протянувшихся между ними, когда они стояли друг перед другом в Золотом триклине, никуда не делись. Эти нити всё так же связывали их, и оба теперь понимали, что эта связь была всегда, все эти годы, пока они жили каждый своей жизнью и своими заботами, рядом с другими людьми… Эта связь никогда не разрывалась! И если так, то можно ли сопротивляться? И нужно ли?..
– Кассия! – снова прошептал Феофил и, почти не веря в реальность происходящего, поцеловал ее.
Она уперлась рукой ему в грудь – почти бессознательно, как падающий в бездну еще пытается за что-нибудь ухватиться, – но не могла оттолкнуть. Поцелуй длился, и Феофил чувствовал, как Кассия отвечает ему, как она слабеет под напором страсти – его и своей – и вот, ее рука уже не упирается в его грудь, а просто лежит на ней… Он взял эту маленькую изящную руку в свою и сжал – сопротивления не было… Наконец, Феофил чуть отстранился от Кассии, взглянул ей в глаза, и, обняв за талию, привлек к себе. Она выставила вперед свободную руку, отталкивая его, и попыталась вырвать другую руку из его руки – но он не пустил, а только крепче сжал.
– Зачем? – прошептал он, поднося ее руку, уже не вырывавшуюся, к губам и целуя в ладонь. – Ведь ты сейчас целовала меня!
– Да, я… Феофил… Но нет, нет… Нет! Теперь – нет!.. И тогда – тогда тоже было невозможно… стать твоей женой… Феофил, если б я хотела… если б я могла выйти замуж, я бы искала именно такого, как ты… Я тогда мечтала о ком-нибудь, с кем могла бы говорить обо всем… кто мог бы меня понять… Но это значило бы отречься от призвания, от монашества, на которое призвал меня Господь… Он Сам меня призвал! Я не могла отречься от него тогда… тем более теперь!
– Почему ты уверена, что Он призвал тебя именно на это?
– Я не могу объяснить… Но это так! Иногда бывает… что-то открывается… и ты понимаешь, что это воля Божия… Не веришь даже, а знаешь! Это такое, что нельзя отвергнуть, нельзя! Поэтому я не могу… Поэтому не могла и тогда… Ты должен понять!
– Кассия!
– Нет, нет!.. И потом, ты забыл еще одно… что стояло между нами и тогда, и теперь: у нас с тобой разная вера…
– Разная вера?.. А любовь?
Ответа не требовалось – он читался в ее глазах. «Это сто́ит всех бывших страданий… а может, и всех будущих!» – промелькнула у него мысль. «Времени больше не было» – ни Феофил, ни Кассия уже не помнили, где находятся, не видели ничего, кроме друг друга…
И он опять поцеловал ее. Время остановилось, и они не знали, долго ли стояли так… долго ли еще могли простоять… Но природа властно требовала своего – дойти до конца. Феофил ощутил, как Кассия подалась к нему, как рука, только что пытавшаяся оттолкнуть его, непроизвольно поползла вверх, к его шее – обнять, – и остановилась на полпути. А поцелуй длился, отнимая у нее последнюю волю к сопротивлению: сладость, отрава, восторг, страх, желание – всё смешалось тут. «Или поток Киприды остановишь?..» Кассия почувствовала, как рука императора пробралась к ней под мантию.
Нет!..
Она была близка к потере сознания.
– Феофил, – сказала она быстро, задыхаясь, когда он оторвался от ее губ, – я люблю тебя, это правда… Я любила тебя все эти годы… Я боролась, но… Было время, когда мне казалось, что всё прошло, но это только казалось… Я люблю тебя всё так же… Но я всё равно буду сопротивляться! Я уже пала… пала мыслью, пала и делом… Но этого не будет, нет! Ты сможешь взять меня только силой!..
Это были только слова: Феофил видел, что она уже не владела собой, и понимал, что если поцелует ее еще раз, она сдастся. И хотя, несмотря на угар страсти, он сознавал, что последствия этой победы будут совсем не сладкими для них обоих, он не мог удержаться. Отпустить ее – когда она почти сдалась? Расстаться, не вкусив того, чего они оба желали – страстно, много лет?..
Он уже хотел вновь поцеловать ее – и тут поверх ее головы взгляд его случайно упал на икону в углу кельи. Ничего особенного не было в этом невзрачном на вид образе, но Феофила вдруг охватило ощущение присутствия Богоматери, – такое же чувство, какое он испытал много лет назад, неся по стенам Города ковчег со святой ризой. Всё происходящее внезапно представилось ему со стороны: он, император, женатый человек, христианин – в обители, в монашеской келье, целует игуменью, совращая ее отдаться ему – и уже почти добился желаемого… На виду у Богоматери!
Ощущение было, как от ожога. Он отпустил Кассию и отступил на шаг, голова у него кружилась. Кассия, дрожащая, с пылающими щеками, оперлась рукой об стол и смотрела на Феофила; в ее взгляде смешались мольба о том, чтобы он оставил ее, и желание отдаться… Несколько каштановых прядей выбилось из-под кукуля, который мог бы сейчас упасть, совлеченный его рукой, и под черной тканью скрывалось тело, только что трепетавшее в его объятиях… Феофилу стоило неимоверного усилия воли не шагнуть к ней снова, он побледнел и весь напрягся.
– Непреклонная! – сказал он с горькой усмешкой, взглядом давая ей понять, что прекрасно видит всю слабость ее отказа. – А ведь я могу… Я заходил в ваш храм… Я могу вызвать тебя во дворец и призвать к ответу…
«За иконопоклонство», – хотел он сказать и не смог: ощущение присутствия Богоматери не исчезло, и это остановило императора.
– За то, что ты не состоишь в общении с Церковью! – проговорил он. – Ты не боишься, что я могу разогнать вашу обитель, потребовать от вас причаститься с патриархом? А за отказ – бросить в тюрьму, подвергнуть бичеванию… Я ведь не всегда бываю… снисходителен!
Кассия сознавала, что если б он не отпустил ее сейчас, то ее сопротивления хватило бы ненадолго… вообще ни на сколько не хватило бы. Она еле сдерживалась, чтобы не шагнуть вперед, очутиться в его объятиях и отдаться страсти, не думая больше ни о чем. Икона Богоматери, взгляд на которую остановил Феофила, была у нее за спиной; она видела перед собой только лицо того, к кому влеклась душой, телом, мыслями, чувствами, желаниями… Страсть и боль от того, что уже второй раз в жизни надо проститься с ним, раздирали ее. Бичевание? Она, кажется, была бы рада, если б ее бичевали – как можно сильнее, чтобы боль от ран хоть немного заглушила эту страсть… Пусть бы истерзали ее тело, всю эту красоту… из-за которой одни бедствия на этом свете!..
– Я этого не боюсь, Феофил… Пострадать за православие было бы радостью! И это послужило бы мне во искупление греха… Но ты этого не сделаешь… И мне предстоит тяжелая борьба… особенно теперь…
Лицо ее покрылось бледностью. Она внезапно осознала, что́ она сделала, и какая борьба ее ждет – теперь, когда она уже отчасти вкусила того запретного наслаждения, которого до сих пор не знала… Экстаз, охвативший ее, ощущение безвременья, когда нет никого и ничего вокруг, а только она и он – всё это внезапно окончилось. Потолок кельи стал как будто ниже и давил на нее – преступницу, превратившую святую обитель… в блудилище!.. И в то же время при мысли, что Феофил сейчас уйдет и она его больше не увидит, хотелось умереть.
Ее глаза потемнели от боли.
– Всё было решено еще до того, как мы встретились в портике, – проговорила она.
– Но зачем вообще тогда всё это было нужно?! Бессмысленное страдание!
– Не бывает страданий без смысла… Когда-нибудь мы поймем, зачем… Расстанемся по-хорошему, государь, – произнесла она совсем тихо. – Так будет лучше для нас обоих.
Они молча смотрели друг на друга, трепеща от страсти, разрываясь от боли, – на противоположных краях непреодолимой пропасти. Они читали в глазах друг друга и, может быть, в эти мгновения проживали всю ту жизнь, которая уже никогда не могла настать…
Наконец, император произнес:
Он уже шагнул к двери, но вдруг остановился и, резко развернувшись, снова посмотрел на игуменью в упор.
– А знаешь ли ты… Вот ты тут спасаешься, да? Монастырь такой у тебя… красивый, всё так благолепно, чинно… Но знаешь ли ты, что всем этим ты обязана мне – «еретику», «проклятому иконоборцу», «извергу», «антихристу» и как там еще называете вы меня?
Она хотела что-то сказать, но он не дал ей заговорить.
– Да, ты не называешь, но другие… Так вот, именно я, «проклятый еретик», уже шесть лет не даю разогнать твою обитель! Патриарх впервые пожаловался на вас, когда еще и года не прошло после постройки монастыря! С тех пор у меня набралась уже целая кипа доносов… Я всё знаю, и что вы распространяете писания Феодора и Никифора, поношения на моего отца и крестного, и храм я ваш видел, и Мансура в библиотеке… Я давно мог бы приказать заточить тебя с сестрами куда-нибудь в Преторий! А мог бы и другое… Знаешь ли ты, что когда мой отец взял в жены Евфросину, у меня был сильный соблазн последовать его примеру? Думаешь, ты смогла бы противиться императорской воле? Мне стоило бы только приказать доставить тебя во дворец… И ты бы сдалась, Кассия!.. Когда-то я дал тебе свободу выбрать… А зря, кажется! Ведь тебе это счастья тоже не принесло! – его губы чуть искривились, и при виде этой вымученной усмешки Кассии стало еще больнее. – Но я не тронул твой монастырь, не стал извлекать тебя отсюда… чтобы так и остаться «зверем» и «проклятым еретиком», да?
– Нет!.. Ты… ты гораздо, гораздо лучше меня! Ты даже не понимаешь, какой ты… хороший…
Она опустила голову, потом опять взглянула на него, губы ее задрожали.
– Пусть Господь отблагодарит тебя за всё то добро, какое ты сделал нам…
– Отблагодарит?! – он усмехнулся. – Он уже «отблагодарил» меня раз и навсегда, отняв единственную женщину, которая была мне нужна! И вот, сейчас я уйду… буду опять «подвизаться во благочестии»… Опять терпеть эту пытку, бесконечно! И эта му́ка теперь станет еще во сто крат невыносимее… Хороша благодарность!
Она прижала обе руки к груди и какое-то время гдядела на него, а потом тихо спросила:
– Феофил, ты помнишь историю святого Пимена и его матери?
– Как она приходила к нему повидаться, а он не открыл ей дверей?
– Да. Помнишь, что он сказал ей? «Где ты хочешь видеть меня – в этой жизни или в будущей?»
– Помню… Что ж – встретимся на небесах? Так, что ли? А как же моя «христоборная ересь»? – он опять усмехнулся.
– Я верю, что Господь вразумит тебя, государь!
Он еще несколько мгновений смотрел ей в глаза и, наконец, повернулся и вышел из кельи. Игуменья без сил упала на стул. «Феофил!» – прошептала она и тут только заметила на столе золотой перстень и увидела, что ее стихира была продолжена императором.
…В дверь стучали. Кассия не сразу осознала это. Она не помнила, сколько времени уже находилась во внутренней келье, где затворилась после ухода василевса. Она вошла туда, словно преступник в тюрьму, машинально затеплила лампаду, взглянула на икону… Ноги у нее подкосились, она упала на пол перед образом и замерла. Она осталась один на один с выпущенной наружу страстью, которая пожирала ее, как дикий голодный зверь. Казалось, всего того, что только что случилось, никак и никогда не могло произойти – но это совершилось… Ее колотило в ознобе. Ни одно слово молитвы не шло ей в голову, а помыслы вели ее от воспоминаний о случившемся – к тому, что могло бы быть, если б Феофил не отпустил ее…
– Матушка! Матушка!
Стук продолжался. Кассия с трудом поднялась, подошла к двери и, не открывая, спросила:
– Это ты, София?
– Да, матушка! С тобой всё хорошо? Мы все так испугались!.. Чего хотел государь? Собирается нас выгнать? Или чем-то тебе грозил?
– Нет… Не бойся, София… Он нас не выгонит… и ничего не сделает… Скажи сестрам, чтоб не волновались!
– Ну, слава Богу! Слава Матери Божией! – простодушно возрадовалась сестра.
София, уже немолодая монахиня, пришедшая в обитель после того, как ее муж-рыбак и двое детей умерли от лихорадки, жила в монастыре уже полтора года, помогая Христине в трапезной и вообще выполняя самые черные работы. Она научилась читать, но науками заниматься не стала, сказав, что ей «уже поздно», однако всегда внимательно слушала ученые беседы игуменьи и других сестер. Все любили ее за смирение и простоту.
– Иди теперь, – сказала Кассия всё так же через дверь. – И пусть меня никто не беспокоит… К вечерне я приду.
Хотя она была совсем не уверена, что сможет придти к вечерне.
София ушла, а Кассия уселась на рогожу, забившись в угол и закутавшись в мантию. Хотелось исчезнуть, так чтобы совсем не существовать. Озноб не проходил. Слез не было. От страсти всё плыло внутри, помыслы шли потоком, которому она не могла сопротивляться.
«Господи! – думала она в отчаянии. – Что теперь делать?.. Как я выйду к сестрам? Надо взять себя в руки… но как?! Ведь я чуть совсем не погибла… Еще бы немного, и… И я хотела этого! Я и сейчас этого хочу… Если б он не отпустил меня, то… И всё это здесь, в келье!..»
Кассия потерла рукой лоб. Ей представилось, что и постригавший ее, и ее наставник сейчас оттуда видели всё… Да разве только они?! Все оттуда видели всё это… этот позор… Она закрыла лицо руками. И тут ей вспомнилось:
– Да, я умерла! – прошептала она. – Душой я умерла… умерла и разложилась в мерзкую слизь!.. Можно ли воскреснуть?.. Сколько раз я утешала сестер, что Богу всё возможно, и смердящего мертвеца воскресить… И вот, теперь я сама – этот мертвец!..
Мертвец?.. Но почему ей казалось, что она только что прожила целую жизнь… больше, чем жизнь?.. «Ты еще не испытала такого искушения, которое представляется истиной», – вспомнилось ей. Да, он и здесь был прав, «треклятый Ианний»: несмотря на весь ужас перед сделанным грехом, несмотря на мысли о погибели и душевной смерти, ее не покидало ощущение, что иначе и быть не могло, что всё так и должно было случиться, что когда они с Феофилом рассказывали друг другу о себе и читали в глазах друг друга, это было неизбежно, необходимо… и прекрасно! И она не могла искренне жалеть об этом!.. А поцелуи и объятия – тоже были неизбежны?!.. Можно ли было остановиться? И… нужно ли?.. Боже, о чем она думает!..
Она в отчаянии уткнулась лбом в стену.
«Отче Феодоре! Отче Никифоре! – взмолилась она мысленно. – Видите, до чего я дошла!.. Спасите меня от этой погибели!»
Она закрыла глаза и без сил склонилась на рогожу. И вдруг точно камень свалился с ее души, из глаз полились слезы; она поднялась, несколько мгновений стояла, глядя на икону, а потом упала на колени и стала горячо молиться.
Спустя час она вышла из внутренней кельи и подошла к столу. Золотой перстень лежал там, где его оставил император. Кассия отложила его на угол стола и перечитала дополненную Феофилом стихиру. «Шумом уши огласивши, в страхе скрылась», – перечитав эти слова несколько раз, Кассия вздохнула, перекрестилась на икону, взяла перо и дописала:
11. Удар ножа
Любовь – это по своей сути хаос. В ней нет предсказуемости нисколько… и причинно-следственные связи в ней тоже не работают…
(Юлия Адель)
Выйдя из кельи Кассии, Феофил, пройдя несколько шагов по коридору, остановился и провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть следы страсти и потрясения. Взять себя в руки, чтобы монахини не подумали чего-нибудь могущего породить толки и доставить неприятности Кассии… Ему пришлось собрать всю силу воли, чтобы придать лицу спокойное выражение и сохранить его до выхода за стены обители; было больно дышать. Он попрощался с Анной и с оказавшейся в это время на монастырском дворе Софией, сказав, что узнал от матери игуменьи всё, что хотел, и пожелав всем сестрам «подвизаться во славу Божию». Когда врата закрылись за императором, монахини удивленно переглянулись.
– Неужели Бог миловал? – проговорила Анна. – А я так боялась, что он решит разгонять нас за иконы! Видно, матушка смягчила его…
Сестры, узнав от Анны, что император пошел к игуменье, причем был весьма суров, совсем перепугались и, пока Феофил был у Кассии, молились за нее, прося о милости к обители. После ухода василевса все ждали, что игуменья выйдет и сама расскажет обо всем, но она не появлялась, и тогда Христина, то и дело подходившая к кухонному окну поглядеть, не идет ли матушка, послала Софию узнать, как и что, а потом сообщить остальным…
Вскочив на коня, Феофил спросил, взглянув на солнце:
– Долго ли я был в обители, Евдоким? Я что-то отвлекся… Уж очень библиотека там богатая!
– Часа три, государь, – ответил каппадокиец.
«Три часа счастья! Вот всё, что мне отмерено судьбой!»
За всю последующую прогулку император не проронил ни слова. В сопровождении Евдокима он доехал до Средней, затем по ней до Адрианопольских ворот, выехал из Города и, повернув налево, поскакал вдоль стен – вперед, вперед, навстречу ветру. Они доехали до Пропонтиды и последовали вдоль берега, до Эвдома, откуда по Игнатиевой дороге повернули обратно. У Золотых ворот Феофила встречали эпарх с логофетом дрома и отрядом схолариев: оказалось, что во дворце произошел переполох – император, собиравшийся быстро возвратиться из поездки, «пропал», да еще без свиты, если не считать комита схол!.. Правда, быстро выяснилось, что василевса видели стражники у ворот Города, когда он проезжал, направляясь к морю, однако всё это выглядело несколько странно, по крайней мере, для августы, и она отправила эпарха навстречу императору. Феофил отшутился, сказав, что хотел проверить, насколько хорошо пекутся о его безопасности. Они быстро вернулись во дворец, но там, идя залами и переходами, император всё больше замедлял шаг по мере приближения к своим покоям. Феодора!.. Надо было зайти к ней, успокоить, рассказать что-нибудь… Но сейчас свидание с женой казалось совершенно неуместным. Встречный ветер остудил его пылающий лоб, но, конечно, не мог погасить сердечный пожар. Феофил вновь и вновь в мельчайших деталях вспоминал посещение обители, и у него сводило внутренности. Кассия, Кассия!..
Феодора сама встретила его у Лавсиака – ей уже доложили, что император благополучно «нашелся».
– Феофил! – она бросилась к нему. – Где ты был? Ну, разве так можно!.. Я вся извелась!
– Прости! – сказал он, и августа ожидала, что он поцелует ее или обнимет, но он не сделал этого. – Я хотел проверить, как работает охрана, мы как раз с Евдокимом обсуждали это по дороге.
– Ох!.. Ну, расскажи хоть, где ты был! Тебя ведь не было весь день!
Они вместе прошли в покои августы. Маленькая Фекла, только месяц назад вставшая на ножки, так быстро засеменила к отцу, что растянулась на ковре. Феофил поднял ее и взял на руки. Феодора с улыбкой смотрела на них, а император ощущал себя, словно птица, которую так долго держали в клетке, что она уже привыкла к этой жизни и стала находить ее вполне сносной, но однажды случайно вырвалась на волю и немного полетала, а теперь, пойманная, с подрезанными крыльями, опять попала за решетку, где еще недавно была почти счастлива – но уже никогда не будет… Он отнес дочь в уголок к ее игрушкам, сделал знак няньке выйти, а сам опустился в кресло. Феодора, сев напротив, взглянула на мужа повнимательней: что-то странное сквозило в его лице, новое выражение, неопределимое и почти неуловимое, – и оно почему-то встревожило императрицу.
– Так где ты был?
– Да так, проехался по Городу, а потом от Адрианопольских ворот к морю, оттуда до Эвдома… Захотелось прогуляться.
Она ждала, что он расскажет, кого встретил и что видел интересного, но он умолк.
– Всё же тебя долго не было! Ты заезжал в Эвдом?
Он уже хотел было ответить, что да, что ехали не спеша, потому так долго и получилось… но вместо этого сказал:
– Нет, не заезжал. Я был в одном монастыре. Это в долине Ликоса, рядом с Диевой обителью, мне про него кое-что донесли, и я решил проверить. А там богатая библиотека оказалась, вот я и засиделся над книгами… К тому же тамошняя игуменья, как выяснилось, пишет стихи и прекрасные песнопения! Она, кстати, была вместе с тобой на смотринах. Кассия.
Он говорил спокойно, как будто рассказывал что-нибудь вполне обычное, глядя на возившуюся в углу дочь. Пытаясь потом осмыслить, зачем он это сказал, он понял, что бессознательно шел на разрыв. После встречи с Кассией, после того как он увидел, чем и как она жила, что читала и чем занималась, после того как они поняли друг друга так, как если б она, а не Феодора все эти годы была его женой, после того как он держал ее в объятиях и она отвечала на его поцелуи, у него уже не было никаких иллюзий относительно ее и своих чувств, так же как относительно будущего: рана стала неисцельной и причиняла такую боль, что делать усилия, чтобы выказывать перед женой несуществующие чувства, он не мог и предпочел решить дело «ударом ножа».
Феодора побледнела.
– Кассия? – переспросила она. – Та самая?
– Да. Ты ее еще помнишь?
– Помню… И что же… ты ее видел?
– Другие сестры меня встречали, а она даже не показалась, «в страхе скрылась», я там одну ее стихиру прочел… Стихира – просто чудо! Про жену-грешницу и про Еву, как она скрылась от Бога в раю… Всё-таки жизнь изменчива: когда-то богатая девица, со связями при дворе, красавица, а теперь живет в захудалой келье, спит на деревянной лавке…
– Так ты и в келью ее заходил, что ли?! – императрица поднялась с места.
Феофил ощутил, как в нем поднимается злорадство: ему было больно, и хотелось «отомстить» – сделать больно другому… Он понял в этот миг, что Феодора всё помнит и, быть может, до сих пор ревнует, и представил, что было бы с женой, если б он рассказал ей о том, что он делал в келье Кассии…
– Да, во внешнюю, а она от меня во внутренней заперлась. Монашеский аскетизм не позволял выйти! – он усмехнулся.
– Прекрасно! – воскликнула Феодора. – А что это тебя занесло туда?
– Да так, решил поглядеть, что там делается, в этой обители. Мне сообщили, что там иконопоклонники.
Феофил остро глянул на жену. Одна из ее кувикуларий, сестра Анастасия Мартинакия, в чьей семье все были убежденными иконоборцами, давно уже донесла императору о сундучке с иконами, хранившемся в покоях Феодоры, но он махнул на это рукой: если уж открытое иконопоклонство Кассии не мешало ему любить ее, то стоило ли расстраиваться из-за тайных отклонений от веры женщины, которую он не любил? Правда – быть может, именно из-за отсутствия любви к жене, – мысль о ее иконопоклонстве иногда сильно раздражала, но он не заговаривал с Феодорой об этом, отчасти жалея, а отчасти потому, что не верил в глубину ее религиозных убеждений и думал, что она всего лишь дочь своей «слишком благочестивой» матери…
Императрица опять села и смотрела куда-то мимо него.
– И что? – спросила она как можно равнодушнее.
– И точно, так и оказалось. Вот думаю: не разогнать ли мне их? Ведь еретики, можно сказать, в центре столицы! Игуменья дерзка: хотел с ней поговорить про их ересь, а она и выйти ко мне не пожелала… Сестры читают писания в защиту икон, я там в библиотеке у них видел. Они и с патриархом не общаются, распространяют еретические басни, Антоний давно мне жаловался на их монастырь, да мне недосуг было разбираться. А теперь вот своими глазами увидел!
По лицу жены император видел, что в ней происходила внутренняя борьба. В ее голове мелькали ревнивые мысли, что Феофил, может, вовсе не только ради проверки истинности доносов отправился в этот монастырь… Раз он до сих пор не забыл Кассию, как видно!.. Неужели всё еще соперница?.. Разогнать монастырь, удалить ее из столицы… Мысль соблазнительная!.. Но, с другой стороны, хотя бы и так, – неужели опуститься до мести из ревности?.. А может, вовсе это не так, и Феофил сказал правду и действительно был в этом монастыре только из-за доносов?.. Ведь если б он захотел повидать Кассию, он мог бы сделать это гораздо раньше… Конечно! Это она уже тут себе навыдумывала всякого!.. А если он действительно собрался их разогнать… что тогда? Куда пойдут эти монахини, что им придется претерпеть?..
– Послушай, – наконец, сказала императрица слегка раздраженно, – оставь в покое бедных монашек! В конце концов, они никому не мешают… Ну, что они там могут распространять, какие ереси? Смешно!
– Да, ты права, – сказал Феофил и встал. – Разгонять их я не буду, пусть живут… Они ведь там подвизаются, не то что мы! – он усмехнулся. – Ну, до завтра!
Феодора осталась сидеть неподвижно. Кассия!.. Постриглась, стала игуменьей, живет в бедной келье, пишет стихиры… Вот как!.. «Ты ее еще помнишь?» Она ответила: «Помню», – но помнила ли она ее? Она вызывала в памяти тот день, когда Бог судил ей стать невестой императорского сына, собранных на смотрины девиц, разговор с ними об Иоанне, философии и любовных стихах… Она вдруг поняла, что почти не помнит Кассию. В памяти остался смутный образ невероятной красавицы, но подробности скрало время, и сейчас Феодора даже не могла сказать, какого цвета были волосы у этой девушки… Помнились ясно только большие синие глаза и темно-синее платье, расшитое серебром… «В страхе скрылась»… Что это он такое говорил? Какую-то ее стихиру он там прочел… Он был в ее келье!.. Зачем? Поговорить о ереси?..
Императрица встала и подошла к окну. Теперь объяснение мужа показалось ей нелепым. В конце концов, для разговора о ереси игуменью можно было вызвать во дворец, допросить в присутствии эпарха… как было с Евфимием Сардским и другими! Ну, конечно! Так значит… значит, Феофил хотел видеть ее… без свидетелей?.. Видеть ее… и что?.. Господи!.. Значит, он… Нет, это тоже нелепо! Если б он до сих пор питал к ней какие-то чувства… то он бы уже давно мог побывать там! Давно, еще несколько лет назад… Тем более, что тогда он и к Феодоре относился гораздо хуже, чем в последнее время! Если б он вздумал встретиться с Кассией тогда… это еще можно было бы понять… Но зачем ему это теперь, когда всё стало так хорошо?!..
«Я ему… надоела?.. Может, он решил, что я… что со мной… скучно?..» Но ведь он ничего такого не давал понять, даже ни единым намеком! Еще сегодня утром, когда он ненадолго зашел к ней, он поцеловал ее и так улыбался!.. А приехав… приехав, он даже не обнял ее, хотя она так беспокоилась весь день! Что случилось?.. Что было там, в этом монастыре?!.. Или, может, ей просто казалось, что всё хорошо?.. Может, он так умело притворялся?.. Неужели это возможно?!..
«Да точно ли он ее не видел?..» Феодора прошлась по комнате. Он сказал, что Кассия от него закрылась из аскетизма… Значит, из всех сестер она самая строгая, не хочет встречаться с мужчинами… все вышли, а она нет? Тоже странно!.. «Игуменья дерзка»… Да, конечно, это дерзко по отношению к императору… Впрочем, она и на смотринах повела себя дерзко, и это даже, может быть, в ее духе… Но…
«А где же перстень?» Еще когда Феофил сел в кресло, она заметила, что перстень с его руки пропал, но потом забыла спросить о нем, потому что муж стал рассказывать про Кассиин монастырь… Этот перстень император заказал себе вместе с тем самым ожерельем и серьгами со вставками из лазурита, которые он обещал подарить ей в синей спальне Врийского дворца прошлым летом. С тех пор Феофил носил перстень, почти не снимая, Феодоре он очень нравился, и она хорошо помнила, что, когда этим утром муж заходил к ней ненадолго, перстень был у него на пальце. Куда он делся?..
Вопросы, вопросы!.. И вдруг Феодоре пришла в голову простая мысль, каким образом можно узнать подробнее о том, что же делал муж во время сегодняшней странной поездки. Императрица позвала дежурную кувикуларию и сказала ей:
– Позови ко мне Евдокима, комита схол.
Когда каппадокиец вошел в приемную августы, он сделал земной поклон, по обычаю пожелал многих и благих лет царствования и остановился у двери, глядя в пол. Императрица оглядела его, и ей вспомнилось, как они встретились первый раз в саду, когда юноша только готовился поступить на придворную службу. Бедный мальчик тогда был… поражен, да… Но, скорее всего, уже всё прошло!..
Комит схол стоял, не поднимая глаз; он был слегка бледен, но под загаром это было почти не заметно.
– У меня есть к тебе разговор, господин Евдоким.
Он поклонился, всё так же не глядя на нее.
– Ты ведь сегодня ездил по Городу с государем?
– Да, августейшая.
– И где вы были?
– Сначала по рынкам проехались, как и всегда, потом государь зашел в один монастырь, а потом мы сразу выехали за Город, поехали к морю…
– Понятно, – прервала его Феодора. – В какой монастырь он заходил?
– Я не знаю, как он называется, государыня… Это в долине реки, рядом со Свято-Диевой обителью.
– А почему государь решил заглянуть туда, он не сказал?
– Он сказал, что патриарх сообщил ему, что там еретики, и государь решил проверить лично.
– И что же? Вы оба заходили туда?
Евдоким на мгновение поднял глаза и взглянул на императрицу.
– Не удивляйся, что я так расспрашиваю, – сказала ободряюще Феодора и заметила, что комит схол чуть покраснел. – Я так беспокоилась, что государя долго нет! Да еще тут есть одно важное дело, и мне нужно знать… Или государь запретил тебе рассказывать о сегодняшней поездке?
– О, нет, он ничего не сказал мне на этот счет.
– Вот и хорошо. Так что же вы там увидели, в этом монастыре?
– Я не был там, августейшая. Государь зашел туда один.
– Почему же ты не зашел с ним?
– Августейший приказал мне дожидаться снаружи.
– И долго ждать пришлось?
– Не могу сказать, сколько именно, государыня, – тут Евдоким вновь взглянул на императрицу и добавил: – Государь немного задержался и сказал, что так получилось из-за богатой монастырской библиотеки, он рассматривал там книги.
«Так, – думала Феодора, – пока что всё сходится с его словами… Да только ведь он так же мог наврать Евдокиму, как и мне!»
– Государь еще что-нибудь рассказывал про эту обитель?
– Нет, августейшая. Видно, это обычный монастырь, и патриарх ошибся – нет там еретиков… А то бы государь, наверное, сказал что-нибудь…
– Да, конечно… Но что же, он так совсем ничего и не рассказал?
– Нет, государыня.
Феодора глядела на комита и с досадой думала, что и у него ничего толком узнать невозможно… И тут ее осенило.
– Благодарю, Евдоким, теперь мне всё понятно… Хорошо, что ты был с государем, ведь на тебя всегда можно положиться!
Комит схол чуть покраснел и молча поклонился, а Феодора сказала, как бы между прочим:
– Наверное, вы хорошо прогулялись, ведь вы так долго были за Городом… Кстати, а во сколько примерно вы выехали за стены?
– Судя по солнцу, был четвертый час пополудни, государыня, – ответил Евдоким и вдруг осекся.
Феодора побледнела и несколько мгновений пристально смотрела на него, а потом спросила:
– Что же, государь был спокоен… как всегда?
– Мне кажется, что да, – ответил комит, и на щеках его вспыхнули два красных пятна.
– Понятно… Скажи еще, ты не заметил, был ли у него на руке перстень… такой золотой, с лазуритом… когда он… когда вы уже поехали за Город после монастыря?
– Перстень?.. – Евдоким помолчал немного, словно припоминая. – Перстень был на руке государя с утра… я помню… А потом – да, уже не было. Но я не знаю, куда он делся.
– Государь никому его не отдавал? Нищему, например?
– Н-не помню… Государь раздавал нищим монеты… Может быть, и перстень кому-то отдал, я мог просто не заметить.
– Хорошо, Евдоким, благодарю за рассказ. Ступай.
Когда комит вышел, Феодора ушла к себе в спальню и заперлась. У нее подкашивались ноги. Она уже знала, во сколько Феофил отослал от себя схолариев на форуме Быка и свернул в долину Ликоса, а теперь узнала от Евдокима – и каппадокиец, совершенно очевидно, пожалел, что проговорился, – во сколько они оказались за городской стеной: итак, если учесть время на дорогу от форума до Адрианопольских ворот, выходило, что Феофил должен был провести в монастыре не менее трех часов. Три часа!.. Что он мог делать там так долго? Зайти в храм, осмотреть библиотеку и монастырское хозяйство… Ведь всё это могло бы занять, может быть, час… Застрял в библиотеке?.. Что же, он там два часа книжки читал? Глупости! У него тут под боком две библиотеки, и, уж конечно, тамошняя не лучше… Ну, что он там – посмотрел мельком, какие книги… Может, полистал одну, другую… На это и получаса не ушло бы! Но он еще и в келью ее заходил! Но ее не видел… И что же? Если б только это, он бы через час уже покинул обитель! Да! Значит… Значит, Феофил солгал. Он видел ее. Перстень! Куда делся перстень?.. Евдоким не сказал ничего определенного… Евдоким, пожалуй, не хотел говорить ничего определенного… Но он что-то знает!..
Императрица села на постель и стала вспоминать сегодняшний разговор с мужем. Всё-таки Феофил был какой-то… не такой, как всегда… А Евдоким сказал, что всё, как обычно… Не заметил или… не хотел сказать?!.. Что-то случилось там, в этой обители! И потом эта длинная «прогулка»… Феофил был взволнован, это ясно!
Феодора встала и подошла к окну. Ей вспомнился разговор с Иоанном о «созвучии душ» незадолго до смерти свекра. «Но ведь ты, государыня, хочешь услышать именно правду, не так ли?..» Вспомнилось, как она выкинула в море золотое яблоко… С тех пор прошло четыре года, и она уже начала забывать о том, как ей тогда было больно, и как она была несчастна. Но всё это время… Всё это время Феофил никогда не забывал о той! И вот, сегодня он был у нее, видел ее и… хорошо провел с ней время?!.. Феодора прижала руку к губам. Перстень! А что, если… он оставил его там?.. Почему Евдоким хотел скрыть от нее правду?.. Не потому ли, что он что-то знал, и это было… неприличным?.. Императрица медленно опустилась в кресло у окна. «Разгонять их я не буду, пусть живут…» Еще бы! Конечно, он не станет разгонять этот монастырь, потому что… у него там любовница!
…Евдоким вошел в храм Апостолов в Схолах, прислонился к мраморной колонне и замер, закрыв глаза. Перед его взором проплывало лицо августы, император верхом на вороном иноходце, купол монастыря на берегу Ликоса, шумная Средняя, дорога вдоль городских стен, волны Пропонтиды, опять лицо Феодоры… Евдоким встряхнул головой.
– Господи! – прошептал он. – Помилуй всех нас!
Император недооценил каппадокийца. Комит схол заметил всё: и волнение Феофила при получении ларчика с ладаном, и его раздумье перед тем, как он решился войти в монастырь… Уже давно, вскоре после зачисления в отряд схолариев, Евдоким понял, отчего страдала Феодора. Он был наблюдателен, этот «мальчик» – потому что любил ее. Он догадывался и о том, почему она нелюбима мужем: однажды, как бы между прочим, Евдоким спросил у отца, не знает ли он, как император выбрал себе невесту, и патрикий рассказал то, что ему было известно о происшедшем на смотринах, правда, тут же строго-настрого запретив сыну обсуждать это с кем-либо. Отец помнил и имя девушки, выбранной Феофилом поначалу, и знал, что она впоследствии постриглась и основала монастырь, – Василий был хорошо знаком с протоспафарием Георгием, и тот в свое время вылил ему в уши немало сетований по поводу «дурного воспитания» племянницы, ставшего причиной «такой неслыханной дерзости»… Евдокиму всегда было больно видеть августу, особенно рядом с императором, но не из-за ревности, а потому, что он догадывался о страдании их обоих. Его служба при дворе была успешной, вскоре он стал комитом схол, и другой на его месте, пожалуй, задумался бы о поисках «подхода» к нелюбимой мужем императрице, но Евдокиму это и в голову не приходило, несмотря на то, что страсть даже вынудила его носить под одеждой власяницу. Чужое ложе, тем более императорское, было священно. Человека, любимого ею, нужно было хранить как зеницу ока – и, став одним из комитов, Евдоким еще усерднее исполнял обязанности по службе, так что Феофил не раз хвалил его и отличал среди придворных… А Феодора… От нее Евдоким едва получил несколько равнодушно-любезных улыбок. Он видел, что в последнее время отношения императорской четы заметно улучшились, но не спешил радоваться за августу: служа в охране василевса, комит успел многое подметить – он был гораздо наблюдательнее, чем это можно было предположить, – и догадывался, что всё не так просто… И сегодня его догадки подтвердились.
В ожидании императора Евдоким пустил коней пощипать траву на берегу реки, а сам сел на бревно, и поглядывал то на коней, то на реку, то на врата обители, за которыми скрылся василевс. Наконец, его стало удивлять, что император всё не возвращается: даже при посещении больших монастырей для поклонения святыням он никогда не задерживался так долго, а если в этой обители действительно еретики, то что он может там делать? Допрашивать иноков?.. Это было бы странно… Между тем, пока Евдоким дожидался василевса, мимо по дорожке прошло несколько монахов. Последний из проходивших, низенький и щуплый, с сумой за плечами, кинул взгляд на пасшихся коней, остановился и поздоровался с Евдокимом. Тот встал и тоже поклонился в ответ.
– Ты уж не государя ли тут поджидаешь, господин? – спросил монах. – Смотрю, конь-то с таким седлом… Его, вроде? Неужто к нам пожаловал? Я с Диевой обители, – пояснил он, кивая на монастырь.
– Да, отче, я жду августейшего, – ответил комит. – Но государь зашел не к вам, а вот в этот монастырь.
– Вот так да! – монах едва не подскочил на месте. – Наконец-то! А мы уж думали: что за притча, уж сколько и отец игумен писал, и отец эконом – и святейшему, и самому государю, а всё без толку… Монашки-то тутошние еретички! С патриархом не общаются, иконы чтут, еретические книги распространяют…
– Да, государь сказал: ему донесли, что здесь еретики, и он хочет проверить, – сказал Евдоким сдержанно; столь бурная радость монаха была ему немного неприятна. – Так это женский монастырь?
– Женский, женский, господин! И такой, прости Господи, странный! – монах оказался словоохотлив. – Хозяйства у них почти нет, книги переписывают да продают, и сестры-то все молоденькие! Почитай, старше сорока ни одной и нет… А игуменья у них и вовсе… И тридцати еще нет! А стала игуменьей когда ей и двадцати пяти не было, вот дела! Где это видано?.. Говорят, ее Никифор покойный благословил, вот какие у них, иконопоклонников-то, порядочки!..
Комит очень не любил пересуды и сплетни и подумывал, как бы повежливее пресечь словоизлияния монаха, но услышанное дальше поразило его.
– Умная она, говорят, ученая! Из богатых… А красавица! Я ее видал… Кассией звать. Имя какое, видишь, как у дочери Иова!.. За красоту, видно, и назвали… Вот, теперь-то государь посмотрит, что у них там, так, верно, примет меры!.. Ну, пойду, господин, расскажу отцу игумену, то-то он порадуется!..
Монах откланялся и засеменил к Диевой обители, а потрясенный Евдоким снова опустился на бревно. Подарок, сделанный торговцем благовониями императору и, кажется, выбивший его из равновесия, был у комита в сумке у пояса… Кассия – игуменья обители!.. «И тридцати еще нет» – как и государю… Неужели она?..
Весь нынешний день предстал перед Евдокимом в ином свете. Действительно ли государь хотел только проверить, насколько истинны доносы? Мысль была столь дерзкой, что комит испугался и тут же укорил сам себя за нечестивый помысел. Мог ли государь солгать, ведь он сам сказал, зачем идет в обитель, да и монах этот подтвердил то же! Но… этот ладан! Это раздумье императора, прежде чем он вошел сюда!.. Боже! Нет, нельзя думать о таком!.. Евдоким сжал голову руками, закрыл глаза и принялся молиться, чтобы отогнать помыслы, роившиеся у него в мозгу. Он не знал, сколько просидел так, и очнулся от голоса императора над своей головой:
– Что с тобой, Евдоким?
Молодой человек вскочил и хотел ответить, но, взглянув в лицо василевсу, не смог сказать ничего. В его уме возник ответный вопрос, который он никак не смел задать: «А что с тобой, государь?» Но император прочел в глазах Евдокима этот немой вопрос – и отвернулся, не сказав ни слова. Они сели на коней, и Феофил спросил, не глядя на каппадокийца, долго ли он был в обители. Получив ответ, погладил бороду, – тут-то комит схол и заметил, что перстень с его руки исчез… А потом, вместо скорого возвращения во дворец, как предполагалось с утра, эта долгая прогулка в полном молчании…
Евдоким стоял у колонны в храме, закрыв глаза, и волнение душило его. Только что он впервые в жизни солгал – солгал женщине, которую любил, – солгал, чтобы скрыть от нее правду о том, кого любила она… Какую правду?!..
«Господи, неужели это совершилось?..»
12. Исповедь
Когда спросили авву Кира Александрийского о блудном помысле, он ответил так: если ты не имеешь помысла, то ты без надежды, – ибо, если не имеешь помысла, имеешь дело. Это значит: кто не борется с грехом в уме и не противится ему, тот совершает его телесно, а совершающие такие дела не возмущаются помыслами.
(Древний Патерик)
К вечерне Кассия пришла внешне почти спокойная, в нескольких словах сообщила сестрам, что император приходил из-за их иконопочитания, видимо, по доносу, но гнать их за «ересь» не будет.
– Похоже, – сказала Кассия, – он не такой уж упорный иконоборец, как о нем говорят, – а сама подумала: «Если б они знали, зачем он приходил на самом деле и о чем мы говорили!..»
Руководить хором она поручила Анне, а сама встала впереди за колонной, где ее не могли видеть сестры. Никто не видел, как она молилась, но сестра Марина, подметавшая в храме после службы, заметила, что пол на том месте, где стояла игуменья, был закапан слезами. «Матушка, наверное, молится за нас и за обитель, – подумала она, – а мы… Мне бы так о своих грехах плакать!..»
После вечерни было прочитано слово из «Лествицы» – очередное, не выбранное нарочно, но оно оказалось словом пятнадцатым, о целомудрии.
– «Не верь во всю жизнь твою этому бренному телу, – читала Кассия, – и не надейся на него, пока не предстанешь Христу. – Кто хочет бороться со своей плотью и победить ее своими силами, тот тщетно подвизается, ибо если Господь не разорит дома плотской похоти и не созиждет дома душевного, то напрасно бдит и постится думающий разорить…»
Слово оказалось кстати и для сестер: как узнала игуменья в тот же вечер во время исповеди, для многих из них посещение обители императором стало искушением – слишком он был красив…
– «Испытаем, прошу вас, кто больше пред Господом: умерший ли и воскресший или никогда не умиравший? Ублажающий последнего обманывается, ибо Христос умер и воскрес; а ублажающий первого увещевает умирающих, то есть падающих, не предаваться отчаянию…»
«Вот, они слушают и размышляют о своих грехах, – думала Кассия. – А я, поставленная их учить… Что я сделала!..» Голос ее несколько раз дрогнул во время чтения, но сестры, если и заметили, приписали это тому, что игуменья, конечно, всё еще была взволнована встречей с императором и «страшным» разговором…
Когда чтение закончилось, Арета спросила, можно ли сестрам сегодня приходить на откровение помыслов, как обычно: ведь был «беспокойный день», и возможно, матушка не захочет их принимать? Вопрос застал игуменью врасплох, хотя она сумела не выдать своей растерянности: Кассия даже позабыла, что сегодня был один из дней, когда сестры приходили на исповедь, и теперь не знала, что ответить. Конечно, ей не хотелось показывать, что встреча с императором стала для нее чем-то из ряда вон выходящим, и в то же время она не чувствовала в себе ни сил, ни дерзновения принимать исповедь сестер после того, что случилось. Но… нет, отступать нельзя. Раз взялась за руководство, надо руководить. Что случилось, того не изменишь, надо жить дальше…
– Да, – кивнула она, – можно приходить.
После ужина игуменья, помолившись у себя, пошла в часовню, находившуюся в конце коридора, рядом с ее кельями и стала принимать сестер. Они ходили на откровение помыслов каждые три дня, поэтому исповедь не затягивалась. Выслушивая сестер, Кассия давала, кому было нужно, советы от писаний святых отцов и отпускала, благословив, но внутренне словно бы смотрела на всё это со стороны, почти с недоумением: как она смеет учить их, когда сама… В душе всё больше сгущался гнетущий мрак. «Если бы они знали!.. – думала она. – Как больно!.. Хорошо, по крайней мере, что никто не будет спрашивать, почему я не вышла к нему, как все!» – на этот вопрос она вряд ли нашлась бы, что ответить. Задавались ли им сестры? И если задавались, то какой ответ приходил им в голову?.. Какой бы ни пришел, пусть даже и не самый благочестивый, он будет, конечно, далек от настоящей глубины ее падения… Когда последняя сестра вышла от нее, игуменья тяжело опустилась на стул и прижала руку к груди.
– Надо ехать, – прошептала она. – Завтра же.
На следующее утро она, взяв с собой Лию, отправилась на Принкипо к отцу Навкратию. У студитов там был небольшой огород, занимались они и ловлей рыбы, но во многом жили за счет приношений паломников, стекавшихся на могилу великого Студита. Впрочем, сам игумен уже не занимался никакими трудами: ему пошел восьмой десяток лет, и его телесные силы постепенно иссякали. Навкратий принимал приходящих, наставлял духовно, отвечал на вопросы, давал советы, рассказывал о последних годах жизни Феодора…
– Какое посещение! – сказал он с улыбкой, когда Кассия с Лией вошли в его «гостевую» келью и поздоровались. – Чем обязаны, почтеннейшая мать?
Монахини подошли под благословение, и Кассия ответила:
– Есть у меня к тебе разговор, отче.
– Понятно, – он пристально взглянул на нее. – Что ж, надо покормить вас, вы ведь только с дороги… Проходите в трапезную, а потом приходи, мать, опять сюда.
Через полчаса Кассия снова была у отца Навкратия.
– Ты приехала на исповедь? – спросил он.
– Да, отче.
– Тогда пойдем в церковь.
В храме, прочтя положенные молитвы, игумен повернулся и, опершись рукой на аналой, внимательно взглянул на Кассию.
– Я слушаю, мать.
Он уже понял, что с Кассией произошло что-то из ряда вон выходящее, и был немного обеспокоен: она приехала сюда, не дожидаясь воскресного прихода в обитель отца Феоктиста, и не стала доверять исповедь письму…
– Не знаю, отче, с чего начать… Видно, придется очень издалека.
Она вкратце рассказала, как еще в детстве решила стать монахиней, о переписке с игуменом Феодором, о встрече с Феофилом в Книжном портике, о смотринах во дворце и о последующей борьбе со страстью, о мнимом избавлении от нее после пострига и о возобновлении искушения спустя три года… Навкратий слушал молча, опустив голову.
– А вчера, отче… государь посетил наш монастырь.
Игумен слегка вздрогнул и взглянул на Кассию. Она умолкла, собираясь с силами. Всю дорогу до Принкипо она с ужасом думала, как ей придется открыть свой позор, и у нее холодело внутри. Ей казалось, что когда она расскажет о происшедшем, игумен просто с презрением отвернется от нее.
– Не могу! – прошептала она.
– Раз начала, мать, так уж надо идти до конца, – сказал Навкратий тихо и очень мягко.
Кассия вздохнула и продолжала глухим голосом:
– Прости, отче, я не знаю… как рассказывать об этом… Всё то время, что я боролась с этой страстью… мне казалось трудным иногда… Но всё это ничто по сравнению с тем, что со мной происходит теперь! И… я боюсь соблазнить тебя своим рассказом.
– Можешь совершенно не беспокоиться об этом, – спокойно сказал игумен.
Она опять вздохнула, глубоко, как ныряльщик перед прыжком в воду.
– Когда он пришел в обитель, я сидела у себя в келье и писала стихиру…
Она рассказала всё по порядку – что узнала от Анны о том, как император осмотрел храм, скрипторий и библиотеку, как он смотрел там книги, как потом пришел в ее келью и нашел там «Ипполита» с ее пометками…
– Я сделала их два года назад, тогда это мне помогло бороться… Но, наверное, я не должна была хранить эту книгу… Хотя разве я могла знать, что он когда-нибудь окажется в моей келье! Если б он не прочел ее, он, может быть, не вернулся бы второй раз… А так он понял, что я… что эта страсть жива… Но разве можно было предвидеть? Я не могла и подумать, что он до сих пор…
Она опять умолкла.
– До сих пор тебя любит?
– Да, – кивнула она. – Сначала он и правда хотел уйти, уже и ушел… Оставил свой перстень у меня на столе… и дописал стихиру… И вышел… Но он не смог уйти и вернулся… А я уже в это время вышла из внутренней кельи… Когда он вошел и назвал меня по имени… я поняла, что всё пропало… что я не смогу сопротивляться! Это ужасно… Нет, ужасно не это. Самое ужасное то, что… я поняла, что не хочу сопротивляться!.. И мы с ним говорили… Он хотел знать, почему я на смотринах отказала ему. Я не могла не ответить!.. Я рассказала про свою жизнь… А он мне – про свою… И казалось, что мы понимаем друг друга без слов… Но на этом не остановилось…
Она замолчала; силы совсем оставили ее.
– Ничего, мать, говори всё, – тихо сказал Навкратий.
Слезы потекли по щекам Кассии.
– Он оказался благороднее меня… и целомудреннее… Он мог бы овладеть мною, если б захотел… Я сначала попыталась оттолкнуть его… а потом уже не пыталась… Он два раза поцеловал меня… и если б он еще раз… я отдалась бы… Он это видел… И он отпустил меня! Не захотел воспользоваться… А ведь он всё понял! Он был прав, обвиняя меня в лицемерии! Он сразу сказал мне, что… что нечего говорить про добродетель, ведь он видит, чего я хочу на самом деле… Ведь правда же: я живу в обители, якобы подвизаюсь, «невеста Христова», а на самом деле… Когда он уходил, мне захотелось умереть… но не от стыда… а потому, что он уходил!.. Потом я молилась, и мне стало легче… Потом пошла на вечерню… Потом принимала исповедь сестер… и всё думала, что я недостойна им и ноги умывать! Они приходят ко мне… как к духовной… а я… Я вся – то самое брение, которое страстно желает брения, как в «Лествице» сказано… И ничего больше! И я молюсь, каюсь, но в то же время… в душе я до сих пор… до сих пор жалею… что он не настоял на своем!..
Кассия совсем опустила голову, не смея взглянуть на отца Навкратия. После небольшого молчания он сказал:
– Молода ты еще, мать! Кровь играет… Это бывает часто, особенно если не вкусил этой сласти в юности… Обычно кто не вкусил, тот бывает меньше борим страстью, но Лествичник говорит, что часто бывает и противоположное. Конечно, следовало быть осторожней, но сделанного не воротишь… Да тут как-то у вас всё так произошло… Не знаю, можно ли было избежать… Надо благодарить Бога, что вы не пали до конца! Не отчаивайся, мать! И не такие падения бывали с монахами, сама знаешь, но Господь восставлял, можно сказать, из самых глубин адовых…
Кассия уже не плакала и внимательно слушала неторопливую речь отца Навкратия, прижав ладони к пылающим щекам.
– Терпи, мать! – сказал игумен. – Терпи. Как путник проходит по вонючей улице и ощущает смрадные запахи, а всё-таки идет к своей цели, так и нам надо. Бесы будут бороть до конца жизни, и не последняя цель у них – совсем смутить, внушить мысль, что вот, раз мы такие, то всё, впору сложить руки и всё бросить, потому что мы недостойны и прочее… Да, мы недостойны, и упаси Господь думать, что мы достойны! Но если Бог нас поставил на то или иное служение, мы должны стараться творить Его волю и исполнять свое послушание… И ты хорошо сделала, что не отменила вчера исповедь сестер, так и впредь поступай. Есть у тебя обязанности по отношению к сестрам – исполняй их. А против бесов, сама знаешь, одно средство – смирение и молитва. Вот так, и вперед, не останавливаясь. Если уж очень тяжело или уныло, так хоть в мантию завернуться и спать, только не расслабляться и руки не опускать, потому что от этого всё зло… Если бес блудный будет стужать совсем несносно, то хорошо тело утруждать побольше – работой или поклонами… Или хоть выйди на воздух и по саду походи, с молитвой… Вот так, мать!
– Отче, – проговорила Кассия, – мне ведь надо епитимью нести… Отлучение… Я хоть и не пала окончательно, но… – она опустила голову, – только благодаря государю… Если б какая-нибудь сестра сделала то же самое, я бы отлучила ее, а про себя теперь думаю… что это может породить в обители толки… Но это самооправдание…
– Да, мать, отлучать тебя от причастия – дело неудобное. Посещение государя само по себе могло толки породить, и хорошо еще, что сестры твои, вроде бы, все думают только про вопрос об иконах… А если тебя отлучить, то могут подумать всякое. Если и не подумают о том, что было на самом деле, так могут, пожалуй, решить, что ты в соглашение с ересью хотела вступить… Или даже вступила, раз государь решил оставить обитель в покое, – подписку дала или что-то еще подобное. Да и потом, мать, это тяжкий грех, если вообще смотреть, но тут у тебя случай особый… Так что… – он помолчал, подумал. – Давай, матушка, так: клади по триста поклонов сверх правила, а пищу вкушай только раз в день, но чтоб в трапезу ходить со всеми. В обед ешь, а на ужин для виду можно только воду пить и, может, еще хлеба ломтик, чтобы не обращать на себя лишнего внимания и не тщеславиться… А вина не пей совсем. И всё на этом. Год так проживешь, а там посмотрим. Если очень тяжело будет, приезжай опять на исповедь.
Игумен выпрямился, и Кассия опустилась перед ним на колени. Он положил руку ей на голову, помолился и сказал:
– Поднимайся, мать! Путь тебе еще долог!
Кассия встала, не смея взглянуть на него.
– Мать! – сказал он.
Она подняла глаза. Навкратий чуть заметно улыбался.
– Мать, выше голову! «Не неразумеваем» умыслы бесовские! Благодари Бога, что Он не допустил вас обоих до конечного падения! Тебе много предстоит борьбы, но может, и хорошо, что случилось так… Помнишь, у Лествичника: море это должно возмутиться, чтобы извергнуть весь сор и грязь. Святая Сарра боролась со страстью тринадцать лет – видишь, дольше тебя! А мы разве подвизаемся так, как она? Она не унывала, но просила Бога о помощи, хотя ведь могла отчаяться, что она столько лет молится, трудится, а Он ее как будто бы не слышит… Вот и нам нет пути унывать!
С Кассии точно упала огромная тяжесть. Жить дальше было можно. По-прежнему было больно, но чувство безысходности исчезло. Она как будто восстала от тяжелого и мрачного сна.
– Спаси тебя Господь, отче!
Тут она вспомнила о подарке Феофила.
– Отче, а что делать с тем перстнем… который оставил государь?
– Мне кажется, мать, лучше его продать и деньги раздать нищим. От этого будет больше пользы… может быть, и для души государя.
– Раз уж зашла об этом речь… Отцы пишут, что за лиц, внушающих страсть, лучше не молиться… чтобы не вспоминать их… И даже – что предметы страсти надо воображать уже лежащими в гробу и разложившимися…
– Но ты не можешь так?
– Нет! Я пыталась… Это выше моих сил!.. И потом… он сказал мне, что все эти годы, пока существует наша обитель… он не давал ее разогнать, хотя ему жаловались и писали доносы… Я ужасно боюсь за него! Он такой… он совсем не такой «зверь», как про него думают! По крайней мере, меня он точно лучше… Но ведь он погибнет, если останется в ереси!..
– Ну, что ж, мать… Молись за него. Со страстью борись, а о спасении и вразумлении его молись… Может, и помилует его Господь!
…На другой день после встречи с Кассией Феофил, вернувшись во дворец из поездки во Влахерны, как обычно, зашел к жене, хотя ему и не очень хотелось. Об «ударе ножа» он не жалел, но всё-таки думал, что прекратить всякое общение с Феодорой было бы слишком жестоко по отношению к ней – в конце концов, она не виновата в том, что случилось! Он принялся рассказывать о том, что видел интересного за поездку, но скоро заметил, что жена словно не слушает его и иногда бросает на него очень странные, будто изучающие взгляды. Он умолк и встал.
– Я вижу, тебе мои рассказы поднадоели… Ты что-то не очень слушаешь.
«И надо было заставлять себя идти сюда!» – подумал он, чуть нахмурился и уже хотел сказать: «Ладно, я пошел», – как Феодора тоже встала с кресла, сделала шаг к мужу и, глядя на него в упор, спросила:
– Где твой перстень с лазуритом?
Феофил слегка вздрогнул, и это не укрылось от августы.
– Перстень? – рассеянно спросил император, соображая, что́ жена могла узнать о судьбе перстня.
– Да, перстень, с лазуритом, твой любимый, ты надел его вчера с утра, когда уезжал в Город.
– А, этот… Да я его одному бедняку отдал.
– Лжешь!
– Что? – Феофил смерил жену взглядом. – Послушай, Феодора, а что тебе до этого перстня? Хоть бы я его вообще бросил в море рыбам, тебя это не касается!
– Да, рыбы меня не волнуют! Но что стало с этим перстнем, меня касается… Потому что ты оставил его у Кассии!
Император снова вздрогнул, но спросил спокойно и насмешливо:
– Неужто она сама тебе об этом доложила?
«Неужели Евдоким заметил и донес? – подумал он. – Вот не ожидал! Такой с виду благочестивый… Или она сама расспросила его?»
– Какая разница, кто доложил, если это правда?
В его глазах сверкнул гнев, но Феофил сказал всё так же насмешливо:
– Знаешь, я, пожалуй, пойду. Поговорим, когда ты успокоишься.
Он уже направился к двери, но Феодора, устремившись следом, опередила его и, загородив ему выход, снова взглянула на него в упор.
– Ты оставил перстень у нее! Ты хорошо ей заплатил! Она оправдала затраты?
Император сделал движение, словно хотел ударить жену, но сдержался. Они стояли друг перед другом, оба смертельно бледные, с темным огнем в глазах.
– Ты могла так о ней подумать! – глухим от ярости голосом произнес он. – Я думал, ты всё-таки благородная женщина… А ты – просто базарная торговка!
Феодора отшатнулась. Если б он ударил ее, она была бы оскорблена меньше. А Феофил со злорадством продолжал, отчеканивая каждый слог:
– Ты, видно, только и можешь думать, что о подобных низостях, на что-нибудь другое тебя не хватает. Верно, Бог очень милостив к тебе, если и при таком твоем нраве сделал ромейской августой и дал тебе всё, чего только можно желать! Но ты почему-то всё еще недовольна. Ревнуешь? Лучше будь благодарна, что я вообще тогда, двенадцать лет назад, выбрал тебя, а не другую девицу, потому что…
Он стиснул зубы.
«Потому что было уже всё равно! О, Господи, за что я связан с этой женщиной?! Какой императрицей была бы Кассия!..» – подумал он, ничего больше не сказал, отодвинул стоявшую перед ним жену в сторону, словно куклу, и вышел.
Феодора медленно отошла от двери, опустилась в кресло и тупо поглядела на противоположную стену. «Он меня совсем не любит! – подумала она. – Он меня никогда не любил, нисколько! – она закрыла глаза. – Он всегда любил только ее!» Если б она могла разлюбить его, чтобы не мучиться так! Но она не могла. Невыносимая боль заливала душу, и не было избавления…
Время шло, приближался Рождественский пост, а Феофил ни разу не приходил к жене по ночам, хотя незадолго до того, как он посетил Кассиину обитель, они с Феодорой решили, что пора обзавестись еще одним ребенком… Император больше не заходил к августе и после выездов в Город. Если они и виделись теперь, то только во время богослужений, церемоний или трапез, всегда при свидетелях, никогда наедине. Когда Феофил приходил повозиться с младшей дочерью, он всегда, поздоровавшись с женой, заводил разговор с няньками или кувикулариями, давая понять, чтобы они не уходили, а если императрица сама отпускала их, почти сразу прощался и уходил тоже; старшую дочь он просто уводил с собой гулять.
Феодора мучилась от страсти, от ревности, от обиды, не спала ночами, но не хотела просить прощения у мужа, хотя довольно скоро убедилась, что, пожалуй, поторопилась обвинить его: слуги, которым она поручила следить за входом в Кассиин монастырь, изо дня в день доносили, что никто из мирских людей во врата обители не входил, а обычные пути выездов императора по-прежнему пролегали в стороне от этого монастыря, и он уже никогда не выезжал с такой маленькой свитой, как в тот день, когда решил «проверить, как работает охрана»… Сама игуменья за полтора месяца только один раз покидала стены обители и заходила в Книжный портик, но император в это время уже вернулся после выезда в Город и находился во дворце.
Получалось, что подозрения императрицы были напрасны. Но почему тогда Феофил смутился, когда она спросила про перстень? Что он делал у Кассии в тот день?.. Феодора в тоске ходила молиться в Фарский храм ко всем службам, но облегчения не получала… Она стала чаще доставать из сундучка иконы, прикладываясь к ним и молясь о том, чтобы ее отношения с мужем уладились и ей стало бы понятно, как вести себя дальше.
Но и тут августу подстерегало новое испытание: однажды Дендрис, императорский шут, подсмотрел за тем, как она молилась перед иконами. Этого низкорослого человечка, хромавшего на обе ноги и заикавшегося, держали во дворце для увеселений, поскольку он очень смешно умел передразнивать придворных и виртуозно подражал пению и крикам разных птиц. Шут был евнухом и потому свободно бродил по всему дворцу, совался везде и, хотя частенько получал тычки, не прекращал любопытствовать. Дендрис никогда не видел икон, поскольку вырос при иконоборчестве и жил сначала в бедняцком квартале в Эксаконии, а потом попал ко двору. Его взял во дворец император, после того как однажды, будучи в Артополии и, по обычаю, спрашивая о ценах на товары, явственно услышал соловьиное щелканье; удивленный, Феофил стал оглядываться вокруг, и один из торговцев сказал ему, что «это тут один дурачок забавляется», и вытащил Дендриса за ухо из-под прилавка. Оглядев его и хмыкнув, император спросил, что еще он умеет, и тот принялся петь и кричать, изображая то сову, то журавля, то воробья, то чайку, да так похоже, что привел в восторг всю свиту василевса. На другой день певун уже бродил по дворцу в шелковых одеждах, то и дело осматривая себя и прищелкивая языком…
Увидев у императрицы иконы, он подбежал к ней с криком:
– Ой, мамочка, ч-что это? – шут звал ее «мамой».
В первый момент Феодора смутилась, но тут же нашлась и ответила:
– Это мои дорогие куклы, я их очень люблю!
Император в это время обедал с избранными синклитиками и придворными. Когда Дендрис вбежал к ним, горланя по-петушиному, Феофил с улыбкой спросил:
– Где ты был, петушок,?
– О, августейший, – пропищал шут, – я б-был у мамочки, м-мамочка играла в к-куколки, она их ц-целовала, красивые т-такие куколки, на з-золотых досточках!
Сотрапезники принялись украдкой переглядываться, император нахмурился, отослал вон шута, а после обеда отправился к жене и, выслав кувикуларий, сказал, в упор глядя на Феодору:
– Дендрис сообщил нам за обедом, дорогая, что на тебя напало молитвенное рвение, доведшее тебя даже до иконопоклонства. Так вот, я пришел довести до твоего сведения, что чрезмерное благочестие меня всегда пугало. Впрочем, ты и сама давно должна была это понять.
Императрица вспыхнула, растерянно глядя на мужа, но быстро оправилась, вздернула подбородок и сказала:
– Я, право, не понимаю, о чем ты, дорогой. Дендрис забегал, когда мы со служанками были у зеркала, я примеряла новую тунику. Может быть, этот дурачок принял за иконы наши отражения? С него станется, он ведь помешанный!
– Вот как? – император несколько мгновений смотрел на жену. – Великолепно! Но вот что я тебе скажу, дорогая: мне, знаешь ли, всё равно, как часто ты глядишься в зеркало, но потрудись, чтобы посторонние не были свидетелями твоего самолюбования. Особенно такие люди, которые могут, нимало не усомнившись, сообщить об этом в слух всего двора! – закончил он гневно и, резко развернувшись, вышел.
Это был единственный раз, когда Феофил говорил с Феодорой наедине после ссоры из-за перстня. Императрица после этого целый месяц даже не открывала сундучок с иконами, а Дендриса, когда он снова появился в ее покоях, хорошенько отшлепала и сказала, что если он еще вздумает кому-нибудь рассказывать о «куклах», она позаботится о том, чтобы ноги его больше не было во дворце.
Семейный ужин накануне Рождественского поста прошел почти в полном молчании: император смотрел куда-то в пространство, императрица внимательно изучала содержимое собственной тарелки – правда, больше на вид, чем на вкус, – Елена время от времени грустно взглядывала то на брата, то на августу, болтала только Мария, да Дендрис всё время встревал с разными шуточками и, поглядывая на императрицу, громко бормотал: «Ч-чахнет цветочек, с-сохнет цветочек…» – а потом вдруг убежал и, воротясь с охапкой засохших цветов, бросил ее на колени императору.
– Оставь свои глупости! – сказал Феофил раздраженно.
– Г-государь, – подобострастным голосом прогнусавил шут, – если ц-цветы не п-поливать, они з-засыхают, – и покивал головой в сторону Феодоры.
– Иди вон, дурак! – ответил император, не глядя на жену.
«Нашел цветочек!» – подумал он про себя. И опять перед ним встали синие глаза… Листы пергамента, исписанные красивым почерком… Книги, которых касалась ее рука… Тетрадь с ее стихами… Стихира с мелодией – он всё пытался вспомнить ее и не мог… Кассия в его объятиях… Нежные губы, упругая грудь под черным хитоном… Глаза, в которые он больше никогда не посмотрит… Женщина, которая могла бы – должна была! – принадлежать ему и душой, и телом, женщина, созданная для него!..
«Когда-нибудь мы поймем, зачем».
Когда?..
13. «Императору не отказывают»
(М. Ю. Лермонтов, «Мцыри»)
- Я эту страсть во тьме ночной
- Вскормил слезами и тоской;
- Ее пред небом и землей
- Я ныне громко признаю
- И о прощенье не молю.
В начале поста императрица, по просьбе своей сестры Софии, взяла в услужение новую кувикуларию – двоюродную племянницу Константина Вавуцика. Девушка была очень красивой – стройная, изящная, с каштановыми волосами, с удивительными глазами переливчатого серо-голубого оттенка: на свету они казались почти голубыми, а в сумерках и при свете огня синими. Когда Феодора впервые увидела ее, она ощутила неясную тревогу: Евфимия кого-то ей напомнила, но кого?.. Впрочем, уже на другой день августа позабыла о своем беспокойстве: ее поглощали мысли об отношениях с мужем, и она почти не могла думать об окружающих, даже с детьми обращалась рассеянно. Впрочем, для ухода за Феклой были няньки, а Марии было уже одиннадцать лет, и она бо́льшую часть времени общалась с Еленой, не особенно страдая от материнского невнимания, тем более, что отец нередко проводил с ней свободные часы: они обсуждали книжки, прочитанные девочкой, иногда читали вместе, гуляли по паркам, играли в мяч, а этим летом Феофил стал сам учить дочь ездить верхом. Конечно, Мария огорчалась из-за ссоры родителей, но надеялась, что со временем всё наладится, и каждый вечер перед сном молилась Богу, чтобы Он «помирил маму с папой».
Император впервые столкнулся с новой кувикуларией жены в первый день декабря, возвращаясь из покоев Феодоры, куда заходил поиграть с Феклой. Евфимия попалась навстречу василевсу в коротком переходе между внутренним покоем и приемной, поклонилась, а когда подняла глаза, он вздрогнул и на мгновение замер, глядя на нее. Девушка вспыхнула и, опустив взор, тихо проговорила:
– Государь, позволь мне пройти. Августейшая ждет меня.
– Разумеется, госпожа… как твое имя?
– Евфимия, государь, – она снова посмотрела на него и покраснела еще больше.
– Ты недавно служишь у августы?
– Да, августейший, всего десять дней, как я стала кувикуларией.
Император окинул ее взглядом с головы до ног, окончательно смутив, и, наконец, прошел вперед, не сказав больше ни слова. Придя к себе, он лег на постель и вытянулся, заложив руки за голову. Все те два с небольшим месяца, что прошли после встречи с Кассией, он провел в состоянии, похожем на горячку. И если днем он отвлекался на разные дела и разговоры – впрочем, то и дело уплывая мыслями, особенно во время церемоний и за богослужениями, – то ночи были невыносимы. Несколько раз он порывался пойти на исповедь к патриарху, но мысль, что придется рассказать о Кассии, останавливала его: это было всё равно, что раздеться перед толпой народа. Конечно, он мог бы просто сказать Антонию, что едва не пал с женщиной и ограничиться этим, мог бы даже не упоминать о том, что это была монахиня – в конце концов, женщина всегда женщина, независимо о того, какие на ней одежды… Но это была бы не та исповедь, в которой он нуждался.
Казалось бы, пришла пора исполнить обещание, данное синкеллу, и пойти на исповедь к нему, ведь «маневр» осуществился… Несколько раз при встречах с Иоанном император был на грани того, чтобы попросить его об исповеди, но так и не сделал этого, хотя видел, что игумен догадывается о случившемся. Может быть, если бы Грамматик заговорил первым, задал «наводящий» вопрос, Феофил решился бы… Но Иоанн молчал, а императору было больно, и то самое страдание, которое он надеялся облегчить через исповедь, не пускало его туда: казалось, начни он рассказывать о происшедшем, станет еще больнее… В то же время исповедь подразумевала сожаление о содеянном, самоосуждение, отношение к случившемуся как к чему-то недостойному христианина, чуждому благочестия, как ко злу, бесовскому наваждению – покаяние подразумевало намерение исправиться и впредь избегать сделанных грехов…
Именно эти последние соображения более всего останавливали Феофила, потому что он ни на миг не пожалел о том, что совершил в келье Кассии, и был уверен, что, представься новая возможность, он не только сделал бы то же самое, но и довершил бы то, от чего удержался. Если он о чем и жалел – отчаянно и притом совершенно не краснея, – то о том, что не овладел ею: «Зачем я не настоял на своем?! Хоть раз в жизни мы насладились бы друг другом!..» Воспоминание об остановившей его иконе теперь не вызывало у него ничего, кроме раздражения. Уходя от жены в тот день, когда он чуть не ударил ее, император с горечью подумал, что вся та жизнь, которую он – как будто бы, довольно успешно – пытался построить в последние годы, рухнула навсегда, но эта горечь почти сейчас же ушла: после пережитого во время встречи с Кассией всё то, что он прежде готов был счесть за счастье, выглядело бледным пятном, смытым волнами следом ноги на прибрежном песке, нелепостью, недостойной вспоминания… Он отдал двенадцать лет за три часа – и, как думалось ему, отдал за эти три часа и все те годы, которые ему еще было суждено прожить, – но, несмотря на терзавшую его боль, особенно при мысли, что всё кончено и больше уже ничего никогда не будет, кроме воспоминаний, он не мог жалеть о случившемся. Напротив, он считал происшедшее даром судьбы – ведь он узнал, что когда-то выбрал правильно, единственно возможным образом, что платоновские «половины» существуют, что его любят так же, как любит он, что внутренняя близость и связь с Кассией, едва не сочтенные им «фантазией», быть может, более реальны, чем всё, что происходило и происходит в его жизни… В чем же он должен был каяться? О чем сожалеть?
Но если сознание совершенного внутреннего сродства между ним и Кассией утешало в страданиях, причиняемых мыслью о том, что «больше уже ничего не будет», то телесное вожделение укротить было не так-то просто. Император не однажды подумывал о том, что надо примириться с женой, тем более, что он обидел ее совершенно немилосердно и она, конечно, ужасно страдала, а ее выпад против Кассии был вызван ревностью и заслуживал прощения… Но целовать ее после Кассии? Ласкать ее, не только не питая к ней даже малой толики любви, но зная, что и в будущем никакая любовь к ней невозможна? Да еще при том, что она сама знает, что он не любит ее?.. Чем это будет отличаться от похода в блудилище?!..
Однако сейчас, разглядывая золотой узор на пурпурном шелке полога, осенявшего постель, он думал: «А я, оказывается, лицемер! Стеснялся устроить из супружеского ложа блудилище, а сам… Но, дьявол побери, какое странное сходство! И она появилась во дворце именно сейчас, как нарочно!..» Конечно, оглядев Евфимию повнимательней, он понял, что ее сходство с Кассией не так велико, как ему показалось в первый миг, что цвет глаз на самом деле не тот, черты лица иные, разве что волосы того же оттенка; но первое впечатление было столь сильным, что породило мысли и желания далеко не благочестивые… Феофил усмехнулся. «Какое значение теперь имеет благочестие? – думал он. – Я совершил грех и не только не каюсь в нем, но считаю время его совершения самым счастливым в моей жизни… Считаю божественным даром то, что должен счесть дьявольским искушением… Отец говорил, что главное для императора – найти любому своему действию благовидное оправдание… Но он был еще благочестив! Таким, как я, даже этого не нужно! Довольно и того, что хотящий – император… Императору не отказывают, не так ли? Точнее… императору имеет право отказать только та, чей отказ он сочтет нужным принять… Только одна. Единственная… А так… Солон был прав: “Законы подобны паутине: если в них попадется бессильный и легкий, они выдержат, если большой – он разорвет их и вырвется”. Что бы я ни сделал, если это не выйдет наружу, никто не посмеет упрекнуть меня. Даже и епитимии, пожалуй, не наложат… Точнее, если и наложат, то лишь с моего согласия! – он саркастически улыбнулся. – Подвизаться ради встречи на небесах? Слова, слова!.. Может, ей и имеет смысл подвизаться, ведь она осталась при своем, избранном изначально… А я?.. Жизнь прошла за три часа! Что было до, не было жизнью… И что теперь – тем более! К тому же, как она заметила, у нас с ней разная вера…»
Он поднялся и позвонил. Вошел дежурный кувикуларий, и Феофил велел позвать своего препозита Никифора. Когда тот явился, император спросил, знает ли он что-нибудь о Евфимии, новой кувикуларии августы, взятой на службу десять дней назад. Никифор ответил, что нет, но может немедленно узнать все подробности у препозита императрицы. Феофил приказал узнать и доложить ему после вечернего приема чинов. Когда препозит ушел, император вновь улегся на постель в той же позе и погрузился в размышления. Похоже, удержавшись от того, чтобы овладеть Кассией, он истощил весь свой запас благочестия. Он почти хладнокровно – если только можно было говорить о хладнокровии, когда его мучило вожделение «того, что под чревом», – размышлял о том, как ему заполучить на ночь кувикуларию с каштановыми косами. Странным образом, теперь он не чувствовал никакого смущения при мысли, что посторонние лица догадаются о его греховных желаниях, что придворные будут содействовать преступной связи: всё, что не имело отношения к Кассии, словно бы оказалось по ту сторону понятий о грехе и добродетели. Если с ней уже не было возможно ничего, то, казалось, было всё равно, как жить, подвизаться или предаваться наслаждениям, спать с одной женщиной или с другой… Окружающий мир словно погрузился в непроглядную тьму: Феофил видел только отблески навсегда покинутого мира, где он провел всего три часа, и ему хотелось поймать эти отблески, даже если это было лишь мимолетное сходство – цвет волос, оттенок глаз в неверном свете масляного светильника… Мысль о том, что он собирается совершить новый грех, даже более тяжкий, что всё равно придется когда-нибудь исповедаться, проплыла в его мозгу отвлеченно, совершенно не трогая. В душе поднялась странная дерзость. Разумеется, чтобы утолить плотское вожделение, у него была жена, он ведь уже почти собрался ради этого примириться с ней. Но ему вдруг захотелось «попробовать другого», довершить опыт измены, не удавшийся в сентябре, поставить опыт замены вожделенного тела – телом другим, но чем-то похожим…
К вечеру он уже вполне решился. Когда препозит доложил ему, что Евфимия – родственница Вавуцика, это не поколебало Феофила: «Ничего, если они и узнают, перенесут и будут помалкивать! Ведь я бываю суров и раздражителен… “Что угодно императору, то имеет силу закона”!»
– Что ж, прекрасно! – сказал он Никифору. – В таком случае, найди завтра госпожу Евфимию и передай ей, чтобы она вечером после смены стражи пришла ко мне в покои. Пусть ее сразу пропустят, не докладывая.
– Будет исполнено, августейший, – ответил препозит совершенно обычным тоном, как будто василевс попросил принести ему вечером какую-нибудь книгу.
«Если какая добродетель и водится в этих стенах, – подумал Феофил, – то это, безусловно, неосуждение! Ведь осуждать императора – тяжкий грех!»
На другой день он с утра отправился в баню, после обеда немного поболтал с сестрой и старшей дочерью, но повидать младшую не зашел, чтобы не сталкиваться с женой. До вечернего приема чинов он просидел за книгой Диогена Лаэртия о жизни философов, раскрывая то там, то сям, и читая наобум. Наткнувшись в разделе о Зиноне на слова: «Стоики называют мудреца бесстрастным, потому что он не впадает в страсти; но точно так же называется бесстрастным и дурной человек, и это значит, что он черств и жесток. Далее, мудреца называют несуетным; это значит, что он одинаково относится и к доброй, и к недоброй молве; но точно так же несуетен и человек легкомысленный, то есть дурной», – император усмехнулся и закрыл книгу. «Да, – подумал он, – если я и приближаюсь к бесстрастию и несуетству, то именно второго рода… И меня это даже как-то не трогает! Должно быть, это и называется “окамененным нечувствием”… Что ж, я двенадцать лет пытался быть добродетельным… Опыт не удался, как сказал бы Иоанн! Зато противоположные опыты, кажется, почти всегда беспроигрышны! По крайней мере, для императора… и на этом свете…»
Когда Евфимия, смущенная и дрожащая, одетая в голубую шелковую тунику и мафорий, постучалась в дверь императорского покоя, спиной ощущая взгляды дежурных кувикулариев и мучительно заливаясь краской, открыл сам Феофил. Он даже вздрогнул, увидев ее, – настолько она в своем голубом одеянии казалась похожей на Кассию в ту первую встречу в Книжном портике. Пока император ждал кувикуларию, его охватывало то вожделение, то почти отвращение перед тем, что он собирался сделать, и в иные моменты казалось, что, когда девушка придет, он просто отошлет ее обратно и на этом всё закончится; но, увидев Евфимию, он понял, что не отпустит ее.
– А, пришла? – сказал он отрывисто. – Входи, – она вошла, и он затворил дверь. – Ступай за мной.
В спальне, где было только высокое ложе под пурпурным пологом, небольшой позолоченный стол с лежавшими на нем книгами, два низких мягких стульчика и зеркало у стены, он повернулся к девушке, окинул ее пристальным взглядом и усмехнулся:
– Не надо меня бояться, я не страшный.
Евфимия вспыхнула, несмело подняла взор, но тут же снова устремила его в пол.
– Что сказал тебе господин препозит?
Она покраснела еще больше и ответила еле слышно:
– Он сказал, чтобы я пришла сюда вечером, после смены стражи… что такова воля государя…
– И больше ничего?
– Нет… То есть… Он еще добавил, что… императору… не отказывают…
«Простые мысли и читать нетрудно! – подумал Феофил, чуть вздрогнув. – Ну, что ж…»
– И ты с этим согласна, Евфимия? – спросил он, сбрасывая длинный пурпурный плащ.
Кувикулария побледнела, подняла глаза и увидела, что император одет только в одну тонкую полупрозрачную нижнюю тунику без рукавов, длиной чуть выше колен, простую, не украшенную никаким шитьем или узором. Краска снова бросилась в лицо Евфимии, она прижала руки к груди, губы ее приоткрылись, но что-либо произнести она, видимо, была не в силах. Вдруг ноги ее подкосились, и она упала на колени. Феофил смотрел на нее всё так же пристально.
– И чего ты у меня просишь, госпожа Евфимия? – спросил он чуть насмешливо. – Чтобы я отпустил тебя или наоборот? Скажи-ка! Обещаю, что исполню твою просьбу!
По щекам девушки потекли слезы. «А я жесток!» – подумал Феофил.
– Встань! – сказал он.
Евфимия поднялась медленно, словно во сне.
– Подойди, – приказал император.
Она подошла, глядя в пол, и было видно, что ноги не слушаются ее. Феофил взял ее за подбородок и посмотрел ей в глаза долгим взглядом, а потом медленно нарисовал кончиками пальцев волнистую линию на ее щеке, а затем от уха вниз по шее, провел рукой по плечу, прикоснулся к груди, ощущая, как дрожь волнами проходит по телу девушки, и отступил на шаг.
– Так как, госпожа Евфимия, отпустить тебя или нет? Если ты ответишь «да», можешь немедленно уходить тем же путем, каким пришла.
Они продолжали смотреть в глаза друг другу. Евфимия побледнела, опять покраснела и, помолчав несколько мгновений, чуть слышно шепнула:
– Нет.
Феофил усмехнулся, опять шагнул к ней, неторопливо снял с нее мафорий и кинул на стол, поверх книг.
– Ты девушка?
– Да, государь.
– Что ж, тем лучше, – сказал он будто про себя и положил руки ей на плечи.
Не в силах больше выносить его взгляд, она закрыла глаза и в следующий миг ощутила губы императора на своих губах.
Утром, когда Евфимия выскользнула из спальни, Феофил почувствовал отвращение к самому себе. И тут ему пришла в голову мысль, что он поступил бесчестно по отношению к Кассии. Он, будучи не в силах удержать собственную похоть, утолил ее с этой девицей… К тому же у него есть жена, всегда к его услугам… А Кассия? Какое утешение, какое облегчение она может иметь в одиночестве своей кельи?.. Он распалил ее, искусил, соблазнил – и оставил одну пожинать плоды падения… Она осталась там с тем же пламенем страсти, что горит и в нем, – а ведь выхода у нее нет!.. Он вспомнил жар в ее глазах и умоляющий шепот: «Не надо!»…
Феофил встал с постели, надел хитон и заходил от одной стены к другой. Но кто бы на его месте удержался? Нет, никто, никто, это невозможно!.. Ему вновь представилась Кассия в его объятиях, совлекшаяся черных одеяний… Он провел рукой по лбу. Да… что же потом? Ее отлучили бы от причастия, ведь она призналась бы в своем падении… Феофил плохо помнил каноны, связанные с монашескими грехами, но знал, что сроки отлучения там были порядочными. Игуменства она лишилась бы, в монастыре началась бы смута… Пожалуй, его бы тогда легко было закрыть – мечта патриарха! «Поражу пастыря, и рассеются овцы…» А вот ему – что бы было ему?.. Собственно, вот даже сейчас – он совершил прелюбодеяние… А ведь ему ничего не будет за это. Патриарх, конечно, на всё закроет глаза… Патриарх!.. А что сказал бы Иоанн?
Император остановился перед кроватью, где пурпурные простыни впервые за много ночей были совершенно смяты и влажны от пота. Нет, вопрос надо ставить иначе: что скажет Иоанн? В этот миг Феофил ясно понял: исповедь неизбежна и необходима, и открыться он не сможет никому, кроме синкелла. И на вопрос, что скажет игумен, император не знал даже примерного ответа.
А что сказала бы Кассия, если б узнала? Эта мысль поразила Феофила. Он говорил ей, что любит ее одну – и что?.. Он вдруг ощутил себя изменником. Да, он изменил Кассии, не захотел наравне с ней нести последствия того, что сделал, распалив себя и ее… Узнай она, так подумала бы, верно, что хорошо сделала, не уступив его страсти – ни тогда, в Золотом триклине, ни теперь, в своей келье…
Прелюбодей, развратник, «конь женонеистовый»!..
Но она! Она!.. Он снова видел перед собой синие глаза, полыхавшие жаром страсти, бессильно опустившиеся ресницы… Как мог он тогда не поцеловать ее?! Она же сама хотела!..
Что за казнь!.. Феофил тряхнул головой, пытаясь прогнать из мыслей образ Кассии. И тут он вспомнил о Феодоре. Вот третья жертва Киприды! Что делать с ней? Как она страдала, должно быть, всё это время!.. А он уже не сможет дать ей и того, что давал раньше… Всё кончено!.. Какая-то безысходность… Где выход? Куда бежать от этой бури страстей? Монахи спасались от женщин в пустынях и горах… А ему что делать? Уйти во внутреннюю клеть, как учат отцы-аскеты? И что он там найдет, в этой своей клети? Ничего, кроме нее! А нужно, чтобы ее там не было… Но такая аскетика ему не по силам! Феофил прижался лбом к холодному золоту тонкой витой колонны, поддерживавшей полог над ложем, и ему опять вспомнились слова Константина: «Придет время – и на стенку полезешь!» Да, это время пришло…
Выйдя из покоев василевса, Евфимия прислонилась к стене в проходе между столовой и Золотым триклином и попыталась хоть немного придти в себя и собраться с мыслями. Она только что впала в блуд. Лишилась девственности. Отдалась императору, причем совершенно добровольно. Нет нужды, что он выглядел так соблазнительно, а его взгляд и несколько прикосновений каким-то совсем непонятным образом точно свели ее с ума, – всё равно последнее слово он оставил за ней, и она сказала это слово сама, без всякого принуждения… А теперь надо идти прислуживать его жене. Как ни в чем не бывало. Да разве это возможно?! О, Господи!.. Что же делать?.. «Будь мягкой, послушной, услужливой, никогда не пытайся плыть против волн», – так учила ее мать, напутствуя перед отправкой во дворец. И вот, она не пыталась! О, она совсем не пыталась… Она отдалась этой волне страсти, исходившей от василевса, с головой… Всё прошло почти безболезненно – император был с ней очень нежен и осторожен… Господи, она и не подозревала, что такое бывает между мужчиной и женщиной!.. Но что теперь?!..
Евфимия не любила долго задумываться над случавшимися неприятностями; еще в детстве, когда она падала или больно ударялась обо что-нибудь, она редко плакала, сразу вставала и продолжала путь, только упрямо сжимала губы. И сейчас у нее не было никакого желания рвать на себе волосы, бить себя в грудь или совершать другие не менее бесполезные действия. Что случилось, то случилось, а теперь… надо идти исполнять обязанности по службе. А там, может, подхватит другая волна, и станет понятно, что делать… По крайней мере, ей всё равно ничего не придумать сейчас! Не бежать же из дворца! А раз так, надо идти к августе.
«Но почему я?!..» Это было непонятно. Евфимия, конечно, знала, что она красива, но прекрасно понимала, что императрица красивее, поэтому внезапное увлечение василевса казалось странным – тем более странным, что, как девушке было известно, Феофил вовсе не отличался легкомыслием. За те дни, что Евфимия прослужила во дворце, она успела узнать от других кувикуларий, что в сентябре у августы произошла размолвка с мужем и с тех пор дело не уладилось; но в чем причина ссоры, никто не знал, не было даже никаких правдоподобных догадок.
Быть может, ключ к разгадке – то имя, которое император произнес в полудреме сегодня утром, когда она, проснувшись и обнаружив себя лежащей рядом с мужчиной, едва не подскочила на постели, только в следующий миг вспомнив, каким образом тут очутилась?..
Евфимия переоценила свои силы. Когда она оказалась в покоях женщины, с чьим мужем только что спала, она не смогла делать вид, будто ничего не произошло. Императрица, заметив, что кувикулария то краснеет, то бледнеет и вообще словно охвачена лихорадкой, спросила, уж не заболела ли она, намереваясь отпустить ее. И вдруг Евфимия умоляюще сложила на груди руки и сказала:
– Государыня, позволь мне поговорить с тобой наедине!
Когда они с Феодорой закрылись в спальне августы, девушка помолчала, собираясь с духом, пыталась подобрать слова, но так и не сумела, упала в ноги императрице и выдохнула:
– Сегодня ночью я была у государя.
– Что?!.. – Феодора смотрела на нее, не веря своим ушам.
Но Евфимия явно не лгала. Императрица схватила ее за руку и подняла с пола.
– Ты была у государя? Он что, сам позвал тебя? Сам?!..
Девушка залилась слезами и, всхлипывая, с трудом рассказала всё, как было, и прошептала:
– Государыня, пощади меня! Я не знаю, как это могло случиться… почему государь захотел… Мне даже показалось…
– Что? Говори же!
– Что он словно… вовсе и не обо мне думал, когда… – Евфимия покраснела и замолкла.
– Не о тебе?! А о ком? Что он говорил? Он говорил что-нибудь?
– Ничего такого… Но под утро… я слышала, как во сне он… произнес имя…
– Какое?
– Кассия.
У Феодоры всё оборвалось внутри. Она внимательнее оглядела Евфимию и вдруг поняла, кого ей напомнила кувикулария при знакомстве: это сходство по фигуре, оттенку глаз и цвету волос – Феодора внезапно вспомнила, какого цвета волосы были у Кассии, – именно оно привлекло Феофила. Выходит, на самом деле он хотел не Евфимию… Но что же это значит? Значит, Кассия… отказала ему? И он теперь пытается найти замену… Но что же там случилось, когда он был у нее в монастыре? Феодора чуть не топнула ногой. Неужели она никогда не узнает, что там у них произошло?!..
– Государыня, – еле слышно сказала Евфимия, – боюсь, я больше не смогу… служить здесь…
– Да, конечно. Можешь сейчас же собираться. Я скажу Софии… что ты не сошлась с некоторыми кувикулариями и тебе тяжело здесь служить.
– Благодарю, августейшая! – девушка опять упала ей в ноги.
Когда Евфимия ушла, Феодора стиснула руки и некоторое время стояла неподвижно, а потом тряхнула головой:
– Нет! Я должна это узнать!
…Пост подходил к концу. Императрица, узнав от своего препозита, что император спрашивал о Евфимии накануне ее грехопадения, выжидала, не захочет ли Феофил еще раз встретиться с ней. Но василевс поинтересовался судьбой кувикуларии только спустя три недели после того, как лишил ее невинности, спросив у препозита августы, служит ли еще Евфимия во дворце. Услышав, что она уволена, император усмехнулся и заметил:
– Прекрасно, я так и думал.
По-видимому, он вовсе не собирался продолжать эту связь, но попыток примирения с женой тоже не предпринимал и с каждым днем становился всё мрачнее – пожалуй, он вообще никогда еще не бывал настолько не в духе, чтобы это так бросалось в глаза окружающим, как теперь. Рождество вышло грустным, даже суровым, несмотря на то что богослужения, церемонии, поздравления и приемы шли заведенным порядком и Дендрис был в ударе, так что над его шутками и выходками за праздничным обедом смеялись даже самые сдержанные из придворных… А император молча пил вино и изредка усмехался, но его усмешка была такой мрачной, что в конце концов шут сел на пол у его ног и всем своим видом изобразил глубокую печаль. Феофил потрепал его по голове и приказал налить всем еще вина…
На другой день после Рождества императрица в сопровождении небольшой свиты отправилась в Кассиину обитель. Когда она с несколькими кувикулариями вступила во врата монастыря, игуменье тут же доложили, и Кассия сразу вышла из библиотеки. Феодора смотрела, как она подходит – не медленно, но и не торопясь, изящная, тонкая, легкая, – и ощущала холодок в груди.
– На многие лета да продлит Господь ваше царство! – сказала игуменья и поклонилась императрице. – Чем мы, смиренные, обязаны столь высокому посещению?
– Поговорить нам нужно, мать, – ответила Феодора, не спуская глаз с лица соперницы. – И… я хотела бы взглянуть на твою келью.
– Хорошо, государыня, – ответила Кассия спокойно, лишь чуть побледнев. – В таком случае пойдем, это там.
Когда августа переступила порог Кассииного обиталища, игуменья затворила дверь, и воцарилось молчание. Феодора осматривала келью, а Кассия подошла к столу, отодвинула стул для императрицы и стояла, глядя в пол, неподвижная и немного бледная.
– Сядем, – сказала Феодора.
Она села на стул, а Кассия – на край постели. Феодора опять внимательно и с плохо скрытой враждебностью оглядела игуменью с головы до ног, с недовольством и почти с негодованием отметив, что Кассия по-прежнему чрезвычайно красива. «Видно, плохо подвизается, раз монашеская жизнь не изменила ее!.. Прежние подвижницы, если верить житиям, высыхали так, что их даже родные не узнавали! А эта… цветет!»
– Вот, значит, где ты теперь обитаешь… Спасаешься?
– Пытаюсь.
– И как, получается? – в голосе августы прозвучала насмешка. – Ты хорошо выглядишь!
Кассия чуть покраснела, но промолчала. «Ладно, нечего разводить долгие предисловия!» – подумала Феодора и спросила:
– Феофил был здесь?
Игуменья вздрогнула. Хотя она догадалась, из-за чего пришла августа, но рана была слишком свежа, и Кассия не могла совершенно взять себя в руки.
– Знаю, что был! – императрица говорила отрывисто, стараясь не выдать неприязни, хотя у нее плохо получалось. – Что он здесь делал?
– Государыня, – Кассия взглянула на нее, – до того, о чем ты думаешь, не дошло… И больше уже ничего не будет. Вот всё, что я могу сказать.
– До того, о чем я думаю? Откуда ты знаешь, о чем я думаю?.. И что тут у вас было? Зачем он приходил?
– Он приходил… чтобы узнать… почему я отказалась от брака с ним, – с трудом произнесла Кассия.
– О-о, – протянула Феодора и вдруг умолкла; до нее не сразу дошел смысл сказанного. – Отказалась?! То есть…
– Да, отказалась.
Феодора чувствовала себя так, будто перед ней ударила молния. Она внезапно поняла всё, что произошло на смотринах – смысл вопроса Феофила и ответа Кассии… Отказалась!.. А он хотел узнать, почему… И правда – почему?
– Это интересно, – наконец, проговорила императрица как можно небрежнее, хотя Кассия видела, что она глубоко поражена. – И почему же?
– Я еще в ранней юности решила стать монахиней.
– О! – воскликнула августа. – Как просто! И как благочестиво!.. Оплевать императора, отвергнуть пурпур, отказаться от мира! Да ты прямо святая, мать! – она наблюдала, как Кассия всё больше бледнеет. – И что же? Ты сказала ему это, и он, уцеломудрившись, покинул твою келью?
Кассия молчала. Рассказать императрице хоть о чем-то из происшедшего между ней и Феофилом в тот злосчастный день было невозможно. «Что за мучение!» – подумала игуменья.
– Молчишь? – спросила Феодора. – А перстень где?
Она невольно посмотрела на руки Кассии, словно ожидала увидеть на ее пальце подарок Феофила. Игуменья вздрогнула и убрала руки под мантию.
– Государь, как я поняла, пожертвовал его на нужды обители. Но мы продали его в пользу нищих, чтобы…
Она не договорила.
– Чтобы что? Скрыть следы преступления?
Щеки игуменьи покрылись румянцем, но она продолжала молчать. Слова императрицы были как удары бича – и она не могла отрицать их справедливость: да, она была преступницей… И не важно, что до того не дошло…
– Если ты, – Феодора злобно глядела на Кассию, – собиралась стать монахиней, то зачем ты вообще явилась на те смотрины? О, если бы не ты!.. Зачем ты всё испортила?!
– Августейшая, – тихо ответила игуменья, – когда императорские посланцы собирали девушек, их намерениями никто не интересовался, ведь ты и сама это, наверное, знаешь… Я никогда по своей воле не пошла бы на это! Но тут многое подстроил мой дядя. Он служит при дворе и мечтал… породниться с императором…
– Всё равно! Ты должна была отказаться раньше и не являться на смотрины!
– Да, ты права, государыня. Я действительно должна была сделать именно так. Это моя мать убедила меня не отказываться, она боялась императорского гнева… Но я сделала, что могла… чтобы государь не выбрал меня.
– Когда всё равно всё было уже испорчено!.. Вот из-за таких… добродетельных… и происходят тучи неприятностей!
– Ты ошибаешься, я совсем не добродетельна, – ответ Кассии прозвучал устало и зло.
Черные и синие глаза встретились в немом поединке.
– Ты его… – еле выговорила Феодора и не смогла продолжить.
– Да! – Кассия не могла больше сдерживаться. – Я не бесстрастна, государыня. Я тогда отказала ему, но если ты думаешь, что мне было легко это сделать, ты ошибаешься. К сожалению, это не так… И не так легко всё забывается… Но оставим это! – ее голос задрожал. – Я только одно могу сказать: он больше никогда не придет сюда.
Она передернула плечами, словно внезапно озябла. Императрица видела, как то загорались, то гасли на щеках игуменьи пятна румянца. Да, несомненно, под черной мантией жила та же страсть, что и под пурпурной. «Боже! – пронеслось в голове у Феодоры. – Значит, она тоже его любит… полюбила тогда, как и я… И она отказалась от него! Но если это так… и если они встретились здесь, в этой келье… Могли ли они удержаться… от чего бы то ни было?» Ревность поворачивалась в ее сердце острым ножом. Как могли бы они устоять?..
– Тогда зачем ты лжешь? – спросила она тихо. – Если это так… разве могли вы удержаться?
Кассия вздрогнула и так побледнела, что августе на миг показалось – игуменья сейчас лишится чувств. Этот вопрос игуменья постоянно задавала сама себе: «Можно ли было удержаться?» Вся ее внутренность вопила: нет! это было выше сил человеческих! – Но неумолимая совесть твердила другое: раз этого требовала заповедь, значит, это было в твоих силах…
– Всё-таки ты с ним… – Феодора уже опять не верила, что того не было. – Ты ему… отдалась? – наконец, выговорила она и сама испугалась своих слов и того, что она может услышать в ответ.
– Нет! – Кассия встала и отвернулась к окну.
Щеки ее горели. «Боже! Какой стыд! Но поделом мне! Видно, надо еще и этот позор вынести…»
Феодоре было стыдно самой, и она несколько мгновений молча созерцала спину игуменьи. «Нет, всё-таки она не лжет… но…»
– Но что-то всё же было?
«Господи! я сейчас упаду…» – подумала Кассия и оперлась рукой об стол. Почему эта женщина хочет знать то, что ее не касается?! Он ее муж… Муж волею случая… Нелепость! Хотя… если зачем-то была нужна встреча Феофила с Кассией, значит, для чего-то нужен был и его брак с Феодорой?.. Как всё странно… Как больно! Невыносимо! Как вырвать всё это из себя, чтобы ничего не чувствовать, ни о чем не жалеть, ничего не хотеть?..
– Молчишь? – Феодора хотела сказать это суровым тоном, но вместо этого в ее голосе зазвучали жалобные нотки.
Кассия не ответила. Феодора встала и подошла к ней. И увидела, что она плачет.
Это было уже слишком для обеих. Императрица упала на стул и разрыдалась сама. Игуменья посмотрела на нее и закусила губу. Конечно, она была виновата перед Феодорой, но в сердце у нее в этот миг не было никакой жалости. Она внезапно ощутила приступ жестокой ревности, какой до сих пор никогда не знала: слова августы воскресили в ней все чувства выплеснувшиеся наружу, когда император оказался в этой келье, и она думала о том, что перед ней сидела женщина, пусть и не любимая Феофилом, но с которой он… Кассия отвернулась.
Теперь в келье не было ни игуменьи, ни императрицы – были только две женщины, одержимые страстью, снедаемые ревностью… Кассия чувствовала, что еще немного, и она наговорит Феодоре каких-нибудь ужасных слов. Ей даже пришел помысел рассказать, что произошло между ней и Феофилом, что он говорил про Феодору и про свою жизнь с ней, – и пусть бы императрица помучилась!.. «Молчи, молчи! – повторяла она мысленно, стиснув зубы. – Господи, спаси меня!..»
Наконец, Феодора успокоилась. В келье воцарилось мертвое молчание. Феодора смотрела на Кассию. Кассия смотрела в окно.
Что же было?.. Феодора догадывалась, что совсем безгрешно не могла окончиться встреча тех, кто уже много лет носил в себе такую страсть. Но она понимала, что подробностей не узнает – более того, она не имеет права их знать, потому что это ее не касается, как бы ни было ей неприятно сознавать это. И она отступила.
Однако перед ней встал другой вопрос.
– Как же ты жила всё это время? – спросила императрица. – Ведь это… невозможно!.. Кассия обернулась к ней.
– Как я жила?.. – она помолчала и вдруг решительно подошла к шкафчику, открыла его, вытащила книгу с синими закладками и положила на стол. – Вот, почитай, августейшая, особенно там, где закладки, – с этими словами она села на постель и сложила руки на коленях.
Слезы текли по щекам императрицы, когда она дочитывала конец трагедии:
Феодора замерла над рукописью. Теперь она понимала, что Кассия страдала все эти годы, боролась со страстью и не могла побороть, но будет бороться и дальше… И всё это…
– Ради чего всё это?
– Что? – спросила игуменья устало.
– Я понимаю, что если монахиня… кого-нибудь полюбит… то это грех… Но ведь тогда ты не была монахиней… не давала обетов… Почему же ты отказалась еще тогда?
– Я уже решила к тому времени стать монахиней, это была воля Божия. Я не могу объяснить… но я знаю, что Господь призвал меня именно к монашеству. Если б я отвергла это призвание, я была бы такой же отступницей, как если бы пала уже после пострига… Впрочем, я, конечно, совершила ошибку, пойдя на смотрины. Но это уже не исправить. Должно быть, так зачем-то было нужно…
– Но зачем?!
– Не знаю, государыня. Может быть, когда-нибудь мы поймем это.
Поздним вечером Феодора сидела одна в своей спальне на краю широкого ложа и готовилась лечь. Быстро заснуть она, впрочем, не надеялась и медленно вынимала из волос шпильки и выплетала золотые ленты, аккуратно складывая их на столик у кровати. Наконец, водопад черного шелка рассыпался по ее плечам, и она, уронив руки на колени, устремила взгляд на огонь масляной лампы, стоявшей на столике. Кувикуларий она отослала, и надо было самой заплести на ночь косы, но у нее не было сил шевелиться: последние силы словно исчезли с последней вынутой шпилькой… Вдруг она услышала, как без стука отворяется дверь в спальню. «Неужели?!..» – пронеслось в голове у августы. Она вскочила на ноги.
Феофил, затворив за собой дверь, повернулся к жене, и оба замерли. Феодора была в одной прозрачной нижней тунике из тончайшего льна, волосы падали на плечи и грудь, глаза блестели… Она была обольстительна, но сейчас не думала об этом. Ее сердце бешено колотилось, она почти задыхалась.
«Вот как! – вспыхивали у нее мысли. – Теперь я буду играть роль императорской подстилки… Когда ему станет невмоготу терпеть, он будет приходить ко мне… И это – всё, что мне осталось!.. Его тело!»
Феофил за последнее время даже спал с лица – впрочем, как и Феодора, – темные тени залегли у него под глазами: она знала, что его снедает страсть – но страсть не к ней… Император между тем отстегнул фибулу и скинул плащ на ковер и остался в одной нижней тунике, такой же прозрачной, как у августы. Феодоре стало жарко.
«Но разве это так уж мало?.. – продолжила она свою мысль, сгорая под взглядом устремленных на нее темных глаз. – По крайней мере, уж это – всё-таки мое!»
И она шагнула ему навстречу.
14. Урок философии
Добро и зло разумного и гражданственного существа не в испытываемом состоянии, а в деятельности; точно так же как и добродетель, и порок его не в испытываемом состоянии, а в деятельности.
(Марк Аврелий)
После истории с Евфимией император понял, что больше никогда не изменит Феодоре. Первый и последний опыт такого рода научил его, что это не дает ни облегчения, ни развлечения; даже тело Кассии никакая женщина своим телом заменить не могла, а потому логично было довольствоваться телом женщины, принадлежавшей императору по законному праву… Вечером того дня, когда Феодора побывала в Кассином монастыре, Феофил пришел к ней, готовый даже к тому, что она станет выгонять его и придется взять ее силой – настолько его измучила страсть, – и увидел, что жена не в состоянии отказать ему даже после всего бывшего. Потом она рыдала в подушку, отвернувшись от него, а он пытался ее утешить, гладил по голове, как ребенка, и пообещал больше никогда не изменять. Тогда она села на постели, завернувшись в одеяло, и обратила к нему заплаканное лицо:
– Ты думаешь, меня больше всего волнует твоя измена с этой кувикуларией?!
Он опустил голову и ответил, помолчав:
– Нет, я понимаю, что тебя волнует другое.
– Да! А потому что толку, что ты не будешь больше изменять мне… со служанками? Да хоть бы ты и в блудилище пошел! Разве дело в этом?!
– Думаю, если б я пошел в блудилище или спал со служанками, а не с тобой, тебя это не оставило бы равнодушной, – усмехнулся Феофил.
– Ты всегда, всегда издевался надо мной! За что только? Что я сделала тебе?! Мало того, что ты меня не любишь, так еще и издеваешься! Уходи! Уходи сейчас же! Убирайся в блудилище, к служанкам, куда хочешь! Я не хочу быть твоей подстилкой!
Феофил слез с постели и надел хитон.
– Ты действительно хочешь, чтобы я ушел и больше не приходил?
Она смотрела на него и молчала.
– Скажи правду. Если ты хочешь этого, я больше не приду… никогда.
Феодора стиснула зубы. Он смотрел на нее и ждал.
– Ты жесток! – проговорила она.
– Не жесточе, чем судьба, которая всё это так подстроила!
– Разве это повод вымещать свои страдания на других?
– Не повод. Только всё равно ты будешь страдать в любом случае… буду ли я ходить в блудилище или к тебе, или не буду ходить вообще ни к кому.
– Ты не сможешь! Думаешь, я поверю в твое целомудрие? Уж кто, как не я, знаю, что монаха из тебя не выйдет!
Он чуть побледнел. Феодора смотрела на него со злорадством.
– Погляди на себя! – продолжала она. – Ты голодный, как зверь! Тебе и целого блудилищного дома не хватит… чтобы заесть ту горечь, которой эта монашка тебя напоила! А ты, видно, думал, идя к ней, отведать долгожданного мёду, ха-ха!
Феофил побледнел еще больше, но по-прежнему стоял, не шевелясь, и в его лице ничто не дрогнуло, однако его раздирали столь сильные и противоречивые чувства – от жалости и всё еще не утоленной страсти до неистового гнева и почти ненависти, – что от усилия не выдать их его взгляд на несколько мгновений словно остекленел. Феодора заметила это и испуганно умолкла, но Феофил быстро справился с собой и сказал спокойно и немного усмешливо:
– Ты так не любишь монахов, Феодора… А если я действительно решу превратить дворец в монастырь? Хотя бы внешне, например. Мой отец любил «представления», и я, знаешь ли, всё больше его понимаю, хотя когда-то осуждал. Настоящее благочестие в этом дворце мало кому снилось, хотя все более или менее успешно делают вид… Это понятно, но скучно. Так что иной раз очень хочется пошутить с этими людьми… Посмотреть, до чего они могут дойти в своей покорности перед августейшим государем! Вот, скажем, господа препозиты, твой и мой. Когда мне захотелось переспать с кувикуларией, они и бровью не повели, не так ли? Да еще знаешь, что Никифор сказал Евфимии, передавая ей мое приглашение? Что императору не отказывают! И он прав, дорогая. Это даже и нынешняя ночь явила, кстати, – заметив, что глаза Феодоры гневно сверкнули, и она уже собирается что-то сказать, он чуть приподнял руку. – Подожди, я договорю, а потом ты скажешь мне всё, что ты обо мне думаешь, хорошо? Мне сейчас пришла в голову забавная мысль: издать указ, чтобы все придворные стригли коротко волосы и не носили длинной бороды. Это будет хорошей шуткой! Прикажу завтра меня подстричь «по-монашески», ведь мне такая прическа пойдет, как ты думаешь? – он чуть улыбнулся. – А потом издам указ. Как по-твоему, кто-нибудь посмеет ослушаться?
Феодора от удивления даже забыла, что хотела сказать мужу, какой он несносный негодяй. Несколько мгновений она смотрела на него, чуть приоткрыв рот, пытаясь понять, серьезно он говорит или нет, и, наконец, спросила:
– Ты шутишь?!
– Ничуть. Вот увидишь, – он улыбнулся, но в следующий миг улыбка исчезла с его губ. – Но это я немного отвлекся. Вернемся к прежней теме, – его взгляд стал жестким. – Итак, ты меня выгоняешь? Ты не ответила. Буду или не буду я ходить куда-нибудь, смогу или не смогу… быть «монахом», это не твое дело. Твое дело – сказать мне, хочешь ли ты еще видеть меня по ночам. Так как?
Она смотрела на него и ненавидела себя за то, что не могла сказать «нет».
Он отвернулся и отошел к окну. Отодвинув занавесь из тяжелого плотного шелка, затканного золотым узором, подышал на стекло, пальцем нарисовал на запотевшем месте крест и смотрел, как он постепенно исчезал. В спальной было тепло от двух больших жаровен, но у окна тянуло холодом. Императору вспомнилось утро после первой брачной ночи, когда он точно так же стоял у окна и думал, что бы он сделал, если б на месте Феодоры была Кассия… Да, жена права: ему и целого блудилища не хватит, чтобы утолить эту страсть. Только она не понимает, что страсть эта – не просто к телу, потому и не хватит… Кассия! Император закрыл глаза и прижался лбом к оконному стеклу. Он не мог сказать, сколько простоял так, прежде чем обернулся к Феодоре.
– Так ты мне не ответила.
– А ты, – спросила она, глядя ему в глаза, – ты хочешь видеть меня по ночам?
Феофил вздрогнул. Только что он думал о другой, а теперь эта женщина – нелюбимая жена, «чужая половина» – бросила ему в лицо его собственный вопрос… И что он мог ответить? Нет? Но это… он вдруг осознал, что это было бы неправдой. Евфимия оставила у него чувство, близкое к разочарованию. Мысль о блудилище внушала ему омерзение. Другие женщины вообще никогда не интересовали его. Но Феодора… Он всегда думал, что пользуется ее «услугами» лишь «блудодеяния ради», и только… Но вот готов ли он был, если б она действительно решила его «выгнать», променять ее на какую бы то ни было другую женщину? Казалось бы, не всё ли равно, кто, если не Кассия? Но нет – после измены с кувикуларией он ощутил достаточно ясно, чтобы не обманывать себя: это было не всё равно! И это было странно. Что же, значит, всё-таки он любит и жену? Что за нелепость! Как можно любить двоих?.. Или она ему просто ближе… привычнее? Но если это только привычка, то так «привыкнуть» можно и к другой женщине – а между тем, он сознавал, что, например, к той же Евфимии не привык бы… Он смотрел на Феодору и вспоминал первую ночь, проведенную с ней. Отец накануне дня свадьбы объяснил ему, как надо обращаться с девственницей, чтоб ей было не слишком больно, однако Феофил всё же несколько опасался насчет того, как пройдет этот первый опыт. Но когда они прикоснулись друг к другу, его словно захватило и понесло, всё получилось как-то само собой… С Евфимией было не так: приходилось думать, как обращаться с ней… Хотя, казалось бы, он одинаково не любил обеих!.. Двенадцать лет он роптал на то, что Кассия, «созданная для него», ему не принадлежала, но теперь внезапно понял, что и его жена была – по крайней мере, в некотором смысле – создана для него: оба очень страстные от природы, этим они, безусловно, подходили друг другу…
Так что́ ответить Феодоре на ее вопрос?.. Он смотрел на нее и молчал.
– Совсем не хочешь? – в ее глазах заплясали огонечки, и она скинула с себя одеяло.
На щеках Феофила загорелись два красных пятна, несколько мгновений он смотрел на жену, потом усмехнулся и, сняв хитон, шагнул к постели.
С той ночи и до самого начала Великого поста они предавались утехам Афродиты с пылом юных любовников, словно наверстывая упущенное за время ссоры, и встречались каждую ночь, кроме дней накануне причастия по праздникам и воскресеньям. На первой седмице поста Феодора поняла, что беременна.
С началом поста император в очередной раз задумался об исповеди. После нескольких недель бурной супружеской жизни телесное вожделение перестало его мучить, но теперь гораздо сильнее его стали терзать два помысла: что он свою встречу с Кассией свел, по сути, к плотской похоти, а ее вверг в огромное искушение – и Бог знает, какие последствия оно имело для нее! Да, правильность выбора, любовь, сознание внутренней близости и душевного сродства – всё это было настолько прекрасным, что никакая горечь и скорбь уже не могли заглушить это ощущение. Но в то же время – что он сделал, чего добивался от Кассии и почти добился? Того самого дара «Афродиты пошлой», за пристрастие к которому подтрунивал когда-то над Константином! Кассия была права, когда упрекала его, что он пришел к ней за «телесной сластью»!.. Он вспоминал, как она побледнела, проговорив: «И мне предстоит тяжелая борьба… особенно теперь», – сознавал, что ввел ее в искушение почти невыносимое, но понимал, что не мог в тех обстоятельствах не сделать этого: не было сил удержаться, да и она сама тоже не могла… Значит, оставался всего один ответ: не надо было второй раз приходить в ее келью. Но… тогда не было бы и того невыразимо прекрасного чувства совершенного понимания и близости, испытанного ими, – нет, такой ценой избежать греха он был не готов. «Но ведь за любое счастье такого рода приходится платить», – вспоминались ему слова Евфросины. Да, и он не отказывался платить. Но мысль о том, как дорого должны были обойтись Кассии эти мгновения счастья, терзала его невыносимо.
В среду второй седмицы поста император, поупражнявшись в очередной раз в метании кинжалов по мишени, с усмешкой подумал, что это неподходящее занятие для «весны постной» и на его месте благочестивому христианину следовало бы бороться с осаждавшими его мыслями молитвой, мысленным преданием себя и всех в волю Божию… Впрочем, забавы с кинжалами лишь слегка отвлекали, и только. Всадив несколько кинжалов в центр мишени, Феофил отступил чуть вбок, метнув еще один, так чтоб он воткнулся наискось и выбил какой-нибудь из торчавших в доске, а потом подошел и подобрал упавший. Это был трофейный арабский кинжал с позолоченной рукояткой, украшенной пурпурными аметистами и монограммой настолько замысловатой, что даже самый опытный придворный переводчик так и не смог ее прочесть. Император смотрел на монограмму и думал, что его жизнь запуталась точно так же, как эта немыслимая сарацинская вязь, и как ее распутать?.. Да, осталось испробовать последний выход – исповедь у синкелла. Император вышел из оружейного триклина и велел слуге позвать Иоанна – игумен как раз должен был закончить занятия с Еленой и Марией. Когда Грамматик пришел, император задал несколько вопросов о том, как идут уроки, а потом сказал:
– А я тут развлекаюсь, видишь? – он кивнул на мишень, где вонзенными кинжалами был начерчен крест в круге. – Непостное занятие, правда?
– Думаю, постность или непостность занятия зависит от того, что оно дает для души, государь: у одних и такие упражнения содействуют внутреннему воспитанию, а другим и молитва бывает не впрок.
– Должно быть, ты прав, – Феофил отошел к окну, постоял немного, глядя в сад, и вновь повернулся к синкеллу. – Скажи мне, Иоанн, с тобой случалось когда-нибудь так, что ты был на грани получения того, чего очень сильно хотел, но ты отказался… например, из благочестия… и не взял, хотя мог бы?
– Да, – ответил игумен, внимательно глядя на императора.
– И чего тебе это стоило, кроме усилия воли?
– Разбитой склянки с уксусом и порезанной руки, – усмехнулся Грамматик.
– Вот как? – Феофил посмотрел на игумена чуть удивленно и тут вспомнил, как Иоанн когда-то, незадолго до первой осады Города мятежниками, несколько дней ходил с забинтованной рукой, в ответ на вопросы говоря, что «допустил неосторожность во время одного опыта». – И что же, помогло удержаться?
– На время.
– А потом?
– Потом я получил желаемое. Потому что решил взять.
– Значит, брать или не брать, зависело только от твоего решения?
– Да.
Император пристально глянул на Иоанна и вдруг понял, что тот имеет в виду. Он снова отвернулся и некоторое время смотрел в окно, поворачивая в руках арабский кинжал.
– А я вот мог взять, но не взял. Хотя всё тоже зависело только от моего решения. Благочестиво, правда? – Феофил повернулся и плашмя прижал лезвие к ладони. – Смотри! Если я сейчас сожму руку и порежусь, будет больно. Но, во-первых, это не поможет, а если б и помогло, так ведь меня тут же начнут лечить, поднимется шум, беспокойство… В общем, лучше и не начинать, правда?
– Такое лучше не начинать в любом случае, августейший. Это действительно не поможет. Помогает только Бог, молитва и сила воли, а кинжалы или уксус… это символические жесты, не более.
Император вздохнул, посмотрел в глаза синкеллу и тихо сказал:
– Я приду к тебе на исповедь, отче. Завтра утром.
На другой день после приема чинов Феофил отправился в Сергие-Вакхов монастырь обычным путем – дворцовым переходом, соединявшимся прямо с храмом. Игумен ждал императора в маленькой часовне Богоматери на западной галерее главного храма. Феофил не был на исповеди уже полгода; сердце его глухо колотилось, пока синкелл читал положенные молитвы. Наконец, игумен повернулся к императору:
– Возможно, тебе будет удобнее рассказывать сидя, государь.
– Пожалуй, – Феофил сел на деревянную скамью у стены и указал синкеллу место рядом. – Садись и ты. Разговор будет некратким.
Он стал рассказывать всё с самого начала – о первой встрече с Кассией в портике, о разговоре с Константином про любовь, о собственных мыслях по поводу выбора невесты, о самом выборе, об отношениях с женой, о попытках после смерти отца «стать любящим мужем», о посещении Кассииной обители, о ссоре с Феодорой, о Евфимии, о примирении с женой… Наконец, он откинулся на спинку скамьи, очень бледный.
– Итак, я развратитель и прелюбодей… а кроме того, ненасытный сладострастник. Правду говорят отцы: кого за что осудишь, в то сам и впадешь! А самое печальное… хотя, надо признаться, меня это нимало не печалит, а должно бы… что я ни о чем не жалею!.. Нет, пожалуй, жалею, что растлил эту девочку… Но о том, что было в монастыре, я жалеть не могу. Напротив, я часто жалею о том, что не довел дело до конца… Вот, собственно, и всё. Это исповедь, да, но не знаю, можно ли назвать это покаянием.
– Покаяние состоит, прежде всего, в том, чтобы не делать прежних грехов, государь, – тихо сказал игумен. – Хотя бы каких-то, если невозможно не повторять всех. Хотя бы меньше, если невозможно совсем не повторять.
– Что ж, – усмехнулся Феофил, – кое-каких грехов я уже точно не повторю. Например, я никогда больше не буду прелюбодействовать… по крайней мере, делом… И никогда не приду в ее монастырь.
Он оперся локтями о колени и опустил голову на руки. В часовне повисло молчание: Иоанн ждал, пока у императора пройдет всплеск душевной боли. Когда Феофил вздохнул чуть глубже, игумен сказал:
– Видишь, государь, значит, происшедшее чему-то научило тебя. И это самое главное. Из любых искушений, которые попускаются нам, даже самых невыносимых, даже тех, что доводят нас до тяжких грехов, надо уметь извлекать нужные выводы. Что до сожаления о содеянном… думаю, было бы неразумно требовать этого сейчас. Я даже не уверен, можно ли вообще этого требовать.
– Да, происшедшее меня многому научило, – глухо сказал император, – и многое открыло мне в себе самом… Но что я принес ей?! Каково ей было после того, как я ушел, каково ей теперь? Что она должна была вынести после нашей встречи! Ведь у нее нет даже такого выхода для страсти, какой есть у меня! Конечно, она должна была сразу покаяться… Но разве ей от этого стало намного легче? Не думаю! Об этом-то я могу судить по себе – ведь она любит меня так же, как я ее… А ты видишь, до чего дошел я!.. Можно представить, что пришлось вытерпеть ей! И всё из-за меня! Что ей принесла моя любовь, которой я пред ней похвалялся?.. Она была права: я приходил к ней за плотской сластью и всю нашу встречу свел именно к этому… А разве этого я хотел? Разве прежде всего поэтому я люблю ее?!.. Но почему это так выходит?..
– В нас слишком много тела, государь.
– Да, – император стиснул зубы и закрыл глаза.
– Но ведь не одно тело. Голос плоти очень громок и как будто заглушает все другие голоса, но это не значит, что плоть сильнее всего. Сила слова – в содержании, а не в голосе. И вы оба это понимаете, государь, как бы вам ни было тяжело.
– Какой в этом смысл, Иоанн? Зачем вообще мы с ней встретились тринадцать лет назад?! Она должна была стать моей женой! Или мы с ней не должны были встречаться никогда! За что это мучение?!
– Государь, а ты бы согласился на иную жизнь? – тихо спросил синкелл. – Представь, что… например, я сказал бы тогда твоей матери, что эта девушка не подходит тебе в невесты – допустим, по своему своенравию – и ее бы отстранили от участия в смотринах. Ты выбрал бы твою нынешнюю супругу, а может быть, кого-то еще, жил бы с ней спокойно и, вероятно, более или менее счастливо. Госпожа Кассия, как и собиралась, ушла бы в монастырь. Скорее всего, вы никогда в жизни не встретились бы с ней. Ты бы никогда ее не полюбил и был бы избавлен от всех этих «мучений». Ты бы согласился на это?
Император опустил голову, долго молчал и, наконец, сказал чуть слышно:
– Нет.
– Вот ты сам и дал ответ на свой вопрос, августейший. Всё произошло единственным образом, каким оно могло произойти, и другого не дано. Если ты не согласен променять свою нынешнюю жизнь на иную, значит, ты понимаешь, что многое приобрел, живя этой жизнью – такой, какова она есть. В этом и заключается смысл. Один из смыслов. Все испытания случаются с человеком для того, чтобы он что-то понял, сделал определенные выводы, чему-нибудь научился. Если даже кажется, что не научился ничему, то, во-первых, это чаще всего только кажется, а во-вторых, путь долог, уроки жизни усваиваются не сразу, и даже не сразу можно осознать, что ты получил тот или иной урок. Если о чем тебе и надо молиться, государь, то, прежде всего, о терпении. Для понимания тоже нужно время. Иногда много времени.
– Возможно… Но грех от этого не перестает быть грехом. И за него полагается епитимия. Конечно, – Феофил усмехнулся, – как император, я вполне могу ее избежать, но я не хочу. Ведь Кассия наверняка понесла какое-то наказание. А значит, нужно нести и мне. Тем более, что я нагрешил гораздо больше.
– Относительно епитимии, государь, я могу сказать тебе лишь то, что когда-то святейший в сходных обстоятельствах сказал мне: епитимию ты заслужил, но назначь ее себе сам.
Император и синкелл несколько мгновений смотрели в глаза друг другу.
– Это мудро! – проговорил Феофил.
– Да, – Иоанн встал. – А теперь помолимся, государь.
Василевс тоже поднялся, склонил голову, и игумен, помолившись, осенил императора крестным знамением. Феофил глубоко вздохнул и улыбнулся.
– Наконец-то! Я, конечно, должен был сделать это раньше… Тогда, возможно, не было бы падения с Евфимией! Хотя, с другой стороны, эта история меня кое-чему научила…
– Что было, то было, августейший. Не стоит мучить себя мыслями о том, «что было бы, если бы». Это бесполезно и даже вредно. Наше дело – из всего уметь извлечь урок и идти дальше: «заднее забывая, простираюсь вперед».
– Да… Скажи, Иоанн, а ведь ты давно уже догадался, что я… совершил «маневр»?
– Да, когда мы с тобой впервые увиделись после него.
Император удивленно взглянул на Грамматика.
– Так сразу? Значит, я совсем плохо владею собой.
– О, нет! Ты владеешь собой прекрасно, августейший, насколько позволяет пылкость твоего нрава. Я догадался по другой причине, – Иоанн чуть помолчал. – У твоей матери, государь, был один такой взгляд… Когда я увидел в твоих глазах то же выражение, я понял, что ты совершил свой «маневр». Ты счастлив, государь.
– Счастлив?! – император посмотрел в глаза синкеллу, пытаясь понять, насколько тот серьезно говорит. – И в чем же оно, это счастье?
Иоанн улыбнулся.
– Разве ты забыл свой любимый «Пир», августейший? Помнишь, что говорит Диотима о «вынашивании разума и прочих добродетелей»? «Кто смолоду вынашивает эти качества, храня чистоту и с наступлением возмужалости, но испытывает страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит». Вот почему все тянутся к красивым – потому что и прекрасное тело несет в себе отпечаток начальной Красоты. Как и Плотин говорит: «Красота тел возникает благодаря общности с исходящим от богов логосом». И по той же самой причине, что эта красота доступнее всего для постижения, ее голос лучше всего слышен, потому и голос плоти в нас так громок и иной раз заглушает все другие голоса. Но «беременный» у Платона, хотя и «радуется прекрасному телу больше, чем безобразному», всё же, как разумный, не останавливается на этом: «особенно он рад, если такое тело встретится ему в сочетании с прекрасной, благородной и даровитой душой: для такого человека он сразу находит слова о добродетели, о том, каким должен быть и чему должен посвятить себя достойный муж, и принимается за его воспитание».
– Да! И я об этом теперь всё время думаю! Когда я увидел ее скрипторий, библиотеку, келью, а потом и ее саму, я понял, что созвучие наших душ таково, что больше, кажется, невозможно вообразить! Ведь в этом настоящее счастье, и мы его ощутили! Но что потом? Я всё равно от души вернулся к телу! А теперь… Что толку говорить о «воспитании», о дружбе, если общения нет и уже не будет – мы слишком искусили друг друга, чтобы к этому возвращаться! Теперь, как она сказала, «до встречи на небесах»… А будет ли она, эта встреча?! Вера-то у нас разная, как она заметила… И чья правильнее – вот ведь еще вопрос! Что, по-твоему, означало это… то, что я ощутил от иконы?.. Узнай об этом Кассия, она бы, пожалуй, сказала, что это божественное вразумление, чудо…
– Но это действительно чудо, государь. Только оно еще не доказывает правильность воззрений иконопочитателей. Однажды я беседовал со студийским экономом Навкратием и охотно согласился с ним в том, что иконы могут быть полезны для напоминания о Боге и божественном. Но из этого еще не следует их святость и необходимость поклонения. Ты взглянул на икону и вспомнил о Богоматери, но ведь это еще не значит, что ощущение Ее присутствия связано с иконой напрямую, по божественному действию, как думают иконопоклонники.
– Пожалуй, ты прав… Но иной раз, признаться, я готов проклясть себя за то, что поглядел на эту икону!
– Это понятно, но неразумно. На самом деле, государь, хорошо, что вышло именно так – хорошо не только потому, что вы избежали падения, но и по другой причине. Если б вы дошли до конца, тебе бы после трудно было понять то, что ты так ясно понимаешь сейчас – степень вашего внутреннего сродства и близости, несмотря на то, что вы не общались и не будете общаться друг с другом телесно и словесно. Возвращаясь к Платону, можно сказать, что это о вас говорит Диотима: «Проводя время с таким человеком, он, я думаю, соприкасается с прекрасным и родит на свет то, чем давно беремен. Всегда помня о своем друге, где бы тот ни был – далеко или близко, он сообща с ним растит свое детище, благодаря чему они гораздо ближе друг другу, чем мать и отец, и дружба между ними прочнее, потому что связывающие их дети прекраснее и бессмертнее». Ты жалеешь, что не овладел ею, государь, что не можешь с ней переписываться, встречаться? Не надо жалеть об этом. Для той любви, что связывает вас, плотское соитие было бы помехой, а словесное общение не так уж обязательно. Для тех детей, которых вы можете произвести на свет и уже производите, это не нужно. «Да и каждый, пожалуй, предпочтет иметь таких детей, а не обычных, если подумает о Гомере, Гесиоде и других прекрасных поэтах, чье потомство достойно зависти, ибо оно приносит им бессмертную славу и сохраняет память о них, потому что и само незабываемо и бессмертно». Да, на этом пути бывают трудности и скорби, но ведь даже вынашивать плотских детей нелегко, тем более нелегко вынашивать разум и добродетели и рождать таких детей, которые будут жить в веках. А у вас уже есть и еще будут дети гораздо прекраснее плотских.
– Стихира! – сказал Феофил с улыбкой.
– Да, это самый разительный пример, и думаю, он заключает в себе прямое указание именно на то, о чем я говорю. Но и всё, чем вы оба занимаетесь, всё, что у вас при этом получается – разве было бы таким и делалось бы так, как делается, если б вы не были знакомы? Помнишь, государь, ты сказал мне, что хотел бы иметь такую выдержку, как я? А разве ты смог бы ей научиться, если бы твоя жизнь была преисполнена тем «простым» счастьем, за которым гоняется толпа? То же самое можно сказать и обо всем остальном. Вы с госпожой Кассией стали такими, какие вы есть, разумеется, не только благодаря этой любви, но во многом благодаря ей – назовешь ли ты ее даром «небесной Афродиты» или греховной страстью: это лишь слова, условные наименования. Суть не в них, а в том, как каждый из вас живет, как действует, что приобретает, понимает, постигает, создает. Вспомни Аристотеля: счастье – в деятельности согласно правильным понятиям и мудрости, а не в чувствах и ощущениях. И если посмотреть на плоды вашей деятельности, то, положа руку на сердце, можно ли проклинать тот день, когда вы встретились, августейший?
– Ты прав, философ, – император улыбнулся. – Но должен признаться, я не ожидал, что исповедь выльется в урок философии… Хотя разве у тебя может быть иначе! Итак, судьба послала «платонику» самую высшую степень земной любви из всех описанных у Платона?
Феофил ощущал в душе непривычную легкость – он даже почти забыл, что такое бывает.
– Да, государь. Это высшее из всего, что бывает человеческого. Выше этого – только божественное.
…В конце февраля в Константинополь прибыл персидский военачальник по имени Насир, перебежавший от арабов вместе со своими воинами, и попросил императора принять их на службу: дела восставших персов в последнее время шли неудачно, войска халифа нанесли им несколько поражений, и становилось ясно, что на дальнейший успех рассчитывать не приходится. Вместе с Насиром прибыли в Империю около двух тысяч отборных персидских воинов. Императора это событие в целом обрадовало, и из персов были созданы несколько отдельных турм. Правда, кое-кто из синклитиков был недоволен тем, что в ромейских войсках будут служить «неверные», но Феофил насмешливо сказал:
– Насколько можно судить из истории, военные победы очень часто бывают вовсе не следствием верности истинному Богу, а плодом военного искусства. Не то бы ромейская держава уже давно должна была бы распространиться до пределов вселенной, но этого что-то не наблюдается и не наблюдалось даже при государях праведной и святой жизни. Персидский владыка Кир некогда весьма разумно сказал: «Не старайтесь пополнить отряды только лишь согражданами. Так же, как вы отбираете лошадей, стараясь отыскать для себя самых лучших, а не тех, которые выросли у вас на родине, подобным же образом подбирайте себе и людей из разных стран, лишь бы они укрепили ваши ряды и принесли вам славу и честь». К тому же весьма вероятно, что перебежавшие к нам персы со временем обратятся ко Христу, как это случилось, например, со многими болгарами. Надеюсь, никто из присутствующих не считает, что стать верным христианином можно только будучи рожденным в православном государстве?
– Думаю, ты совершенно прав, державнейший, – сказал эпарх. – Лично меня заботит другое: эти персы, насколько можно судить, бросили свои семьи, у кого они были, на произвол судьбы и не собираются с ними соединяться. Но вряд ли все они, поселившись у нас, предпочтут вести… э… аскетический образ жизни…
– Так что же? – улыбнулся император. – Они вполне могут подыскать себе жен здесь, если захотят.
– Боюсь, мало кто согласится отдать своих дочерей за язычников, государь. Разве что эти персы примут нашу веру… Да и то…
– Да, некоторые из наших граждан весьма гордятся своим высоким происхождением и христианским благочестием, – усмехнулся Феофил. – А тут какие-то иноземцы, да еще неверные! Но ведь смирение – это одна из главных добродетелей, не так ли?
Он обвел взглядом синклитиков. Все молчали: на подобное утверждение возразить было нечего.
– Итак, все с этим согласны, – сказал император. – И я полагаю, что нашим подданным следует проявить толику смирения перед Господним промыслом: ведь не просто так Бог направил в нашу державу этих персов, особенно если мы вспомним апостольское: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» Жена по самой своей близости к мужу имеет на него большое влияние, как всем известно, а потому, в случае его неправомыслия, удобнее всего может обратить его к истинной вере, если не убеждением, то собственным примером. Значит, если наши новые подданные изберут себе жен среди ромеек, они будут иметь все возможности к обращению в христианство. Конечно, обручать с персами юных девиц, еще неопытных в жизни, не стоит, но в нашей державе предостаточно молодых вдовиц – вот они вполне могли бы стать для наших новых подданных подругами жизни и содействовать их дальнейшему обращению ко Христу.
Новый указ императора о том, что молодые вдовы из благородных семейств, в случае, если кто-либо из прибывших в Империю иноземцев захочет жениться на ком-то из них, не должны отказываться от подобного брака, наделал некоторого шума. Одни из придворных возмущались тем, что знатные женщины должны будут сочетаться браком с простыми воинами, другие – тем, что христианки будут выходить замуж за язычников. Впрочем, открыто выражать возмущение почти никто не осмелился, большинство благоразумно помалкивало: император был настолько любим как народом, так и войском, что поднять против него какое-либо заметное возмущение было невозможно. Феофил, получая сведения о том, что говорят о нем при дворе, только усмехался. Усердие, с каким придворные выполнили его «шутовской» указ о стрижке волос и бород, действительно изданный на другой день после примирения с Феодорой, показало василевсу, что «опыты» можно при желании продолжать, и теперь настала очередь следующего. Иногда император почти физически ощущал собственную власть над людьми, как некие незримые волны, которые он мог поднимать или удерживать по своему желанию. В чем-то это было сродни сладострастью и напоминало ощущение, испытанное Феофилом, когда Евфимия упала перед ним на колени в спальне… Он сознавал, что если бы дал себя увлечь этому сладострастью власти, из него мог бы выйти настоящий тиран, но император умел сдерживаться и ограничиваться «легкой любовной игрой», как он выражался про себя. Именно к игре относился приказ о стрижке волос; но указ о выдаче знатных вдов за персов имел более серьезную цель – сломить в некоторых кругах аристократическую спесь, давно раздражавшую императора. «К тому же, как знать, не будут ли эти вдовицы потом еще и благодарны, – думал он чуть насмешливо, – ведь эти персы недурны собой, и уж, по крайней мере, весьма мужественны во всех смыслах слова!»
Многие из прибывших в столицу персов действительно были хороши собой, и едва ли не более всех сам Насир – двадцатипятилетний высокий красавец, великолепно сложенный, с черными, как смоль, волосами, густыми бровями, прямым носом и пронзительным взглядом карих глаз, которые так и горели на его смуглом лице. Он к тому же выразил желание изучать эллинские науки, и император отдал его в обучение синкеллу. Перс оказался на удивление способным учеником и к концу Великого поста уже вполне сносно изъяснялся по-гречески. В начале апреля, сразу после Пасхи, во время праздничных представлений на Ипподроме, персы явили себя во всей красе: показали свои таланты в верховой езде, стрельбе из лука, метании копий и дротиков и в сражении на мечах.
Мария и Елена со своими прислужницами наблюдали за скачками и представлениями с верхнего этажа Кафизмы. В обеденный перерыв император поднялся к ним.
– Как вам персы? – спросил он с улыбкой.
– О, они чудесные! – воскликнула Мария. – Никогда бы не подумала, что в воинском облачении можно выделывать такие вещи на лошадях! Не хуже каких-нибудь акробатов… Ведь это, наверное, и в бою может пригодиться?
– Конечно, – император взглянул на сестру. – А ты что молчишь? Тебе персы не понравились?
Елена зарумянилась и тихо ответила:
– Понравились, очень! Только вот… жаль, что они не христиане…
– Думаю, это поправимо! – улыбнулся император. – Просто еще прошло мало времени. А вот пройдет хотя бы год… Ведь Насир уже научился говорить по-гречески, ему очень нравится наш язык. Еще немного, и Иоанн начнет с ним читать что-нибудь из отцов – глядишь, он и обратится! Кстати, понравился тебе Насир?
– О, он мне больше всех понравился! – ответила Елена и смущенно умолкла.
– Она с него глаз не сводила! – улыбнулась Мария.
– Вот как? – Феофил взглянул на сестру. – Думаю, ему будет приятно об этом узнать!
– Ты что, хочешь сказать ему? – испуганно воскликнула девушка.
– Да нет, шучу, конечно.
Елена вздохнула, и император вдруг задался вопросом, не было ли в ее вздохе столько же облегчения, сколько и сожаления. Он бросил на сестру внимательный взгляд. Как-то незаметно для него она выросла: он привык видеть в ней ребенка, а ведь ей в этом году будет уже семнадцать, совсем невеста!.. Елена была похожа на мать – такая же стройная, изящная, черноволосая, но глаза у нее были неожиданного светло-голубого цвета, словно два прозрачных топаза в обрамлении пушистых черных ресниц. Да, пора задуматься о ее замужестве…
Спустя несколько дней Феофил познакомил сестру и старшую дочь с Насиром. Мария тут же принялась восхвалять персов, их мужество, мастерство в верховой езде и стрельбе. Она говорила быстро, и Насир не всё понимал, но кивал и вежливо благодарил, прижимая руку к груди. Потом Мария стала расспрашивать о персидских обычаях и жизни, Насир отвечал медленно, но в целом на довольно грамотном языке, время от времени взглядывая на Елену. Та только спросила, как зовут его коня, похвалила выступление персов на Ипподроме и успехи Насира в эллинском наречии, а так всё молчала, почти не отрывая от перса топазового взгляда. Феофил украдкой наблюдал за обоими. «Может, хотя бы сестра будет счастлива “по-человечески”! – думалось ему. – Если она захочет, я уж точно не буду препятствовать такому выбору! Но посмотрим…»
15. Августейшие
Великий человек смотрел в окно, а для нее весь мир кончался краем его широкой греческой туники, обильем складок походившей на остановившееся море…
(Иосиф Бродский)
Обретя душевное равновесие, Феофил с головой окунулся в разнообразную деятельность по благоустройству Города и дворца. Прежде всего он занялся обновлением морских стен Константинополя, сильно обветшавших на некоторых участках, особенно вдоль Пропонтиды. Часть стен и башен император велел разобрать до основания и воздвигнуть заново. Новые постройки украшались памятными надписями: «Тебя, Христе, имея Стену нерушимую, владыка Феофил, благочестивый самодержец, воздвиг эту стену на новом основании, ее же сохраняй силою Твоею, Владыка всех, и покажи ее до скончания веков непоколебимой, неразрушимой»; «Башня Феофила, верного во Христе императора-самодержца», и подобными, а также крестами с монограммой «Иисус Христос побеждает».
В приемном зале Магнавры император приказал сделать роскошный трон, который мог подниматься и опускаться с помощью потайного механизма и был украшен грифонами, львами и другими зверями, но не просто литыми и позолоченными, а механическими: при нажатии тайного рычага они начинали двигаться – грифоны пели, львы рычали, а другие звери поднимались на ноги. Тут же у трона был поставлен золотой платан с поющими механическими птицами на ветках. Все эти «чудеса» создали золотых дел мастера во главе с родственником патриарха, при участии Льва: Философ помог с расчетами и чертежами, за что получил новое прозвище – Математик.
Но самые грандиозные планы касались новых дворцовых построек. «Уж рождать бессмертных детей, так рождать! – думал император. – Если и не выстоят до конца веков, то, по крайней мере, память по себе оставят!» Он приказал разломать портики, соединявшие северную часть дворца с южной, и начать здесь строительство большого купольного зала с тремя апсидами, а перед ним другого, полукруглой формы, получившего название Сигмы. Между Сигмой и дворцом Кафизмы предполагалось сделать открытый двор для приемов чинов в теплое время. Одновременно были с размахом начаты работы по разбивке новых террас и садов, начиная от места, где находилась цистерна, в которой утонул маленький Константин. Император сразу после гибели сына приказал ее разрушить и устроить там террасу с фонтаном и бронзовой статуей сына, а вокруг посадить розовые кусты. Отсюда открывался прекрасный вид на море, и теперь Феофил решил продлить террасы дальше, уступами, и чуть ниже соорудить несколько дворцов. Первый из них был закончен раньше всех предпринятых василевсом построек и получил название Камил. Его позолоченную крышу поддерживали шесть зеленых колонн из фессалийского мрамора, мраморными плитами того же цвета были выложены стены по низу, верхнюю часть стен и потолок украшали золотые мозаики, изображавшие земледельцев, занятых сбором урожая, а пол покрыли белым мрамором. К залу была пристроена церковь с двумя приделами – в честь Богоматери и архангела Михаила. Великолепная отделка этого небольшого сооружения сама по себе говорила о масштабе строительных замыслов василевса. Пока шло возведение Триконха и Сигмы, Феофил с архитекторами и Математиком уже чертили планы других зданий, а суда отправлялись в разные концы Империи за лучшими строительными материалами…
Император словно преобразился: не было и помина о прежних внезапных приступах раздражения и мрачности, Феофил был весел, и даже походка его стала более стремительной, летящей. Патриарх, которому василевс, придя на обычную исповедь перед Пасхой, сообщил, что так долго не приходил потому, что по некоторым соображениям исповедался у синкелла, после сказал Иоанну:
– Ты, отче, и впрямь колдун! Что ты сделал с государем? Просто душа радуется, как поглядишь на него!
– Я всего лишь дал ему небольшой урок по приложению философии к жизни, – улыбнулся игумен.
– Вот бы еще августе дать такой урок, – задумчиво проговорил Антоний.
Императрица, действительно, была весьма далека от философского взгляда на жизнь.
За несколько дней до Пятидесятницы София спросила у своей царственной сестры, когда они прогуливались по парку с маленькой Феклой:
– Послушай, Феодора, скажи мне, что всё-таки тут случилось с Евфимией, пока она служила у тебя?
– Случилось? – императрице хорошо удалось изобразить недоумение. – Я же сказала: она не сошлась кое с кем из кувикуларий. Почему ты опять спрашиваешь?
– Видишь ли, ее мать считает, что на нее тут навели порчу.
– Порчу?! – Феодора рассмеялась, подумав про себя: «Ну да, лишили девства! Разве что в этом смысле…»
– Знаешь, тут не до смеха… Там у них все плачут! Она уже двум женихам отказала, третий сам сбежал, а теперь она заявила, что хочет идти в монастырь!
София рассказала сестре, что Евфимия, воротясь домой, зажила по-прежнему, но, поскольку ее придворная карьера не состоялась, родители решили поскорее выдать ее замуж. Девушка была не против, два возможных жениха уже были на примете, но, познакомившись с одним, Евфимия заявила, что он «просто как рыба» и выходить за такого она не хочет. Однако другой на рыбу вовсе не походил, напротив, был уверен в себе, даже напорист; Евфимии он как будто бы приглянулся – по крайней мере, она в ответ на вопрос, нравится ли ей этот молодой человек, сказала, что очень, – и уже был назначен день помолвки. Накануне обручения будущий жених около полудня приходил в гости, и в тот же вечер Евфимия вдруг заявила, что ни за что не выйдет за него. Родители были в гневе, почти всю ночь продолжались увещания, но девушка осталась непреклонной и даже дошла до такой дерзости, что на упреки матери в «неблагодарности» заявила:
– Лучше вы сами благодарите меня за то, что я не отказалась от свадьбы после помолвки, а то бы вам еще пришлось платить за расторжение!
После этого отец пришел в бешенство и сказал, что «не намерен более терпеть капризы строптивой девки» и выдаст дочь замуж уже без всякого ее согласия, за того, кого сочтет нужным, пригрозив в противном случае родительским проклятием. Действительно, вскоре он нашел жениха по своему вкусу: старше Евфимии на двенадцать лет, состоятельного, благочестивого, со спокойным характером – словом, что называется, солидного. Девушка, познакомившись с ним, вела себя вполне пристойно и вежливо, с родителями держала себя тише воды, ниже травы, но стоило им оставить ее с будущим женихом ненадолго наедине, как его словно ветром сдуло, причем он, красный от негодования, заявил родителям невесты, что «никак такого не ожидал», и что «пусть Господь будет милостив» к их дочери… Отец едва не высек Евфимию, ее спасло только заступничество матери. Когда через два дня страсти улеглись, девушка пришла к родителям, упала на колени и попросила отпустить ее в монастырь, сказав, что она не сможет быть счастлива в браке, и умоляя «не мучить» ее больше. Ее расспрашивали, что случилось, уговаривали, угрожали, кричали – напрасно: она была непреклонна и сказала, что если ее всё-таки с кем-нибудь обручат, она попросту сбежит из дома. В конце концов отец махнул на всё рукой, но мать до сих пор не смирилась и хочет сводить дочь к какому-нибудь святому старцу, чтобы тот «снял с нее порчу»…
– Ну, тут разве что Иоанн мог навести порчу, – усмехнулась Феодора, – ведь говорят, он это может!
– Ты шутишь? – возмущенно глянула на нее София. – Это всякие дураки болтают!
– Не более дураки, чем мамаша этой бедной девочки!
Спустя три недели София сообщила сестре, что Евфимия с матерью действительно ездили в Атрою к отшельнику Петру и тот, поговорив с девушкой наедине, сказал ее матери, что никакой порчи на Евфимии нет и ее следует немедленно отпустить в монастырь, поскольку такова воля Божия. Родители поплакали, но, наконец, смирились и теперь гадали, в какой монастырь ее лучше отдать: они очень боялись, что дочь, девушка нежная и слабосильная, не сможет исполнять в обители тяжелые послушания, обычные для новоначальных.
– О, я знаю один хороший монастырь! – воскликнула императрица. – Евфимии там самое место: будет книжки почитывать, петь, рукописи переписывать, а то и стихи сочинять, работать в поте лица где-нибудь на поле или в винограднике не придется!
– Что же это за монастырь?
– Богородичный, на берегу Ликоса, рядом с Диевой обителью.
Когда сестра ушла, сказав, что передаст совет императрицы родителям Евфимии, Феодора злорадно усмехнулась.
Несмотря на несколько недель неистово-страстной ночной жизни, последовавших за примирением с мужем, августа сознавала, что этот бурный всплеск уже из-за своей силы обречен быть кратким и, возможно, ничего подобного в будущем больше не случится. Феофил, видимо, уже никогда не полюбит ее даже немного, оставалось только смириться с этим… Но смириться она не могла. «Сколь ни говори “мёд”, во рту сладко не будет, и вкуса его не узнаешь, пока не попробуешь, равно как и вкуса полыни», – эти слова духовника ее юности вдруг вспомнились Феодоре весенним утром в середине поста, когда она, лежа под шерстяным одеялом, думала, что, окажись рядом муж, ей было бы гораздо уютнее во всех смыслах. Но он приходил только ради утоления плотской страсти, а сейчас она ждала ребенка и в тоске размышляла о том, как часто после его рождения, особенно если родится сын, она будет встречаться с Феофилом по ночам. А ведь это была чуть ли не единственная нить, которая их теперь связывала!.. Феофил по-прежнему нередко заходил к ней после выездов в Город, играл с Феклой, читал жене вслух исторические книги, рассказывал о своих строительных планах, иногда сам водил ее по стройкам и показывал, что уже сделано, но в его взгляде, во всем облике, в манерах появилось нечто новое, неуловимое, и оно тревожило Феодору. Даже если он общался с ней не из одного только желания хоть как-то исполнять роль хорошего мужа, это не означало, что здесь замешана любовь, хотя бы в ничтожной степени, а потому он не нуждался в этом общении так, как она, мог прекратить его, в сущности, в любой момент, и это не доставило бы ему страданий – в отличие от нее. Она часто замечала, что муж, разговаривая с ней, смотрит куда-то вдаль – словно сквозь те предметы, на которых покоился его взгляд. Что он видел мысленным взором? Кассию? Этот ответ напрашивался сам собой, но даже императрица, при всей мучившей ее ревности, видела, что такой ответ был бы ошибочным. Пожалуй, это был взгляд словно с высоты на незримый для других вид, взгляд, достигавший горизонта и уходивший за него… Возможно, разнообразные дела, в последнее время увлекавшие Феофила, пригасили в нем пламень страсти к Кассии, но это означало, что он будет меньше нуждаться и в Феодоре – ведь его страсть к ней была только страстью тела…
Что же? Чем была ее любовь к Феофилу? Приходилось признать, что она больше походила на полынь, чем на мёд…
И теперь, после разговора с Софией, императрица снова вспоминала посещение Кассиной обители и разговор с игуменьей. После «выяснения отношений» с ней Феодора пошла взглянуть на монастырский храм, скрипторий и библиотеку, столкнулась с Анной и разговорилась: бывшая ипатисса рассказала августе о порядках в монастыре, о том, чем занимаются и как живут сестры. «Наверняка они при поступлении открывают игуменье свою жизнь до монашества, – думала Феодора. – Или, по крайней мере, дойдет дело до откровения помыслов, так всплывет! Вот и пусть пожнет… дело рук своих! Пусть насладится плодом своего благочестия!.. Если б не она! О, Господи, если б не она!..»
Однажды на исповеди императрица пожаловалась патриарху, что на нее часто нападает скука: Феофил так увлечен своими «великими стройками», что стал проводить с ней меньше времени, а для нее общение с братьями, сестрами или кувикулариями не может заменить общения с мужем… Антоний сказал, что это понятно, но поправимо, и посоветовал августе «тоже чем-нибудь заняться», ведь у нее для этого есть все возможности. Размышляя над советом патриарха, Феодора с тоской думала, что, разумеется, она могла бы предпринять постройку, например, какого-нибудь храма или сиротского приюта, но… ей это было неинтересно! В сущности, ее вообще мало что интересовало, кроме семейной жизни – мужа и детей. Даже чтение книг увлекало ее больше всего тогда, когда можно было обсудить прочитанное с Феофилом, а особенно – если он сам что-нибудь читал ей. Она тосковала не потому, что ей было нечем заняться или ее занятия были скучны – она могла часами просиживать, например, за вышивкой, и это ей не надоедало, – а потому, что в ее жизни мало присутствовал муж! Однако ей не хотелось говорить об этом с патриархом, потому что такой разговор повлек бы за собой слишком многое и слишком болезненное… Но может быть, всё же попробовать отвлечься, чем-то заняться? Но чем?..
Как-то раз, стоя на террасе Вуколеона и наблюдая за судами, лениво проплывавшими из Босфора мимо дворца к Феодосиеву порту, императрица вдруг подумала, что, должно быть, это интересно – снарядить судно, отправить его куда-нибудь в Трапезунд или Херсон, чтобы приобрести на тамошних рынках что-нибудь ценное, доставить сюда, продать… А вырученные деньги можно было бы раздать бедным… Мысль показалась Феодоре занятной и она обсудила ее с препозитом. Тот всячески одобрил «благочестивое начинание» и тут же получил задание заняться приобретением и оснащением судна, набором команды и всем необходимым для отправки судна по торговым делам. Несколько дней императрица увлеченно обсуждала со служащими из Казначейства и с кувикулариями, какие товары лучше закупить, потом ездила смотреть на купленное судно, лично побеседовала с набранной командой и одарила всех золотыми и серебряными монетами, а после отплытия судна ждала его возвращения с нетерпением.
Оно вернулось в августе, везя из Фессалоник вино, оливковое масло, пшеницу, мёд и пряности. Император как раз отдыхал на одной из недавно разбитых террас, когда судно огибало мыс, плывя под всеми парусами. Его величина несколько удивила Феофила, так же как то, что оно плыло гораздо ближе к дворцовому мысу, чем это позволялось обычным судам, и василевс тут же призвал препозита и поинтересовался, чье это судно и что везет – судя по осадке, нагружено оно было сильно. Препозит замялся и ответил, что оно принадлежит августе и возвращается из Фессалоник, куда было отправлено по торговым делам. Император только хмыкнул и ничего не сказал. Однако в пятницу, совершая обычный выезд во Влахерны, он вместе со всей свитой завернул в сторону Неория. С утра ему доложили, что судно императрицы всё еще стоит там на якоре, и вот, придя на пристань, император обратился к сопровождавшим и спросил:
– Скажите мне, господа, кто из вас имеет нужду в хлебе, вине или еще каком-нибудь продовольствии?
Синклитики недоуменно переглядывались, а когда Феофил повторил вопрос, проэдр ответил за всех:
– Живя под твоей счастливой державой, благочестивейший государь, мы, слава Богу, ни в чем не нуждаемся!
– Мы даже не понимаем, из-за чего у тебя, августейший, мог возникнуть подобный вопрос! – добавил логофет дрома.
– Не понимаете? – переспросил император и усмехнулся. – Разве вам не известно, что моя супруга превратила меня, самодержца Божией милостью, в судовладельца? Посмотрите – вот ее судно, которое привезло сюда на продажу всякие съестные припасы. А кто когда-нибудь видел, чтобы ромейский император или его супруга были купцами?!
Никто ничего не мог ответить на это, и василевс тут же приказал спустить с судна всех людей, а само его предать огню вместе с грузом. Вернувшись из Влахерн во дворец, он сразу отправился к жене. Увидев его, Феодора тут же сделала няньке знак выйти и, когда дверь за ней затворилась, возмущенно воскликнула:
– Послушай, это уже слишком! Зачем ты это сделал?!
– Это как раз я должен у тебя спросить, зачем ты это сделала! – сурово ответил император. – Помнится, ты оскорбилась, когда я сравнил тебя с базарной торговкой, но теперь сама же подтверждаешь это!
Феодора сникла, опустила взгляд, и на мгновение узоры на мозаичном полу слились перед ее глазами, но она быстро взяла себя в руки и проглотила слезы.
– Феофил, – проговорила она, не глядя на мужа, – мне тоже надо чем-то отвлекаться… от мыслей! Ты вот строишь, украшаешь дворец, у тебя еще всякие дела… А чем заняться мне?! Мне, между прочим, патриарх посоветовал… как-нибудь развлечься! А не то, знаешь, я с ума сойду от такой жизни! – она закусила губу, силясь не расплакаться.
– Патриарх дал тебе неплохой совет, – сказал Феофил уже более мягко, – но ты нашла весьма дурной способ воплотить его в жизнь. Ты должна была бы сообразить, что не всякое занятие подходит в качестве развлечения для ромейской августы!
– Да? – Феодора взглянула на него. – А какое же подходит? В строительстве я ничего не смыслю, да ты, пожалуй, и не позволишь мне ничего строить… А то ведь я такая… могу какой-нибудь вид испортить, – в ее голосе появились нотки сарказма. – Я ведь глупая, не начитанная… Если в чем и знаю толк, так только в стихах… и в любовных забавах! Ведь ты меня тут только для них и держишь, не так ли? Так может, мне для развлечения… любовника завести, а? Такое занятие подходит для ромейской августы?!
Феофил побледнел и впился в нее глазами. Что это – просто сказанное сгоряча слово… или намек на его мать?!
– Что, – злорадно продолжала императрица, – тебе это, кажется, не понравилось бы? Почему же? Получается, тебе можно всё, а мне нет? Неужели тебя это сильно огорчило бы? Ведь ты меня всё равно не любишь, не так ли? Почему бы мне в таком случае не завести себе… какого-нибудь Евфимия? Я ведь еще недурна собой!
– Прекрати, – сказал император устало. – Я понимаю, что тебе живется невесело… Но и ты должна понимать, что нельзя требовать от человека того, чего он не может дать. Прости меня.
Тут Феодора не выдержала и разрыдалась. Феофил смотрел на нее и не знал, чем утешить. Всё, что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, показалось бы ей или неискренним, или жестоким. К тому же он и сам до конца не мог разобраться, как на самом деле относится к жене. Любит только телом? Такой ответ напрашивался сам собой, но отражал ли он всю правду? И если не отражал, то в чем была правда?..
Императору пришла мысль, что, если бы Феодора поговорила с Иоанном, Грамматик мог бы дать ей более предметный совет, нежели просто «чем-нибудь заняться». Однако для этого требовалось не одно желание Феодоры поговорить с синкеллом, но еще и готовность открыться, а насчет последнего у Феофила были большие сомнения – ведь, насколько он мог судить, императрица не питала к игумену ни особенных симпатий, ни особенного доверия…
Вдруг Феодора перестала плакать, вытерла глаза и посмотрела на мужа.
– Уходи! – сказала она. – А не то… я тебя ударю… или еще что-нибудь сделаю! Прощения просишь? А зачем тебе мое прощение? Для успокоения души? Прощу я тебя или нет, ты всё равно будешь поступать так, как сочтешь нужным, не оглядываясь на меня! Ты всегда так делал, ты никогда меня не жалел, а если и берег, то… только чтобы мною пользоваться… как подстилкой! Убирайся! Не будет тебе никакого прощения! – губы ее затряслись, она повернулась, убежала в спальню и хлопнула дверью.
Феофил тяжело вздохнул, подошел к Фекле, которая уже давно, побросав игрушки, с недоумением таращилась на родителей большими темными глазами, приласкал ее, поцеловал и вышел из покоев, сказав ожидавшей снаружи няньке, чтобы она шла смотреть за девочкой. Хотя уже в воскресенье Феодора вела себя с мужем так, словно ничего не случилось, но за ее словами, улыбками, жестами император ощущал глубоко затаившуюся обиду, если не враждебность. Это немного беспокоило его, но он надеялся, что всё пройдет после рождения ребенка, ожидавшегося в середине осени, предполагая, что и самая вспышка гнева и обиды у Феодоры была так сильна именно из-за ее нынешнего положения, старался быть с женой как можно более мягким, советовался с ней насчет внутреннего убранства Триконха и Сигмы и оформления двора при них.
Постройки удались на славу: украшенные разноцветными мраморами и драгоценными мозаиками, высокие и светлые, они могли поспорить по красоте с лучшими зданиями Священного дворца. Западные двери Триконха – центральная из серебра, а боковые из полированной меди, вели в Сигму, чью крышу поддерживали пятнадцать массивных колонн из докиминского мрамора, белого с фиолетовыми прожилками. Эта колоннада соединялась с Тетрасером, тоже трехапсидным зданием, к которому с северной стороны примыкала постройка, составлявшая предмет гордости Математика. Лев пообещал императору изготовить «нечто таинственное», и ему это удалось: здание было построено таким образом, что, когда кто-нибудь, стоя в одной конхе, что-нибудь очень тихо произносил, стоящий в противоположной конхе, приложив ухо к стене, мог услышать эти слова. Все изумлялись и наперебой расспрашивали Философа, как устроено это «чудо», но Лев только загадочно улыбался и говорил, что «тайна на то и тайна, чтобы ее не выдавать». Здание получило название Таинственный триконх, и на другой день после его торжественного открытия и показа «чуда» перед синклитиками, которые, точно дети, долго забавлялись, проверяя действие «говорящих стен», император пришел туда с женой, объяснил ей, что тут происходит, и они разошлись в противоположные конхи.
– Ты на меня сердишься? – шепнул Феофил, увидев, что Феодора приложила ухо к стене, и сам, в свою очередь сделал то же самое.
– Немного, – ответила она. – Ты сжег мое судно!
– Так было нужно.
– Чтобы показать, что ты не только самодержец, но и самодур?
– Я объяснил тебе, почему. Не сердись!
– О, не беспокойся, я пока еще не собираюсь заводить любовника!
Он обернулся: жена смотрела на него и улыбалась, но что пряталось за этой улыбкой – гнев, обида, просто шутка, хоть и ядовитая?.. «Она сейчас просто раздражительна, – подумал он. – Пройдет после родов!»
В октябре, вместо ожидавшегося императором сына, Феодора опять родила дочь. Девочку назвали Анной; в крестные отцы, по уже сложившейся традиции, пригласили Сергие-Вакхова игумена. Императрица предалась возне с младенцем и, кажется, перестала сердиться на мужа – по крайней мере, внешне это никак не выражалось. Феофил был раздосадован, ведь он надеялся на появление сына, что позволило бы выполнить назначенную самому себе епитимию: помимо поклонов и чтения Псалтири по ночам, император собирался, по меньшей мере, на два года воздержаться от супружеской жизни. От причастия он не был отлучен, но знал, что для покаявшихся прелюбодеев срок отлучения составляет по канонам семь лет, и собирался взамен ограничить свое «неистовое сладострастие» хотя бы на время. Правда, его смущала мысль, что подобное воздержание будет не по нраву Феодоре, но он всё же надеялся так или иначе настоять на своем. Однако теперь получалось, что для этой части епитимии пора еще не пришла, раз наследника престола до сих пор не было. Тем не менее, Феофил решил прожить в воздержании по меньшей мере до Пятидесятницы, а заодно посмотреть, насколько такое наказание будет для него тяжело: «Посмотрю, смогу ли я быть монахом!» – думал он с усмешкой.
В конце октября к императору явился Насир и сказал, что хочет принять христианство. Феофил был очень рад, но вместе с тем подозревал, что причиной этому была любовь перса не только ко Христу. Сестра василевса, под предлогом лучшего и скорейшего обучения предводителя персов эллинскому наречию, с июня стала раз или два в неделю встречаться с Насиром: они гуляли по паркам, и Елена рассказывала персу о прочитанных ею книгах, особенно исторических, а также о всяких растениях и птицах – то, что уже сама успела узнать из уроков с Иоанном. Они всегда брали с собой одну из кувикуларий и Марию, но прогулки эти нередко приводили к тому, что девочка оставляла свою юную тетю вместе с персом где-нибудь на скамейке и исчезала, утаскивая с собой кувикуларию. Вечером того же дня, когда Насир выразил желание креститься, Мария, когда отец зашел на женскую половину дворцовых покоев, отозвала его в сторону и сказала шепотом, скороговоркой:
– Папа! Мне надо тебе что-то сказать! Вчера я видела… Мы гуляли, то есть я, Елена и Насир, и я увела Манефу… Я этих кувикуларий увожу, а то Насир при них стесняется много разговаривать! Ведь это не плохо?
– Нет, – улыбнулся император.
– Ну, вот… А вчера… я решила к ним подкрасться потом сзади, незаметно, и немножко напугать, в шутку, понимаешь? – Феофил кивнул. – Они на скамейке сидели у пруда… И вот, я подкралась, а они… они целовались!
– Вот как? А ведь ябедничать нехорошо!
Мария вспыхнула и быстро проговорила:
– Я не ябедничать! Я не для этого! Просто я подумала… Ну и что, что он перс? Ведь он такой хороший! Ты… разрешишь им пожениться, правда? – она подняла глаза на отца и увидела, что он улыбается.
– Конечно, – ответил Феофил. – Насир сегодня уже сказал, что хочет креститься. Патриарх огласит его, а на Рождество можно будет и крестить. А там и до свадьбы недалеко!
– Ура! – Мария даже захлопала в ладоши. – Ты самый-самый лучший папа в мире! – она приподнялась на цыпочки и, когда Феофил наклонился к ней, чмокнула его в щеку. – И самый-самый лучший император!
…На второй день Рождественского поста после очередного занятия по философии ко Льву подошел Фотий и сказал:
– Я хочу тебя поблагодарить, господин Лев, и попрощаться.
– Попрощаться? – Лев удивленно посмотрел на юношу. – Но что случилось? Ты уезжаешь?
– Да. Государь отправляет моих родителей в ссылку, и они не хотят, чтобы мы с братьями оставались тут. Хотя дядя Сергий предлагал оставить всех нас здесь, но… отец сердит и разгневан, сказал: «Нечего вам тут делать, в этом еретическом гнезде!»
– Гм!.. Так ведь это «гнездо» тут не вчера возникло… Впрочем, понятно… Жаль! Ты был моим лучшим учеником! Но почему государь так разгневался?
Молодой человек вздохнул.
– Отец был неосторожен! Он уже второй год пишет историю царствования государева отца, я видел отрывки, там много порицаний, особенно из-за иконоборчества, и насмешек. И вот, он дал почитать выдержки одному другу, а тот и донес императору. Четыре дня назад у нас устроили обыск, сочинение отцовское изъяли, а вчера государь приказал родителям отправляться в Кизик.
Недописанная история царствования императора Михаила, доведенная до восьмого года его правления, действительно весьма разгневала Феофила. Она была написана хорошим языком, ясным и простым, и подробно описывала события – воцарение Михаила и всё, связанное с мятежом Фомы и с сицилийскими делами, но в то же время в ней резко порицалось иконоборчество покойного императора: он сравнивался с «беззаконным и непотребным Навозоименным Константином», причем история делала отступление к царствованию этого последнего, а потом снова возвращалась к Михаилу и насмешливо говорила о его малограмотности и нетвердости в христианской вере, местами напоминая по стилю поношение. Автор утверждал, что Михаил, будучи христианином, не оставлял и разных иудейских верований, которым обучился в юности, презирал словесные науки, поскольку они «могли его отвратить от еретической веры», «одобрял блуд», говорил, будто дьявола не существует, и был настолько безграмотен, что даже с трудом мог «разобрать буквы собственного имени»…
– Господин Сергий, – сказал император, вызвав к себе патрикия, чтобы объявить ему приговор о ссылке, – признаюсь честно, в последнее время, наблюдая за вашей братией, я весьма дивлюсь тому, какими способами вы пытаетесь утвердить свою «истинную веру». Ваши покойные предшественники еще действовали как люди умные: писали вероучительные сочинения, разъясняли народу, почему их взгляды следует считать истинными, а наши – ложными. Вы же довольствуетесь сомнительными пророчествами, а то и вовсе клеветой, как ты, например. Моего отца ты обвинил в ненависти к эллинским и божественным наукам… Любопытно, в чем бы ты обвинил меня, если б довел свое сочинения до моего царствования? Вероятно, в излишней любви к эллинской образованности? Ведь кое-кто из твоих друзей, как я знаю, считает меня «язычниколюбивым более, чем боголюбивым», не так ли? Но, пожалуй, глядя на «боголюбие» подобных тебе, действительно не захочется ему подражать – ты об этом никогда не задумывался, господин патрикий? Но ничего, это дело поправимое: в Кизике у тебя будет время подумать об этом!
Лев видел, что у Фотия случившееся с отцом, быть может, впервые в жизни поколебало ту ясность понятий, с какой он до сих пор жил: молодому человеку, совершенно очевидно, не хотелось бросать учебу и покидать Город, но, однако, трудно было возразить что-нибудь на довод, что император – еретик и изгнал патрикия с его семейством за критику иконоборчества… «Пожалуй, это будет ему полезно, – подумал Философ. – Поймет на деле, что не всё в жизни так просто, как ему, быть может, представлялось до сих пор!..»
– Что ж, – сказал Математик ученику, – можно утешаться тем, что я уже научил тебя почти всему, чему мог… Правда, твои братья еще не окончили курс, – Тарасий и Сергий, два младших брата Фотия, тоже учились в школе при храме Сорока мучеников, – но ты, думаю, сможешь рассказать им о том, что изучил здесь… А сам будешь дальше читать книги и изучать новое, у тебя прекрасные способности!
– Благодарю, господин Лев! – ответил Фотий. – Ты был для нас хорошим учителем! Вот только, – он чуть помрачнел, – я не уверен, что в Кизике у нас будут все нужные книги для продолжения учебы…
– Возможно, со временем государь смягчится и позволит вам вернуться… Не печалься! Надо уповать на лучшее!
16. Игуменья и философ
(Елена Винокурова)
- А жизнь такие дарит штуки,
- Что не сфальшивив, не запеть,
- Что не найтись, не заблудившись,
- И не подняться, не упав…
Евфимия была отпущена родителями в монастырь в начале ноября, буквально облитая материнскими слезами. Девушка принесла в Кассиину обитель богатый вклад, а ее мать долго говорила с игуменьей, умоляя избавить Евфимию, насколько возможно, от тяжких телесных трудов и вообще не относиться к ней слишком строго. Она ушла совершенно успокоенная, зато Евфимия, напротив, была взбудоражена и даже испугана: только придя в обитель, она узнала, что настоятельницу зовут Кассией, а поскольку совет поступить именно в этот монастырь дала императрица, девушка заподозрила, что между игуменьей обители и тем, что произошло недавно во дворце, существует связь. «Неужели со всем этим еще не покончено?» – подумала Евфимия, и сердце ее тоскливо сжалось. Она надеялась найти в монастыре успокоение и забвение всего, что с ней случилось за последний год, а вместо этого, кажется, наткнулась прямиком на продолжение злополучной истории своего грехопадения… «Вот расплата за то, что я тогда сказала “нет”!» – думала она.
Только Атройский игумен узнал от Евфимии на исповеди, почему она отказала всем своим женихам и решила идти в монастырь. Первый из посватавшихся к ней юношей, круглолицый, светловолосый и сероглазый, действительно показался ей похожим на холодную рыбу, и ее мутило от одной мысли, что ей придется с ним жить и ложиться в одну постель, хотя поначалу она не могла себе толком объяснить, почему он произвел на нее такое впечатление, ведь мать прямо называла его «красавцем». Второй жених ей приглянулся гораздо больше – высокий, черноволосый, хорошо сложенный, с блестящими карими глазами и обворожительной улыбкой. Но его напористость сыграла с ним плохую шутку: когда накануне дня помолвки его с будущей невестой впервые ненадолго оставили вдвоем и они стояли на террасе, выходившей в сад, он, глядя на двух пестрых кошек, теревшихся друг об друга мордочками на ступенях террасы, вдруг взял Евфимию за руку. Она вздрогнула, но не отстранилась, и тогда он обнял ее и поцеловал. Поцелуй был недолог, а когда молодой человек вновь посмотрел ей в глаза, она глядела не него так странно, что он слегка испугался, отступил на шаг и сказал:
– О, прости меня! Я забылся… Ты такая красивая!
Он улыбнулся, но Евфимия продолжала смотреть на него всё так же «непонятно», и он, растерявшись, глупо спросил:
– Но, надеюсь, тебе понравилось?
– О, да! – она внезапно рассмеялась. – Конечно, понравилось!
Она сказала это почти язвительно, приведя юношу в полное недоумение, но спросить он ничего не успел, поскольку на террасу вернулись родители Евфимии.
До вечера девушка просидела у себя в комнате, обуреваемая такими мыслями и чувствами, которые привели бы в ужас ее родителей. До этого дня Евфимия пребывала в уверенности, что пережитое ею в спальне императора бывает между мужчиной и женщиной всегда, но теперь она поняла, что ошибалась. Когда будущий жених взял ее за руку, она догадалась, что́ он хочет сделать, и замерла в предвкушении, но… ничего не почувствовала! Нет, он не был ей противен, но она не испытала ничего сколько-нибудь подобного тому вихрю ощущений, что закружил ее после первого же поцелуя Феофила. «Если ничего такого не будет, как же я смогу с ним спать? – думала она о будущем муже. – Я не смогу, нет, лучше вовсе не выходить замуж! О, Господи, зачем только я тогда… Лучше бы мне никогда не знать, как это бывает!..»
С третьим женихом у девушки состоялся наедине очень короткий разговор.
– Господин, – сказала она, – я должна тебе сказать одну вещь, потому что обманывать тебя было бы нечестно. Я не девственница. У меня был любовник. И если я выйду за тебя замуж, а ты в постели окажешься не таким, каким был он, я буду тебе изменять, пока не найду такого же. А я думаю, ты таким не окажешься. Поэтому смотри сам, стоит ли тебе брать меня в жены.
Отец оттаскал ее за косу и даже приказал принести кнут, но мать бросилась ему в ноги с мольбами пощадить дочь, кинулась ее обнимать, уговаривала «образумиться», но Евфимия вырвалась, убежала к себе в спальню и заперлась. Почти до самого утра в доме продолжались вопли и ругань; девушка слушала этот шум, лежа на кровати лицом к стене, и тело ее сотрясалось от рыданий. Она сказала очередному несостоявшемуся жениху правду, но не всю правду – теперь она окончательно поняла это: дело было вовсе не в том, что этот солидный господин только в постели оказался бы не таким, как император…
Евфимия прожила в монастыре две недели, продолжая носить мирскую одежду и присматриваясь к здешней жизни. Ей всё тут очень понравилось – и сестры, и устав, и занятия, – а игуменья вызывала чувство, граничившее с восхищением. Но внутренняя тоска и беспокойство усиливались, и иногда она бросала на Кассию странные взгляды. Девушке неоднократно приходила в голову мысль, что лучше не поступать в эту обитель: она сознавала, что должна будет рассказать игуменье историю своего падения, и не знала, что скажет Кассия и как вообще всё это обернется… В то же время еще больший страх, почти отчаяние ей внушала мысль о том, что будет, если она сама откажется от поступления в Кассиин монастырь: ей представлялся очередной скандал с родными, новые поиски обители… К тому же она понимала, что лучшего места, чем этот монастырь, ей для себя не найти. Наконец, она решилась: «Открою ей всё! Если она скажет, чтоб я уходила, тогда уйду… А может, ничего она и не скажет! Кто знает, что там у них на самом деле было… Может, ничего страшного, и она не слишком огорчится…»
Игуменья, в свою очередь, тоже поглядывала на новопришедшую и задавалась вопросом, почему императрица прислала ее именно сюда – мать девушки рассказала Кассии об этом. Только ли из-за того, что в обители мало занимались телесным трудом? Ее подозрения еще возросли после того, как Анна однажды сказала ей:
– Послушай, а ведь эта новенькая, Евфимия, на тебя похожа!
– Что? – удивилась игуменья.
– Точно говорю! Волосы такие же, фигура, рост… И глаза, если при огне – синие-синие!
Всё объяснилось в тот день, когда девушка, наконец, сказала Кассии, что в монастыре ей понравилось и она хотела бы тут остаться.
– Только, матушка, я должна… рассказать тебе кое-что, – сказала она тихо и добавила еще тише: – Может, ты еще не захочешь меня тут оставить…
Они прошли в келью игуменьи, сели, и Евфимия сказала:
– Матушка, мне мать Арета сказала, что перед поступлением в обитель надо рассказать тебе о своей жизни.
– Да, в общем и целом, – ответила Кассия, – чтобы я имела представление о том, как жила каждая сестра до монашества, и могла лучше понять, какое именно ей нужно руководство.
– Мне рассказывать, в общем, нечего… До шестнадцати лет моя жизнь была простой: всё время дома, при маме, читать меня учили по Псалтири и житиям святых, а потом я читала святых отцов, но не очень много… больше всего Златоуста. А вообще я любила прясть и играть с котятами… В шестнадцать лет… это было как раз год назад… меня взяли во дворец, кувикуларией к августе. Потом я отказалась от замужества, тебе, наверное, мама рассказала об этом, – Кассия кивнула. – Только она не знает, почему я это сделала. Я уже всё рассказала отцу Петру, когда мы ездили к нему, но я должна сказать и тебе, потому что… ты поймешь, почему… Во дворце я согрешила. Я отдалась одному человеку. Он захотел… предложил мне, а я… не отказалась, хотя могла бы… Это было только раз, потом я сразу ушла со службы у государыни… Этот человек… Это был император.
Через неделю после того, как Евфимия была облечена в одежду послушницы, Анна, придя на обычную исповедь к игуменье последней из всех сестер и исповедавшись, сказала:
– Послушай, мать, объясни мне, Христа ради, что происходит!
Игуменья чуть вздрогнула, задула свечи, догоравшие в подсвечнике перед аналоем, и спросила:
– А разве что-то происходит?
– Ну, матушка, милая, я же вижу! Что случилось? Что всё это значит? Сначала государь, потом государыня, теперь эта девочка… Я раньше думала, что августейший сюда из-за икон приходил, а сейчас уж не знаю, что и думать! Скажи мне, ради Бога, в чем дело? Ты же извелась вся, сил уже нет смотреть на тебя!
Кассия стиснула руки под мантией и несколько мгновений стояла молча и неподвижно, точно изваяние, глядя на лежащее на аналое Евангелие в серебряном окладе, а потом тихо ответила:
– Иконы тут не при чем. Император приходил, чтобы узнать, почему на смотринах я отказала ему. А императрица – чтобы спросить, зачем приходил он, потому что она ревнует.
– Так ты ему… нарочно тогда возразила? Но зачем?!
– Я хотела стать монахиней. Я думала, он меня быстро забудет. Но он не забыл.
Анна, пораженная, не сразу смогла заговорить.
– А Евфимия? – наконец, спросила она.
– Она бывшая кувикулария августы. Императрица посоветовала ей пойти в наш монастырь. Больше ничего не могу сказать, это тайна исповеди. Но это тоже связано с той историей.
Кассия говорила очень спокойно; в часовенке теперь было почти темно – горела только лампада перед образом Спасителя, – и Анна, глядя сбоку на двоюродную сестру, не могла толком понять, что та сейчас ощущает и о чем может думать. Между тем мысль об императоре не давала ей покоя: она вспоминала, как он вел себя, когда пришел в обитель, как разговаривал с ней и с сестрами – и всё представлялось в новом свете…
– Но послушай, мать! – наконец, почти вскричала она. – Ведь ты, пожалуй, государю всю жизнь испортила!
– Я знаю, – ответила игуменья чуть слышно. – Он сам сказал мне это.
Она закусила губу, помолчала и, не выдержав, закрыла лицо руками.
– Кассия! Ты что?
– Я испортила жизнь… не только ему, – проговорила Кассия и, опустившись на скамью у стены, горько заплакала.
Анна села рядом, одной рукой обняла ее, а другой принялась гладить по голове.
– Ну, матушка, милая, ну, успокойся, что же теперь делать, если так вышло…
– Я не знаю, что делать! – всхлипывая, проговорила Кассия. – Я испортила жизнь ему, себе, его жене… и даже этой девочке!.. А всё потому, что я… такая была гордая… своим призванием… думала, что… Бог меня будет хранить… на всех путях… раз я такая… избранная… «от всего отказалась» ради Него!.. Как я была самоуверенна!.. Я тогда даже понятия не имела… о том, что значит – от всего отказаться!..
Она умолкла, не в силах больше говорить. Анна помолчала, подождав, пока игуменья хоть немного успокоится, и сказала решительно:
– Послушай, мать, так дело не пойдет! Что бы там ни было, нельзя так изводиться. Этак ты себя в могилу сведешь, а ты нам еще нужна! Да и не только нам! Но ведь ты же ездила к отцу Навкратию… Что он сказал?
– А что он скажет? – Кассия чуть отодвинулась от сестры, вытерла глаза и сложила руки на коленях. – Я ездила к нему на исповедь после того, как государь побывал здесь. Тогда отец Навкратий мне помог… Потом я была у него еще два раза… Только, знаешь, больше я к нему не поеду. Исповедаться можно и у отца Феоктиста, а что до духовных советов… То, что отец Навкратий мне может сказать, я и так уже знаю… А мне нужно другое… Вот только что другое – сама не знаю!
– Я знаю, что тебе нужно! Пойти в гости!
– В гости?
– Да! Помнишь, в Патерике есть история про отшельника: когда на него уныние нападало, он выходил из кельи и гулял вокруг нее, а потом входил и устраивал себе в утешение трапезу, как будто у него гости. Ну вот, он вокруг кельи гулял, а потом ел с воображаемыми гостями, а мы с тобой завтра пойдем гулять в Город и зайдем в гости сами!
Анна говорила таким решительным, не допускающим возражений тоном, что игуменья улыбнулась.
– И к кому же? – спросила она.
– К господину Льву! Беседа с философом – вот что тебе сейчас нужно!
Назавтра сразу после полудня – была суббота, и в этот день лекции у Льва оканчивались рано – игуменья в сопровождении сестры отправилась к Математику. Философ был и обрадован, и удивлен: Кассия с тех пор, как постриглась, встречалась с ним очень редко, а теперь вдруг пришла, причем без приглашения и без предупреждения.
– Господин Лев, я прошу прощения! – сказала Анна. – Это я привела сюда матушку, мне просто думается, что ей сейчас было бы очень полезно побеседовать с тобой. Я вас покину… Нет, матушка, и не думай возражать! – решительно воскликнула она, заметив, что Кассия хочет что-то сказать. – Сегодня ты – моя послушница! Я зайду вечером. Сейчас, правда, рано темнеет… Но ничего, надеюсь, мы всё же доберемся назад без приключений!
– Я попрошу слуг проводить вас, – сказал Лев.
Когда Анна ушла, Философ провел игуменью в гостиную, приказав слугам принести вина, оливок и рыбы, а также углей в жаровню, предложил Кассии сесть в кресло, а сам уселся в другое напротив и окинул свою гостью внимательным взглядом.
– Что-то случилось?
– Троянцы преодолели стену, дошли до самых кораблей ахейцев и бросили на них пламень.
– Но всё же врагов удалось отразить?
– Едва-едва, и последствия сокрушительны. «Ужасное, коему, мнил, никогда не свершиться»…
Слуга принес в ведре углей, вывалил их в жаровню, вынул из-за пояса мокрую тряпку, вытер пепел на полу и с поклоном вышел.
– Чем я могу помочь тебе? – спросил Математик. – «Молви, чего ты желаешь? Исполнить же сердце велит мне, Если исполнить могу я, и если оно исполнимо».
– Не знаю. Поговори со мной… Или хоть выпей со мной, – игуменья слабо улыбнулась. – Сказать честно, я бы хотела напиться.
– Это не выход.
– А где он, выход, где?! – вскричала она. – Прости!.. Помнишь, я сказала тебе: «Если бы на твоем месте был он, меня бы ничто не остановило»? – Лев кивнул. – Это правда, но в то время я еще не осознавала, насколько это правда. Это было так тогда, и оказалось, что это так… и спустя двенадцать лет! И если б он сам не остановился, я бы уже не была игуменьей, Лев. Но это еще не вся правда. Правда еще и в том, что если даже ты сделала… не всё плохое, что могла бы… не стоит обольщаться, что тебе «все-таки удалось удержаться»! То, что должно было случиться с тобой, случается с другой – из-за тебя! Потому что… не уступи ты «немножко»… – она закусила губу и помолчала. – Да, «немножко»… Ведь это же нелогично – обниматься, целоваться, а потом… не сделать всего остального! Если в конце пути пропасть и ты это знаешь, то не надо и начинать этот путь, не так ли?.. А потом… в эту пропасть… падает другая – вместо тебя!.. И тот, с кем ты туда не упала, тоже падает… А ты… остаешься стоять на краю пропасти… вся такая добродетельная… потому что «все-таки не пала»!..
Кассия прижала руку ко рту, по щекам ее текли слезы. Дверь в гостиную оставалась приоткрытой, и Математик, услышав шаги, встал, быстро подошел к двери, принял у слуги из рук поднос с вином и закусками и приказал удалиться и больше не беспокоить их.
– Закрой дверь, Лев, – тихо сказала игуменья. – Это против монашеских правил, но… мне теперь не к лицу говорить о правилах!
Философ расставил содержимое подноса на столике, но только протянул руку к кувшину с вином, как раздался стук в дверь.
Лев открыл; слуга, извинившись, что-то тихо сказал, и Математик, проговорив: «Погоди», – прикрыл дверь и повернулся к Кассии:
– Мать, как ты относишься к тому, чтобы оказаться под одной крышей с ересиархом?
– Что ты имеешь в виду? – удивленно взглянула она.
– Сегодня какой-то день неожиданностей! Сначала ты пришла без приглашения, а теперь вот господин синкелл.
– Иоанн?! – Кассия смотрела на Льва, точно не веря услышанному, и вдруг на губах ее появилась странная улыбка. – Вот это кстати!
Теперь настал черед Льва бросить на свою гостью удивленный взгляд.
– Так я приглашу его сюда?
Кассия кивнула, и Лев вышел из комнаты. Игуменья достала из рукава маленький льняной платочек и вытерла лицо.
– Вот кто, наконец, всё объяснит мне! – прошептала она.
– «Боги! великое чудо моими очами я вижу!» – воскликнул Грамматик, входя в гостиную. – Я когда-то поторопился сказать тебе «прощай», госпожа Кассия. Каюсь, я был недальновиден! – он улыбнулся. – Верно, не зря меня так потянуло сегодня к нашему досточтимому Философу: как чувствовал, что меня ожидает здесь необыкновенная встреча!
– Да, господин Иоанн, – сказала Кассия, – ты зашел очень кстати. Одна монахиня сказала мне вчера, что я нуждаюсь в беседе с философом. Она была права, только не о том философе думала, – она посмотрела на Льва, вошедшего в гостиную вслед за синкеллом и с любопытством и некоторым удивлением слушавшего их разговор. – Прости, Лев! Ты только что спрашивал меня, чего я желаю, и я сказала «не знаю», но теперь знаю: позволь мне побеседовать с господином Иоанном наедине.
– Бога ради! – улыбнулся Математик. – В таком случае, я вас покидаю. Если вдруг понадоблюсь, найдете меня в библиотеке. Вино тут есть, закуски тоже… надеюсь, вам хватит?
– О, вполне! – окинув взглядом столик, ответил игумен.
Лев вышел и закрыл за собой дверь. Иоанн подошел к столику, поднял кувшин и неторопливо наполнил два хрустальных кубка. Кассия следила за его изящными движениями и ощущала, как безжалостные тиски, в которых последние дни билась, окончательно теряя силы, ее душа, начинают разжиматься. Грамматик взглянул на нее.
– Прошу прощения, я забыл спросить: быть может, мать игуменья откажется разделить трапезу с «начальником нечестия»?
Она только качнула головой. Иоанн улыбнулся, опустился в кресло напротив нее, и взял в руку кубок. Кассия протянула руку к своему и, чуть приподняв его, тихо сказала:
– За пользу неожиданных встреч!
– Хорошо, что теперь ты ее оценила, госпожа Кассия, – синкелл с тонкой улыбкой пригубил вино.
Он почти не сводил с игуменьи изучающего взгляда, но это ее не смущало – она сама не понимала, почему, – как, впрочем, не понимала и того, почему даже еще до начала разговора с ним испытала внутреннее облегчение, а теперь с каждым словом ощущала, как словно разрываются веревки, скручивавшие ее изнутри так, что было даже тяжело дышать. Когда-то она приходила в ужас, думая о том, как рассказать отцу Навкратию о своем грехе, и мучительно размышляла о том, насколько он поймет ее и сумеет ли вообще понять до конца, по дороге ко Льву с тоской думала о том, что вряд ли сможет рассказать ему обо всем, что ее мучило – не потому, что не доверяла ему, а потому, что ей не хотелось взваливать на него свои страдания и доставлять слишком сильные и, возможно, мучительные переживания, – а сейчас она сидела перед человеком, который, по-видимому, знал почти всё, и ощущала, что если б он и не знал, она могла бы ему обо всем рассказать, не испытывая особых внутренних неудобств или опасений. Это было очень странно, и, посматривая на «треклятого Ианния», она пыталась понять причину. Синкелл остро глянул на нее и сказал:
– Как говорили стоики, «дружба существует только между взыскующими, в силу их сходства». А если между взыскующими есть и сходство характеров, это еще более усиливает притяжение. В чем наше с тобой сходство, госпожа Кассия, я уже сказал тебе когда-то. Это свойство, разумеется, нужно отличать от простого упрямства, капризности и тому подобных недостойных философа вещей. Полагаю, именно его имел в виду апостол, заповедуя не рабствовать людям. Но хотя Павел заповедал это всем, сей узкий путь находят лишь немногие, как немногие становятся и философами. А наиболее редкое, и, значит, наиболее ценное, создает и наибольшее притяжение между обладающими им. Неудивительно, если оно пересиливает всё, что их может так или иначе разделять. Но за наиболее ценное приходится и платить дороже всего.
– Это так, – она чуть вздрогнула. – Но слишком часто ценное оказывается перемешано… со многими вещами сомнительной ценности.
– Может ли быть иначе в нашем падшем мире? Ведь и золото вымывают из грязи.
Кассия помолчала, пристально посмотрела на игумена и спросила:
– Ведь ты всё знаешь, господин Иоанн?
– Да.
– И про Евфимию, кувикуларию?
Грамматик взглянул удивленно и кивнул.
– Я тоже про нее знаю, потому что она поступила в мою обитель. У нее были женихи, и она могла бы выйти замуж, если б не та история! А она решила идти в монастырь, причем не потому даже, что потеряла девственность и ей было стыдно перед будущим мужем, а потому, что государь… – Кассия умолкла.
– Произвел на нее слишком сильное впечатление?
– Да, – игуменья чуть побледнела. – Ей посоветовала пойти к нам августейшая.
– Вот как? – синкелл приподнял бровь. – Августа – слишком женщина, а женщины мстительны.
– Я не могу осуждать ее за это. Она очень страдает… Она приходила в наш монастырь и говорила со мной.
– О!.. Об этом я не знал.
– Как я теперь понимаю, это случилось вскоре после истории с Евфимией. Августа хотела знать… зачем государь приходил ко мне, – Кассия умолкла и на несколько мгновений закрыла глаза.
– Ты придаешь слишком большое значение вещам, которые его не имеют, госпожа Кассия. Грешить плохо, но еще хуже после сделанного греха заниматься бессмысленным самобичеванием.
В ее глазах заблестели слезы, она отпила чуть-чуть вина и сказала:
– Может, ты и прав, господин Иоанн, только… Чем больше я думаю обо всем этом… тем больше мне кажется, что во всем виновата я одна! Когда-то ты сказал, что я искушаю судьбу… и потом я думала, что судьба меня наказала, и поделом… Но я думала, что наказана только я! А в последний год выяснилось, что далеко не только! Вчера одна из моих сестер сказала… Она немного знает эту историю и сказала, что я испортила жизнь государю… Но я испортила жизнь не только ему, но и августе… И вот теперь оказалось – даже этой бедной девушке, ведь то, что с ней случилось, произошло из-за меня! Пасть должна была я, а пала она! Как теперь с этим жить? Это невыносимо!
Она судорожно глотнула еще вина. Иоанн задумчиво покачивал в руке кубок, наблюдая, как переливается в нем красная жидкость, наконец, тоже отпил и взглянул на Кассию.
– Что касается государя, то эта монахиня ошибается.
– Но он сам сказал мне это, только другими словами!
– Он тоже ошибался, – улыбнулся Грамматик. – Точнее, в тот момент он не мог видеть ясно, что судьба даровала ему такое счастье, за которое не жаль заплатить всем, чем пришлось платить. Но сейчас он это понимает. Главное во всем случившемся – не этот шум, поднятый крикливой плотью, а то, что вы оба осознали, насколько ваше внутреннее сродство велико. Оно настолько велико, что позволяет «вынашивать разум и добродетели», по Платону, и «рождать детей духовно», по великому Василию, невзирая на отсутствие близкого общения. Кстати, ты ведь можешь воспроизвести по памяти свою стихиру про жену-грешницу и музыку к ней?
– Да, – щеки игуменьи порозовели.
– Я не сомневался в этом. Надеюсь, ты не откажешься по окончании нашей беседы записать ее – не буду говорить: для меня?
Кассия чуть помолчала и качнула головой:
– Не откажусь. Не отказалась бы и для тебя, – она улыбнулась.
– Благодарю! Что касается августы… Возможно, в этой истории ее надо пожалеть более всего, но… Однажды я сказал ей, что самые ценные жизненные дары получает лишь тот, кто к ним по-настоящему стремится изначально. Она же поначалу стремилась к иным вещам, нежели те, лишение которых она позже так остро ощутила. С этой точки зрения случившееся, пожалуй, стало для нее хорошим уроком, хотя, безусловно, жестоким. Впрочем, если она сумеет сделать из него верные выводы, то они того стоят, я думаю. А что до госпожи Евфимии, то о ней подобает, скорее, радоваться, а не скорбеть. Ты говоришь, что испортила ей жизнь, но подумай, какая жизнь ее ждала: какой-нибудь более или менее унылый или самодовольный муж, хозяйство, дети, суета, тщета, прялка и Псалтирь, быть может, ранняя смерть… А что она получила на самом деле? Жизнь философскую во всех смыслах: монашество, служение Богу, занятия науками, прекрасные книги, прекрасные сестры, прекрасная игуменья, – Иоанн снова улыбнулся, – послушания, достойные человека разумного. Зная вашу монастырскую жизнь, госпоже Евфимии можно только завидовать! Да, она впала в грех, но в итоге пришла к жизни, гораздо лучшей во всех смыслах, нежели та, что она могла бы прожить, не случись этого падения.
– Но так ведь можно оправдать любой грех! – Кассия передернула плечами. – «Сотворим злое, да придет благое»? Получается, путь к лучшей жизни, к благочестию, к спасению может лежать через грех… Но это… софистика!
– Да, меня считают «великим софистом», – чуть заметная улыбка пробежала по губам синкелла, – но всё же в данном случае говорить о софистике было бы неверно. Грешить, думая, что потом все грехи обернутся чем-то благим, – не то же, что пытаться извлечь уроки из совершенных грехов, вместо того чтобы бессмысленно рвать на себе волосы и заниматься бесполезным самоедством. Скажу больше: последнее – неложный признак того, что человек вообще не понимает, зачем нужно благочестие и почему не следует грешить. Благочестие, как и всё прочее в жизни, имеет смысл, когда ты знаешь, зачем его хранишь, иначе оно может превратиться в безделицу, которую держат в доме лишь для украшения или вообще не зная, для чего. Не говоря о том, что не всё, имеющее вид благочестия, на самом деле им является.
– Да, это правда!.. Иногда мне кажется, что я только теперь стала по-настоящему понимать, насколько я далека от какого бы то ни было благочестия!
– Человек согрешивший и увидевший, что его благочестие не было благочестием, лучше человека не согрешившего, но уверенного, что он благочестив. Между тем, большинство людей, не впадающих в заметные грехи, до смерти могут прожить, полагая, что, даже если они и не праведники, то всё-таки не очень плохи, «не как вот этот мытарь».
– Да, но… были же люди, которые познали себя и смирились пред Богом без впадения в эти «сатанинские глубины»!
– Они сталкивались с сатаной не через страсти, а напрямую. Как, скажем, Антоний Великий. Это не всем под силу перенести. Быть может, в нашем поколении – почти никому. Ведь египетские старцы говорили, что те, кто придут после них, сделают уже вполовину меньше, а то и вовсе ничего, и спасутся лишь терпением скорбей. А скорби от нападения страстей не менее жестоки, чем от внешних бедствий и от людей.
– Отец Феодор, Студийский игумен… однажды сказал мне, что труднее всего, гораздо труднее, чем плотскую страсть, преодолеть душевное пристрастие… желание душевной близости с другим человеком, сродных тебе взглядов, устремлений, вкусов – с тем, кто может тебя понять… Я плохая монахиня даже не потому, что уступаю страстям, а потому, что не выношу одиночества, – она грустно улыбнулась. – Ты говоришь: мы с государем ощутили наше внутреннее сродство, можем «рождать в прекрасном», и в этом счастье. Да, это так. Но это значит, что та «половина», с которой я связана, – всё же человек, не Бог! А ведь монах это тот, кто живет сам с собой и с Богом. Любящий Бога предстоит пред Ним и не думает ни о ком другом… Мне кажется, что я никогда не дойду до такого состояния и даже не приближусь к нему!
– Неужели почтеннейшая мать никогда не читала, что писали о дружбе святые, и притом величайшие из святых? По-твоему, они все не достигли монашеского совершенства?
– В их дружбе не было греховного пристрастия… Или, по крайней мере, они боролись с ним.
– Нам ничто не мешает делать то же самое. Но отделение зерен от плевел – дело небыстрое, требует осторожности и чаще всего продолжается до самой смерти. Думаю, здесь можно вспомнить одно выражение Тривеличайшего Гермеса: «Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с большим искусством». Искусство возникает лишь с опытностью, а к опытности никто не приходит по гладкой дороге. Понятно, что тебе под предлогом борьбы с грехом хочется отмести всё и, так сказать, вздохнуть свободно. Только это невозможно, госпожа Кассия. Уверенность в своей самодостаточности весьма опасна. Лучше не совсем чистая от пристрастия дружба, чем чистая гордость.
Кассия некоторое время молча раздумывала, а Иоанн принялся за оливки, искоса наблюдая за игуменьей.
– Ты прав, – проговорила она, наконец, – но только слишком велик соблазн решить, что раз мы такие слабые и неспособны к полному отречению, то можно позволить себе одно послабление, другое… Конечно, у святых тоже были друзья, но они при этом больше всего любили одиночество, молитву, как Григорий Богослов, например… и другие… А я… В юности мне хотелось общения со сродным мне человеком… Страсть вспыхнула во многом из-за этого. Потом… поскольку это было невозможно, я стала сама воспитывать сестер, чтобы можно было общаться с ними… И с господином Львом я всё время переписываюсь… Без этого бывает тоскливо… Значит, вместо любви к Богу – любовь к общению с людьми… неважно, много их или это один человек… Понятно, почему подвижники могли жить десятилетиями в пустынях, не видя никого, даже зверей! Если б я любила Бога, разве было бы мне тоскливо с Ним, даже когда вокруг никого?.. И я мнила, что из любви к Богу готова отказаться от всего!.. А теперь… государь был недалек от истины, когда сказал, что я до сих пор… люблю его больше, чем Бога!
– Гораздо хуже было бы, если б ты по-прежнему была уверена, что ради Бога готова на всё, можешь сносить одиночество, и тебе никто не нужен. Любовь к царю искушается не в славословиях в его честь, а в сражениях за его царство, и ни один царь никогда не порицал воина, в борьбе за его державу получившего раны. Казнят только бежавших с поля боя. И даже попавших в плен воинов цари стараются выкупить.
– Мне не дает покоя мысль, что я сдалась в плен не потому, что была не в силах бороться, а потому, что не захотела бороться! Ведь если это искушение было попущено, значит, я имела силы его вынести… Значит, я не должна была позволить…
– Я бы сказал так: вы оба не должны были себе этого позволить, но этого не могло не произойти.
Она взглянула на синкелла.
– Тогда, у статуи государя… ты знал, что это случится?
– Я предполагал это с очень большой долей вероятности. Я был уверен, что государь когда-нибудь станет искать встречи.
– А перед выбором невесты… ты тоже знал?
– Что он выберет тебя? Нет. Когда я сказал тебе о возможном искушении, я не предполагал, что оно будет именно таким. Просто был уверен, что какое-то будет.
– Мне иногда кажется, что плата… слишком высока! Неужели всё это… все эти страдания, падения… только для того, чтобы познать свою греховность и смириться?
– Разумеется, нет. Скажи, госпожа Кассия, как ты думаешь: не будь того, что случилось на смотринах, появился бы твой монастырь в таком виде, в каком он есть, чтобы не спросить: появился бы он вообще?
– Пожалуй, нет, – ответила она после небольшого молчания.
– А твои занятия, сочинения, образ жизни, вкусы и прочее были бы такими, как теперь?
– Тоже нет.
– Неужели ты считаешь, что плата за право вести такую жизнь, какую хочешь, и какая единственно только и соответствует твоему внутреннему устроению, может быть слишком высокой?
– Нет, – она улыбнулась. – Ты прав. Но… Феофил! – вырвалось у нее.
– О государе точно так же не нужно жалеть, как и о тебе, госпожа Кассия. Он тоже стал таким, каков он есть, благодаря всей этой истории. Он многое понял за последний год – в том числе и то, что отсутствия телесной близости и общения не так уж мешает счастью, как это может показаться, а счастью определенного рода, напротив, весьма помогает. Вы с ним и дальше будете «вынашивать разум и добродетели» и рождать «прекрасных и бессмертных детей». Чего еще желать?
Она подняла глаза.
– Встречи на небесах.
Игумен улыбнулся.
– Согласен.
– Самое время поговорить об иконах, не правда ли? – по губам Кассии тоже промелькнула улыбка. – Но мне не хочется.
– Мне тоже.
– А ведь, пожалуй, все мои единоверцы осудили бы меня, если б сейчас нас слышали.
– Тебя это беспокоит?
– Нет. Правда, иногда я думаю… Мы с тобой встречаемся уже третий раз, господин Иоанн, и ведем беседы, исполненные любезности… Но, попади я восемнадцать лет назад в подвал твоего монастыря, ты с не меньшей, чем эта любезность, жестокостью морил бы меня голодом, не правда ли?
– Морить голодом женщин – занятие неблагородное, а кроме того, малоинтересное. Любые опыты подобного рода имеют смысл ради какой-то иной цели, нежели упражнение в жестокости или самоутверждение. Хотя, разумеется, я не отрицаю: определенная жестокость мне присуща.
– Когда-то я считала тебя… кем-то вроде антихриста, – Кассия усмехнулась. – Но знаешь, мне всё-таки странно… Государь – твой ученик и воспитанник, и твоя забота о нем понятна. Но почему ты принимаешь такое участие во мне? Неужели только потому, что тебе по нраву… то, что я не люблю покоряться?
– Я чувствую себя ответственным за последствия поставленного опыта.
– Опыта?
– После беседы с тобой я мог бы сказать августейшей, что ты не желаешь избрания, и она бы удалила тебя со смотрин. Но мне захотелось совершить опыт – посмотреть, улучишь ли ты свой «лучший жребий». Я не знал, что в растворе уже была примесь и опыту будет не хватать чистоты, ведь мне не было известно о вашей первой встрече в Книжном портике. Я узнал о ней только несколько месяцев назад от государя.
Глаза Кассии распахивались всё шире.
– И если бы ты сказал августе… – проговорила она и умолкла.
– Вы с государем никогда бы не встретились, и ничего бы не было. Всё, что я теперь хотел бы узнать от тебя, госпожа Кассия, это то, будешь ты меня благодарить или проклинать.
Она долго молчала и, наконец, подняв на него глаза, вздохнула и улыбнулась.
– Благодарю, отче!
…Когда Анна пришла вечером забирать игуменью, синкелл уже покинул гостеприимный особняк у храма Сорока мучеников. Взглянув на Кассию, ее сестра даже всплеснула руками и воскликнула:
– Ты ожила! Прямо преобразилась! – она с улыбкой посмотрела на Математика. – Как тебе это удалось, господин Лев?
– О, моей заслуги тут нет, – улыбнулся Философ. – Просто к нам заходил в гости один колдун.
17. Попытка мести
(Николай Гумилев)
- Страстная, как юная тигрица,
- Нежная, как лебедь сонных вод,
- В темной спальне ждет императрица,
- Ждет дрожа того, кто не придет.
После рождения Анны императрица тщетно ожидала возобновления супружеской жизни: Феофил был весел, предупредителен, любезен, но и только. Вскоре наступил пост, однако, когда он окончился и прошли Рождественские праздники, всё оставалось по-прежнему: император обращался с женой просто как с хорошим другом и, казалось, нисколько не страдал без плотских утех; было трудно поверить, что это тот «голодный зверь», с которым Феодора предавалась ночным наслаждениям год назад. Пожалуй, она могла бы восхититься аскетичностью мужа, если б его способность «быть монахом» с каждым днем не выводила ее из себя всё больше… Прошел целый год! Она ужасно изголодалась по мужу и его ласкам, но даже когда он изредка обнимал или целовал ее, у нее возникало ощущение, что он точно так же мог бы поцеловать сестру, дочь… или вообще какую-нибудь статую! Наконец, императрица не выдержала и пришла вечером в покои василевса.
Феофил сидел перед камином с книгой на коленях, протянув ноги к огню, и читал при свете медного пятилампадного светильника на высокой ножке, стоявшего рядом с креслом. Со спины императора грела жаровня – январь в этом году выдался холодным. Услышав звук отворяющейся двери, Феофил повернул голову, увидел жену и, приподняв одну бровь, совсем как синкелл, спросил:
– Ты пришла пожелать мне спокойной ночи, дорогая?
– Не прикидывайся! – закрыв дверь, императрица сняла мафорий и бросила на маленький столик в углу. – Ты прекрасно знаешь, зачем я пришла.
– Как ты неизящно выражаешься, Феодора. Женщине, которая хочет чего-то добиться от мужчины, следовало бы действовать более искусно.
– Можно подумать, когда ты хотел от меня того же, ты действовал искусно!
– Разумеется. Искусно и изящно, – он отложил книгу, поднялся с кресла и окинул жену взглядом. – Разве я когда-нибудь грубо хватал тебя и тащил в постель? Но на самом деле, даже действуя грубо, я всё равно добился бы своего, ведь ты тогда хотела того же, что и я, не так ли?
– Ты хочешь сказать, что теперь… не хочешь?
– Сказать, что я не хочу такую прекрасную женщину, как ты, значило бы нанести тебе оскорбление, а мне вовсе не желалось бы тебя оскорблять. Я и так обижал тебя слишком часто, – он умолк и устремил взор на огонь в камине.
– И тем не менее, ты опять собираешься обидеть меня, – проговорила августа.
Феофил снова повернулся к ней.
– Нет, просто… Видишь ли, я хочу положить хоть какой-то предел собственному сладострастию. Ведь оно меня даже до прелюбодеяния довело, как тебе известно. А прелюбодея полагается на много лет отлучать от причастия, ты знаешь об этом? Меня не отлучили, но епитимию я всё же должен понести. И поскольку я падок до известного рода наслаждений, то логично именно в них себя ограничить – по крайней мере, на время.
Она несколько мгновений смотрела на него, пытаясь понять, действительно ли он говорит серьезно, или опять насмешничает, и выпалила:
– Ты просто изобрел очередной способ помучить меня!
Феофил почувствовал раздражение, но постарался унять его и сказал спокойно и тихо:
– Ты ошибаешься.
– О, я всегда ошибаюсь! – Феодора усмехнулась. – А ты всегда прав! Это я уже усвоила за прошедшие годы! Только знаешь, что? Прежде чем такие епитимии назначать, неплохо было бы согласовать их со мной, ведь это и меня касается! И потом… мы и так с тобой были врозь почти год… Чем не епитимия?
– Это не епитимия, а всего лишь естественный закон. Даже бессловесные животные не совокупляются с беременными. А потом заповедь о посте… Епитимия начинается там, где ты можешь делать что-то, но не делаешь.
– Значит, сначала ты мне изменяешь, и я должна страдать, а потом ты каешься, а я всё равно должна страдать?!
Он какое-то время молча глядел на нее.
– Тебе никогда не приходило в голову, что ты слишком ненасытна? А если б я вдруг умер, что бы ты делала? Сразу вышла бы за другого?
У нее задрожали губы.
– Почему тебе доставляет удовольствие меня мучить?
– Мне это не доставляет удовольствия, и я тебя не мучаю. Я просто пытаюсь тебе кое-что объяснить. Но ты, я вижу, не способна понять. А может быть, я плохо объясняю… Хорошо, в таком случае оставим это, и я скажу тебе просто: потерпи… хотя бы до Пасхи. Я думал о более долгом сроке, но я тебя пожалею. Всего три месяца, совсем недолго.
– Не хочу. Я хочу сейчас.
– А я не хочу.
– Неужели?
Развязав пояс, Феодора скинула с себя верхнюю тунику, осталась в одной нижней, прозрачной, подошла к мужу и посмотрела ему в глаза.
Он отвел взгляд, отошел от камина, прислонился спиной к стене, скрестив на груди руки, и сказал, не глядя на жену:
– Знаешь, я не Иосиф, а ты не жена Пентефрея. Одевайся и уходи.
– Нет, не уйду! В конце концов, ты не имеешь права лишать меня «супружеского утешения», я читала об этом у Златоуста!
– Похвально, что ты читаешь Златоуста. Но, помимо него, о супружеской жизни писали и многие другие отцы. Я мог бы привести гораздо больше святоотеческих высказываний такого рода, что… ты, пожалуй, обвинила бы меня в гнушении браком. Но я не буду тебе ничего доказывать. Одевайся и уходи. Или ты ждешь, чтоб я вынес тебя отсюда на руках?
– Какой же ты змей! – воскликнула она, подскочила к нему и со всего размаха влепила ему пощечину.
От неожиданности Феофил отшатнулся и ударился затылком об стену. В его взгляде сверкнула ярость.
– Убирайся! – тихо сказал он. – Уходи, пока я не решил вообще никогда не звать тебя сюда!
Она несколько мгновений смотрела ему в глаза, губы ее закривились, она отвернулась, быстро подобрала с пола тунику, надела ее, торопливо накинула мафорий и вышла из комнаты, не сказав больше ни слова.
Прошло две недели. Императрица давно не испытывала такого острого вожделения, как теперь. Иногда оно уступала место припадкам гнева, но только для того, чтобы вернуться с удвоенной силой. Феодора пробовала прилежнее молиться, класть поклоны, но ничего не помогало, и она бросила эти «подвиги». Наконец, оскорбленное самолюбие не выдержало напора страсти, и в понедельник около полуночи августа, закутанная в плащ, вошла в покои мужа. Но перед дверями в спальню дорогу ей преградил паракимомен Схоластикий – высокий евнух, с мечом у пояса с одного бока и секирой с другого.
– Государыня, – сказал Схоластикий, глядя на нее сверху вниз острыми темными глазами, – нижайше прошу прощения, но августейший государь не велел сегодня к себе никого пускать.
Вздернув подбородок, она надменно взглянула на евнуха.
– Никого – это не значит меня!
– Никого – это значит никого. Исключения государем не оговаривались, поэтому я не могу пустить тебя, августейшая.
– Ты смеешь не пускать меня к государю?!
– Я исполняю его приказ.
– А если я попробую всё же войти?
– Я вынужден буду задержать тебя, трижды августейшая.
– Ты посмеешь прикоснуться ко мне?!
– Я должен выполнять приказ государя. Но я всячески надеюсь, что государыня не будет доводить дело до столь неприятного оборота.
Феодора закусила губу. Какое унижение! Боже, до чего дошла ее семейная жизнь!..
– Государь еще пожалеет об этом! – сквозь зубы сказала она.
Выйдя из покоев императора, августа не пошла к себе. Она спустилась в сад, быстро прошла по центральной дорожке, еще несколько переходов, поворот, широкие ступеньки вниз – и вот, она у воды. Уже взошла луна, и было светло, тихо и торжественно. Темная глубина огромного пруда таинственно мерцала. В небе и в воде сияли звезды. И, стоя у начала лунной дорожки, императрица ощутила глубину пропасти между спокойным величием ночи и бурей темного огня в собственной душе – окружающая красота еще больше подавила ее. Она наклонилась, зачерпнула воды и плеснула себе в лицо, потом уселась на мраморные ступени и беззвучно заплакала. Слезы текли по ее щекам, смешиваясь с каплями воды. Хотя мороза не было, ночь была холодной, и императрица начала дрожать – одежда на ней не подходила для зимних прогулок на воздухе.
– Хоть бы умереть! – прошептала Феодора. – Как жить дальше с таким позором? За что?!..
Ей вспомнилось, как здесь же, неподалеку, она впервые повстречалась с нынешним комитом первой схолы. Как этот юноша тогда смотрел на нее! Он и сейчас иногда…
Да, хотя Евдоким прилагал все усилия, чтобы если не быть, так, по крайней мере, казаться бесстрастным, это не всегда ему удавалось. Петрона, который, несмотря на свой постоянный равнодушно-скучающий вид, подмечал многое, как-то раз, когда зашла речь о том, что первая схола с назначением Евдокима на должность комита стала просто образцом для всех остальных, пошутил, что «господин Евдоким охраняет государя не как государя, а как собственность прекрасной августы». Этот разговор случился вскоре после посещения императором Кассииного монастыря, и с тех пор Феодора стала исподтишка наблюдать за Евдокимом и быстро поняла, что юноша действительно снедаем тайной страстью. Расспросив, словно ненароком, его служивших при дворе родственников, она узнала, что Евдоким не только не женат, но вообще ведет крайне аскетический образ жизни: из женщин разговаривает только с собственной матерью, почти постоянно постится и даже, кажется, носит под одеждой власяницу. Императрица догадывалась о настоящей причине такого аскетизма…
И где вот он теперь?! Окажись он сейчас здесь… О, он не остался бы недоволен! Мщения! Завести любовника! И чтобы Феофил узнал об этом!.. Вот бы он взбесился!..
Ей даже в голову не пришло, что если бы муж узнал и «взбесился», то любовнику, пожалуй, не поздоровилось бы. Феодорой владело только одно желание – отомстить за унижение. Она вскочила на ноги, быстро поднялась по лестнице и остановилась. Опять идти к себе в спальню, одной… А этот евнух, наверное, так потешался, злорадствовал!..
– До чего я дошла! – прошептала она. – Но что же? Разве я виновата во всем этом?! Я больше не могу так! Не могу! Как мог он, как смел так поступить со мной?!
Не вынеся душевной боли, она опустилась на холодные мраморные плиты и свернулась калачиком. «Замерзнуть и умереть! Перестать мучиться… Ведь это было бы так хорошо!.. Умереть!..» Ей становилось всё холоднее, и казалось, она скоро примерзнет к мрамору, сольется с ним и сама превратится в холодный камень…
– Государыня?!
Она открыла глаза. Перед ней на коленях стоял Евдоким и с вопросительным ужасом глядел на нее, в лунном свете его лицо казалось мертвенно-бледным. Императрица не удивилась, даже не шевельнулась. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза.
– Государыня, что с тобой?
– Я хочу умереть.
– Августейшая… встань, Христа ради! Надо идти домой.
– Нет. Я хочу умереть. Не мешай мне, Евдоким.
Она опустила ресницы и через несколько мгновений ощутила, как сильные нежные руки поднимают ее и куда-то несут. И ей вдруг стало очень спокойно: она не чувствовала больше ни обиды, ни гнева, ни боли, пропало и желание умереть – хотелось только, чтобы ее вот так несли, а она бы ощущала своей грудью, как стучит сердце в груди рядом, и как два сердечных ритма постепенно сливаются в один…
Кувикуларии императрицы думали, что она у мужа, и были глубоко поражены, когда комит схол внес ее в покои замерзшую и лишившуюся чувств. Поднялся переполох, августу стали отогревать, растирать, препозит тут же приказал натопить ближайшую из дворцовых бань…
Комит схол доложил о происшедшем императору после утреннего приема чинов, рассказав о том, где нашел августу, и передав ее слова, что она хотела умереть. Упомянул он и о том, что собственноручно принес ее во дворец.
– Прости мою дерзость, трижды августейший! – тихо сказал Евдоким, глядя в пол. – Но я побоялся, что, если пойду за кувикулариями, государыня совсем замерзнет, а встать и идти она не хотела.
– Ты поступил правильно, – сказал Феофил и чуть нахмурился.
Он уже знал от Схоластикия, что императрица приходила ночью. «Опять я перегнул палку! – подумал он. – Вот и захочешь епитимию нести, а не выходит! Или, может, – он усмехнулся, – самая тяжелая епитимия состоит как раз в том, чтобы жить с женой? Но ведь в этом есть своя приятность… Вот дьявол! Если б еще всегда можно было знать, в чем состоит добродетель в том или ином случае!.. Хотела умереть! И ведь могла замерзнуть, если б не Евдоким… О, Господи!..»
После литургии он зашел проведать жену. Феодора уже успела напариться в бане, выспалась и лежала в постели свежая и румяная, лениво следя за возней маленькой Анны, которая ползала тут же по пурпурным простыням. Когда муж вошел, императрица поглядела на него чуть насмешливо и спросила:
– Ты пришел пожелать мне доброго утра, дорогой?
Он сел на край ложа и пристально посмотрел на нее.
– Феодора, зачем ты это сделала?
– Так, захотелось освежиться. Во дворце такой спертый воздух, знаешь! Просто дышать нечем!
– Послушай, я серьезно.
– И я серьезно. Что ты тут видишь несерьезного?
– Так ведь можно заболеть и умереть.
– Да, и что? Неужто ты обо мне пожалеешь? Ведь тогда у тебя будут все возможности нести епитимию! До конца жизни! – она рассмеялась. – Или ты будешь слезы лить… о потере удобной подстилки? Ты же ведь согласен с Палладом:
В глазах Феофила отразилось замешательство, а Феодора, заметив это, продолжала еще язвительнее:
– Что, не ожидал? Думал, ты один такие стихи любишь почитывать, а я – так, только если про любовь? Глупая, горькая женщина… Твоя любимая эпиграмма ведь, правда? Двумя линиями отчеркнул!.. Но брачного ложа ты больше не хочешь, так чего ж еще тебе хотеть от меня? Значит, только узреть меня на смертном одре! Не так ли? Ах, да, я забыла: тебе ведь наследник нужен! Я еще не выполнила свое предназначение! Как выполню, может, собственноручно в Босфор кинешь!
– Прекрати! – он встал, очень бледный.
– Ну, вот какой недотрога! Когда ты произносил речи о добродетели, о христианской любви, о воздержании, я тебя слушала. А как сама сказала два слова, так сразу «прекрати»… Хорошо, будь по-твоему. Жена ведь должна повиноваться мужу!
Феодора замолкла, притянула к себе дочь и повернулась на другой бок, обратив к Феофилу спину. Он несколько мгновений смотрел на жену, а потом молча направился к двери.
– Кстати, я и не знала, что так приятно, когда носят на руках! – сказала императрица ему вдогонку, а когда он остановился и обернулся, продолжала с улыбкой: – Ты ведь меня никогда на руках не носил, Феофил! Только вот недавно пригрозил, что вынесешь из спальни…
– Ты как-то сказала мне, что я жесток, – тихо проговорил император. – Это правда, к сожалению. Но ты сама жестока не меньше, – он повернулся и вышел из комнаты.
Императрица медленно и со вкусом потянулась, села на постели и позвонила в серебряный колокольчик, стоявший на столике у изголовья. Кувикуларии принесли ей умыться, а через час она стояла у большого зеркала, одетая в голубую шелковую тунику с широкими рукавами, расшитую золотом, и прозрачный мафорий; волосы были уложены вокруг головы наподобие диадемы, по бокам спускались локоны, тело императрицы благоухало ее любимым розовым маслом. По ее цветущему виду нельзя было и заподозрить, какие мрачные мысли посещали ее минувшей ночью. Критически осмотрев себя в зеркале, Феодора осталась довольна. Она слегка поправила широкий золотой пояс, так хорошо подчеркивавший фигуру, и улыбнулась, как могла бы улыбнуться кошка, готовая сцапать неосторожную мышь.
Вызвав препозита, она приказала ему пригласить к ней комита первой схолы – если он не будет занят, то к двум часам пополудни. Когда препозит ушел, императрица, взглянув на Распятие, подумала с мрачной дерзостью: «Говорят, господин знает, сколько тяжести наложить на мула, чтобы он не упал, а значит, Ты тем более знаешь, сколько посылать нам скорбей, чтобы мы не сломались. Но видно, Ты не знаешь. Я боролась и терпела, как могла, а теперь больше не могу. И не хочу». Она смутно ощущала, что главное заключалось в последних двух словах, но это только приводило ее в большее ожесточение. В конце концов, не уступил ли Феофил своему желанию, хотя бы однажды? Почему бы и ей не сделать того же?
Она сидела одна с вышивкой в своей малой приемной, когда сообщили о приходе Евдокима. Императрица отложила работу и встала. Комит схол войдя, сделал уставной поклон, поднялся и сказал, опустив глаза долу:
– На многая времена да продлит Господь ваше царство, трижды августейшая!
– Здравствуй, господин Евдоким! Садись, – императрица указала ему стул у стены слегка наискосок от себя и сама тоже села.
Евдоким сел на краешек стула и замер, всё так же опустив глаза.
– Как ты умудрился ночью найти меня? Разве ты следил за мной?
– Нет, государыня, – молодой человек покраснел. – Просто я видел, как ты вышла в сад… А потом тебя долго не было, и я забеспокоился…
«Краснеет он всё так же, как девочка», – подумала императрица.
– А почему ты решил искать меня именно у того пруда?
Евдоким покраснел еще больше.
– Не знаю… Просто я подумал, что государыня часто гуляет там, и…
Он умолк.
– А ты следишь, где я гуляю? – улыбнулась императрица.
Евдоким совсем смешался, хотел было ответить, но не нашелся, на мгновение поднял глаза на Феодору, внезапно побледнел и опять опустил взор в пол.
– Да ты не бойся, я не буду тебя ругать! Стража ведь должна знать, где находятся те, кого она поставлена охранять.
Феодора облокотилось одной рукой на ручку кресла, так что широкий рукав туники соскользнул вниз, обнажив до локтя ее руку.
– Ведь ты не женат, Евдоким?
– Н-нет, – ответил он, вздрогнув.
– Почему? Ведь тебе уже… лет двадцать пять, я думаю?
– Двадцать шесть, – Евдоким снова стал краснеть. – Я… не хочу жениться, государыня.
– То есть ты предпочитаешь девство? Ведь оно выше брака, не так ли?
– Да, государыня, – комит схол стал красным, почти как ковер на полу.
– Евдоким, а ты умеешь лгать?
Он вздрогнул и поднял на нее глаза.
– Умею, августейшая. К сожалению.
– Грешен, значит? – усмехнулась она.
– Грешен, государыня, – он опять опустил глаза, но как будто с трудом.
«Ага», – подумала Феодора и вытянула вперед ногу в пурпурном башмачке, Евдоким даже с опущенными глазами не мог этого не заметить.
– И много приходилось тебе лгать?
– Немного… Но приходилось.
– Печально! – воскликнула Феодора веселым голосом. – А я-то думала, ты не умеешь лгать!
Она встала, поднялся и комит.
– Да что ты так смущаешься, Евдоким? – рассмеялась императрица. – Я не духовник, епитимию не наложу! Скажи-ка… а мне ты мог бы солгать?
Евдоким слегка побледнел.
– Мог бы, – ответил он очень тихо.
– О! Похвальная честность! Но ведь лгать нехорошо?
– Иногда, государыня, – сказал каппадокиец всё так же тихо, – приходится допускать меньшее зло, чтобы избежать большего.
– Вот как!
Внезапно императрица подошла к нему и заглянула в глаза. Он был выше почти на голову и не мог увернуться от ее взгляда, хоть и отступил на шаг. В его взоре промелькнула мольба, смешанная со страхом, но всё это поглотило другое чувство – Евдоким был не в силах его скрыть.
– Ты меня любишь? – спросила Феодора.
Он вздрогнул всем телом и покачал головой.
– Будешь лгать? – сказала она тихо.
– Государыня, – слова застревали у него в горле, – позволь мне уйти… Я… не могу…
Он прижимал руку к груди, пытаясь и не имея сил не смотреть на августу.
– Не можешь лгать, что не любишь? – прошептала она. – Так и не лги! Не надо лгать!
Она прикоснулась к его руке. Он отдернул ее, как от ожога, спрятал за спину, шагнул назад и уперся спиной в колонну. Дальше отступать было некуда. А женщина, которая грезилась ему наяву и во сне, вынуждала его носить власяницу и неделями сидеть на хлебе и воде, чтобы угасить в груди преступный пламень, подняла руки и скинула с головы мафорий.
– Нет! – прошептал он.
– Да! – сказала она. – Ты сам признался, что иногда приходится грешить, чтобы избежать большего зла… А ведь ты знаешь, о чем я думала вчера там, у пруда!
– И теперь ты хочешь согрешить еще больше!
– Нет, Евдоким, я хочу избежать большего зла – самоубийства… или… – лицо ее внезапно потемнело, – убийства!
Он качнул головой и закрыл глаза, чтобы не смотреть на нее.
– Ты не сделаешь ни того, ни другого. И сейчас ты просто хочешь отомстить.
Императрица побледнела, поразившись проницательности «этого мальчика». «А может, так еще и лучше!» – подумала она и положила руки ему на плечи.
– Я хочу отобрать любовь у того, кто не любит, и отдать тому, кто любит.
– Ты отдашь не любовь, а тело, – сказал он, всё так же с закрытыми глазами, и стиснул зубы.
Щеки Феодоры порозовели.
– Так что же? – проговорила она. – Разве ты не хочешь?
Он задрожал. Она провела рукой по его волосам и вдруг ощутила, что тоже хочет – не просто отомстить.
– Посмотри на меня, Евдоким! – сказала она повелительно и нежно.
Он открыл глаза, не в силах более противиться этому голосу. «В конце концов я ведь не Иосиф Прекрасный!» – промелькнуло у него в голове. Он ужаснулся этой мысли, но в следующий миг уже забыл обо всем том, что только что говорил императрице, – ее взгляд растопил остатки его твердости.
– Ну! – шепнула Феодора.
Он медленно вынул из-за спины руки и обнял ее. Губы ее приоткрылись, руки обвились вокруг его шеи… И тут раздался стук в дверь.
Они отпрянули друг от друга. Досада сверкнула в глазах императрицы. «Как они смеют, ведь я велела не беспокоить!..» Накинув на голову мафорий, она подошла к двери и отворила.
– Государь срочно требует к себе господина Евдокима! – раздался голос кувикуларии, и он прозвучал для комита, как глас судной трубы.
– Иди, Евдоким! – сказала императрица как можно суше. – Остальное я обсужу с тобой после.
Он молча поклонился ей и вышел.
Когда он предстал перед императором, Феофил удивился его виду.
– Как ты себя чувствуешь, Евдоким? Ты что-то очень бледный.
– Да, государь, мне нехорошо, – тихо ответил комит. – Но ничего, это пройдет.
Император поговорил с ним о делах и сказал ласково, похлопав Евдокима по плечу:
– Ну, ступай, отдохни! Пара чаш вина, прогулка верхом – и ты опять будешь в добром здравии!
Каппадокиец поднял на императора глаза, и в его взгляде сверкнула отчаянная решимость.
– Прогулки верхом, государь, не всегда помогают от душевных недугов, – тихо сказал он.
Император чуть заметно вздрогнул и пристально взглянул на Евдокима. Что это, случайность или намек?..
– Так… – сказал Феофил. – И какой же душевный недуг поразил тебя?
– У каждого свои недуги, государь, – проговорил Евдоким. – И от некоторых из них… можно спасаться только бегством. Я… Да не прогневается на меня твое величество…
Внезапно Евдоким упал на колени и сказал, с мольбой сложив руки:
– Августейший! Прошу тебя, освободи меня от должности и назначь на службу куда-нибудь… подальше от столицы!
Он склонился перед императором ниц. Удивленный Феофил поднял его и воскликнул:
– Евдоким! Что это ты придумал? Что случилось? Все наперебой расхваливают тебя – и я первый хвалю! – за то, как великолепно организована охрана, а ты вздумал уходить! Нет, даже и не думай, я ни за что не отпущу тебя! Да еще подальше от столицы? Что за выдумки?
Евдоким со скорбью выслушал императора и снова упал на колени.
– Пощади, государь! Я всё понимаю, но… Душа дороже всего, а если я останусь здесь… я погублю свою душу! И не только свою! Отпусти меня, отошли отсюда, ради милосердия Божия!
Он опять ткнулся лбом в пол. Император вновь поднял его и, сев на резную дубовую скамью, указал ему место рядом и сказал немного резко:
– Объясни же толком, в чем дело! Я не могу отпустить тебя вот так, не узнав даже, что случилось!
Евдоким помолчал немного и сказал, глядя прямо перед собой.
– Государь, позволь мне рассказать одну историю.
– Да, я слушаю.
– Один стратиг имел у себя на службе комита шатра, которого очень любил. Комит тоже любил стратига и старался служить ему за страх и за совесть. Но у стратига была жена… Тут надо вернуться немного назад и рассказать, что происходило до того, как комит получил свою должность. Еще совсем юным он вместе с родителями посетил дом этого стратига. И пока его отец беседовал с хозяином, юноша, гуляя в саду возле дома, забрел в один укромный уголок и вдруг увидел перед собой молодую женщину необычайной красоты. Он никогда еще не видел таких красивых женщин и был поражен в самое сердце. Но еще больше он был поражен, когда узнал, что это была жена стратига…
Евдоким умолк. Феофил погладил бороду и спросил:
– И что же было дальше?
Комит вздохнул и продолжал:
– По просьбе родителей юноши, стратиг взял его к себе на службу, а через несколько лет сделал комитом… Всё это время юноша пытался побороть в себе страсть к жене своего господина: молился, постился, творил милостыню, предавался телесным подвигам… Но страсть не отступала. Правда, комиту более или менее удавалось не обнаруживать ее… Родные призывали его жениться, подыскивали невест, но он отказался от мысли о женитьбе, потому что знал, что это будет обманом по отношению к его будущей жене – ведь он никогда не сможет ее любить и чтить так, как жену стратига…
Император слегка побледнел и нахмурился.
– Так шли годы, государь. Комит уже свыкся с такой жизнью, и хотя страсть досаждала ему, он противился. Борьбу очень облегчало то, что жена стратига никогда не обращала на него никакого внимания. В то же время… – Евдоким остановился.
– Говори всё! – нетерпеливо сказал император.
– Государь не прогневается? – очень тихо спросил каппадокиец.
– Нет.
Евдоким вздохнул и вновь заговорил:
– Находясь постоянно при стратиге, комит понял, что в семье у того разлад. Он понял, что жена стратига страстно любит мужа, а стратиг не отвечает ей взаимностью… потому что любит другую женщину. И однажды комит случайно узнал, кто эта женщина…
Император резко поднялся со скамьи и отошел к окну. Евдоким умолк и встал вслед за ним.
– Продолжай, – глухо сказал Феофил, не оборачиваясь.
– Комит очень скорбел обо всем этом, потому что любил обоих – и стратига, и его жену, и видел, что они оба мучаются. Но ничем не мог помочь… Он мог только молиться… А отношения стратига с женой всё больше портились. Комит, конечно, не знал всех причин этого, не мог судить, кто из двоих прав… Но дело дошло до того, что жена стратига очень обиделась на мужа… и решила отомстить. И тогда она вспомнила о комите… потому что уже догадалась, что он неравнодушен к ней…
Евдоким помолчал немного. Император стоял всё так же спиной к нему, скрестив руки на груди и глядя в окно.
– И вот, жена стратига зовет комита к себе, заводит с ним любезный разговор… – каппадокиец снова умолк на несколько мгновений и продолжал совсем тихо. – В общем, государь, если б стратиг внезапно не потребовал комита к себе, дошло бы до греха… Но если комит останется на службе, он всё равно непременно согрешит, не сегодня так завтра, не завтра так через неделю… Конечно, грех откроется, в семье стратига будут еще бо́льшие неурядицы, а комита ждут суд и суровая кара. И это не говоря о суде Божием… Поэтому комиту видится единственный выход – бежать как можно скорей! Вот такая история. И я осмелюсь спросить… как же, по мнению государя, лучше поступить комиту?
Император повернулся к нему, и Евдокима поразила его бледность.
– В какой из фем ты хотел бы служить?
– Мне всё равно, государь, только бы подальше отсюда.
– Хорошо. Я назначу тебя в Каппадокию. Если хочешь, можешь отправляться прямо сегодня.
– Благодарю, государь! – и Евдоким снова поклонился императору в ноги.
Когда он поднялся, Феофил пристально взглянул на него и спросил:
– Евдоким, это ты сказал августе, что я оставил перстень… в том женском монастыре?
– О, нет! Я не говорил ей этого!
– Но был ли у вас какой-то разговор о той поездке?
– Да… Августейшая спросила меня, долго ли там пробыл государь. Я не сказал ничего определенного… Но потом она спросила, когда именно мы выехали из Города, и по ответу поняла, что… Я не догадался…
– Не догадался солгать? – усмехнулся император. – А о чем еще она спрашивала?
– О том, когда с руки государя пропал перстень. Я сказал, что не помню.
– Ты правду сказал?
– Нет, – Евдоким опустил голову. – Я солгал. Я помнил, что перстень пропал после посещения монастыря. К тому же… я заподозрил…
– Что?
– Прости, государь! – Евдоким опять упал на колени. – Я грешный человек… Пока я ждал тебя, один монах заговорил со мной. Он был из Диевой обители… И он сказал… Он сказал, что в обители, куда ты зашел, государь, монахини – еретички, что они распространяют ересь… и что там очень красивая игуменья… по имени Кассия… А я заметил, что ты, августейший… Тот ларчик с ладаном…
– Понятно. Да встань, нечего тут на коленях передо мной простаивать!
– Я знаю и о том, что было на выборе невесты для тебя, государь, – продолжал Евдоким, поднявшись. – Мне рассказывали… И я… впал в подозрения…
Феофил взглянул в глаза каппадокийцу.
– Да, я хотел. Но этого не произошло.
– Слава Богу! – прошептал Евдоким. – Господь не попустил пасть!
«Не попустил ей! – с горечью подумал Феофил. – Я-то потом пал всё равно!.. Ну да, ведь она невеста Христова, а я – “антихрист”!.. Надо любить жену и забыть обо всех этих монашках… и “половинах”!..» Он снова отошел к окну и постоял немного. Евдоким чуть слышно вздохнул. Император обернулся.
– Что вздыхаешь? Тяжело? А я тебе скажу: радуйся, ведь ты в лучшем положении чем я, Евдоким! Тебе есть куда бежать. Мне – некуда. Ты не женился ни на ком, чтобы не обманывать и не мучить жену… Я был лишен и этой возможности. Впрочем, довольно! Ступай… И молись за нас там, в Каппадокии!
– Да, государь, – комит поклонился, а выпрямившись, с мольбой взглянул на императора, желая и не решаясь заговорить.
– Что? – устало спросил Феофил.
– Государь, не прогневайся, что я осмелюсь просить… Августа…
– Нет, не бойся, я ничего не сделаю ей за это.
– Прости, августейший! – каппадокиец опять упал ему в ноги.
Когда комит ушел, император еще долго стоял у окна.
«Бедный Евдоким! – думал он. – Еще одна жертва Эрота… Но он добродетельный человек! Другой бы на его месте не признался бы… и воспользовался бы случаем… На самом деле они могли бы устроить всё так, чтобы я не узнал… Но… она хотела заставить меня ревновать! Бедная!.. Да, Платон Платоном, но… не выходит вынашивать только “разум и добродетели”! Приходится рождать и плотских детей, и сходиться с женщиной не только… для философских бесед! И я не могу избежать этого, даже если б захотел: “муж не владеет своим телом, но жена”… Да и не фарисействую ли я? На самом деле я так же ненасытен, как Феодора… Зря только гордился перед ней!»
…По повелению императрицы, к вечеру ее спальня была окурена благовониями и украшена зеленью. Августа, благоухающая розовым маслом и миррой, с небрежно заплетенными в две косы волосами, закутанная в плащ из пурпурного, расшитого золотыми орлами шелка, под которым на ней была лишь прозрачная льняная туника, сидела в кресле у себя в малой приемной и ждала. После обеда она послала служанку с запиской к Евдокиму. «Придет, никуда не денется!» – думала она, вспоминая его жаркий взгляд и нежные руки… Щеки ее пылали от предвкушения наслаждения и мести. К вечерне она не пошла и даже не вспомнила о ней. Время шло к десятому часу пополудни. Феодора уже несколько раз подходила к зеркалу и рассматривала себя со всех сторон. «Он не останется недоволен, милый мальчик!» – твердила она мысленно.
«Милый мальчик» получил записку императрицы как раз тогда, когда давал последние наставления своему преемнику на посту комита. Прочитав, Евдоким побледнел и, зайдя к себе, велел слугам поскорей уложить оставшиеся вещи, а сам отправился к императору. Ему сказали, что василевс в бане Иконо́мия, и молодой человек пошел туда.
Феофил, обернутый льняной простыней, развалившись на лавке, пил прохладное вино из хрустального кубка, украшенного золотой росписью. Ему доложили о приходе Евдокима, и император велел впустить его. Каппадокиец вошел, поклонился и приблизился к василевсу. Феофил сделал знак кувикулариям отойти на другой конец помещения за занавес и спросил:
– Что случилось, Евдоким?
– Государь, позволь мне немедленно покинуть дворец. Я… – он умолк, не в силах продолжать, и протянул императору записку.
Феофил развернул пахнувший миррой папирус и прочел:
«Господин Евдоким, приказываю тебе явиться ко мне сегодня после вечерней смены стражи. Мы продолжим прерванный разговор. Смотри же, не опаздывай и не гневи твою августу».
Император сложил записку, вернул ее новоиспеченному стратигу, глотнул вина и спросил:
– Ты уже всем распорядился и готов к отъезду?
Евдоким только кивнул.
– Что ж, в добрый час! А с августой, – Феофил усмехнулся, – разговор сегодня продолжу я.
Император был расслаблен после бани и слегка навеселе от вина, и его слова прозвучали почти развязно. Евдоким ужасно покраснел, потом побледнел, опустил глаза и стоял, не в силах двинуться с места. «Да ведь он тоже ревнует! – сообразил Феофил. – Вот дьявол! В какую историю мы все впутались!»
– Прости меня, Евдоким! – сказал он, отставив кубок и вставая.
Молодой человек упал ему в ноги. Император поднял его. В глазах Евдокима стояли слезы.
– Ее надо жалеть… хоть немножко! – чуть слышно прошептал он.
– Да, – так же тихо ответил император. – Ну, ступай… И молись за нас там, в Каппадокии!
Императрица не удивилась, услышав, как без стука открывается дверь, поскольку распорядилась сразу пропустить Евдокима, когда он придет. Она повернула голову и на миг замерла. Потом встала, сделала шаг вперед и остановилась, стиснув руки под плащом.
– Ты!..
– Да, я, – ответил император. – Не рада?
– Н-н… не знаю, – еле выговорила Феодора.
Это было сущей правдой. Феофил подошел и, вдохнув исходящий от жены запах благовоний, спросил тихо-тихо:
– Ты каждый вечер так готовишься и ждешь меня?
Она залилась краской, глядя в его глаза, и молчала.
– Или, быть может, – продолжал он, – ты ждала кого-то другого? Может, мне уйти и не мешать?
Она сглотнула и еле слышно проговорила:
– Что ты, Феофил! Нет, не уходи!
«А если сейчас придет Евдоким? – в ужасе подумала она. – Хотя – ну и что? Ведь теперь-то его сюда не пустят!»
Она запустила пальцы в волосы Феофила, шелковистые и пушистые после бани. Он взял ее руку и поцеловал в ладонь. Она затрепетала и в то же время ощутила, что он тоже дрожит от нетерпения.
– Пойдем! – выдохнула она, сбрасывая плащ на пол.
Император поднял жену на руки и понес в спальню. Ночь была безумной, они заснули лишь перед рассветом.
Евдоким тоже не спал почти всю ночь. Ворочаясь с боку на бок на жестком ложе, с доской вместо матраца, он думал о том, что, кажется, ему выпала честь стать примирителем царственных супругов, но тут же какой-то голос нашептывал ему: «Глупец! Сейчас на месте императора мог бы лежать ты!» Он гнал от себя этот помысел, но снова и снова перед ним вставала Феодора…
Наутро, бледный и не выспавшийся, Евдоким садился на коня. Скорей, скорей, в Каппадокию, прочь, прочь из этого Города!
18. Истинный платонизм
(Виктор Цой)
- Я нем, но ты слышишь меня,
- И этим мы сильны.
Насир принял крещение на праздник Богоявления, получив имя Феофоб, был возведен в чин патрикия, а спустя месяц обвенчан с сестрой императора. Многие синклитики были недовольны таким «возвышением иноземца», но открыто выступать с порицаниями никто не решился. Елена так и лучилась счастьем, и Феофил радовался за нее и благодарил Бога, что сестра избежала таких поворотов судьбы, какие пришлось испытать ему самому.
Будущее его собственной семейной жизни представлялось императору весьма туманным. Феодора опять ждала ребенка, но кого бы она ни родила, сына или дочь, Феофил сознавал, что самую аскетическую часть епитимии придется отменить – как из-за того, что жена не вынесла бы такого, так и из-за того, что это вряд ли было бы по силам ему самому, по крайней мере, сейчас. Мысль о том, что жизнь с ним доставляет Феодоре столько неприятных и мучительных моментов, всё больше угнетала его. «Ее надо жалеть хоть немножко!» – да, но как это сделать, чтобы это не выглядело искусственным, чтобы после всего бывшего она поверила в его искренность? Он уже когда-то пытался быть любящим мужем, но после провала той затеи было очень трудно, если вообще возможно, добиться того, чтобы Феодоре стало опять так же хорошо, как тогда, когда они сидели с ним вдвоем на подушке в синей спальне Врийского дворца – ведь теперь жене будет трудно поверить, что он не просто делает очередную попытку замаскировать свои истинные чувства…
Истинные чувства! Каковы они были? Еще один вопрос, на который он не мог сам себе ответить сколько-нибудь внятно. Конечно, он любил Кассию, но, думая о ней, уже не чувствовал ни горечи, ни обиды на судьбу, не ощущал и прежнего вожделения. Можно было сказать, что Кассия незримо присутствовала в его жизни, и часто, распоряжаясь государственными делами, затевая очередную постройку или просто читая книгу, он думал о том, что сказала бы она обо всем этом, иной раз как бы мысленно советовался с ней – но это уже не была неистовая страсть, изводившая его прежде. Вода возмутившегося источника успокаивалась, становилась всё прозрачнее, всё доступнее для солнечных лучей, сквозь нее всё яснее можно было видеть… Значило ли это, что он любил Кассию уже больше как друга, чем как женщину? Иногда он задумывался об этом, но не мог придти к определенному решению. С другой стороны, относительно Феодоры он уже не мог сказать с такой уверенностью, как раньше, что его связывает с ней только «цепь вожделения». Было что-то еще. Что?.. Когда Евдоким рассказал ему о том, как нашел Феодору замерзающей в саду у пруда, император ощутил далеко не только досаду от того, что опять «не рассчитал» и допустил промах, – он испугался, и вовсе не потому, что едва не лишился «удобной подстилки», как язвила бедная августа… Он испугался, что мог потерять ее. Но что она для него значила?.. На этот вопрос Феофил был не в состоянии дать себе ясный ответ.
Он рассказал синкеллу о том, как в очередной раз «перегнул палку», и что из этого вышло.
– Августейший, – сказал Иоанн, – Господь «и намерение приветствует», поэтому, думаю, Он уже принял твое стремление нести определенного рода епитимию. В твоем положении не стоит добиваться исполнения ее на деле слишком ревностно.
– По правде говоря, – император усмехнулся, – мне хотелось поступить, как мой отец, и сказать Евдокиму: «Бери ее, и будьте счастливы!» С ним ей было бы гораздо лучше, чем со мной. Думаю, она быстро забыла бы, что хотела всего лишь отомстить мне… Только бедняга не вынес бы этого… Слишком благочестив!
– Ты тоже не вынес бы этого, государь.
– Думаешь, во мне слишком развито… чувство собственника?
– И это тоже. Но не только.
– Да? – император взглянул на игумена. – А что ж еще?
– Ты должен сам понять это, августейший.
Как-то раз, около месяца спустя после отъезда Евдокима из Города, император зашел к жене незадолго до вечернего приема чинов. Феодора была немного простужена и третий день не выходила из покоев. Она сидела в кресле у жаровни и наблюдала за Феклой и Анной, которые возились тут же на толстом мягком ковре. Феофил спросил у жены о самочувствии, немного поиграл с дочерьми и сказал, что двое сыновей Арсавира и Каломарии утром были зачислены в схоларии.
– О, прекрасно! Сестра, верно, рада!.. – улыбнулась Феодора и спросила как можно небрежнее: – Кстати, Евдоким чем-то провинился, что ты отправил его в Каппадокию?
– Нет, – Феофил, полулежа на ковре, посмотрел ей в глаза. – Он сам попросил меня перевести его отсюда. Сказал, что не в силах выдержать искушения.
Императрица ощутила, что краснеет.
– Дерзость не идет тебе, Феодора, – сказал императора чуть насмешливо. – Я всё знаю о той твоей затее. Если ты хотела заставить меня ревновать, то напрасно. Я, честное слово, был бы рад, если б ты могла быть счастлива… Но увы! «Когда б не боги, злой беде не быть…» Жаль мне очень этого юношу.
– А меня не жаль?
– Жаль. И ты это знаешь.
Феодора поднялась, прошлась до двери и обратно и остановилась перед мужем.
– Уж лучше б ты ненавидел меня, чем эта жалость!
– Лучше? – он пристально взглянул на нее. – Тогда бы я не смог давать тебе даже того, что даю. Ты была бы рада?
– Нет, – она опять покраснела. – Но вообще-то… ты и этого мне даешь не так уж много! И… это унизительно!
– Унизительно служить мне «подстилкой»? А быть не в силах обходиться без нее – не унизительно, по-твоему? Но твоя затея с Евдокимом показала мне, что нам обоим лучше смириться с таким унижением. Вот я и смиряюсь, – он усмехнулся и, помолчав, продолжал: – «Не так уж много», говоришь? Да, тебя всегда это огорчало, но я ведь не хотел как раз потому, что думал – это разврат и ничего более, – он поднялся, подошел к жаровне и поворошил угли. – Ссорились мы с тобой или мирились, мы хотели друг друга… С первой брачной ночи! Но я думал, что это всего лишь зов плоти, а ты… Ты теперь так уверена, что ты для меня – всего лишь «подстилка»…
– А разве нет?
Феофил не ответил. Огненные переливы углей бросали на его лицо красноватый отсвет. Феодора молча смотрела на него. Что означают его слова? Если она для него – не только «подстилка», то кто тогда? Если не только, то почему он тогда не сердится на нее из-за истории с комитом, не ревнует?.. Опять ничего не понятно!..
– Неужели ты нисколько не рассердился на меня?
Он взглянул на жену.
– За Евдокима? Нет.
– Значит, ты и правда совсем равнодушен ко мне!
Феофил вдруг подошел к ней и сказал, глядя в глаза:
– Это не так. Какая-то моя часть тебя любит. Например, тело, – он взял ее руку и поцеловал чуть выше ладони, там, где билась синяя жилка.
– Да, как «подстилку»!
Она попыталась вырвать у него руку, и он выпустил. Но в следующий миг уже держал августу в объятиях.
– Как заметил Иоанн Лествичник, «всё на свете ищет сродного себе – червь червя, брение брения, и плоть сия страстно желает плоти»… Моя плоть любит твою, Феодора. Это уже лучше, чем ничего, не правда ли?
Она смотрела ему в глаза и молчала. Он иронизировал, но – в этот миг она поняла это – не над ней, а над собой. И он чего-то не договаривал.
– Вот так-то, – сказал он, отпуская ее. – А что до Евдокима и этой истории… Ты знаешь что-нибудь о Марке Аврелии?
– Я читала про него у Евсевия Памфила в «Церковной истории»…
– И то хлеб, – Феофил усмехнулся. – Так вот, он говорил, что большего порицания заслуживает проступок, связанный с наслаждением, нежели связанный с горем. Мне и в голову не пришло сердиться на тебя.
– Или уж ты злодей… или святой!
– Ни то, ни другое. И даже не стоик. Хотя я всегда стремился подражать Аврелию…
– Что ж, ты был бы доволен, если б я тоже читала… этого Аврелия, Платона, Аристотеля… и говорила бы с тобой о них?
Он посмотрел на нее долго и странно, сказал:
– До вечера, моя божественная августа! – и вышел из покоя.
На второй седмице Великого поста синкелл при очередной встрече в «школьной» протянул императору свернутый в трубочку пергаментный лист и сказал:
– Думаю, тебе будет приятно спеть это вместе с хором на Страстной, государь.
Феофил развернул пергамент, на мгновение замер, удивленно взглянул на Иоанна, отошел к окну и долго стоял там, перечитывая стихиру.
– Ты встречался с ней? – спросил он, обернувшись к игумену. – Вот не ожидал!
– Это вышло, так сказать, случайно, – чуть улыбнулся Грамматик, – но промыслительно. Госпожа Кассия тоже нуждалась в уроке философии. Ее духовные наставники, как видно, не смогли помочь ей прочесть акростих жизни.
– Вот как!.. А ты… смог?
– Надеюсь. Ты думал о том, каково ей пришлось после вашей встречи, августейший… Хотя ей было нелегко, но это было необходимо для того, чтобы она, как и ты, поняла то, что ей нужно было понять. Она тоже очень тревожилась за тебя, но я ее успокоил. Эту стихиру она написала по памяти, по моей просьбе, для тебя.
Феофил еще раз перечел стихиру и взглянул на синкелла.
– Просто чудеса! Что же… значит, мать игуменья не отказалась получить духовный совет… от «еретика»?
– Что госпоже Кассии не свойственно, так это узость ума, – Иоанн улыбнулся.
Император помолчал и задумчиво проговорил:
– А ведь еще не так давно при мысли о ней я страдал и роптал на то, что в моей жизни было всего три часа счастья…
– Ты становишься мудрее, августейший. А «из всего, что дает мудрость для счастья всей жизни, величайшее – это обретение дружбы».
– Но Аристотель говорил, что недостаток общения убивает дружбу… Видно, он и здесь был бо́льшим практиком, чем Платон, сказавший: «всегда помня о своем друге, где бы тот ни был – далеко или близко»…
– Разумеется, Платон более «наш», чем Стагирит. Дружба между взыскующими существует постольку, поскольку они взыскуют одного и того же и имеют сходное внутреннее устроение, вкусы и склонности. А взыскующих небесного Града соединяет Сам Бог, и тут уже точно не могут играть роли никакие расстояния. Помнишь: «Возведем же самих себя молитвами в высочайшую высь божественных и благих лучей, словно бы всегда перехватывая руками свешенную с высочайшего неба и досюда достигшую многосияющую цепь…» Это вертикальные цепи, а есть и горизонтальные – между молящимися друг за друга: кто выше поднялся по вертикали, тот помогает взойти и другому.
– Да, Ареопагит божественно прекрасен! И твое дополнение красиво… Золотая сеть молитв, висящая между небом и землей! Истинный платонизм – «слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо» не телом, а духом – в Боге… А как же «разная вера»? – Феофил посмотрел в глаза синкеллу.
– Здесь всё не так просто, как обычно проповедуется перед толпой, августейший, – ответил Иоанн с улыбкой. – Анафема – вещь очень нужная для практической жизни Церкви в здешнем мире, прежде всего для воспитательных целей, но лично я не рискнул бы с уверенностью заявлять, что те, кто в настоящей жизни находится во враждующих станах, в будущей непременно окажутся в разных местах, а если и окажутся, то именно из-за разной веры. Во-первых, суд будет по делам, и самая вера, по апостолу, показывается из дел. Во-вторых, очень редкие люди, даже содержащие истинную веру, достигают в суждениях беспристрастия. В-третьих, даже беспристрастные могут заблуждаться и делать неверные выводы – в силу особенностей воспитания, недостатка образования, частичного неведения и просто из-за ограниченности человеческой природы. А Бог знает эту ограниченность и потому смотрит, прежде всего, на намерение человека. Мне кажется, прекрасно сказал об этом Евагрий Схоластик: «Да не посмеется над нами никто из идолопоклонников, что последующие у нас низлагают прежних, и что к вере нашей всегда присоединяется нечто новое…» Помнишь, государь?
– Признаться, не помню. Это из «Церковной истории»?
– Да, из первой книги. Позволю себе напомнить: «Ни один изобретатель ереси между христианами не хотел умышленно произнести хулу, ни один не решался намеренно уничтожать божественное, но всякий думал, что, утверждая это, говорит лучше предшественников. Впрочем, существенное и главное исповедуется сообща всеми», то есть вера в Троицу и в воплощение Бога-Слова. Затем Евагрий говорит: «Если же в ином отношении постановлялось новое, то и это бывало потому, что Спаситель наш Бог касательно того даровал нам свободу, дабы святая вселенская и апостольская Церковь говоримое так или иначе приводила к надлежащему разумению и благочестию, и через то выходила на один открытый и прямой путь. Вот что заставило апостола очень ясно сказать: “ибо подобает у вас быть и ересям, чтобы явились между вами искусные”». А дальше он добавляет, что самые церковные смуты в итоге содействуют утверждению правых догматов, и «тем самым вселенская и апостольская Церковь Божия возбуждается к возрастанию и восхождению на небо».
– Да, неплохо сказано! Надо будет перечитать… Так что же, ты думаешь, что еретик, искренне верующий в свою ересь и думающий, что она служит к возвышению Бога, а не к хуле, имеет такую же возможность спастись, как и православный?
– Точно сказать, имеет или нет он эту возможность, я не могу, конечно, но думаю, что может иметь. А имеет ли – это зависит от разных привходящих обстоятельств, и разбираться в них – уж точно не наше дело, а Божие. Когда некто присоединяется к еретической части, мы обычно говорим, что он впал в ересь и отпал от спасения, и чаще всего это бывает верно, потому что в большинстве случаев человек принимает ту или иную сторону, руководствуясь соображениями отнюдь не небесными – страхом, корыстью, ленью, нежеланием думать, желанием быть с большинством, с уважаемыми или любимыми им по-человечески людьми. Но ведь по этим же соображением большинство принимает и православие – сомневаюсь, что пред Богом это многоценно. С другой стороны, человек может принять ересь потому, что счел ее за истину, что она показалась ему убедительнее православия, с готовностью стоять за нее, как за истину, не так ли? Разумеется, в глазах Божиих он не равен еретику, отпавшему от веры из соображений, скажем, земных выгод. Великий Григорий говорил: «Как многие из наших бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, так многие из не принадлежащих к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряют веру, и обладая самой вещью, не имеют только имени», – и это о язычниках. Тем более так можно сказать и о тех, кто, хотя и неправильно верит во Христа, но живет благочестиво.
– Значит, встреча на небесах возможна даже при разной вере?.. Конечно, звучит обнадеживающе, но вряд ли эту мысль стоит доносить до толпы, которая и так-то к истинам веры равнодушна!
– Где ты здесь видишь толпу, августейший? – улыбнулся синкелл. – А двум философам вполне позволительно обсуждать между собой скользкие вопросы.
Император рассмеялся, потом задумался и, немного помолчав, сказал:
– Иногда я думаю о том, что Кассия отказалась от брака потому, что уже обещала посвятить себя Богу, и потому, что я – «еретик», то есть отвергла эту любовь ради Бога и догматов. Но интересно, смогла бы она сделать то же самое из-за одних догматов?
– Вряд ли. Ведь разная вера не мешает ей до сих пор любить тебя. Правда, четырнадцать лет назад она была в гораздо большей степени зависима от воззрений своих единоверцев, чем теперь… Например, она тогда считала меня почти антихристом, по ее собственному признанию. Впрочем, это неудивительно, ведь ее духовный наставник называл меня одной из глав «колесницы дьявола»!
– А кто он был?
– Не кто иной, как Феодор Студит. Впрочем, он так честил меня для пущего воздействия на тех, кому писал. Когда мы с ним встретились во время осады Города, то побеседовали весьма любезно, хотя и не убедили друг друга.
– Вот как! Какое сплетение судеб… А ты, я вижу, о многом беседовал с Кассией?
– Не то, чтобы о многом. Но беседа умных людей тем и хороша, что они в немногих словах дают понять и могут понять многое.
– Никогда бы не подумал, что ты общаешься с ней! Пожалуй, – император чуть улыбнулся, – мне впору тебе завидовать!
– О, не сто́ит! Я встречался с госпожой Кассией после нашего первого знакомства только дважды, случайно, и все три раза мы, в сущности, говорили о тебе, государь. Не знаю, встретимся ли мы с ней еще когда-нибудь.
– Жаль! Мне пришла мысль сделать ей ответный подарок… Кстати, ты скоро услышишь его, в Цветоносную неделю. Мы с певчими уже начали разучивать.
– Тоже стихира?
– Да.
– Думаю, твой подарок госпоже Кассии сможет передать наш Математик.
– Лев?! Еще одна неожиданность!.. Они знакомы?
– Да, и общаются довольно часто. Она училась у него в юности. Я сам недавно узнал об этом: именно зайдя к нему в гости, я и встретил там ее. Она пришла к нему потому, что нуждалась в беседе с философом, но вместо одного философа перед ней оказались два, и она сочла, что беседа со вторым ей будет полезнее.
– Ты колдун! – рассмеялся император. – А ты, случайно, идя ко Льву… не знал уже, что встретишь там ее?
– Чародеи своих тайн не выдают, – Иоанн улыбнулся. – Как бы то ни было, я рад, что побеседовал с ней. Это одна из редких женщин, беседа с которыми может доставить философу удовольствие. Должен заметить, что, в некотором смысле, и любить такую женщину для философа незазорно, особенно если следовать мнению стоиков, что «любовь это стремление к сближению, вызванная лицезрением красоты, и направлена она не к соитию, а к дружбе», а «красота есть цвет добродетели».
– Хорошо сказано, только… Я недавно перечитывал Лаэртия и подумал, что на меня больше похоже Антисфеновское: «мудрец женится, чтобы иметь детей, притом от самых красивых женщин»… В любом случае, если я даже неплох как язычник, до христианина мне далеко!.. Но, с другой стороны, есть, куда совершенствоваться, – с улыбкой добавил император. – Кстати, о чародействе. Давно хотел тебя спросить: при твоей любви к опытам и, так сказать, известного рода бесстрашии… тебе никогда не хотелось совершить какое-нибудь гадание, хотя бы ради интереса? На печени, например, или на блюде с водой… Мне порой становится любопытно, когда попадаются рассказы об этом в книгах: что они там видели, эти прорицатели? Действительно что-то видели или просто обманывали народ… как тот «чудотворец» с иконой в Дорилее?
– Мысль о таком опыте мне приходила еще в юности. Но, поразмыслив, я решил, что это будет неинтересно.
– Почему?
– Видишь ли, августейший, опыты над веществами, растениями, зверями и людьми так или иначе подразумевают изучение некоторых закономерностей происходящего в мире сем, тогда как колдовство и гадания, если даже оставить в стороне вопрос о нечестивости подобных занятий, неизбежно приобщают к миру падших духов. А мы о них, в общем, почти ничего не знаем, кроме того, что они весьма злобны и изобретательны. Что им, так сказать, может взбрести в голову, совершенно неизвестно. Получается, что через подобные опыты ты ставишь себя в зависимость от каких-то непонятных сил – это и неприятно, и небезопасно. Разумеется, опыты обычного земного порядка тоже могут обернуться неприятностями и опасностями, но тут есть существенное отличие: последние неизбежно приводят к тем или иным выводам и урокам, более или менее полезным, а вот первые никакого познания сущего не дают. В то, что с помощью гаданий можно действительно узнать будущее, я не верю, а изучать таким способом поведение демонов – занятие бесполезное. Поэтому я подобными вещами никогда не занимался.
– Что ж, разумно, – Феофил улыбнулся. – Ты, как Сократ, колдуешь над людскими душами!
– Да, пожалуй, как и он, я «принимаю роды у душ»… А заодно помогаю приносить плоды и своей душе. Думаю, не самое плохое занятие в жизни!
– Одно из лучших, философ!
…В среду четвертой седмицы поста, накануне праздника Благовещения, синкелл, совершая утреню в Сергие-Вакховом храме, ближе к концу службы заметил у самых дверей в церковь Математика и был несколько удивлен, но не потому, что Лев пришел в его монастырь – это бывало уже несколько раз, хотя и не так рано поутру, – а потому, что Философ не просто стоял, наблюдая и слушая пение, как в прежние посещения, но молился. После окончания службы, когда монахи разошлись, игумен подошел к племяннику.
– Здравствуй, Лев, – улыбнулся синкелл. – Какими судьбами?
– Я хотел бы исповедаться у тебя и присоединиться к вам.
– Что ж, – Иоанн пристально взглянул на него, – это можно сделать прямо сейчас.
Они поднялись на галереи.
– Что заставило тебя решиться на это, Лев? – спросил игумен. – Ведь ты всегда был иконопочитателем, как я понимаю.
– Да, но в последнее время я осознал, что, во-первых, не разделяю ревности о вере в том виде, в каком она чаще всего проявляется у моих единоверцев, а во-вторых, среди твоих единоверцев ведь тоже немало верящих так же, как я, мы отличаемся только поминовением епископов. Но ваши епископы применяют в вопросе об иконах широкое снисхождение, несмотря даже на последний указ государя насчет иконопочитания, а наши… Не то, чтобы я был против строгости вообще, но я не готов отождествлять исповедничество с умственным рабством. Как говорится:
«Робким, ничтожным меня справедливо бы все называли, Если б во всем, что ни скажешь, тебе угождал я, безмолвный!»
– Как видно, иконопоклонники вывели из терпения даже такого кроткого мужа, как ты, – усмехнулся синкелл. – Позволю себе полюбопытствовать о подробностях.
– О, это не тайна, – Математик вздохнул и принялся рассказывать.
19. Через границы
Множество людей озабочено вопросом, смеялся ли Христос… Думаю, что вряд ли, поскольку был всеведущ, как положено Сыну Божию, и мог предусмотреть, до чего дойдем мы, христиане.
(У. Эко, «Имя розы»)
После смерти Сардского архиепископа Евфимия Лев ходил на исповедь к разным православным священникам, которые продолжали жить в Городе, более или менее открыто служили и принимали духовных чад. Настоящего духовного руководства Философ, однако, никогда не искал, довольствуясь советами, почерпнутыми из книг, а иной раз обсуждая интересующие его вопросы в переписке с Кассией. Довольно большая община иконопочитателей собралась при Свято-Антипьевском храме – церквушке на склоне Ксиролофа, недалеко от храма и цистерны Святого Мокия, и в последние два года Лев ходил туда. После императорского указа против икон община поначалу затаилась, ожидая преследований, но служить им по-прежнему не воспрещали, хотя следили за тем, не прибавляется ли у них новых верующих. Но их не прибавлялось, да и вообще, в последнее время в церковной жизни наступило затишье. Кто как устроился еще во времена императора Михаила, так и продолжал жить; не было ни особенных стычек, ни каких-либо прений; даже студиты после кончины Феодора попритихли – сначала, конечно, от уныния, а потом уже как бы по привычке. Впрочем, ужесточив отношение к иконопочитанию, Феофил приказал студийским монахам, жившим большой общиной на Принкипо при гробе почившего игумена, удалиться оттуда, поскольку к ним стекалось слишком много людей. Игумен Навкратий, правда, остался на острове, но остальные почти все разъехались; даже Николай счел за лучшее перебраться во Фракию и в конце концов устроился в Фирмополе; прочие братия рассеялись по разным местам. Некоторые из православных сами покинули столицу после постановления василевса об иконах. Ожидали возобновления гонений, но было сослано всего нескольких человек – в основном те, кого посещало слишком много иконопочитателей или кто распространял писания, порицавшие императора и его предшественников на престоле за иконоборчество.
Будущее виделось неясным; иногда в разговорах православных проскальзывало раздражение против василевса именно из-за того, что он мало кого преследовал, а народная любовь к нему только росла. Если кто и осуждал отдельные стороны императорской политики, то это были некоторые люди из числа знати, недовольные «чрезмерной» любовью Феофила к «иноземцам и неверным» и «неуважением к благородным гражданам». Они распространяли о василевсе разные слухи: например, его указ коротко стричь волосы и бороду истолковали так, будто у императора стали выпадать волосы и он решил таким образом «скрыть скудость красы своей головы»… Впрочем, всерьез это почти никто не принимал, а Феофил, узнавая о подобных россказнях, лишь усмехался. Вопросы веры, казалось, мало кого из влиятельных лиц действительно интересовали: большинство довольствовалось тем, что частным образом у себя дома желающие могли почитать иконы, как угодно, и было ясно, что уже не вернутся времена Льва Армянина, когда о таких случаях выведывали и доносили, в результате чего провинившиеся могли в одночасье лишиться своего положения и имущества. Пророчество о скорой смерти императора не сбылось, равно как и надежды на то, что Господь вот-вот «поразит оставшихся главарей нечестия»: хотя в начале единоличного царствования Феофила патриарх едва не отдал Богу душу, после этого он больше ни разу серьезно не болел, а синкеллу, казалось, вообще было неведомо, что такое недуги. Мало того, по Городу стали ходить рассказы о том, что Сергие-Вакхов игумен прозорлив – теперь об этом говорили уже не только его монахи, но и люди сторонние, в том числе некоторые синклитики. Патриарх после «чудесного преображения» императора стал иногда посылать к игумену за духовными советами кое-кого из тех, кто обращался к нему самому, и слава Грамматика как человека не только ученого, но и духовно опытного, всё росла. Вспомнили и предсказание синкелла, сделанное после смерти халифа Мамуна, что агаряне оставят в покое восточные границы Империи…
Как мог еретик и даже ересиарх быть прозорливцем? Это нуждалось в объяснениях, и они не замедлили появиться: разумеется, «Ианний» узнавал будущее с помощью нечистой силы! Поползли слухи, что синкелл гадает по воде и занимается вызыванием бесов; тут же вспомнили и «Трофониевы пещеры» в особняке его брата, где игумен по-прежнему любил отдыхать, и «мастерскую» в его монастыре…
И вот, в очередной раз придя к вечерне в Свято-Антипьевский храм, Лев подвергся допросу со стороны тамошнего священника и нескольких монахов: зная, что он иногда встречается и общается с синкеллом, они принялись расспрашивать, не известно ли ему, что за колдовские опыты Иоанн проводит у себя в монастыре, чтобы предсказывать будущее, и каким образом он внушает императору еретические взгляды. Математик сначала подумал, что его собеседники шутят, а убедившись в обратном, попытался уверить их, что никаким колдовством синкелл не занимается, его опыты носят чисто научный характер, а император привязан к нему потому, что Иоанн, во-первых, его бывший учитель, во-вторых, человек очень умный и начитанный и, кроме того, приятный собеседник, поэтому в симпатии к нему василевса нет ничего странного.
– Нет, что-то тут нечисто! – покачал головой один из монахов. – Как же он предсказывает будущее? Прозорливым он быть не может… Значит, колдун!
Лев ощутил, как в нем поднимается глухое раздражение, однако улыбнулся и спросил:
– Почему же он не может быть прозорливым? Ведь он монах, упражняется в умной молитве и большой аскет, насколько мне известно. Да, он еретик, но ведь Сам Христос сказал, что даже многие беззаконные люди будут творить великие чудеса Его именем и изгонять бесов.
– Это не объяснение, – сказал священник. – Чудеса творятся именем Христовым, поэтому тут еще можно понять: имя Божие может творить чудеса независимо от добродетели призывающих его… Вот и таинства совершаются именем Господним, даже если священник грешен и недостоин. Но ведь провидеть будущее можно, только если его тебе кто-то откроет…
– Вот именно, отче! – кивнул монах. – А станет ли Бог открывать будущее хулителю Его икон и гонителю исповедников?! Конечно, нет! Значит, тут открыть будущее могут только бесы!
– Это по-своему логично, – сказал Философ, – но разве отсюда могут прямо следовать занятия колдовством? В конце концов, бывало, что подвижники просто впадали в прелесть, и бесы что-нибудь открывали им без всяких волхвований.
– Но об этом все говорят, что он колдун! – вмешался другой монах. – И что там он за опыты проводит? Монах ночами должен молиться, а не химией заниматься! Если б там не было ничего подозрительного, так разве стал бы он скрытничать? Наверняка он предается какому-нибудь нечестию… А в имении на Босфоре, куда он ездит, у него притон, он туда женщин возил, мой дядя сам видел его в лодке с монашкой, правда, уж давно, лет десять назад… Но какая разница! Он, видно, не только еретик, но и блудник!
– Что он колдун, мне один монах из Диева монастыря рассказывал! – воскликнул третий инок. – Этот Ианний тамошнего эконома сам пугал, что порчу на него нашлет!
Лев слушал своих собеседников и поневоле сравнивал их с синкеллом: сравнение складывалось определенно не в пользу первых.
– Знаете, что? – сказал он. – Я вот вас слушаю… Вы, наверное, встретив Иоанна на улице, разве что не плюнули бы в его сторону, а если б он вздумал с вами заговорить, вы бы ему тут же дали понять, какой он «проклятый еретик и мучитель», должно быть? И сейчас вы его поносите, передаете о нем всякие слухи, даже и не задумываясь особенно, правда это или клевета… У вас всё просто: если еретик, то молитвенником быть не может, непременно с бесами связан… Если б кого-нибудь из наших вы увидели вместе с монахиней или женщиной, вы бы подумали, что у них духовная беседа; а если еретика увидели с женщиной, то он, конечно, блудник… И вы, должно быть, думаете, что живете и угождаете Богу? Но среди вас прозорливцев я что-то не вижу. А про Иоанна говорят, что он прозорлив и дает хорошие духовные советы, и вам это непонятно? Что ж, я вам, пожалуй, объясню, почему это так. Я с господином Иоанном общался не раз, и он знает, что я с ним не одной веры. Но он никогда – заметьте, никогда! – ничего мне не говорил на этот счет, никогда не давал мне понять, что считает меня порочным человеком, и никогда, по крайней мере, при мне, он не поносил иконопочитателей так, как вы любите ругать иконоборцев… Кстати, я сам видел не так давно, как он своими советами помог одному человеку, который из-за постигших его искушений был почти в отчаянии, и этот человек был из иконопочитателей. Зачем Иоанн стал бы тут помогать, если он слуга бесов? Если он такой отъявленный злодей, как вы думаете, то почему же он до сих пор не внушил государю разогнать всех иконопочитателей из Города? Ведь вы сейчас будете в этом храме служить и спокойно молиться… А я, пожалуй, с вами молиться не буду. Если правда, что «по делам позна́ете их», то… мне кажется, Бог скорее услышит Иоанна, чем вас! Простите за прямоту! – и, поклонившись, Лев вышел, предоставив своих ошарашенных собеседников самим себе.
Он вернулся домой в таком сильном раздражении, какое, пожалуй, не охватывало его еще никогда в жизни. Более всего его вывели из себя не столько услышанные глупости и сплетни, сколько мысль, что этих людей невозможно разубедить. Даже его последняя речь перед уходом не окажет на них воздействия: разумеется, подумав, они решат, что Грамматик и Льва уже успел «заколдовать»… или что-нибудь в таком роде… Если б он рассказал им подробнее о том, как синкелл сумел за краткое время вывести Кассию из тяжелого душевного состояния, они бы, вероятно, тоже всё списали на «колдовство»… Пожалуй, еще и осудили бы ее за то, что она обратилась за помощью к еретику, вместо того чтобы «смиренно нести тяготу душевную»…
Лев ходил по своей небольшой гостиной от окна к двери и обратно. Кассия! Вот кто огорчится, если он последует тому желанию, которое овладевало им всё больше… Вряд ли осудит, но расстроится… Конечно, мысль, что он доставит ей скорбь, тяжела, но… В конце концов, общаться они всё равно будут по-прежнему. А что касается разной веры… Что вообще представляет собой эта граница? Где она проходит? Возможно ли ее определить так четко, как хочется этим ненавистникам «колдунов и еретиков»?.. Ведь очевидно, что действие Бога не ограничивается той чертой, над которой написано слово «анафема»! Иов не принадлежал к избранному народу, но оказался самым праведным человеком своего времени… Корнилий сотник был язычником, но молился Богу и старался жить благочестиво, в меру своего понимания, и молитва его была услышана… Синесия Киренского рукоположили в епископа, хотя он отрицал воскресение и уверовал лишь потом… Императрица Феодора покровительствовала и православным, и монофизитам, а ныне чтится во святых… Конечно, проще всего возглашать, что все еретики – злонамеренные богохульники, «жестоковыйный род», «прущий против рожна» и не желающий услышать голос истины… Только почему эти борцы за истину не догадываются посмотреть на себя со стороны и подумать, многим ли, по крайней мере из числа людей, умеющих мыслить, захочется внимать истине, изрекаемой таким образом и в сопровождении таких доводов?..
Вечером Лев долго читал Псалтирь, после каждой кафизмы молясь о вразумлении, как дальше поступить. Ходить в Свято-Антипьевский храм ему больше не хотелось. В Городе были и другие общины православных, однако Философ подозревал, что его речь в защиту «колдуна» вскоре станет известна всем столичным иконопочитателям… Правда, можно ездить за окормлением куда-нибудь на Принцевы или в Хрисополь, но… Нужно ли, когда почти рядом находится Сергие-Вакхов монастырь?..
Теперь Лев окончательно осознал, насколько обитель, где игуменствовал Грамматик, привлекала его. Ему нравилось там всё: богослужение, пение, братия, «философские» проповеди настоятеля и общий дух в целом… Лев был там четыре раза, хотя, отправляясь туда впервые после знакомства с синкеллом, думал, что только посмотрит на знаменитое «гнездо ереси», и всё… Но потом его тянуло туда снова и снова, хотя он сдерживал это стремление и даже Кассии не признался в том, что обитель «великого софиста», можно сказать, покорила его, хотя иногда ему хотелось поделиться с ней этим впечатлением. «Во мне говорит любовь к красоте, – думал он. – Но ведь не всегда внешняя красота свидетельствует о внутренней. И красивое яблоко может быть внутри червивым… К тому же на любви к красоте я уже один раз обжегся… Это слишком затягивает!..» Но дело было не только в «Ианнии» и его монастыре. Патриарх Антоний, с которым Лев несколько раз сталкивался во дворце, тоже произвел на Математика очень приятное впечатление. Об императоре же что говорить – Лев мог им только восхищаться, а беседы с ним и с Грамматиком доставляли ему такую радость, какой он никогда не ощущал при общении с единоверцами, за исключением Кассии.
Но игуменья была за монастырскими стенами, откуда ко Льву доходили лишь письма. У писем, конечно, была своя прекрасная сторона, о чем Кассия однажды написала ему: «Тебе не кажется, Лев, что письменное общение располагает к более свободному выражению мыслей? И более чистому. Это как бы общение ума с умом непосредственно, без отвлечения на что-либо телесное и внешнее…» Безусловно, это было так, однако далеко не всё можно было выразить в письме. И если даже апостол Иоанн жаждал говорить со своими адресатами «устами к устам», то должен ли человек, от святости весьма далекий, укорять себя за подобное желание? Лев любил книги и не любил толпу, но по душевному складу он не был «отшельником»… Внутренние весы в его душе колебались уже давно, и чем дальше, тем больше, хотя он до поры, до времени пытался не думать об этом. Однако настала пора определиться.
Лев взял свечу и отправился в библиотеку. Перекрестившись, не глядя протянул руку и снял с крючка связку ключей от книжных шкафов. Первый попавшийся ключ был от шкафа с философскими рукописями. Открыв его, Математик так же наудачу снял с третьей полки книгу, взглянул и улыбнулся: это был Диоген Лаэртий. Лев открыл рукопись наугад и прочел вверху страницы: «…однажды Кратет схватил его за плащ, чтобы оттащить от Стильпона. “Нет, Кратет, философов мало хватать за уши: убеди и уведи! – сказал ему Зенон. – А если ты оттащишь меня силой, то телом я буду с тобой, а душой со Стильпоном”».
– Что ж, так и есть! – прошептал Лев.
Он убрал книгу на место, вернулся к себе, еще немного помолился и лег спать. На следующее утро он был в Сергие-Вакховой обители.
– Вероятно, мои бывшие единоверцы, если только не припишут всё твоему «колдовству», скажут, что «умственная гордыня» во мне оказалась сильнее смирения перед «евангельской простотой», – усмехнулся Философ, рассказав синкеллу об обстоятельствах, подвигших его сделать окончательный выбор.
– Призна́юсь, я ждал, что рано или поздно это случится, – улыбнулся Иоанн. – Но что до единоверцев… Ты ведь не собираешься выбрасывать из дома иконы, верно?
– Разве ты будешь этого требовать?
– Нет. Это я к тому, что граница более тонка, чем этого хочется твоим бывшим единоверцам, – сказал игумен с едва уловимой улыбкой. – «А давать всему этому простейшее объяснение пристало разве лишь тем, кто хочет морочить толпу».
– Вот это точно! – Лев помолчал и тихо рассмеялся. – Собрались два еретика и пришли к согласию, процитировав древнего безбожника!.. Так ты исповедуешь меня?
– Да.
После исповеди игумен сказал племяннику:
– Не скорби о госпоже Кассии. Она, разумеется, огорчится, но поймет тебя. А ей, думаю, это огорчение принесет и определенную пользу. Зато для государя твое обращение будет поистине благой вестью! – он улыбнулся. – Придешь завтра в Халкопратию?
– Да, я и на выход в Великую церковь собираюсь придти.
На Благовещение, по обычаю, император с синклитиками и чинами ранним утром совершал торжественный выход в Святую Софию, а оттуда крестным ходом вместе с патриархом все отправлялись в Халкопратийский храм Богоматери на литургию.
– Кстати, ты передал госпоже Кассии подарок государя? – спросил синкелл.
– На другой же день лично отнес. Она позавчера написала мне, что уже разучивает стихиру с сестрами.
– Августейший будет рад узнать об этом.
– Я скажу ему при встрече… Послушай, Иоанн, я давно хотел задать тебе один вопрос, но не решался. Быть может, это слишком личная история… В любом случае, разумеется, ты можешь не отвечать, если не хочешь.
– Что за вопрос?
Лев поднял глаза на синкелла.
– Чем ты обидел мою мать во время оно?
– Твою мать? – Грамматик чуть приподнял бровь. – Почему ты думаешь, что я ее чем-то обидел?
– Судя по тому, что она запретила мне в юности идти к тебе учиться и едва простила тебя на смертном одре, ты обидел ее очень сильно. Перед смертью она попросила меня передать тебе, что она тебя простила.
Иоанн молчал; Лев пристально смотрел на него, но не заметил на его лице никаких признаков волнения или замешательства: Грамматик просто раздумывал.
– Видишь ли, – сказал он, наконец, – с юности, даже с детства я любил проводить разнообразные опыты. Некоторые из этих опытов касались и женщин и оканчивались для них малоприятно… Впрочем, довольно скоро я понял, что с женщинами опытов лучше не совершать.
– Почему?
– Во-первых, после нескольких опытов я решил, что итог один и тот же, а потому это неинтересно; а во-вторых, – синкелл усмехнулся, – я понял, что такого рода опыты не всегда бывает легко удержать в изначально поставленных рамках… Ты говоришь, Каллиста запретила тебе учиться у меня? Когда же это было?
– Мне было тогда пятнадцать, я искал учителя философии, случайно узнал о нашем с тобой родстве и подумал, что, быть может, ты снизойдешь со своих высот до нищего племянника, – Математик улыбнулся. – А мать никогда не упоминала о тебе. Когда я заговорил с ней об этом, она взяла с меня клятву, что я никогда не буду учиться у тебя. Должно быть, боялась, что ты будешь… ставить надо мной опыты?
– Возможно, – задумчиво сказал Иоанн.
– Это после… случая с ней ты понял, что лучше не ставить опытов с женщинами?
– Нет.
«Не человек, а глубокий колодец! – подумал Лев. – А ведь у него, наверное, были в жизни свои страдания… и страсти…»
Синкелл взглянул на него.
– Простила перед смертью, говоришь? Что ж, благодарю, что сказал, – он помолчал. – Нелегкого нрава была женщина!.. Впрочем, – Иоанн усмехнулся, – в молодости и я был не подарок!
…На Благовещение после праздничного обеда Лев, тоже оказавшийся среди приглашенных, попросил позволения поговорить с императором и, когда они остались вдвоем, достав из холщовой сумы книгу в синей с золотым узором обложке, с поклоном протянул ее Феофилу.
– Государь, позволь мне сделать тебе подарок.
– Подарок? Ты сегодня уже сделал мне подарок, Философ, чего же лучше? – император улыбнулся и раскрыл книгу на первой странице. – Но, разумеется, и этот с благодарностью приму! О, тут еще и дарственная надпись!
– Да, – сказал Математик. – Да не прогневается твое величество на мое скромное сочинение.
– Как можно, Лев! – и Феофил прочел:
– Пожалуй, пришлось вовремя, – тихо проговорил император, еще раз перечитал эпиграмму и взглянул на Математика. – Благодарю, Лев! – Феофил принялся листать книгу. – Хм, занятно!.. Я знаю об этой повести, но до сих пор так и не прочел… Благодарю еще раз; кажется, это действительно весьма интересно!.. Только возникает вопрос, что же такое разумная любовь. Если, скажем, как у мучеников Хрисанфа и Дарии, то ко мне это точно отношения не имеет, – император чуть усмехнулся. – Но к этой повести, как я вижу даже при беглом просмотре, это тоже не относится.
– В повести, государь, имеется в виду хранение верности друг другу, несмотря на испытания и даже мучения. Это верно для земной любви, но если подняться до символического истолкования, то есть и иной брак. Истинный брак – только один, и на нем сочетаются любящие разумно… Тот вечный брак, где всем нам нужно встретиться, и ради него мы должны переносить здешние горести. Вот, примерно так…
– Да, хорошее толкование, – сказал Феофил. – Брак как встреча на небесах… – он опять раскрыл повесть ближе к началу, вчитался и усмехнулся. – Экая тут апология женоненавистничества! Но повесть всё же не про это?
– Нет, не про это. Она про любовь, преодолевающую все препоны. Влюбленные герои воссоединились, но прежде им пришлось много всего претерпеть.
– Пост еще не окончился, а ты подсунул мне такое непостное чтение, Философ! – император чуть улыбнулся.
– Истинный пост внутри, государь, и он или всегда есть, или его никогда нет, а перемена в еде – это ведь только вспомогательное средство.
– Да, я тоже думаю, что если ты считаешь, что какие-то книги читать не стоит, то их не нужно читать никогда, а не только в пост; если же читать их всё же можно, то тогда можно и в пост, не так ли?
– Именно, августейший, – с улыбкой кивнул Лев. – Но я решил подарить тебе эту книгу потому, что недавно узнал некоторые подробности одной истории, которая отчасти протекала на моих глазах… В этой книге есть еще одна дарственная надпись, сделанная когда-то для меня, но думаю, на самом деле она по праву принадлежит тебе.
В тот день, когда у него в доме Кассия встретилась с синкеллом, после ухода Грамматика она, наконец, в нескольких словах рассказала Льву о своем участии в выборе невесты императору и о последствиях этого, и он понял, что книга, подаренная ему ею, скоро обретет своего настоящего владельца – недаром Математику всегда странным образом казалось, что этот подарок предназначался на самом деле не ему…
Лев открыл книгу в самом конце. Император посмотрел и вздрогнул. Он сразу узнал почерк, но если бы даже и возникли сомнения – в молодости рука писавшей выводила буквы более округло, – им не дала бы места подпись чуть ниже: «От Кассии на молитвенную память».
– И какой же из эпиграмм ты посоветуешь больше верить, Лев? – спросил Феофил после небольшого молчания. – Твоей или ее? Признаться, я долгое время склонялся к мысли, что «жена, сияющая видом», – хотя и умеренное, но всё же зло… А теперь иногда думаю: не затем ли мы склонны считать нечто злом, чтобы причинять зло другим, не только не ощущая особых угрызений совести, но даже думая, что совершаем добродетели?.. Однажды в молодости я произнес довольно пылкую речь о христианской любви и о воздержании, но на самом деле мною тогда двигали чувства, весьма далекие от благочестия… Впрочем, – он усмехнулся, – такое бывает сплошь и рядом. Жизнь… похожа на кристалл хрусталя неправильной формы: посмотришь через него с одной стороны – вроде бы чудятся одни очертания, а повернешь – уже иные… Или вот еще есть такие странные оттенки глаз: на солнце они кажутся одного цвета, при свечах другого… А каков их цвет на самом деле, даже и понять трудно. Зависит от угла зрения.
Император отошел к окну. Что знал Математик об этой истории? Кассия что-то рассказала ему… впрочем, скорее всего, лишь в общих словах… Какое всё-таки странное переплетение судеб!..
– Да, но это понятно, – сказал Лев. – Мудрецы говорили, что советовать другим легко, а познать себя трудно, но познать себя и достичь счастья можно только через деятельность «в согласии с правильными понятиями». Счастье – плод деятельности, и у апостола сказано, что «трудящемуся делателю первому подобает вкусить от плода». Когда мы начинаем осуществлять то, что сочли правильным, мы неизбежно сталкиваемся со множеством оттенков, которых раньше не замечали, так что иногда приходится пересматривать свои понятия о правильном. Младенцы умом и душой рассуждают по-детски и часто смотрят на жизнь слишком упрощенно, но, придя в совершенный разум, мы «оставляем младенческое».
– Да, простота и упрощенность – далеко не одно и то же… Хотя мудрость и софистику не всегда легко различить, даже в собственных рассуждениях, – Феофил чуть заметно усмехнулся. – Для этого нужен жизненный опыт. Иной раз думаешь, что уподобляешься той самой мудрой и рассудительной змее, о которой Христос говорит, а потом оказывается, что подражал в лукавстве змию…
– Жизнь на то и дана, чтобы мы, проходя через испытания и получая разные уроки, поняли, что нами движет на самом деле, какие из наших побуждений истинны, а какие ложны… И чтобы, поняв это, мы постарались исправить те ошибки, которые, быть может, успели сделать раньше, пока этого не понимали.
Феофил пристально взглянул на Математика.
– Думаешь, Лев, их действительно можно исправить?
– Я уверен, государь, что в наших силах исправить многое, а в остальном поможет Бог, если увидит старание человека. Закхей всего лишь влез на дерево, а Христос тут же пришел к нему в дом, а когда Закхей выразил желание исправить прежние свои злые деяния и ошибки, Господь сказал, что пришло спасение не только самому Закхею, но и всему его дому… О том же, кажется, сказал и Гомер:
«Шествуй, о друг! а когда что суровое сказано ныне, После исправим; но пусть то бессмертные всё уничтожат!»
– Что ж, будем надеяться, Философ, – задумчиво проговорил император.
20. Дружба и вера
Те, кто желает друзьям блага ради них, друзья по преимуществу. Действительно, они относятся так друг к другу благодаря себе самим и не в силу посторонних обстоятельств, потому и дружба их остается постоянной, покуда они добродетельны, а добродетель это нечто постоянное.
(Аристотель, «Никомахова этика»)
Кассия сидела у себя в келье и читала письма игумена Феодора из сборника, составленного студитами после его кончины; копию этого сборника недавно сделал для ее обители Николай. Собрание было объемистым: Николай, находясь рядом с Феодором и исполняя послушание писца, копировал письма, казавшиеся ему важными, а когда братия и почитатели Студита узнали, что игумен Навкратий хочет собрать писания исповедника, они стали приносить сохранившиеся у них послания или их копии.
«Нет ничего похвальнее истинного друга, – так начиналось одно из писем. – Но когда среди любящих возникает разногласие из-за веры, тогда, естественно, вместе с верой разрывается и любовь. Но зачем мы сделали это вступление, господин? Твоему почтенству хорошо известны и прежняя дружба, и последующее разделение. Поэтому мы сомневались, можно ли тотчас принять посылки от твоего превосходства…»
«“Естественно”? – подумала Кассия. – Почему же тогда мне это вовсе не кажется естественным?..»
Действительно, хотя пришедшее вечером Благовещения письмо от Льва, где он сообщал, что присоединился к иконоборцам, и подробно рассказывал историю своего «обращения», стало для игуменьи вестью вовсе не благой, у Кассии и мысли не возникло, что ей нужно прекратить с Математиком все отношения. Он просил в письме прощения за то, что вынужден огорчить ее, но уверял, что не мог поступить иначе и теперь ясно сознаёт, что этот шаг уже давно был всего лишь вопросом времени… Она прекрасно его понимала и не могла осуждать, особенно после своей недавней встречи с «Ианнием». Когда ее разговор наедине с синкеллом окончился, они позвали Льва и втроем еще долго, до самой темноты сидели в гостиной и беседовали. Кассия попросила у Математика пергамента и чернил и написала для императора стихиру про жену-грешницу, после чего разговор какое-то время вращался вокруг гимносложения. Потом Грамматик рассказал, что недавно Евфросина, бывшая императрица, прислала Феофилу очень любопытную рукопись, переданную ей родственником: это был сборник кратких историй, точнее, забавных рассказов, касавшихся различных построек Константинополя, особенно много места там уделялось статуям, украшавшим Город, и связанным с ними поверьям. Судя по всему, автор жил в царствование Константина Исаврийца: в рукописи он именовался императором «нашего времени», а его отец Лев упоминался как уже умерший. Сборник представлял собой причудливую смесь разных сведений, почерпнутых из исторических сочинений или устных преданий, сплетение фантастических подробностей и суеверий, рассказов о «чудесах» от различных статуй, легенд об основателе древнего Византия, насмешек над высокопоставленными лицами, даже над императорами, о которых подчас сообщались сведения самые странные. Например, о Константине Великом рассказывалось, будто он воцарился, победив Византа не то в вооруженном поединке, не то на скачках, причем автор сборника уверял, что венеты приветствовали императора-победителя криками: «Ты вновь с кнутом в руке выходишь на арену, как будто получил вторую молодость!»
– А ведь это не что иное, как начало эпиграммы, начертанной на статуе возницы Порфирия на Ипподроме, – сказал синкелл. – Вообще, эта книга чрезвычайна забавна! Давно я не читал столь затейливого переплетения вымыслов и действительности. Причем автор, похоже, сам верил в большинство выдумок, которые пересказывает.
– Действительно любопытно! – улыбнулся Лев, – Впрочем, для большинства народа история существует именно в виде подобного смешения сказок и были.
– Я бы сказал, что не только для народа, но и для людей весьма образованных и, так сказать, избранных, – заметил Иоанн. – Исторические сочинения – вообще очень коварная вещь. Стоит историку хотя бы лет на пять-десять удалиться от событий, как быль уже начинает уступать место вымыслам или натянутым и извращенным толкованиям, особенно если меняется обстановка в государстве или в Церкви, например. Трудно встретить изложение хотя бы не очень предвзятое!
– Мне иногда кажется, – сказала Кассия, – что люди вообще гораздо охотнее верят выдумкам, чем правде. Удобнее верить в привычное, в общепринятые представления о жизни и людях… А ведь жизнь не всегда идет по привычным дорогам!
– Так и есть, – кивнул игумен. – Но иной раз склонность людей верить в общепринятое можно неплохо использовать.
– Каким образом? – поинтересовалась Кассия.
– Например, не всегда нужно разуверять того, кто превратно думает о тебе. Скажем, многие невежды считают меня колдуном, но мне это только на руку – избавляет от необходимости лишний раз сталкиваться с ними, ведь они сами обходят меня стороной!
Все трое рассмеялись.
– Да, – сказал Лев, – пожалуй, если б ты не имел дурной славы в некоторых кругах, то, при твоем образе жизни, многие из этих невежд рвались бы к тебе за духовными советами…
– Вот именно. Зато, будучи «волхвом», я могу позволить себе давать советы только тем, кому они действительно нужны и послужат на пользу, – синкелл с улыбкой взглянул на Кассию, и она улыбнулась в ответ.
Теперь она снова вспоминала эту беседу, за которой незаметно пролетели несколько часов, и разговор со Львом после ухода Грамматика.
– Помнишь, я спрашивала тебя, что делать, если встречаешь свою «половину», а ты сказал, что нужно вступать в брак? Я потом долго мучилась этим вопросом… И позже, в монастыре, когда всё вернулось, и потом, когда государь приходил… И только сегодня, наконец, кажется, всё объяснилось!.. Ну, почти всё… кроме разной веры, – она вздохнула. – Но может быть, и здесь со временем всё устроится…
– Думаю, устроится! – ответил Философ. – Тебе выпал путь не из легких… Но вам с государем можно только завидовать!
– А я иногда очень завидую тебе, Лев, – тихо проговорила игуменья. – Ты так много общаешься с такими людьми… В юности, когда я мечтала о монашестве, мне и в голову не пришло бы, что я буду завидовать мирянину, причем из-за того, что он общается с умными еретиками! – она грустно улыбнулась. – Всё-таки я плохая Христова невеста…
– Я не стал бы утверждать это с такой уверенностью. Вся наша жизнь это, в сущности, Троянская война, так или иначе она продолжается до самой смерти. Так что, пока мы живы, не стоит спешить с выводами: «Впрочем, еще то лежит у бессмертных богов на коленях: мчись и мое копие, а Кронион решит остальное!» А что до общения с умными людьми… Оно, разумеется, великий дар Божий, но ведь всяким даром нужно уметь воспользоваться… Кто знает, не истяжут ли меня на том свете за то, что я не использовал его так, как нужно?..
Так, как нужно!.. А как нужно?.. Вернувшись в обитель в тот день, Кассия записала в тетрадь очередную эпиграмму:
«Смотря у кого вызывать зависть! – думала она теперь. – Если жить добродетельно, понимая добродетель так, как эти монахи, из-за которых Лев ушел из Антипьевской общины… Нет, так “добродетельно” я уже никогда не буду жить! А они вряд ли будут мне завидовать. Завидуют ведь тому, кто имеет что-то ценное, с твоей точки зрения, а для них ученость не имеет особой ценности… Пожалуй, они даже будут относиться к ней с подозрением! Она ведь одних до “волхвования” доводит, а других уводит от православия в ересь… Лев сказал, что завидует мне… Но добродетель тут, строго говоря, не при чем! Общение душ?.. Что в нем пользы, если, умри мы с Феофилом сейчас, на небесах нам не встретиться?! И изменится ли это к тому моменту, когда мы действительно умрем, неизвестно… Должно быть, владыка Евфимий был прав, когда сказал, что Иоанн “закрыл государю все входы и исходы”… Только ведь это так понятно! Вот и Лев не устоял…»
– «Колдун»! – прошептала Кассия, грустно улыбнулась и смахнула слезы с ресниц.
Она закрыла сборник писем Студита, встала и подошла к окну. Что ж, значит, у нее с отцом Феодором разные понятия о дружбе, если он мог сразу прекратить дружеское общение при разрыве общения церковного и даже подарков не принимал, а ей такая мысль не только кажется странной, но… Знали бы ее единоверцы, что она обменивается подарками с «предтечей антихриста» и разучивает с сестрами написанную им стихиру!..
«Вместе с верой разрывается и любовь»… С этой точки зрения весь ее разговор с Грамматиком был весьма неблагочестив – ведь, в сущности, они обсуждали вопрос дружбы между православной и еретиком… А всё, как будто бы, должно быть понятно: их любовь – греховная страсть, с которой надо бороться, а дружбы между ними не может быть в силу разности веры… И никаких вопросов, не так ли?..
Конечно, если бы речь шла не о дружбе вообще, а о дружбе ради борьбы за веру, утверждения православия и подобных вещей, то это, наверное, так. Такие друзья, встречаясь, конечно, обсуждали бы церковные вопросы, говорили о гонениях на веру, о доводах в защиту иконопочитания, о том, когда кончится еретическая зима…
Ни о чем таком Кассия с тем же Львом почти никогда не разговаривала. Это не значило, что состояние церковных дел не интересовало ее. Она просто не видела смысла рассуждать об этом. Как говорил о торжестве иконопочитания игумен Феодор, Бог «не поспешит, хотя бы мы и молились об ускорении, и не замедлит, хотя бы мы умоляли о том, но придет тогда, когда это полезно», – если же это так, какой смысл рассуждать о сроках, и о том, «доколе»? Держаться своей веры, исповедовать ее, пытаться обратить непонимающих – всё это можно делать без праздных разговоров и пересудов. Кассия обсуждала со Львом совсем иные вопросы, не имевшие отношения к догматам, и могла бы их обсуждать и с «Ианнием», и с Феофилом… Как тут разная вера может мешать общению? Это нелепо!..
«Дружба существует только между взыскующими, в силу их сходства». Сходства характеров, занятий, умонастроения, стремления к истине, как бы ее ни понимать… Разумеется, древние философы не имели здесь в виду сходства догматов… Но ведь и Феофил, и Иоанн, и Лев в конечном счете, взыскуют Небесного Града, хотя у нее с ними и разная вера… Разная вера не мешала ей обсуждать с Грамматиком даже духовные и аскетические вопросы! Так не бессмысленно ли в таком случае думать о прекращении дружбы со Львом или о невозможности дружбы с Феофилом из-за разной веры?..
Пытаться убедить в догматических истинах людей, которые сами знают, может быть, лучше тебя, все те доводы, какие ты можешь выдвинуть, – не смешно ли? Именно потому ей не хотелось обсуждать с Грамматиком вопрос об иконах и представлялась неуместной попытка «образумить» Математика… А Феофил? Любой из исповедников, разумеется, счел бы необходимым постараться обратить василевса, если б ему представился случай… Счел бы это своим непременным долгом! Только почему? Разумеется, потому, что в деле торжества православия от самодержца зависело слишком многое, если не всё… Но вот вопрос: кого волновала вечная участь души императора сама по себе?..
А если бы случай обратить Феофила представился ей?..
Кассия повернулась и взяла со стола окрашенный в пурпур лист пергамента, где, в нарисованной серебром рамке из виноградных лоз, золотом была написана стихира с серебряной разметкой мелодии – рукой некогда вписавшей три слова в стихиру про жену-грешницу. Общение душ… Конечно, если б она общалась с Феофилом хотя бы письменно, она бы попыталась отвратить его от иконоборчества… Но к чему бы это привело? Возможно, император прислушался бы к ней больше, чем к другим… Только из любви ли к истине или… из любви к женщине?.. Впрочем, не то же ли самое у нее? Ей не хотелось, чтобы сбылось пророчество о его смерти, – значит, спасения любимого человека ей хотелось больше, чем скорейшего торжества истинной веры… Но можно ли это разделить? Разве Бог не любит каждого человека так, что за каждого снова претерпел бы распятие, как о том писал Ареопагит?
А может быть, православные до сих пор гонимы потому, что все хотят торжества веры, а о спасении отдельных людей, особенно врагов, думают гораздо меньше?..
В любом случае, если бы возможность обратить Феофила к православию ей действительно представилась, то вместо бесед с Иоанном об аскетике ей пришлось бы вступить с ним в диспут об иконах!.. Впрочем, нет, до этого бы не дошло, наверное. Но таких дружеских бесед, как теперь, вероятно, им вести бы не пришлось…
– Дружба с ересиархом! – она усмехнулась.
Она говорила с этим человеком три раза в жизни и, скорее всего, больше никогда не встретится, и этот человек принимал самое непосредственное участие в гонениях на дорогих ей исповедников, ее единоверцев!.. Что же? Разве она поколебалась в догматах веры? Нисколько. Разве отцы Навкратий, Николай, Дорофей и другие или память об отце Феодоре и прочих почивших исповедниках стали ей менее дороги? Нимало. Она по-прежнему любила их, а они – она знала это хорошо – любили ее и всячески сочувствовали ей и желали ее спасения. Но – теперь она это тоже хорошо сознавала – никто из них не смог бы ей помочь так, как помог «великий софист». Почему? Потому что он был ей ближе по умонастроению, по образу жизни? Или потому, что он смотрел на всё более философски и более широко, если можно так выразиться? Или потому, что у него самого был подобный опыт?.. Кассия смутно догадывалась, что Грамматик, говоря о любви и дружбе, исходил не только из теоретических познаний, но, разумеется, узнать что-нибудь о частной жизни игумена не представлялось возможным: Лев уже давно написал ей, что синкелл – «самый загадочный человек на свете»…
Как бы то ни было, существовало три человека, наиболее близких ей умственно и душевно, и все они сейчас находились в стане еретиков, а большинство собственных единоверцев внутренне ей были гораздо менее близки…
«Вот жизнь! – подумала Кассия. – Только разрешились одни мучительные вопросы, как тут же на их место пришли другие! И эти, кажется, я должна буду разрешать сама… А ведь было бы интересно обсудить всё это со Львом и с Иоанном… и с государем… Но это невозможно… Остается только молиться… Ведь, в конце концов, молитва сильнее слов!»
Эти сложности были не единственными. Игуменью беспокоила Евфимия: хотя она довольно легко приспособилась к новой жизни, радостно исполняла все послушания, какие бы ей ни давали, с сестрами была кротка, и все ее любили, но на девушку часто нападала тоска. Кассия слишком хорошо была знакома с этой тоской и скорбела оттого, что даже при своем знании могла помочь послушнице разве что понимающим сочувствием. Духовные средства борьбы были известны – молитва, терпение, откровение помыслов, – но Кассия знала, что нужны месяцы и годы труда, прежде чем станут явно ощутимы плоды. Особенно ее угнетала мысль, что Евфимия не могла иметь даже того «человеческого» утешения, что было у нее самой, – сознания внутреннего сродства, душевной близости, дружбы, которой не мешало расстояние: Евфимия была уверена – и, видимо, справедливо, – что история ее падения для императора явилась только случайным происшествием, что он сошелся с ней невзначай и расстался без каких бы то ни было сожалений. Скорее всего, он даже не подозревал, что не только вторгся в ее тело, но и перевернул всю ее душу… И теперь она мучилась воспоминаниями о человеке, для которого была пустым местом!
– Иногда я начинаю его ненавидеть, – призналась она как-то игуменье. – Но это, верно, обратная сторона страсти. Я не могу его ненавидеть. Да ведь это и грех… Куда ни посмотри, с какой стороны не зайди, везде один грех!.. Что за безысходность!.. Я не должна о нем думать… должна испытывать только сожаление о том, что согрешила, каяться… А я… иногда… жалею, что это было только раз и больше уже не будет… И я всё равно никогда его не забуду! – она расплакалась.
– Нельзя требовать от себя невозможного, Евфимия, – тихо сказала Кассия. – Это признак не раскаяния, а гордости. Помнишь, мы недавно читали у святого Макария: благодать Божия не сразу овладевает всеми пажитями сердца, не сразу воцаряется в нас, а постепенно. И даже если нам кажется, что мы уже изжили грех, это еще ни о чем не говорит: возможно, греховные желания просто спят в нас до времени, а потом придет случай, и всё обнаружится, да еще с такой силой, с какой никогда и не бывало раньше. «Как вода течет в трубе, так и грех – в сердце и помыслах». Но тот же святой говорит, что человек драгоценнее не только всех видимых тварей, но и ангелов. Если Бог даже грешников, не знающих и не желающих Его, питает и вразумляет, то оставит ли Он тех, кто каждый день устремляет к Нему мысль? Делай то, что можешь, молись, как получается. Бог смотрит на старания сеятеля, а не на то, сколь много возрастет из того, что мы сеем, – она помолчала. – И за государя молись, чтоб Господь вразумил его, прежде всего относительно веры. Всё, что бывает в этой жизни, плохое или хорошее, когда-нибудь окончится, может быть, гораздо быстрее, чем мы думаем… Надо больше думать о встрече на небесах.
– Я думаю, матушка, – прошептала Евфимия. – И я за него молюсь.
В Цветоносную неделю на утрени в обители спели новую стихиру. Поначалу игуменья колебалась, говорить ли сестрам, чьим сочинением она была, но потом решила, что туманные отговорки могут породить больше толков, чем правда, тем более, что всех монахинь стихира просто восхитила. К некоторому удивлению Кассии, известие об авторстве сестры приняли тоже с восторгом, наперебой стали вспоминать, как император посетил монастырь, как хвалил их занятия, и тут же все признались, что молятся за государя, чтобы он обратился к истинной вере и не умер в ереси. Игуменья едва не расплакалась: в этот день она ясно поняла, что обитель, в которую она столько лет вкладывала свою жизнь, теперь отдавала ей сторицею – и, может быть, не только ей, но и тем, кто был ей дорог… Ведь, в конечном счете, есть ли на свете что-нибудь дороже молитвы, хотя люди так часто презирают ее и не верят в ее силу!..
На этих словах слезы подступили к горлу Кассии, но она усилием воли сдержалась – надо было допеть. «Нет, не может быть, чтобы Господь оставил его! – мелькнуло у нее в голове. – Разве можно сочинить такое без Божией помощи?.. Это слишком прекрасно!..»
…Вечером Великой среды игуменья получила письмо от Льва. «Сегодня твою стихиру пели в Святой Софии. Государь захотел быть на службе там, а не в дворцовой церкви, и сам управлял хором. Стихира великолепна! В храме многие плакали, и я тоже».
«Вот и сбылась детская мечта! – подумала Кассия. – Но как! Знала бы я, когда мы говорили об этом с мамой и отцом Симеоном, что мою стихиру будут петь в Великой церкви иконоборцы!.. Пожалуй, я бы страшно возмутилась…»
Стихира действительно произвела на слышавших ее в Святой Софии необычайно сильное впечатление, особенно на женщин – на галереях пролились потоки слез. Императрица тоже пришла в такое умиление и сокрушение, какое давно уже не посещало ее. Августа догадалась, что хор пел ту самую стихиру, о которой Феофил говорил ей, вернувшись после посещения Кассииной обители, но, хотя это вызвало у императрицы некоторую ревность – впрочем, к ее собственному удивлению, не такую уж острую, – Феодора ничего не стала говорить мужу. Сначала она хотела расспросить его и, быть может, немного съязвить или как-то выразить свою обиду, но вдруг подумала, что это будет выглядеть глупо и ни к чему хорошему не приведет: «Я только лишний раз покажу себя сварливой ревнивицей, а что в том пользы? Ведь он же честно сказал мне, что нельзя требовать от него того, чего он не может дать…» Однако главное было даже не в этих соображениях, а в том, что Феодора боялась порвать незримую нить, тончайшую, почти неопределимую, которая протянулась между нею и Феофилом, помимо плотского влечения, связывавшего их всегда. Она сама не могла пока понять, что это за нить, какова ее природа, что следовало из этой связи, но ясно ощущала, что связь существует, и старалась гасить свои обидчивые порывы. Но стала ли она сдерживаться потому, что ощутила эту возникшую связь, – или может быть, напротив, осознала существование этой связи потому, что сумела выйти из замкнутого круга своих оскорбленных чувств и взглянуть на мужа другими глазами? Как бы то ни было, появление этого другого зрения определенно было связано с попыткой соблазнить Евдокима, потому что теперь императрица уже не ощущала себя столь «невинной», как прежде. Феофил сказал, что «всё знает» о ее неудавшейся попытке измены, – но догадывался ли он о том, что, обняв комита схол, она ощущала не просто желание отомстить? Она хотела Евдокима – и то, что измена не состоялась, нимало не оправдывало ее, ведь это случилось не по ее желанию, а вопреки ему… Вряд ли влечение к этому «мальчику» можно было назвать любовью, но всё же красивый каппадокиец, с его страстью, нежностью, сочувствием, преданностью и проницательностью, не оставил ее равнодушной – она понимала это слишком ясно, и это сознание не давало ей судить Феофила так легко, как это она делала раньше…
На второй седмице после Пасхи Феодора зашла в императорскую библиотеку положить на место «Пир» Платона и встретилась там с Математиком. Феофил разрешил ему посещать библиотеку в любое время, и августа нередко видела его там. Вот и теперь Лев сидел за столом и просматривал какую-то книгу, а перед ним лежали еще несколько рукописей. Увидев августу, он встал и поклонился.
– Здравствуй, господин Лев, – улыбнулась Феодора. – Что ты так прилежно изучаешь? Должно быть, что-то философское?
Она не так уж часто общалась с Философом, но он внушал ей симпатию и очень располагал к себе. Августа радовалась, что теперь они были и в церковном общении, и ей уже не раз приходила в голову мысль задать Льву кое-какие занимавшие ее вопросы. Вероятно, на них мог бы ответить и синкелл, но его Феодора всё же побаивалась; ей казалось, что Лев, много лет учивший самых разных людей, проявит больше снисходительности, если она вдруг скажет какую-нибудь глупость…
– Нет, августейшая, – ответил Математик. – Хочу подобрать несколько толковых сочинений о составлении гороскопов и сравнить их.
– Ты думаешь, что наша судьба зависит от звезд? – недоверчиво спросила императрица.
– Нет, в прямую зависимость и в то, что вся жизнь человека с рождения подчинена движению светил, я не верю, разумеется. Но мне думается, что время рождения оказывает определенное влияние на характер или, по крайней мере, может оказывать… как например урожай пшеницы зависит от времени посева. А те или иные черты характера впоследствии влияют на жизнь человека. Хотя тут, конечно, всё небезусловно, но некие закономерности, тем не менее, существуют.
– Хм… Моя мать всегда говорила, что гороскопы это «бесовские суеверия», а мне самой казалось, что это очень обидно – зависеть от бездушных звезд! Если всё предопределено, то зачем пытаться что-то изменить в своей жизни? Но ты интересно объяснил… Характер, конечно, влияет… А я вот читала Платона. Захотелось немного приобщиться к философии.
– Весьма разумный шаг, августейшая!
Императрица усмехнулась.
– Мне, вероятно, стоило бы заняться этим гораздо раньше… Но в юности я считала, что женщинам философию знать не нужно, – она помолчала. – Возможно, если б я думала иначе, я бы избежала многих неприятностей в жизни… Впрочем, – добавила она с горечью, – это всё равно было невозможно! У нас в семье никому в голову не приходило учить девочек таким вещам.
Лев внимательно посмотрел на августу.
– Мне кажется, государыня, что полезнее учиться чему-либо тогда, когда сам осознаёшь в том нужду. Сейчас ты видишь, что тебе нужна философия, и ты будешь внимательно изучать ее, а если б тебя пытались учить ей в юности…
– Когда я засыпала над Аристотелем! – Феодора грустно улыбнулась. – У отца в библиотеке была его книга «О душе», и я однажды попробовала почитать ее… С тех пор больше не пробовала. У меня никогда не было склонности к таким вещам! А потом… потом оказалось, что мне бы весьма пригодились философские познания… только уже было поздно.
– Думаю, пока мы живы, научиться чему бы то ни было никогда не поздно, так говорил еще Сократ. Когда его укоряли, что он в старости стал учиться играть на лире, он ответил: «Разве неприлично узнавать то, чего не знал?» А мудрец Фалес сказал, что счастлив тот, кто «здоров телом, восприимчив душой и податлив на воспитание». Но некоторые души, по разным причинам, бывают поначалу невосприимчивы и, как следствие, неспособны к обучению, это развивается в них только с годами. Души, они как нити, августейшая. Шелковую производит сама природа, и эта нить наиболее тонка, мягка и красива; шерсть мягка, но ее нужно чесать и обрабатывать, прежде чем прясть; лен груб и жёсток, и его приходится долго трепать и, можно сказать, всячески издеваться над ним, прежде чем он умягчится и станет пригоден для тканья, но зато из него потом выходят ткани тончайшие и легкие, мало уступающие шелковым.
– А есть еще пенька, из нее только веревки плетут, – с усмешкой сказала августа. – Боюсь, я и сейчас невосприимчива ко всей этой философии, хотя вроде бы есть и стремление понять… А что толку? У меня мысли… слишком прямые! Вот, прочла «Пир» и подумала… что вообще-то… эти пирующие – обыкновенные мужеложники! – она чуть покраснела. – Какую любовь они там хвалят как «небесную»?!
– Так считалось у древних эллинов. Но разумнее всего толковать это символически, – сказал Лев с улыбкой.
– Как именно?
– «Афродита пошлая» вызывает любовь к женщинам вообще, так сказать, без разбора, «Афродита небесная» – только к таким, которых принято называть «мужеумными»… Как сказала святая Сарра: «Я женщина по телу, а не по уму».
– То есть… получается, что «небесно», не для одной похоти, любить можно только умных женщин?
– По крайней мере, умному мужчине, – улыбнулся Математик. – И в этом смысле такую любовь можно назвать «мужской». Но, как видно из сказанного Диотимой в «Пире», это только начало восхождения.
– А прочие смертные влачатся в прахе и им питаются, – пробормотала императрица.
– Только пока хотят этого, – возразил Лев. – К тому же надо помнить, что ум – это вовсе не совокупность многих знаний как таковая. Один философ сказал, что «ученый – это не тот, кто много читает, а тот, кто читает с пользой».
– Возможно, ты и прав относительно… размягчения души через трепку, – проговорила Феодора. – Только всё не так просто! Бывает, что ощущаешь что-то… а понять, объяснить не можешь! Прости, что я так, – добавила она, немного смутившись. – Мне давно хотелось… поговорить об этом с кем-нибудь…
– Не нужно извиняться, августейшая, – тихо сказал Философ. – Я постараюсь помочь, если смогу.
– Благодарю, Лев! Так вот… если не можешь понять свои ощущения, то что за польза в такой восприимчивости?
– Думаю, польза хотя бы та, государыня, что становишься не так быстр на решительные суждения.
Императрица взглянула на Льва и, поколебавшись, сказала:
– Вот ты, Лев, такой умный… Ты, наверное, никогда не был влюблен.
Математик рассмеялся.
– Почему же? Был.
– Неужели? – Феодора поглядела на него с интересом. – Ты прости мое любопытство…
– О, это ничего, государыня!
– Значит, был… И взаимно?
– Нет.
– Поэтому ты и остался холостяком?
– Нет. Хотя, если б та девушка согласилась выйти за меня, я бы женился… Но вообще, я с ранней юности решил не вступать в брак, моими возлюбленными были науки и книги. Влюбленность… просто была внезапным срывом и довольно быстро прошла. Теперь, после некоторых событий, узнав разные вещи, я думаю, что, хотя в результате этой истории я тоже кое-что понял, на самом деле я оказался, скорее… орудием промысла… Да, наверное, так.
– Любопытно… Орудием промысла для чего и кого?
– Для той девушки.
– И в чем же был этот промысел?
– Отчасти в том, чтобы помочь ей лучше понять свое предназначение.
– Даже так?
– Возможно, это несколько дерзновенно сказано, но в общем отражает истину. У каждого человека есть в жизни свое предназначение, определенное для него Богом. Когда человек его исполняет, он находит путь спасения, который у каждого свой, и бывает счастлив. Одни легко находят этот путь, другие долго ищут… Но всё, что случается с человеком, посылается ему ради того, чтобы он понял и исполнил это предназначение. К сожалению, далеко не все понимают и часто исполняют совсем не то, что задумал о них Бог…
– Вот именно! – воскликнула императрица с некоторой горячностью. – Как я завидую людям, которые это поняли!
Она умолкла, отошла к окну, постояла там в раздумье и снова повернулась к Математику.
– А я вот, Лев, ничего не понимаю в своей жизни, и уже давно! Всё только запутывается! – императрица помолчала, собираясь с мыслями. – Ведь если со мной что-то случилось, я должна понять, зачем оно было! Но я не могу понять! А значит, не могу понять и предназначения… И вот, если ты не знаешь, в чем оно, то можно ли понять, как жить? Ходишь, как в тумане… С тобой что-нибудь случилось, а ты не понимаешь, ради чего или из-за чего это… Потому ли, что ты совершил какую-то ошибку? Но ведь не всегда… Вот хоть с той же философией: меня не учили ей, воспитывали совсем по-другому… Чем я виновата, что не знала всей этой премудрости, когда она мне вдруг понадобилась? Получается, если неприятности, возникшие из-за моего… невежества… это кара Божия, то Бог наказал меня за незнание того, чего я, по Его же промыслу обо мне, и не могла знать! Ведь это жестоко, несправедливо! Может ли Бог так поступить с человеком?.. А если не может, то значит, Он всё так устроил ввиду каких-то грядущих целей, нам неведомых?.. Но если ты ничего этого не понимаешь, то не можешь и выводов правильных сделать. А если не можешь сделать выводов, то не можешь и понять, как жить дальше… А значит, можешь сделать новые ошибки… за которые придется расплачиваться потом – так это порочный круг какой-то!
– Но ведь ты всё-таки можешь сделать хоть какие-то выводы из того, что произошло, государыня?
– Какие-то – да, могу, – она помолчала. – Да… особенно в последнее время я… кое-что осознала… и стала вести себя немного не так, как прежде… Но этого мало!.. Это меняет что-то мелкое, а в целом всё остается по-прежнему!
– Возможно, это только кажется, августейшая, что почти ничего не меняется. Но даже если и так, мелочи тоже бывают важны. Сейчас ты поняла что-то «мелкое» и сделала определенные выводы, а потом они помогут тебе понять что-то более важное. Маленькие капли воды пробивают твердые камни. Ручьи текут под землей, и вроде бы сверху ничего не заметно, но постепенно они размывают почву, она оседает, горы рушатся, и вся картина местности становится иной. Просто мы нетерпеливы, а нужно уметь ждать.
– Да, иногда мне кажется, что вот-вот… изменится что-то важное… И мне страшно, Лев! Я боюсь сделать лишнее движение, лишний шаг… потому что кажется, что опять совершу ошибку и всё испорчу… А с другой стороны, боюсь, что наоборот, может, надо сделать какой-нибудь шаг… А я не знаю, какой, не понимаю!.. А потом будет поздно… Это ужасно!.. Или я просто… слишком много думаю, о чем не надо? Может, надо просто следовать не тобой заведенным порядкам, от церемонии к церемонии, от богослужения к обеду, от чтения к вышиванию, от детской к прогулке по парку… Так и жизнь проходит, вроде… Но только иногда всё-таки задумываешься… и становится невыносимо! Да, наверное, надо просто не думать… Цветы благоухают, море искрится, небо безоблачно, а тебя каждый день величают «радостью мира»… Всё хорошо ведь, правда?!
Она умолкла и отвернулась к окну.
– Понять не всегда бывает легко, – тихо сказал Математик. – Иной раз путь очень долог и тернист. Но ты подожди, августейшая. Ведь жизнь еще не кончилась.
21. Вера и дела
Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?… Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих».
(Послание апостола Иакова)
11 мая отмечался праздник основания Города, и, по обычаю, на Ипподроме были устроены «Овощные» бега. В перерыве после четырех забегов выступали мимы, а народ уже предвкушал раздачу овощей и сладостей, грудами разложенных на телегах, и рыбы с небольшого судна, привезенного на арену с помощью платформы на колесах, когда всеобщее внимание привлекло необычное представление перед императорской ложей. Два мима вывезли на сцену тележку с парусным суденышком, нагруженным самой мелкой рыбешкой, и один актер закричал другому:
– Ну, давай, проглоти его!
Второй, разинув рот и вытаращив глаза, обошел суденышко раз, другой, развел руками и захныкал:
– Не могу-у-у!
– Как?! – заорал первый. – Препозит Никифор проглотил груженое судно у вдовы и не подавился, а тебе не под силу это слопать?
Император, наблюдавший за сценкой, приподнял брови и, обернувшись, в упор взглянул на препозита священной спальни. В глазах у того плескался ужас.
– Разве в отношении госпожи Феофании справедливость все еще не восстановлена? – спросил василевс.
– О, государь! – раздался снизу женский голос. – Сжалься над моей бедой! Господин препозит не возвращает мне судно, сколько я ни молила его!
Феофания была вдовой купца и после смерти мужа продолжала вести его дела. Ей осталось от него хорошее судно вместимостью в тысячу модиев, на которое и позарился императорский препозит, попросту отобрав его у владелицы силой, в надежде остаться безнаказанным благодаря высокому положению – он был среди первенствующих в Синклите, а император весьма благоволил ему. Феофания, однако, не пала духом и, когда василевс совершал обычную поездку во Влахерны, бросилась к его ногам, жалуясь на обиду, нанесенную препозитом. Феофил пообещал разобраться и действительно приказал Никифору вернуть вдове ее собственность. Препозит обещал всё исполнить, но ничего не сделал, а когда вдовица пришла к нему, приказал слугам выгнать ее, не удостоив ни единым словом: требование Феофании пришлось очень некстати – Никифор уже снаряжал судно для отправки по торговым делам в Трапезунд, заключил несколько сделок и рассчитывал на немалую прибыль… Между тем приближался «Овощной ипподром», и вдове пришла в голову смелая мысль: она встретилась с мимами, которые готовили выступления к предстоящим скачкам, рассказала им о своей беде, и те обещали помочь ей. Разыгранная сценка достигла цели, и Феофания распростерлась перед императорской ложей, умоляя о справедливости.
– Господин Никифор, – снова обратился император к препозиту, – насколько я помню, ты сказал мне, что немедленно вернешь этой женщине ее судно, и разговор наш был уже больше двух недель назад. Итак, ты солгал?
– Государь, прости! Я завтра же всё верну! – дрожащим голосом проговорил препозит и упал к ногам императора.
– Завтра? – переспросил Феофил, гневно сверкнув глазами. – Эту фразу я от тебя уже слышал, господин Никифор! И у тебя было, по меньшей мере, пятнадцать «завтра». А теперь завтра для тебя больше не настанет, – он повернулся к эпарху. – Господин Феодор, возьми этого лжеца и грабителя и сегодня же предай его казни! Судно должно быть до захода солнца возвращено госпоже Феофании, также пусть ей будет отдана треть имущества ее обидчика.
На следующий день народ на константинопольских улицах уже слагал песни в честь императора – «защитника обиженных, сирот и вдовиц», а Феофания на радостях пожертвовала значительную часть доставшегося ей препозитова имущества в столичные богадельни.
Между тем, вздумай иконопочитатели слагать песни про василевса, они звучали бы иначе. Присоединение Льва к иконоборцам наделало шума и породило множество толков и беспокойства среди православных: потеря для Церкви столь ученого и добродетельного человека сама по себе была весьма печальна – никто не мог упрекнуть Математика в каких-либо пороках, напротив, у людей более или менее мыслящих он вызывал лишь восхищение, – а уж его переход в стан еретиков приводил почти в уныние. Некоторые болтали, что Льва «заколдовал Ианний», но другие прямо порицали священника и монахов Антипьевской общины за «дурость и тупость», а игумен Григорий, приехавший после Пасхи в Константинополь из Фессалоник вместе со своим учеником Иосифом и поселившийся при храме Святого Антипы, узнав подробности о последней беседе с Философом, сказал:
– Ничего удивительного! После такого разговора и я, хотя к иконоборцам, конечно, не ушел бы, сюда бы ходить точно перестал!
Григорий, уроженец Иринополя, много лет прожил в различных монастырях Декаполитской области, в последние годы был игуменом в обители Святого Мины в Фессалониках и, по совету тамошних православных, прибыл в столицу ради утверждения иконопочитателей, как раз застав самый разгар шумихи в связи с переходом Льва к еретикам. Его двадцатисемилетний ученик, родом с Сицилии, в юности постригся в одной из солунских обителей и жил там безвыходно, пока, по благословению игумена, не присоединился к Григорию. Попав в столицу, Иосиф, ошарашенный ее красотой, многолюдством и суетой, поначалу почти не покидал небольшую келью, выделенную ему при Антипьевском храме, молился, читал и иногда писал каноны и кондаки в честь святых. Когда ему доводилось присутствовать при беседах своего наставника с приходившими, он почти всегда слушал молча, не вступая в разговор, если только к нему не обращались с вопросом. Как-то раз, во время очередного спора по поводу «нечестивого Ианния» и «несчастного Льва», игумен Григорий обратился к своему ученику:
– А ты что думаешь, брат? Может ли еретик быть прозорливым, или это непременно колдовство?
– Думаю, колдовство тут не при чем, – ответил Иосиф и со смущенной улыбкой обвел собеседников взглядом, словно извиняясь, что он, еще столь молодой, взялся высказываться по такому важному вопросу перед старшими. – Конечно, это может быть и следствием прелести, знанием, которое подают бесы, но может быть, мне кажется, и настоящей прозорливостью. Мы столько спорим о знамениях и чудесах, как будто они – первое доказательство истинной веры, а ведь это не так… Может, Господь и попускает еретикам быть прозорливыми и творить чудеса, чтобы мы поняли, что это не главное и само по себе не доказывает истинности веры. Ведь в Евангелии говорится, что и антихрист будет творить великие знамения, а всякая ересь, восстающая на Церковь, в каком-то смысле есть образ последнего восстания на нее, грядущего в конце времен…
Студит Феоктист, приходивший служить литургию в Кассиину обитель, в Фомину неделю после службы и трапезы, выйдя с игуменьей на монастырский двор, тоже заговорил о Математике:
– Мать, ты же с ним общалась… Ты не пробовала увещевать его вернуться?
– Я и сейчас продолжаю переписываться с ним, отче. Только увещевать я его не буду. Он не какой-нибудь невежда или простец, и мое мнение ему хорошо известно. Он и опровержения отца Феодора против иконоборцев читал, и с ним самим был знаком. Поэтому, раз он сделал такой выбор, я не могу его ни в чем разубеждать. Это вполне сознательное решение, тут ничего не сделать. Остается только молиться.
– Но это ужасно! – воскликнул иеромонах.
– Ужасно не это, – тихо сказала Кассия, – а то, что наши единоверцы предпочитают объяснять непонятные им вещи глупейшими сплетнями и выдумками, вместо того, чтобы хоть немного подумать!
– Ты так уверена, что всё, что они говорили об Иоанне – выдумки?
– Вполне уверена. Более того, я знаю, что он действительно способен подавать прекрасные духовные советы, так что его слава в Городе растет вовсе не на пустом месте. Но хоть бы даже он и занимался какими-нибудь колдовскими опытами, был негодяем, блудником и вообще кем угодно, что нам за дело до того? Как люди любят простые объяснения! Ведь гораздо удобнее объяснить уход человека к еретикам чьим-то колдовством, чем взглянуть повнимательней на самих себя, не правда ли?
Феоктист пристально взглянул на игуменью.
– Ты очень изменилась за последнее время, мать, – сказал он. – Даже не могу решить, в хорошую сторону или в плохую… Прости!
– Я просто стала различать больше оттенков, – улыбнулась Кассия. – В этом есть свои хорошие стороны, но это сопряжено с трудностями. «Во многом знании много печали»… Знаешь, отче, давай больше не будем говорить об этом. Помнишь, отец Феодор писал, что Господь, долготерпя, ведет верных на испытание веры, а грешников на покаяние и что не надо торопиться видеть возмездие грешнику? Бог всех рассудит когда-нибудь!
Однако, большинству православных очень хотелось, если не увидеть возмездие еретикам, то, по крайней мере, отыграть партию – обратить в православие кого-нибудь «значительного» из иконоборцев. Особые надежды здесь возлагали на синкелла Иерусалимского патриарха, уже второй год сидевшего в подвальной камере Претория. Обнародовав эдикт против иконопочитания, император вызвал в столицу четверых палестинцев, которые после смерти Льва Армянина и освобождения всех исповедников жили в Вифинии, вопросил их о том, как они веруют, и, увидев, что они твердо стоят за иконы, сослал Феодора и Феофана на Афусию, а Михаила заключил в темницу, рассудив, что чужеземцам ни к чему давать слишком много свободы для «еретической проповеди», тем более что они считались официальными представителями Иерусалимской Церкви. Михаил, несмотря на строгий надзор и тяжелые условия жизни, умудрялся вести переписку со сподвижниками и некоторыми духовными детьми. Среди последних был и кое-кто из придворных, и исповедник из письма в письмо увещевал их порвать общение с иконоборцами. Но его адресаты колебались: страх перед потерей места при дворе был сильнее страха перед вечными мучениями, которыми пугал синкелл, ведь при открытом переходе на сторону иконопочитателей первая была весьма реальна, а вот вторые не представлялись столь же неизбежными… Евфросина, бывшая императрица, познакомившаяся с Михаилом еще в царствование Рангаве, узнав о новом заточении подвижника, стала носить ему в Преторий пищу и одежду; императору доложили об этом, но он лишь махнул рукой.
Иконопочитатели пытались перейти в наступление и иным путем: в столице и окрестностях стали усиленно распространять Житие архиепископа Сардского Евфимия, написанное игуменом Мефодием вскоре после кончины святителя. Поначалу оно разошлось не особенно широко, и в то время император, ознакомившись с доставленной ему копией, не придал значения этому сочинению. Но теперь, узнав, что Мефодий дополнил первый вариант Жития рассказами о новых чудесах и небольшим трактатом о поклонении иконам, а также ведет большую переписку с другими иконопочитателями, Феофил приказал перевести игумена в Константинополь и заключить в Преторий. Это произошло в середине июля, а незадолго до праздника Успения Богоматери император вызвал Мефодия во дворец.
Игумен думал, что его будут допрашивать в каком-нибудь тронном зале, в присутствии синклитиков и чиновников, но эпарх препроводил его в небольшое помещение возле Малой Консистории; император был там один, если не считать двух стражей у дверей. Мефодия привели со связанными за спиной руками, и ему пришлось, делая поклон василевсу, опуститься на колени и упасть лицом в пол, после чего эпарх довольно грубо помог узнику встать. Феофил приказал эпарху развязать монаху руки и удалиться. Некоторое время император молча оглядывал Мефодия, а тот потирал затекшие запястья.
– Я прочел твое вопрошание, господин Мефодий, – наконец, сказал василевс.
– Мое вопрошание, государь? – игумен удивленно взглянул на него.
– Да. «Подумал же он и рассудил, что поскольку первое и второе пророчества подтвердились, то и третье тоже неложно, и больше встревожился, хотя он, говорю я, должен был раскаяться, обратившись к примеру тех, кто получал такие же пророчества, подражая Езекии, стенаниями и слезами выкупившему свою жизнь, вместо того чтобы бродить по неверным путям, притесняя одного за другим, словно обезумевший и помешанный. Ведь если писавший открыл истину, невозможно ни тебе, ни ему изменить грядущее. Если же ложь, как ты думаешь, желаешь и безумнейше хвалишься, тогда что тебе беспокоиться о лжи, зачем горюешь о словах и исследуешь басни? Ибо если, как я сказал, он прав, тебе не миновать, если же он лжет и грезит, то будет посрамлен…» Ведь эти слова принадлежат тебе, Мефодий?
– Да, государь.
Игумен знал, что его сочинение известно при дворе, и потому не смутился, но был удивлен, что император наизусть цитирует написанное им Житие, и, глядя на Феофила, гадал, как и о чем тот собирается повести разговор.
– Риторики тебе не занимать, – сказал василевс. – Но, как видишь, пророчество действительно не сбылось.
– Значит, Господу угодно еще испытывать верных Ему.
– Вот как? Ты так уверен, что ваше дело правое, Мефодий… – медленно и несколько задумчиво проговорил император. – А хочешь ли знать, почему я в этом не уверен?
– Если государь соблаговолит высказать…
– Соблаговолю, – насмешливо ответил Феофил. – Ты, разумеется, помнишь, что сказано у апостола: вера познаётся по делам. Следовательно, логично предположить, что те, чья вера правильнее, должны и по делам быть достойнее тех, чья вера ложна. Не так ли?
– Да, государь, ты прав.
– Прекрасно. А теперь рассмотрим дела наши и ваши. Как говорил божественный Григорий, «ты изобрази мне свою кротость, а я изображу тебе свою дерзость». Я знаю, вы много обвиняли нас в разных грехах, в том, что мы гоним тех, кто не присоединился к нашему догмату, что мы жестоки и немилостивы, уничтожаем и подделываем священные книги, клевещем на «исповедников веры» и прочее. Допустим, что всё это так. Но даже если это правда, мы не совершили ничего нового и ужасного по сравнению с вами.
– Но, государь…
– Ты не согласен? Почему? Чтимый вами император Михаил в свое время покарал пустынника, расколовшего икону, – за что он казнил его, как не за другую веру? Мы же никому не отрезали языков, хотя, быть может, и стоило, а то некоторые из вас слишком болтливы!.. Не радовались ли вы убиению императора Льва? Не ожидаете ли вы даже до сего дня моей скорейшей смерти? Хотел бы я знать, кто из вас так же пламенно желает спасения моей души, как вы жаждете моей погибели! – император усмехнулся. – Что до клеветы, то, мне кажется, вы об одном только синкелле Иоанне за эти годы изобрели столько небылиц, что их с лихвой хватило бы покрыть все «клеветы», которыми оскорблял вас кто-либо из наших единоверцев! А ложные чудеса? Я лично разоблачил в одном дорилейском храме настоятеля, который собственноручно изготовил механизм, чтобы устроить «чудо» млекотечения от иконы!.. Что еще? «Порча книг»? Это очень интересный вопрос, и я сейчас расскажу тебе, господин Мефодий, одну занимательную историю, – император сел в кресло у окна и жестом указал игумену на скамью у стены. – На Никейском соборе, который вы зовете вселенским, читался отрывок из «Истории» Евагрия Схоластика, где говорится о так называемом «нерукотворном образе» Христа. Но откуда взялся этот рассказ? Евагрий использовал сочинения Прокопия Кесарийского, где об этом чуде не упомянуто вовсе. А главное, я сам видел древний список «Истории» Евагрия, где этого рассказа нет. Естественно, возникает вопрос, кто и зачем подделал список, читавшийся на соборе? Вопрос, надо думать, риторический, – Феофил насмешливо улыбнулся. – «Так чтите вы веру!» Или «большей части таких дел вы не помните», скажешь? «Тому и быть надлежало, потому что и дел такое множество, и в совершении их столько наслаждения!..» Итак, после всего этого мне хочется спросить тебя, господин Мефодий: вы, «исповедники веры», «золотой род мучеников», «святые»… Ты ведь не усомнился в жизнеописании Евфимия вложить в уста отца Константинакия именно такое определение в отношении тебя! Так вот, даже «святые» – чем вы отличаетесь от нас, «злейших еретиков», «иудействующих», «предтеч антихриста», «слуг дьявола»? Только вашим догматом о почитании икон?
Игумен растерялся. По дороге во дворец он предполагал, что император поведет речь об иконопочитании с богословской стороны, но никак не ожидал случившегося поворота беседы и совсем не думал, что Феофил столь внимательно изучил житие архиепископа Евфимия, а история с рассказом о Нерукотворном образе и вовсе была для него новостью. В то же время сам император оказался совершенно не таким, каким Мефодий воображал его все эти годы, особенно после смерти владыки Евфимия: в Феофиле чувствовалась утонченность, свойственная людям образованным и умным, и несмотря на то, что прочитанное им житие Евфимия было наполнено поношениями в адрес иконоборцев и даже лично императора, в его обращении с игуменом не ощущалось ни раздражения, ни гнева – только насмешливость, за которой, впрочем, различалось желание действительно понять взгляды противника…
– Да, государь, – наконец, проговорил Мефодий, – среди нас, действительно, немало людей грешных… и, возможно, не по разуму ревностных… Но всё же мы стараемся держаться истинных догматов так, как они переданы святыми отцами, не внося неподобающих новшеств. Конечно, «вера без дел мертва», но сказано и это: «без веры невозможно угодить Богу» – разумеется, без истинной веры.
– Однако, глядя на многих из вас, можно подумать, что вы нисколько не сомневаетесь в возможности спастись и «мертвой верой»… Но, чтобы не говорить о всех, я спрошу лично тебя: по-твоему, истинных догматов довольно для спасения?
– Не довольно, но истинные догматы дают возможность спастись.
– А у нас, «еретиков», даже и возможности такой нет? – усмехнулся император.
«Строго говоря, нет», – хотел было сказать игумен, но не сказал. Беседа неуловимо напоминала ему нечто уже бывшее, и в этот миг он, наконец, понял, что именно. Рим, жаркий июльский день, пруд с лебедями, девушка, насмешливо восклицающая: «Да у мирян не встретишь таких безобразий!.. Что ж, мы на то и миряне – так себе людишки… Не то, что ваше сословие, “свет миру”, “избранный род” и как еще там вы величаете себя!..» Мефодий даже вздрогнул, осознав, насколько он сейчас приблизился к тому, чтобы повторить ошибку почти двадцатилетней давности. Он несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями, поднял глаза на императора и чуть заметно улыбнулся:
– Почему же, государь? Такая возможность есть – воспринять истинные догматы. И если среди твоих единоверцев многие, даже содержа ложную веру, по жизни благочестивее нас, как ты полагаешь, то, приняв православные догматы, они сразу станут гораздо ближе ко спасению, нежели мы, ведь с нас в этом отношении и спрос более строг… На месте твоих единоверцев, августейший, я бы не стал медлить. Ведь никто из нас не знает, какой срок земной жизни ему отпущен. Бог долготерпелив, но человеческая жизнь на этой земле всё же не вечна.
…В середине октября Феодора опять родила дочь – и почувствовала себя почти виноватой, зная, как огорчится Феофил, ожидавший сына. И в то же время она втайне радовалась, что обстоятельства по-прежнему не дают мужу простора для воздержания от супружеской жизни – августа не была уверена, что он оставил свою мысль о епитимии… Впрочем, она не была уверена и в обратном. Разговор с Математиком утешил ее, но семейная жизнь напоминала то ли хождение по тонкой доске над пропастью, то ли игру в прятки. Иногда Феодоре очень хотелось прямо спросить мужа, действительно ли она значит для него что-нибудь, кроме «удобной подстилки», но она теперь боялась таких прямых разговоров.
Особенно осторожной она стала после разговора об имени для новорожденной. Когда врачи сделали всё положенное и удалились, няньки запеленали девочку в пурпурный шелк и уложили в позолоченную колыбель, а императрица, усталая, но счастливая, лежала на высоком ложе в Порфире – палате, где стены были облицованы темно-красным с белыми прожилками порфиром, император пришел посмотреть на жену и ребенка. Феодора увидела, что он взволнован, хотя на первый взгляд этого не было заметно. Он уже знал, что снова стал отцом дочери, и, улыбнувшись жене, подошел к колыбели, несколько мгновений смотрел в сморщенное личико, а потом сел на край постели и взял Феодору за руку.
– Всё в порядке?
– Да, – с улыбкой ответила она. – Почти не было больно… От ребенка к ребенку всё легче, знаешь! Кажется, легко бы родила еще десяток…
– Ты наипрекраснейшая мать! – улыбнулся он.
«А жена?» – хотелось ей спросить, но вместо этого она взглянула на дочь и задала другой вопрос:
– Как мы назовем ее?
– Думаю, Анастасия,[1] – ответил Феофил, глядя жене в глаза и чуть сжал ее руку.
– Мне нравится, – проговорила Феодора.
– Я надеялся, что тебе понравится, – он склонился и коснулся губами ее лба.
Когда император ушел, августа велела кувикуларии принести Евангелие и читать от Иоанна, про воскрешение Лазаря.
– «…После этого Он сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним…»
«Значит, не надо бояться проб овать снова, даже если тебя один раз побили камнями, – думала Феодора. – Ходить днем, а не ночью… Афродита небесная, а не пошлая!..»
– «…Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что Меня не было там, чтобы вы уверовали…»
«Умер, но это сон, даже если смерть… И Христа не было там, чтобы потом чудо было больше… “чтобы уверовали”… А ведь Лазарь умер, и сестры его несколько дней были в отчаянии!»
– «…Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?..»
«Воскреснет!.. И “это только начало восхождения”… “Верующий в Меня, если и умрет, оживет”… Анастасия!.. “Я надеялся, что тебе понравитс я”… “Веришь ли сему?” Верю… “Верю, Господи, помоги моему неверию”!»
– «…И вышел умерший…»
На этом месте голос кувикуларии дрогнул, она остановилась, подняла глаза и увидела, что у императрицы всё лицо мокро от слез. Поймав испуганный взгляд девушки, Феодора улыбнулась:
– Это от радости.
Через несколько дней после рождения Анастасии из Кизика дошла весть, что патрикия Ирина, золовка Каломарии, умерла через две недели после своего мужа Сергия – обоих свалила какая-то лихорадка, разразившаяся на полуострове и унесшая немало народа. К счастью, никто из пятерых сыновей покойного патрикия не пострадал, и их дядя-логофет сразу же обратился к императрице с просьбой ходатайствовать перед василевсом о возвращении мальчиков в Город, под опеку родственников. Императора не пришлось уговаривать: Феофил тут же дал согласие и, вспомнив, что старший сын Сергия и Ирины некогда был лучшим учеником в училище Льва Философа, сказал, что молодого человека можно было бы сразу взять на службу в дворцовую канцелярию. И вот, по возвращении в Константинополь Фотий, которому уже исполнилось двадцать два, стал одним из императорских асикритов. В школу при храме Сорока мучеников он уже не вернулся, зато ему было разрешено пользоваться книгами из патриаршей и императорской библиотек, и всё свободное время, даже ночи, юноша проводил за чтением, делая выписки, а иногда даже переписывая для себя кое-какие сочинения. С обязанностями по службе он справлялся блестяще, со всеми сослуживцами и придворными был в высшей степени вежлив и доброжелателен, но близкой дружбы ни с кем не заводил, поэтому его считали, хотя и приятным молодым человеком, но себе на уме и несколько высокомерным. Впрочем, как родственника императорской семьи, его опасались делать мишенью для слишком смелых пересудов: ведь, несмотря на опалу, постигшую не так давно его родителей, Фотий не только воротился в столицу, но и оказался на придворной службе – а это что-нибудь да значило!
22. Начертанные
О, да погибнет вражда от богов и от смертных, и с нею Гнев ненавистный, который и мудрых в неистовство вводит!
(Гомер, «Илиада»)
В ноябре у Феофоба с Еленой родилась дочь, ее крестили на сороковой день, 29 декабря, и по этому поводу при дворе были устроены торжества, перетекшие в празднование январских календ. Во дворце 2 января, по обычаю, ожидался роскошный пир и так называемые «готские» представления, когда по двое танцоров от венетов и прасинов, наряженные в шкуры, исполняли перед пирующими особые танцы. Но горожане, по древнему обычаю, который не смогло искоренить даже запрещение шестого Вселенского собора, веселились в ночь с первого на второе, и обитатели дворца с балконов и из окон верхних этажей наблюдали за происходящим. Множество светильников и факелов озаряли улицы, гуляющие – в масках, переодетые кто в иноземцев, а кто в зверей, кто на лошадях или мулах, а кто и на ослах, но большинство пешком – пели, водили хороводы, танцевали, кривлялись, шутили, высмеивали всех и всё. Ипподром был полон веселящегося народа.
– Вот у ночной стражи сегодня хлопот! – воскликнула Мария, стоя рядом с отцом у одного из окон верхнего этажа дворца Дафны, откуда было хорошо видно гулянье во всем его размахе.
– Да, – улыбнулся Феофил. – Но зато в монастырях сейчас молятся, чтобы не было беспорядков.
– И осуждают злочестивое празднество! – Мария смешно надула щеки. – А мне, честно говоря, иногда хочется оказаться там, среди народа, тоже в какой-нибудь маске и этаком наряде…
– В твоем возрасте мне тоже этого хотелось.
– И ты никогда не пробовал? Ведь ты еще не был императором тогда?
– Не был, но мои друзья были императорскими детьми, и без них мне не хотелось, хотя я мог бы, конечно. Но мне и так не было скучно, мы устраивали свои забавы, я ведь рассказывал тебе.
– Да, помню, – Мария взяла отца под руку и положила голову ему на плечо. – А я впервые смотрю на эти гулянья без Елены…
– Это потому, что она сейчас слишком занята с дочкой.
– Нет, не только. У нее теперь другая жизнь… И сама она уже другая… Хорошая, еще лучше, чем была, но другая! – Мария помолчала и тихо добавила: – Я теперь тоже хочу замуж, папа.
– За кого же?
– За кого?.. Я еще не придумала! – она рассмеялась.
– Что ж, думай, – император улыбнулся. – Дело важное.
– На самом деле… – начала Мария, но умолкла.
– Да?
– На самом деле мне нравится… один человек… Только он, наверное, на меня и не посмотрит! Что я – девчонка, еще и четырнадцати нет, а он… герой!
– Кто же это?
– Алексей Кринит, – ответила Мария, краснея. – Мы встречались с ним несколько раз, когда я бывала в гостях у Нонны.
Муселе прослужил на Сицилии два года и навел на агарян страха: несмотря на падение Палермо, арабы после назначения Алексея стратигом, не одержали на острове сколько-нибудь значительных побед. Но внезапно умерла мать Кринита, вдова, и молодой человек с позволения императора вернулся в Константинополь – опекать несовершеннолетних сестер и брата. Старшей из сестер, Нонне, полгода назад исполнилось пятнадцать, и она была взята в кувикуларии к августе. Мария подружилась с ней и иногда заходила в гости в особняк Кринитов, стоявший у Акрополя. Алексей нашел для сестры жениха, и Феофил рассчитывал после этой свадьбы вновь отправить Муселе на Сицилию, поскольку младшую сестру и брата Алексей мог оставить на попечение старшей и ее мужа. Дела на острове в последние два года шли из рук вон плохо: после смены военачальника христиане терпели от агарян поражение за поражением, новый стратиг в одном из сражений едва не погиб, множество христиан попало в плен, арабы захватили несколько крепостей, жгли селения и опустошали остров. Правда, ромеи по-прежнему удерживали большую и почти неприступную крепость Кастроджованни, но как долго они еще смогут там держаться? Император собирался послать на Сицилию подкрепление во главе с Муселе, но услышанное от дочери могло изменить планы – если, конечно, за ее словами стоит что-то действительно серьезное…
«Ладно, посмотрим!» – подумал Феофил и спросил с улыбкой:
– Что ж, разве, когда вы с ним встречаетесь, твой герой сразу уходит, не взглянув на тебя?
– Нет, – Мария улыбнулась. – Он… он ужасно, ужасно вежлив! Мне просто даже неудобно становится, когда он говорит со мной! Так церемонно… Ну, понятно, я ведь императорская дочь… Но всё-таки лучше бы как-то попроще… Это не грех, что мне этого хочется? – она взглянула на отца.
– Нет, конечно.
– Вот, хорошо! Тогда в следующий раз я скажу ему, что…
– Скажи ему, чтобы он тебя не боялся, – улыбнулся император.
– Не боялся? – Мария засмеялась, потом задумалась. – А пожалуй, он и правда… как-то опасается… У него такое выражение лица иногда… как если человек несет до краев наполненную чашу и боится разлить… Понимаешь? – Феофил кивнул. – Но всё равно мне кажется, что он… привык, что Нонна еще маленькая…
– Ты думаешь, что и тебя он считает такой же, раз вы подруги?
– Да! Тем более, я даже младше ее… Впрочем, что ж, я ведь и правда еще маленькая…
– Ничего, ты и не заметишь, как вырастешь!
«Ты уже выросла, моя девочка», – подумал император и чуть заметно вздохнул. Видно, с отправкой Алексея Муселе на Сицилию придется повременить…
В середине Великого поста логофет дрома принес императору копию канона, составленного в честь покойного архиепископа Сардского Евфимия.
– Государь, – сказал Арсавир, – это нечестивое сочинение изъяли у того монаха Иова, что прислуживает иерусалимскому синкеллу, он пытался передать его Михаилу. Там много хулы на августейшего Льва и твое величество. Позволь мне зачитать эти места, я тут пометил… – Феофил кивнул. – В третьей песни говорится: «Твердостью ума и доблестью души обличил ты злочестивого Льва, неистовствовавшего против Спасителя». В четвертой песни… эм… говорится про бичевание: «Священства честности не устыдившись, нечестивцы и борители, преступлений делатели, старости твоей не воздавше чести, беззаконные немилостиво бичевали тебя».
– Вот видишь, – усмехнулся император, – вы с господином Феоктистом уже и воспеты даже! Что усердие о государственном благе-то делает!
Логофет смущенно закашлялся: он помнил, как император назвал его «безмозглым тупицей» за то «усердие»…
– Что ж, читай дальше! – сказал василевс. – Или это всё?
– Нет, к сожалению! Дальше еще хуже, августейший… Пятая песнь: «Ты погасил огонь ярости беззаконных, Евфимий, излиянием неправедно пролитой крови твоей, священнейший, преблаженный». В восьмой песни: «Светел и словом, и умом, ты стяжал светлую душу и лицо; ныне же светлее стал, Евфимий, до крови царям-богоненавистникам сопротивляяся…» Сказано: «царям», во множественном числе, то есть имеется в виду не только августейший Лев, но и…
– Понятно, давай дальше.
– Вот еще из той же песни: «Напали, блаженный, на тебя сильные земли, умертвить тебя, беззаконнейшее делая…» И еще в двух местах говорится о том, что Евфимий «положил душу за друзей своих». А в конце девятой песни он прославляется как «святитель и мученик», и составитель просит: «ныне от настоящей зимы церкви тишину испроси и согрешений оставление поющим тебя, всеблаженный».
– Про иконы что-нибудь сказано?
– Как ни странно, государь, почти ничего. Только в одном тропаре составитель обращается ко Христу и говорит… э… вот: «Тебе, Спасителю, приносится одушевленный образ, почтивший образ чистой плоти Твоей и изображение телесное».
– Что ж, написано вдохновенно! – с усмешкой сказал Феофил. – Чье это сочинение?
– Пока мы не смогли этого выяснить, государь. Иов допрошен, но запирается и на все вопросы отвечает, что не желает «говорить с антихристами». Думали его пытать, да он как тростинка – пожалуй, скорей душу выбьешь, а сказать ничего не скажет, упрям, как стадо баранов! Не делать же из него «мученика», тем более, что эти безумцы только того и жаждут!
– Разумеется, пытать его не надо.
– Но я предполагаю, августейший, что это сочинение братьев-палестинцев, учеников Михаила. Ведь младший из них, Феофан – поэт, много канонов написал. Они сейчас на Афусии, но вот, переписываются с этим…
– Ясно. Установите за ними слежку, выясните, с кем они еще ведут переписку и что за сочинения распространяют.
– Будет исполнено, августейший!
– А что там Михаил?
– Очень слаб и стал плохо видеть. Стражники говорят, что он с трудом разбирает читаемое, а недавно сказал госпоже Евфросине, чтоб она больше не приносила ему книг.
– Где он сидит, в нижней темнице, насколько я помню?
– Да, государь.
Феофил задумался на несколько мгновений.
– Вот что, – сказал он, – пусть его переведут в верхнюю, где посветлее, но на ноги наденьте колодки. И этому дураку Иову не запрещайте прислуживать ему, только следите, чтобы писем не носил. Мне тут асикрит Стефан каялся, что Михаил совращает его в иконопоклонство. Но Стефан богобоязнен: помнит заповедь «царя чтите», – по губам императора пробежала усмешка, – и не внимает песням иноземных сирен… Да, так ты понял насчет палестинцев… как там их? Феофан и…
– Феодор, государь.
– Сколько им лет?
– Около шестидесяти.
– Впереди гроб, а они всё никак угомониться не могут, монахи!.. Что им не сиделось в своей Палестине? Помнится, таких бродяг египетские отцы называли родом бесплодным и ни к чему не годным… Ладно, ступай. Как узнаешь что-нибудь, сразу докладывай.
Весна и лето принесли новые плачевные вести с Сицилии: хотя под Кастеллючио ромеи разбили агарян, но в области Этны арабы захватили множество пленных, а другие отряды грабили Эолийские острова и взяли крепость Тиндаро. Между тем с востока доходили известия, что силы мятежных персов окончательно выдохлись, и возникли опасения, что Мутасим, расправившись с Бабеком, не упустит случая выступить против ромеев, а это было бы так некстати… Император хмурился, часто бывал задумчив и много молился ночами. Патриарх болел, и синкеллу снова пришлось заняться делами церковного управления. Императрица опять ждала ребенка и возилась с дочерьми. Фекле шел четвертый год, она болтала без умолку, задавала самые странные и неожиданные вопросы – например, «почему море не закипает, когда солнце в него садится», – капризничала и вообще была весьма своенравна. Феодора иногда уставала от нее, но, с другой стороны, ее веселая болтовня служила матери развлечением. Мария вечерами под разными предлогами пропадала в гостях у Нонны и почти каждый раз возвращалась оттуда с сияющим лицом…
В конце июня спафарий Каллона и асикрит Стефан заявили, что разрывают общение с иконоборцами – увещания синкелла Михаила, наконец, подействовали. Новоявленные иконопочитатели назвали патриарха Антония «еретиком, состарившимся в нечестии» и «обманщиком благочестивых людей», но про императора не осмелились говорить что-либо в порицание, только сказали, что готовы «стоять за веру до пролития крови и отнятия имущества». Это обращение вызвало скандал: хотя некоторые придворные были тайными иконопочитателями и кое-кто из них не причащался с иконоборцами, однако никто не выражал своих воззрений на иконы публично, как это сделали Каллона и Стефан. Император не стал долго церемониться и приказал сослать обоих на остров Антигону под надзор в один из тамошних монастырей, а их имущество пока опечатать, если же они не переменят взглядов, забрать в казну: Феофил готов был терпеть иконопочитателей и на придворной службе, но нарочитое выставление ими своего «благочестия» его раздражало. У Каллоны в доме устроили обыск и нашли несколько посланий синкелла Михаила, а также письмо с Афусии от палестинцев Феодора и Феофана. Последнее содержало ямбы против покойного Льва Армянина:
Стихи эти были давно знакомы императору – они распространялись в списках еще в царствование его отца. Михаил смотрел на это сквозь пальцы, но Феофил после издания эдикта против иконопочитания приказал выяснить, кто написал эти ямбы, однако сделать это до сих пор не удавалось. В письме же палестинцев к Каллоне прямо говорилось, что они посылают ему свои стихи – итак, авторство было выяснено, и при дворе все понимали, что обоим братьям не поздоровится. Василевс не любил подобных сочинений, а теперь был к тому же раздражен из-за выходки Каллоны и Стефана и потому решил примерно наказать монахов, тем более, что они были иноземцами: если даже чужакам будет позволено безнаказанно оскорблять августейших особ, то какого почтения тогда ждать от собственных граждан?!
Феофил немедленно послал на Афусию чиновника, приказав доставить палестинцев в столицу. Одновременно он вызвал к себе Христодула, молодого асикрита, двоюродного племянника Варды, недавно начавшего служить в императорской канцелярии. Этот юноша был очень усерден, протоасикрит Лизикс неоднократно хвалил его перед императором и однажды обмолвился, что Христодул к тому же сочиняет неплохие ямбы.
– Господин Христодул, – сказал василевс, – я знаю, ты пишешь стихи?
– Да, государь, – ответил тот смущенно. – Правда, это только так, опыты… До древних образцов им далеко!
– Ничего, сейчас пока и не нужно, чтобы ты гонялся за древними образцами. Вот, взгляни! – император протянул молодому человеку листок с сочинением афусийских изгнанников. – Нравятся тебе эти стихи?
– Но это ужасно! – испуганно воскликнул Христодул, прочтя.
– Ужасно по содержанию, согласен. А по форме?
– По форме?.. – асикрит немного растерялся, перечел ямбы и нерешительно проговорил: – По форме они неплохи, августейший.
– Да, – кивнул император. – Так вот тебе задание: сочини ямбы наподобие этих, но похуже в смысле формы. Лучше даже нарочно сделать ошибки в размере.
– А каково должно быть их содержание, августейший?
– Они должны говорить о том, что двое преступников пришли в Иерусалим, наделали там много постыдных дел и, будучи изгнаны, прибыли в наш Город, но и тут продолжали беззаконничать, а потому изгоняются отсюда с начертанным лицом.
– С начертанным лицом, государь?
– Да. Твои стихи будут начертаны на лицах сочинителей вот этих ужасных ямбов. Поскольку эти люди мнят себя, как видно, великими поэтами, то носить на лице стихи с ошибками им будет еще менее приятно. Понимаешь?
– О да, государь! Я постараюсь, – улыбнулся Христодул.
– Прекрасно. Если выполнишь задание хорошо, быть тебе первым помощником господина Лизикса!
Мысль о столь своеобразном наказании для «палестинских стихоплетов» пришла императору в голову по ходу чтения Геродота. Прочтя в книге «Терпсихора» рассказ о том, как Гистией передал Аристогору послание, наколов его на голове своего верного слуги, Феофил подумал: «Что ж, бичи и тюрьмы это старо, и для любителей обличительных стихов и канонов, – месяц назад уже окончательно выяснилось, что автором канона в честь Евфимия Сардского был Феофан, – не худо придумать что-нибудь повеселее… Почему бы и нет? Заодно и другим, может, впредь будет неповадно… Им, верно, доставляет радость мысль, что их противники сойдут в ад… Они хотят поскорей увидеть возмездие, судный день!.. Не потому ли и Феодор Студит поспешил объявить нашу веру предвестием антихриста? Ха! Конечно, вот-вот конец света, “доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу?..” Интересно, многим ли из них так желанен конец мира потому, что они хотят узреть Христа? Не ждет ли большинство из них конца потому, что хочет увидеть, как противников поглотит огненная река?.. “Поборники благочестия”, дьявол бы их забрал!»
Феодор и Феофан были доставлены с Афусии в Город 8 июля и заключены в Преторий, а через шесть дней вызваны к императору; их сопровождал во дворец эпарх. При дворе все уже знали об их истории, и пока братья ожидали в Лавсиаке приглашения предстать перед василевсом, бывшие там придворные и стражники вдоволь наиздевались над ними: одни грозили жестокими карами и призывали покориться повелениям императора «немедленно и без всяких возражений», другие обзывали бесноватыми и безумцами… Наконец, около четвертого часа пополудни, эпарх ввел палестинцев в Золотой триклин. Император восседал на троне с грозным видом, вокруг стояло множество стражи, синклитиков и придворных. Эпарх довел монахов до середины зала и, отступив, оставил их одних перед василевсом. Палестинцы, как полагалось, поклонились в землю, а когда поднялись, Феофил оглядел их с головы до ног и приказал приблизиться. Они подошли к самому подножию трона, откуда начинались ступени.
– Из какой страны вы родом? – спросил император сурово.
– Из Моавитиды, – ответил Феодор.
– Зачем вы пришли сюда?
Палестинцы молчали, глядя в пол. Не дождавшись ответа, Феофил дал знак, и двое из предстоявших ему спафариев, подойдя к монахам, стали наносить им с размаху удары по лицу. После десятка пощечин у них стала кружиться голова и подкашиваться ноги, и если бы Феодор не ухватился за хитон на груди бившего его чиновника, то, пожалуй, упал бы прямо к ногам императора. Василевс приказал бившим остановиться и снова спросил:
– Чего ради вы пришли сюда?
Феофан поднял было глаза и хотел что-то ответить, но Феодор чуть заметно дернул его за рукав, и тот промолчал; оба стояли, опустив голову. «Бараны баранами! – раздраженно подумал император. – А я еще думал, не пожалеть ли их… Нет, пусть получат свое!» Он обратился к эпарху и сказал:
– Уведи их и начертай им лица, написав на них ямбы. А потом передай обоих сарацинам, и пусть те отведут их в свою землю.
Феофил повернулся к стоявшему тут же Христодулу и приказал зачитать приготовленные ямбы, добавив с усмешкой:
– Если они и не хороши, пусть тебя это не заботит!
Всё это «представление» было подготовлено заранее, и проэдр Синклита тут же сказал, пренебрежительно кивнув в сторону монахов:
– Да они и не достойны, владыка, чтобы ямбы были лучше! Хороши и те, что есть!
Все присутствовавшие закивали, посмеиваясь, а Христодул выступил вперед и прочел свое сочинение:
– По стихотворцам и стихи! – сказал император и повернулся к эпарху. – Уведи их обратно в Преторий.
Палестинцы не совсем поняли, что означало «начертать ямбы», и были несколько удивлены, что их допрос оказался столь кратким и никак не коснулся иконопочитания.
– Кажется, мы легко отделались! – шепнул Феофан брату, когда их вывели из триклина.
– Видишь, хорошо, что мы промолчали, – ответил тот, – а то сказали бы что-нибудь, так он бы только еще больше озлился… Ведь ясно же, что они заранее решили осудить нас – подготовили и стихи, и всё…
Но они еще не успели покинуть дворец и дошли только до Термастры, когда из боковой двери вышел чиновник и сказал, что император велит возвращаться. Приняв палестинцев от эпарха, он поспешно повел их обратно в Золотой триклин. Братья недоуменно переглянулись. Когда их вновь привели пред лицо василевса, тот сказал:
– Возможно, вы, уйдя, станете говорить там: «Мы поглумились над императором». Но я первый посмеюсь над вами, а потом отошлю, – он кивнул предстоявшим тут же слугам. – Раздевайте их!
– О, Господи! – только и успел проговорить Феофан.
В следующий миг их схватили и начали срывать с них одежды, а окружающие смотрели на это как на вполне обычное дело. Монахи пытались уловить хоть в чьем-нибудь взгляде сочувствие или сожаление – тщетно! Если кому-нибудь и было жаль их, он, конечно, старался это скрыть, поскольку император был разгневан.
Феофил сам не мог понять, почему эти палестинцы так раздражали его. С виду монахи как монахи, уже пожилые, изможденные, в изношенной одежде, почти совсем седые – скорее, они должны были вызывать если не жалость, то презрение. Пожалуй, его больше всего разгневало то, что они даже не удостоили его ответом; он заметил, как Феофан хотел заговорить и как брат одернул его. «Разумеется! – саркастически думал император, пока Христодул читал свои ямбы. – Я для них – злейший еретик, антихрист, разговаривать со мной – осквернение… Они думают, что я буду их мучить за иконопоклонство, глупцы! Да хоть бы они лоб расшибли об свои иконы, что мне за дело! Но нет, они все – любители лезть в политику, поносить императоров, судить направо и налево, кого отправить в ад, кого помиловать… Пришли сюда, их приняли, обласкали, дали место для житья, но им нужно выставить себя, показаться героями, борцами за веру… Мы для них еретики и безбожники, и они даже не думают, что если б не мы, они бы, может, уже давно костями лежали в своей Палестине… а не каноны да стишки тут сочиняли, поэты! Отправить их обратно к агарянам, и дело с концом!»
Однако, когда палестинцев уже вывели из триклина, император вдруг подумал, что теперь они, должно быть, радуются, что дешево отделались, а может, еще будут и смеяться над ним и говорить, как Мефодий в житии Евфимия, что иконоборцы просто тупы и глупы, неспособны вести богословские дискуссии, а потому задают «посторонние» вопросы, вроде «откуда вы пришли» или «кто к вам приходил»… «Что ж, – подумал Феофил, – не сыграть ли мне хоть раз в жизни “тупого и невежественного тирана”, “немилостивого”, “нечестивого борителя”? Кто чего ожидает, тот то и должен получить, не так ли?» И он приказал вернуть монахов обратно.
Раздев палестинцев, двое воинов принялись бичевать Феодора по спине и по груди, а Феофан, со скрученными за спиной руками, смотрел на истязание брата и кусал губы. Феодор поначалу терпел молча, а потом воскликнул:
– Мы ничем не согрешили против твоей власти, государь!
«Вот как, ты заговорил, наконец!» – подумал император со злобной иронией и чуть нахмурился. Воины продолжали бить монаха, на пол закапала кровь. Тогда Феодор принялся молиться вслух:
– Господи, помилуй! Святая Богородице, приди на помощь нам!
«А, вздумали подражать древним мученикам?» – подумал Феофил и, видя, что один из бичевавших, услышав из уст монаха молитвы, стал бить менее решительно, принялся громко подзадоривать:
– Так-то ты меня любишь?! Дай хорошенько!
Бившие удвоили старание, а немного спустя, по знаку императора оставив старшего брата, принялись за младшего. Феодор после истязания едва держался на ногах и, вероятно, упал бы, если бы стражники, надев на него хитон с мантией и сунув в руки параман и пояс, не поддерживали его с обеих сторон. Избиваемый Феофан тоже стал молиться вслух, восклицая:
– Святая Богородица, Ты бежала в Египет, унося Сына… Призри на меня, мучимого ради подобного Твоему бегства! Господи, Господи, «избавляющий нищего от руки сильнейших его», не удали помощь Твою от нас!
Когда второй монах был избит подобно первому, император велел увести обоих в тюрьму. Братьев снова повели тем же путем, но в Юстиниановом триклине их нагнал логофет дрома и приказал возвращаться. Палестинцы едва волочили ноги, и Феофан поглядел на логофета почти с отчаянием, подумав: «Неужели еще не конец?» Однако их не повели опять к василевсу, но, препроводили в одно из небольших помещений при Лавсиаке, где Арсавир, оглядев монахов, сказал с усмешкой:
– Ну что, я вижу, вам не очень понравился прием у августейшего? Зато теперь, думаю, вы будете с большей готовностью отвечать на вопросы. Почему вы радовались смерти императора Льва? Говорите! И почему, взыскав у него убежища, вы не преданы одной с ним вере?
– Мы не радовались смерти Льва и не искали у него убежища, – ответил Феодор. – Но мы не опустимся до того, чтобы отвергнуть или изменить веру из-за вас, меняющихся в угоду времени!
Арсавир смерил их взглядом.
– Вот как! «Исповедники»! – он презрительно скривился. – Ну, положим. Так что же, значит, вы пришли сюда не к государю Льву?
– Конечно, нет, – сказал Феофан, – но к царствовавшему до него.
– Хм… Ну, ладно, ладно…
Логофет вышел, не сказав больше ни слова, а братьев повели в Преторий; на улице уже стемнело.
18 июля их привели к эпарху. Тот пригрозил им мучениями, сказал, что начертает им лица и отдаст в руки арабов, и призвал принять «общую веру Церкви» и согласиться с императором. Тут же стоял и Христодул со своим отцом-протоспафарием.
– Нет, – ответил Феодор, – мы никогда не осквернимся общением с теми, кто изменил христианской вере, отвергнув образ Христов!
– Да хоть бы ты, господин эпарх, нас пугал бесчисленными смертями! – воскликнул Феофан. – Убить ты нас всё равно можешь только один раз, зато мука или блаженство по смерти бесконечны. Неужели ты думаешь, что ради похвалы императора и временного успокоения мы согласимся изменить Христу, чтобы потом пойти на вечные мучения?
– Тем более, – добавил Феодор, чуть улыбнувшись, – что мы уже, как видишь, стары и долго всё равно не проживем. Твои посулы имели бы еще какой-то смысл, если б мы были молоды, хотя, – тут он взглянул на Христодула, – юношам тоже неплохо бы думать о путях, которые они выбирают!
Христодул смутился. Его отец, видимо, стало жаль монахов, и он сказал эпарху:
– Да ведь эти люди никогда не поклонялись иконам! Просто когда с ними что-то там случилось – не знаю, что, – они пришли сюда…
– Отойди отсюда, – сурово сказал ему Феодор. – Ты не знаешь, ни о чем говоришь, ни что утверждаешь!
Эпарх оглядел палестинцев и вдруг переменил тон на более ласковый:
– Отцы, вступите в общение один раз, один только раз, и другого мы не требуем! Вот, я пойду вместе с вами в церковь, а потом ступайте, куда вам угодно.
Феодор рассмеялся:
– Ты, господин эпарх, говоришь что-то подобное тому, как если бы некто, желая завлечь другого, сказал: «Я ничего не прошу у тебя, только отрубить тебе голову, а после этого иди, куда хочешь». Знай же, что для нас уже и то бесчестие, когда вообще кто-либо осмеливается склонять нас к общению, в которое ты, сам не понимая как, увещеваешь нас вступить. И таковой не издалека убедится, что легче ему землю поднять наверх, а небо свести вниз, чем нас отвратить от благочестия!
Эпарх пожал плечами и, взяв у Христодула лист с текстом ямбов, велел приступить к начертанию. Тут только палестинцы и поняли, что их ждет. Несмотря на то, что их раны от бичей еще были воспалены и причиняли страдания, монахов растянули рядом на двух скамьях головой к окну, в изголовье на столике поместили листок с ямбами, и двое служителей Претория железными иглами принялись накалывать палестинцам на лицах текст стихов. Истязание длилось несколько часов и было столь мучительным, что монахи несколько раз теряли сознание. Христодул с отцом ушли почти сразу: протоспафарий, по природе мягкосердечный, не мог без слез смотреть на это начертание, а Христодула охватило смятение при виде того, как «увековечивается» его сочинение…
Конец начертанию положил заход солнца, когда в помещении стало темно, а при светильниках проделывать столь тонкую работу было не так удобно, да и сами исполнители казни уже порядком устали, хотя эпарх и был недоволен, что начертание не завершено. Когда монахов, с распухшими и обезображенными лицами, отвязали от скамей и уже собирались увести, Феодор сказал эпарху и всем бывшим в помещении:
– Знайте, что, увидев эти надписи, херувимы отступят и пламенный меч, отвратившись, откроет нам вход в рай, устыдившись наших лиц, вот так позорно начертанных ради общего Владыки! Ибо от века с нами одними сотворили это, и было придумано это новшество! Хотя вы и провозгласили «человеколюбивыми» всех тех, кто возбезумствовал против нашего божественного догмата… И вы непременно узна́ете эти надписи на лице Христа, выставленные вам на прочтение! Ведь Он сказал: «Что вы сотворили одному из малых сих, то вы сотворили Мне».
Эпарх в то же вечер пересказал императору эти слова палестинца.
– Что ж, – Феофил усмехнулся, – если б я знал, что это истинно, я бы начертал так на всем моем народе!
– Э-э… – эпарх растерялся. – Так что же, государь, теперь отдать их агарянам?
– Нет, – ответил василевс после небольшого молчания, – оставь их в Претории.
…Довольно поздним вечером император зашел пожелать жене спокойной ночи. Дети уже спали; Феодора лежала в постели и пыталась читать «Параллельные жизнеописания» Плутарха, но мысли ее витали далеко от книги. История с наказанием палестинцев уже несколько дней была предметом обсуждения всего двора, в том числе его женской половины, где монахов жалели, хотя не осмеливались напрямую порицать императора. Феодора и хотела, и боялась поговорить об этом с мужем. Когда он вошел, августа отложила книгу и села на постели. Феофил присел на край ложа, спросил о самочувствии, о том, как вели себя дети, и умолк. Феодора заметила, что он выглядит невесело, и не знала, стоит ли говаривать с ним о том, что в последнее время обсуждали все. Император внимательно посмотрел на жену и усмехнулся:
– Что, хочешь спросить о палестинцах? Сегодня им накололи стихи на лицах, дело сделано.
– Ах! – вырвалось у Феодоры. – Ведь это, наверное, больно?
– Я думаю, – ответил Феофил со странной усмешкой.
– И тебе их совсем не жаль? – робко спросила императрица.
– Жаль? – император встал, отошел к стене, некоторое время рассматривал мозаику на золоченом фоне, изображавшую пастухов с овцами на фоне гор, и повернулся к жене. – Ты ведь когда-то сама говорила, что я жесток, не так ли? Что я тебя никогда не жалел – это ты тоже говорила, не правда ли? А ведь жена – это всё равно что собственная плоть, как сказал апостол. И если уж я свою плоть не щажу, как ты хочешь, чтобы я щадил чужую?
Императрица растерялась. Она смотрела на мужа широко распахнутыми глазами и не находила, что сказать.
– Да, я ведь еретик, антихрист, со мной даже общаться грех, знаешь ли ты об этом, моя дорогая? – он подошел к жаровне, поворошил угли и продолжал. – Я тупой, безбожный и безжалостный тиран, нечестивый боритель, богоненавистник, и все возрадуются в день моей смерти!
Феодора вдруг поняла, что Феофилу больно, и ее захлестнуло ответной болью.
– Нет! – воскликнула она, вставая с постели.
Он взглянул на нее. Она стремительно подошла и бросилась ему на грудь.
– Ты хороший! – в ее глазах заблестели слезы, она провела рукой по его щеке и проговорила. – Ты не жестокий, нет!
– Нет? – спросил он глядя ей в глаза.
– Нет! – она поднялась на цыпочки и поцеловала его, а потом уткнулась носом ему в плечо и прошептала: – Нет, нет!
Они молча постояли, обнявшись, а потом император взял жену на руки, отнес на постель и укутал одеялом.
– Доброй ночи, августейшая, – сказал он с улыбкой.
– Доброй ночи! Только… – она умолкла.
– Что?
– Не отдавай этих монахов агарянам, – попросила Феодора совсем тихо.
– Я и сам уже решил не отдавать их, – улыбнулся император.
23. Дилеммы
(Николай Гумилев)
- Но мы спокойны, мы поспорим
- Со стражами Господня гнева,
- И пахнет звездами и морем
- Твой плащ широкий, Женевьева.
Странное наказание, присужденное двум палестинским монахам, вызвало в Городе множество толков. Иконоборцы находили историю довольно забавной и считали, что император поступил остроумно. Иконопочитатели обвиняли василевса в бесчеловечии и варварстве. Об авторстве стихов говорили разное: одни называли их сочинением самого Феофила, другие считали, что их придумал «проклятый колдун»; редко кто поминал имя их настоящего сочинителя. Синкелл Михаил, узнав о случившемся, написал ученикам ободрительное письмо. «Чту пресвятые и любезные мне лица, – говорилось в нем, – начертанные за святой образ Христов, лобызаю эти одушевленные образы и изображения, уязвленные железом и вычерненные им за воздвигнутый и написанный образ и лик Искупителя моего и Спасителя…»
Хинолаккский игумен, сидевший в той же тюрьме, послал братьям хвалебное письмо, а про императора с гневом подумал, что, видно, напрасно надеяться на то, что «этот окаянный» придет когда-нибудь к разумению истины. Мефодий и не подозревал, что своим содержанием в значительно лучших условиях, чем Михаил и его ученики – игумен сидел в камере с большим окном, и к нему пускали посетителей, хотя позволяли разговаривать только через окошечко в двери – он было обязан не кому иному, как василевсу: Феофил пожалел узника, за более чем десятилетнее заключение в «гробу» превратившегося в живой скелет…
Кассия узнала историю «Начертанных» братьев почти сразу, во всех красочных подробностях, и от потрясения целый день пролежала больная.
Феофил хладнокровно наблюдает, как перед ним бьют по лицу и бичуют двух седовласых монахов! Да еще подзадоривает бичующих! Феофил повелевает выколоть им на лицах издевательские стихи!.. Да разве это возможно?! Как мог он поступить с ними так жестоко? Ведь он не такой! Она же знала, какой он…
Две стороны одного человека, столь противоположные, не вмещались в ее сознание. Каким образом Феофил, которого она знала – умный, утонченный, великодушный, справедливый, благочестивый, если, конечно, не принимать в расчет его ересь, – мог быть Феофилом, который кричал «Дай хорошенько!» и приказал эпарху мучить палестинских монахов таким изощренным способом?..
«А каким образом этот “хороший” Феофил развратил Евфимию и тут же забыл о ней, даже не подумав, как на ней могло сказаться то, что он сделал? – вдруг пришел ей помысел. – Видно, не такой уж он и хороший? Он хороший по отношению ко мне, потому что он меня любит, поэтому он меня жалеет… Евфимию он не любит, вот и не пожалел ее… Впрочем, так ли он пожалел и меня, когда я тут умоляла его не искушать меня?.. Он не тронул нашу обитель из любви ко мне, а других иконопочитателей он не любит, так почему я жду, что он будет их жалеть? Владыку Евфимия засекли не по его ли приказу? Конечно, он хорош во многом, но далеко не во всем… С чего я взяла, что он должен быть совершенством? Не иначе как потому, что я всё такая же влюбленная дурочка, какой была в семнадцать лет! А ведь уже пора образумиться и посмотреть на вещи трезво…»
Трезво – это как? Еретик, тиран, самодур, развратник, жестокий, самоуверенный, мстительный, тщеславный?
Нет!..
Попытки понять не приносили ничего, кроме душевного страдания.
Вероятно, многим из единоверцев Кассии и в голову не приходили подобные дилеммы, но она не завидовала им. Мир не делится на черное и белое, и надо учиться любить живых людей, а не фантазии… Однако сознание этого не облегчало боль. В то же время к боли примешивалась и растерянность: «Получается, я всё-таки не знаю его так хорошо, как мне показалось… Видно, всё-таки одного “платонизма” мало, нужно и общение “устами к устам”, чтобы понять до конца… А этого никогда не будет! По крайней мере, на этом свете…»
Не надо пытаться это понять, – внушала она себе, – не надо об этом размышлять. Лучше просто молиться за Феофила, за Льва, за всех и предавать всё Богу – «и Он сотворит»… Но сердце ныло от недоумения, боли и тоски. Лев тоже ничего не смог объяснить Кассии, он лишь заметил в письме, что император, вероятно, был сильно раздражен против палестинцев, но что именно его так разгневало, Математик сказать не мог. Впрочем, последнюю часть задуманной кары – отдать братьев в руки агарян – василевс всё же отменил, и это, как думал Философ, показывало, что у августейшего действительно был припадок гнева, но быстро прошел. Однако всё это было лишь предположениями и в любом случае мало утешало.
Лев между тем в последние полгода стал писать реже. Возможно, он и не замечал этого, да и где ему было заметить: преподавание, участие в благоукрашении дворца, императорская и патриаршая библиотеки, наконец, общение с василевсом и синкеллом, ставшее гораздо более свободным после перехода Математика к иконоборцам, – живое общение, чей голос, разумеется, звучал громче, чем тихий шелест писем…
Начался декабрь, и Кассия взялась перечитывать жития святых, чья память праздновалась в этот месяц: ей пришла мысль сказать сестрам несколько поучений на основе разных случаев из жизни подвижников. Когда она перечла житие Пяточисленных мучеников, ей захотелось написать в честь них стихиру, тем более что приближался день их памяти – 13 декабря. Однажды днем, когда игуменья была у себя в келье, Анна зашла к ней с письмами, только что принесенными в обитель.
– Взгляни, – сказала Кассия сестре, – я написала стихиру святым Евстратию, Мардарию и прочим, скоро их память, помнишь?
– Да, я очень люблю их житие! Это ведь там Евстратий говорит про Платона и Гесиода?
– Там, да, – игуменья улыбнулась, но как-то невесело, встала и подошла к окну.
Анна взяла лист и прочла:
– Красиво! Но… что это ты вдруг напала на эллинскую образованность?
– А какой от нее прок, Анна? – со вздохом спросила игуменья, и в ее голосе прозвучала досада. – Можно подумать, она кому-нибудь помогла спасти душу! Не чаще ли мешала?
– Мать, ты что? – удивилась Анна. – Что опять случилось? – она с тревогой глядела на сестру. – Ты что, всё расстраиваешься из-за Льва, да?
– Из-за него тоже. Но не только, – Кассия села на кровать и устало откинулась спиной к стене. – Садись, что ли, – Анна села на стул. – Ты водила меня на беседу с философом, а теперь куда поведешь? Теперь идти не к кому, а вопросы остаются… хоть и другие, но разве легче!.. Лучший друг ушел к еретикам. Тот, кто мог бы стать моим мужем – еретик с самого детства. Человек, который был бы для меня лучшим духовным наставником – начальник ереси!.. Зато с моими единоверцами мне сложно дружить, потому что нам, по большому счету, не о чем говорить… А почему не о чем? Потому что я… слишком полюбила всю эту эллинскую образованность, а они читают жития и поучения отцов и тем довольны бывают… Знаешь, мне иногда кажется, что они разумнее меня! А еще они любят рассуждать о том, когда же «Бог поразит нечестивых еретиков», а я тоскую оттого, что не могу встречаться и беседовать с этими самыми еретиками об «эллинских баснях» и обо всем прочем… Один из моих родственников лишен церковного поминовения, потому что общался перед смертью с еретиками, и его запретил поминать не кто иной, как мой духовный отец… которого я каждый день прошу вымолить мне у Бога хоть малюсенькое местечко рядом с той небесной обителью, где он сейчас живет… А ведь он, после того как стал монахом, не читал никаких Платонов и Гесиодов…
Голос игуменьи задрожал, и она умолкла.
– Но ведь отец Феодор сам благословил тебя когда-то изучать философию, а не идти скорей в монастырь, как ты хотела, – сказала Анна. – Значит, он провидел, что тебе предназначен от Бога другой путь! Ты же всегда верила в это, ты сама говорила, что видишь промысел в том, как всё вышло, да и другие говорили тебе об этом – и Лев, и Иоанн! Что ж ты засомневалась? Ведь ничто не изменилось! А если что-то и неприятно, так ведь жизнь не может состоять из одних приятностей, – Анна воодушевилась. – Ты выбрала этот путь, и я думаю, тут как с земными дорогами, когда несколько дорог ведут в один город: каждая идет по своей местности, со своими красотами и трудностями, идущий через горы не увидит моря, а идущий вдоль моря не полюбуется на горы… Может, это иногда и горько, но ведь мы идем по дороге, чтобы в город попасть, а не просто на окружающую красоту поглядеть!
Кассия подняла глаза на сестру.
– Как ты хорошо сказала про дороги!.. Кажется, пора избрать тебя игуменьей вместо меня, а то я совсем перестала что-либо понимать…
– Глупости! Просто иногда и сильные нуждаются в поддержке, пусть и самой слабенькой… Даже Спасителю понадобился Симон Киринейский, чтобы помочь понести крест! А что люди живут в ереси или в грехах, так мы же не знаем, что с ними дальше будет, может, они еще быстрее нас покаются и спасутся!.. Зато, по крайней мере, есть повод молиться! Я вот, знаешь, мать, за себя так никогда не молилась, как иной раз молюсь за других… Даже вот и за моего Михаила, хотя при жизни-то я его не особенно любила…
– Да, ты права… Так что, плохую я стихиру написала, по-твоему?
– Что ты, очень хорошую! Не переделывай, Кассия! Да ведь там, в общем, всё правильно сказано, с другой-то стороны, – Анна улыбнулась.
Когда сестра ушла, игуменья некоторое время сидела, задумавшись, а потом достала тетрадку, куда записывала эпиграммы, раскрыла и написала:
На следующий день Кассия перечитала в Послании апостола Павла к римлянам то место, где говорилось о рождении Ревеккой Иакова и Исава: «Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого – дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего, – сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел…»
Эти слова всегда казалось ей страшными, а теперь она совсем перестала понимать их. Толкование Златоуста, что Бог предвидел добродетель Иакова и злонравие Исава, а потому одного возлюбил, а другого нет, мало что объясняло. Может быть, легко так рассуждать, когда речь идет о явных святых или злодеях, но ведь большинство людей не таковы, в них есть и хорошее, и плохое… Притом многие святые учили, что жизненные бедствия и даже внешне «дурная» смерть – еще не свидетельство гнева Божия, а благополучная жизнь и «красивая» кончина – не свидетельство Его благоволения…
«Итак, не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает…»
Когда-то Кассии думалось, что эти слова применимы к убитому императору Льву, и ей это казалось понятным и справедливым. Сейчас, когда она думала, что то же самое может случиться с Феофилом, ей уже так не казалось. Вроде бы понятный ответ на вопрос, зачем живут злодеи или приносящие вред Церкви… те же иконоборцы. Они гонят верных, и через это имя Божие «проповедуется по всей земле», возвеличиваясь во святых. А потом «ожесточившиеся» получают справедливое возмездие… Ожесточившиеся или ожесточенные? Ведь это не одно и то же!..
Златоуст говорил, что человек благоразумный, если иногда и грешит, «скоро исправляется и, хотя бы ему и случилось закоснеть в пороке, не будет презрен, но всеведущий Бог скоро вспомнит о нем», а «человек развращенный, хотя бы и сделал что-нибудь по-видимому доброе, погибнет, потому что делает это с дурным расположением». Но что значит – «с дурным расположением»? Тот же Феофил верит в иконоборчество, как в истину, и защищает его потому, что верит в его истинность – дурное ли это расположение?..
«Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников?..»
Был ли император Лев «сосудом гнева»?.. Ведь, действительно, он до самой своей смерти преследовал православных, и через него Господь явил «богатство славы Своей на сосудах милости» – исповедниках веры, воссиявших в то гонение. Но… что же Феофил? Неужели то же самое? Неужели только для того он и живет, чтобы просияли исповедники, как братья Феодор и Феофан, как игумен Мефодий или синкелл Михаил, а сам государь – сосуд погибели?.. Это зависит от него, конечно, от того, покается ли он… Ведь покаялись же сыновья Льва Армянина!.. Феофил говорил, что это были его лучшие друзья… Неужели он так и останется иконоборцем?..
А Иоанн Грамматик?.. А Лев?!..
«Изделие скажет ли сделавшему его: “зачем ты меня так сделал?”…»
Кассия вспомнила, что игумен Феодор говорил ей о природной горячности нрава, из-за которой страсть мучила ее гораздо сильнее, чем более «холодных» людей. Да, иногда она была готова роптать: «Зачем Ты меня такой сделал?» Но раз сотворил – значит, так было нужно…
«Если в отношении себя мы не можем роптать, – думала она, – то тем более в отношении других, ведь мы знаем о них так мало или вообще ничего… Мне казалось, что я знаю Феофила, почти как себя, а теперь не понимаю, как он мог сделать то, что сделал – значит, я всё-таки не всё знаю, что в нем. Да и возможно ли это? “Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем”… и кроме Бога. Мы не верим Богу, не доверяемся Ему, мы хотим сами печься о наших ближних, думаем, что лучше знаем, когда и как их помиловать… А надо просто предать всех Богу и молиться…»
В тот же вечер она написала еще одну стихиру Пяточисленным мученикам:
Кассия тихонько спела готовый гимн и подумала, что писала его с мыслью о том, чтобы мученики помолились за тех, кого она любила и за кого опасалась, что они могут умереть в ереси – и вот, стихира получилась гораздо красивее, чем первая, написанная с как будто бы благочестивой мыслью о бесполезности эллинской образованности для спасения души.
«Что ж, – подумала игуменья, улыбнувшись, – видно, так тому и быть! Это мой путь, его открыл передо мной Господь, и не стоит рассуждать, лучше он или хуже путей моих единоверцев. Главное, что он – мой, – Кассия подняла глаза на икону. – Господи, помоги мне пройти этот путь достойно! Вразуми всех отступивших от истинной веры, ведь Ты хочешь всем спасения! И да будет воля Твоя на земле, как на небе!»
…Патриарх умирал – медленно и почти безболезненно угасал, как догорающая свеча. За три дня до Рождества Христова он захотел исповедаться у синкелла, и за Иоанном тут же послали в Сергие-Вакхов монастырь.
– Вот, отче, – сказал Антоний, когда исповедь окончилась и игумен преподал ему причастие, – и не заметно, как жизнь прошла… Иные бы сказали, что жизнь моя была завидной, но, хоть я уже и при конце, и вроде бы чего уж теперь, всё равно… А все-таки есть, по крайней мере, один человек, которому я очень завидую! Наш Лев Философ, – патриарх помолчал немного. – Будь это в моей власти, я бы никогда не променял Сфоракий на монастырь и долю преподавателя на патриаршую кафедру! И уж кому я не завидую, так это тебе… Впрочем, ты – другое дело: для тебя это будет очередной опыт, возможно, интересный… Зачем он был нужен мне, я так и не постиг, сказать честно.
– Я тебя понимаю, – кивнул Иоанн. – Но ведь, с другой стороны, святейший, нельзя сказать, что твоя жизнь была скучной с внешней стороны и бесплодной с внутренней?
– Нет, слава Богу.
– А большего можно ли и желать в мире сем? – Грамматик улыбнулся. – Ведь наше дело – «хорошо исполнить свою роль, выбор роли – дело другого».
24. Патриарх
На вопрос, какую пользу принесла ему философия, Аристипп Киренский ответил: «Дала способность смело говорить с кем угодно». …На вопрос, чем философы превосходят остальных людей, он ответил: «Если все законы уничтожатся, мы одни будем жить по-прежнему».
(Диоген Лаэртий)
Патриарх Антоний умер в ночь на праздник Обрезания Господня и был, по собственному завещанию, погребен в Митрополичьем монастыре, где когда-то игуменствовал.
На другой день после его похорон император вызвал к себе синкелла и сказал:
– Тебя дважды обошли, Иоанн, но сейчас судьба, наконец, готова даровать тебе то, что ты получил бы гораздо раньше, если б не известные обстоятельства.
– Судьба в лице тебя, государь?
– Почему бы и нет? – с улыбкой ответил Феофил. – Царь земной есть образ Царя Небесного, не так ли? Лучшего патриарха нам всё равно не найти, да никто теперь и не предложит иного.
– Что ж, не буду говорить, что я не готов или не способен к такому высокому служению, это было бы лицемерием. Но у меня всё же есть вопрос: ты действительно хочешь этого всей душой, августейший?
Император усмехнулся.
– Мне давно не двадцать лет, Иоанн. И я научился смотреть на жизнь проще, потому что она слишком сложна.
– В этом есть мудрость.
– Возможно. Но, по-моему, скорее, стремление не наживать лишних неприятностей.
– И это тоже. Но если у тебя всё еще есть ко мне вопросы, государь, самое время их задать.
– Чародей! – улыбнулся Феофил. – Да, меня иногда занимает один вопрос, и теперь я его всё же задам… На самом деле до того, как я сам пошел на «маневр», я, признаюсь, часто вспоминал твои слова, что Аристотель не назвал бы тебя распущенным, и его рассуждение об отличии распущенного человека от нераспущенного: «Распущенный с необходимостью не склонен к раскаянию, а следовательно, неисцелим»…
– И думал, что я неисцелим?
– Да. Конечно, я был уже достаточно наказан за свое высокомерие! Но тем не менее, у меня остался один вопрос к тебе… Точнее, два вопроса, – император помолчал несколько мгновений. – Скажи… ты очень любил ее?
– Очень. Как больше никогда в жизни.
– Прости! Я виноват перед тобой. Тот разговор, все эти обвинения…
– О, я никогда не сердился на тебя за них государь! Ведь это было так понятно. Но каков твой второй вопрос?
– Какую епитимию ты назначил сам себе? Насчет поста я уже догадался. Молитвы, разумеется. А еще?
Иоанн выставил вперед согнутую руку.
– Сожми здесь, государь, покрепче.
Феофил, немного удивленный, стиснул руку синкелла чуть повыше локтя и тут же выпустил: сквозь шерстяной хитон он ощутил что-то жесткое и колючее. «Власяница, и очень грубая!» – догадался он.
– Я ношу ее тринадцатый год и в ней надеюсь быть похороненным, – игумен убрал руку под мантию. – Я знаю, государь, ты склонен думать, что я брал от жизни много и почти ничем не платил за это. Но на самом деле я внес предоплату, когда тебя еще не было на свете. И те вещи, что случились позже и особенно были тебе неприятны, тоже не достались мне бесплатно, как видишь.
– Что ж, – Феофил улыбнулся, – я получил ответы на свои вопросы. И я действительно хочу, чтобы ты был патриархом, Иоанн. Всей душой.
Смерть Антония не вызвала никакого движения ни в церковных, ни в мирских кругах: все хорошо понимали, что вопрос о преемнике предрешен уже давно, и решение не могло вызвать возражений ни у кого, кроме иконопочитателей, но их мнения в расчет, разумеется, никто не думал принимать. 16 января на южных галереях Святой Софии состоялся собор епископов, и, по обычаю, было предложено три кандидата в патриархи. Все понимали, что это было лишь формальностью, но император пожелал, чтобы избрание совершалось по чину. Хартофилакс записал и подсчитал поданные голоса, после чего с епископами Хрисополя и Никеи отправился к василевсу и доложил о результатах собора. Они услышали от императора то, чего ждали все:
– Я желаю, чтобы был Иоанн.
Немедленно те же трое в сопровождении нескольких высших членов Синклита, указанных василевсом, были посланы в Сергие-Вакхов монастырь. Игумена нашли в библиотеке, и когда все поприветствовали друг друга, хартофилакс вышел вперед и торжественно объявил:
– Державный и святой наш император и самодержец и божественный, священный и великий собор приглашают твое святейшество на высочайший престол патриаршества Константинопольского!
– Благодарю великого самодержца и императора и священный собор и покоряюсь их божественному и поклоняемому определению, – ответил синкелл и склонил голову.
Наречение нового патриарха состоялось наутро в храме Святых Апостолов, в присутствии епископов, всего городского клира, синклитиков и множества народа. На другой день состоялся торжественный прием в тронном зале Магнавры, куда явились все бывшие в Городе архиереи, чины патриархии, Синклит в полном составе и клирики. Император, одетый в скарамангий и пурпурный плащ с золотой каймой, выйдя из внутренних покоев, встал перед собравшимися и, когда все воздали ему поклонение и славословия, сказал:
– Божественная благодать и наше от нее царство производит благоговейнейшего сего, – он указал на предстоявшего здесь же Иоанна, – в патриарха Константинопольского!
– Достойнейший после достойного! – раздались возгласы, и все присутствовавшие выразили одобрение выбору василевса.
Император сам подвел будущего патриарха по очереди к препозиту, первенствующим кувикулариям, силенциариям, и те принимали от Иоанна благословение. Затем препозит и один из силенциариев, взяв избранного под руки, в сопровождении чинов патриархии отвели его в патриаршие палаты, а император возвратился в свои покои. Рукоположение Иоанна в епископа и возведение на патриарший трон было намечено на ближайшее воскресенье.
Сергие-Вакховы монахи плакали – одновременно от радости за игумена и от скорби, что он покидает обитель. Вернувшись в монастырь после наречения, Иоанн простился со всеми, каждому преподав наедине краткие наставления и перед всеми сообща произнеся пространное слово, а относительно нового игумена сказал, что братия вольны избрать, кого хотят. Но монахи принялись умолять, чтобы он указал хотя бы троих из тех, кто, по его мнению, достоин стать его преемником, и тогда Иоанн назвал эконома, старшего больничника и старшего каллиграфа. Вечером, когда все уже разошлись по кельям, к игумену постучался Кледоний, его келейник, который ни разу за все эти годы так и не побывал в кельях настоятеля, хотя выполнял разные его частные поручения и вел от его имени кое-какую переписку. Иоанн, открыв, оглядел взволнованного монаха и сказал:
– Что ж, брат, входи, – и впустил его к себе.
Как только игумен затворил дверь, Кледоний бросился ему в ноги:
– Отче, возьми меня к себе туда келейником!
– Ты, Кледоний, – улыбнулся Грамматик, поднимая его с пола, – уже сколько лет мой келейник, вне кельи пребывающий, неужто еще не надоело?
– Да разве мне твоя келья нужна, отче! – со слезами сказал монах. – Я столько лет прожил «среди бессмертных благ»… Когда я думаю о том, что теперь это кончится, мне хочется умереть.
Иоанн внимательно посмотрел на него: у Кледония был такой вид, словно ему сейчас должны были зачитать решение суда, и он не знал, какое – о казни или о помиловании. Этот монах был из числа тех братий, которые не просто жили под руководством Грамматика всё то время, пока он был игуменом, но доверились ему совершенно, открывая не только все свои дела, но и всякий помысел, пожелание, скорбь и следовали его указаниям и советам беспрекословно. Когда Кледоний стал келейником Сергие-Вакхова игумена, ему шел двадцать первый год, и многие из братий про себя удивлялись выбору настоятеля: этот довольно легкомысленный молодой человек из очень богатой семьи поступил в монастырь не столько по своему желанию, сколько по воле родителей, обещавших посвятить сына на служение Богу еще до его рождения, был несколько болтлив, нравом прост, характером открыт, образован довольно прилично, но в основном по части грамматики и риторики, любил поесть и поспать, и было непонятно, что в нем особенного нашел игумен – казалось, между ними было так мало общего… Но за прошедшие с того дня два десятка лет, проведенных под руководством Иоанна, Кледоний так изменился, что прежний игумен обители, принявший его семнадцатилетним розовощеким юношей и частенько налагавший на него епитимии за разные проступки, сейчас вряд ли узнал бы его: бывший обжора и соня стал настоящим аскетом и, хотя сохранил прежнюю простоту, открытость и добродушие, однако знал «время молчать и время говорить», был начитан как в отцах Церкви, так и в эллинских философах и настолько преуспел в умной молитве, что игумен даже поставил под его начало нескольких молодых послушников для обучения молитвенному деланию.
– Столько лет «жил, как бог среди людей», и не хочешь опять «уподобиться смертным»? – с улыбкой спросил Иоанн.
– Нет, куда мне до этого! – тихо проговорил Кледоний. – «Как бог среди людей» живешь ты, отче, а я… мне бы просто быть рядом… как верная собака… Мне и этого довольно, – он поднял глаза и добавил почти с отчаянием: – Ты ведь знаешь, отче, что я говорю не из лести и не по пристрастию!
– Знаю. Хорошо, брат, я возьму тебя в патриархию.
Лицо монаха просияло.
– Благодарю, отче! – и он низко склонился перед будущим патриархом.
Воскресным утром 21 января император совершил торжественный выход в храм Святой Софии. Облачившись в Золотом триклине в расшитый золотом плащ, Феофил в сопровождении препозитов, кувикулариев, папии и прочих чинов кувуклия проследовал в Магнавру, по обычаю останавливаясь в разных залах, чтобы принять приветствия и поклонение придворных чинов, а из Магнавры прошел в южные катехумении Великой церкви. Воздав поклонение Богу в своей молельне, переоблаченный веститорами в парадный скарамангий, император сел дожидаться времени малого входа литургии.
Между тем Иоанна уже облачили в алтаре во все епископские одеяния, кроме омофора, и будущий патриарх произнес перед всеми исповедание веры: оно начиналось символом веры, далее принимались догматы шести вселенских соборов, а также Иерийского собора, состоявшегося при Константине Исаврийце, собора в Великой церкви, бывшего при Льве Армянине, и святоотеческие писания; ставленник обещал хранить церковные каноны, апостольские и отеческие предания. «Верно и подписано моей рукой, – так кончалось исповедание, – в месяце январе, 15-го индикта 6345 года. Иоанн иеромонах, милостью Божией нареченный Константинополя, Нового Рима, и вселенский патриарх». После этого епископы поклонились ему и, отойдя на свои места, надели полные архиерейские облачения, и литургия началась.
Когда препозит доложил, что подошло время малого входа, василевса облачили в белую хламиду, и по витой деревянной лестнице, встречаемый и приветствуемый магистрами и патрикиями, Феофил спустился с галерей. В пропилее препозит снял с него корону, и император с зажженной свечой в руке через Красивые двери вошел в нартекс, где прямо его ожидал нареченный патриарх вместе с клиром.
Иоанн держал крест, архидиакон Евангелие, диаконы несли кадила и тяжелые витые свечи. Император приложился к Евангелию и кресту, и они со ставленником приветствовали друг друга. Будущий патриарх покадил императора, вернул кадило диакону и облобызался с василевсом. Иоанн выглядел спокойным, как всегда, но внимательный взгляд императора отметил, что философ был бледней обычного, и Феофил понял, что Грамматик волнуется. Когда они взялись за руки, чтобы идти к царским дверям, ведшим из нартекса в храм, император чуть сжал пальцы Иоанна и боковым зрением заметил, как мгновенная, почти неуловимая улыбка пробежала по его губам. У царских дверей они остановились, император, снова приняв от препозита свечу, трижды поклонился пред вратами, а нареченный патриарх тихо прочел входную молитву:
– Владыка, Господи Боже наш, уставивший на небесах чины и воинства ангелов и архангелов на служение Твоей славы, сотвори со входом нашим быть входу святых ангелов, сослужащих нам и славословящих Твою благость. Ибо подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков!
– Благослови, владыка, святой вход! – сказал протодиакон.
– Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков! – произнес Иоанн, осеняя крестным знамением вход в неф.
Когда протодиакон, подняв большое Евангелие в золотом окладе, украшенном драгоценными камнями и жемчугом, сделал им крест, Феофил мысленно в который раз изумился, как он поднимает такую тяжесть да еще умудряется возглашать столь громогласно:
– Прему-у-удрость!
Начатое Иоанном и подхваченное всем клиром, грянуло медленное: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу…» Архиереи и все клирики вошли в храм боковыми дверями, после чего центральными в Великую церковь вступили нареченный патриарх с императором, снова взявшись за руки; процессию замыкали кувикуларии василевса. Храм был залит светом и полон народа. Синклитики и прочие чины уже стояли на своих местах по правой стороне согласно рангам и, когда император с будущим патриархом проходили мимо, направляясь к алтарю, хором произносили:
– Да продлит Бог святое царство ваше на многие и долгие времена! – а певчие пели многолетие.
Пройдя посреди храма и обойдя с правой стороны амвон, Феофил с Иоанном взошли на солею и остановились перед святыми вратами. Нареченный патриарх, произнеся псаломские слова: «Войду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страхе Твоем», – вошел в алтарь и поклонился перед престолом, а василевс, стоя пред вратами на вделанной в пол круглой порфировой плите, взял у препозита свечу, трижды поклонился и, вернув свечу препозиту, тоже вошел в алтарь. Всё это император проделывал много раз, но сегодня у престола Святой Софии стоял человек, которого Феофил больше всего хотел видеть здесь, и сердце его стучало в радостном волнении.
Архиереи, по приглашению хартофилакса, входили в алтарь южной дверью, кланялись нареченному патриарху и вставали по чину. Всем были розданы зажженные свечи, и после пения «Святый Боже» началась хиротония. По обычаю, ее возглавил митрополит Ираклийский. Он встал на ступеньку перед алтарем, Иоанна подвели к нему справа три митрополита, а слева хартофилакс подал хартию, и рукополагавший, запечатлев рукополагаемого крестным знамением, прочел:
– Избранием и испытаним боголюбивых митрополитов, архиепископов и епископов, божественная благодать, всегда немощное врачующая и оскудевающее восполняющая, проручествует Иоанна, боголюбивого иеромонаха, во епископа богоспасаемого Константинова Града, помолимся же о нем, да приидет на него благодать Всесвятого Духа!
– Господи, помилуй! – трижды пропели все бывшие в алтаре.
Ираклийский митрополит раскрыл Евангелие, положил его на склоненную голову Иоанна и возложил сверху руку, возложили руки и прочие архиереи, а Ираклийский, вторично знаменав рукополагаемого крестом, прочел первую молитву:
– Владыка Господи Боже наш, законоположивший нам через всехвального Твоего апостола Павла степеней и чинов чин, чтобы служить и литургисать честным и пречистым Твоим Тайнам во святом Твоем жертвеннике: во-первых апостолов, во-вторых учителей, в-третьих пророков, – Сам, Владыка всех, и сего избранного и сподобившегося придти под евангельское иго и к архиерейскому достоинству, через рукоположение нас, соприсутствующих здесь соепископов и сослужителей, нашествием и силою и благодатью Святого Твоего Духа укрепи, как укрепил Ты святых апостолов и пророков, как помазал царя, как освятил архиереев, и непорочно его архиерейство покажи, и всякой честностью украсив, свята представи, да достойно просит он того, что ко спасению народа, и да послушаешь Ты его. Ибо освятилось Твое имя и прославилось Твое царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков, аминь!
Никейский митрополит произнес ектению, а все архиереи на каждое прошение отвечали: «Господи, помилуй!» – после чего Ираклийский владыка, не снимая руки с головы Иоанна, прочел вторую молитву рукоположения и, в третий раз перекрестив рукополагаемого, сняв с его головы Евангелие, положил обратно на престол и возложил на новорукоположенного омофор, возгласив:
– Достоин! – и то же спели сначала трижды в алтаре все епископы, а затем все бывшие в храме.
Ираклийский митрополит сошел с подножия престола, и его место занял новый патриарх. Иоанн положил руку на престол, и рукоположивший его подошел уже как подчиненный, поцеловал престол и руку патриарха и дал ему целование, то же по очереди сделали и все остальные архиереи. Император между тем, пройдя мимо горнего места, вошел в молельню при алтаре, где стояло большое серебряное Распятие, и со свечами в руках трижды поклонился пред ним, принося благодарение Богу за дарование нового патриарха, после чего поздравил новорукоположенного. Его оставалось посадить на престол, и два первенствующих митрополита возвели Иоанна под руки на горнее место и трижды усадили на патриарший трон, каждый раз возглашая: «Достоин!» – и этот возглас трижды пелся в алтаре и вне его. Наконец, было пропето многолетие императору и патриарху, и протодиакон произнес:
– Премудрость, вонмем!
Патриарх, стоя на горнем месте, возгласил, благословляя народ:
– Мир всем!
– И духу твоему! – ответили все епископы и иереи, а затем то же самое воскликнул народ в храме.
Феофил ощутил, как на глаза у него наворачиваются слезы. Началось чтение Апостола, и литургия продолжилась обычным порядком, теперь ее возглавлял новый патриарх.
Императрица не смогла присутствовать на торжествах: она ожидала родов, и действительно, на другой день произвела на свет девочку. Снова дочь! Феодора уже сама была не рада такому обороту событий и ожидала прихода мужа даже с некоторым страхом. Император, узнав о рождении девочки, сказал:
– Слава Богу! – а про себя подумал: «Какой-то рок!»
Но жизнь научила его терпению, поэтому опасения августы были напрасны: если муж и был недоволен, то никак не выказал этого. Новорожденная удивила всех тем, что у нее, в отличие от сестер, стали расти белокурые волосы, а глаза оказались такими же голубыми, как у императорской сестры. Девочку решили назвать Пульхерией.
– В переводе с латыни значит «прекрасная», – объяснил Феофил жене.
После рождения пятой дочери император почти целую неделю ходил задумчивый, а за десять дней до начала Великого поста вызвал к себе Кринита и сказал:
– Господин Алексей, я хочу задать тебе один важный вопрос, отвечай честно.
– Клянусь, государь, я буду говорить только правду! – с жаром ответил молодой человек.
– Как ты относишься к Марии, моей дочери?
Муселе вздрогнул от неожиданности, на его щеках выступил румянец.
– Государь, я… – проговорил он и умолк.
– Ты обещал говорить правду.
Алексей набрал побольше воздуха, словно собирался нырнуть, и выдохнул, глядя в пол:
– Я люблю ее, государь.
– Хорошо. А она тебя?
Кринит, чуть осмелев, взглянул на императора: глаза Феофила улыбались.
– Смею надеяться, что она… тоже…
– Алексей, ты ведь храбрый воин и хороший полководец, – сказал василевс, – а тут робеешь, будто новобранец. «Смею надеяться»!.. Вот что: выясните-ка друг с другом этот вопрос, а послезавтра я хотел бы услышать от вас более четкий ответ. Если я его услышу, то после Пасхи святейший обвенчает вас.
– О, государь! – только и мог сказать Муселе.
Следующий вечер император, как это часто случалось зимой, проводил с книгой перед камином. Было уже довольно поздно, и Феофил как раз закрыл рукопись и встал, собираясь затвориться в своей молельне, когда раздался тихий стук в дверь.
– Да! – сказал василевс.
В комнату вошла Мария, закрыла за собой дверь, подбежала к отцу и обняла его.
– Папа! – она смотрела на него большими темными глазами, полными счастья, не замечая, что по ее щекам текут слезы. – Я уже говорила тебе, что ты самый лучший папа в мире… Но ты не просто лучший, ты – само совершенство!
– Совершенством быть страшновато, – улыбнулся Феофил, погладив дочь по голове. – Просто иногда даже героев бывает нужно ободрить, а это можно сделать, и не будучи совершенством.
Через три дня Алексей Кринит был помолвлен со старшей дочерью императора. Венчание назначили на первое воскресенье после Пасхи.
С началом поста императрица собралась на исповедь к новому патриарху, решив не нарушать традиции, хотя по-прежнему робела перед Иоанном. Они встретились в часовне Святого Феодора при Золотом триклине. Августу особенно мучил вопрос о том, почему Бог не дает им с Феофилом сына. Если прежде она опасалась, что после рождения наследника муж совсем ее «бросит», то теперь она, напротив, стала бояться, что он это сделает из-за ее неспособности этого наследника родить. Правда, она не знала, как высказать свое опасение, чтобы при не углубляться в вопросы слишком личного свойства, которые она с прежним патриархом никогда не обсуждала и лишь намеками затронула единственный раз в разговоре с Математиком. «Ладно, будь, что будет! – подумала она, наконец. – Скажу, что скажется, а там…»
– Я всё думаю, почему у нас рождаются только девочки, – сказала Феодора после краткой исповеди. – Даже роптать начинаю… Я боюсь… что Феофил станет ко мне плохо относиться, раз я не могу родить сына, – августа чуть покраснела.
– Роптать и бояться не стоит, государыня. Думаю, Господь потому пока не дает вам сына, что вы с государем еще поняли не всё, что вам нужно понять в ваших отношениях. Наследник – такой плод, который должен созреть, – Иоанн чуть заметно улыбнулся.
– В наших отношениях! – повторила императрица, вздрогнув.
Внезапно у нее из глаз против воли потекли слезы. Она беспомощно взглянула на патриарха.
– Тут есть кресло, августейшая.
Феодора упала в него и расплакалась. Патриарх вышел из часовни и вернулся, неся серебряную чашу с водой. Императрица кивком поблагодарила Иоанна, отпила немного, поставила чашу на позолоченный столик и проговорила с глубоким вздохом:
– Сядь, владыка. Мне нужно тебе многое сказать.
Чуть помолчав, она рассказала всё – о своей жизни с самого детства и мечтах о будущей любви, об отношениях с мужем, о Евфимии, о встрече с Кассией, о Евдокиме… Поначалу она с трудом подбирала слова, краснела, но постепенно внешне почти успокоилась, только руки ее нервно теребили золотую кисточку на конце пояса. Патриарх слушал внимательно, не перебивая, ничего не спрашивая и не глядя на августу, и по мере того, как она рассказывала, ей становилось всё легче говорить: она ощущала, как с нее словно спадает свинцовое одеяние или железные вериги, не дававшие ей свободно передвигаться. Только сейчас Феодора сполна осознала, насколько все эти годы она была угнетена тяжестью тех мучительных мыслей и переживаний, которые никому не решалась открыть.
– Я долго думала, что он меня совсем не любит… Думала, что я для него только… что-то вроде гетеры… А теперь мне кажется… что-то изменилось… Может быть, оно изменилось уже давно, а я просто не понимала, не замечала?.. Я вот стала даже Платона читать, думала: поумнею, начну с Феофилом говорить о философии… Только что-то мне думается, дело не в этом. Помнишь, владыка, тот наш разговор, давно, еще до смерти государя Михаила? – Иоанн кивнул. – Ты сказал тогда, что если изменить свои склонности и привычки, то может появиться созвучие душ… Но мне кажется, главное не это. Я раньше… всё время обижалась, чего-то ждала, требовала… или думала, что имею право требовать… А теперь я всё чаще думаю, что нужно… увидеть и принять человека таким, какой он есть, не осуждая и ничего не требуя… И тогда…
– И тогда получишь всё, даже то, чего не ждал, – тихо сказал патриарх. – Да, это так, августейшая.
– Почему же ты тогда не сказал мне этого? – она подняла глаза на Иоанна.
– Такие вещи человек должен уразуметь сам, – улыбнулся он. – Иначе, если ему и сказать, он не поверит или даже не поймет. Но я и тогда сказал тебе правду, государыня. Любить человека как свою собственность, любить для себя – одна из самых дурных привычек и склонностей в людях, она уничтожает даже то созвучие, какое было, а если его не было, не позволяет ему появиться. А кроме того, чтобы понять какие-то вещи, нужно пройти определенный путь.
– Должно быть, ты прав, владыка, – императрица немного помолчала. – Вот еще что… Я сделала одну плохую вещь. Я посоветовала Евфимии поступить в монастырь Кассии. Я это сделала, чтобы… чтобы Кассия узнала о той истории и помучилась… А теперь думаю, что если она узнала, то ей, наверное, было нехорошо… И еще… думаю, что если б Феофил узнал, что я это сделала, он… не знаю, что сказал бы мне, – она на мгновение закусила губу и добавила совсем тихо: – Я боюсь, что он когда-нибудь узнает.
– Если он и узнает об этом, то только от тебя, государыня.
– От меня? – проговорила императрица испуганно. – Я… не смогу ему сказать!
– Не сможешь сейчас. Но придет время, когда ты не сможешь не сказать.
Феодора вздрогнула, а Иоанн продолжал:
– А для госпожи Евфимии твой совет обернулся на пользу. Уверен, что в обители ей живется гораздо лучше, чем жилось бы в замужестве. Для госпожи Кассии, конечно, это было большим искушением, но она справилась с ним.
– Откуда ты знаешь? – августа удивленно взглянула на патриарха.
– Мне однажды пришлось говорить с ней об этом.
– Вот как!..
– Всё происшедшее с вами троими, государыня, даже с четверыми, если считать госпожу Евфимию, было промыслительно, и каждый извлек из случившегося определенные уроки. А это и есть главное. Теперь надо жить дальше. Видишь, раньше ты, глядя на свою жизнь, только роптала и обижалась, а теперь ты многое поняла и стала вести себя по-другому – значит, и жизнь твоя будет меняться. Как сказал Соломон, «время всякой вещи под небом: время разрушать, и время строить, время плакать, и время смеяться, время разбрасывать камни, и время собирать камни», – он посмотрел на императрицу и улыбнулся. – Пути к созвучию душ бывают самыми разными, августейшая. Например, философ Гераклит говорил, что «из различий возникает прекраснейшая гармония», и даже – что «всё рождается от раздора». Потому я и сказал тебе когда-то, что эта материя весьма тонка.
В Фомино воскресенье состоялась свадьба Марии с Алексеем Муселе, а еще через неделю император короновал старшую дочь в дворцовом храме Святого Стефана, а мужа юной августы на следующий день возвел в достоинство кесаря.
– Если Бог так и не даст нам с тобой сына, – сказал Феофил жене, – по крайней мере, можно надеяться, что у Марии сыновья будут.
– Я всё же думаю, что у нас еще родится сын, – тихо проговорила Феодора, опустив глаза.
Они стояли на той самой площадке у пруда, где комит схол нашел августу в ту ночь, когда она хотела замерзнуть насмерть. Теперь была весна, солнце припекало, с моря веял приятный ветерок, в садах зацветали розы, а рядом стоял человек, которому Феодора тогда хотела отомстить, потому что он ее не любил и «пользовался только как гетерой», когда хотел, а когда не хотел – «оскорблял и издевался». Сейчас императрица уже не считала, что она для мужа – лишь «подстилка», хотя по-прежнему думала, что он ее не любит; но сама она любила его, невзирая на то, как он относится к ней, и такое видимое «неравенство чувств» ее больше не возмущало. Иногда она задумывалась: не потому ли она раньше не ощущала радости от «односторонней» любви, что любила, в сущности, больше не его, а себя?..
– Хочется верить, – сказал он. – Но, как говорится, Богу молись, да и сам шевелись! Так что надо по мере сил заботиться о будущем, ведь неизвестно, что может случиться, – он обнял жену за плечи. – Не печалься!
– Я больше всего печалюсь о том, что ты огорчаешься, – тихо проговорила августа. – Прости меня, что я тогда… пошутила, что ты дождешься наследника, а потом… кинешь меня в Босфор, – ее голос задрожал и она умолкла.
– Глупости! Мы оба тогда были хороши, – Феофил повернул Феодору к себе и посмотрел ей в глаза. – Мы и сейчас хороши, дорогая, – он коснулся губами ее губ. – Не так ли?
– Да, – прошептала она. – Хороши.
Он взял ее под руку, и они, ни слова больше не говоря друг другу, направились во дворец, быстро дошли до покоев императора и затворились в спальне. Когда через полчаса Варда, придя, спросил, можно ли переговорить с василевсом по делу, Схоластикий ответил:
– В данный момент никак нельзя, господин Варда. Государь занят со своей августейшей супругой, – и он многозначительно повел глазами.
– Гм! – проговорил Варда. – В такое время?
Паракимомен хмуро пожал плечами.
Варда с задумчивыми видом спустился в сад и пошел на одну из террас. Его любимая скамейка оказалась занятой: там сидел Петрона и, глядя на кокетливо распускавшего перед ним хвост жирного павлина, усердно зевал.
– Привет, брат! – сказал Варда, опускаясь рядом с ним на скамью. – Что, спишь или размышляешь?
– Созерцаю представителя пернатого царства, – Петрона кивнул на павлина. – Экий толстяк! Но хвост завидный! – он снова зевнул, слегка прикрыв рот рукой. – Не выспался сегодня, вороны бы взяли эту новую службу! Да еще с этими процессиями, свадьбой, торжествами… Устал хуже собаки! – Петрона не так давно был назначен доместиком экскувитов. – Теперь, брат, не очень-то поспишь… Вот улучил полчаса, посижу хоть тут немного… А тебя что сюда занесло? Ты же вроде сегодня в Консистории?
– Я и был там, да один вопрос возник, хотел у государя справиться, пришел к нему, а он, представь, с Феодорой в спальне! Вот, решил тут прогуляться, подождать.
– Думаю, ждать тебе придется долго, – усмехнулся младший брат императрицы. – И погулять успеешь, и вздремнуть, – он опять зевнул и поднялся со скамьи. – Похоже, августейший, наконец, понял, что у него есть жена.
– Хм! Нда… Что ж, пожалуй, я тогда в Консисторию пойду, а вопрос можно и на вечернем приеме задать, – Варда тоже встал. – Ай да сестрица! Я ее недооценивал… Не умом взяла, так терпеньем! Правда… долгонько ей ждать пришлось!
– Ну, видно, он того стоит! – меланхолично произнес Петрона.
…В начале мая с Сицилии пришла хорошая весть: огромное агарянское войско подошло к Кастроджованни, но было полностью разбито ромеями, а арабского военачальника взяли в плен. Это воодушевляло, и император решил не упускать благоприятного момента и нанести удар арабам на востоке.
Подготовка к походу уже заканчивалась, и Феофил собирался через неделю выступить из Города, когда эпарх донес василевсу, что монах Лазарь, заключенный два года тому назад в тюрьму при Елевфериевом дворце, снова уличен в иконописании. Лазарь был посажен за то, что не только писал иконы, но и распространял эпиграммы против иконоборцев, сочиненные студитами, а особенно поносил патриарха Антония и синкелла как «главарей нечестия», когда же его пытались урезонить, заявлял, что «во всю землю вышло вещание их», а потому нельзя молчать, ибо «двоедушный муж нетверд во всех путях своих». Монаху дали две сотни ударов бичом и отправили в тюрьму, но теперь открылось, что кто-то из посетителей передавал ему вместе с едой краски, а вместе с книгами дощечки, подготовленные для писания икон. Сторожа уверяли, что ни о чем не подозревали, а что до посетителей, то их было немало за прошедшие два года, иконописца навещали даже сестры августы…
Император целыми днями был занят военными упражнениями со своими тагмами и, не расположенный затевать расследование накануне отправки в поход, повелел перевести Лазаря в Преторий и прижечь ему обе руки, «чтобы больше никаких икон не писал, вот и всё». Приказ был выполнен на другое же утро: в присутствии эпарха монаху приложили к обеим ладоням раскаленные железные пластины и держали до тех пор, пока он не потерял сознание, после чего заключили в одну из подвальных камер.
В тот же день Феодора, достав вечером из сундучка свои иконы, заметила, что образ Спасителя, подаренный ей некогда Ириной, потемнел, а позолота стала тусклой. Императрица перепугалась: хотя она не была суеверна, но такое явление видела впервые и подумала, не случилось ли чего у сестры. Наутро она отправилась к Ирине, захватив с собой икону. Сестра удивилась, увидев у себя августу в столь ранний час, на расспросы ответила, что у них всё, как всегда, но когда Феодора показала ей потускневшую икону, Ирина побледнела.
– А ты знаешь, кто написал этот образ? – спросила она в волнении. – Монах Лазарь, он замечательный иконописец, я ему много икон заказывала… И знаешь, что было вчера? Ему прижгли руки каленым железом! Он едва не умер, а сейчас в Претории, в подвале, не знаю, выживет ли… Я пыталась навестить его вчера вечером, но меня не пустили, – голос ее задрожал от слез, и Ирина умолкла.
Феодора в ужасе смотрела на сестру.
– Железом? Руки? За что?
– За то, что он продолжал писать иконы, сидя в тюрьме. Он ведь уже два года сидел, только в Елевфериевой… Но туда ему можно было передавать краски и доски, я сама передавала… Он не может жить без иконописания, понимаешь? Это его жизнь, он бы с тоски умер, если б не мог рисовать!.. Он, конечно, бывает резок… иконоборцев много порицал, особенно святейшего, вот и посадили… А теперь… Боже мой! Не знаю, что и будет… Умрет он там, в Претории! – Ирина не выдержала и расплакалась.
– О, Господи! – проговорила императрица. – Погоди, не плачь… Я попробую поговорить с Феофилом!
– Думаешь, он тебя послушает? – недоверчиво спросила Ирина. – Сергий пытался с ним вчера поговорить… Государь, правда, выслушал, но знаешь, что сказал? «У тебя, должно быть, доброе сердце, но почему ты так просишь именно за этого преступника, а не за какого-нибудь другого? Чем остальные хуже?» На том разговор и кончился…
– Я попробую сделать так, чтоб он послушал, – ответила августа.
После полудня император пришел к жене, забрал ее и дочерей, и они вышли погулять в сад, а когда возвратились и няньки стали укладывать девочек спать, Феодора сказала, что ей нужно кое о чем поговорить с Феофилом, и они вышли на балкон.
– Послушай, я узнала от сестры, что монаху Лазарю прижгли руки, и теперь он в подвале Претория. Это правда?
– Да, и там ему самое место, – ответил император жестко.
– Феофил, отпусти его, прошу тебя! Руки у него изувечены, писать иконы он всё равно не сможет, так какая от него опасность? А в Претории он ведь умереть может…
– Дорогая, – сказал Феофил несколько усмешливо, – «для меня неприятны подобные речи!» Удивительно, как вы все вдруг озаботились судьбой этого жалкого мазилы! Умереть может? А почему бы ему и не умереть? Он ведь этого хочет – пострадать за свою веру! Вот пусть и пострадает! Или ты хочешь лишить его мученического венца? – тон императора становился всё более саркастическим. – К тому же, как говорил поэт, «невозможно весь человеческий род неисчетный от смерти избавить»! Видишь ли, я забочусь о том, чтобы наши подданные оказывали должное уважение тем, кому до́лжно, в том числе патриарху, и покойному, и нынешнему, а Лазарь их поносил при каждом удобном случае. А ведь он должен был благодарить меня за то, что я с ним еще милостиво обошелся – в Елевфериевой тюрьме он жил в довольно сносных условиях! Но он даже и не подумал ни о чем таком, вот и получил свое. А ты о чем заботишься, августейшая? Об умножении рьяных обличителей моей «ереси»? Или, может, – император пристально поглядел на жену, – этот мазила рисовал тебе твои «прекрасные куколки», и потому тебе его так жаль?
Феодора чуть порозовела, на миг опустила взор, но тут же вновь подняла глаза на Феофила и вдруг с выражением прочла:
Пока она читала, во взгляде императора отразилось сначала удивление, затем что-то похожее на восхищение и, наконец, заплясали веселые искорки. Когда августа умолкла, он несколько мгновений молча глядел на нее, а потом еле заметно улыбнулся и сказал:
– «За это слово, пойди»: я освобожу твоего Лазаря.
В тот же вечер иконописец был выпущен из тюрьмы, Сергий Никетиат и Ирина приняли его к себе в дом, и приглашенный ими врач несколько дней залечивал раны на руках монаха, но когда они чуть-чуть поджили, Лазарь, поблагодарив своих благодетелей, покинул Город, чтобы скрыться в монастыре так называемого Грозного Предтечи, на северной оконечности Босфора на азиатском берегу, между Диевым мысом и Иероном. Обитель эта стояла на крутом холме, окруженная с одной стороны морем, с другой – лесом и глубоким рвом, и, по причине своей труднодоступности, была местом, где часто укрывались иконопочитатели.
– Феодора, как ты этого добилась? Просто чудо какое-то! – сказала августе Ирина при встрече.
– Да нет, никакого чуда, – задумчиво ответила императрица. – Просто я, кажется, немного научилась играть на лире.
Часть V. Но всех побеждает истина
Любовь тем и хороша, что она дает свободу, не ограничивает места, до которого она может следовать за любимым, но напротив, она идет за ним в самый ад. Потому-то она и сильна, и не раз восхищала любимых изо дна ада.
Игуменья Арсения Себрякова
1. Год триумфа
(Николай Гумилев)
- Ромул сказал: «Волей созвездий
- Мы обрели наш древний почет».
Поход против арабов летом пятнадцатого индикта оказался на редкость удачным: ромеи осадили и взяли большую крепость Запетру, а затем города Малатию и Самосату, причем все мужчины были перебиты, а женщин и детей забрали в плен. Халиф не смог подоспеть на помощь с войсками, поскольку был занят борьбой со всё еще сопротивлявшимися мятежниками Бабека. Византийцы, озлобленные на агарян, никого и ничего не щадили. Император не стал препятствовать проявлению мстительных чувств – он и сам не испытывал к врагам жалости, потерпев от них столько поражений в прежние годы. Ему вспоминалось Гомеровское: «Гнев мой жесток после бедствий, какие в боях претерпел я»…
Выслав в столицу гонцов, император повелел всё подготовить к триумфальному въезду. Когда Феофил прибыл во Врийский дворец, навстречу ему из Города приплыли императрица со свитой, эпарх и Синклит. Синклитики приветствовали василевса поклоном у входа во дворец, а Феодора встретилась с мужем в нижней зале и впервые за все его возвращения из военных походов ясно ощутила, что он рад ее видеть.
– «О, Пенелопа, еще не конец испытанием нашим», – шепнул он ей, еле заметно улыбаясь, – все эти церемонии только к вечеру закончатся!
– Что ж, – так же тихо ответила она, – вечер – прекрасное время! – она тоже улыбнулась.
Он ничего не ответил, только долго и глубоко посмотрел ей в глаза.
После праздничного обеда и обычных славословий все, наконец, разошлись по своим покоям. Синклитикам василевс повелел оставаться во дворце до тех пор, пока не доставят пленных агарян. Вечером император с женой уединились в покоях, которые примыкали к синей спальне и выходили на террасу открывавшуюся в сад и на море. Они сидели на скамье и смотрели, как в темневшем небе зажигались звезды. Лениво шелестели струи воды в фонтане, пели цикады, в траве мерцали светлячки. Феодора ощущала удивительный покой и радость, словно на нее снизошла вдруг «гармония небесных сфер». Она немного рассказала мужу о дочерях, о Елене.
– Я стала настоящей сказочницей! – говорила она. – Фекла требует историй про птиц, Анна – про котят, скоро Анастасия тоже что-нибудь начнет просить… Вот и сочиняю целыми днями! А Елена вздыхает, что у нее не получится так справляться с детьми, как у меня… Но мне кажется, она по характеру похожа на твою мать, а у нее ведь хорошо получилось воспитать, по крайней мере, тебя! – августа улыбнулась.
– Да, очень! Уверен, что и у Елены всё получится.
Он заговорил о походе, о сражениях, о сожжении Запетры. Феодоре было интересно, но почему-то совсем не страшно и не жаль агарян, хотя император сказал, что, пожалуй, ромеи обошлись с ними слишком жестоко.
– О чем ты думаешь? – вдруг спросил он жену.
Августа немного растерялась. На самом деле она думала о том, как сильно его любит – но как признаться в этом? Ведь он не сможет сказать в ответ то же самое…
– О том, что ты так загорел, что сам стал похож на араба! – рассмеялась она. – Я так рада, что ты вернулся, ужасно рада! Смотри, смотри, вон звезда падает!.. Интересно, куда они деваются потом? Ведь они не долетают до земли?
– Сгорают по пути и гаснут, должно быть… Я тоже рад, что вернулся. В Сирии слишком уж жарко.
– У нас тоже жара. Видишь, уже ночь, а так тепло! И даже ветра с моря нет. Можно хоть до утра тут сидеть и нисколько не замерзнуть!
– Этой ночью мы с тобой не замерзнем в любом случае, – улыбнулся он и поцеловал ее.
Семь дней спустя, когда всех пленных доставили к берегу Пропонтиды, император, велев разбить при Врийском дворце еще несколько садов и расширить водопровод, отплыл на дромоне ко дворцу в предместье Святого Маманта, откуда еще через три дня по Золотому Рогу торжественно прибыл во Влахерны, сошел с корабля и верхом на коне выехал за стены Города, где в долине стояли военные шатры. Выйдя оттуда, триумфальная процессия отправилась вдоль стен к Золотым воротам, а оттуда через весь Город к Августеону. Впереди шли императорские отряды, неся боевые знамена, захваченную добычу и оружие и ведя пленных. За ними в сопровождении синклитиков на белом коне ехал василевс, с тиарой на голове, в золототканой хламиде и лоре, украшенном узором из виноградных лоз, с мечом в драгоценных ножнах у пояса. Рядом ехал кесарь в великолепных золоченых доспехах, тоже на белом коне, с золотым копьем, полученным в награду от императора – Муселе отличился в этом походе. При въезде василевса в Золотые ворота эпарх с магистром поднесли ему златокованный венец, украшенный драгоценными камнями и дорогим жемчугом; Феофил принял его и повез, держа на правом плече. У ворот состоялся первый торжественный прием, димы пели славословия, народ подхватывал припевы. Улицы от Золотых ворот до Медных дверей Священного дворца были украшены яркими шелками и тканями, серебряными светильниками, живыми цветами; гирлянды из роз самых разнообразных оттенков были везде – на портиках, на домах, под ногами. Навстречу императору вышли мальчики – сыновья синклитиков, в венках из цветов, и тоже пропели славословия. У Милия синклитики, сойдя с коней, пошли впереди императора до Кладезя Святой Софии, где Феофил, спешившись, вошел в храм и помолился, после чего снова вышел на Августеон и пешком проследовал к Медным вратам дворца. Здесь устроили возвышение, где посередине был установлен с большой золотой крест, а по сторонам от него – золотой трон, украшенный драгоценными камнями, и великолепный дворцовый орган, называвшийся «Первейшим чудом». Под его звуки Феофил поднялся на помост и воссел на трон, а войско восклицало:
– Един свят!
Избранные от граждан Города поднесли императору золотые браслеты – по древнему римскому обычаю, как награду за победу, – Феофил принял их и надел на руки. Выслушав от граждан поздравления и благодарности, он и сам выступил с речью, вкратце рассказав о победе, одержанной над арабами, и о взятых трофеях и пленных, после чего все снова принесли ему множество славословий. Затем император сел на коня и, проследовав чрез портик Ахилла мимо бывших бань Зевксиппа, где теперь находились шелковые мастерские, въехал на большой Ипподром, а оттуда через проход под Кафизмой в крытый ипподром. Там он спешился и, наконец, вступил во дворец.
На другой день Феофил давал прием в своей любимой Фиале Триконха, как всегда, восседая на драгоценном троне под белоснежной «летящей» аркой – она покоилась на двух столь тонких беломраморных колоннах, что издалека казалось, будто она парит в воздухе. У самой арки стояли доместики схол, доместик экскувитов и димархи венетов и прасинов, руководившие пением; остальная свита василевса располагалась на широких беломраморных ступенях. Посреди огромного двора возвышалась большая медная чаша с краями, отделанными серебром и с золотой шишкой посередине: во время приемов ее наполняли фисташками, миндалем и орехами, а из шишки вытекало смешанное с медом вино – все это мог отведать каждый из присутствовавших, в том числе музыканты и певцы. Эти приемы всегда проходили весело, со множеством славословий, пения, музыки и танцев, а на этот раз в честь победы над арабами Феофил многим пожаловал различные чины и награды.
Но нынешний триумф императору хотелось отметить по-особенному, поэтому на скачках, устроенных на следующий день на Ипподроме, Феофил сам взошел на колесницу в голубом одеянии возницы венетов и принял участие в первом утреннем забеге. Поначалу известие о том, что василевс будет править одной из колесниц, при дворе не все приняли с восторгом: хотя открыто никто ничего не говорил, но между собой некоторые перешептывались, что император «унижает царское достоинство», становясь рядом с простыми возницами. Разумеется, для своего удовольствия василевсы устраивали бега – но в узком кругу, на ипподроме при дворце Святого Маманта, а никак не на публике… Однако уже на другой день Лев успокоил умы: в разговоре с эпархом Философ с улыбкой заметил, что император собирается поступить в некотором смысле очень по-философски – сам выступить в роли своего собственного символа, ведь возница-победитель символизирует победоносного василевса. Это объяснение стараниями, в первую очередь, Феоктиста быстро распространилось при дворе, и пересуды прекратились. Простые же граждане с самого начала были в восторге: ради небывалого зрелища стадион был совершенно забит, люди сидели чуть ли не на головах друг у друга. Когда у барьера показалась вместе с тремя другими колесницами белая императорская, запряженная четверкой скакунов в пурпурной с золотом упряжи, народ разразился приветственными криками и славословиями, а как только лошади рванулись вперед, шум поднялся такой, что Феодора потом призналась мужу:
– Мне показалось, потолок ложи упадет на нас от этих воплей!.. И я ужасно боялась за тебя! – хотя, конечно, никто из возниц не стал бы соперничать с василевсом и мешать ему так, как это было принято на скачках, но всё же и он не был огражден от какого-нибудь несчастного случая…
Разумеется, император пришел первым, под неистовые крики зрителей:
– Прекрасно прибыл, несравненный возница!
Когда Феофил поднялся в свою ложу, увенчанный лавровым венком, по Ипподрому провели первую вереницу пленных агарян и пронесли часть военных трофеев – их распределили так, чтобы устраивать показ после каждого заезда. Пока процессия совершала круг по арене, димы пели славословия:
– Слава Богу, Владыке всех! Слава Творцу и Создателю всяческих! Слава Богу, победившему агарян! Слава Богу, Всецарю веков! Слава Богу, укрепившему православного императора! Слава Богу, на нас человеколюбно призревшему! Слава Богу, поразившему христоборных исмаильтян!
Торжества, раздачи денег и наград длились еще несколько дней, а затем жизнь вновь вернулась в обычную колею. Император по-прежнему еженедельно совершал выезды во Влахерны, и в последнюю пятницу сентября, уже на обратном пути, когда он, помолившись в часовне у колонны Константина, вышел и собирался сесть на коня – великолепного вороного скакуна, подаренного Феофилу стратигом Арменьяка чуть больше года назад, – ему в ноги вдруг бросилась женщина в темных одеждах и с плачем закричала:
– О, государь, этот конь мой! Из-за того, что ты взял его, мой муж погиб, и ты – виновник моего вдовства!
Такая дерзость всех ошеломила, вдовицу тут же схватили и оттащили от василевса. Феофил, удивленный этой выходкой, велел отвести женщину во дворец и держать там до его возвращения, а вернувшись, тут же распорядился ее позвать и расспросил самолично. Вдова приехала в столицу из Арменьяка. Ее муж служил стратиотом и, много раз участвуя в сражениях, всегда возвращался невредимым – не только за счет собственной доблести, но и благодаря коню: удивительно быстроногий и чуткий к опасности, он не раз спасал своего хозяина от верной гибели. На этого-то коня и положил глаз стратиг фемы: неоднократно он выпрашивал его у стратиота, сулил баснословные деньги, но хозяин не соглашался расстаться с верным спутником. Разозленный стратиг в конце концов разжаловал стратиота, не желая, чтобы тот маячил у него перед глазами со своим конем. Воин вернулся домой и жил спокойно, обрабатывая землю и утешаясь детьми. Однако прошлым летом, после того как император за обедом выразил желание заиметь нового хорошего коня для выездов, лучше всего вороной масти, стратиг Арменьяка, под предлогом угождения василевсу, силой забрал у стратиота его любимца, якобы по высочайшему приказанию, и подарил Феофилу от своего имени. Между тем, собирая войско для похода на арабов, император приказал ополчаться всем стратиотам восточных фем, в том числе и выбывшим ранее из войска по каким-либо причинам, и воину, лишившемуся своего коня, пришлось идти в поход, где он погиб при взятии Запетры. Вдова была уверена, что если бы с ним был его конь, ее муж остался бы жив… Между тем после смерти мужа перед ней и четыремя детьми встал призрак нищеты, и женщина, слышавшая о правосудии императора, решилась искать у него защиты – это была ее последняя надежда. Выслушав печальную повесть, Феофил немедленно повелел позвать стратига Арменьяка, всё еще находившегося в Городе со времени триумфальных торжеств, и расспросил его, откуда он взял коня для подарка. Тот принялся уверять, что конь его собственный, взятый в качестве трофея в одном из прошлых сражений.
– Да, господин стратиг, – сказал Феофил сурово, – ты действительно умеешь сражаться с нашими подданными и забирать у них трофеи! – и он приказал позвать вдовицу.
Узнав женщину, стратиг побледнел и, ввиду бесполезности дальнейшей лжи, упал в ноги василевсу, моля о пощаде. Суд императора был краток: стратиг смещался с должности, а вдовица с сыновьями назначались наследниками его состояния наравне с его собственными детьми. Покинув дворец, осчастливленная просительница тут же отправилась в Великую церковь благодарить Бога и молить о благоденствии императора и всего августейшего семейства.
– Право же, если бы существовал тот суд в подземном царстве, в который верили древние эллины, – сказал в тот день за обедом логофет дрома, – то наш государь, без сомнения, занял бы верховное место над Эаком, Миносом и Радамантом! Ибо насколько они превосходили справедливостью своих современников, настолько, думаю, августейший превзошел этих судей, вместе взятых!
– Из твоих уст, господин Арсавир, – заметил император с улыбкой, – подобная похвала звучит особенно убедительно, ведь о моем нелицеприятии тебе тоже хорошо известно. Но право же, я не хотел бы попасться самому себе под горячую руку!
…В середине октября в столице породил много толков неожиданный случай: после землетрясения – легкого и не вызвавшего особых разрушений ни в Городе, ни в окрестностях – с бронзовой статуи императора Юстиниана на дворе Святой Софии упали огромные позолоченные перья, венчавшие его корону. Это произошло утром, а к полудню весь двор был полон народа: подходили, смотрели, цокали языком, яростно жестикулируя, рассуждали о возможностях поднять перья на статую, кое-кто даже спорил на деньги, поднимут или не поднимут… На Августеоне тоже толпились любопытные, грызли жареные фисташки и обсуждали происшествие – случай не из приятных, поскольку было действительно не очень ясно, как вернуть перья обратно: колонна, облицованная гладкими пластинами из позолоченной бронзы, была так высока, что было невозможно забраться наверх, просто приставив лестницу. Возводить леса посреди храмовой площади?..
После полудня императору доложили, что его хочет видеть человек, уверяющий, что знает, как поднять перья на статую. Феофил велел позвать его, и перед василевсом предстал невысокий, худой, жилистый мужик, бедно одетый и заросший густой бородой едва не по самые глаза. Агафодор – так его звали – когда-то работал в бродячем цирке, а потом стал кровельщиком и уже много лет трудился на строительстве самых разных зданий. Он попросил позволения поговорить лично с императором без свидетелей, и Феофил повелел всем отойти, а сам отвел кровельщика к окну. План, предложенный Агафодором, сначала показался василевсу сущим безумием, но, поразмыслив и выслушав клятвенные уверения кровельщика, что у него «всё получится, Божьим содействием и августейшими молитвами», Феофил дал добро.
«Если получится, – загадал он, – у меня родится сын!»
Мария пока так и не зачала ребенка, между тем Алексея в любом случае нужно было в ближайшее время отправлять на Сицилию, поскольку арабы с новыми силами осадили Кастроджованни. Муселе и сам горел желанием «навести в Лангобардии порядок», молил послать его туда, и Феофил уже дал согласие – а вопрос о наследнике престола стоял по-прежнему…
Агафодор, снабженный по приказу императора дротиком и большим мотком толстой веревки, залез на кровлю Святой Софии на уровне окон в барабане купола, аккуратно размотал веревку, складывая кольцами и следя, чтобы не возникло зацепок и путаницы, привязал один конец к дротику, а другой закрепил на крыше, долго примеривался и, наконец, метнул оружие в статую Юстиниана. Народ со двора храма предусмотрительно разогнали, на случай, если кровельщик промахнется, но бросок был точен: дротик прошел между задних ног лошади, а когда кровельщик потянул за веревку, встал в распор. Тогда Агафодор с помощью других рабочих натянул веревку – статуя возвышалась как раз вровень с крышей Великой церкви – и намертво закрепил конец на крыше. Только теперь в толпе стали догадываться, к чему всё клонится, и Августеон загудел, словно улей. Тем временем Агафодор снял обувь и лишнюю одежду, оставшись только в штанах, и, взяв в руки длинный тонкий шест, вступил на веревку.
На площади и во дворе Великой церкви воцарилась такая тишина, словно все люди вмиг умерли. У Феофила, наблюдавшего за происходящим с верхней площадки портика, окаймлявшего Августеон со стороны дворца, перехватило дыхание: на мгновение вся затея вновь представилась ему безрассудной и обреченной на трагический конец, но император взял себя в руки и принялся мысленно молиться. Стоявшая рядом Феодора судорожно вцепилась в руку мужа и не выпускала ее до самого окончания «смертельного представления». Варда с Петроной, эпарх и еще некоторые бывшие тут же придворные тоже глядели, затаив дыхание, а Феоктист даже охнул и зажмурился, когда в какой-то момент Агафодор качнулся в сторону… Однако кровельщик удержался и благополучно достиг колонны. Когда он оказался рядом со статуей, по площади пронесся громкий вздох, а затем все разразились буйными криками и аплодисментами. Дальше всё было достаточно просто: Агафодор спустил вниз бечевку, поднял с ее помощью веревку, по ней поднял необходимые инструменты, потом протянул через верх статуи толстую веревку и спустил вниз рабочим, те затянули перья наверх, а кровельщик следил, чтобы они встали ровно на место. К вечеру статуя приобрела свой прежний вид, и Агафодор, получивший сотню номисм от императора и множество похвал от придворных, отправился праздновать успех в ближайшую таверну, куда восхищенные граждане доставили героя буквально на руках.
Горожане обсуждали происшествие много дней, и в народе, наряду с восторженными рассказами о подвиге Агафодора, поползли рассуждения о причинах падения перьев. Очевидно не без участия иконопочитателей, пошли разговоры о том, что Юстиниан Великий, с которым придворные панегиристы в последнее время частенько сравнивали Феофила, таким образом показывал императору, что он должен «знать свое место», что ему всё равно не сравняться со своими великими предшественниками – конечно, потому, что он зломудрствует против православной веры, – и что Господь вскоре «сломит гордыню василевса»… Впрочем, слухи эти имели и другое основание: хотя на восточной границе стояло затишье, к ноябрю стали доходить вести, что халиф Мутасим взбешен разгромом Запетры, поклялся жестоко отомстить ромеям и, всё еще занятый борьбой с персами Бабека, ожидает благоприятного времени, чтобы двинуть войска на Империю…
2. Анзенский холм
(Гомер, «Илиада»)
- Нам не осталось ни думы другой, ни решимости лучшей,
- Как смесить с супостатами руки и мужество наше!
Как только прошла зима, и судоходство стало безопасным, Алексей Муселе со значительным войском отправился на Сицилию – и прибыл вовремя. Арабы всё-таки смогли ворваться в Кастроджованни, обнаружив один не охранявшийся проход в город. Однако, поскольку защитники заперлись во внутренней крепости, а агаряне уже не имели сил к дальнейшей осаде, они вступили в переговоры и, получив от жителей выкуп и обещание в дальнейшем платить ежегодную дань, сняли осаду и ушли в Палермо. Но, хотя Кастроджованни избежал разорения, арабы, воодушевленные богатой добычей, бросили все силы на осаду другой важной крепости, Чефалу, находившейся на северном берегу острова, в сорока восьми милях от Палермо. И здесь прибывшие во главе с кесарем подкрепления решили дело в пользу Империи: после нескольких столкновений под Чефалу с ромейскими войсками агаряне сняли осаду и удалились. Отстояв Чефалу, Муселе остался на Сицилии, чтобы хоть немного усмирить арабов и пресечь их слишком наглые выступления, хотя, конечно, об освобождении острова от неверных пока не могло идти речи, тем более что из Империи дошла нерадостная новость: Мутасим расправился с восставшими персами Бабека и готовил большой поход на ромеев – а это означало, что войска теперь понадобятся на восточной границе.
Действительно, вести с востока доходили самые угрожающие: халиф не просто собирался отомстить за Запетру, но намеревался взять приступом Аморий – родной город покойного императора Михаила и родину Феофила. 5 апреля Мутасим с огромным войском – говорили, что еще ни один халиф никогда не водил с собой в поход таких сил – выступил из Самарры, куда перенес свою столицу, и двинулся к границам Империи. На щитах воинов он велел начертать надпись: «Аморий». Другой целью халифа, согласно донесениям разведки, являлась Анкира. Арабы встали на расстоянии дня пути от Тарса, на реке Ламис, где халиф решил выждать, чтобы разведать обстановку в ромейской земле.
Император, не теряя времени, выступил навстречу врагам. Командующими в войсках были дядя императрицы Мануил и Феофоб, особенно отличившийся в походе на Запетру со своими персидскими турмами. Поскольку разведка доносила, что вражеское войско по численности сильно превышает ромейское, некоторые архонты, в том числе Мануил, советовали императору оставить мысль о защите Амория, а просто вывести оттуда население и войска и тем спасти их от вражеского нашествия. Но Феофил не согласился сдать свою родину собственными руками: такое унижение было бы слишком символически мрачным. К тому же стратигом Анатолика был Аэтий, достаточно опытный в военном деле, и император полагал, что он сможет защитить город, особенно если послать туда подкрепление. Дойдя до Дорилея, Феофил разделил армию, отправив в Аморий значительные силы во главе с друнгарием виглы Константином Вавуциком и патрикием Феофилом, а сам с остальными войском, числом около двадцати пяти тысяч, двинулся в Каппадокию, чтобы заградить арабам путь на Анкиру.
Мутасим тоже разделил свои войска, отправив часть под командованием Афшина к ущелью Дарб-ал-Хадас, откуда посланные должны были вторгнуться в ромейскую землю. Сам халиф собирался идти на Анкиру: 19 июня выступил авангард под командованием турка Ашнаса, за ним на другой день двинулась еще часть войск, а 21 июня вышел и сам Мутасим. Тут разведка донесла халифу, что ромеи ждут его в засаде по ту сторону Ламиса, и Мутасим послал Ашнасу письмо с приказом остановиться и поджидать арьергард, а пока отправить отряд для захвата в плен греков, чтобы вытянуть из них сведения о неприятеле. Ашнас так и поступил и к середине июля узнал, что Феофил, получив известие, о вторжении в ромейские пределы со стороны Арменяка большого арабского войска, оставил часть своих сил сторожить дорогу на Анкиру, а сам с Мануилом и Феофобом отправился к крепости Дазимон, навстречу Афшину. Тогда халиф послал к Афшину гонца с письмом, приказав Ашнасу сделать то же самое, и пообещал десять тысяч дирхемов тому, кто доставит послание по назначению: в нем было предупреждение Афшину о том, что на него идет ромейский василевс, и приказ пока не двигаться вперед. Однако письма не дошли до военачальника – он уже далеко углубился в византийские пределы, и 21 июля ромеи, приближаясь к Дазимону, увидели вражеские войска и остановились у высокого скалистого холма Анзен. Бесплодная местность не располагала к стоянке, но император и не собирался тут задерживаться, желая как можно быстрее вступить в бой. Они с Мануилом поднялись на холм, чтобы с высоты обозреть неприятельские силы.
– Мне кажется, их меньше, чем нас, – сказал император, окинув взглядом сначала свои, а затем арабские полки, но, видя, что доместик схол покачал головой, посмотрел повнимательнее. – Или одинаково?
– Сравни, государь, у кого гуще лес копий, – ответил Мануил.
– Да, пожалуй, их больше… Надо решить, как лучше развернуть бой.
– Мне кажется, было бы разумнее напасть на них ночью, августейший.
– Ночью? Конечно, ночью не так жарко, – император вытер пот со лба, – но не слишком ли это рискованно? Ладно, обсудим на совете!
На военном совете, состоявшемся в шатре василевса, мнения разделились: Феофоб был согласен с Мануилом относительно ночной атаки, но большинство архонтов считали, что следует выступить на рассвете – так и решили.
В начале боя ни одна сторона не имело решающего перевеса и было неясно, чего ожидать в дальнейшем. Солнце всходило тусклым и чуть красноватым, и император поглядывал на него с беспокойством: это сулило дождь к вечеру, а то и раньше. Мануил ударил во фланг арабам, и те не выдержали натиска ромеев, стали отступать, а затем и вовсе ударились в бегство. Потери арабов составили несколько тысяч. Обрадованный Феофил решил лично укрепить другой фланг и направился туда вместе со своими тагмами и персидскими турмами. Приближался полдень, и император уже надеялся до наступления самой сильной жары расправиться с неприятелем.
Но случилось непредвиденное. Афшин, увидев, что события оборачиваются против него, пустил в дело турецкую конницу, и та открыла бешеную стрельбу из луков – поток стрел буквально заслонил солнце. Ромеи не могли под таким обстрелом преследовать врагов и остановились. Афшин, получив передышку, быстро перегруппировал войска и вновь перешел в наступление. Между тем центральные отряды ромеев, поражаемые тучей стрел, не видя императорского стяга на прежнем месте, дрогнули и начали отступать – сначала в боевом порядке, как положено, но когда агаряне усилили натиск, центр постепенно обратился в бездумное бегство. Фронт был разорван, войска смешались, сражение стало беспорядочным и продолжалось почти до вечера: одни из ромеев бежали, другие отчаянно сопротивлялись.
Императорские тагмы вместе с персами обступили василевса и стали под непрерывным обстрелом врага отступать к Анзенскому холму, теряя множество убитых и раненых. И тут хлынул дождь. Не прошло и четверти часа, как стрельба прекратилась: тетивы турецких луков размокли и сделали оружие, решившее ход битвы, совершенно негодным к действию.
– Слава Богу! – выдохнул Феофоб.
– Чуть бы раньше! – Феофил скрипнул зубами.
Остатки ромейского войска поднялись на холм и сдерживали натиск врага до самой темноты. Ночь положила конец бою, но было ясно, что арабы не отступятся: соблазн захватить в плен самого императора, скорее всего, заставит их вынести любые трудности, тем более что возможностей для долгого сопротивления ромеев не имели, а помощи ждать было неоткуда. Феофил ходил по лагерю, как разъяренный лев, пока, наконец, Феофоб почти насильно не отправил его спать, заметив, что «бегать туда-сюда по лагерю – занятие не для императора». Входя в шатер, Феофил вспомнил, как похожими словами Иоанн Грамматик когда-то осадил его в «гостевой» келье Сергие-Вакховой обители, и усмехнулся: то, что тогда казалось ему едва ли не «концом света», представлялось теперь таким ничтожным и мелким… «Вот уж точно: когда смерть придет, так сразу забудешь, какой тяжелой казалась вязанка хвороста! – подумал он с горечью. – Недаром отцы советуют всегда думать о том, что могут случиться бедствия гораздо худшие, чем те, которые мы терпим… Только постоянно жить с такими мыслями, с готовностью к худшему – многие ли могут? У меня никогда не получалось… верно, и не получится…»
Конечно, заснуть он не мог. Он лежал в шатре, закрыв глаза, и думал о том, что ждет его самого и его людей. Наверняка арабы сейчас думают, как нанести им решительный удар… Сколько времени можно продержаться на этом холме? День, два, три? А потом кончится вода… Нет, живым он им не дастся! Но пасть от руки неверного – тоже «прекрасная» перспектива… На радость иконопоклонникам! Он представил, какое поднимется среди них злорадство, если он будет убит или взят в плен магометанами, какие послышатся речи: «Бог покарал за нечестие противника святых изображений!» Феофил стиснул зубы. Вот дьявол!.. Но если это кара не за нечестие, то за что?.. И кара ли это? Быть может, вразумление… Но что он должен тогда понять?!..
Феофил приложил руку ко лбу. Ощущение было таким, будто начинается жар. Только этого еще не хватало!..
«Как буря сквозь пустыню проходит, – вдруг всплыли в уме слова, – от пустыни исходящая от земли, страшное видение и жестокое открылось мне…» Откуда это?.. Он не мог вспомнить. «Преступающий преступает, и беззаконнующий беззаконнует…» Исаия, кажется?..
Аморий! Что будет с ним? Придти ему на помощь вряд ли удастся… Защитить бы Анкиру!.. Что там с войском, оставленным на Ламисе? Удалось ли задержать остальных арабов?.. А что стало с Мануилом?..
Мысли его вновь вернулись к Анзену. «Я всё еще думаю о городах, тогда как, пожалуй, пора подумать об участи своей бессмертной души, – усмехнулся он. – Странно, что мне совсем не хочется об этом думать… Феодора! Что, если я ее больше не увижу? А ведь я так и не сказал ей…» – тут он услышал легкий шорох и открыл глаза. В шатер почти бесшумно проник Феофоб и, видя, что император собирается заговорить, приложил палец к губам. Феофил приподнялся на локте, и перс, склонившись, зашептал ему в самое ухо:
– Увы мне, государь! В наших рядах измена!
Оказывается, было уже далеко за полночь, Феофоб решил лично обойти стражу, и ему случилось подслушать разговор двух стражников-персов с врагами. Они говорили по-арабски, но Феофоб, разумеется, понял слова: персы просили у агарян мира и жизни взамен на выдачу императора, обещая вернуться вновь под знамена халифа и «служить ему и Аллаху до последней капли крови»… Изменники тут же получили от Феофоба меч в спину, но перс не знал, нет ли в лагере других предателей.
– Государь, думаю, мешкать нельзя! Мы должны как можно быстрее вырваться отсюда, иначе тебя ждет плен, а остальных погибель! Наши лошади уже отдохнули, думаю, мы сможем прорваться, если пойдем плотным строем!
Известие, принесенное Феофобом, несмотря на сокрушительность, казалось, не произвело на императора никакого впечатления: как когда-то в монастыре на берегу Ликоса, слушая в скриптории рассказ Лии о жизни игуменьи и сестер, Феофил словно бы перестал что-либо ощущать, так и сейчас он перешел порог чувствительности. Он сел, откинул со лба спутанные волосы и сказал меланхолично:
– Что ж, хорошо, что ты оказался в нужное время в нужном месте. Но есть ли от этого теперь какой-то прок? Я сомневаюсь, что мы сможем прорваться. Скорее всего, нас перебьют и насадят наши головы на кол… Мы в окружении агарян и даже не знаем, сколько их вокруг и как они вооружены. Может, они уже вырыли вокруг холма ров, куда мы как раз и угодим… К тому же далеко не у всех есть кони. Как спасти остальных?
– Главное, государь, чтобы прорвался ты с архонтами! – горячо зашептал Феофоб. – А остальные… Дал бы Бог спасение тебе, а прочие уж сами о себе позаботятся! – и, видя, что меланхоличное выражение не сходит с лица императора, перс вдруг схватил его обеими руками за плечи и стиснул так, что хрустнули кости. – Государь, очнись! Клянусь, я выведу тебя отсюда! Нельзя мешкать! – и, с силой встряхнув своего царственного шурина, прошипел ему в лицо: – Да очнись же, дьявол побери!
Император действительно «очнулся» и толкнул Феофоба кулаком в грудь.
– Отпусти, калекой меня сделаешь! Вот дьявол! – Феофил рассмеялся. – И силища же у тебя! – он по очереди потер оба плеча, а перс смущенно улыбался. – Который час?
– К рассвету уже, августейший. Прости за грубость!
– А! – василевс махнул рукой. – Иди, собирай всех, кого можно! Даст Бог, прорвемся!
Феофоб ушел, а император опустился на колени перед небольшим походным Распятием и принялся молиться. Когда он вышел из шатра, небо на востоке начинало светлеть. Лагерь спал. Феофоб собрал только конников – свиту императора, военачальников, отборных воинов из тагм и основную часть своих персов, пригрозив последним, что если они вздумают что-нибудь «учудить», он достанет их «даже с того света». Остальные, конечно, должны были проснуться, когда начнется дело, но их приходилось предоставить самим себе… Собирались в полной тишине – даже из лошадей ни одна не заржала, словно и животные чуяли, что предстоит опасное предприятие. Перед тем как сесть на коней, кратко помолились, император благословил всех и сам всем поклонился в пояс, испрашивая прощения, а предстоявшие упали перед ним в землю: каждый понимал, что исход дела может быть любым…
«Что ж, посмотрим теперь, сработает ли теория “прохода”», – усмехнулся Феофил, вспомнив стратегему о том, что врагам всегда надо оставлять хотя бы небольшую возможность для бегства, поскольку в безвыходном положении люди от отчаяния становятся способны на всё и даже могут в итоге выйти победителями из проигранной, казалось бы, битвы. Это была последняя связная мысль, пришедшая ему в голову. Всё дальнейшее показалось страшным сном. Авангард персов, обнажив мечи, с криком: «С нами Бог!» – рванулся вперед, за ним последовали остальные, группу замыкали опять персы. Император был в центре, окруженный плотным строем, впереди него ехал Феофоб, не переставая стрелять из лука. Вопль стоял ужасный, арабы делали всё возможное, чтобы не дать ромеям ускользнуть, однако внезапность прорыва сыграла решающую роль: основные силы агарян не сумели сразу подтянуться, а ромеи разили направо и налево с неистовым ожесточением, оставляя за собой множество трупов – и погибая сами. Император видел, как один за другим справа и слева падают с коней его люди. Если бы не персы Феофоба, вряд ли им удалось бы прорваться. Но всё-таки удалось. Когда они уже оторвались от врагов и, не сбавляя скорости, поскакали вперед, сзади некоторое время слышался топот арабских коней и яростные крики – Феофил различил слова «Насир» и «шайтан»…
Желтые от пыли и усталости, голодные и палимые жаждой, они достигли Хилиокомской равнины к северу от Амасии, где нашли остатки бежавшего с поля битвы войска, стоявшего там плохо упорядоченным лагерем. Император с трудом слез с коня и ухватился за седло: силы окончательно покидали его – не столько из-за телесного утомления, сколько из-за душевного потрясения. И тут перед ним предстали бежавшие от Дазимона стратиги и турмархи, мечами распороли на себе одежды и, положив к ногам василевса воинские пояса и оружие, пали на колени.
– Повели казнить нас, государь! – со слезами воскликнул от имени всех стратиг Фракисия. – Мы недостойны жизни, ведь мы бросили тебя, как последние предатели!
Пораженный император несколько мгновений молча оглядывал виноватых, а потом тихо сказал:
– Если меня Бог спас, то и вы спасетесь, только сражайтесь с врагами! – и он простил всех, а они, в свою очередь, клятвенно обещали в будущем биться с неприятелем до последнего вздоха.
Император отпустил всех на отдых, а сам, в сопровождении Феофоба дойдя до шатра стратига Опсикия, с жадностью выпил две чаши воды и тут же, свалившись на ложе, уснул мертвым сном. Он проспал почти до вечера, а пробудившись, умылся, велел отслужить благодарственный молебен в честь избавления от гибели – благо среди бежавших были и несколько священников из обоза, – а потом, наконец, пообедал. Ему прислуживал препозит: все бывшие в свите василевса кувикуларии были ранены или убиты. Когда император покончил с едой, в шатре появился Феофоб, и по его лицу Феофил понял, что вести он принес опять нерадостные.
– Три новости, августейший, – поклонился он. – С какой прикажешь начать?
– С менее плохой, – мрачно усмехнулся император.
– Господин Мануил куда-то исчез. Никто не знает, где он. Говорят, что здесь он не появлялся. Правда, о смерти его тоже никто не слышал.
– Так, – проговорил василевс. – Не видели ни живым, ни мертвым?.. Что ж, может, еще сыщется… Беглецы, вон, до сих пор приходят! Что еще?
– Арсавир убит, государь. Я сам видел, как он упал, еще когда мы уходили от Анзена, и на него тут же набросилась куча агарян.
– Бедная Каломария! – прошептал Феофил, бледнея.
Логофет дрома перед прорывом посоветовал императору одеться простым воином, а сам облачился в красный сагий, чтобы, в случае чего, отвлечь удар на себя…
Но гораздо хуже была третья новость: войско, оставленное у дороги на Анкиру, отказалось подчиняться поставленному над ним стратигу и рассеялось, кто куда, – об этом сообщили некоторые из бежавших от Дазимона ромеев, побывавшие у Ламиса. Таким образом, Мутасим уже двигался к Анкире с огромными силами.
Наутро Феофил в сопровождении небольшого отряда отправился к Ламису, где нашел немногих стратиотов и злополучного стратига, которого тут же на месте велел казнить. Затем он разослал по окрестным городам и крепостям приказы не принимать бежавших воинов, но давать им по сорок ударов кнутом и направлять к Хилиокому для дальнейшей борьбы с арабами. Впрочем, становилось всё яснее, что в ближайшее время ромеям не удастся деятельно сопротивляться врагам. Казалось, судьба обернулась против всех замыслов императора. Протоспафарий-евнух Феодор Крате́р, посланный им с отрядом в Анкиру для подкрепления, прислал с гонцом сообщение, что уже поздно: арабы были на подступах к городу, а население, услышав об их приближении, бежало в окрестные горы. Тогда император велел Кратеру направляться в Аморий. Анкиру оставалось предоставить своей судьбе.
Удары следовали один за другим так быстро, что Феофил уже почти не ощущал их силы. Отправив Феодору приказ ехать в Аморий, император призвал к себе одного из священников и спросил, есть ли тут у кого-нибудь книга пророка Исаии. Ему тут же принесли список ветхозаветных пророческих книг. Феофил полистал его и нашел у Исаии место, которое вспомнилось ему ночью на Анзене. Это было «Видение пустыни».
«Как буря сквозь пустыню проходит, от пустыни исходящая от земли, страшное видение и жестокое открылось мне. Преступающий преступает, и беззаконнующий беззаконнует. На меня еламитяне, и послы персидские на меня идут; ныне воздохну и ободрю себя. Сего ради исполнились чресла мои расслабления, и страдания объяли меня, как рождающую; грешу, чтобы не видеть, стараюсь не слышать. Сердце мое обольщает меня, беззаконие погружает меня, душа моя застыла в страхе…»
Феофил скрестил руки на книге и опустил на них голову. В такой позе и застал его Феофоб.
– А, это ты, – сказал император. – Опять с новостями? Погоди, давай чуть позже. Лучше скажи-ка мне: ты «Илиаду» помнишь?
– Увы мне, государь! Я читал ее, когда учился греческому, но… мало что могу вспомнить… – перс виновато склонил голову, но тут же вновь взглянул на императора и быстро добавил: – Но, осмелюсь сказать, августейший, я люблю перечитывать «Стратегикон» блаженнейшего василевса Маврикия, Энея, Афинея и о войнах треблаженнейшего государя Юстиниана…
– Понятно, – Феофил чуть усмехнулся. – Ничего лишнего, только то, что нужно для деятельности. Должно быть, это разумно: как мог бы, вероятно, сказать Соломон, в ненужном знании – лишние печали!
– Но ведь никогда не знаешь, что может понадобиться в жизни, государь.
– Тоже верно, – Феофил помолчал, а потом продекламировал:
– Божественно! – восхитился перс. – Найду время, непременно перечитаю, августейший!
– Видишь ли, Феофоб, я иногда думаю, что… Древние рассуждали просто: если что-либо происходит, то это потому, что так хотят боги, а боги могут хотеть, чего им заблагорассудится. И поскольку по нравам они ничем не отличны от людей, кроме бессмертия, понять волю богов и то, как им угодить, по сути дела, невозможно. Надо, конечно, приносить жертвы, но примут ли их боги, никогда нельзя понять, равно как и причин, почему они их принимают или не принимают…
– Но… то ж языческие боги, государь! – возразил Феофоб. – То есть не существующие!
– Да, конечно, – кивнул Феофил. – Мы же веруем в истинного сущего Бога. Но вот какая штука, Феофоб… Понять, что Ему угодно и какова Его воля, тоже, получается, не так уж легко… если вообще возможно!
Император встал и заходил по шатру.
– Вот, например… Когда к власти пришел августейший Лев, многие думали и убеждали его, что Бог прогневался на христиан за идолопоклонство, и потому иконы надо упразднить. Действительно, отвергавшие иконы государи Исаврийского дома были на редкость удачливы в войнах! Если б не они, кто знает, что сталось бы с нашей державой… И как они были удачливы, так последующие иконопоклонники – несчастны. Никифор даже был убит варварами – чего уж хуже!.. Казалось бы, вывод логичен: иконы надо упразднить!
– Да, – кивнул перс. – Оно так!
– Мой отец, – продолжал Феофил, – прекратил гонения на иконопоклонников, избрав «средний» путь, но мира государству это не принесло – напротив, мы едва покончили с мятежом Фомы, потеряли Крит, снова и снова терпели поражения от агарян… Я рассудил, что эти бедствия – плод снисходительности к еретикам, и снова ужесточил отношение к ним. После этого враги несколько лет не беспокоили нас, а прошлый год в военном отношении был просто блестящим, по крайней мере, на востоке! Казалось бы, благоволение Божие! Логично, как по-твоему?
– По-моему, весьма логично, августейший!
– Хорошо. Но взглянем с другой стороны. Не погиб ли мой крестный страшной смертью? А что мы терпим сейчас?! После недавнего триумфа – такой позор!.. Я знаю, иконопоклонники будут говорить, что это кара за мою «ересь»…
– Да подвесят их в аду за их гнусный язык! – пылко воскликнул Феофоб.
– Может, и подвесят, – усмехнулся император. – Но я сейчас не о том. Вот, предположим на миг, что они правы, и мы действительно наказуемы за ересь… Но тогда вышло бы, что они – православны… В таком случае – за что Бог наказывал их?!
– Э… – Феофоб почесал в затылке. – Верно, за какие-нибудь еще грехи?
– Да уж, конечно, не без того… Или наоборот: их за ересь, а нас за другие грехи. Но грешат-то все – и они, и мы. И вот вопрос: как же узнать, за грехи тебя карают или за ересь?
Перс немного растерялся, некоторое время раздумывал, даже нахмурился, но внезапно повеселел и сказал:
– Государь! Когда я еще жил у агарян, был у меня один слуга… Так вот, он говаривал: «Что знаешь, делай; что можешь узнать, узнай; неведомое же откроют боги, если будет нужда, ибо боги благосклонны к делающим, а не к вопрошающим».
– Великолепно! – воскликнул император. – Ну, Феофоб, благодарю! Я даже не ожидал, что наша беседа будет столь поучительной! – он похлопал перса по плечу. – Ступай теперь… Ах да, ты ведь зачем-то пришел? Что там опять?
– Прибыл гонец от госпожи Евфросины и привез тебе письмо, августейший, – Феофоб протянул императору небольшой пакетик, запечатанный личной печатью бывшей императрицы.
Феофил с недоумением развернул письмо. Что мачехе понадобилось сообщать ему?.. Прочтя, он побледнел и поднял глаза.
– Я должен немедленно ехать в Константинополь.
Письмо состояло всего из двух фраз: «В Городе распространился слух, что ты убит. Приезжай скорей».
…Источником слуха, взбудоражившего Царицу городов, стали несколько бежавших от Дазимона стратиотов. Они рассказывали всякие ужасы про сражение у Анзенского холма, говорили, что турки «перестреляли всех, как куропаток», что после вступления в бой агарянской конницы император «исчез, и никто его не видел», что большинство военачальников тоже перебито… Впрочем, когда эпарх попытался добиться от беглецов более толкового рассказа о событиях, у него сложилось впечатление, что «у страха глаза велики» и на самом деле эти стратиоты попросту бежали без оглядки, а потому вряд ли могли видеть и знать что-нибудь достоверное об участи василевса и архонтов. Он поспешил успокоить августу и всю ее родню, уверяя, что «эти трусы просто хотят оправдать собственное малодушие – подумать только, они бежали до самого Города!» Однако сплетню было не удержать. Масла в огонь добавило появление Мануила. Дядя императрицы, тяжело раненный в живот, был привезен в столицу своими воинами, и хотя по пути, в Дорилее, ему сделали перевязку, было пока неясно, выживет ли он. Патрикий рассказал о том, как обернулась Анзенская битва, и сообщил, что об участи императора, его ближайшего окружения и Фео фоба ничего не знает. Сразу после этого рассказа доместику схол сделалось плохо, и его пока оставили в покое.
Елена, выслушав рассказ доместика – она пришла к нему вместе с императрицей и ее сестрами, – лишилась чувств. Феодора, к удивлению сестер, сохранила самообладание, хотя была ужасно бледной.
– Хорошо бы послать гонца, – сказала она, – и узнать, что же происходит там, но… мы даже не знаем, куда именно его отправлять!
– Может быть, к Ламису? – предположила Каломария. – Дядя сказал, что государь оставил там часть войск. Тогда, скорее всего, после сражения он должен был соединиться с ними!
Посоветовавшись с эпархом и протоасикритом, августа решила на следующий день послать нескольких человек на реку Ламис. Но дальше события развивались стремительно. Рано утром эпарх явился к императрице и доложил, что к нему поступили сведения о готовящемся заговоре: несколько синклитиков – все они были близкими родственниками придворных, казненных Феофилом в отмщение за убитого Льва Армянина, – воспользовавшись слухом, что василевс погиб, хотят избрать нового императора. Источником сведений был анонимный донос, но, исходя из сложившегося положения дел, сообщением не стоило пренебрегать. Аноним также писал, что у заговорщиков возникли разногласия относительно того, кого провозгласить вместо Феофила.
– Боюсь, что теперь нам нужно быть очень осторожными, государыня. Открыто посылать гонца к августейшему нельзя: если заговор действительно есть, эти негодяи могут попытаться ускорить дело, и тогда не оберешься неприятностей! Сейчас они пока что спорят, и надеюсь, это затянется… Но нам нужно вести себя так, как будто мы ни о чем не подозреваем. Не исключено, что они попытаются привлечь к делу кого-нибудь из иконопоклонников. Я постараюсь как можно быстрее выяснить, кто эти заговорщики, и арестовать их, тогда мы сможем послать гонца к государю…
Феодора слушала эпарха, точно во сне. Казалось, того, о чем он говорил, не могло быть. Никогда. Не только наяву, но и в страшном сне. Боже! Что теперь будет? Что делать?..
– Да, конечно… Да-да… – почти машинально кивала она эпарху.
Когда он ушел, силы окончательно оставили августу. Она удалилась в спальню и упала на ложе; хотелось плакать, но слез не было. После появления злосчастного слуха она запрещала себе думать о том, что Феофила может уже не быть в живых. «Этого не может быть!» – говорила она себе.
– Не может быть! – повторила она вслух.
«Все люди смертны, Феодора», – вспомнились ей слова матери.
– За что?! – прошептала августа и села на постели.
Ее взгляд упал на светильник из тонкого фарфора, расписанный диковинным узором из цветов и бабочек, – невероятно дорогую вещь, привезенную из далекого далека, оттуда, где, по словам бывавших там торговцев, жили низкорослые люди с очень узкими глазами, «все на одно лицо и желтые, как воск». Феодора схватила его и со всей силы швырнула об стену. Осколки со звоном разлетелись по сторонам, масло потекло по розовому мрамору, несколько жирных пятен появилось на ковре. Императрице хотелось разбить что-нибудь еще, она огляделась вокруг и вдруг увидела у двери Дендриса: шут стоял, вытаращившись на нее и прижав обе руки ко рту.
– Ты что здесь делаешь? – спросила императрица возмущенно, подумав про себя: «Вот, не заперлась, а он тут, как тут!»
– М-мамочка, ч-что с т-тобой? – почти шепотом проговорил Дендрис, всем своим видом изображая испуг и полнейшее недоумение.
– Проверяю прочность красивых стеклышек! – нервно рассмеялась императрица. – Видишь, как они красиво разлетелись?
– М-мамочка, я их с-соберу, да? – спросил шут и уже бросился подбирать осколки, как вдруг августа остановила его.
– Дендрис, постой! Не трогай ты их, потом слуги уберут. Подойди ко мне, – он подошел, и Феодора продолжала шепотом. – Дендрис, миленький, ты ведь любишь государя и меня?
– Л-люблю, мамочка! С-страх, как люблю! – шут взял руку августы и приложил к своей груди. – В-вот тут к-как бьется, да?
– Да, хороший наш, – улыбнулась императрица. – Послушай меня, это очень важно! Я сейчас напишу письмо, а ты должен отнести его в один монастырь, очень быстро, и чтоб никто этого не знал. Понимаешь? Никому нельзя говорить об этом ни сейчас, ни потом! – шут с готовностью закивал и приложил руку к губам, всем своим видом показывая, что будет нем, как рыба. – Вот хорошо, Дендрис, умница! Посиди тут, а я сейчас быстро напишу!
Когда Дендрис, засунув письмо за пазуху, выбежал из покоев августы, Феодора заперлась в своей молельне, достала из сундучка иконы, расставила их на столике и опустилась на колени на шитый золотом коврик. Ей вспоминалось, как она укоряла мужа за его «презрение» к ней и за «издевательства», как ревновала его и сравнила Кассию с продажной женщиной, как насмехалась над ним, говоря, что из него «не выйдет монаха», как предположила, что он бросит ее в Босфор после рождения наследника, и как он побледнел при ее словах… Да, Феофил тогда сказал ей правду: она была к нему жестока не меньше, чем он к ней. Просто он гораздо лучше нее умел держать себя в руках, прятал свои чувства за насмешливостью – и от этого казалось, что ее уколы и обвинения редко трогают его… А ему было больно – может быть, даже больней, чем ей… Жестока не меньше? Не меньше, а больше! Он жалел ее… всё-таки часто жалел, хотя не любил… А много ли она жалела его?.. И вот, сейчас он, может быть, в плену у варваров и они ругаются над ним, а может, он уже мертв или умирает…
– Господи! – шептала Феодора, и лики икон расплывались перед ней от застилавших глаза слез. – Не забирай его! Спаси его, верни его живым! Господи, я больше никогда не укорю его ничем, никогда не буду такой ужасной, как раньше! Только верни его! Я хотела от него любви, а сама… я и недостойна, чтоб он любил меня… Что я дала ему хорошего в жизни… кроме своего тела?.. Господи, я знаю, я это заслужила – чтобы Ты отобрал у меня то, что я не умела ценить… Но не забирай его, не забирай! Я буду теперь другой, я всё исправлю… Ведь Ты знаешь, Ты же знаешь, что я люблю его!
Никто не обратил внимание на шута, который, с обычными своими вихляниями и присвистами, вышел из покоев августы, поколесил с полчаса по дворцу, заглянул в Консисторию, где на него шикнули и прогнали вон, а потом добрался до крытого ипподрома, побалагурил там со стражниками и, сказав, что хочет «поглядеть на красоток» у Ареобинда, под всеобщий гогот без помех покинул пределы дворца. Его действительно видели в Ареобиндовых банях спустя немного времени, но куда он потом делся, никто не смог бы сказать. Зато спустя полчаса хромавшая на обе ноги низкорослая женщина, закутанная в пенулу с надвинутым по самый нос капюшоном тащилась по Средней от портика к портику, то и дело получая толчки от торопившихся прохожих, пока не свернула на улицу, ведшую к Силиврийским воротам…
Получив таким способом послание от августы, Евфросина немедленно исполнила ее просьбу, в тот же день послав с письмом к императору одного своего родственника.
Феофил прибыл в столицу вовремя: заговорщики как раз обнаружили себя, явившись около полудня к эпарху и заявив, что «несчастный государь убит, а потому следует подумать о судьбе державы». Эпарх выслушал пришедших – их было трое, но они дали понять, что сторонников у них много больше – с сочувственным видом, покивал, согласился, что действительно о судьбе государства подобает позаботиться как можно быстрее, однако заметил, что пока еще нет достоверных сведений о том, что стало с императором, что «августейшая убита горем», и обсуждать с ней данный вопрос пока неуместно, и намекнул, что василевс, по всей видимости, предполагал в крайнем случае сделать своим преемником Алексея Муселе, между тем, кесарь на Сицилии… Пока шел такой разговор, в присутствие зашел сотник и, когда эпарх вопросительно взглянул на него, склонил голову, коснувшись рукой уха – это был условный знак. Эпарх подошел к сотнику, и тот что-то шепнул ему. В глазах эпарха сверкнула радость, он подмигнул сотнику и громко сказал суровым тоном:
– Ты что, не мог подождать с этими глупостями?! Видишь, у меня важный разговор с господами синклитиками!
Сотник, изобразив на лице смущение, ретировался, а эпарх, воротясь к посетителям, с самым серьезным видом принялся обсуждать, следует ли послать весть к Муселе и пригласить его немедленно возвращаться или же повременить до выяснения «всех обстоятельств печальных событий». Синклитики, со своей стороны, то и дело сокрушаясь по поводу «несчастий, обрушившихся на державу», осторожно заговорили о том, что не стоило бы торопиться с вызовом кесаря, «ведь кто знает, не найдется ли среди граждан человек, более достойный восседать на ромейском престоле».
– Весьма интересно! – раздался сзади голос, от которого у посетителей эпарха ослабли колени. – И кто же этот достойнейший человек, хотел бы я знать?
Синклитики медленно, точно во сне, повернулись к дверям. Там стоял император, а за его плечами виднелась военная стража.
Заговорщиков в тот же день пытали, выведали имена еще нескольких сообщников и вечером, по приказу василевса, все они были казнены. Горожане, узнав, что император жив и здоров, высыпали на улицы и бурно ликовали – казалось, никто и не вспоминал о том, что василевс вернулся в Город после военного разгрома…
Феодора, услышав о возвращении мужа, выбежала из покоев и, встретив его у Лавсиака, бросилась ему на грудь, и смеялась, и плакала, и целовала его, совершенно не стесняясь сопровождавших его кувикулариев. Выросший словно из-под земли Дендрис, чтобы как-то принять участие во всеобщем веселье, радостно завопил, встал на голову и задрыгал увечными ногами. Император отпустил кувикулариев и ушел вместе с женой в ее покои. Там его приветствовали прислужницы августы, а очень скоро прибежали и Елена с Марией. Узнав, что Феофоб жив и даже спас императора от неминуемой гибели, Елена расплакалась от избытка чувств и долго не могла успокоиться. Мария просто сидела, смотрела на отца и улыбалась, слушала его краткий рассказ о сражении, ахала, стискивала руки, но потом снова улыбалась сквозь слезы, а ее маленькие сестры сначала прыгали вокруг него с веселыми криками, а потом, когда мать шикнула на них, просто уселись вокруг на ковре и с завистью поглядывали на Пульхерию – она с самого начала залезла к отцу на колени и почти сразу сладко уснула… Феодора, однако, внимательнее оглядев мужа, вскоре отослала дочерей, сказав, что «всё завтра, а сегодня папа устал».
Когда, наконец, они закрылись вдвоем в спальне августы, напряжение, державшее императора в течение последних дней, и внутреннее бесчувствие от множества обрушившихся на него ударов, наконец, отпустили Феофила, и он с глухим стоном упал на кровать и закрыл глаза. Августа села рядом и погладила его по плечу.
– Не убивайся так! – тихо сказала она. – Всё-таки Господь спас вас!
– Не всех, – император стиснул зубы и помолчал несколько мгновений. – Те, кого мы оставили на холме, скорее всего, все в плену… или мертвы… – он взглянул на жену. – Арсавир убит.
– Господи! – выдохнула Феодора.
– Его убили, приняв за меня. Он сам предложил такую маскировку: я был в простых доспехах, а он надел сагий… Вот так и выясняется, кто герой, а кто… Скажешь Каломарии?
– Да.
«Странно! – подумал Феофил. – Она сказала мне сейчас в утешение почти то же самое, что и после поражения у Герона, и тогда меня это так раздражало, а сейчас – совсем нет… Впрочем, тогда я был еще слишком самоуверен… и слеп… Бедная Каломария, она даже не увидит тела мужа и не сможет его похоронить! Разве утешит ее то, что он погиб смертью храбрых, защищая меня? Не слишком ли много жертв ради моего спасения?!.. А я тогда обозвал его тупицей… Господи, прости меня! Помилуй его и приими в царствие Твое! И ведь погибают как раз лучшие, а трусы бегут и остаются жить!..»
Феодора словно прочла его мысли.
– Дядя бредит уже второй день, – тихо сказала она. – Но когда мы с ним говорили, он очень сокрушался о своем бегстве и говорил, что если ты погиб, то виноват будет он, плакал даже…
– Да ладно, он как раз сражался прекрасно, особенно сначала… Но эти турки, дьявол бы их взял, всё переломили!.. Да я и сам виноват: надо было настоять на ночном сражении, может, тогда бы всё вышло иначе… – он чуть помолчал. – И это еще не конец, Феодора. Анкира погибла! И что будет с Аморием, тоже неизвестно…
3. Аморий
…И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война.
(Николай Гумилев)
Халиф поначалу ничего не знал о происшедшем у Анзенского холма – известий от Афшина не было. Ашнас дождался посланного Мутасимом арьергарда с припасами и двинулся вперед. И его войско, и отряды самого халифа, шедшие следом на расстоянии дня пути, терпели недостаток в воде и в корме для скота. У Ламиса Ашнас, не встретив никаких препятствий от ромеев, поскольку оставленные там императором войска разбежались, двинулся на Анкиру и, находясь от нее в трех днях пути, решил перебить всех захваченных по дороге пленных – обузу для войска. Тогда один из недавно взятых пленников, старик, через переводчика сказал Ашнасу:
– Господин, что за польза тебе убивать меня? Вы страдаете от недостатка воды, а здесь недалеко есть люди, бежавшие из Анкиры из страха перед осадой. У них в изобилии есть и вода, и ячмень, и другие припасы. Если хочешь, пошли со мной отряд, и я приведу твоих воинов туда. Взамен я прошу свободы.
– Эка! – усмехнулся Ашнас. – Старик, а смерти всё равно боится, даже на предательство своих готов пойти! Ну, не трусы ли эти греки?!
Собрав отряд из пяти сотен пока еще бодрых воинов, он поручил руководство ими Малику-ибн-Кедару. Отдав ему пленного старика, Ашнас приказал отпустить его, если он действительно укажет, где находятся анкирцы, и если там будет вода и прочие припасы, а по окончании дела двигаться к Анкире.
В сумерках старик привел агарян в долину, где люди и лошади отдохнули и утолили голод и жажду, а затем пленник снова повел их по горам. Кое-кто начал роптать: спустившаяся ночная тьма и незнакомая местность возбудили подозрения, что старик хочет завести всех в гиблое место. О толках среди воинах было донесено Малику, и тот набросился на грека с суровой укоризной:
– Ты хочешь погубить нас в этих горах, облезлая гиена!
– Вовсе нет, господин! – ответил пленник. – Те, на кого ты хочешь напасть, действительно за этими горами. Но боюсь, если мы сойдем туда ночью, они разбегутся, услышав стук копыт о камни, и тогда ты утром, не увидев их, убьешь меня. Поэтому нам нужно пробыть в горах до утра, а при свете ты сам увидишь тех людей и придумаешь, как напасть.
– Ты, жалкий! – сказал Малик. – Где хотя бы место в этих горах, чтобы нам встать и отдохнуть?
– Ну, это твоя забота, – ответил старик.
Тогда Малик приказал остановиться, и отряд провел ночь среди скал, а утром агарянские разведчики захватили в горах мужчину и женщину, которые сообщили им, что анкирцы находятся недалеко, скрываясь в соляных копях.
– Пощади этих двоих и отпусти их, – сказал старик Малику, – ведь они указали вам путь!
Малик отпустил обоих и с отрядом двинулся к копям. Ромеи вступили с арабами в бой, но агаряне победили и получили от пленных важные сведения. В числе скрывшихся в копях было немало участников сражения с Афшином под Дазимоном, и они рассказали о том, что там произошло. Узнав новости, Малик отпустил и старика, и всех пленных анкирцев с женами и детьми, приказав своим воинам забрать только скот, пополнил за счет ромеев запасы воды и ячменя и отправился к Анкире, где встретился с Ашнасом. На другой день туда подошел Мутасим, а еще через три дня Афшин. Совместными силами арабы разрушили Анкиру, до основания срыв стены города и разломав крепость, после чего, захватив богатую добычу, двинулись на Аморий. Они шли тремя колоннами, и халиф отдал приказ брать в плен всех, кто будет попадаться на пути, и жечь встречающиеся селения.
Между тем император, расправившись с заговорщиками, вновь покинул Константинополь и отправился в Никею. Здесь он получил известие из Азии о том, что арабы покончили с Анкирой и соединенными силами идут на Аморий. Феофил понимал, что противостать врагам теперь не удастся, поскольку ромейские войска находились в жалком состоянии, а собирать новые не было времени, и решил попытаться вступить с агарянами в переговоры. С этой целью было снаряжено посольство из нескольких синклитиков и работников Консистории, во главе с патрикием Василием, отцом каппадокийца Евдокима. Никто не был рад участию в этом посольстве: по всему ожидалось, что оно может стать очень опасным и не только не принесет перемирия, но будет стоить жизни посланцам, – однако, разумеется, никто не дерзнул ослушаться василевса. Когда назначенные для посольства люди уже прибыли в Никею, Христодул, сочинивший некогда ямбы для Начертанных братьев – после этого он действительно, как и обещал Феофил, стал главным помощником протоасикрита Лизикса и вместе с ним сопровождал императора, – на совете предложил включить в состав посольства еще одного человека.
– Осмелюсь сказать, государь, что было бы полезно, по моему скромному мнению, отправить с послами также господина Фотия. Его необыкновенная начитанность и дар слова, возможно, пригодятся в этом трудном деле.
Василевс немного удивился предложению, но, поскольку идею поддержали трое уже назначенных послов, Феофил, недолго думая, согласился и повелел внести имя молодого асикрита в список. Император и не подозревал, что за предложением Христодула стояла вовсе не забота о большей представительности и успехе посольства, а желание отомстить.
Христодул начал свою работу в императорской канцелярии почти одновременно с возвратившимся в столицу Фотием и попытался подружиться с ним, благо они были почти одного возраста. Однако дружба не состоялась: Фотий был вежлив и любезен, но не отвечал на попытки Христодула установить более тесные отношения. Фотий вообще казался Христодулу, да и не ему одному, несколько странным, точнее, загадочным: он не был замкнутым, свободно общался со всеми, мог рассказать много интересного, остроумно пошутить, ответить на вопрос, выслушать чужую жалобу и найти слово утешения – но при этом оставался от всех закрыт. При общении с ним казалось, что разворачиваешь вещь, обернутую многими слоями материи: вот сейчас, вроде бы, ты снимешь этот слой и, наконец, увидишь предмет, но разворачиваешь – а там снова такая же холстина… В канцелярии Фотия и Христодула считали ценными работниками, но если последнего отличали за усердие и расторопность, то первого – за совсем иные качества, из которых необыкновенная память была далеко не самым выдающимся, хотя уже одна она сама по себе была незаменима в работе с документами: Фотий походил на ходячий справочник – он всегда помнил, что где лежит, какой документ уже отправлен в архив, а какой еще должен болтаться где-то на столах или в шкафах Консистории, какая дата стоит под тем или иным императорским распоряжением, когда именно было принято или отправлено то или иное посольство, и скольких человек наградил василевс новыми чинами во время торжеств в честь очередного праздника. Фотий был начитан: он мог дать почти любую справку – касалась ли она Священного Писания или церковных канонов, истории Ветхого Рима или деяний императоров Рима Нового, греческой грамматики или творений эллинских поэтов, писаний святых отцов или учений древних философов. Лизикс однажды пошутил, что молодому человеку осталось только заучить наизусть «Эклогу» и прочие законы. Законодательные акты Фотий, действительно, знал не так уж хорошо, однако и здесь он мог быстро сообразить, в каком разделе соответствующей книги следует искать те или иные сведения, и редко ошибался. Фотий был умен, и Лизикс, хотя весьма благоволил Христодулу и не упускал случая похвалить его перед императором, обращался с ним как с подчиненным, с Фотием же говорил как с равным…
Всё это в совокупности постепенно стало вызывать у Христодула раздражение против Фотия – тем более сильное, что не было совершенно никакого повода выказать свою неприязнь. Между тем история с Начертанными братьями окончательно отдалила друг от друга молодых людей: в то время как большинство работников канцелярии расточали Христодулу – Бог знает, насколько искренне, но, по меньшей мере, достаточно бурно – всяческие поздравления по поводу его сочинения, которым были заклеймены «нечестивцы и преступники», Фотий отмалчивался, и в его молчании Христодул явственно ощущал неодобрение. Это выводило молодого человека из себя, и, наконец, однажды он, выслушав похвалу своим стихам от очередного зашедшего за документами чиновника, вдруг повернулся к Фотию и спросил:
– А тебе, Фотий, мои стихи, как видно, не понравились?
Окружающие на мгновение замерли, а потом все, как один, посмотрели на асикрита, которому был задан вопрос. Конечно, в канцелярии уже успели заметить молчаливое неодобрение Фотия и догадывались о его причинах – при дворе знали, что молодой человек не состоит в церковном общении с иконоборцами, но говорить об этом было не принято: асикрит был родственником императрицы, про чью «слабость» к иконам тоже было известно…
Фотий, казалось, нимало не смутился и спокойно ответил:
– Там есть ошибки в размере.
Протоасикрит мысленно зааплодировал, хотя внешне ничем не выдал своего восхищения: Лизикс был убежденным иконоборцем, но это не мешало ему ценить достоинства людей из противного лагеря. Остальные тоже поняли, насколько ответ Фотия был находчив и одновременно насмешлив, и глаза всех обратились к задавшему вопрос.
Кровь бросилась в лицо Христодулу. Несколько мгновений он молча смотрел на Фотия, не зная, что сказать. Согласиться, что в стихах есть ошибки, значило признать, что стихи нехороши и действительно могут не нравиться любителям поэзии – а Фотий знал в ней толк, хотя, по-видимому, не слишком ее любил. Оправдываться, что император нарочно повелел написать стихи с ошибками, значило «подставить под удар» самого василевса и вообще вступить на довольно зыбкую почву: кто знает, не донесут ли потом об этом государю?.. Доказывать, что на самом деле для Фотия дело вовсе не в размере, а в содержании и применении ямбов? Глупее не придумать! Только выставишь себя в смешном свете, ведь Фотий-то ничего не сказал. Ничего, кроме правды – что у ямбов сбит размер!..
Неизвестно, сколько бы продолжалось это мучительное для Христодула молчание и чем бы оно закончилось, если бы в залу не вошел логофет геникона.
– Что это тут у вас, почтеннейшие? – спросил он, оглядев всех и остановившись взглядом на Христодуле с Фотием. – Молодые люди не поделили невесту?
– Нет, – с улыбкой ответил Лизикс, – они немного не сошлись во взглядах на поэзию, но это пустяки!
– А! – сказал логофет. – Ну, поэзия – дело вздорное! Если память мне не изменяет, Лукиан Самосатский про это очень верно написал:
– Аминь-аминь! – сказал один из асикритов.
Все рассмеялись и вернулись к работе. Христодул сел за свой стол мрачнее тучи. Когда настал перерыв на обед, протоасикрит отозвал его в сторону и тихо сказал:
– Христодул, даже если б ты не просто написал ямбы по случаю, а совершил нечто великое, и тогда тебе стоило бы помнить сказанное Солоном: «В великих делах всем нравиться нельзя». Я понимаю, что тебе обидно и дело не только в ямбах, но знай меру, прошу тебя! Мужчина должен владеть собой. Фотий – птица такого полета, что не все могут летать с ним рядом. А может быть, даже никто. Это не значит, что он лучше всех. Он просто другой. Понимаешь? – Лизикс посмотрел в глаза молодому человеку.
Тот опустил взгляд и чуть слышно ответил:
– Понимаю. Прости меня, Лизикс! Я больше постараюсь не устраивать… такого.
Умом Христодул понимал, что протоасикрит прав, однако вся его внутренность возмущалась, и молодой человек в конце дня, пробуравив взглядом спину уходившего Фотия, подумал: «Ну, погоди у меня еще!»
Нет, он не рассчитывал на то, что во время посольства Фотий попадет в руки агарян. Он лишь злорадно подумал, что опасности и неудобства, которые молодой асикрит должен там встретить, «собьют с него спесь», а то он «слишком зазнаётся». «Среди пергаментов и перьев ты смелый вояка! – думал Христодул, мысленно обращаясь к своему сопернику. – Но посмотрим, что будет, когда ты хотя бы увидишь вблизи варваров!»
После того как совет у императора был окончен, и все разошлись, протоасикрит остановил своего помощника и спросил его своим обычным тихим голосом – Лизикс вообще никогда не повышал тона, – но так, что у молодого человека по спине прошел холодок:
– Христодул, а ты не подумал, что Фотий может не вернуться оттуда живым?
– Ка-ак не вернуться живым? – проговорил ошарашенный асикрит. – Да разве… разве это посольство так опасно?
– Оно очень опасно. Пожалуй, на моей памяти у нас не было ни одного такого опасного посольства, как это.
Молодой человек похолодел: теперь, когда он осознал, к каким последствиям для Фотия может привести его предложение, все его обиды показались такими мелкими, такими незначительными… Но что же делать?!..
– Уже ничего не сделаешь, – сказал Лизикс. – Приказ подписан. Не помню, у кого из отцов это сказано: надо представлять, что ты и твой ближний живете на земле последний день. Очень мудрый совет, Христодул, – он взял юношу за плечо и чуть сжал. – Ну, не отчаивайся, друг мой! На самом деле я думаю, что Фотию эта поездка будет полезна. Даст Бог, всё обойдется и мы еще увидим его, – протоасикрит улыбнулся. – Это я тебе сказал просто на будущее.
– Благодарю, Лизикс! – совершенно искренне воскликнул Христодул. – Я постараюсь запомнить этот урок.
Между тем Фотий, получив сообщение о своем назначении в посольство, стал быстро собираться. Братья, узнав новость, поздравляли его с оказанным доверием – они и не подозревали, что поручение было опасным, и огорчались разве что из-за предстоящей разлуки, особенно Тарасий, который так любил старшего брата, что и дня не мог прожить без беседы с ним.
– Мне будет так скучно без тебя! – воскликнул он. – Послушай… я давно хотел попросить тебя… Не мог бы ты описать мне кратко те книги, которые ты прочел без нас – в патриаршей библиотеке, во дворце? Ты про них рассказываешь, да у меня память не такая, как у тебя, забываю многое! Хочется иметь перед глазами записи… Может, у тебя там будет время, в посольстве? Ведь они, я знаю, могут длиться долго, до нескольких месяцев… Ох, как же я столько выдержу в разлуке с тобой!.. Правда, давай, ты будешь мне оттуда посылать свои записки, – Тарасий воодушевился. – Каждый день по записке, а? Хоть кратенькой! Тогда я буду представлять, что мы по-прежнему ежедневно беседуем!
– Хорошая мысль! – улыбнулся Фотий. – Пожалуй, я так и сделаю… Не знаю, как долго мы пробудем у агарян, но в любом случае записки о книгах меня развлекут! Благодарю, брат, ты подал замечательную мысль!
Только прибыв в Никею, молодой асикрит узнал, что посольство отправляется не в Сирию, а к Аморию, в войско халифа, и потому, скорее всего, не продлится долго, но зато может быть весьма опасным. Как бы то ни было, Фотий намеревался исполнить данное брату обещание и послал Тарасию два первых письма. «Возлюбленного брата Тарасия Фотий приветствует во имя Господне! – писал он. – Когда, с согласия посольства и одобрения императора, я был назначен послом к ассириянам, ты попросил меня изложить тебе содержание прочитанных в твое отсутствие книг, возлюбленнейший мой брат Тарасий, чтобы у тебя, с одной стороны, было утешение в разлуке, которую ты тяжело переносишь, а с другой стороны, чтобы ты имел достаточно точное и вместе с тем цельное представление о книгах, которые ты не прочел вместе с нами…» Столь официально-пояснительный стиль послания был не случаен: просьба брата навела Фотия на мысль не просто рассказать о прочитанных книгах, но составить такое описание, которое можно было бы потом давать читать и другим; первое письмо Тарасию было задумано как вступление к этому описанию. Фотий заранее извинялся за то, что изложение будет не совсем упорядоченным, поскольку он будет представлять книги в том порядке, в каком ему подскажет память. «Если же тебе, – писал он далее, – когда ты примешься за изучение этого и вникнешь в самую суть, покажется, что некоторые рассказы воспроизведены по памяти недостаточно точно, не удивляйся. Ведь для читающего каждую книгу в отдельности охватить памятью содержание и обратить его в письмена – дело замечательное; однако не думаю, чтобы было делом легким охватить памятью многое, – и притом, когда прошло много времени, – да еще соблюсти точность». Впрочем, это было не совсем правдой: хотя многое Фотий действительно собирался воспроизвести по памяти, у него имелись и кое-какие записи, сделанные им при чтении, и ими он тоже намеревался воспользоваться. Он взял эти записки с собой: просьба брата дала повод наконец-то хоть немного упорядочить эти разрозненные заметки. Ввиду последующего обнародования своих записок, Фотий решил воспользоваться услугами хорошего писца, поскольку сам не мог похвалиться каллиграфическим почерком: он слишком много и быстро писал, и постепенно красота пала жертвой скорости. Правда, он не знал, сможет ли найти такого же искусного писца в Дорилее, куда послы должны были отправиться вместе с императором, поэтому заранее извинился перед братом за возможную задержку писем, тем более что неизвестно было, как обернется само посольство…
Арабы начали осаду Амория 1 августа, а на другой день ромейское посольство прибыло в лагерь халифа. Хотя посланцы императора и предполагали, что будут приняты не слишком любезно, действительность оказалась гораздо хуже ожиданий: узнав о прибытии послов, Мутасим не только не принял их, но приказал взять под стражу и держать в особом месте, не разрешая ни передвигаться по лагерю, ни сноситься со своими. Агаряне обошлись с послами весьма грубо, с насмешками загнали их всех в один шатер, кормили финиками и вареными бобами и поили одной водой, а сами на виду у них пили молоко и ели мясо. Сколько могло продлиться такое положение, было совершенно неясно, и послы приуныли. Только Фотий сохранял невозмутимость и целыми днями просиживал над пергаментами – то что-то быстро набрасывал, то задумчиво грыз перо, то перебирал свои старые записки, пытаясь разобрать их по темам. Один из послов, наблюдая за ним, однажды сказал:
– Послушай, господин Фотий, я тебе удивляюсь! Нас, может, скоро всех перебьют, а ты тут про книги писать вздумал!
– Я обещал это брату, – ответил молодой человек. – А если нас и перебьют, тем более нужно постараться, чтобы мои записки не пропали. Быть может, халиф позволит нам выразить последнее желание, и тогда я попрошу отправить эти записи Тарасию… И, в конце концов, надо же как-то коротать время – почему бы и не так?
Между тем защитники Амория решили сопротивляться до последнего. Город был хорошо защищен высокими стенами, увенчанных мощными башнями: император Михаил в свое время приказал дополнительно укрепить их и восстановить обветшавшие участки, и теперь можно было надеяться на благоприятный исход осады, тем более что в городе стоял сильный гарнизон и все жители тоже принимали участие в защите. Арабы терпели большие потери и, несмотря на хорошую подготовку к штурму и множество осадных приспособлений, уже заговаривали об отступлении. Однако Аморий пал – по нерадению начальника крепости и вследствие предательства.
В конце зимы тут шли проливные дожди и вода размыла почву, в результате чего обрушилась часть городской стены. Император, узнав об этом, приказал Аэтию немедленно отстроить стену заново, но тот не позаботился исполнить приказ, а когда пришло известие о наступлении арабов, начинать работы было уже поздно, и архонт, испугавшись царского гнева, приказал кое-как заделать брешь и укрепить сверху упавшие зубцы, так что снаружи создавалась видимость добротной стены. Но жители города знали об этой уловке, и среди них нашелся предатель – араб, за несколько лет до того попавший в плен к ромеям. Он состоял в услужении у одного комита, принял христианство и женился, однако, увидев бывших соотечественников перед стенами Амория, подумал, что хорошо бы избавиться от рабства и вернуться на родину… Тайно сумев выбраться из города, он пришел ночью в лагерь агарян и, приведенный к халифу, сообщил, где нужно ломать стену. Наутро Мутасим повелел направить удары в указанное место, и неукрепленная стена частично обрушилась. Защитники попытались заделать ее бревнами, но под ударами баллист это было трудно, вражеские камни раскалывали бревна, и в конце концов стена распалась. Ромеи, однако, защищали брешь и не пускали арабов в город. Аэтий, тем временем, посовещавшись с Феодором Кратером, решили послать к императору письмо с просьбой о помощи. Для этого избрали одного горожанина, прекрасно говорившего по-арабски, дав ему в спутники раба-грека. Они действительно сумели незаметно выбраться из города, но уже за рвом наткнулись на арабов, и те спросили, откуда они.
– Мы из ваших, – ответил амориец по-арабски.
– Из чьего вы отряда?
На этот вопрос они не смогли ответить, поскольку не знали по имени ни одного из арабских военачальников. Агаряне заподозрили, что это соглядатаи, обыскали их и нашли письмо Аэтия. Халиф, когда ему прочли письмо, оглядел пойманных ромеев, с обреченным видом ожидавших смерти, снисходительно улыбнулся и сказал, что даст им денег и отпустит, если они примут ислам. Те, немного поколебавшись, дали согласие, и на следующее утро, облачив их в богатые одежды, Мутасим приказал провести новоиспеченных рабов Аллаха мимо той башни в стене Амория, где, как ему донесли, находился Аэтий; в руках они держали распечатанное письмо, а перед ними два слуги несли полученные ими деньги.
– Предатели! Отступники! – кричали им со стен аморийцы.
Но это не могло помочь городу. Халиф установил везде стражу для постоянной охраны всех выходов, воины даже спали верхом на конях, и никто теперь уже не мог бы незамеченным покинуть Аморий. Арабы попытались засыпать ров, чтобы подвезти к стенам тараны, но ромеи со стен метали камни и не давали врагам работать. Тогда халиф приказал на другой день начать штурм, пытаясь пройти в город через брешь, которую арабы постоянно обстреливали из баллист. Первый день никаких результатов не дал, но затем агаряне немного продвинулись вперед, а на третье утро халиф сам повел войско в бой. Защищавшие брешь аморийцы несли большие потери, но на просьбу прислать им подкрепление Аэтий ответил отказом, заявив, что воины нужны для защиты других участков стены. Тогда комит Венду, командовавший войсками у бреши, отчаявшись, решил испросить у Мутасима пощады себе, своим воинам и их семьям и сдать город. Утром 15 августа он отправился к халифу, приказав своим стратиотам не сражаться до его возвращения. Но арабы не желали соблюдать перемирия и, пока комит переговаривался с Мутасимом, ворвались в Аморий. Венду, выйдя из шатра халифа и увидев это, в ужасе схватил себя за бороду и бросился обратно к Мутасиму.
– Чего ты? – спросил его халиф.
– О, повелитель верующих, я пришел к тебе, желая перемолвиться словом, а ты поступил со мной вероломно! – воскликнул комит, едва не плача.
– Я дам тебе всё, чего ты у меня ни попросишь, – ответил Мутасим. – Скажи, чего ты хочешь!
– К чему тебе идти на это, если твои люди уже в городе? – спросил Венду, опуская голову.
Халиф улыбнулся и сказал:
– Положи свою руку на то, чего ты хочешь, и это будет твоим, говорю тебе!
Венду вздохнул и медленно сел на ковер, покрывавший пол в шатре: комит рассудил, что лучше ему сейчас не возвращаться в город…
Аморий подвергся жестокому разграблению: арабы хватали всё, что попадалось под руку, вытаскивали из домов женщин и девиц, забирали детей, грабили храмы и монастыри, а потом поджигали их, уводя в плен монахинь. Когда к Мутасиму привели Аэтия, халиф в гневе ударил его кнутом и велел отвести в свой шатер, затем приказал отделить из пленных тех, что были знатны и богаты, а прочих разделить между вождями. Добычу делили несколько дней. Женщин, детей и рабов захватили так много, что их продавали с молотка всего после трех ударов, часто сразу по пять или десять человек. Когда дележ окончился, халиф приказал провести ромейских послов по разграбленному и сожженному Аморию, а затем с усмешкой сказал им:
– А теперь ступайте к вашему царю и расскажите, что вы видели и слышали!
Арабы разрушили стены взятого города, и тут до халифа дошли слухи, будто император хочет не то сам идти против него, не то послать войско под командованием Феофоба. Мутасим решил двинуться навстречу и, отправив часть войска с добычей в обратный путь, сделал со своими отрядами дневной переход по большой Царской дороге, но, никого не обнаружив, возвратился к Аморию и пошел догонять отряды, ведшие пленных. Арабы двигались по довольно пустынной и бесплодной местности, и примерно через сорок миль пленные, которым почти не давали пить – воду агаряне берегли для себя, – стали отказываться идти дальше; арабы безжалостно рубили им головы. Люди и кони падали от жажды. Во время одной из стоянок несколько ромеев, убив стороживших их воинов, сбежали. Мутасим, нагнав этот обоз и привезя с собой запасы воды, узнал о бегстве пленных и жестоко расправился с остальными: группу более знатных оставили в живых, а прочих, около шести тысяч человек, завели на гору и обезглавили, сбросив тела по склону в долину.
Поруганное ромейское посольство проследовало до Дорилея в мрачном молчании, лишь изредка перекидываясь словами. На подъезде к городу послы, наконец, заговорили и стали обсуждать, кто будет докладывать императору о случившемся.; Никому не улыбалась перспектива столь тяжелого разговора, и тогда Фотий, молча слушавший препирательства, вдруг сказал:
– Если никто из вас не хочет, господа, я мог бы взять это на себя, с вашего позволения.
Все уставились на него так, будто он свалился с луны, а потом Василий и двое старших послов хором сказали:
– Вот еще! – и тут же сговорились между собой, что сделают государю доклад все вместе, взяв на себя каждый определенную часть.
Фотий чуть заметно улыбнулся и больше не проронил ни слова, пока они не прибыли во дворец василевса.
Император выслушал доклад послов молча и внешне спокойно, только был ужасно бледен и время от времени стискивал кулаки. Феофоб то и дело вполголоса ругался по-арабски, а остальные слушатели не могли сдержать горестных восклицаний. Посовещавшись с архонтами, Феофил решил послать к халифу новое посольство, почти в том же составе, предложив богатый выкуп за пленных. Фотий, хотя послы не хотели его брать, заявил, ко всеобщему удивлению, что не прочь еще раз побывать в стане агарян.
– Нет, – сказал император, узнав об этом, – с него довольно, пусть пока остается тут.
Вновь потянулись томительные дни ожидания. Феофил почти ничего не мог делать, едва мог читать и засыпал с трудом. В снах он то сражался с арабами, то бежал от них, и казалось, что его вот-вот убьют, но он оставался жив и просыпался в поту. Днем он много ездил верхом по окрестностям Дорилея, чтобы хоть отчасти растрясти горькие мысли. От волнения его мучил внутренний жар, почти постоянно хотелось пить. Как-то раз прогулка верхом затянулась дольше обычного, взятая с собой вода кончилась, а до реки было довольно далеко, и вокруг простирались одни поля. Тогда император приказал зачерпнуть из попавшегося на пути озерца, больше походившего на лужу. Его спутники с сомнением посмотрели на мутноватую воду, но ослушаться не решились, тем более, что василевс был не в духе. Однако, поднося ему чашу с водой, кандидат всё-таки осмелился заметить:
– Вода не очень-то чистая, государь… Вдруг там какие-нибудь… э… гады плавают!
– Да хоть сам дьявол! – раздраженно ответил Феофил, несколькими глотками осушил чашу, вытер усы и подумал: «Я и сам сейчас… не лучше какого-нибудь гада… пресмыкаюсь перед этими варварами… Ну вот, гаду гадово, всё верно…»
Он был почти в отчаянии, хотя внешне этого нельзя было заметить. Только Феофоб заподозрил неладное и очень не хотел покидать Дорилей, но Феофил отправил его в Синоп вместе с персидскими турмами, приказав ждать там дальнейших распоряжений.
Молиться император тоже мог с трудом и сократил свое обычное правило до минимума. «Как буря сквозь пустыню проходит, от пустыни исходящая от земли, страшное видение и жестокое открылось мне…» – вертелось в голове. Хотелось домой. А больше всего хотелось видеть Феодору. Года полтора назад это, вероятно, показалось бы ему странным. Но теперь уже не казалось.
…Мануил проснулся и, с трудом разлепив гноившиеся глаза, вдруг окончательно понял, что надежды нет и он скоро умрет. Это было ужасно. Несмотря на то, что через два года ему должно было исполниться шестьдесят, он не хотел умирать. Он вспоминал свою жизнь, почти целиком прошедшую на службе при императорском дворе, за исключением нескольких лет, проведенных у арабов, и сознавал, что, в сущности, всегда жил в свое удовольствие, почти ни в чем себе не отказывая. Это было далеко от тех добродетелей, о которых писали святые отцы или рассказывали жития подвижников, и, казалось бы, доместика схол уже давно должен был постигнуть Божий гнев, однако ему всю жизнь везло. Он не погиб в сражении при Версиникии и был всего лишь легко ранен под Месемврией; его продвижение на службе при дворе было плавным и неуклонным, а после того как его племянница стала супругой императора, чины следовали за чинами и повышения за повышениями… Правда, Мануил допустил грубую оплошность, проявив снисходительность к Фоме во время мятежа, но это было следствием не неприязни к законному василевсу – о, нет! – а боязни перед разорением и бедствиями, грозившими Анатолийской феме, если бы стратиг не проявил в отношении бунтовщиков известной гибкости… Мануилу везло даже тогда, когда он оказался в опале – правда, навлекший ее поступок он считал как раз одним из самых благочестивых в своей жизни. Во-первых, он всегда восхищался первой женой Михаила, увещевал царственную племянницу брать пример со свекрови и даже – как не признаться в этом самому себе теперь, на краю могилы? – был тайно влюблен в императрицу, хотя ни разу не допустил себя до какого-либо намека на это перед ней. Именно поэтому немедленное вступление овдовевшего императора в новый брак не только покоробило стратига, но стало для него почти личным оскорблением: василевс владел в лице Феклы таким огромным сокровищем – и настолько мало ценил его! Во-вторых, хотя Мануил был далеко не так благочестив, как Флорина, женитьба Михаила на монахине всё-таки очень возмутила его. Но и очутившись у арабов, Мануил остался на волне своего везения: до того самого дня, когда синкелл встретился с ним в Багдаде и сообщил о желании Феофила вновь видеть его на родине, бывший стратиг Анатолика жил в почете у халифа и ни в чем не нуждался. Когда же он вернулся в Константинополь, его служба при дворе продолжалась так, будто он никогда и не был в изгнании… Да, ему всегда везло, но он не задумывался об этом, и только сейчас, когда полученная под Дазимоном рана готова была свести его в могилу, он осознал, насколько Бог был милостив к нему и насколько он был внутренне нищ и совершенно не имел, чем воздать за все эти милости: ни добродетелей, ни дел милосердия, ни молитвенной ревности… Даже самое легкое для исполнения – церковные посты – Мануил нередко нарушал, а уж чтобы соблюдать их по уставу, об этом и вовсе речь никогда не шла, хотя здоровье позволяло ему… И вот, здоровье кончилось, как и всё остальное, жизнь покидала тело, скоро доместик неминуемо должен был предстать на суд Божий – и как же ему страшно было теперь!
Мануил застонал, и к нему тут же склонилась жена. Она целыми днями сидела у его постели и стала похожей на тень. «Бедная! – с сокрушенным раскаянияем подумал патрикий. – По-прежнему меня любит, а ведь не за что, не за что, Господи!..» Он со стыдом вспоминал, как частенько обнимал в полутемных коридорах хорошеньких горничных, а иной раз и зазывал их на часок в тот или иной укромный угол особняка; как в Багдаде завел себе «гарем» – халиф подарил ему трех красивых невольниц, и доместик не отказывался от их услуг; как по возвращении на родину почти до самого последнего времени не упускал возможности походя ущипнуть миловидную служанку…
– Очнулся, слава Богу! А я уже хотела отослать этого монаха, – супруга доместика повернулась к стоявшему у двери слуге. – Позови его скорей!
– Какого монаха? – прохрипел доместик.
– Иеромонах тут пришел к тебе, родной! Из студитов, говорит, что мог бы помочь тебе, но только если ты придешь в себя…
«Исповедовать, что ли, хочет? – подумал Мануил. – Впрочем, и впрямь пора… Вот-вот подохну… Из студитов?!.. Но что это…»
Додумать он не успел, потому что жена поднялась со словами:
– Сюда, отче, прошу! Он пришел в себя.
Мануил с трудом повернул голову и увидел перед собой худого монаха среднего роста, темноволосого, с бледным лицом, немного сутулого. По-видимому, ему было уже за сорок – виски и бороду тронула седина. В больших светло-карих глазах читалось сочувствие.
– Здравствуй, господин Мануил, – негромко сказал он. – Меня зовут Николай. Твоя сестра, госпожа Ирина, попросила меня навестить тебя.
– Здравствуй, отче, – прошептал доместик. – Так это ты… это ты… был с игуменом Феодором?
– Да, господин.
После того как студиты были изгнаны с Принкипо, Николай жил в предместье Константинополя, в местечке Фирмополь, в имении спафарии Ирины, двоюродной сестры Мануила. Она была иконопочитательницей и еще при императоре Льве оказывала исповедникам много благодеяний, а узнав, что студиты вынуждены разъехаться от гроба своего почившего игумена, предложила Николаю поселиться на ее земле, обещая построить ему уединенную келью и обеспечить всем необходимым. Взамен же она только хотела окормляться у него духовно и слушать рассказы об игумене Феодоре. Николай уже много лет был священником – его рукоположил епископ Диррахийский Антоний за два года до кончины Феодора; переселившись в Фирмополь, студит жил почти отшельником и раз в неделю служил литургию в домовой часовне; при нем находился только один послушник из студийской братии. И вот, Ирина, узнав, что ее брат умирает, стала умолять Николая навестить его и помолиться о нем, втайне надеясь, что студит исцелит доместика. Однако тут вставало препятствие: Мануил был иконоборцем и, хотя не одобрял гонений против иконопочитателей, сам иконам не поклонялся даже тайно и в целом относился к этому вопросу с полнейшим равнодушием. Николай же, следуя заветам своего духовного отца, говорил, что может помочь больному, только если тот покается и обратится от ереси к православию. Спафария с жаром принялась убеждать его, что если он побеседует с Мануилом, то доместик «непременно встанет на истинный путь», ведь недаром его поразила эта беда, и теперь он в любом случае должен задуматься о своей вечной участи, – Ирина знала, что врачи почти не питают надежд на выздоровление ее брата. Наконец, когда она уже готова была упасть в ноги студиту, Николай, смутившись, пообещал ей сделать всё возможное для спасения Мануила и на другое же утро отправился в Город.
– Госпожа Ирина просила меня помолиться за тебя, господин, – сказал Николай, – потому что, не знаю как, возымела веру ко мне, недостойному. Но я предупредил ее и тебе должен сказать то же самое: конечно, я помолюсь, как могу, о твоем исцелении, но думаю, что Бог послушает мою грешную молитву только в том случае, если ты отвергнешь иконоборческое заблуждение, покаешься и пообещаешь больше никогда не принимать причастие от еретиков. Итак, решай сам, господин Мануил. Как говорится, «два пути предложил я тебе»; в твоей воле избрать, какой хочешь.
Мануил со стоном закрыл глаза. Конечно, он сознавал, что умирает и другой надежды на исцеление у него нет; он понимал, что прожил не такую жизнь, за какую можно увенчаться на суде Божием; он ощущал необходимость как можно скорее покаяться во всех грехах, которые вспомнились ему этим утром так ясно, словно кто-то невидимый листал перед ним книгу его жизни, – но сознавал и то, что если он даст обещание Николаю хранить православие, это надо будет выполнять, какие бы ни грозили неудобства и неприятности. Впрочем… Думать теперь об удобствах?!.. Человек подл: перед глазами гроб и единственная надежда, а он всё еще ищет, как бы выгадать!.. Нет, довольно, довольно, он и так столько лет прожил в свое удовольствие!
Доместик снова взглянул на иеромонаха и сказал:
– Да, отче, я желаю покаяться и хотел бы, чтобы ты исповедал меня немедленно.
В тот же вечер врач, придя навестить Мануила и думая, что застанет его при последнем издыхании или уже умершим, к своему величайшему изумлению обнаружил, что нагноение в никак не заживавшей ране исчезло, края ее стянулись, а больной, который уже несколько дней почти ничего не брал в рот, с аппетитом пьет ячменный отвар. Врач переменил повязку, пощупал Мануилу пульс, расспросил, как он себя чувствует, и заявил, что, по-видимому, кризис прошел и раненый поправится.
Николай задержался у доместика еще на день, побеседовал с домашними Мануила и всех обратил к иконопочитанию – после совершившегося над хозяином дома чуда это не составило труда, тем более что жена и дочь доместика втайне продолжали чтить образа, хотя причащались у иконоборцев. Студита снабдили богатыми дарами, которые он тут же решил отправить нуждающимся братиям.
– Смотри, господин Мануил, – сказал Николай больному на прощание, – Господь, по милосердию Своему, продлевает дни твоей жизни. В эту ночь я молился и отныне всегда буду молиться о тебе, чтобы ты не истратил данное тебе время на тщету и суету. А теперь я должен сказать тебе вот что: Бог явил на тебе, Его одушевленном образе, Свою славу, чтобы ты позаботился о славе Его начертанного образа. Когда придет время, вспомни мои слова!
4. Путь к весне
- Слишком долго мы были затеряны в безднах.
- Волны-звери, подняв свой мерцающий горб,
- Нас крутили и били в объятьях железных
- И бросали на скалы, где пряталась скорбь.
- Но теперь, словно белые кони от битвы,
- Улетают клочки грозовых облаков.
- Если хочешь, мы выйдем для общей молитвы
- На хрустящий песок золотых островов.
(Николай Гумилев)
Второе посольство, посланное императором к халифу, хоть и не претерпело от него таких оскорблений, как предыдущее, успеха тоже не имело: в ответ на предложение двухсот кентинариев золота в обмен на взятых в Амории пленных, особенно Константина Вавуцика и прочих военачальников, Мутасим заявил, что потратил на поход в несколько раз больше денег, а ему еще предстоит отстраивать Запетру.
– Ваш посланник Иоанн когда-то сорил в нашей земле деньгами и драгоценностями, как песком, – с усмешкой сказал халиф. – Что же теперь вы так скупы ради спасения своих людей? Впрочем, передайте вашему царю, что я, возможно, соглашусь на переговоры с ним об этом, если он удвоит количество золота и выдаст мне Насира с его персами и Мануила. В противном случае пусть даже не мечтает увидеть тех, кого всевышний Аллах – велик он и славен – предал в наши руки! А лучше пусть позаботится о собственном спасении, потому что вскоре он увидит наших людей под стенами своего Города!
Мутасим действительно подумывал о походе на Константинополь и советовался с военачальниками о том, как обложить Город с моря и суши. Однако планы халифа смешало известие о заговоре в пользу его племянника Аббаса, и Мутасиму пришлось спешно вернуться в свои владения.
Император, возвращаясь из Дорилея, почувствовал легкое недомогание. Он не придал этому значения, однако уже на другой день по приезде в Константинополь внезапно слег в постель. Вероятно, причиной болезни была сырая вода, которую Феофил постоянно пил в ожидании того, чем закончатся аморийские события: он мучился от сильнейшего кишечного расстройства, от схваток в животе, от жара и от головной боли. Император метался в поту по пурпурным простыням, стонал во сне, а когда не спал, терпел, стиснув зубы. Он почти ничего не ел, много пил, очень исхудал и, казалось, таял на глазах. Феодоре пришлось вести вместо мужа приемы чинов и прочие церемонии, вникать в дела управления, и это ей неплохо удавалось, впрочем, не без помощи протоасикрита, обоих своих братьев и логофета дрома – после гибели Арсавира эту должность получил Феоктист, оставаясь и хранителем императорской чернильницы. Всё свободное время августа проводила рядом с мужем, сама кормила его, давала лекарства, меняла грелки, поскольку он постоянно мерз, почти не спала ночами и похудела так же, как Феофил. Кувикуларии почти насильно заставляли ее что-нибудь есть – аппетита у нее не было. Она даже перестала пить что-либо, кроме воды, потому что императору врачи запретили во время болезни употреблять вино даже в малом количестве. Однажды августа упала в обморок от усталости, и после этого Елена с Марией стали сменять ее, заставляя отдыхать. Впрочем, время, даваемое ей на сон и отдых, Феодора большей частью проводила у себя в молельне…
Когда кризис миновал, больной довольно быстро пошел на поправку, и хотя врачи предупреждали, что болезнь может вернуться, это уже казалось мелочью: всё-таки император выздоравливал! Когда он, в сопровождении августы, вернулся в свои покои после первой с начала болезни прогулки по парку, они, проходя мимо большого зеркала, невольно взглянули в него и остановились: в полированном серебре отражались одинаково бледные исхудавшие лица, одинаково огромные черные глаза и темные круги под ними, одинаковые чуть растерянные улыбки: «Неужели этот ужас окончился?»
– Мы с тобой – как два призрака с того света, – сказал император.
– Да уж, – проговорила Феодора. – Надо срочно отъедаться!
– Особенно тебе, моя августа, – улыбнулся Феофил. – Конечно, сейчас ты выглядишь весьма аскетично, но я не люблю аскетичных женщин!
Ее сердце птицей затрепетало в груди. Что это – просто шутка, или за ней прячется нечто более серьезное?.. Феодора молча посмотрела в глаза отражению Феофила, и тут он повернул ее к себе и поцеловал. Когда его губы спустились к ее шее, августа слабо запротестовала:
– Послушай, нас могут увидеть кувикуларии!
– Ты права, – сказал он, беря ее под руку. – Нужно более безопасное место!
Войдя в императорскую спальню, Феодора, глядя, как муж запирает дверь, нерешительно проговорила:
– А ты уверен, что ты… уже в силах?
– Ты сама сказала, что нам нужно отъедаться, – ответил Феофил и с улыбкой повернулся к жене. – Я голодный, как зверь!
– Я тоже, – прошептала она, обнимая его.
Пока Феофил болел, в Синопе возмутились персы: до них дошла весть, что халиф потребовал их выдачи, и они, опасаясь положительного ответа императора, были близки к тому, чтобы поднять мятеж и провозгласить василевсом своего командира. Феофоб едва сдержал волнения в турмах. Впрочем, возмущение быстро успокоилось, когда из Константинополя прибыло известие, что император не собирается идти на уступки Мутасиму. Правда, злые языки поговаривали, будто мятеж затеял сам Феофоб; кое-кто даже ожидал, что, когда перс вернется в столицу, его постигнет гнев императора. Но ничего подобного не случилось: василевс принял военачальника со всей любовью и почетом, и злословившие умолкли. Как только Феофил достаточно окреп, он собрал совет, где присутствовали синклитики, патриарх и стратиги, чтобы обсудить положение дел на восточных границах. После долгих разговоров и раздумий было решено обратиться за помощью к западным державам. С этой целью посольство во главе с патрикием Феодосием Вавуциком, отцом плененного Константина, было отправлено в Венецию, к дожу Петру Трандонико. Родом из Истрии, Петр был избран дожем два года тому назад. Заговорщики, свергнувшие его предшественника, правда, имели своего ставленника, но, в результате умелой дипломатической игры и давления со стороны Империи, во главе республики встал Трандонико, не принадлежавший к древним венецианским родам. Ромеи имели все основания надеяться на помощь с его стороны. Вавуцик должен был от имени императора пожаловать дожа званием спафария и побудить его немедленно выслать войско против западных арабов, которые к этому времени уже начали делать вылазки в Южной Италии. В случае ослабления агарян на западе можно было бы сосредоточить больше сил на востоке.
Между тем София почти смирилась с тем, что, скорее всего, в земной жизни ей больше не суждено увидеть мужа. Она лишь молилась о том, чтобы он достойно вытерпел всё, что предстоит ему перенести в арабском плену. Каломария после гибели Арсавира резко изменила образ жизни: носила темные скромные одежды, уже не появлялась ни на каких пирах и увеселениях, ежедневно ходила в церковь, а в послеобеденное время посещала столичные тюрьмы, стараясь облегчить судьбу заключенных, приносила им пищу, одежду, молитвенники, давала деньги стражникам, чтобы они убирались в камерах, позволяли узникам омывать тело и стричь волосы. Посещала вдова и городские больницы и странноприимницы, жертвуя на их содержание немалые средства. Вскоре София стала ходить вместе с ней ради утешения страждущих, при случае прося их молиться о Константине… Чаще всего сестры посещали заточенных в дворцовой тюрьме, где теперь находился и игумен Мефодий – император приказал перевести его сюда после раскрытия заговора, поскольку заговорщики намекали на поддержку, будто бы оказанную им иконопочитателями. Однажды игумен, заметив, как София всё посматривает на его лысую голову, улыбнулся и сказал:
– Да, госпожа, сейчас моя голова похожа на яйцо, а ведь когда-то мало кто мог похвалиться такой густой шевелюрой, какая была у меня.
– Как же ты потерял все волосы, отче? – спросила Каломария.
Мефодий рассказал сестрам августы о своем заключении на острове Святого Андрея, а затем, слово за слово, зашла речь и о годах, проведенных в Риме. Слушательницы так заинтересовались его повествованием, что на другой же день пришли вновь и просили рассказать им побольше. Вскоре они узнали и о годах его молодости, и о начале монашеской жизни, и об архиепископе Евфимии… Исподволь Мефодий пытался утвердить обеих женщин в иконопочитании. Впрочем, София, как и ее царственная сестра, тайно чтила иконы, но Каломария за годы жизни с мужем полностью перешла в стан иконоборцев. Однако после общения с игуменом, особенно выслушав его рассказ о последних днях Евфимия Сардского, она сильно задумалась о том, насколько был прав Арсавир в своих убеждениях… Мефодий, впрочем, не спешил и напрямую об иконопочитании говорил очень редко, чтобы не отпугнуть тех, чье обращение к православию было очень важным: ведь сестры могли бы со временем повлиять на августу, а та, в свою очередь, на мужа…
К концу осени император совершенно оправился, к императрице тоже вернулась прежняя красота. Но вместо одной беды пришла другая: в начале декабря заболела Мария. Пока Алексей был на Сицилии, она, чтобы разогнать скуку и тревогу за мужа, часто ездила на охоту вместе с отцом или с дядями – иногда с Вардой, чаще с Петроной. Ее живой характер требовал для отвлечения от грустных мыслей более подвижных и шумных занятий, чем вышивание или сиденье за ткацким станком, тем более, что она почти с самого детства воспитывалась не совсем «по-девичьи»: после гибели маленького Константина всё внимание Феофила сосредоточилось на старшей дочери, да и после рождения младших Мария всегда оставалась любимицей отца – он много занимался с ней, научил не только ездить верхом, но и стрелять из лука, а теперь разрешил бывать и на охоте, причем в мужском одеянии, хотя больше как зрительнице, чем как участнице. И вот, в октябре они с Петроной, гоняя зайцев в Филопатии, попали под дождь и сильно вымокли. После этого молодая августа стала покашливать, но поначалу не обращала на это внимания, однако как-то вечером в декабре вдруг зашлась кашлем, а когда отняла от губ платок, все увидели пятна крови на белой ткани… Марию тут же уложили в постель, врачи делали всё возможное, а по всем храмам Города молились о выздоровлении императорской дочери, но больная быстро угасала.
– Прости меня, папа, – еле слышно сказала она, когда Феофил на Рождество Христово пришел ее навестить. – Так ты и не дождался от меня внука… Но я верю, что Господь… дарует вам с мамой сына… Жаль только, что я уже не увижу братика… Хотя, наверное… увижу – оттуда?
– Увидишь, моя девочка, – проговорил император, глотая подступившие к горлу слезы. – Конечно, увидишь.
Вызванный с Сицилии Муселе застал жену при последнем издыхании, и она умерла у него на руках, за четыре дня до Богоявления. Ее похоронили в храме Апостолов, в Юстиниановой усыпальнице, рядом с братом. Император приказал возложить на саркофаг серебряный покров и начертать особую надпись: ею даровалось прощение всякому, кто, спасаясь от наказания, припадет ко гробу Марии…
Празднование Крещения Господня прошло без августейшей семьи: первые дни все были в трауре и никуда не выходили. Император с женой и дочерьми в день праздника причастились в дворцовом храме святого Стефана и пообедали без всяких церемоний, в присутствии только Феофоба с Еленой, своих препозитов и нескольких кувикуларий. Кесаря не было – после похорон жены он затворился дома и никуда не выходил.
– А стё, – вдруг сказала за обедом маленькая Пульхерия, – Малия уехала, да? Она сколо велнеться?
– Нет, не скоро, – ответил император, делая над собой усилие, чтобы немного улыбнуться. – Теперь не она к нам, а мы к ней поедем… когда время придет.
– А когда влемя плидет? Сколо?
– Замолчи! – сердито оборвала сестру Фекла. – Когда придет, тогда и придет! Ешь и не болтай!
После обеда Феофил сразу удалился в свои покои. Феодора провела некоторое время у себя с детьми, а потом пришла Елена и тихо сказала:
– Я побуду с ними, а ты иди.
Императрица молча поцеловала ее в щеку и вышла.
Феофил лежал на кровати, закрыв глаза. Он даже не снял сапоги, одна рука была прижата к груди, другая бессильно упала вдоль тела. Феодора подошла очень тихо, почти не дыша, посмотрела мужу в лицо, и сердце ее заныло от боли: на его щеках блестели полоски слез. Он приподнял ресницы, взглянул на жену, и губы его чуть дрогнули. Она ничего не сказала, просто села рядом и погладила его по плечу. Он накрыл ее руку своей, и она сидела возле него молча и неподвижно, пока за окном совсем не стемнело. Когда августа пошевелилась, собираясь подняться, император сказал:
– Останься, – и добавил еле слышно: – Тяжело мне одному.
Феофил ощущал себя надломленным, он нуждался в опоре, и не просто в опоре, но именно в том, чтобы рядом была жена. Другим нельзя было показывать свою слабость, а перед ней было не стыдно.
– Я не ухожу, – ответила она. – Просто хотела зажечь светильник.
– Не нужно, – он чуть сжал ее руку.
Тогда она наклонилась, поцеловала его в лоб, а потом стала другой рукой тихонько гладить по голове – как утешала детей, когда им среди ночи снилось что-то страшное и они просыпались и звали ее, – а потом он немного переместился, положил голову ей на колени, вытянувшись поперек ложа, взял руку Феодоры в свою и закрыл глаза.
Проснувшись утром, он увидел, что лежит на постели прямо поверх покрывала, в одежде, укрытый своим плащом, а Феодора спит тут же рядом, тоже одетая, свернувшись калачиком и подложив руку под щеку. Лицо ее во сне было чуть нахмуренным. Он долго смотрел на жену, а потом поцеловал ее в висок – легким касанием, так что она не проснулась, но хмурое выражение с ее лица исчезло.
– Прости меня, моя августа, – прошептал Феофил. – Что бы я делал без тебя!..
Через несколько дней он опять слег с приступом прежней болезни – врачи говорили, что обострение случилось из-за большой скорби. Между тем зима, и без того на удивление холодная, совсем рассвирепела: замерзло даже море от Золотого Рога до Хрисополя и Халкидона, так что люди перебирались с берега на берег пешком, на лошадях или в телегах – такого не помнили и старожилы. Лед простоял две недели, и над Городом воссиял тихий солнечный день; если бы не мороз и снег, можно было бы подумать, что наступила весна. Народ, одевшись потеплее, прогуливался по берегу и по льду, наслаждаясь безветрием и солнцем, но радость была недолгой: к вечеру подул ветер, за ночь он усилился до штормового, и со стороны Пропонтиды пошли такие волны, что лед стал ломаться на части, льдины понесло в Босфор, они громоздились одна на другую и налетали на городские стены с такой силой, что те во многих местах дали трещины и даже частично обвалились. Константинопольцы пришли в ужас, некоторые начали в страхе покидать Город, другие допытывались, где император и не сбежал ли он, иные не верили, что Феофил болен… Патриарх ежедневно совершал молебные пения в Великой церкви и литийные шествия по Городу, и с ним молилось множество народа, прося отвратить Божий гнев. Иконопочитатели осмелели и стали открыто говорить, что Бог карает Город и всю Империю за нечестие василевса, кое-кто уже предсказывал ему скорую смерть… Однако спустя несколько дней море успокоилось, лед постепенно ушел в Босфор, снег растаял, а император выздоровел – на этот раз приступ был острым, но недолгим. Феофил повелел немедленно восстановить поврежденные стены и разбитые пристани, а когда работы подходили к концу, эпарх, «назло иконопоклонникам», приказал на Господских воротах, находившихся на крайней оконечности городского мыса, откуда можно было созерцать равно Золотой Рог и Пропонтиду, сделать большую надпись: «Феофил, во Христе верный император и самодержец ромеев, обновитель Города». Восстановление стен отвлекло императора от печальных мыслей, и в тот день, когда он рассматривал сделанную по распоряжению эпарха надпись, он вдруг ощутил уже забытую внутреннюю легкость и улыбнулся: «Да, вот и весна, и Город обновлен, и жизнь тоже после каждого периода скорбей обновляется и расцветает, как деревья весной, а потом приносит свои плоды… Надо жить дальше!»
Императорские дочери с конца января в сопровождении кувикуларий часто ходили в Гастрийский монастырь, в гости к бабке: Феоктиста – такое имя приняла Флорина в постриге – приглашала их почти каждую неделю. Наконец, Феофилу это стало казаться несколько подозрительным, ведь раньше теща виделась с внучками не чаще раза в месяц, а то и реже. Однажды вечером, играя с дочерьми в покоях жены, он спросил у девочек:
– Скажите-ка мне, что вы делаете у бабушки в гостях? О чем она говорит с вами?
Шестилетняя Фекла переглянулась с Анной и ответила:
– Она нас угощает фруктами, папа, и всё повторяет, чтобы мы любили Бога и молились Ему!
– И еще книжку показывает с картинками и рассказывает про царя Давида, как он победил Голиафа и стал царем вместо Саула, – добавила Анна.
Император понял, что теща, должно быть, показывала внучкам псалтирь с миниатюрами.
– Да! – подхватила Анастасия. – Картинки красивые там такие, папочка!
– Бабушка говорит, чтобы мы любили Бога, как Давид, чтобы Бог на нас не рассердился, как на Саула, – сказала Фекла.
– А исё баушка говолит, – заулыбалась Пульхерия, – кланятися облазам!
– Что?! – Феофил чуть нахмурился. – Ну-ка, расскажи, чего она от вас хочет!
– Она хосет, – ответила с готовностью младшая дочь, – стёбы мы любили эти… икони, вот! Усит селовать и говолит, стё Бог нас бует любить, если мы буем любить икони!
– Так, – император взглянул на Феклу. – Это правда?
– Да, папа, – смущенно ответила девочка. – Только бабушка почему-то не велит, чтобы мы тебе про это рассказывали… Она нам подарки дарит и угощает…
– И всё уговаривает, уговаривает! – закивала Анастасия.
– Бабушка еще сказала, – добавила Анна, – что если мы будем любить иконы, то будем долго жить…
– А не так, как Мария? Превосходная логика! – Феофил взглянул на жену.
Феодора слушала весь этот разговор с внутренней тоской.
– Мама в своем духе! – раздраженно сказала она и поднялась с кресла. – Сделала «выводы»! Она мне тоже говорила речи в таком роде… Но я не ожидала, что она вздумает забивать этим голову девочкам!
– Вот что, – решительно сказал император, – чтоб ноги их больше у нее не было! Не хватало еще, чтобы им с малолетства прививали такое «благочестие»! А вы, мои милые, – обратился он к дочерям, – забудьте скорее все эти глупости, что вам бабушка наговорила! Она просто уже старенькая и не всё понимает так, как нужно…
– Да уж, – пробормотала императрица. – Бедная мама всегда была… однолинейна!
Феофил внимательно взглянул на жену: кажется, на этот раз она полностью встала на его сторону – причем совершенно искренне, – несмотря на иконы, по-прежнему хранившиеся у нее в сундучке… Феодора подняла на него глаза, и вдруг ее губы задрожали, она быстро проговорила:
– Я сейчас, – и скрылась в спальной.
Император проводил ее взглядом и, оглядев дочерей, сказал:
– Погодите-ка! – и, позвав из соседней комнаты кувикуларию проследить за детьми, сам пошел вслед за августой.
Феодора стояла у окна, плечи ее чуть заметно подрагивали. Феофил закрыл за собой дверь, подошел к жене и обнял ее.
– Не огорчайся.
Она вздрогнула и ответила, не оборачиваясь:
– Да нет, я не из-за мамы… Я просто… вдруг вспомнила… про то пророчество Евфимия Сардского…
«Я так люблю тебя! – хотелось ей закричать. – Я так боюсь, что с тобой что-то случится!»
– Феодора.
Он погладил ее по плечу и повернул к себе, собираясь прижать к груди и сказать что-нибудь успокаивающее. Но вместо этого принялся ее целовать – сначала легко и нежно, потом всё нетерпеливее и требовательнее…
Когда их тела уже сплелись на ложе, он сказал, глядя ей в глаза:
– Ты сводишь меня с ума, моя августа!
– Я рада, – проговорила она.
Его слова могли не значить ничего особенного – и могли значить очень много… Но, что бы они ни значили, Феодора в этот день яснее, чем когда-либо раньше, осознала, что тонкая, неуловимая нить, протянувшаяся когда-то между ними, незаметно превратилась в целые путы или сети и Феофил это тоже чувствовал – но, похоже, не собирался освобождаться… Она была ему нужна – не только как «подстилка» или как мать его детей. Пускай по-настоящему он любил другую, пускай между ними не было той дружбы, о которой мечтала Феодора – но всё-таки она была ему нужна.
На последней седмице перед Великим постом кесарь пришел к императору и попросил позволения удалиться в монастырь: придворная служба его больше не радовала, поскольку во дворце всё слишком напоминало ему о Марии, да и вообще мирская жизнь после смерти жены враз опостылела ему и потеряла смысл… К тому же Алексея беспокоили по-прежнему ходившие в Городе слухи о том, будто он мечтает о престоле и потому не уходит со службы. Слухи эти поползли, еще когда он был на Сицилии, а особенно усилились после раскрытия заговора во время дазимонского поражения: говорили, что Муселе замышляет переворот и тайно готовит в Лангобардии восстание, что «альфа не должна взять верх над фитой»… Встревоженный Алексей написал тогда императору, прося отозвать его домой и поручить сицилийские дела кому-нибудь другому, но Феофил ответил зятю, что он не должен волноваться из-за глупых сплетен. Однако теперь на Сицилии был новый стратиг, а при дворе кесарь чувствовал себя лишним.
– Тошно мне всё, глаза б не глядели! – с горечью закончил Муселе.
– Алексей, ведь я уже сказал тебе, что на слухи нечего обращать внимание! – ответил Феофил. – А что до тоски… Это понятно, но, думаю, пройдет со временем. Мне кажется, не стоит торопиться, тем более, что монашество – шаг туда, откуда нет возврата, – он положил зятю руку на плечо. – Готов ли ты к этому? Не пожалеешь ли потом? Подумай хорошенько!
– Я всё обдумал, государь. Я молился, просил у Бога вразумления… Я уверен, что мне нужно идти этим путем. Не удерживай меня, прошу!
Василевс помолчал, вздохнул и ответил:
– Хорошо, Алексей, поступай, как знаешь.
– Я буду молиться за всех вас, государь, – тихо сказал Муселе. – Я верю, что Господь еще дарует тебе наследника.
«Пережить, – повторял император сам себе, стискивая зубы, – надо пережить».
В воскресенье перед постом, причастившись за литургией, он вдруг осознал, что уже давно не думает о Кассии. И теперь, когда он вспомнил о ней, все когда-то мучившие его страдания и недоумения показались ему чем-то далеким и давно прошедшим, словно рассказы из хроник. Он вслушивался в себя и пытался понять, умерла ли его страсть или просто временно заглохла, – и не понимал. Однако сейчас он не испытывал прежних чувств, и даже ощущение «платонической» связи словно бы угасло. «Уж не был ли мой любовный недуг просто следствием того, что у меня было слишком много времени о нем думать? – усмехнулся император. – А как судьба дала по голове, так и мысли все разлетелись… Точнее, отлетели лишние, остались только самые необходимые… И внутренние связи – только самые насущные…»
В среду первой седмицы поста Феофил пришел на исповедь к патриарху.
– Знаешь, владыка, – сказал он под конец, – в последнее время я начал ощущать дыхание смерти… Да, пожалуй, это именно так можно назвать. Казалось бы, странно: сколько смертей я уже пережил, в том числе дорогих людей, но такого чувства не было, что смерть совсем рядом… Понятно, что нужно иметь память смертную, но… она ли это? Скорее, здесь другое… Не то, чтобы страх… а какая-то бесприютность… Болезнь, что ли, так повлияла?
– Возможно. Но такое ощущение бывает полезно испытывать временами, августейший, чтобы обновить в себе знание того, что мы смертны и что смерть может придти совершенно в любой момент. Знание, что здешний мир – не наш настоящий дом. Мы ведь склонны забывать об этом, даже видя смерть вокруг себя.
– Да… Как будто нам суждено жить здесь вечно! А ведь, вроде бы, каждый знает, что умрет… Хотя я думаю, нам кажется, что наша жизнь здесь может быть вечной, вследствие внутреннего знания души, что она действительно вечна.
– Разумеется. Поэтому и нужны напоминания о настоящей, а не воображаемой вечности, и Господь иногда отбирает у нас что-нибудь очень нам дорогое как раз тогда, когда мы возлагаем на это большие упования… С одной стороны, такие напоминания жестоки, а с другой – утешительны: ведь если помнить, что со смертью ничего не кончается, и что нас ждет встреча там, то нужно не столько скорбеть, сколько готовиться к той встрече.
Император грустно улыбнулся.
– Ты-то готовишься, философ. А вот я… В этом мире я поднялся на вершину славы, а куда попаду в том, не знаю…
– Но и я не знаю этого, государь, – возразил Иоанн, – и никто не знает. Спасение наше, как сказано, совершается между страхом и надеждой – по крайней мере, пока мы не достигли любви, изгоняющей страх. А что до здешних вершин… Как сказал один преподобный, указав ученику на сухую ветку, «идущий вперед и преуспевающий в Боге человек владеет всем миром, как этой веточкой, даже если владеет всем миром – ибо, скажу вам, вредит не обладание, но обладание с пристрастием». Мера же наших пристрастий бывает видна тогда, когда мы чего-то лишаемся. Не скорби, государь! Часто великие искушения предшествуют великим милостям Божиим. Главное – не погубить терпения. Что бы ни случалось, надо жить дальше и стараться жить так, будто ничего особенного не произошло.
– Что ж, – задумчиво сказал Феофил, – на самом деле так оно и есть… Военные поражения, болезни, смерть – что тут особенного? Всё это случается постоянно, и «нет ничего нового под солнцем», – он вздохнул. – Помолись за меня, владыка! Всё-таки тяжело… Отец говорил мне, что надо быть сильным, и я сам себе часто говорил это, но… я всё еще не так силен, как хотелось бы. Хотя, конечно, наши силы – от Бога…
– И бессилие попускается Им же. Иногда оно полезно для смирения или для того, чтобы лучше понять какие-то вещи. Не падай духом, августейший! У тебя много скорбей, но ведь совсем рядом и утешение, – Иоанн чуть улыбнулся. – Разве этого мало?
– Нет, – тихо ответил император, взглянув на патриарха, – не мало. Хотя я чуть было не лишился этого… по своей слепоте!
– Быть слепым еще не такая большая беда, государь. Страшнее было бы не прозреть.
…В Крестопоклонное воскресенье поста император приказал выбить монограммы на Красивых дверях Святой Софии, недавно заново отделанных бронзой и украшенных крестами в рамах из растительных и геометрических орнаментов. Посеребренные монограммы должны были располагаться попарно, над и под крестами – всего четыре пары монограмм, Феофил сам придумал их и нарисовал в настоящую величину, чтобы мастера могли перевести контуры прямо на двери:
Когда работа была окончена, император с августой и патриархом пришли взглянуть на готовое произведение. Феодора была взволнована. Она догадывалась, что в монограммах был заключен некий важный смысл, что неспроста Феофил решил украсить двери именно так. Но что он хотел этим выразить? «Скоро ты всё узнаешь, моя августа, – подумал император, глядя, как она рассматривала монограммы. – Поистине, этот год нужно было запечатлеть здесь… в память о моем прозрении!» А патриарх думал о них обоих, о том, какой долгий и тернистый путь они прошли, прежде чем поняли, что их противоборство было подобно изобретенному Каллиником жидкому огню, который, попадая в воду, лишь больше разгорается… «Прав был Гераклит: “всё совершается по судьбе и слаживается взаимной противоположностью”, – чуть заметная улыбка пробежала по губам Грамматика. – Впрочем, могло ли быть иначе?»
– Чему ты улыбаешься, владыка? – спросил император.
– Я вспомнил, государь, как некий мужчина пытался доказать одной женщине, что если он в детстве убежал из дома и всегда поступал по-своему, ни с кем не считаясь, а она никогда не выходила из повиновения родителям и приличиям, то между ними не может быть ничего общего.
– И он ошибался? – спросила Феодора, повернувшись к Иоанну.
– Еще как, августейшая!
5. Признание
Когда человек любит, он часто сомневается в том, во что больше всего верит.
(Ф. де Ларошфуко)
На Пасху, 6 апреля, Феофил короновал в Августее трех старших дочерей и повелел выпустить новую монету: на лицевой стороне изобразить его самого с Феодорой и Феклой, а на обороте – Анну с Анастасией. Несмотря на торжества, во дворце витала тень печали: рана, нанесенная смертью Марии, еще не совсем затянулась, наследника престола не было, до возможного брака старшей дочери оставалось много лет, восточные земли Империи всё еще не оправились после агарянского нашествия, и угроза новых вторжений по-прежнему висела над ними, несмотря на то, что император уже отдал приказ о некоторых преобразованиях в военной организации восточных областей и велел построить дополнительные укрепления у горных ущелий, где арабы обычно проникали в ромейскую землю…
В светлый понедельник император отдал приказ о начале строительства во Влахернах, на берегу Золотого Рога в квартале Кариан, недалеко от храма Богоматери, дворца для юных август. Архитекторы взялись разрабатывать проект здания, и Феофил пригласил жену для обсуждения с ними общего плана отделки. Феодора живо участвовала в разговоре, предложила отделать пол белым мрамором с красными прожилками, а потолок – золотом и мозаиками с растительными узорами… Она говорила, улыбалась, а сама думала об одном: «Господи, я больше не могу так, Господи, сжалься над нами, пожалей Феофила, Господи, пошли нам сына!» Кажется, теперь она была готова согласиться даже на то, чтобы после рождения сына муж взялся бы нести епитимию, так возмутившую ее в свое время…
В четверг Светлой седмицы, когда основные пасхальные торжества, приемы и церемонии, наконец, окончились, император велел после обеда доставить в покои августы множество роз и украсить всё букетами, венками и гирляндами из цветов, а пол усыпать свежими розовыми лепестками. Уже второй год они с весны переселялись на жительство в новопостроенный Жемчужный триклин, воздвигнутый на востоке от Триконха и великолепно отделанный. Пол там устилали белоснежный мрамор и узорчатые мозаики, стены покрывали изображения зверей и птиц; жилой покой под золоченым куполом был отделан так же, а колонны, поддерживавшие крышу, украшали золотые вкрапления. Из окон второго этажа открывались превосходные виды на сады, Босфор и Пропонтиду. Августейшая чета проводила тут время от весеннего равноденствия и до самой зимы. Феофил самолично пришел посмотреть на приготовленные для украшения цветы, дал кое-какие указания относительно сочетания оттенков роз, а под конец расхвалил садовников и кувикуларий и пожаловал всем по несколько номисм. Препозит августы, отправляясь руководить украшением покоев, сказал василевсу:
– Обещаю, августейший, будет сделано, как на свадьбу и даже лучше!
– Да, уж постарайся, чтобы было лучше! – улыбнулся император.
Наконец-то в его душе всё определилось, и больше никакие сомнения не тревожили его. Хотя последний год был чрезвычайно горьким, но именно эти скорби, утраты и бедствия помогли Феофилу окончательно понять то, мысль о чем ему когда-то даже не приходила в голову, что гораздо позднее он ощутил очень смутно и лишь не так давно стал сознавать яснее: что бы ни случалось в жизни горького и страшного, что бы ни случилось еще в будущем, всё это можно было пережить, пока рядом была Феодора. Он столько лет почти ни во что ее не ставил, роптал из-за нее на Бога, обижал ее, в то же время пользуясь ею «по законному праву», в разные времена уделял ей себя то скупо, то щедро, но почти всегда так, словно делал одолжение; однако, по ночам эта женщина сводила его с ума в тридцать пять лет так же, как в двадцать, и за прошедшие годы он научился понимать ее без слов, а она, в свою очередь, научилась понимать его, – и если он где и находил успокоение от тревог, горестей и просто от повседневной усталости, то именно рядом с ней, когда ему не надо было играть никаких ролей и он ощущал себя просто самим собой. Хотя он по-прежнему не вел с женой таких философских бесед, как с Иоанном или Львом, но это уже не представлялось ему недостатком. Рядом с ней он мог ощутить красоту «просто жизни» – когда они гуляли вдвоем или с детьми, когда он что-нибудь читал ей, когда они рассказывали друг другу о своих выездах в Город или сидели на террасе и смотрели на море, когда им было хорошо и когда им было плохо, при удачах и при поражениях, в радостях и в скорбях: рядом с ней ему не надо было думать о том, как именно себя вести, что говорить и что нет, потому что она любила и принимала его таким, каким он был – и можно было сколь угодно долго говорить, потому что она не уставала его слушать, или сколь угодно долго молчать, потому что всё давно было сказано…
Нет, не всё было сказано. Самого главного так до сих пор и не было сказано – и теперь он, наконец, мог и должен был сказать это. Весь последний год Феофил проверял себя, вслушивался в свое сердце: то, что он собирался сказать Феодоре, должно было быть правдой, чистой от всякой примеси, от всякой недосказанности и софистики, – иначе он не мог произнести этих слов, хотя ему уже не раз хотелось их произнести. И сейчас, наконец, задав сам себе вопрос: «От всей души?» – он без колебаний ответил: «Да!»
А Кассия?.. Иоанн был прав, когда сказал, что благодаря любви к ней Феофил стал таким, каким стал, но теперь императору думалось, что эта любовь и могла принести ему более всего пользы за счет разлуки. И не потому ли Бог призвал Кассию к иной жизни, что она по своему характеру и внутренним устремлениям была приспособлена именно к ней? Феофил хорошо представлял ее в нынешней роли монахини и игуменьи, ученой подвижницы и песнописицы… и хорошо представлял ее в постели – но он почти не мог вообразить ее, например, окруженной детьми, представить, как она играет с ними, вникает в их детские причуды и отвечает на их наивные вопросы. Однажды императору пришла в голову мысль, вызвавшая у него легкую усмешку: Кассию точно так же трудно было представить в роли матери, как и Грамматика – в роли отца семейства, несмотря на то, что она была прекрасной игуменьей, а он – великолепным преподавателем. «Пожалуй, они с Иоанном чем-то похожи, – подумал Феофил. – Не потому ли именно он смог тогда помочь ей прочесть акростих жизни?» Женщина-философ была способна стать прекрасным другом, восхитительной любовницей или тем и другим сразу, но вряд ли годилась для того, чтобы стать хорошей женой и матерью…
Но императору нужна была жена, ее он хотел найти на смотринах – и он ее выбрал. Он долго страдал от того, что женился на женщине, с которой невозможно дружить, и только в последнее время стал понимать, что попросту не умел дружить с ней, не умел увидеть в ней ее, потому что постоянно хотел видеть в ней другую. Удивительно ли, что он не мог с ней дружить? «Вот уж воистину, “горе тем, кто разумны сами перед собой”! – думал он. – Но, слава Богу, всё еще можно исправить!»
Когда император вечером пришел к жене, она сидела среди цветочного буйства в тунике из белого шелка, расшитого серебряным узором; волосы ее были заплетены в две косы – просто, без лент и украшений; пурпурные башмачки на ногах терялись на фоне устилавших пол темно-красных лепестков. Дочери были уже уложены в детской, а Феодора читала книжку. Когда Феофил вошел, она улыбнулась, взяла со столика венок из белых роз, возложила себе на голову и поднялась мужу навстречу.
– Похожа я на какую-нибудь нимфу, как ты думаешь?
– Ты гораздо красивее любой нимфы, моя августейшая! – ответил император, любуясь ею. – Сама Афродита позавидовала бы тебе!
На ее щеках показался легкий румянец.
– Как ты это устроил с розами! – она подошла и положила руки ему на плечи. – Так неожиданно… и так хорошо!
– Захотелось порадовать свою половинку, – улыбнулся он, обнимая ее.
Она посмотрела ему в глаза.
– «Половинку»?.. А ты… – от волнения у нее внезапно перехватило дыхание; она осторожно высвободилась из его объятий, отошла к окну, несколько мгновений смотрела в темневшее небо и снова повернулась к мужу. – Ты и правда веришь в эти платоновские половины?
– Сложный вопрос, – он улыбнулся. – В целом, думаю, эта теория верна, но случаи ее воплощения в жизни могут быть весьма разнообразны.
Феодора опустила глаза.
– Знаешь, я ведь прочла «Пир», даже не один раз.
– Понравился?
– В общем да, и раз от раза всё больше…
Она опять замолкла. Ощущение, что вот-вот должно произойти что-то важное, усилилось до невыносимости. И одновременно с этим стало невыносимым держать в себе то, о чем она уже много раз думала, даже если, высказанное, оно могло «всё испортить» – хотя она сама не понимала толком, что именно оно должно было испортить… Но она больше не могла молчать об этом.
– Только я потом всё думала… Ведь если правда, что каждый по-настоящему любит только свою «половину» и сразу влечется к ней, когда увидит, то, – она подняла глаза, – тогда странно, что я сразу… влюбилась в тебе на смотринах… Получается, я должна была полюбить кого-то другого, – ее голос чуть дрогнул.
– Раньше я тоже думал об этом, – он подошел, встал рядом с нею и посмотрел в окно; в темно-синем небе уже мерцала первая звезда, а под ней сиял лунный серп. – После той истории с Евдокимом, я даже подумал, что он-то и есть твоя «половина»… Он рассказал мне, как ты хотела его соблазнить, и я… У меня тогда мелькнула мысль сказать ему что-то вроде: «Так будь же с ней счастлив»…
Феофил умолк. Он говорил не о том, точнее, о том, но не так… Но у него не получалось иначе, чем именно так – неуклюже и «неизящно»: даже теперь, перед решающими словами, он продолжал мучить Феодору! «Я умудрился принести ей мёд в сосуде из-под уксуса и всё никак не могу снять крышку, чтобы показать содержимое!» – подумал он и вдруг понял: на самом деле он боится того, что может услышать от нее в ответ. Хотя, казалось бы, он знал, всё это время знал, что не может услышать ничего, кроме… Но сейчас ему стало так страшно, словно он был неопытным юношей, который собирается сделать первое признание и боится услышать «нет»!..
Феодора тоже повернулась к окну и посмотрела на звезду.
– Но ты не сказал.
– Не сказал.
– Из благочестия, чтобы не потворствовать греху?
– Нет.
Она глотнула воздуха, пахнувшего розами и морем, и спросила чуть слышно:
– А почему?
Он взял ее руку в свою, тихонько сжал и ответил:
– Потому что я люблю тебя.
Она вздрогнула всем телом, повернулась и взглянула на мужа широко распахнувшимися глазами, губы ее чуть приоткрылись. Несколько мгновений она молча смотрела на Феофила, не в силах ничего произнести, ни даже пошевелиться.
– Повтори, – еле выговорила она.
– Я люблю тебя.
Феодора внезапно ощутила слабость в ногах и прислонилась спиной к косяку окна, но Феофил тут же взял ее на руки, отнес в спальню, уложил на кровать и сел рядом. Венок упал с головы августы у самой кровати, император поднял его и положил рядом на столик.
– Так не бывает, – прошептала Феодора, и губы ее задрожали. – Ты ведь всегда любил ее.
– Да, любил, – Феофил опустился на колени перед ложем и взял руку Феодоры в свою. – Но так бывает. Хотя я сам раньше думал, что нет. Конечно, встреча с ней и всё, что было потом, сильно изменили мою жизнь, меня самого… возможно, продолжают менять до сих пор… И наверное, я для того ее и встретил, ведь по жизни Бог судил нам идти разными путями… Но главное не в этом. Я любил ее, но без нее, как видишь, я смог прожить… А без тебя не смог бы.
Она села на постели.
– Ты… столько лет ждал… чтобы сказать мне это?
– Чтобы понять это. Видишь, иногда нужно очень много времени, чтобы понять… Что ж ты теперь-то плачешь, моя божественная августа? – он поднялся, сел рядом с ней и нежно коснулся рукой ее щеки, вытирая слезы.
Она уткнулась ему в плечо и заплакала. Он обнял ее и несколько раз тихонько погладил по голове, а потом хотел поцеловать, но она вдруг отстранилась.
– Подожди! Мне надо тебе рассказать… Сначала про Евдокима… Я тогда… я поначалу хотела просто отомстить тебе, а потом… уже не только… Мне захотелось… Видишь, я тоже изменница!
– Бедная моя! – сказал он, сжимая ее руку. – Да разве ж ты виновата!
– Я виновата! И это еще не всё… Ты знаешь, что стало с Евфимией после той истории?
– Разве с ней что-то случилось? Я думал, она давно замужем. Когда я узнал, что она больше не служит у тебя, я велел препозиту спросить о ней у Вавуцика, и тот сказал, что у нее жених и дело идет к свадьбе…
– Да, так и было, но всё разладилось, потому что она решила идти в монастырь.
– В монастырь?
– Да! София говорила со мной об этом, и я… посоветовала отправить Евфимию… в монастырь Кассии… И она туда поступила.
– О, Господи! – проговорил император, вздрогнув.
– Я хотела отомстить, – голос Феодоры задрожал, – и… Кассия и правда всё узнала! Мне рассказал об этом Иоанн, он говорил с ней… Правда, он сказал, что она… справилась с этим… но… Прости меня! Видишь, я ужасно злая…
– Бедная моя! – повторил Феофил. – Как же я тебя мучил все эти годы!
– Это теперь всё равно… Ведь я тоже была к тебе жестока, – она глубоко вздохнула, освобождаясь от остатков страха и недомолвок, обняла мужа и проговорила ему в самое ухо: – Я всегда так сильно тебя любила, но на самом деле… я не умела любить! Не умела смотреть, не умела видеть, не умела понять тебя… Наверное, поэтому и ты так долго… не мог понять… Я только недавно поняла, почему сказано: «блаженнее давать, а не принимать», – она чуть отстранилась и посмотрела в глаза Феофилу. – Мне так давно хотелось тебе сказать… и сейчас я, наконец, могу сказать это: я невыносимо люблю тебя!
– А я сегодня боялся, что ты… не скажешь мне этого в ответ.
– Ты… – она смотрела на него сияющими глазами. – Ты невыносим, мой государь! – она легонько стукнула его по лбу, и тут же ее губы опять оказались у его уха. – Скажи еще раз.
– Я люблю тебя.
В следующий миг они уже целовались – так жадно, словно хотели выпить друг друга, как припадают к воде путники после долгого пути под палящим солнцем. Это была самая длинная, самая страстная и самая счастливая ночь, когда между ними больше не стояло никого и ничего, когда ни одна тень не омрачала их отношений. Все чувства словно обострились и затопили их тела и души такими ощущениями, каких они, казалось, до сих пор никогда не знали. Когда рассвело, они еще не спали: обнявшись, они лежали и смотрели, как в комнату вползало солнце, зажигая золото мозаик на стене и подбираясь к ложу под прозрачным шелковым балдахином.
– Я так мучилась, – проговорила Феодора, – а теперь мне кажется, что всё это ничтожно по сравнению с этим счастьем!
– Так и должно быть. Это значит, что всё правильно.
Всю Пятидесятницу император проводил с женой всё свободное время: они не могли ни наговориться, ни намолчаться друг с другом. Как-то раз они гуляли вдвоем по парку и пришли к тому пруду, на берегу которого стояла мраморная чаша с плоскими камушками. Феофил взял несколько и с улыбкой взглянул на Феодору:
– Помнишь?
– Помню.
– Так держи! – он вложил ей в руку камушки, а сам взял еще. – Раз, два, три!
Два камушка поскакали по воде далеко, почти параллельно друг другу; со следующим броском сошлись уже близко, а на третий раз булькнули в одной точке. Император с императрицей взглянули друг на друга, выбросили в воду оставшиеся камушки, и через мгновение Феофил уже держал жену в объятиях. Когда он оторвался от ее губ, она прошептала с улыбкой:
– Нам с тобой тридцать пять лет или пятнадцать?
– Разве это имеет значение, моя августа?
…Четкие красивые строки ложились на пергамент. «Воистину нет ничего богоподобнее божественной любви, нет ничего таинственнее, и ничто так не возвышает людей до обожения, потому что она соединяет в себе все блага, какие слово правды относит к добродетелям, и далеко отстоит от всего, считающегося пороком, будучи “исполнением закона и пророков” – ведь им наследует таинство божественной любви, превращающее нас из людей в богов и сокращающее отдельные заповеди до одного всеобъемлющего слова…»
Темно-коричневые чернила высыхали довольно быстро – бич начинающих писцов, – но для игуменьи это не было страшно: она уже давно не делала при письме ошибок, которые пришлось бы по свежим следам соскабливать ножиком… Она сидела на высоком стуле перед наклонным столом, где слева была закреплена присланная отцом Навкратием рукопись, а справа лежали несколько листов светлого пергамента очень хорошей выделки, мягкого, тонкого – именно такой, думалось ей, подобал для копии с творений святого Максима…
День клонился к вечеру, и солнечный луч пробрался в окно и упал на ее лицо. Она подняла голову от рукописи и невольно улыбнулась. В арке окна на фоне голубого неба блестел крест над храмом. Несколько дней назад, когда Кассия, сидя в своей келье и сочиняя стихиру в честь Успения Богоматери, точно так же взглянула в окно, в эту голубую прозрачность, она вдруг поняла, что мучившая ее страсть, наконец, отпустила и ушла. Ощущение было таким, как будто вытащили занозу из души – и настала свобода. С того мгновения молитва в сердце шла сама, не прерываясь, не оставляя места для тревоги и малодушия. В этой молитве было знание, что Бог любит всех и печется обо всех так, как никогда не смогли бы самые близкие люди – и эта божественная любовь стала и ее любовью ко всем – и к нему, – любовь, в которой не было ничего страстного и преходящего. Кассия не знала, как долго сможет сохранить в себе этот божественный дар; она не была уверена в том, что страсть не возвратится позднее – она давно избавилась от прежней мечтательной самоуверенности и не доверяла себе, – но она знала, что уже никогда не забудет того состояния, в каком теперь жила, настолько превышавшем всё, что можно было вообразить прекрасного из земных вещей, что хотелось только одного: чтобы все люди в мире познали этот свет, чтобы он стал для них вечным достоянием.
Конечно, у всех оставалась свободная воля – и у Феофила тоже, но страх и сомнения сейчас не мучили Кассию: «Кто верил Ему и постыдился?» Не бояться, а молиться – «и Он сотворит».
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную». Она молилась этой молитвой и о сестрах, и о друзьях и знакомых, и о вразумлении и спасении государя, и свет, сиявший в ее душе, изгонял всякий страх, всякую печаль, и в этом свете точно слышалось ей: «Се, даровал тебе Бог всех плывущих с тобою». Свет словно изливался в нее от строк рукописи, которую она переписывала, свет просвещал ее изнутри – и порой настолько охватывал ее всю, что она останавливалась и не могла более писать.
– Лия, послушай, как прекрасно! – сказала Кассия сестре, которая в этот день одна трудилась с ней в скриптории, и прочла: – «Любовь есть великое благо, первое и высочайшее из благ, она сочетает собою Бога и стяжавших ее людей, позволяя Творцу человеков являться, как человеку, через полное подобие в благе, достигаемое обоженным, насколько то доступно человеку». Понимаешь? Если человек любовью уподобляется Богу, то Сам Бог является через этого человека людям так, как явился во Христе! И дальше: «Выше этого нельзя подняться боголюбцу, прошедшему через все образы благочестия. Эту связь мы знаем как любовь и именуем любовью, не считая любовь к Богу и любовь к ближнему за нечто раздельное, но признавая ее всю целиком за единую и ту же самую, ибо ею мы обязаны Богу и она сочетает людей друг с другом…»
– Да, – тихо проговорила Лия. – Вот только, когда я о таком читаю или слушаю, то сначала восхищаюсь, а потом… страшно, что никогда этого не достигнешь! Святые, кто писал об этом, они… как орлы парят над землей, а мы ползаем тут в пыли… И сами мы пыль! Как-то и не верится, что когда-нибудь сможешь достичь того, о чем тут написано… Разве что после смерти, если Господь помилует?
– Да, мы – пыль. Но всё-таки и в здешней жизни Господь дает вкусить Своих благ стремящимся к Нему, кому-то более, кому-то менее, а полностью для всех будет только после смерти. Конечно, бывает и страшно – и за себя, и за других… Но ведь Господь нас любит, а значит, есть и надежда, что когда-нибудь любовь изгонит страх. Смотри, что еще говорит святой Максим: «Разве не дает любовь насладиться тем, во что мы верим и на что надеемся, потому что благодаря ей будущее уже как бы присутствует в душе?»
– Когда я смотрю на себя, матушка… Я такая болтливая, любопытная… И если бы только это!.. Иногда такая тоска навалится, что хоть ложись и помирай! А то иной раз так рассердишься на кого из сестер, что хоть дерись… А тут – божественная любовь, свет… Куда мне до такого! Вот и не верится, что это возможно…
– Да, понятно. Но это возможно, Лия, – игуменья чуть улыбнулась. – Только не будем унывать! Святой Аммон говорит: «Предайтесь труду телесному и сердечному, а помыслы ночью и днем простирайте к небу, прося от всего сердца Духа огня, – и Он будет дарован вам. Смотрите, чтобы помыслы сомнения не вошли в ваше сердце, нашептывая: “Кто сможет принять Его?” Ибо тот, кто в роде и роде возделывает сей Дух, тот и обретет Его». В следующий раз возьми в библиотеке его послания и почитай.
– Хорошо, матушка! Правда, когда я читаю, тоже часто думается, что вот, читаю всё без толку, ведь ничего не исполняю… Но я вспоминаю тогда из патерика поучение про сосуды: тот, в который наливали воду и вылили, всё-таки будет чище, чем тот, куда и не наливали.
– Да, так и есть, – Кассия осмотрела свое перо, отложила и взяла в коробочке другое, поострее. – Господь Сам жил в этой нашей смертной плоти и этой жизнью, Он знает, как нам бывает тяжело, и Он не бросит нас, только бы мы сами Его не бросали в мыслях и на деле… Помнишь, как Он говорил в Гефсимании: «Прискорбна душа Моя до смерти»? Значит, Он знает, каково нам, когда «хоть ложись и помирай»… Когда скорбно, Лия, ты вспоминай о Гефсимании, и тебе сразу станет легче, вот увидишь!
– Я попробую, – Лия подняла глаза и улыбнулась. – А всё-таки, что бы ни было, я ужасно счастлива, что стала монахиней, что я в обители! Сколько уже лет прошло, а кажется – недавно постригли… В общем-то скорбное забывается… А хорошее помнится! И эта наша жизнь тут – как один день, солнечный и сияющий… А если и тучки набегали, так это не так уж страшно, ведь солнце всё равно всегда есть за ними и не гаснет!
– Да, не гаснет. Оно даже при затмении не гаснет, – тут раздался звук монастырского била, игуменья отложила перо и встала. – Вот и к вечерне зовут. Пойдем, Лия.
6. Наследник
(Николай Караев)
- Видишь, Джульетта, как получается:
- реки текут, любовь не кончается.
- Сумрачно в небе, пусто в пустыне,
- мертвость санскрита и сухость латыни,
- люди как боги, люди как клоуны,
- те, что застыли над бездной условной,
- люди как люди, время безвременья,
- вечность – песок, сквозь пальцы мгновения…
- Только не спи, Джульетта, молю тебя,
- только живи. Привет. Я люблю тебя.
В среду праздника Пятидесятницы Феодора отправилась во Влахерны – помолиться у ризы Богоматери и вымыться в тамошних банях. Когда она проезжала через Дигисфей, лошадь императрицы внезапно споткнулась почти на ровном месте; Феодора немного удивилась, но скоро позабыла об этом. Однако на обратном пути, на том же самом месте, лошадь споткнулась снова, уже сильнее, так что Феодора, разморенная после бани, едва не вылетела из седла, и в глазах у нее вдруг потемнело. Испуганная свита окружила ее так тесно, что, если б даже она вдруг стала падать, ее бы тут же подхватило множество рук.
– Помогите мне сойти, – тихо проговорила императрица. – Мне что-то нехорошо.
От полученного толчка она почувствовала тошноту, и ее подташнивало всё сильнее.
«О Боже, только не здесь! Надо куда-нибудь зайти…» Они вошли в первый попавшийся особняк, и когда испуганная хозяйка – ее звали Анна, она оказалась вдовой одного из погибших при Анзене патрикиев – провела августу в гостиную, Феодора согнулась в поясе и только успела сказать:
– Ведро!
Через четверть часа, бледная и обессиленная, она полулежала на низком диване в соседней комнате с окнами на север. Двое кувикуларий усердно обмахивали ее опахалами.
– Это из-за жары, – сказала одна из них. – Сегодня так душно!
– Да еще августейшая, верно, перегрелась в бане, а тут встряхнуло, вот и вышло, – добавила другая.
Феодора слабо улыбнулась и ничего не ответила. Она знала, что жара тут ни при чем и тошнить ее стало не поэтому.
Ребенок! Она зачала. Почему-то она была уверена, что это случилось в ту «розовую» ночь в Жемчужном триклине, когда Феофил признался ей в любви. И теперь она не сомневалась, что родится сын. Наследник. Тот «плод, который должен созреть». Он был прав, этот удивительный человек, которого она по-настоящему оценила лишь недавно, когда он стал патриархом. «Надо будет построить здесь храм в честь праведной Анны», – подумала императрица.
Вернувшись во дворец, она сразу отправилась искать мужа. Феофил был в библиотеке – сидел в своей любимой нише у окна, с книгой на коленях. Императрица вошла так тихо, что он не услышал, и чуть вздрогнул, когда она оказалась рядом и села на ручку кресла.
– Как ты? – спросил он с улыбкой.
– Прогулялась неплохо, – ответила она. – Правда, лошадь споткнулась на ровном месте… Феофил, у нас будет ребенок.
Его лицо засветилось радостью.
– Ты уверена?
– Да, теперь уже точно. Сын! – она улыбнулась.
– Я тоже верю в это, любовь моя, – он притянул ее к себе и поцеловал, а потом встал, убрал книгу в шкаф, подошел к жене, взял ее за руку и поднял с кресла. – Пойдем в сад, погуляем… или посидим где-нибудь, если ты устала.
– Да, посидим… где-нибудь в тени.
Он внимательно поглядел на нее.
– Ты точно хорошо себя чувствуешь?
– Да, очень, – она улыбнулась. – С тобой мне всегда хорошо. Идем.
Ожидаемый ребенок стал для императора великим утешением, особенно на фоне военных дел, шедших из рук вон плохо. Посольство, отправленное осенью минувшего года в Венецию, привело лишь к очередному краху: снаряженный Петром Трандонико флот из шести десятков кораблей в начале года отправился к Таренту, где стоял с большим войском арабский военачальник Саба, но был почти полностью истреблен агарянами, после чего победители, решив отомстить Венеции за нападение, двинулись на север к берегам Далмации. На второй день после Пасхи они напали на остров Херсо и сожгли город Оссеро, а на обратном пути захватили немало венецианских кораблей, возвращавшихся после проигранного сражения.
Патрикий Феодосий доложил императору, что венецианское посольство не привело к ожидаемому результату, и получил приказ отправляться в Ингельхейм к Людовику. Посольство было принято королем 17 июня со всевозможной пышностью. Послы изложили просьбу ромейского императора оказать ему помощь, послав войско против арабов в их ливийские владения, чтобы отвлечь внимание Мутасима от восточных границ Империи и раздробить его силы. Людовик обошелся с послами очень любезно и ответил Феофилу длинным письмом, но далее не последовало никаких действий. К тому же Вавуцик неожиданно занемог и умер, и оставшееся без главы посольство вернулось в Константинополь, ничего не добившись.
Послы, отправленные Феофилом в том же году в Испанию, были приняты тамошним правителем Абдаррахманом, однако и тот не мог придти на помощь византийцем, поскольку Испанию раздирали внутренние смуты. Абдаррахман лишь послал императору с одним из своих приближенных дорогие подарки и обещал выступить в морской поход против Мутасима, как только одолеет мятежников, но никто, разумеется, не мог сказать, когда это будет и будет ли вообще. Таким образом, и это посольство окончилось ничем.
Наступила осень, и ее можно было назвать для Империи временем обманутых надежд. Рассчитывать на помощь союзных держав не приходилось, оставалось только укреплять внутреннюю оборону, для чего по приказу императора на восточной границе начали строить цепь дополнительных укреплений, где должны были находиться постоянные войсковые отряды для отражения внезапных набегов арабов.
Иконопочитатели, разумеется, не преминули приписать военные неудачи императора его «злочестию», но, к их разочарованию, в народе не произошло особенных возмущений в связи с поражениями от арабов: если о чем и говорили, то о том, что Феофилу просто не повезло, и, жалея, называли его «несчастным». Сам император, к некоторому удивлению придворных, оставался спокоен. Если раньше окружающие еще могли замечать перепады его настроения, то сейчас он вел себя так, будто ничего не происходит. Никто не знал, что причина такого бесстрастия заключалась в том, что теперь ему было, кому излить свои скорби, и было, от кого получить утешение: вся слабость, какую мог бы выказать василевс, не выходила за двери покоев августы. Об этом догадывался лишь патриарх, хотя и ему Феофил не жаловался на положение дел. Впрочем, император чувствовал, что Иоанн, давно предвидевший, как будут развиваться его отношения с женой, понимает всё без слов…
– Скажи, владыка, – спросил император у патриарха во время очередной исповеди, – ты ведь знаешь о том, что Евфимия поступила в Кассиину обитель?
– Да, давно знаю.
– А что еще ты о ней знаешь? Кассия сказала тебе, почему Евфимия решила идти этим путем?
– Да. Потому что ты слишком сильно впечатлил ее, и ее женихи не смогли переломить это впечатление.
– Так я и подумал!.. Всё-таки я негодяй!
– Даже если б и так, в чем я не уверен, – патриарх чуть улыбнулся, – думаю, что такая перемена жизни в итоге будет для госпожи Евфимии гораздо благотворнее, чем какое бы то ни было, даже самое удачное замужество.
– Хочешь меня успокоить? – усмехнулся Феофил. – Возможно, ты и прав, только… Знаешь, я в последнее время задаюсь вопросом… За что они меня так любили – все трое?! Что я сделал им хорошего? Одну едва не совратил, вторую развратил и обеим доставил бездну искушений и скорбей… «Платонизм»? Конечно, он прекрасен, но если бы Кассия обошлась без него, ее монашество, думаю, не потерпело бы особенного ущерба… Вероятно, ее жизнь сложилась бы иначе, но монахиней она бы стала в любом случае и спасалась бы… как-нибудь. Монашество – всегда монашество, в конце концов! – он помолчал. – Я иногда думаю, что убил на этот платонизм слишком много времени… которое мог бы с большей пользой отдать другой женщине. А я ее так долго мучил, едва до самоубийства не довел! – Феофил взглянул на патриарха и грустно улыбнулся. – Нет, Иоанн, я не забыл твой урок философии. Разумеется, все эти рассуждения «если бы, то…» бессмысленны. Я понимаю, что случившееся случилось единственно возможным и, по-видимому, самым полезным образом… Но я не могу простить себе… многого не могу простить, а особенно того, что так долго мучил Феодору!
– Ты сам по себе, государь, действительно доставил этим женщинам немало скорбей, хотя всё же не только их, – по губам Грамматика промелькнула улыбка. – Но здесь главное не то, что дал ты им или они тебе, а сама любовь. Любовь всегда приносит больше пользы, чем ее предмет, конечно, если уметь эту пользу извлечь. А эти три женщины извлечь ее сумели. Что же до уплаченной цены… Да, полученные раны, бывает, ноют до самой смерти и не дают покоя, и это действительно выглядело бы безнадежно, если бы всё кончалось с этой жизнью. Но, к счастью, это не так. Любое представление, даже самое прекрасное и поучительное, когда-нибудь кончается, и мы покидаем этот театр, чтобы вернуться домой.
– Встреча на небесах всё оправдывает? – император посмотрел в глаза патриарху.
– Это не совсем то выражение, – Иоанн несколько мгновений помолчал в задумчивости. – Пожалуй, тут подойдет сравнение с живописью, государь. Любая картина создается путем написания нескольких слоев, каждый из них по-своему важен, но для конечного вида изображения самой важной является последняя ступень – нанесение обводки и пробелка, так называемые «светы». От этого зависит, как будут выглядеть фигуры, лица, вообще вся картина – будет ли она живой или мертвой. Мы, как художники, всю жизнь трудимся каждый над своей картиной, и если бы мы не трудились в меру наших сил, никакой картины не получилось бы, но окончательное произведение создается не нашими усилиями. «Светы» накладывает Источник вечного света – но накладывает на слои, созданные нами. Краски быстро высыхают, и если испортишь что-то в каком-нибудь слое, приходится много трудиться, чтобы записать всё и нарисовать заново. Но важно не то, как много ошибок ты допустил и как долго бился над их исправлением, а то, какой картина получилась в итоге. И я думаю, августейший, что твоя картина получается совсем не плохой.
Сын родился в ночь с 9-го на 10 января. Роды были, против ожидания, долгими и трудными – мальчик оказался крупным, шел тяжело, и Феодора очень мучилась. Император захотел лично присутствовать при родах, всё время сидел у изголовья и держал жену за руку. Когда, наконец, мальчик оказался в руках у врача и заорал на всю Порфировую палату – так, что даже у бывших за дверьми кувикуларий и стражников не осталось сомнений, что родился наследник престола, – Феофил был так же измотан, как Феодора, и походил на выжатый лимон. После родов у императрицы несколько дней была легкая лихорадка, но благополучно прошла. Однако врачи, наблюдавшие за состоянием ребенка и матери, сказали василевсу, что, хотя в целом всё обошлось и осложнений не предвидится, детей императрица, скорее всего, больше иметь не сможет.
«Господи, какие дети?! – подумал император. – Сын родился, и слава Богу! Лишь бы она жила, больше мне ничего не нужно!»
В крещении младенца нарекли Михаилом, а уже на Пасху император короновал его соправителем. Мальчик отнесся к церемонии вполне серьезно, не кричал, а только таращился на всё вокруг темными, как у отца, глазищами. Когда же Феофил возложил на голову сына золотую стемму, димы возгласили: «Достоин!» – а народ, вслед за певцами, огласил Великую церковь пением: «Слава в вышних Богу, и на земле мир!» – маленький василевс решил, что пора присоединить свой голос ко всеобщему ликованию, и завопил:
– Я-а-а!!!
Император встретился глазами с патриархом и счастливо улыбнулся, но только Иоанн и смотревшая на коронацию сына с галерей императрица знали, сколько много всего было пережито на пути к этой улыбке, как дорого стоило это счастье – и как оно было велико.
Несколько дней спустя Феофил приказал переделать две нижних монограммы на Красивых дверях Святой Софии: заменить «Иоанну патриарху» на «Михаилу владыке», а в надписи «лета от сотворения мира 6347, индикта 2» переменить дату на «6349, индикта 3».
– Надеюсь, ты не обидишься, святейший? – спросил он Грамматика при встрече.
– Как можно! – с улыбкой ответил патриарх. – Я очень рад за тебя, государь. Точнее, за вас обоих.
Они немного помолчали, а потом император внимательно взглянул на Иоанна, задумчиво глядевшего куда-то в пространство, и тихо сказал:
– Думаю, она оттуда могла видеть всё это и порадовалась за нас. И мой отец тоже.
– Да, – улыбнулся патриарх. – Конечно.
– Я еще приказал сделать по верху дверей надпись: «Феофила и Михаила победителей». Как бы ни были плохи наши военные дела в настоящем, полагаю, еще рано признавать себя побежденными!
– Ты совершенно прав, государь. Кроме того, самый великий победитель тот, кто сумел победить самого себя. «Важны твои победы, добытые оружием и сражениями, но еще важнее и знаменитее приобретенные без крови», и «это выше для имеющих ум».
…На Светлой седмице Кассия, по своему обыкновению, поехала навестить сестру и мать. Евфрасия увидела в окно, как сестра подъезжает, и встретила ее на крыльце.
– Как мама?
– Совсем плоха, – тихо ответила Евфрасия. – Догорает, как свечечка, – в ее глазах блеснули слезы. – Но знаешь, это так спокойно и так… красиво! Я бы хотела, чтобы у меня была такая же старость: человек достойно прожил жизнь, и теперь уходит – и вот, смотришь и понимаешь, что уходит в лучший мир… Она стала часто вспоминать папу. Наверное, думает о встрече… Врач сказал: до конца лета вряд ли доживет…
Они прошли на террасу, где в тени вившихся по деревянной сетчатой загородке роз в глубоком кресле полулежала мать. При виде дочерей ее лицо озарилось улыбкой, залучилось тонкой сеткой морщин. Улыбка была такой светлой и в то же время словно уже нездешней, что у Кассии защемило сердце.
– Здравствуй, мама, – сказала она. – Вот и я. Как ты?
– Слава Богу, хорошо! Мне хорошо… Сядь, Кассия, посиди тут со мной.
– А я пойду, прикажу принести чего-нибудь вкусного, ладно? – и Евфрасия исчезла с террасы подобно ветру: она была всё такой же легкой и стремительной, как в юности.
Кассия села на низенький стульчик рядом с матерью. Марфа внимательно оглядела ее, заглянула в глаза и улыбнулась:
– Вижу, у тебя тоже всё хорошо.
– Да, – кивнула Кассия.
– Слава Богу! Знаешь, я так долго, так много беспокоилась о тебе… из-за той истории. Она ведь тогда еще не кончилась, с твоим постригом, правда?.. Ну вот, ты не говорила, но я догадывалась… А теперь?
– Теперь всё, – Кассия помолчала и тихо добавила: – Но я боюсь за него, мама! Ведь он вовсе не такой «зверь», как… некоторые его представляют!
– О, я знаю, – Марфа улыбнулась. – Акилин друг – он ведь из экскувитов – много рассказывает нам про государя, когда приезжает, да с таким восторгом!.. Вот и сын у государя, наконец, родился, у нас тут по селам праздновали!.. Ну, а как твои сестры? Подвизаются? У тебя свои чада, а у нас тут свои, тоже скучать некогда!
Словно в ответ на ее слова, на террасу вбежали два мальчика и две девочки, с одинаковыми каштановыми кудрями и темными блестящими глазами, но, присмотревшись, можно было понять, что все они очень разнятся и лицом, и характером.
– О, тетя Кассия приехала! – вскричала одна из девочек и бросилась к монахине.
– Она не тетя, а матушка, – наставительно сказала девочка постарше.
– Ты что?! – возмутился мальчик, самый маленький из всех, лет трех. – Мама вон идет!
На террасу вошла Евфрасия, а за ней слуги внесли широкий низкий стол, несколько стульчиков, подносы со сластями, тарелочки, кувшины с апельсиновым соком, стаканы – всё из зеленого и белого стекла с красными узорами. Евфрасия держала за руки еще мальчика и девочку постарше, лет десяти-одиннадцати.
– А старшенькие у нас верхом уехали кататься, с Акилой, но скоро должны уже вернуться, – сказала Евфрасия, имея в виду двух самых старших сыновей.
Она быстро навела порядок на террасе: рассадила всех детей вокруг стола, успела поправить тунику младшей дочери, подвязать распустившуюся ленту в волосах другой девочки, вытереть чумазое лицо одному карапузу, погрозить пальцем другому, который раньше времени полез в блюдо за сладким, – всё это за считанные мгновения. Кассия наблюдала за сестрой и удивлялась, как у нее это выходит ловко и естественно. Сама она в присутствии такого множества детей всегда немного терялась и недоумевала, почему племянники ее так любят, хотя она, приезжая, вовсе не старалась их «очаровать» и не возилась с ними. Евфрасия, когда сестра однажды спросила ее об этом, ответила с улыбкой:
– Они чувствуют, что ты добрая. Дети вообще многое чувствуют. Мне с ними так интересно, знаешь! Каждый день открывается что-нибудь новое… Ну, вот тебе, наверное, так же интересно с твоими сестрами, смотреть за тем, как они возрастают духовно, что-то понимают, чему-то учатся… Ведь интересно же?
– Да, конечно. Я и сама часто учусь у них чему-нибудь!
– О, и я у детей тоже учусь. Правда! У них взгляд чистый, такой непредвзятый еще, и они иногда такое замечают… Вроде ходишь целыми днями мимо и не видишь, а ребеночек увидел и показывает, и в восторге… А за ним и я в восторге! Видишь, у тебя свои дети, а у меня свои – каждой Бог послал таких, какие для нее больше подходят! – и она рассмеялась звонким переливистым смехом.
Евфрасия смеялась так же, как в юности, да и вообще почти не менялась: родив девять детей – одна дочь умерла, не дожив до года, – она осталась такой же стройной и легкой, какой была до замужества. Она всё делала легко и радостно: радостно возилась с детьми, радостно хлопотала по дому и давала указания слугам, радостно провожала мужа, когда он уезжал по делам их большого хозяйства, и детей, когда они уходили в школу – все сыновья получали начальное образование в простой местной школе, а потом Акила нанимал им учителей, девочек же учила дома мать, – радостно встречала их дома. Она даже сердилась словно бы радостно, а когда бывала строгой, где-то в углах рта всё равно пряталась улыбка, готовая появиться в любой миг. Она походила на бабочку или певчую птичку, всегда умела утешить, взбодрить. Она была душой дома и семьи, и все здесь любили ее без памяти.
Разобравшись с детьми, она улыбнулась сестре и сказала:
– А ты что же? Садись вот сюда, рядом со мной, пока Акилы нет… Или нет, лучше оставайся рядом с мамой!
Хозяин дома с сыновьями вернулись через полчаса и присоединились к остальным. Все были рады видеть Кассию, и ей было хорошо с ними – так, как бывает хорошо в гостях у лучших друзей. Но ее дом и жизнь были не здесь – и никогда не могли бы быть здесь.
Вечером сестры вдвоем пошли погулять по саду и, побродив по дорожкам, сели на скамье у кустов мирта.
– Знаешь, – сказала Евфрасия, – я давно хотела сказать тебе… Почему-то мне хочется сказать это, пока еще мама жива… Думаю, она знает, что я знаю, хотя мы с ней не говорили об этом… Ну, вот. Я ведь знаю, что Акила сначала хотел жениться на тебе, он рассказал мне потом… Вот ведь, человеку трудно понять, кто ему на самом деле нужен, какой другой человек. Вроде кажется – этот, а оказывается – совсем другой! – она улыбнулась. – Он так волновался, когда рассказывал, даже перо сломал! Вертел его, вертел в руках… А я ему и говорю: «Ну, вот, так оно и бывает в жизни: чего-то вертишься, вертишься, а потом хрясь! – и вдруг понимаешь, что нужно!» Я вот в детстве всегда тебе завидовала, что ты такая красивая, такая умная… Но теперь я понимаю, что это не важно. Нужно просто найти свое место в жизни. Вот, говорят: люди бьются друг с другом за место в мире… А ведь за свое место не нужно ни с кем сражаться! Если оно твое, то оно не может быть занято, оно ждет именно тебя, и тебе просто нужно его найти. А если ты с кем-то дерешься за какое-то место, так это уже и значит, что это место не твое!
– Да, это точно. Как ты хорошо сказала!
– Ну, вот. Я ужасно счастлива! Я не представляю себе другой жизни, чем та, что у меня есть. Точнее, представляю, но мне нужна только эта, которую я живу, – Евфрасия заглянула в глаза сестре. – А ты счастлива, Кассия?
– Да.
– Точно-точно?
– Точно-точно, – Кассия улыбнулась.
– Я потому спрашиваю, что… Ты ведь любила его… государя… Я давно догадалась…
– Да, это длилось долго. Но теперь прошло, – Кассия помолчала. – Я много думала о том, что могло бы быть, если б я вышла за него… И в конце концов поняла, что я совсем не способна к такой жизни! Семья – это дети, родственники, хлопоты такого рода, какие я никогда не любила… А ведь даже императрица не избавлена от всего этого! Да еще столько всяких людей вокруг… Конечно, в обители я тоже всегда среди сестер, но это другое… И с детьми… я никогда не могла понять, как с ними обращаться, воспитывать… Я всегда восхищаюсь тобой, как у тебя это получается красиво и естественно! Я бы так не смогла… И сейчас я понимаю, что не сумела бы стать для государя хорошей женой. Это только кажется, что вот, любовь, внутреннее сходство, душевное сродство… Это важно, но этого мало для того, чтобы жить вместе. Я лучше всего поняла это, когда приезжала сюда, к вам. Я так рада, что вы у меня есть! – она тихонько погладила сестру по плечу. – Да, теперь я уже совсем успокоилась… от той страсти.
– Но что-то другое тебя беспокоит?
– Да, – Кассия снова умолкла на несколько мгновений. – Государь может умереть в ереси. Я всегда молюсь за него, чтобы этого не случилось… И я хотела бы тебя тоже просить об этом, Евфрасия.
– Хорошо, я буду молиться за него. Да я и так иногда его поминаю на молитве. Я вот раньше молилась еще, чтоб у него сыночек родился, так жалко было, что не было у него сына… Даже не знаю: неужели кто-то не стал бы за него молиться, если бы попросили, только потому, что он еретик? По-моему, это было бы ужасно! Даже если б он злодей какой был! Я вот читала, что молитва это духовная милостыня, а милостыню ведь мы всем подаем и не думаем, хороший тот нищий или всё пропьет… А государь-то ведь хороший, правда?
– Да, хороший.
– Ну, вот как хорошо, что мы с тобой об этом заговорили! Я и вспомнила, что – духовная милостыня! Я теперь за государя всегда молиться буду, обещаю!
Евфрасия радостно взглянула на сестру, и Кассия тихонько пожала ей руку:
– Благодарю, сестренка.
7. Сокращенное время
Сильнее всего – неизбежность, ибо она властвует всем.
(Фалес Милетский)
В мае патриарх побывал в гостях у брата и, прощаясь, сказал:
– Отныне, Арсавир, мы с тобой поменяемся ролями: я буду ожидать тебя в гости, поить вином и кормить баснями, – он улыбнулся. – Здесь я вряд ли буду появляться чаще одного-двух раз в год.
– Что ж, может, заберешь свое любимое кресло с террасы?
– Нет, – Иоанн качнул головой, – пусть остается здесь.
– Вместе с воспоминаниями?
– О, от воспоминаний так просто не избавишься! – патриарх усмехнулся. – Впрочем, в моей жизни почти не было таких вещей, о которых мне хотелось бы забыть.
– Да, ты всегда знал, чего хочешь, и умел добиваться желаемого!
– Дело не только в этом, ведь и я не избавлен от превратностей судьбы. Но даже из того, что происходило помимо моей воли, я умел извлечь для себя полезное, а потому, в сущности, мне не о чем жалеть, – Иоанн улыбнулся. – Итак, брат, жду тебя в Психе́! Там тоже красивейший вид на Босфор, а мой повар, думаю, готовит не хуже твоих. Только, как надумаешь, сообщи, а то я пока нечасто там бываю.
Патриарх решил обзавестись собственным особняком после того, как Арсавир пожаловался, что местные жители стали поговаривать, будто его преосвященнейший брат, приезжая в гости, вызывает в «Трофониевых пещерах» злых духов, чтобы натравливать их на людей. Виной тому были химические опыты. Став патриархом, Иоанн не оставил занятий химией и перенес свою «мастерскую» из Сергие-Вакхова монастыря в особняк брата: тамошние подземные помещения как раз подходили для опытов – с хорошей вентиляцией, скрытые от любопытных взоров. Новый игумен Сергие-Вакховой обители, бывший старший больничник Арсений, не бросил занятий, к которым пристрастился под руководством Грамматика, и продолжал изготовлять в «мастерской» лекарства и краски, а иногда проводил там и кое-какие опыты. Патриарх иной раз подбрасывал ему идеи, и если в результате опытов получалось что-нибудь интересное, они вместе продолжали исследования в «пещерах». Иоанн часто привозил с собой Кледония и Арсения, они по полдня просиживали под землей, выходили оттуда очень довольные, устраивали ужин на террасе над Босфором и почти всю ночь вели беседы. Иногда их приходили послушать Арсавир с внуком – смышленым мальчиком двенадцати лет.
– Думаю, слова Гермесовой Скрижали: «то, что внизу, подобно тому, что вверху, да осуществятся чудеса единой вещи», – говорил патриарх, – можно истолковать в смысле единства мировой материи. Всё, что нас окружает, состоит из одних и тех же элементов, которые сочетаются друг с другом и переходят друг в друга. Если мы вспомним, что, по Платону, из воды рождается воздух, а из воздуха – огонь, то можно сказать, что в воде уже содержится огонь, так сказать, в скрытом виде – подобно тому, как Павел говорит, что Левий в лице Авраама дал десятину Мелхиседеку, поскольку в то время «еще был в чреслах отца». К чему это я? К тому, что мы взираем на небесные светила и думаем, что вроде бы их свет и, в случае солнца, жар совершенно противоположны такой жидкой и влажной субстанции, как вода, которая под действием огня испаряется и как бы исчезает. Но на самом деле, если вспомнить о взаимопереходимости элементов, должен быть способ получить из воды огонь и свет. А если верить Скрижали, говорящей о подобии верхнего и нижнего, можно предположить, что самое высокое и прекрасное способно возникнуть из самого низкого и презренного, если говорить о видимых нами веществах и телах. То же самое можно заключить и из рассказа о сотворении мира: «в начале сотворил Бог небо и землю» – то есть всё, что есть в этом мире, всё, что наверху и внизу, во всех смыслах, а это – все те элементы, из которых составляется всё. Но дальнейший рассказ Моисея не менее значим: сначала был свет, то есть огонь, затем твердь, то есть та воздушная стихия, что «разделяет между водой и водой» – полагаю, между земным веществом во всех его проявлениях и тем веществом, из которого составлены светила. Далее вода под небом «собирается в свое место», и появляется суша – земля. Разумеется, сейчас я имею в виду более общие смыслы, чем у Златоуста в беседах на Книгу Бытия. Более того, создание человека «из земли» говорит нам о том, чего не допускал Платон: он считал, что земля под действием огня или воды распадается на отдельные частицы, но потом снова соединяется в землю, поскольку «не может принять иную форму», претворившись в воду, воздух или огонь. Но в человеческом теле мы видим и воду, и воздух, и теплоту, которая, конечно, от огненной части, – но всё это, согласно Писанию, произошло из земли. Таким образом, мы видим полный оборот четырех элементов, каждый в каждом, и весь мир окончится огнем и сгорит, и, по слову Григория Нисского, «перестановкой элементов всё вновь перейдет в какое-то другое состояние». Итак, в силу возможности перехода всего во всё, мне думается, гораздо интереснее не возможность получить, образно говоря, золото из черепков – ведь это всего лишь земля из земли, просто в ином сочетании, – но, например, огонь из земли или, для начала, из воды. Собственно, то обстоятельство, что золото есть по сути земля, не допускает истолкование Скрижали как средства к получению этого металла – ведь в таком случае Гермесу не было бы нужды начинать с утверждения о подобии верхнего и нижнего и о «чудесах единой вещи»…
Арсавир так и не смог выяснить, был ли кто-нибудь из его слуг сам виновником новой волны сплетен, или поводом для нее стала просто необдуманная болтовня кого-то из них о происходящем в особняке хозяев, но в любом случае было мало приятного в том, что на него и его домочадцев стали поглядывать косо, когда они появлялись в местных храмах или на рынке. Говорили, что у них в особняке образовалось «колдовское гнездо», причем не так уж часто произносилось имя Иоанна: многие упоминали просто о якобы привечаемых Арсавиром «бродячих монахах», которые занимаются гаданиями и «дружат с бесами»… Припомнили и «оргии» шестнадцатилетней давности – и вот, пошли слухи не только о «колдовстве», но и о «мерзком притоне блуда»… Арсавир досадовал на «тупых невежд», но что он мог сделать против народной молвы? Выслушав его сетования и немного поразмышляв, Иоанн сказал:
– Что ж, придется мне устраивать свидания с госпожой химией в другом месте. Прости, брат, я не предвидел, что могу подставить тебя под удар людской глупости… Впрочем, всё к лучшему: когда мы перестанем здесь появляться, молва уляжется, зато она дала мне повод для обзаведения собственным углом.
Они договорились, что Арсавир выкупит у брата его часть имения, а на вырученные деньги Иоанн приобретет себе другое, поменьше, где-нибудь на босфорском берегу и наймет управляющего и слуг для его содержания.
– Да, наверное, так будет лучше, – проговорил Арсавир. – Но как досадно, что так вышло! – он горестно вздохнул. – Ты позволишь мне самому подыскать тебе особняк в твоем вкусе?
– О, разумеется, – улыбнулся патриарх. – Я как раз думал просить тебя об этом.
Из нескольких имений, выбранных Арсавиром для брата на обоих берегах пролива, Иоанну больше всего понравился небольшой живописный особняк в местечке Психа́; хозяин почел за честь продать его патриарху и даже подарил Иоанну собственного раба-садовника, уверяя, что он «сумеет превратить в рай» патриаршее хозяйство.
– Послушай, – сказал Арсавир брату, – мне невыносимо жаль, что ты почти не будешь приезжать к нам теперь! В конце концов, если тебе нужно место для опытов, то можно было бы обустроить какое-нибудь помещение в Городе… А сюда бы ты просто приезжал отдохнуть, как раньше! Зачем тебе отдельное имение, тем более, что ты не очень-то часто будешь там бывать?
– Химия – мой отдых, – улыбнулся Грамматик. – Разумеется, можно было бы сделать, как ты говоришь. Но думаю, мне в любом случае полезно иметь свой угол. Мало ли, что может случиться.
– Что же может случиться? – удивился Арсавир.
Но патриарх, чей взгляд задумчиво покоился на темной синеве Босфора, не ответил на вопрос брата.
Между тем ничто, как будто бы, не предвещало особых перемен, и жизнь текла в привычном русле. Император по-прежнему еженедельно совершал выезды во Влахерны, принимал жалобы от народа и творил правосудие, невзирая на лица. Он не пощадил даже собственного шурина Петрону, когда на него принесла жалобу одна вдовица: бросившись к ногам императора при его выходе из Влахернской церкви, она пожаловалась, что друнгарий виглы построил большой дом рядом с ее скромным жилищем, так что загородил ей и свет, и вид на море, оставив ее «во тьме и рыданиях», несмотря на то, что она просила соблюсти положенное в таких случаях по закону расстояние и высоту дома. Феофил тут же послал проверить, правду ли говорит женщина: оказалось, что Петрона действительно выстроил пятиэтажный дом с целью сдавать его под квартиры и лавки, и эта постройка обрекла вдову с детьми на жизнь в полумраке, поскольку с других сторон ее домик тоже обступали более высокие здания. Следствием учиненного разбирательства было публичное наказание брата императрицы: во время выхода в Великую церковь ему дали полсотни ударов бичом в Орологии и лишили должности. Новым друнгарием виглы стал ранее служивший под его началом Константин, молодой армянин, приехавший в столицу из Каппадокии. Обозленный Петрона, через несколько дней придя в себя, явился к сестре с упреками, что она не защитила его от гнева мужа. Феодора только плечами пожала:
– Почему я должна тебя защищать? Только потому, что ты мой брат? У тебя есть всё, что душе угодно, и ты вполне мог бы обойтись без этого дома. Можно подумать, ты голодаешь, бедненький! А если уж тебе так охота получить доход, то мог бы найти и другое место, но ты за дешевизной погнался… Сам и виноват!
Не менее резко она прервала и поучения дяди, когда Мануил принялся увещевать ее, что нужно повлиять на императора, чтобы он «задумался относительно иконопочитания».
– Дядя, с каких это пор ты стал таким пламенным чтителем икон? – насмешливо спросила императрица. – Где ты был раньше?
– Я заблуждался, – ответил Мануил, немного растерявшись от тона племянницы. – Но отец Николай меня исцелил, призвав покаяться в иконоборчестве, и я покаялся. И я уверен, что если б я не покаялся, то не сидел бы сейчас перед тобой, а лежал бы под землей и разлагался! – сказал он с горячностью. – Послушай, не смейся, ведь я хочу вам добра! Я боюсь за государя… Ведь он тоже болеет… Эта дизентерия… я знаю, что она может тянуться, отнимать силы и…
– Знаешь, дядя, я не смеюсь, – ответила августа, – я, пожалуй, удивляюсь.
– Чему же?
– Тому, что исцеления, оказывается, продаются! Значит, если б ты отказался покаяться в иконоборчестве, этот отец Николай сказал бы тебе: «Ну, и подыхай тут, еретик проклятый!» – повернулся и ушел бы?
– Ты… – Мануил не сразу нашелся, что сказать, настолько выпад августы поразил его. – Послушай, как ты всё перевернула с ног на голову! Отец Николай не сказал, что не будет за меня молиться, если я не покаюсь, он только сказал, что Господь может не принять в таком случае его молитву за меня… Ведь и Христос исцелял «по вере», и тут тоже нужна вера – правильная вера! Ведь понятно же, что…
– А, – перебила Феодора, – так значит, отец Николай всё же милосерд и исцеления не продает, это Бог немилосерд и торгует исцелениями… в обмен на догматы? Так, получается?
– Как ты можешь такое говорить?! – возмутился доместик. – Бог ищет нашего вразумления, а как Ему еще нас вразумить, если мы иначе не понимаем?
– Это ты иначе не понимаешь, – спокойно ответила августа. – А Феофил, я уверена, может понимать иначе. И поэтому продавать ему исцеление в обмен на догматы я не буду. Тем более, что я слишком хорошо знаю, как он воспримет такое предложение. И прошу тебя, дядя, никогда больше не говори со мной об этом. Если тебе страшно за Феофила, то молись за него – вот, по-моему, достойное дело любви! Или ты не будешь теперь за него молиться, потому что он не чтит икон?
– Да нет, что ты, Феодора, – Мануил смешался. – Конечно, я всегда буду молиться за него!
– Вот и хорошо, дядя, я рада, – императрица улыбнулась. – А рассуждать о том, за кого Господь принимает молитву, а за кого нет, по-моему, совсем не наше дело!
Лето было жарким и нерадостным. Арабы в начале июня совершили очередной набег на ромейские земли и захватили много пленных. Феофоб выступил против них со своими персами, и в первом сражении удалось отбить агарян и освободить пленников, но вскоре враги получили помощь – свежие войска под командованием Абу Саида. Силы были неравны, и в отчаянной схватке Феофоб был убит. Военачальник Вешир, сразивший знаменитого Насира, насадил его отрубленную голову на копье и высоко поднял, показывая всем, чтобы воодушевить своих воинов и смутить противника. Персы, увидев, что их вождь мертв, все спешились, перерезали жилы у своих коней и сражались, пока не полегли все до одного: никто не сдался врагу живым, и арабы надолго запомнили эту битву.
Когда скорбная весть дошла до Константинополя, во дворце воцарилось уныние. Феофоб был лучшим военачальником Империи в последние годы, и вряд ли можно было восполнить эту потерю. Елена была подавлена горем, а император еще острее, чем скорбь, ощущал собственное бессилие – как перед безжалостной судьбой, так и перед несчастьем сестры, которой ничем не мог помочь…
Спустя три недели после гибели Феофоба молодая вдова пошла на исповедь к патриарху, на другой день причастилась в дворцовом храме, а затем попросила брата принять ее наедине и сказала:
– Знаешь, я всё решила: я хочу сделать из нашего дома монастырь, постригусь и буду там жить. Хочу до смерти жить там, где мне было так хорошо несколько лет… И дочка пусть со мной, пока не вырастет, а потом пусть делает, что захочет: остается со мной или выходит замуж… Назову обителью Страха Божия[2] – в память о нем, – она помолчала. – Он, когда уходил в поход, всегда говорил мне: «До встречи, моя родная, где бы она ни случилась!» Ну вот, теперь мне больше ничего не осталось, как только готовиться к этой встрече. А здешняя моя жизнь кончена… Впрочем, я не ропщу: я была счастлива! – она подняла глаза на брата. – Ты не огорчайся так из-за меня, Феофил, прошу тебя! Лучше, знаешь, что я тебе скажу: пока ты счастлив, будь счастлив, ведь это может в любой момент окончиться! Я так огорчалась раньше, что у тебя так было с Феодорой… не так, как нужно… И я так рада, что это ушло! Ведь теперь вы счастливы, правда?
– Да. Я был… таким дураком, Елена!
– Нет, ты дураком никогда не был, – улыбнулась она. – Просто тебе был назначен такой путь, вот и всё. Ты сам должен видеть, ради чего это было нужно. Ты ведь видишь?
– Вижу. Но всё равно иногда бывает досадно, что много времени потрачено не на то… Впрочем, ладно, давай лучше о тебе. Твой дом всё-таки нужно немного перестроить, сделать там храм. Ты думала об этом?
– Да, я как раз хотела просить тебя о помощи, ведь понадобится архитектор, строители…
– Всё будет, не беспокойся. Я сегодня же поговорю, с кем нужно.
– Благодарю! – она подошла, привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку. – А я боялась, что ты начнешь отговаривать меня.
– Нет, Елена. Последним, кого я пытался от чего-то отговаривать, был Алексей. А потом я вспомнил себя… и понял, что это бесполезно. Человек в каждый момент жизни действует в меру своего понимания, будь оно правильным или неправильным, и если он чего-то не сознаёт, его невозможно убедить. Это еще у монахов в монастыре есть послушание наставникам, невзирая на свое разумение, а у нас в миру каждый сам себе наставник, в конечном счете! Знаешь, патриарх уже давно понимал, к чему я приду в отношениях с Фео дорой… но он ничего не советовал мне, только сказал, что я должен понять всё сам – и он был прав. Ведь если б он сказал мне это раньше, я бы не поверил… Вот поэтому я больше никого не хочу отговаривать или уговаривать.
– Да, наша жизнь… как полотно: каждый сам ткет свой узор… Не грусти, Феофил!
– Я не грущу, – он улыбнулся и поцеловал сестру в лоб.
Когда она ушла, он подошел к окну и долго смотрел на море. Нет, он не грустил. Он думал о том, сколько судьба еще отмерила времени на его счастье. Этим утром император почувствовал, что болезнь снова возвращается к нему.
Действительно, спустя два дня Феофил опять слег.
– И сколько это может продолжаться? – спросил он у врача. – Только говори правду, не крути!
– Дизентерия – коварная болезнь, государь, – вздохнул Симеон. – Окончательному исцелению она редко поддается и, если не вылечили с первого раза, может тянуться вяло несколько лет, вот так, как у тебя: то приступ, то как будто полное выздоровление…
– Несколько лет? Сколько?
– Я знал больных, проживших так до десяти лет. Но чаще всё оканчивается раньше, августейший. Если только не случится чуда…
– Ну, чудо – это вряд ли! По крайней мере, не стоит на него надеяться.
– Надеяться никогда не грех, государь! – возразил врач.
«Итак, в лучшем случае десять лет, – подумал император, когда Симеон ушел. – Точнее, уже только восемь. А на самом деле, скорее, гораздо меньше… “Исчислил Бог царство твое и положил конец ему”… Интересно, мне тоже скажут на том свете: “Ты взвешен на весах и найден очень легким”? Странно: когда-то меня всё это так воодушевляло – военные победы, постройки, правосудие, – а сейчас уже как-то безразлично… Значит ли это, что я одолел тщеславие? Точнее, его одолела болезнь… А скоро она и меня одолеет. Время исчислено и сокращено, “ибо прах ты и в прах возвратишься”… Что ж, похоже, всё, что мне осталось, это позаботиться о том, чтобы мое царство досталось сыну, а не было “разделено и дано мидянам и персам”…»
В начале августа в Константинополь пришла весть о смерти стратига Каппадокии, ставшая для всех полной неожиданностью: никто не думал, чтобы тридцатитрехлетний здоровый военачальник мог умереть не на поле боя, а в своей постели. Но, тем не менее, Евдоким умер 31 июля и был погребен в Харсианской крепости.
Оправившись от приступа болезни, император тут же пригласил к себе комита шатра, привезшего в столицу скорбную весть, и в присутствии августы расспросил его, чтобы узнать как можно больше подробностей. До Феофила доходили известия о жизни Евдокима: стратига любили в Каппадокии за благочестие и милосердие, за то, что он всегда терпеливо выслушивал просителей и умел подать хороший совет, а кроме того, был чрезвычайно целомудрен – рассказывали, что при разговорах с женщинами он никогда не поднимал глаз на собеседниц. Он мужественно сражался с врагами, у Анзена был ранен, но его сумели унести с поля боя, и он быстро оправился. После аморийских событий Евдоким успешно отражал набеги арабов на Каппадокию и заботился о пострадавшем от них населении фемы. Он очень много благотворил убогим и неимущим, и народ любил его, а местные начальники скоро зауважали и стали бояться: стратиг был милостив, но также справедлив и нелицеприятен.
– Почему он умер? – спросил император. – Ведь он был здоров и крепок, насколько я знаю.
– Мы сами удивлены, августейший, – ответил комит. – Господин Евдоким почти до последнего выглядел совершенно здоровым. Только неделю и поболел! Но то была обычная простуда, и мы никак не думали… Правда, теперь я вспоминаю… Может быть, он и предчувствовал задолго свою смерть…
– Почему ты так думаешь?
– Да вот, государь, в последнее время он был каким-то… задумчивым.
– Задумчивым?
– Да. Как бы это объяснить, государь… Мы стали примечать, что он, когда слушал доклад какой или рассказ, то… вроде бы и слушал говорящего, но одновременно как бы прислушивался к чему-то другому… словно внутрь себя смотрел… Но мы думали, это от того, что он стал в последнее время усерднее молиться.
– Но он и должен был усерднее молиться, если предчувствовал близкую смерть, – сказала Феодора.
– Когда же началась у него эта «задумчивость»? – спросил Феофил.
– Когда?.. – комит немного помолчал, припоминая. – Да вот, наверное, с января. Когда у вас родился сын, августейшие, и мы узнали об этом, то все радовались, и у нас был праздничный молебен, а потом обед. И вот, пожалуй, тогда… то есть это мне так помнится… за тем обедом господин Евдоким был сильно задумчив…
Император с женой переглянулись.
– Что же, он был не рад? – спросила императрица.
– Нет, как можно, августейшая! – воскликнул комит. – Он был очень рад, лицо у него прямо сияло, когда мы в храме молились и благодарили Бога! А вот потом, за обедом, он как-то… задумывался всё… Да, и еще с тех пор он стал совсем неразговорчив: бывало, раньше истории рассказывал какие-нибудь, шутил иногда, а тут – всё только по делу или на вопрос ответить, а так всё молчал. И молиться стал больше по ночам… Пожалуй, немного бледен был в последние уже дни перед болезнью, но мы не обратили внимания… Это я теперь вот вспомнил…
– А что было в тот день, когда он умер? – спросил василевс.
– О, тот день я помню очень хорошо, я был при нем. Мы в Харсиан-то приехали по приглашению начальника крепости, у него родилась двойня, сын и дочь, и он непременно хотел, чтобы господин Евдоким был его крестным. Он господина Евдокима так уважал, что даже захотел, чтоб он и имена детям выбрал! И вот, с утра мы все в храме были, крещение совершилось, потом обед званый был, а на другой день господин стратиг и занемог…
– А как назвали младенцев? – спросила августа.
Комит вдруг удивленно воззрился на нее, перевел глаза на императора и сказал немного растерянно:
– Феофил и Феодора.
– Так, – проговорил василевс, опять переглянувшись с женой. – И что же было дальше?
– Дальше?.. На другой день господин Евдоким пожаловался на недомогание, а к вечеру у него начался жар. Мы, конечно, всполошились, врачей позвали, те ему – питье с медом, грелку… Он вроде как на третий день уже и оправился, только слаб был и всё лежал, не вставал. Еще три дня прошло, и вот, прихожу я к нему утром, а он сидит на постели. «Подведи, – говорит, – меня к окну». Я ему помог встать, он у окна долго стоял, смотрел, вид-то красивый оттуда, он ведь в доме у начальника крепости жил… Потом опять лег в постель и попросил позвать всех, кто был в доме. И говорит нам: «Жаль, что умирать пришлось не дома, но раз уж Бог судил тут умереть, то тут меня и похороните». И так он нас, скажу, государь, ошеломил вконец. Мы ему наперебой: да как же, да что же, что он еще проживет столько и еще полстолько… А он говорит: «Нет, друзья мои, я сегодня уже покину этот мир. Прошу вас только об одном: погребите меня в военном одеянии, чтоб всё было при мне – и пояс, и меч, и всё прочее! Обещайте мне это!» Тут уж мы стали плакать… ну, и обещали ему, конечно. А он улыбнулся так светло-светло и говорит: «Не плачьте, Господь милостив, а когда-нибудь все мы свидимся. Простите мне, грешному всё, чем обидел вас, и молитесь за мою душу! А теперь оставьте меня, Христа ради!» И вот, мы его со слезами оставили, только я не утерпел, грешным делом, и у двери слушал: господин Евдоким молился вслух, но негромко, так что я слов не расслышал. А потом он сказал погромче: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой!» – и умолк. Мы еще немного подождали, вошли, а он уже преставился… Так мы его и погребли, как он завещал. Вот и всё, государь, – комит вытер слезу со щеки. – Видно, Господь за праведную жизнь забрал господина Евдокима от нас, грешных!
Когда комит ушел, императрица встала, отошла к окну и, чуть помолчав, тихо сказала:
– Он словно охранял нас… пока мы шли к нашему счастью… Он всегда был хорошим охранником, – она вздохнула и заплакала.
Император подошел к ней и обнял за плечи.
– Да. Он был праведным человеком. Думаю, ему сейчас хорошо.
…На третий день после Рождества Христова императору незадолго до обеда доложили, что эпарх просит принять его наедине.
– Государь, – сказал эпарх, – два часа назад в Артополии поймали одну агарянку, из пленных, служанку магистра оффиций. Она вдруг посреди рынка начала прорицать, и вокруг сразу столпилась куча народа, тем более, что она еще и красавица…
– И что же? Что она прорицала?
– Она говорила… Вообще-то торговцы рассказали, что всё началось с болтовни каких-то покупателей. Они вспоминали о слухах, что бродили после сражения при Анзене – мол, теперь-то нечего бояться потрясений: даже если что случится с государем, есть законный наследник… А эта агарянка вдруг бросила свою корзину, воздела руки и как закричит: «Ингер будет царствовать, Ингер!» Конечно, долго кричать ей не дали, схватили и отвели в Преторий, а господину магистру я сказал, чтоб он ее дома держал и не выпускал никуда. Но слух уже пошел, увы! Народ ведь хлебом не корми, только дай новую сплетню…
Феофил чуть нахмурился.
– Ингер? Кого она имела в виду? Не Мартинакия ли?
– Именно его, августейший! Я ее сейчас сам допросил, и она мне сказала слово в слово так: «Феодора и Михаил будут царствовать, а потом Мартинакии».
Император задумался. Опять пророчество! Разумеется, глупо было бы брать в расчет болтовню всякого прорицателя, но не стоило и вовсе пренебрегать ею: даже если всё это вранье, даже если сам Ингер ни о чем подобном не помышлял, однако слухами в будущем могли воспользоваться какие-нибудь негодяи и после смерти императора доставить неприятности его жене и сыну – Феофил не сомневался, что не доживет до совершеннолетия Михаила и Феодоре когда-нибудь придется одной нести бремя власти. Ингер был сыном Анастасия Мартинакия, человеком уважаемым, образованным и, можно сказать, вполне подходящим для ношения красных сапог: если бы кому-нибудь пришло в голову возвести его на царство, эта мысль не показалась бы безумной…
К вечеру василевс принял решение и после приема чинов приказал логофету дрома наутро взять Ингера Мартинакия под стражу, отвести в Сергие-Вакхов монастырь и постричь в монахи, после чего сразу же отправить на остров Принкипо, его семью выселить из Города в Хрисополь, а их дом обратить в монастырь. Впрочем, чтобы не показаться слишком жестоким, император велел выплачивать семье Ингера денежное пособие, достаточное для безбедной жизни и воспитания детей: у Мартинакия был сын от первой жены, рано умершей, и еще двое детей от второго брака – сын и дочь, родившаяся всего несколько месяцев назад.
Феоктист, выслушав приказ, чуть вздрогнул, и сердце его поневоле радостно стукнуло: «Все-таки есть возмездие наглецам!» – хотя логофет тут же мысленно укорил себя за злорадство. У него были свои счеты с Мартинакиями: Феоктист терпеть не мог Анастасия, который задирал его еще в то время, когда он был простым секретарем доместика экскувитов; даже получив чин патрикия и состоя на придворных должностях, Феоктист постоянно чувствовал презрение Мартинакия. То ли Анастасию была известна роль, сыгранная Феоктистом при рождественском перевороте, возведшем на трон Михаила, – а Мартинакий всегда преданно служил императору Льву, любил его и, хотя в царствование Михаила остался при дворе, особой радости по поводу смены власти не выказал, а кроме того, не одобрял мягкого отношения к иконопочитателям, – то ли великий куратор презирал патрикия за умение «донести нужные сведения всем, кому необходимо их донести», только Анастасий не упускал случая кольнуть Феоктиста острым словцом. Патрикий иной раз не мог подавить раздражение и пытался поддеть Мартинакия в ответ, но это никогда ему не удавалось: Анастасий был нечувствителен к уколам и всегда презрительно усмехался или всаживал в Феоктиста какую-нибудь еще более обидную шпильку… Между тем сын составлял предмет гордости Анастасия и делал хорошую карьеру при дворе, что Феоктиста несколько выводило из себя, тем более, что Мартинакий однажды зло посмеялся над ним, когда хранитель чернильницы за одним обедом у эпарха, слушая очередные похвальбы Анастасия успехами Ингера по службе, с некоторым раздражением сказал, что Мартинакий «всегда находит повод отметить, чем он лучше других».
– Разумеется! – воскликнул тот, насмешливо сверкнув зеленоватыми глазами. – Мне, слава Богу, есть чем гордиться, кроме собственной услужливости – в отличие от евнухов! У них-то, конечно, нет другого способа преуспеть, как только вылизывать сапоги вышестоящих!
И теперь, хотя Анастасия уже не было в живых – он пал в битве при Анзене, – обрыв карьеры его сына не мог не радовать Феоктиста: логофету виделась в этом едва ли не высшая справедливость, и он почти готов был благословить агарянку-прорицательницу.
– Весьма, весьма разумное и милосердное решение, трижды августейший! – проговорил Феоктист. – Конечно, нужно вовремя устранять поводы к возможным мятежам, ведь, как сказал, помнится, Менандр, «простой народ – существо мятежное, и дерзость в его природе». Всё будет исполнено в точности, государь!
8. Фессалоники
На вопрос, для чего Анаксагор родился на свет, он ответил: «Для наблюдения солнца, луны и неба». Ему сказали: «Ты лишился общества афинян». Он ответил: «Нет, это они лишились моего общества».
(Диоген Лаэртий)
– Владыка, где ты собираешься служить в Цветоносное воскресенье?
– Думаю, в храме Богоматери, что у Игнатиевой дороги, если отсюда идти мимо Фалла. Хороший храм, мне там нравится.
– Да, храм чудесный! Кстати, владыка, там некогда произошла интересная история! Если позволишь, расскажу.
– Конечно!
– Это было в царствование Анастасия, архиепископом здесь тогда был святой Андрей. В то время в городе был большой иудейский квартал, как раз возле Фалла, там еще был храм Диониса, и язычники даже свои обряды в нем совершали! Трудно сейчас представить, да? А ведь было же!.. Так вот, в этом еврейском квартале жила одна девочка, глухонемая с рождения, и так она дожила до пятнадцати лет. И вот, однажды она видит во сне некоего мужа в белом и с ним прекрасную женщину, они вывели ее из дома и привели по Игнатиевой дороге в этот самый храм Богоматери, довели до входа и исчезли. Она растерялась, но увидела, что люди входят, и вошла с ними, а там как раз совершалось крещение. Девочка этого не поняла, подумала, что это общественная баня, и бросилась в воду, погрузилась трижды, а когда вышла из воды, увидела тех же мужчину и женщину, и они сказали ей: «Услышь и скажи роду твоему». И она тотчас стала слышать и заговорила – это всё во сне. А когда она проснулась, то очень захотела исцелиться, тайно от домашних выскользнула из дома и пошла по тому же пути, что во сне. Пришла в храм и видит – там собираются крестить одного старика. Тогда она, словно по наитию от Бога, сбросила одежду, прыгнула в воду и предстала перед архиепископом, а это как раз был святитель Андрей. Он поразился, но решил, что это от Бога, и крестил ее…
Лев слушал рассказ диакона и думал, что пути Божии поистине неисповедимы и недоведомы. Мог ли он предполагать, что окажется в Фессалониках, причем в качестве архиепископа?!.. Решение императора и патриарха рукоположить его на смену умершему прошлой зимой Солунскому архиерею стало для Льва полной неожиданностью и совсем не обрадовало: вместо любимого преподавания и занятий науками – окормлять неизвестных людей в чужом городе!.. Конечно, новое назначение было очень почетным: Фессалоники были богатым городом, где скрещивались торговые пути, а местная святыня – мощи великомученика Димитрия – издавна привлекала множество паломников. Такому городу нужен был архиерей высоких достоинств, а не какой-нибудь случайный, и выбор пал на Философа вполне оправданно. К счастью, училище, где он преподавал, перешло в хорошие руки: император отправил Математика в Фессалоники не раньше, чем в столицу прибыл Игнатий, при императоре Михаиле занимавший Никейскую кафедру. Митрополит был в почете у василевса, особенно после того как написал для распространения в народе ямбы против мятежника Фомы. Однако, когда умер в ссылке патриарх Никифор, Игнатий сложил с себя омофор и удалился монашествовать на Олимп – говорили, что он раскаивался в общении с иконоборцами. Но теперь о нем вспомнили, поскольку он в молодости получил прекрасное образование, учился у будущего патриарха Тарасия стихосложению, а потом некоторое время преподавал и сам, пока не был рукоположен в диакона и стал клириком Великой церкви. Грамматик был знаком с ним, хотя не близко, и посоветовал императору поручить Игнатию руководство школой при храме Сорока мучеников. Бывшего митрополита вызвали в Город, и Игнатий не заставил себя долго уговаривать принять учительство: на самом деле он порядком соскучился на Олимпе за прошедшие несколько лет и был рад вновь оказаться в Константинополе среди ученых людей. Правда, от какого-либо церковного служения он категорически отказался, но император, улыбнувшись, сказал только:
– Не беспокойся, господин Игнатий, к этому тебя никто не будет принуждать. Мне нужен преподаватель в школу, а клириков у нас и так полон Город!
Поговорив с Игнатием, Лев понял, что может оставить в его руках школу со спокойной душой. Но он не мог сдержать слез, покидая столицу. Правда, патриарх с улыбкой сказал ему, что новый опыт будет Философу полезен, а печалиться не стоит, ведь они еще увидятся, «по крайней мере, на том свете, а скорее всего, еще и на этом»… А вот расставание с императором вышло грустным; Лев не знал, думал ли василевс о близкой смерти – внешне ничто не говорило об этом, – однако на прощание Феофил сказал архиепископу:
– Общение с тобой, Лев, всегда было для меня великим удовольствием, одним из самых больших, какие я испытал в жизни. Поэтому не думай, что только ты будешь страдать от разлуки. Тут, скорее, следует сказать, что больше мы лишаемся твоего общества, чем ты нашего… Но что делать, иногда церковные дела требуют определенных жертв! Впрочем, Прокл говорил, что «философ должен быть не только священнослужителем какого-нибудь одного города или нескольких, но иереем целого мира». Что же удивительного, если философ стал архиереем хотя бы одного города? – император улыбнулся. – До встречи, Философ – если не здесь, так на небесах! В любом случае, для молитвы и любви расстояние – не препятствие, не так ли?
– Конечно, государь!
Архиепископ зашел повидаться с Кассией перед отъездом: теперь, будучи в сане, он мог посетить ее монастырь и посмотреть на всё своими глазами. Предварительно он спросил у игуменьи запиской, не будет ли она против визита «архиерея-еретика». Встречая его у врат обители, Кассия улыбнулась иронически и немного печально:
– Ну, здравствуй, преосвященный еретик! – она оглядела его. – Тебе идет монашеское одеяние.
– Все говорят мне это, – с улыбкой ответил Лев. – Моя мать перед смертью прочила мне в будущем монашество, но вот как пришлось мне постричься!
– Ты не хотел?
– Не то, чтобы не хотел… Против монашества я ничего не имею, но думаю, по своей воле я бы принял постриг, скорее всего, разве что в старости. Сказать честно, я не вижу особого смысла в перемене одежд, а жить по-монашески при желании можно и в миру. Но епископом я, разумеется, становиться совсем не хотел… Мне и в голову это не приходило никогда!
– И как ты ощущаешь себя в новом качестве?
Лев задумался на несколько мгновений.
– Не знаю, – тихо ответил он. – Как-то странно, честно говоря… Не в своей тарелке. Патриарх уверяет, что этот опыт принесет мне пользу… Может, он и прав, но я с превеликим удовольствием вернулся бы на преподавательскую кафедру, она мне куда милее, чем епископская!
Кассия провела его по обители, показала храм, скрипторий, библиотеку. Монахини встречали и провожали его поклонами, но благословения не брали.
– Что ж, – сказал архиепископ, когда они с игуменьей снова стояли посреди монастырского двора, – у вас тут всё прекрасно! Сестры должны быть счастливы, – он пристально взглянул на Кассию. – А ты?
– Я тоже, – ответила она, поднимая на него глаза. – Троянская война окончена, Лев, и Одиссей прибыл на свою Итаку.
– Рад за тебя! Думаю, что плаванье государя тоже окончено, и теперь он вполне счастлив.
– Правда?.. – она несколько мгновений помолчала, точно прислушиваясь к чему-то внутри. – Это было бы прекрасно! Только я всё время думаю… о разной вере… Правда, тебе это, наверное, непонятно, – она опустила голову.
– Понятно, но я смотрю на это не так прямолинейно. Послушай, Кассия, ведь когда отец Феодор запретил поминать господина Феодота, ты сама говорила об «оттенках», о том, что невозможно всё разделить на черное и белое, всегда четко провести эту грань… Разве сейчас ты уверена в том, что научилась проводить ее?
– Не уверена, но… Всё-таки не может всё вообще быть относительным! Тем более то, что касается веры! Иначе, если логически продолжить это рассуждение, то и мученики страдали зря, и соборы собирались впустую, и православные страдали от еретиков не за истину, а… из-за «ревности не по разуму»… Разве такое может быть?! Нет, я не могу принять это! Я только могу допустить, что… что людей, искренних в своем заблуждении, если они стремятся жить по заповедям, Господь или вразумит, хотя бы перед смертью, или… или, может быть, помилует и так… Но ведь это только «может быть»! Здесь нет не только уверенности – конечно, было бы безумно нам, не стяжавшим в себе божественной любви, быть уверенными без страха! – но нет даже надежды! Что такое «может быть»? Может быть, а может и не быть… Это не та надежда, о которой говорит апостол, – не та надежда, которой мы спасены! А мне хочется, чтобы была та: «надеемся на то, чего не видим, и упованием ждем», понимаешь?
– Понимаю, – Лев помолчал. – Что тут можно сказать, кроме того, что «любовь на всё надеется и никогда не перестает»? Если мы жаждем спасения человека, то не тем ли более – Бог? Думаю, если на что мы можем надеяться твердо, так это на то, что Он слышит наши молитвы за других, а значит, есть надежда, что и услышит до конца.
Путь до Фессалоник был довольно долог и уныл, но, приехав на свою кафедру, новоиспеченный архиепископ был приятно удивлен как обилием прекрасных храмов, так и общей благоустроенностью города. Местные жители приняли его тепло – до них уже дошли о нем из столицы самые восторженные рассказы. Но особенно поразило Льва то, что в Фессалониках почти совсем не ощущалось влияние иконоборчества: хотя низко висевшие иконы из храмов были убраны, но и это не везде, а в целом народ чтил образа, как раньше, перед ними молились, возжигали лампады и свечи, рассказывали о совершавшихся от них чудесах… Нельзя сказать, что Льва это смущало или огорчало – скорее, напротив, и фессалоникийцы это быстро поняли: через несколько месяцев после приезда архиепископа они уже совсем не стеснялись обнаруживать перед ним свою любовь к иконам и веру в их чудотворность…
– И вот, – продолжал между тем диакон, – выйдя из воды, девочка на глазах у всех исцелилась, стала слышать и заговорила, и рассказала о своем сне. А в крестильне там иконы были разные, в том числе Богоматери и святого Димитрия, и девочка как закричит: «Это они!» – то есть те, кого она видела во сне. А сама она даже и не знала, кто они, и раньше никогда не слыхала о них. Вот такое чудо! И после этого пять сотен иудеев вместе с семьями тоже приняли крещение! А девочка потом всю жизнь подвизалась при этом храме.
– Замечательная история! – улыбнулся Лев. – От кого ты ее узнал, отче?
– Я прочел о ней в одной книге из храмовой библиотеки, владыка. Если угодно, я принесу ее тебе.
– Да, прошу тебя. Мне бы хотелось прочесть самому.
В Фессалониках Лев ясно понял, что иконоборчество не выживет. Оно просто не могло выжить, даже в очень мягком виде, даже со всеми оговорками и снисхождениями – слишком почитание икон уже впиталось, так сказать, в плоть и кровь простого народа, да и не только простого… Возможно, патриарх был прав, и распространение икон стало данью грубому суеверию, пережиткам язычества… Но, раз принятое и тем более оправданное догматически, оно уже не могло исчезнуть – и если его не смогли существенно поколебать даже достаточно жестокие гонения, то тем более не изживут нынешние более мягкие меры, полумеры, а то и вовсе их отсутствие… Всё чаще перед Математиком вставал вопрос: зачем понадобилось Иоанну устраивать это «крушение веры»? Теперь, после нескольких лет близкого знакомства с Грамматиком, он сознавал, что дело тут было не только в личных убеждениях «великого софиста». В чем же еще? Льву иногда хотелось спросить об этом патриарха в письме, но он подозревал, что всё равно не получит ответа…
Не прошло и года с начала пребывания архиепископа в Фессалониках, как его уже не только прославляли как подвижника и мудреца – он действительно весьма выгодно отличался от своего предшественника на кафедре аскетическим видом, спокойным характером и красивыми проповедями, – но даже стали почитать чудотворцем: причиной тому была история с посевом ячменя и пшеницы. Когда Лев прибыл в свою архиепископию, он узнал, что город и его окрестности уже несколько лет страдают от недорода, и наступившим летом повторилось то же самое. Граждане были в унынии и страхе: на горизонте явственно замаячил признак голода и всеобщей дороговизны. Тогда архиепископ успокоил народ, пообещав подсказать, когда именно нужно сеять, и осенью, действительно, посоветовал начать посев ячменя за два дня до октябрьских календ, а пшеницу – после захода Плеяд, так чтобы успеть окончить сев не позже, чем в день солнцестояния. Он даже сам выехал на близлежащие поля, бросил в землю первые зерна и благословил сеятелей. Весной всходы принялись на удивление дружно, а летом был собран такой небывалый урожай, что зерном завалили все амбары, и запасов должно было хватить на несколько лет, даже самых неурожайных. Граждане готовы были носить архиепископа на руках, «чудо умножения хлеба» посодействовало и расцвету благочестия: народ толпами валил слушать проповеди Философа, а на улицах при встрече почти каждый приветствовал его низким поклоном и норовил взять благословение.
«Я воочию увидел, – писал Лев патриарху, – что наука в глазах простого народа поистине предстает как дар чудотворения. Я почти никого, кроме близких знакомых и сослужителей, не пытался уверить в том, что указал время посева, сообразуясь исключительно с расположением звезд и их возможным влиянием, поскольку мне всё равно не поверили бы: даже мои иподиаконы, как я узнал, считают, что я приписал звездам собственную прозорливость по смирению! Признаться, я чувствую себя неуютно, встречая теперь везде такой почет, к которому я, право же, не привык, тем более, что я его вовсе не заслуживаю. С другой стороны, меня печалит мысль о том, насколько люди ленивы: вместо того, чтобы упражнять ум в поисках наилучших разрешений возникающих трудностей, они вопиют к небу и ждут чудес… Я вознамерился сказать проповедь, основанную на мысли Великого Василия, что Бог не даровал человеку ничего такого, что Он дал бессловесным – когтей, перьев, мехового покрова, готовой пищи, – и извел его на свет нагим потому, что “взамен всего дал ему ум, которым изобретены деятельные искусства: домостроительство, ткачество, земледелие, кузнечество, – и душа недостающее для тела восполняет посредством ума”. Так и вижу, святейший, как по губам твоим пробегает ироническая улыбка. Конечно, я предвижу, что мое слово не возымеет должного действия, но, по крайней мере, душа моя будет покойна при мысли, что я исполнил свой долг…»
Однажды в сентябре после воскресной литургии к архиепископу подошел друнгарий Лев – один из состоятельных и уважаемых граждан Фессалоник. У него было семь детей, и после рождения последнего родители договорились жить, как брат с сестрой; сейчас младшему сыну, Константину, пошел четырнадцатый год – с ним-то отец и пришел к Философу. Мальчик получил начальное образование, и теперь ему хотелось заниматься дальше; в школе он проявил большие способности, всё быстро схватывал, всем живо интересовался, но в Солуни не было хороших преподавателей, которые могли бы повести Константина дальше. Зная, что архиепископ до назначения на кафедру преподавал в столице всякие науки, друнгарий подумал, что Лев, быть может, хотя бы подскажет мальчику, какие книги и в каком порядке ему следует изучать дальше – Константин был готов заняться самообразованием, но не знал, с чего начать. Архиепископ внимательно посмотрел на мальчика. Тот был замечательно красив – ростом чуть выше среднего, стройный, с темно-русыми волосами и большими карими глазами; высокий лоб и печать некоторой утонченности в чертах лица говорили об уме, а волевой подбородок – об изрядном упорстве. Сейчас мальчик смотрел на архиепископа с надеждой и чуть просительно, но не теряя достоинства. Математик улыбнулся.
– Если ты зайдешь ко мне домой, Константин, я побеседую с тобой и тогда решу, что дать тебе почитать.
Мальчик пришел в тот же день после обеда. Когда он увидел библиотеку архиепископа – Лев привез ее с собой из Константинополя, – глаза его загорелись, он шагнул к одному из шкафов и, остановившись в нерешительности, взглянул на хозяина и восхищенно проговорил:
– Сколько книг!
– Да, много, – с улыбкой ответил Лев. – Но набрасываться сразу на все без разбора было бы неразумно. Скажи мне, Константин, что вы изучили в школе? Грамматику, счет, письмо?
– Да, мы делали разные упражнения и читали… Сначала мы всё учились по Псалтири, потом читали Гомера и Златоуста…
– Учились ли вы составлять речи?
– Речи? – мальчик удивленно взглянул на архиепископа. – Нет, владыка, речи мы не составляли.
– Значит, риторику вам не преподавали?
– Наш учитель говорил, что риторические прикрасы бесполезны для благочестия, и потому не стоит тратить на них время.
– Вот как! – Лев чуть усмехнулся. – Боюсь, такими речами он лишь стремился прикрыть собственное невежество. Как бы там ни было, есть и иное мнение об искусстве слова: «Полагаю же, что всякий, имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не только эту благороднейшую и нашу ученость, которая, презирая все украшения и плодовитость речи, берется за единое спасение и за красоту умосозерцаемую, но и ученость внешнюю, которой многие из христиан, по худому разумению, гнушаются, как злоискусной, опасной и удаляющей от Бога». Ибо «не должно унижать ученость, как рассуждают об этом некоторые; а напротив, надобно признать глупыми и невеждами тех, кто, придерживаясь такого мнения, желал бы всех видеть подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть свой собственный недостаток и избежать обличения в невежестве». Ведь «преуспевшие или в делах, оставив слово, или в слове, оставив дела, ничем, как мне кажется, не отличаются от одноглазых, которые терпят большой ущерб, когда сами смотрят, а еще больший стыд, когда на них смотрят. Но кто может преуспеть в том и другом и стать одинаково ловким на обе руки, тому возможно быть совершенным и в этой жизни вкушать тамошнее блаженство».
– Чьи это слова? – воскликнул Константин. – Как прекрасно сказано!
– Это святитель Григорий Богослов. Вот, пожалуй, с него тебе и стоит начать дальнейшее образование.
Лев достал из шкафа толстую книгу в зеленом переплете и протянул мальчику.
– Бери, Константин, читай, изучай, наслаждайся! Это мой подарок тебе.
– Подарок? – переспросил Константин, словно не смея верить. – О, благодарю, благодарю, владыка! – он прижал книгу к груди, с восторгом глядя на архиепископа.
– Во славу Божию! Если у тебя будут какие-то вопросы, приходи, я постараюсь ответить.
Спустя три недели Константин пришел ко Льву вновь, но не с вопросами – впрочем, архиепископ понимал, что для них еще не пришло время: пока что мальчика полностью охватило восхищение великим Богословом – восторг первооткрывателя. Константин принес показать архиепископу свою похвалу святому Григорию:
– Прекрасно! – сказал Лев, прочтя. – Ты делаешь успехи, Константин! Думаю, святой Григорий услышит твою молитву.
– Знаешь, владыка, – сказал мальчик, – мне однажды приснился сон… Мне тогда было семь лет. Мне снилось, что господин стратиг собрал в нашем городе всех девочек и сказал мне: «Избери из них себе, кого хочешь, в супругу, тебе в помощь и твою сверстницу». Я стал их всех разглядывать, и одна там была красивее всех, с сияющим лицом, нарядная, вся в золоте и жемчуге… Я спросил, как ее зовут, и она ответила: София. Ее я и избрал. Потом я рассказал об этом родителям, а они истолковали это так, что Бог дает мне в невесту Мудрость, а ведь Мудрость – это Сам Христос, Божия Премудрость… Это значит, я буду монахом, да?
– Не знаю, Константин. Может быть, и будешь. Но сон твой действительно очень интересный! Думаю, что мудрость здесь может означать не только Мудрость в высшем смысле, но мудрость вообще – мудрость и в божественных, и в земных вещах. Люди истинно мудрые, как говорит святой Григорий, из внешних наук умеют «извлекать полезное даже для самого благочестия», а люди неразумные и знания о божественном легко могут обратить себе во вред. Думаю, если Господь дал нам разум, способный постигать разные вещи, мы должны эту способность использовать во благо себе и ближним, а не зарывать в землю.
– Ты вот не зарыл, владыка! – сказал Константин. – Я слышал, что ты был великим учителем в Константинополе до того, как приехал сюда. А у нас тут ни учителей, ни глубины наук… – он вздохнул. – И захочешь, ничего не выучишь!
– Не горюй! – улыбнулся Лев. – Твоя жизнь еще только начинается. Когда я был в твоем возрасте, я тоже не имел возможности учиться тому, чему хотел, даже живя в столице, потому что был очень беден. Но Господь в конце концов даровал мне возможность изучить нужные науки, а потом я стал учить и других. Временными трудностями Бог испытывает наше произволение и смотрит, действительно ли мы непреклонны в своем стремлении к знаниям и мудрости. «Верный в малом, верен и во многом», Константин, и если ты будешь усердно изучать то, что можешь, Бог пошлет тебе возможность приобрести более глубокие познания, не сомневайся в этом!
…Евстратий, игумен Агаврский, тяжело опираясь на палку, поднимался по склону Антидиевой горы, где на вершине в небольшой келье жил старец Иоанникий. Евстратий думал о том, сколько людей уже прошло по этой тропинке – знатных и безвестных, богатых и нищих, одержимых страстями и страждущих от болезней, – и никто не ушел не исцеленным и не утешенным, кроме тех, которые не захотели послушаться совета старца или покаяться в иконоборческой ереси. Сам Евстратий был обязан Иоанникию тем, что до сих пор, несмотря на почитание икон, оставался игуменом в своей обители, хотя она находилась не в глуши и нередко служила местом встреч для православных исповедников. Когда после издания императором эдикта о запрете иконопочитания местный епископ-иконоборец прислал игуменствовать в обитель своего ставленника иеромонаха Антония, Иоанникий трижды приходил к новому настоятелю и убеждал его вернуться к православию, но тот не обращал внимания на увещания. В четвертый раз старец пригрозил:
– Знай, отче, что, как ты не каешься, то через сорок дней умрешь, и игуменство, ради которого ты отрекся от икон, тебя не попользует!
– Поди-ка ты со своими предсказаниями! – рассердился Антоний.
Но через неделю игумен занемог от болей в груди и в желудке и на сороковой день действительно скончался. Евстратий вновь занял место настоятеля в Агаврском монастыре, и с тех пор его не трогали. Дважды Евстратий был исцелен старцем от тяжкой болезни и с того времени часто навещал Иоанникия. Подвижник, сколько ни пытался скрыться от народа, не преуспел в этом: поток страждущих, текший к его келье на горе, не только не ослабевал, но даже усилился, особенно после кончины Атройского игумена – Петр скончался 1 января того года, когда ромеи взяли Запетру. Говорили, что Бесхлебный перед смертью предсказал скорый конец иконоборчества, но пока в Империи всё оставалось по-прежнему…
Евстратий в последние годы тесно сдружился с Иоанникием и иногда удивлялся про себя: «За что мне, грешному, такая милость – быть близким к такому святому мужу? Иные едут к нему Бог весть откуда, по несколько недель проводят в пути, чтобы только услышать несколько слов и получить благословение… А я могу видеть его, когда только захочу, и беседовать подолгу!..»
Он нашел старца сидящим на поваленном дереве возле кельи. Поприветствовав друг друга, они сели, и Евстратий сказал, что получил письмо от Феофана Начертанного: исповедник писал, что его брат Феодор совсем плох и, скорее всего, не переживет грядущей зимы. Палестинцы уже три года содержались в заключении в Апамее Вифинской, куда были высланы из Константинополя после взятия арабами Амория.
– Отец Феофан, кажется, немного унывает, – сказал Евстратий. – Да и немудрено! Я и сам иной раз падаю духом, когда думаю, сколько лет уже длится эта зима ереси, а весны всё нет и нет… Подумать только, как упрям император! Сколько на него обрушилось несчастий, а он так и не вразумился! Хотя, говорят, и августа, и многие ее родственники тайно чтят иконы… Сколько бед может быть из-за одного человека, если он облечен в пурпур!
– Насколько можно судить из того, что пишут наши братья из столицы, тут дело даже не в упрямстве императора, а в его излишнем доверии к бывшему учителю, – сказал Иоанникий. – Если бы не нечестивый Ианний, государь, быть может, уже давно раскаялся бы в своей ереси, – старец помолчал немного и взглянул на Евстратия. – Но не скорби, отче! Еще немного, и ереси силою Христовой придет конец: император умрет, и злочестивый Иоанн лишится престола, а вместо него взойдет муж, испытанный скорбями и сохранивший веру во всех испытаниях. И тогда воссияет православие!
Бледное лицо старца точно светилось изнутри, и Евстратий, вздрогнув, подумал: «Неужто Бог открыл ему?..»
– Да, отче, истинно так! – будто отвечая на его мысли, продолжал Иоанникий. – Верь, что избавление наше приближается!
– А кто же тогда… удостоится патриаршества? – несмело спросил игумен.
Старец покачал головой, но Евстратий умоляюще сложил руки и воскликнул:
– Скажи, отче, прошу тебя! Ведь ты знаешь!
– Обещай, Евстратий, что ты никому не расскажешь этого, пока не сбудутся мои слова, – тихо сказал Иоанникий.
– Клянусь, я никому не скажу!
– Богом определен к этому муж, славный делом, познаниями и убеждением духовным – игумен Мефодий.
– Тот, что был заключен в пещере на острове Святого Андрея, а теперь в Городе?
– Да. Он от юности бежал мира и прелестей его, много пострадал и до сих пор страждет за икону Христову, он ни разу не пошел на уступки нечестивым. Он и будет судом Божиим избран в архиереи Царицы городов!
9. Последняя встреча
Не забывай! Пусть между нами – как до облаков на небе будет, – всё ж – до новой встречи.
(«Исэ Моногатари»)
Осенью болезнь снова приковала императора к постели. На этот раз приступ был не острым, но затяжным, и ожидаемого облегчения не наступило – напротив, начались боли в печени, и врачи, ощупывая ее, обнаружили опухоль, а это означало, что дело идет к неизбежной и скорой развязке. Узнав об этом, Феофил велел подготовить ему отчет по состоянию казны и, призвав к себе августу, патриарха, логофетов, магистров и протоасикрита – совещание пришлось проводить прямо в покоях василевса, – обсудил с ними положение дел и отдал распоряжения на случай своей смерти. Несмотря на то, что военные походы и строительство забирали много денег, казна оказалась в цветущем состоянии: помимо больших сумм серебра в монетах и слитках, император оставлял в распоряжении жены и сына девятьсот семьдесят кентинариев чеканного золота. Была почти закончена и последняя предпринятая василевсом постройка – огромная, великолепно отделанная странноприимница, возведенная по его приказу на месте бывшего блудилищного дома, чьих обитательниц император разогнал. Феофил велел выплатить вознаграждение всем архитекторам и рабочим, потрудившимся в последние годы над возведением дворцов и других построек в Городе и окрестностях, а также раздать много денег константинопольским беднякам. Вопрос о помолвке Феклы с юным сыном Лотаря, короля франков, пока так и не удалось решить, но теперь император велел прервать начатые переговоры: по его завещанию, ни одна из дочерей не должна была выходить замуж до тех пор, пока Михаил не достигнет совершеннолетия и не вступит в брак. «Я поступаю с ними жестоко, – подумал он, – но ничего не поделаешь! История показывает, что даже самые лучшие люди способны потерять голову, если их поманить порфирой… Нужно обезопасить сына заранее!»
В случае смерти императора регентами при малолетнем наследнике оставались августа, ее дядя Мануил, Варда и Феоктист. Феофил колебался, прежде чем включить логофета в регентство, но в конце концов утвердился в этом выборе: патрикий, может быть, как никто другой, знал все подводные течения придворной жизни, обладал большой гибкостью, умел разбираться в интригах и направлять возникающие слухи в нужное русло – такой помощник должен был пригодиться Феодоре. «Она всё же слишком простодушна для единоличного управления, – печально думал император. – Как-то она справится?.. Господи, Ты Сам помоги ей, больше мне некому поручить ее!»
Отдельную тревогу возбуждали церковные дела. Императору было известно, что приступы его болезни в последнее время пробудили надежды иконопочитателей, что по Вифинии уже ходят слухи о том, будто Иоанникий предрек скорое свержение с престола патриарха и конец иконоборчества, что названы разные кандидаты на замену «нечестивому Ианнию» – кто говорил о ком-то из студитов, кто об игумене Мефодии, кто об иных исповедниках… Феофила беспокоил даже не столько возможный возврат иконопочитания, сколько изгнание Иоанна с патриаршества и замена его каким-нибудь «твердолобым монахом»: василевс понимал, что это, во-первых, приведет к изменению общего духа и в патриархии, и при дворе, а во-вторых, лишит его сына возможности в будущем учиться у Грамматика – ничего хорошего в этом Феофил не видел. Он даже взял с жены и других членов регентства обещание ни в каком случае не лишать Иоанна престола, и все пообещали ему это – вроде бы совершенно искренне. Феоктист даже возмутился:
– Да кому же придет в голову прогонять такого ученого и благочестивого мужа, украшение кафедры и всей вселенной!
Мануил выразился более осторожно:
– Разумеется, августейший, если только не возникнет каких-нибудь… гм… непредвиденных обстоятельств…
Феодора повернулась к дяде:
– Что ты имеешь в виду?
– Э… Всякое может быть, государыня… Всем нам известна склонность в народе… по крайней мере, в определенной его части, к почитанию икон…
Императрица нахмурилась, но ничего не сказала. Варда пожал плечами:
– Конечно, какие-то выступления иконопоклонников могут произойти, но… в любом случае мы не должны идти на поводу у толпы! Вообще же мне представляется, что главным в наших действиях должно быть одно: сохранить мир в государстве и обеспечить августейшему Михаилу безмятежное возрастание, наилучшее воспитание и спокойное и долгое царствование!
– Да, – сказал император. – И я прошу всех вас сделать всё возможное для этого.
– Мы сделаем всё, что можем, августейший! – с жаром сказал Мануил. – Обещаем и клянемся!
– Хорошо, благодарю вас, – Феофил на несколько мгновений закрыл глаза, он был утомлен разговором. – Теперь оставьте меня.
Все простились и ушли, одна Феодора осталась и села у изголовья мужа.
– Почему ты заговорил об изгнании Иоанна? – спросила она.
– Известно, что иконопоклонники уже делят кафедру, – усмехнулся Феофил. – Они предполагают, что после моей смерти смогут отыграться.
Императрица помолчала и тихо проговорила:
– Отыграться на патриархе я не позволю им в любом случае!
– Я знаю, – император улыбнулся. – Но твои будущие помощники должны были узнать мою волю.
После Рождества Феофилу стало хуже. Казалось, почти вся жизнь вытекла из него вместе с содержимым желудка и скоро душе уже не в чем будет держаться. Все, кто еще не так давно видел его цветущим и полным сил, сейчас без слез не могли смотреть на то, что осталось от некогда красивого и крепкого тела… К Богоявлению император перебрался из построенного им триклина Кариан, где жил от зимнего солнцеворота до весеннего равноденствия, во дворец Магнавры и на самый праздник, причастившись из рук патриарха и немного отдохнув, приказал нести себя прямо на золоченом ложе в тронный зал. Там его уже ожидал весь Синклит, военачальники и прочие придворные – император хотел произнести перед ними прощальную речь. Кувикуларии помогли ему приподняться и сесть на ложе, и он, часто останавливаясь и переводя дыхание, сказал:
– Кто-нибудь другой в такой болезни и буре с плачем представил бы и цветущий возраст, и то великое счастье, из-за которых зависть, издавна страшно на меня нападавшая, ныне смотрит на меня с вожделением и уносит от людей. Я же, предвидя вдовство моей жены, несчастье и сиротство сына, утрату для моих служителей, воспитанных в прекрасных нравах и верованиях, для Синклита и моих советников, рыдаю, о вы, предстоящие здесь ныне, и горько плачу, покидая вас, привыкших ко мне и кротких, отходя к неведомой мне жизни и совсем не зная, что мне встретится там вместо оставленной здесь славы. Но вспоминайте мои слова, которых вы отныне больше не услышите. Если они и бывали суровы, то ради общего благоприличия и пользы. Будьте же благорасположены после моей смерти к моему сыну и жене, твердо помня, что, каков каждый будет к своему ближнему, таковое и сам встретит в будущей жизни.
К концу речи присутствовавшие вытирали слезы, а иные плакали в голос, никого не стыдясь. Когда император умолк и опять опустился на ложе, все наперебой стали уверять его в преданности и обещали верно служить маленькому Михаилу и его матери. Когда все разошлись, императора унесли в его покои. Императрица, не в силах более сдерживаться, с плачем покинула залу, поддерживаемая кувикулариями, сделав знак Варде, чтобы он пока подежурил в покоях василевса. Вновь оказавшись в своей спальне, Феофил попросил пить, и Варда поднес ему питье в серебряной чаше. Император отпил немного и снова уронил голову на подушку.
– Варда, как тебе моя речь? – тихо спросил он. – Как будто бы неплохо получилось, а? – он слабо улыбнулся. – Всех разжалобил… Теперь уже что Бог даст, а я сделал всё, что от меня зависело!
– Да, государь… Ох, августейший!
– Охай, не охай, а умирать всем приходится… Сократ говорил, что большинство правителей бездарны и невежественны, поскольку им некогда заниматься философией, а потому нет существенной разницы между пастухом овец и «пастырем народов»: «пастырь, учредивший свой загон на холме за прочной стеной, по недостатку досуга неизбежно бывает ничуть не менее дик и необразован, чем те пастухи»… Я старался по мере сил жить так, чтобы обо мне нельзя было сказать такого… А теперь, как сказал Октавиан Август, «коль хорошо сыграли мы, похлопайте и проводите добрым нас напутствием»… Хорошо я сыграл комедию жизни, Варда, как ты думаешь?
– О, государь!
– Я тоже думаю, что неплохо…
«И в ней еще осталась не доигранной одна сцена, – подумал он и закрыл глаза. – Хоть и с оговорками, я, слава Богу, могу сказать на прощание Феодоре: “Помни, как жили мы вместе!” – подумал он. – Но мне есть, и кому сказать: “Живи и прощай!”…»
Когда императрица пришла и села у изголовья, а Варда ушел, Феофил сделал знак кувикулариям тоже выйти, взглянул на жену и тихо сказал:
– Я должен повидаться с Кассией.
Императрица чуть вздрогнула.
– Что ж, вели позвать ее сюда. Разве я могу запретить тебе? – она улыбнулась.
– Не можешь, но я хочу, чтобы ты не была против.
– Я не против, Феофил, – она посмотрела в глаза мужу. – Ты имеешь право на эту встречу. И… она тоже.
– Не могу простить себе, что так поздно понял, как сильно ты любишь меня, моя августа.
Едва высохшие слезы опять заблестели в ее глазах.
– Не обвиняй себя, не надо! Всё было так, как и должно было быть, оно не могло быть иначе, ведь и я тебя тоже не понимала!
– Всё же я мог бы сделать твою жизнь гораздо счастливее… А сейчас уже поздно.
– Нет!.. Не говори так! И потом, ведь не всё кончается с этой жизнью!
– Да, но там будет уже другое… А здесь я мог бы дать тебе больше.
Она взяла его за руку и тихо сказала, глядя ему в глаза:
– Феофил, послушай. Ты помог мне так много понять в жизни, изменить себя и свои взгляды на мир, стать такой, какой я стала и какой ты меня любишь. Я не хочу знать, что могло бы быть, если бы дело обернулось иначе, и думать об этом не хочу. И главное, я не хочу, чтобы ты об этом теперь думал и из-за этого терзался! Ты сделал меня самой счастливой женщиной на свете, и если б можно было всё вернуть назад, я бы не выбрала ничего другого! Ты мне веришь?
– Верю, – он сжал ее руку. – Не плачь, любовь моя.
На другой день, ближе к полудню, во врата маленькой обители в долине Ликоса постучали. Привратница отворила окошечко и увидела двух всадников в одежде кандидатов и колесницу, запряженную парой белых мулов в пурпурной сбруе, отделанной золотом и жемчугом.
– Здравствуй, матушка! – сказал один из всадников. – Здесь игуменьей госпожа Кассия?
– Да, господин.
– Позови ее, мы к ней из дворца с известием.
– Хорошо, господа, сейчас.
Окошечко затворилось, а спустя некоторое время всадники услышали, как отодвигается засов, одна из створок ворот открылась, и на пороге показалась игуменья.
– Здравствуйте, господа. Чем могу служить?
– Августейший император… – начал один из кандидатов и запнулся: красота монахини поразила его.
Его спутник строго повел на него глазами и сказал:
– Государь просит твое преподобие срочно прибыть во дворец и прислал за тобой, – он качнул головой в сторону колесницы.
Кассия слегка побледнела и, помолчав несколько мгновений, ответила:
– Да, я еду. Только подождите немного, мне нужно взять с собой одну из сестер.
Вскоре она снова вышла в сопровождении другой монахини, в чьем лице странным образом проскальзывало явственное, но трудноопределимое сходство с игуменьей. Когда они обе сели в повозку и задернули занавески на окнах, первый кандидат тихо проговорил:
– Неужели тут все монашки такие красавицы? Ну, дела!
– Тебе, Никита, только и дела, что на женские лица заглядываться! – сердито пробурчал его спутник.
Всадники последовали впереди колесницы по оживленной Средней, окриками отгоняя с дороги прохожих и нищих. Кассия откинулась вглубь повозки и закрыла глаза. Она знала, что император при смерти – об этом говорил уже весь Город, – и понимала, зачем он зовет ее: хочет проститься. Евфимия сидела рядом, не шевелясь и почти не дыша. Мысли ее путались, она безуспешно пыталась сосредоточиться на молитве: воспоминания роем окружили ее. Священный дворец и краткое пребывание в услужении у императрицы… Та ночь… Монастырь и первая исповедь игуменье… Евфимия украдкой взглянула на Кассию. А что она должна сейчас чувствовать! Трудно и представить… «Господи! – спохватилась Евфимия. – О чем я думаю! Матушка, верно, молится, а я… вечно я сужу о других по себе! Господи, помилуй меня, грешную!..»
Они проехали через Августеон мимо Медных врат дворца к восточному портику, и кандидаты провели их в Магнавру, а там замысловатыми переходами – прямо к покоям василевса; по дороге они никого не видели, кроме стражи. Перед дверью в покои они остановились, и Никита пошел доложить, почти сразу вышел и пригласил обеих монахинь пройти внутрь. Они вошли в просторную приемную, где никого не было, только стража у дверей, а у высокого окна – стройная женщина в белой тунике, затканной золотыми орлами. Две золотистых расшитых жемчугом косынки со скрученными жгутом концами покрывали ее голову наподобие шапочки, одна темная коса струилась по спине, другая была перекинута на грудь. Услышав шаги, женщина обернулась. Евфимия тихо ахнула и склонилась в земном поклоне, то же сделала и Кассия, а поднявшись, сказала:
– На многие лета да продлит Бог ваше царство!
Феодора окинула игуменью быстрым взглядом.
– Здравствуй, мать, – сказала она. – Проходи. Он ждет тебя, – августа кивнула в сторону двери, завешенной тяжелым пурпурным шелком с узором из золотых лоз.
Стражник отодвинул край завесы, и Кассия вошла в спальню, где сквозь аромат постоянно курившихся тут благовоний неумолимо пробивался тяжелый запах болезни. Император, приподнявшись на локте, смотрел, как игуменья подходит к его ложу.
Здравствуй, государь! – тихо сказал она, приблизившись, и поклонилась ему.
Феофил изменился за девять лет, прошедшие с того дня, как он переступил порог Кассииной кельи – страдания, пережитые им в последние годы, оставили свой след: на лбу пролегли морщины, черные волосы подернулись сединой. Но сильнее всего изменила императора болезнь: он побледнел, страшно похудел, и было видно, что в этом некогда здоровом и красивом теле почти не осталось жизни. Только глаза были всё те же, темные, глубокие; сейчас, казалось, только они и жили на этом лице, уже тронутом печатью смерти.
– Здравствуй, Кассия, – тихо сказал император и снова опустился на подушку, положив руку на грудь поверх одеяла. – Видишь, всё же мы с тобой еще раз встретились под небесами. А вот на небесах вряд ли встретимся, – он улыбнулся с печальной иронией. – Ведь у нас разная вера.
Губы Кассии дрогнули, но она тут же справилась с собой и тихо ответила:
– Ты всё-таки еще жив, государь. Еще есть время…
– Надеешься на пример благоразумного разбойника? Вряд ли, Кассия… Если уж я, когда мог размышлять об этом, не убедился вашими доводами… А теперь я в любой момент могу потерять сознание, и всё кончено!
Владеть собой не удавалось. Все ее страхи за него, вся горечь пережитых дилемм, вся боль, сжавшая ее сердце, когда она увидела умирающего императора, все непонятности, вся любовь и, быть может, отзвуки прежней страсти вылились в одно тихое слово:
– Нет!
Он понимал, что с ней происходит – он видел это, словно смотрел прямо в ее душу: связь между ними существовала по-прежнему, но уже не было времени размышлять о ее природе, хотя он ощущал, что страсть давно ушла, и если что-то есть, то это что-то другого происхождения. Он видел, что Кассии больно, но и в эту последнюю встречу ему не хотелось притворяться и «подбирать слова», даже из жалости к ней. «Я не пожалел ее в ту встречу, не жалею и теперь, – подумал он, – хотя так любил ее… А Феодору я жалел не раз… и думал, что совсем ее не люблю! Как много времени нужно, чтобы понять себя! Целая жизнь…»
Что он чувствовал сейчас, глядя на Кассию? Пожалуй, более всего – сострадание и печаль. Горечь?.. Нет, горечи он давно не чувствовал. Он прожил свою жизнь – и, хотя она не во всем сложилась так, как ему хотелось бы, всё же это была его жизнь, и он мог сказать, что, несмотря на некоторые преткновения, он сыграл свою роль достойно, – теперь делом высшего Судии было вынести окончательный приговор. Феофил не знал, каков он будет, а Кассия боялась… но что она могла сделать? Что вообще может быть у человека против неизвестности, кроме этого крика души: «Нет!»?.. Молитва? Но ответ на эту молитву тоже неизвестен…
– Да, Кассия, – сказал он, – да. Жизнь жестока… и сами мы жестоки. Вот даже сейчас… Казалось бы, мы с тобой прощаемся навсегда, а я всё еще тебя мучаю…
– Нет! Ты… ты меня не мучаешь, государь… Я всё равно верю, что…
– Что встретимся? Даже несмотря на разную веру? – он усмехнулся одним движением губ. – Ладно, я знаю, ты молишься за меня, и этого довольно. Да будет воля Божия! Лучше теперь о другом, – он помолчал. – Прости меня, Кассия! Я тогда так искусил тебя…
– Ничего, мне это было полезно, государь. Я была слишком гордой… И я сама поддалась… Прости и ты меня!
– Могла ли ты не поддаться? – он грустно улыбнулся. – Как там Евфимия? Я ведь знаю о ней… Вот перед кем я виноват больше всего, наверное!
– Слава Богу, она… нашла свой путь. Не скорби о ней, государь! – Кассия поколебалась несколько мгновений. – Она тоже здесь, в соседней комнате, я взяла ее с собой.
– Вот как? – на лице императора отразилось волнение. – Это очень кстати… Нельзя ли позвать ее? Я хотел бы сказать ей несколько слов.
– Да, государь, конечно!
Евфимия робко вошла в императорскую спальню и остановилась у двери. Кассия чуть подтолкнула ее в спину, а сама осталась стоять у входа. Евфимия приблизилась к ложу василевса и упала в земном поклоне.
– Здравствуй, государь! – сказала она, поднявшись.
– Здравствуй, Евфимия. Подойди ближе, – она подошла к самому изголовью, и император продолжал очень тихо, чтобы слышала только девушка. – Хорошо, что ты оказалась здесь. Я так виноват перед тобой! Прости меня.
– Я… – от волнения Евфимия не сразу смогла ответить. – Я никогда… не сердилась, государь! Я сама была виновата во всем! Ведь ты тогда… честно предложил мне выбрать…
– Да разве ты могла бы выбрать иначе? – прошептал император. – Ты так невинна, что даже не понимаешь, с каким жестоким расчетом я поступил тогда с тобой! Ладно, не будем сейчас об этом. Я рад, что мы повидались… и что ты не держишь зла на меня… Мать Кассия сказала, что ты нашла свой путь. Это правда? Ты счастлива?
– Да, государь. Очень! Сначала мне было тяжело… но матушка Кассия так помогла мне! Конечно, если б не она, не знаю, как бы я… справилась…
– Да, матушка у вас хорошая, лучше и пожелать нельзя, – улыбнулся Феофил. – Что ж, Евфимия, да поможет тебе Бог! Молись за меня… И прощай.
У монахини задрожали губы, она опустила глаза, потом вновь взглянула на василевса и прошептала:
– Я… не могу сказать тебе «прощай», государь! Я могу только сказать: до встречи!
Тут она не выдержала, склонилась, на миг прижалась губами к лежавшей поверх одеяла руке Феофила и, повернувшись, почти бегом вышла из покоя, низко опустив голову.
– Береги эту девочку, Кассия, – сказал император, когда игуменья снова подошла. – Ей всё еще нелегко… До чего же невыносимо, когда за твои ошибки приходится платить другим! – вырвалось у него.
– Да, невыносимо, – ответила Кассия, бледнея. – И я не меньше виновата перед ней, чем ты, государь. Но я сделаю для нее всё возможное!
– Сделай, прошу тебя. А невозможное… пусть сделает Бог!
– Да, – кивнула игуменья, и в глазах ее вновь заблестели слезы.
Император несколько мгновений молча смотрел на нее.
– Я должен рассказать тебе одну вещь, Кассия… Тогда, в твоей келье… Знаешь, почему я отпустил тебя? Ты сказала потом, что я лучше тебя… Думаешь, я удержался сам? Нет. Это Богоматерь удержала меня!
– Богоматерь?
– Да. Меня уже ничто не могло сдержать… Но случайно я взглянул на ту икону у тебя в келье… И это было… не знаю, что… Как ожог… Я ощутил, что Она – тут… Она, Богоматерь! Что Она видит всё это! И тогда я отпустил тебя. Так Она меня удержала…
Игуменья упала на колени, точно у нее подкосились ноги. От волнения она не могла ничего сказать. Время словно бы остановилось.
– Она удержала нас, – проговорила, наконец, Кассия. – Феофил, разве ты не понимаешь, что это значило, что это значит? Божия Матерь хранила тебя, и… Она ждет… Еще не поздно…
– Не поздно покаяться? – император усмехнулся. – Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Но я не могу смотреть на жизнь… так упрощенно! Думаешь, меня никогда не посещали сомнения? Посещали, Кассия, и я размышлял о том, за что я терпел поражения на войне… и другие скорби… Допустим – допустим! – я признал бы, что иконы достойны поклонения, что я заблуждался. Но я никогда не призна́ю – никогда, понимаешь? – что всё это время причащался «пищи демонов»… Ведь так, кажется, ваш Феодор Студит называл наше причастие? Твой духовный наставник… Ты с ним согласна, скажи-ка, Кассия? Ты тоже думаешь, что я всё это время был в общении с демонами и был причастником «трапезы бесовской»? Что мои дети и родственники, умершие вне общения с вами, попали в ад? Что Иоанн – не патриарх и не служитель Божий, а «бесоначальник» и «колдун»? Что когда он вытаскивал меня из внутренних ям и тупиков, это всё была не Божья милость, а прельщение? Впрочем, ведь ты и сама воспользовалась его духовными советами! А какие же духовные советы могут быть у человека, не причастного Духу Божию?
Пока он говорил, Кассия всё больше бледнела, а император между тем заметно разгорячился: на его щеках показался румянец, и словно какая-то сила появились в полумертвом теле.
– Я… не считаю Иоанна «бесоначальником», – тихо проговорила игуменья после небольшого молчания и поднялась с колен. – И не думаю, что ты был в общении… с бесами…
– Как же тогда ты разрешишь это противоречие? Если Иоанн, я, вообще наши единоверцы… кстати, и преосвященный Лев… твой давний друг, не так ли? Так вот, если мы всё же не оставлены Богом и причастны Духу, а твои единоверцы учат, что мы Ему не причастны, что мы богохульники и богопротивники… то логически здесь может быть одно из двух: или мы не еретики, а значит, каяться мне не в чем; или ты сама не знаешь, что говоришь, и не веришь в то, что проповедуешь. Как же ты хочешь убедить меня в том, в чем ты сама до сих пор не разобралась?
Кассия опустила взгляд, на ее лице отразилось страдание. Император смотрел на нее и думал: «Вот опять, как и двадцать лет назад, я ставлю ее перед неразрешимым выбором! Даже теперь более неразрешимым, чем тогда…» Он вспомнил свой разговор с Грамматиком, когда Иоанн сказал, что, если б на выборе невесты между ними стояли одни догматы, без призвания к монашеству, Кассия выбрала бы иначе… И вот, сейчас она, по сути, должна сделать именно такой выбор: или догматы – или вечное расставание!
«Не сможешь ты отправить меня в ад ради своих догматов! – думал василевс, глядя на ту, которую так долго и отчаянно любил. – И в этом – вся наша жизнь!.. Неразрешимая борьба… Единое и иное… И нет ни иного без единого, ни единого без иного… Столько лет мы с Феодорой жили, как противоборствующие противоположности, а на самом деле просто не знали о своем единстве… Что ж, для симметрии было бы логично, если б у меня с Кассией было кажущееся единство двоих, на самом деле просто не знавших о своей противоположности… Только противоположности здесь нет, а в жизни не всегда есть логика и симметрия… по крайней мере, понятные нам…»
Внезапно он ощутил невыносимую усталость, которая враз придавила его к постели и отняла желание обсуждать дальше все эти неразрешимые противоречия. «В конце концов, какая разница? – вяло подумал он. – Я уже труп… На точку зрения студитов или Мефодия я не встану никогда, так что́ тут еще обсуждать? Зачем я ее терзаю?.. Неужели из мести за годы, потраченные на “бесполезный” платонизм?!..»
Кассия подняла на него глаза.
– Государь, вспомни историю сотника Корнилия. Он был так благочестив, что Господь даже послал к нему Своего ангела! Но хотя Бог слышал его молитвы, ангел всё-таки велел Корнилию пригласить Петра, чтобы услышать спасительное слово. Думаю, так и с тобой, и с твоими единоверцами… Ведь мы не можем сказать, что если б Корнилий умер, например, не дождавшись прихода Петра, он не спасся бы! И даже если бы он умер до того, как к нему был послан ангел… Он жил благочестиво в той вере, какую знал, и если б у него не было возможности узнать о том, чего ему не хватало, разве осудили бы его за это? Но есть разница между человеком, который не пренебрегал верой, а просто не мог узнать или не успел задуматься о каких-то догматах, и человеком, который знал и задумывался… И в последнем случае тоже есть много разных… оттенков… Разве мы можем тут рассудить?! Это дело Божие, а не наше! Я хочу убедить тебя не потому, что думаю, будто все твои единоверцы непременно погибли или погибнут – я этого не знаю! – а потому, что мне хочется, чтобы ты принял истину в ее полноте, государь! Разве это плохое желание? И конечно… я боюсь за твою вечную участь – но опять же именно потому, что не знаю, какой она может быть! Разве ты не простишь мне такой страх? – она улыбнулась сквозь слезы, снова застилавшие ей глаза.
– Что ж, достойный ответ! – сказал император с улыбкой. – Хотел бы я послушать, как ты обсуждаешь эти вопросы с нашими двумя философами… Но увы! Впрочем, ладно… Ты говоришь, что боишься, потому что не знаешь. Я тоже не знаю, Кассия. Но давай на этом остановимся. Как бы там ни было, я благодарен судьбе… за то, что ты была в моей жизни. Благодаря этому я многое понял… И ты тоже, я знаю. Молись за меня, и пусть Бог творит Свой суд, как знает и хочет… А мы с тобой просто скажем друг другу: «До встречи!» Ты согласна? – он опять чуть улыбнулся. – Не плачь. До встречи, Кассия!
– До встречи, государь! – прошептала она и поклонилась ему.
Они еще несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Наконец, губы Кассии дрогнули, и она, повернувшись, быстро пошла к двери.
Когда она вышла из спальни императора в соседнюю комнату, августа у окна тихо разговаривала с Евфимией. Кассия подошла к ним. Феодора взглянула на нее с каким-то неопределенным выражением и спросила:
– Ну что, обратила?
– Нет, августейшая. Но… я надеюсь, что он… будет думать…
– Если у него будет время, – мрачно сказала императрица. – А времени у него мало, – голос ее задрожал, и она умолкла.
– Господи! – вздохнула Евфимия.
– Нужно молиться, – тихо проговорила Кассия.
– Что ж, молитесь, вы на то и монахини, – Феодора усмехнулась. – А у меня уже… что-то сил нет… – она вдруг в упор посмотрела на игуменью. – А что, кстати, по-твоему, наши сын и дочь, мои свекровь со свекром и другие, кого перед смертью никто не обратил, попали в ад?
Кассия ужасно побледнела и еле слышно ответила:
– Не знаю, государыня.
– А кто знает? – снова усмехнулась императрица. – Впрочем, довольно. Ступайте, – и, не дожидаясь ни поклонов, ни слов прощания, она скрылась за дверью в императорскую спальню.
Когда Кассия ушла, Феофил глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Не сказал ни “живи”, ни “прощай”, как собирался, а сказал “молись” и “до встречи”, – подумал он. – Впрочем, жизнь монаха, по большому счету, и должна быть непрерывной молитвой… К тому же я не Октавиан Август! И Феодоре я тоже скажу не “помни, как жили мы вместе”, а…» Он услышал рядом шорох и открыл глаза. Жена села у его изголовья и смотрела с легким беспокойством.
– Как ты? – спросила она.
– В порядке, – он улыбнулся. – Не говори ничего сейчас. Просто посиди со мной.
Феодора встала, обошла кровать, легла рядом с Феофилом и осторожно обняла его. Он повернул голову, поцеловал жену в лоб и прошептал:
– Да, моя августа. Я люблю тебя.
…Через два дня император послал к патриарху сказать, что желает исповедаться и причаститься.
– Кассия была здесь, – сказал Феофил под конец исповеди. – Я пригласил ее, чтобы проститься… И теперь думаю, что я мстителен, как женщина: пытался поставить ее перед выбором, предпочесть ли их догмат и тем самым отправить меня в ад или признать, что она сама не знает, как верует, – император усмехнулся. – Впрочем, она – философ, нашлась с ответом!
– Здесь не мстительность, государь, а желание ощутить власть над другим. Этому бывает очень трудно противиться.
Император помолчал, задумавшись.
– Может, ты и прав, – проговорил он, наконец. – Но теперь уже не время рассуждать об этом. Меня больше занимает другое… Я не знаю, какая вера истиннее, святейший. И, если честно, мне страшно умирать с этим сомнением. Кассия уговаривала меня принять ее веру… А я ведь не уговаривал ее принять мою!.. И вот, лежу и думаю: отчего во мне сомнение? Оттого, что мне хочется встретиться с ней там? Раньше я действительно часто думал, что если бы там встретиться, то можно будет, так сказать, обо всем договорить… А сейчас, знаешь ли, кажется, что вроде уже и договаривать не о чем. Жизнь прошла, у каждого своя, и в общем, понятно, почему всё так вышло… Меня гораздо больше волнует, что будет без меня с сыном, справится ли Феодора… Всё-таки власть – такая насмешка, Иоанн! Ты всю жизнь стремишься к чему-то, стараешься добиться разных целей, устроить всё наилучшим образом… А после приходит… какой-нибудь тиран Фока!.. Конечно, слава Богу, сейчас на горизонте не видно такой опасности, но… Так много было желаний, а теперь, кажется, одного бы просил у Бога: чтобы не разорили того, что я сделал, чтобы сын вырос и смог преумножить… Об этом я молюсь много, а вот о себе… Как-то кажется: что стяжал в душе, то и есть, остается лишь предаться на милость Божию… всё равно уже ничего не изменить… Впрочем, жену и детей я препоручил Богу, а вот как Бог посмотрит на меня самого?.. Мать, когда умирала, сказала мне, что главное в жизни – при конце ее придти к ощущению, которое Христос выразил словами: «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем»… И вот, я могу сказать, что относительно всего, что было в моей жизни, у меня вопросов действительно не осталось ни о чем, кроме одного – веры! Ответа у меня нет, и боюсь, уже нет времени, чтобы найти этот ответ…
– Думаю, время еще есть, августейший. Пока ты жив.
– Ты в этом уверен?.. А ведь Кассия сказала мне то же самое… Знаешь, Иоанн, – император усмехнулся, – однажды я подумал, что вы с ней чем-то похожи… Философы! И именно потому она не могла бы стать хорошей женой – не только для меня, а вообще. Она создана для той жизни, которую избрала… Но мне всё-таки хотелось бы там оказаться вместе с ней… так же как вместе с Феодорой, с тобой, со Львом, с моей матерью, с отцом, с детьми… Только возможно ли это? Кто знает?.. Я думал, что скажу Кассии «прощай», а сказал ей «до встречи», но это всё же пожелание, а не уверенность… – он вздохнул и улыбнулся. – Тебе хорошо, философ: в свое время ты ведь, верно, с чистым сердцем сказал моей матери «до встречи», а не «прощай»?
– Да. Но полной уверенности на этот счет мы, пока живем здесь, иметь всё равно не можем. К тому же я должен сказать, что твоя мать, государь, до конца жизни держала в своей молельне несколько икон.
– Неужели?.. Да, женщины любят… играть в «куколки»… – Феофил помолчал немного. – Благодарю тебя, Иоанн, за всё! Я так многим тебе обязан, что это не выразить словами… Мне бы очень хотелось, чтобы ты воспитал Михаила… если это будет возможно.
– Да, если будет возможно. А если нет, я всегда буду молиться за него.
– Благодарю, владыка, – император пристально взглянул на патриарха. – Но в ближайшее время ты, наверное, будешь молиться, чтобы я перед смертью не отпал в иконопоклонство?
– Я буду молиться, чтобы ты не умер в сомнениях, государь.
10. Снег
Люди должны умирать. И в конечном итоге те, кто умирает, делают это не потому, что случилось то или это, а потому что люди должны умирать.
(Дина Иванова)
Кассия шла в храм к вечерне, ветер нес ей в лицо мокрый снег, хлопья тут же таяли, и она не знала, что течет по ее щекам – вода или слезы. Впервые за много месяцев в ее душе поднялось такое смятение. «Разве я не молилась? – думала она. – А теперь он умрет… Он сказал: “До встречи”, – а будет ли она? Будет ли?.. Почему так страшно, если я сама призналась, что не думаю, будто он был в общении с бесами? Или потому и страшно, что я не знаю… На самом деле я ничего, ничего не знаю!.. Где грань? Ведь она есть, ее не может не быть! Но провести ее так, как проводят иные… даже так, как проводил отец Феодор… нет, я не могу так! А как надо? Кто знает? Знает ли кто-нибудь?.. Можно ли это знать?.. Конечно, до конца знает только Бог, а мы должны доверять Ему… Значит, я не доверяю, если так страшно? Невыносимо!.. Неужели он погибнет?.. Господи! Нет, этого не может быть! Не может быть… Нет!»
«И се, даровал тебе Бог всех плывущих с тобою»… Значит, это был самообман?.. Нет, просто она недостойна, чтобы ее молитва была услышана…
«Господи, не ради моих молитв, но по единой милости Твоей!..»
Снег повисал на ресницах, таял на губах. Мокрый и холодный – такой же холодный, как страх, сжимавший ее сердце с того самого момента, как она простилась с императором…
Игуменья вошла в нартекс и вытерла ноги о шерстяной коврик. Она пришла чуть раньше: в било ударили только что, и сестра Марфа, возжигавшая лампады, еще не обошла храм. Здесь было теплее, чем на улице, но не намного. Какая-то сестра молилась, стоя на коленях слева, почти под самым окном. Евфимия! «Где двое или трое собраны во имя Мое…» Неужели Бог не услышит? Ведь не только они двое молятся за государя, а еще множество людей!.. Евфимия подняла голову и посмотрела на игуменью, в ее глазах стоял тот же вопрос: неужели не услышит?.. «Это жестоко! – мелькнула у Кассии мысль. – Хотя в этом виноваты мы сами, должно быть… У нас мало веры!..» Но надо было взять себя в руки: в храм начинали собираться сестры. Наступала память святителей Александрийских Афанасия и Кирилла, которые всю жизнь боролись за православие, обличали еретиков и увещевали не общаться с ними… А накануне была память преподобного Антония Великого… Антония, называвшего современную ему арианскую ересь бесовским учением и завещавшего перед смертью не иметь никакого общения с еретиками… Антония, которому Бог на его вопросы по поводу странностей промысла о разных людях сказал только: «Себе внимай!»
«Я всё равно не смогу найти никаких ответов, по крайней мере, сейчас, – подумала Кассия. – Сейчас можно только молиться. Больше нам ничего не осталось!» – и она пошла на свое место, чтобы подать возглас к началу вечерни. Служба началась, сестры запели псалом, но игуменья не слушала. «Господи, помиловавший разбойника, в одиннадцатый час пришедшего к Тебе! – молилась она. – Не попусти погибнуть рабу Твоему! Приведи его на покаяние, хоть в последний час…»
Снег покрывал тонким слоем улицы и крыши и тут же таял, стекая слезами с мокрой черепицы…
«Господи! – молился патриарх в алтаре храма Святой Ирины, где тоже шла вечерня. – Разреши его сомнения и прими его в царство Твое вечное!»
На Город упала тьма, похолодало, ветер усилился. Снег стал колючим, хлестал в оконные стекла, острой крупой сыпал на крыши, забивал водостоки.
– Господи! – шептала при тусклом мерцании светильника вдова, которую император защитил от несправедливости препозита Никифора, – Государь умирает… Будь же милостив к нему, как и он был милостив к моему смирению!..
Снег залетал в портики, загоняя вглубь бездомных и нищих, заставляя их жаться друг к другу, делиться последними корками хлеба и пускать по кругу потертый мех с дешевым вином, по вкусу напоминавшим уксус.
– Господи, Иисусе Христе! – причитали нищие в портике у Влахернской церкви. – Беда-то какая с государем! Слышно, совсем плох, помирает! Горе-то какое, лишаемся мы кормильца! Сколько мы от него добра видели, кого только он не одаривал медяками, кому только не подавал! А уж как справедлив был, скольких защитил от судей неправедных, от притеснителей злых! Господи милостивый, прими его в Свое царство, как обещал милостивым!..
После полуночи ветер утих, снег пошел легкими хлопьями, кружил над Городом, пушисто ложился на обледенелые улицы и крыши…
Феофилу за последние несколько дней резко стало хуже, боли в печени усилились так, что он порой уже не мог сдержать стонов, а иногда начинал задыхаться; есть он больше не мог, только выпивал немного травяного настоя. Все понимали, что это конец. Однако император был в сознании, лишь иногда бредил. Феодора почти не покидала его спальной, сидела рядом и во время приступов держала его за руку, словно надеясь таким образом взять часть боли на себя.
Приводили детей, и Феофил благословил всех, клал руку на голову каждой дочери и молился про себя. Девочки все были притихшие и печальные, даже Пульхерия теперь догадывалась о том, что происходит. Сына император попросил поднести к нему, поцеловал в лоб, благословил, а когда мальчика снова поставили на пол у кровати, некоторое время молча смотрел на него с грустной улыбкой. Михаил глядел на него серьезно и чуть вопросительно.
– Папа, а почему ты всё лежишь?
– Устал от жизни, – ответил император. – Но скоро отдохну… может быть.
Патриарх приходил после Богоявления еще дважды и причащал умирающего. С последним приобщением Феофилу как будто полегчало, он стал больше и покойнее спать, и Феодора тоже смогла немного отдохнуть – засыпала, сидя в кресле у изголовья мужа. Впрочем, сон ее был беспокоен: она боялась, что Феофил может уйти без нее.
Но этим вечером она не спала, потому что император с самого утра сильно мучился, бредил, не смог даже выпить настой из трав – его вытошнило, а потом что-то странное случилось со ртом: губы стали пухнуть и к вечеру Феофил уже не мог их сомкнуть, язык тоже распух и не помещался во рту… Зрелище было ужасным; императрица велела больше никого не пускать в спальню, кроме врачей, назначенных василевсом регентов и самых приближенных кувикулариев, а патриарху послала передать, что причастить императора, по-видимому, больше не удастся. Феодора сидела, держала мужа за руку, плакала и молилась: «Господи, пощади его!»
Феофила мучили кошмары. То невиданные черные звери с горящими глазами бросались на него, то его преследовали арабы на конях, а он убегал от них, продираясь сквозь колючий кустарник, который рвал одежду и впивался иголками в тело… Он добегал до края глубокой пропасти, где клокотала огненная река, а на другой берег можно было перейти только по веревке вроде той, по какой кровельщик прошел от крыши Великой церкви к статуе Юстиниана. Феофил ступал на веревку, но, кое-как дойдя до середины, терял равновесие и падал вниз, в огненный поток… Он кричал – и приходил в себя, но не мог ухватиться за уплывавшую от него действительность и снова погружался в тот же бредовый кошмар…
К полуночи Феодору охватило отчаяние. Она уже не могла молиться, только смотрела на Феофила, разрываясь от боли. Когда он начинал метаться, стонать и вскрикивать, открывал глаза и смотрел на нее мутным взглядом, она сжимала его руку, повторяя: «Я здесь, здесь!» – но он не узнавал ее и снова уплывал в свой бред. И каждый раз она с ужасом думала, что, может быть, он уплыл навсегда и больше не вернется, что сейчас дыхание остановится и всё будет кончено…
Она мучительно пыталась понять, не совершила ли ошибки, прогнав накануне доместика схол, когда тот пришел с намерением призвать Феофила к покаянию в иконоборчестве. Впрочем, его решительность быстро улетучилась, когда августа напустилась на дядю с криком:
– Оставь его в покое! И меня! Уходи! Убирайся со своими проповедями! – казалось, еще немного, и она затопает на Мануила ногами.
Когда испуганный и растерянный доместик покинул комнату, Феодора заплакала. Феофил, открыв глаза, спросил еле слышно:
– Что… случилось? На кого… ты кричала?
В этот миг у нее мелькнула мысль заговорить с ним об иконах – но она не заговорила.
– Ничего, ничего, – ответила она. – Просто тут докучают некоторые…
– Ты… устала… Может… отдохнешь? Ты… такая бледная…
– Нет! Нет, я не оставлю тебя, я не могу! – она сжала его руку. – Как бы я хотела умереть вместе с тобой!
– Нет… Ты должна… вырастить сына… Не плачь… любовь моя.
Она сползла с кресла на пол, уткнулась лицом в край ложа и зарыдала, а потом ощутила, как рука Феофила тихонько стала гладить ее по голове. Августа затихла, а когда подняла голову, то увидела, что муж уснул. Так она и не сказала ему ничего про иконы. А надо было… Надо ли было?..
Теперь, глядя на искаженное страданиями лицо любимого человека, Феодора пыталась понять собственную веру, хотя момент был не самый удачный: от скорби и душевно-телесного истощения она плохо соображала, – но именно сейчас это понимание стало насущным, как никогда. Как могла она убеждать Феофила принять иконы, если сама никогда не была последовательной в их почитании… по крайней мере, такой последовательной, как Кассия или сидевший в дворцовой тюрьме игумен Мефодий? Сестры рассказывали ей о его страданиях в заключении, и Феодора сочувствовала ему, но не могла осуждать Феофила за то, что он держал Мефодия в темнице: каждый со своей точки зрения был прав, – а кто был прав с точки зрения Бога?.. Если она считала возможным, втайне поклоняясь иконам, все эти годы состоять в общении с иконоборцами, не учила собственных детей чтить образа и без колебаний встала на сторону мужа, когда он запретил дочерям ходить к их «слишком благочестивой» бабке, то много ли стоило такое иконопочитание? По сути, оно ничего ей не стоило, кроме, разве что, единственного резкого выпада Феофила после случая с Дендрисом и «куклами»… Конечно, тут не было никакого, ровным счетом никакого исповедничества! Исповедники шли под бичи, в темницы, в ссылки, только бы не общаться с еретиками… Мать когда-то говорила, что, если судить по всей строгости, причащающийся с еретиками – такой же еретик, как бы он при этом ни верил сам в себе… А раз так, не стояла ли Феодора по ту же сторону, что и Феофил, от той стены… или пропасти… которая отделяла иконопочитателей от иконоборцев? Если б она сейчас умерла вместе с ним, куда бы ее определили – разве не туда же, куда и его?.. И где было бы это «туда же»? В аду? – Но она не верила в это! Как и в то, что ее умершие дети отошли на вечные мучения только потому, что были воспитаны в иконоборчестве. Нет, не верила. Она не могла в это поверить, она даже думать об этом не могла без возмущения!.. Правда, дети никогда не знали иной веры, кроме иконоборчества – им, в сущности, не из чего было выбирать, у них не могло быть сомнений… А она знала, знал и Феофил… Значит, надо сделать выбор? Но какой?.. Да ведь Феофил его сделал, сделал давно и никогда не отступал от него! А она?..
Что значили для нее иконы? Просто привычка детства?.. Нет, это было не так. Конечно, ее внутреннее влечение к почитанию образов не было осознанным догматически – но в то же время оно было достаточно сильным: если Феодора долго не молилась перед иконами, в ее душе всегда нарастало неясное беспокойство. Однако история с иконописцем Лазарем открыла ей больше: именно тогда в ее отношениях с мужем изменилось нечто существенное, и с тех пор в августе жила уверенность, что появившееся у нее «умение играть на лире» было связано с иконопочитанием, с ее попытками хоть иногда смягчить отношение мужа к защитникам икон. И когда она перед иконами молила Бога вернуть Фео фила живым из похода и обещала больше не быть «такой ужасной, как раньше», а потом приложилась к образу Спасителя, она ощутила в сердце утешение и уверенность, что ее молитва услышана. Нет, она не могла отвергнуть иконы, не могла сказать, что это просто «бездушные картинки», никак не связанные с Богом! Но ведь при этом она оставалась в общении с иконоборцами, а если это всё равно, что отпадение в ересь, то как же Бог помогал ей через Свои иконы?.. А то моление с ризой Богоматери во время осады Города Фомой, когда крестный ход совершали Феофил с патриархом Антонием, с Иоанном и остальным клиром? Получается, Бог помогал и иконоборцам, слышал их молитвы… Антоний умер в иконоборчестве – погиб ли он?.. Иоанн с его даром прозрения – разве не от Бога получил этот дар, равно как и способность давать духовные советы? А Евдоким, проживший как праведник свою недолгую жизнь, – разве не принял его Бог, несмотря на то, что он не был иконопочитателем? Ведь из Харсиана доходили вести, что на его могиле совершаются исцеления больных! А если так, то… какой же смысл тогда во всех этих спорах об иконах?!..
Или просто главное – не иметь сомнений в том, что избрал, ведь сомневающийся «не тверд во всех путях своих»?..
Голова отказывалась думать. Феодора никогда не разбиралась в богословии, а теперь у нее просто не осталось сил решать те вопросы, ответы на которые она вряд ли смогла бы найти и в более спокойной обстановке. Внезапно всё вокруг нее стало затуманиваться, мелькнула мысль: «Это от голода», – августа с утра не брала в рот ни крошки. «Господи!» – подумала она, и тут ее глаза закрылись сами собой, и она куда-то провалилась…
«Проходи, госпожа», – раздался чей-то голос, перед ней раздвинулись завесы на дверях, и императрица вошла. Это был Золотой триклин, но, войдя, августа поначалу не смогла ничего разглядеть, потому что словно ослепла: она еще никогда не видела, чтобы зал был так освещен – свет шел не сверху, из окон и от паникадил, а отовсюду, он как будто наполнял самый воздух. Когда глаза Феодоры немного привыкли, она поняла причину этой светлости: на троне в триклине сидела Сама Богоматерь, держа на руках Младенца-Христа. Они напоминали изображение на одной из икон, что Феодора прятала у себя, но были живыми, нестерпимо сияющими и прекрасными. Их обступали ангелы в светоносных одеяниях, невероятно красивые, стоявшие точно так же, как кувикуларии на императорских приемах, в похожих одеяниях и с мечами при поясе. Перед троном стоял Феофил, без короны, без пурпурной обуви, в одном простом темном хитоне, со связанными руками, и хотя он стоял спиной к Феодоре, она немедленно узнала его. Христос взирал на него сурово, а Богоматерь – как будто с жалостью. Ангелы же смотрели грозно, и один из них, подойдя, громко сказал: «Как посмел ты, несчастный, уничижить икону Господа Иисуса, и Пречистой Матери Его, и всех угодников Его?» Тут же с обеих сторон к Феофилу подошли еще два ангела с огненными бичами в руках и стали бить его. После первых же ударов Феофил упал, словно его били не бичами, а палицами. «Нет!» – закричала Феодора и бросилась к нему…
Это был сон. Она очнулась с чувством нестерпимого страха и боли, как будто ее сейчас бичевали вместе с мужем – и услышала, как он стонет. Она склонилась к нему. Император открыл глаза; взгляд его был осмыслен, и в нем читалось страдание. Феофил не бредил, он узнал жену и силился заговорить.
– Что? Что? Скажи! – она сжимала его руку.
Его распухшие губы шевельнулись, и с трудом, превозмогая боль, он попытался что-то произнести. Вряд ли кто-нибудь другой понял бы его – но Феодора поняла:
– Меня… бьют… за иконы.
Ее глаза широко распахнулись.
– Сон? Тебе снилось, что тебя бьют за иконы?!
– Да.
Ужас. Липкий, холодный, останавливающий сердце. На миг ей показалось, что она сейчас утонет в этом ужасе. Но взгляд Феофила не дал ей утонуть – он звал ее, он чего-то хотел.
– Мне сейчас приснилось то же самое, – проговорила она, глядя ему в глаза.
Его взгляд не выразил удивления, и августа ощутила, как муж всё сильнее сжимаете ее руку в своей.
– Феофил, хочешь… я принесу тебе икону?
– Да.
Она скорее угадала, чем услышала этот ответ. Пальцы Феофила до боли сжали ее ладонь и выпустили.
– Я сейчас!
Она встала, сделала несколько шагов к выходу, и ее опять затопил ужас: что, если он умрет, пока она ходит за иконой?!..
Вдруг дверь отворилась и вошел логофет дрома, он нес поднос, где стояла тарелка с нарезанными яблоками и грушами и чаша с вином. Поскольку императрица только махала рукой на кувикуларий, когда они напоминали ей о еде, препозит в конце концов пожаловался Феоктисту, и хранитель чернильницы решил сам позаботиться об августе – по крайней мере, сделать такую попытку – и, быть может, уговорить Феодору хоть немного отдохнуть. Вслед за ним вошли в спальню двое кувикулариев василевса – узнать, не нужно ли чего. Императрица бросилась к логофету:
– Феоктист, у тебя есть икона?
Патрикий едва не выронил поднос.
– Государыня, я… – промямлил он, пытаясь хоть немного выиграть время и сообразить, что делать.
Со времени царствования императора Льва Феоктист не чтил икон и не держал их у себя. Крестообразный золотой энколпий с миниатюрными изображениями Христа, Богородицы и апостола Иоанна, висевший теперь у логофета на шее под одеждой, надела на него умирающая мать, неделю назад прощаясь с сыном, и патрикий решил, что поносит энколпий сорок дней в память о матери, а потом снимет, и никому не говорил о нем. Вопрос августы привел логофета почти в остолбенение: как она могла узнать?! Неужели он походил на иконопоклонника?.. Но ведь он никогда и нигде… Никогда и нигде! Вот только сейчас, ради памяти матери – и тут же попался!.. А впрочем, ведь августа сама тайно чтит иконы! – едва Феоктист успокоился на этой мысли, как увидел, что император протягивает к нему руку. «Знает!» – подумал логофет с ужасом: ему представился гнев умирающего василевса за то, что Феоктист, пламенно обещавший не лишать патриарха кафедры, оказался иконопоклонником, – конец придворной службе, конец всему!.. Поднос выскользнул из его рук, но не упал, буквально на лету подхваченный кувикуларием.
– Что с тобой, Феоктист? – удивленно спросила императрица. – Зачем ты это принес?
– Я подумал, августейшая, – еле выдавил логофет, – что тебе нужно хоть немного подкрепиться, и осмелился…
– Потом! – она махнула рукой. – Говори: у тебя есть икона? Очень нужно, прямо сейчас!
Император продолжал тянуть к ним руку. Ничего не понимающий Феоктист кивнул и медленно вынул из-под хитона энколпий на золотой цепочке.
– Слава Богу! – воскликнула Феодора. – Подойди сюда, скорей! – она повлекла его к ложу василевса и буквально силой наклонила к нему.
К величайшему изумлению логофета и смотревших на всё это кувикулариев, император взял в руку энколпий и поднес к губам. Как только он приложился к иконам, опухоль с его губ и языка начала спадать буквально на глазах, рот закрылся, а обезображенное болью лицо приняло обычный вид, на щеках показался легкий румянец, а в глазах – прежний блеск; можно было бы подумать, что император внезапно выздоровел. Феодора поднесла руку ко рту, не отрывая взгляда от лица мужа, вдруг глаза ее закрылись, и она упала без чувств на руки Феоктиста. Подскочившие кувикуларии усадили ее в кресло, а потрясенный логофет переводил глаза с энколпия на императора и обратно. Феофил, обеспокоенный обмороком жены, силился подняться на постели, но Феодора почти сразу пришла в себя, отпила из поднесенной ей чаши немного вина, взглянула на мужа и улыбнулась:
– Хочешь пить?
– Хочу, – ответил он чуть слышно.
Она дала ему травяного настоя, он выпил, опустил голову на подушку и закрыл глаза. Спустя совсем немного времени он задышал тихо и ровно – уснул. Императрица взглянула на логофета.
– Ну вот, Феоктист, а я уже думала, что чудеса бывают только там, где нас нет… Ты, кажется, какую-то еду принес?
– Да, государыня! – патрикий, наконец, очнулся и засуетился. – Яблоки, груши… Принести чего-нибудь еще?
– Нет, ничего больше не надо. Благодарю!
Она поела немного фруктов, допила вино, отослала всех и, забравшись на ложе, осторожно легла рядом с Феофилом. Она слушала его дыхание, и в голове вертелось только одно слово: «Господи!..» Она не помнила, как заснула.
Ее разбудили слуги, пришедшие поменять белье, переодеть императора в чистый хитон, воскурить благовония и посыпать пол сухими лепестками роз. Феофил морщился от боли, пока его перемещали и переворачивали, но терпел молча. Занавеси на окне раздвинули, и белый свет заструился в комнату. Пока слуги делали свое дело, императрица ненадолго отлучилась и вернулась с небольшим свертком в руках. Когда все ушли, Феодора напоила мужа травяным настоем, а сама доела принесенные ночью фрукты. Они едва перекинулись несколькими ничего не значащими словами; впрочем, Феофилу было тяжело говорить. Пришел врач, с удивлением посмотрел на больного, и, пока он проверял пульс и осторожно ощупывал печень, Феодора рассказала о происшедшем чуде.
– Слава милосердию Божию! – врач перекрестился. – Теперь можно надеяться, что…
– Нет, – еле слышно прервал его император. – Ступай, Симеон… Благодарю тебя за всё… Больше ты мне не понадобишься.
– О, государь! – в глазах Симеона заблестели слезы. – Я никогда не забуду твоих милостей! И всегда буду молиться за тебя, августейший!
Когда он ушел, Феодора вынула из принесенного ею свертка небольшую икону Богоматери. Феофил улыбнулся, медленно поднял руку и перекрестился, поцеловал икону, а потом августа положила ее рядом с ним на подушку и опять села у изголовья мужа.
– Что… там на улице? – спросил он.
– Снег. Всё в снегу.
– Небо… выткало мне… саван…
Феодора взяла мужа за руку и тихо сказала, глядя ему в глаза:
– Нет. Это белые одежды, в которые облачатся «те, что пришли от великой скорби».
…Кассия почти не спала ночами с тех пор, как вернулась из дворца, забываясь лишь на час-полтора перед утренней службой, и почти не могла есть. Работать в скриптории она была не в состоянии, поскольку не могла сосредоточиться на читаемом, и в конце концов стала помогать Христине готовить еду сестрам, мыла посуду и пол в трапезной – только на такую механическую работу у нее еще оставались силы. Евфимия исправно выполняла свои послушания, но походила на тень и словно не видела и не слышала ничего вокруг. Анна с беспокойством посматривала на обеих, а остальные сестры, видя, что игуменья в печали, тоже приуныли, все ходили грустные и молчаливые. Кассия сказала им, что император при смерти и надо молиться, чтобы Господь вразумил его хотя бы перед кончиной. Она знала, что монахини молятся по мере сил, но кто мог сказать, услышит ли Бог их молитвы?..
В ночь на праздник святого Евфимия Великого игуменья думала после службы сказать поучение сестрам, взяв что-нибудь из жития преподобного, и вечером, когда все разошлись по кельям, заглянула в него, чтобы освежить в памяти. Ее внимание привлекла прощальная речь Евфимия к ученикам: «Невозможно управить добродетель без любви, ибо всякая добродетель пребывает крепкой и постоянной через любовь и смирение: смирение возносит радеющего о нем на высоту добродетелей, а любовь крепко держит его и не допускает с той высоты упасть вниз, ибо “любовь никогда не перестает”. А что любовь выше смирения, это явно и из примера Самого Господа нашего, ибо ради Своей любви к нам Он добровольно смирился и стал подобным нам человеком…» Кассия закрыла книгу и опустила голову на руки. Любовь! Ей вспоминались пророчество о смерти Феофила, рассуждения архиепископа Сардского о том, что оно может привести императора или его близких к покаянию, надежды православных на скорую смерть василевса, письмо игумена Феодора с уверениями, что «Троица скоро поразит Ианния и Иамврия» – патриарха Антония и Иоанна Грамматика… Но Бог не поразил их: Антоний пережил многих исповедников, в том числе и Феодора, а Иоанн жив до сих пор и даже стал патриархом… Император тоже не умер после пророчества, но всё-таки теперь он умирает… «Наконец-то!» – скажут, вероятно, многие ее единоверцы…
«Где же тут любовь? – думала Кассия. – Отец Феодор, хоть и радовался концу гонений после смерти императора Льва, и называл его предтечей антихриста и злодеем, но всё же жалел его… А сейчас многие ли из тех, кто возрадуется смерти Феофила, пожалеют его, помолятся об облегчении его вечной участи?.. “Любовь никогда не перестает”? Может, у кого-то она и не перестает, а у нас она, видно, еще и не начиналась!.. Неужели он погибнет? Неужели надежды нет?..»
После ночной службы с чтением канона игуменья сказала краткое поучение о том, что не имеющий любви, в том числе любви к обижающим, не может приобрести никаких добродетелей.
– Мы иногда думаем, – говорила она, – что ближние, притесняющие или раздражающие нас, мешают нам жить добродетельно. Нам кажется, что если бы Господь дал нам спокойную от таких неприятностей жизнь, мы тут же уподобились бы Антонию Великому или преподобной Сарре… И вот, Бог нам действительно дает успокоение от терзавших нас неприятностей – но что тогда? Часто мы не только не становимся добродетельней, но даже делаемся еще хуже, чем прежде! И это не удивительно. Преподобный Евфимий недаром завещал своим ученикам приобрести любовь и приводил в пример Христа, сошедшего на землю, чтобы пострадать за спасение всех – праведных, грешных, верных, нечестивых, любивших Его и Его распявших… Он всем даровал возможность покаяния и всем показал, что мы должны молиться за наших врагов и желать их вразумления и спасения, а вовсе не погибели. Ведь если в нас не будет такой любви, нам просто нечем будет удержать в себе добродетели, если даже мы сумеем стяжать их…
Вернувшись после бдения к себе, она затворилась во внутренней келье, затеплила лампаду и стала молиться. Сразу после возвращения из дворца, она перенесла сюда икону Богоматери, когда-то спасшую их с Феофилом от падения, и подумала: «Буду молиться до тех пор, пока…» Пока что? Она сама не знала, знала только, что надо молиться. И она молилась тут каждый день во всё свободное время. «Он еще жив, и еще есть время. Еще есть время… Еще есть…»
Положив очередной поклон, она ощутила, что силы оставили ее. Она не знала, сколько времени, далеко ли до утренней службы; она больше ничего не чувствовала – ни страха, ни скорби, ни надежды, ни отчаяния; она словно утратила способность что-либо ощущать, – а огонек лампады сиял по-прежнему, и Богородица с иконы смотрела всё так же строго, и было неизвестно, услышит ли Ее Сын молитву за того, кто умирал на пурпурном ложе в комнате с золоченым потолком…
«Благодушествуй!» Слово прозвенело у нее внутри, словно тихий звон струны, явственно и светло. Кассия открыла глаза и увидела, что лежит на полу: она всё-таки уснула на молитве. Она поднялась, взглянула на икону и замерла: лик Богоматери словно светился, и Кассия вдруг поняла, что слово изошло от нее.
– Матерь Божия, спаси его! – прошептала игуменья, и в тот же миг в душе опять зазвенело и засияло: «Благодушествуй!»
Слово, принесенное когда-то в видении родителям преподобного Евфимия в ответ на их молитву о разрешении неплодства – что оно говорило сейчас Кассии? Неужели услышали?..
«Благодушествуй!» – в третий раз сказалось в сердце. Икона больше не светилась, но зато свет теперь сиял в душе: ни боязни, ни боли, ни смятения – только радость и уверенность, что тот, за кого она молилась, будет спасен. Она больше ни о чем не просила, ни о чем не думала – в душе у нее сияло: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас, грешных».
После утренней службы игуменья возвратилась к себе, помолилась за Феофила, а потом взяла чистый лист и тут же набросала на нем стихиру:
– Отче Евфимие, помолись за него! – прошептала она.
В келью постучали.
– Матушка, – сказала Лия, войдя, – там пришел отец Феоктист.
– Уже? – Кассия немного удивилась: время литургии еще не подошло.
Игуменья надела теплую мантию и вышла вслед за сестрой на двор. Было пасмурно.
– Опять снег! – Лия приподняла руку, глядя, как белые звездочки падают и цепляются за черную шерсть мантии.
Иеромонах ждал их в нартексе храма.
– Здравствуй, мать, – сказал он, приветствуя Кассию поклоном. – Я принес вам новость. Сегодня ночью государь скончался.
11. Игра в кости
Живу Я, глаголет Адонаи Господь, не хочу смерти грешника… и если обратится он от греха своего и сотворит суд и правду… то жизнью жив будет и не умрет. Все грехи его, которыми согрешил он, не помянутся: ибо суд и правду сотворил он и жив будет в них. И скажут сыны людей твоих: «Не прав путь Господень».
(Книга пророка Иезекииля)
Феодора закрыла книгу и вытерла слезы. Бог знает, который раз она перечитывала эти строки из «Илиады», несмотря на то, что Варда месяц назад даже пригрозил отобрать у сестры книгу: он считал, что августа только лишний раз растравляет себя таким чтением, но она находила в этом какую-то горькую отраду. Теперь она понимала, что мечта ее юности о «муже-Гекторе», в сущности, сбылась – и потому, что другого подобного Феофилу, конечно, невозможно было найти, и потому, что Феодора, как Андромаха, осталась безутешной вдовой с маленьким сыном на руках и будущее было туманным…
После смерти Феофила прошло уже полгода, и августе не раз пришлось пожалеть, что она не умерла вместе с мужем. Государственные заботы, обрушившиеся на нее, составляли еще полдела: у нее были хорошие помощники, и по-прежнему оставалось достаточно времени на занятия с детьми, хотя Феодоре теперь приходилось уделять меньше внимания дочерям, чтобы чаще бывать с сыном. Но больше всего головной боли принесли церковные дела. На другой день после похорон императора августа издала приказ о том, чтобы все, кто был сослан или посажен в темницу в связи с иконопочитанием, были отпущены на свободу: им позволялось жить, где угодно, и верить, как угодно. Выпущенный из дворцовой тюрьмы игумен Мефодий некоторое время оставался в Городе; Каломария и София попытались уговорить августу встретиться и побеседовать с ним, но Феодора не захотела, и игумен уехал на вифинский Олимп. Поначалу императрица не думала о дальнейших церковных переменах: ей казалось достаточным пока одного упразднения гонений и возврата к положению, бывшему в царствование Михаила – тем более, что ни в Синклите, ни в войске, ни в народе не было заметно особенного стремления к чему-то иному, да и патриарх не собирался изменять свои взгляды на иконопочитание. Каждую субботу Иоанн в присутствии августы совершал панихиду по государю в храме Апостолов, после чего императрица раздавала деньги бедным и нищим на помин души василевса.
Сразу после похорон мужа Феодора написала Кассии краткое письмо, сообщив, что Феофил перед смертью принял иконы, и рассказав о чуде с энколпием. Она собиралась через некоторое время пригласить во дворец исповедников иконопочитания, чтобы одарить их и попросить молиться за мужа: в последний день перед смертью Феофил просил жену облагодетельствовать тех, кого он притеснял за иконы. Первым шагом к этому стало их освобождение из ссылок, но встречаться с ними лично императрице пока не хотелось – она подозревала, по опыту общения с собственной матерью и с новообращенным дядей, что разговор с иконопочитателями может обернуться неприятно, и пока не ощущала в себе достаточно сил для подобных бесед.
Однако спустя полтора месяца после смерти императора Мануил явился к своей царственной племяннице и сказал, что нужно «всесторонне рассмотреть вопрос о почитании святых икон». Оказалось, что к нему приходил иеромонах Николай с другими студитами: они просили доместика убедить августу восстановить православие. Свобода веровать, как угодно, данная иконопочитателям, была, с их точки зрения, всего лишь полумерой, и они внушали Мануилу, что если православие не восторжествует, это грозит для Империи новыми бедствиями…
– Дядя, – сказала Феодора в ответ, – иконопочитатели уже много лет пугают нас бедствиями, только почему-то предсказанные ими бедствия не происходили, а тех, что происходили, они не предсказывали. Теперь они, видно, поумнели и уже не предрекают ничего определенного, а говорят о бедствиях вообще, – императрица насмешливо улыбнулась. – Очень умно, не поспоришь! Ведь людей преследуют бедствия с того дня, как Адама с Евой выгнали из рая!.. Вот что я тебе скажу: я не против поднять вопрос об иконах, но пока при дворе никто не ведет разговоров об этом, кроме тебя, а мне не хотелось бы затевать что-то, противное общим чаяниям. Кроме того, ты помнишь: мы обещали Феофилу оставить Иоанна на кафедре, а значит, в любом случае вопрос об иконопочитании надо обсудить с ним, ведь это вопрос церковный. Я и сама не хочу другого патриарха. Поэтому ступай и поговори об иконах с ним, для начала.
Доместик ушел от императрицы в унынии: ждать согласия Грамматика на восстановление иконопочитания было делом гиблым – Мануил уже попытался вызнать через патриаршего келейника и синкелла, как мог бы посмотреть Иоанн на этот вопрос, и не узнал ничего утешительного для своих планов. Тогда доместик попробовал убедить других членов регентства и близких императрицы в том, что вопрос об иконах нуждается в скорейшем пересмотре. Варда лишь скептически пожимал плечами. Петрона недвусмысленно заявил, что ему «начихать на всё это богословие» и он не собирается ни защищать иконы, ни выступать против них. Зато Сергий Никетиат горячо поддержал Мануила, и попытался сам поговорить с августой, так же как и Ирина, но Феодора упорно отсылала их к патриарху. Каломария и София, бывшие под влиянием недавних бесед с Мефодием, склонялись к мнению Мануила, но не хотели ссориться с сестрой и пока молчали.
Между тем арабы, узнав, что ромейский император умер и вместо него, по сути дела, правит женщина, снарядили флот из четырех сотен кораблей и отправились на Константинополь. В Городе стали готовиться к осаде, а патриарх совершал в Святой Софии моления об избавлении от опасности. Избавление пришло вскоре: у мыса Хелидония в Кивирреотской феме агарянский флот был совершенно разбит бурей, только семь кораблей смогли вернуться в Сирию. Кто видел в этом знак Божия благоволения, кто, напротив, прозревал в нашествии врагов, пусть и неудачном, грозное предупреждение…
Прозрения и прорицания вообще стали расти после смерти императора, как грибы после дождя. Из Вифинии доходили слухи, что тамошние монахи, прежде всего под влиянием отшельника Иоанникия, а также уехавшего туда игумена Мефодия, всё громче говорят о грядущем торжестве иконопочитания – в народе ходили разговоры о пророчествах и видениях, предсказывавших его. Передавали, что Иоанникию явился в божественном озарении святой Арсакий и послал старца к отшельнику Исаии в Никомидию, чтобы узнать от него волю Божию. Иоанникий будто бы действительно ходил к Исаие, провел у него три дня в молитве, после чего Никомидийский подвижник изрек пророчество: «Так говорит Господь: вот наступил день, и приходит конец врагам Моего изображения!» Говорили, что православные собираются отправить к императрице что-то вроде посольства с просьбой восстановить почитание икон…
Логофет дрома, хоть и не поддержал всецело начинание Мануила, однако всё больше задумывался. В детстве он, разумеется, не был убежденным чтителем икон, всего лишь подражая родителем, а когда при императоре Льве возобновилось иконоборчество, Феоктисту было только семнадцать лет. Отец, оскопивший сына еще в детстве в расчете на то, что он сделает придворную карьеру, не внушил ему никаких понятий о необходимости отстаивать догматы, зато внушил, что надо «слушаться вышестоящих», – а все вышестоящие у Феоктиста, с того самого дня, как он стал секретарем у турмарха федератов Михаила и до настоящего момента, были иконоборцами. Отец погиб в одном из сражений с мятежниками Фомы, после чего мать и сестра удалились в небольшой монастырь в Вифинии. В той обители иконы чтили, но Феоктиста это нимало не заботило: он был равнодушен к богословским спорам, а выходки иконопочитателей, особенно политически окрашенные, его раздражали – тем сильнее, чем больше они не нравились императору… Но после чуда с энколпием, совершившегося над умиравшим василевсом, Феоктист изменил свои взгляды на иконы и стал поклоняться им дома, хотя продолжал причащаться у иконоборцев, в отличие от доместика схол. Мысль о том, что вопрос неплохо было бы пересмотреть, приходила логофету на ум, однако он равнялся на вышестоящих, а Феодора пока не была расположена размышлять о восстановлении иконопочитания официально. Кроме того, Феоктист прекрасно понимал, что патриарх станет здесь камнем преткновения, – и логофет помалкивал, но собирал сведения о происходящем: они приходили к нему отовсюду как к начальнику государственной почты, и к концу весны патрикий стал всё чаще погружаться в размышления о будущем Империи и Церкви. Свобода исповедания, данная иконопочитателям, развязала им руки и языки, и было понятно, что очень скоро они возбудят немало простого народа, пойдут прошения к императрице, начнется давление на синклитиков… «Бог знает, насколько это осложнит обстановку, – думал логофет, – но покоя теперь не жди, это ясно!» С другой стороны, как думалось Феоктисту, если восстановление икон пройдет примерно так же, как на Никейском соборе при августе Ирине, то особых потрясений в обществе не произойдет, зато чтители образов останутся довольны и всё успокоится… Подобные рассуждения привели логофета к мысли, что начинание Мануила не худо бы и поддержать, однако Феоктист решил дождаться момента, когда сами иконопочитатели сделают первый открытый ход.
Ждать пришлось недолго: в мае в Город прибыли игумены Хинолаккский Мефодий, Далматский Иларион, Катасаввский Иоанн и еще несколько исповедников, в том числе монах Лазарь; Студийский игумен Навкратий был болен и не мог добраться до столицы, поэтому прислал вместо себя Николая. По просьбе исповедников, августа приняла их, и Мефодий от лица всех просил ее «порадеть о благочестии и восстановить почитание святых икон, как то заповедано святыми соборами и отцами», чтобы царство ее и ее сына «было долголетним, безмятежным и благословенным от Бога». Императрица ответила, что сама чтит иконы с детства и сочувствует иконопочитателям, но что вопрос этот нуждается во всестороннем рассмотрении, после чего отпустила пришедших, сказав, что будет думать над их просьбой. Поговорив с регентами и другими своими родственниками, она поручила Феоктисту разузнать, как посмотрят в Синклите на восстановление иконопочитания. Оказалось, что синклитики в целом не очень хотят перемен – как из уважения к мнению патриарха, так и из почтения к памяти императора: большинство из них искренне любили почившего, считая за лучшее пребывать в той вере, в какой умер он. Никто не знал о его предсмертном обращении – Феодора пока запретила Феоктисту, кувикулариям и врачу рассказывать об этом, а сама сообщила о случившемся только патриарху.
– Что ж, – сказал Иоанн, как будто нисколько не огорчившись, – государь сделал свой выбор, и «блажен, кто не осуждает себя в том, в чем испытывается».
В императорской канцелярии все, кроме Фотия, были против икон – тут сказывалось влияние Лизикса, которого подчиненные уважали безмерно и чтили его мнение как закон. Эпарх в целом не был против икон, хотя к умонастроению иконопочитателей относился без симпатий, но сказал, что нужно соблюдать осторожность и не делать резких шагов, чтобы не вызвать слишком сильного недовольства, особенно в патриархии. Однако он заметил, что большинство народа, скорее всего, приняло бы иконы так же легко, как при императоре Льве отвергло их, – по крайней мере, внешне.
Итак, по-видимому, главным камнем преткновения и силой, влиявшей на умы, были патриарх и его почитатели, особенно протоасикрит – ко мнению Лизикса прислушивались не только работники канцелярии, но и синклитики, и другие придворные. Феодора сама решилась поговорить с патриархом. Когда она рассказала ему о призывах иконопочитателей, уговорах Мануила, опасениях Феоктиста по поводу возможных выступлений сторонников икон, Иоанн не выказал ни удивления, ни беспокойства. Он немного помолчал в задумчивости и сказал:
– Августейшая, что касается меня, то я желал бы умереть в той вере, в какой ныне пребываю. Но если ты думаешь, что мое мнение может сыграть решающую роль в деле возвращения икон, то ты ошибаешься. Даже если б я согласился изменить веру, поклонники икон ни за что не согласятся на мое пребывание на кафедре, – губы его тронула ироническая улыбка. – Они, скорее, все умрут в темницах, чем пойдут на восстановление икон под моим руководством, я в этом уверен. Но гораздо важнее другое. Когда умер святейший Феодот, государь Михаил колебался относительно его преемника и даже подумывал о возвращении на патриаршество Никифора, но иконопоклонники выдвинули такие условия, на которые он никак не мог пойти. Не думаю, что сейчас их мнение изменилось, а потому тебе, государыня, нужно заранее поразмыслить, примешь ли ты эти условия.
– Что же это были за условия?
– Они хотели извергнуть из клира всех тех, кто присоединился к противникам икон, и не желали оставлять им сан даже при их покаянии. Что касается рукоположенных после собора в Святой Софии, осудившего иконы при государе Льве, то их сан иконопоклонники вообще не считают когда-либо бывшим. Суди сама, что может ожидать наше государство в случае, если ты согласишься пойти на их требования.
Императрица ошарашено смотрела на патриарха.
– Но они ничего такого не сказали мне при встрече! – воскликнула она.
– Разумеется, – Грамматик усмехнулся. – Но не сказали только пока. Стоит тебе, государыня, подать им более или менее твердую надежду, они станут смелее.
– Нет, это было бы уже слишком! – возмущенно сказала Феодора. – Я обещала Феофилу, что ты останешься на кафедре, и вовсе не собираюсь нарушать это обещание!
– Это было бы еще полбеды, августейшая. Подумай о том, что иконопоклонники считают государя нечестивцем и гонителем, а значит, они вряд ли станут молиться об упокоении его души, как это делаем мы. Скорее, они мечтают предать его анафеме.
– Ну, нет! – императрица встала. – Этого не будет! Никогда! – она подошла к лежавшему на аналое Евангелию в золотом окладе и положила на него руку. – Вот сейчас перед тобой, святейший, я клянусь, что никогда не позволю им осудить Феофила!
– Не сомневаюсь, – патриарх чуть заметно улыбнулся. – Да поможет тебе Бог, государыня!
Как показала вторая встреча императрицы с иконопочитателями, Иоанн не ошибся. Феодора пригласила исповедников, в прежнем составе, в тронный зал Магнавры и в присутствии регентов, избранных синклитиков и эпарха сказала им:
– Почтенные отцы! Я рассмотрела вашу просьбу о возобновлении поклонения иконам в Божией Церкви и могу сказать, что готова обсудить этот вопрос, но прежде я хотела бы изложить вам одну небольшую просьбу, которая вам, высоким духом ученикам Спасителя, должна показаться совсем не трудной для исполнения. Вы служители Господни и имеете от Бога власть связывать и разрешать кого хотите – не только грехи пребывающих в этой жизни, но и уже взятых смертью. Ведь Христос говорит в Евангелии: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах». Поэтому я ныне прошу вас простить моему почившему супругу и вашему государю всё, чем он обидел и отяготил вас при жизни, и не осуждать его, но принять как верного и православного. Я вполне уверена, что вы можете это сделать, если захотите, как ученики милосердного Господа, тем более, что перед самой смертью государь сожалел о том, что притеснял вас, и просил меня оказать вам милость. Как видите, я исполнила его желание, отпустив вас на свободу и даровав возможность невозбранно исповедовать свою веру. А сейчас от имени моего супруга я хотела бы утешить вас и вещественно, вас и всех тех, кто был с вами в ссылках, – она простерла руку в сторону двух стоявших на полу перед эпархом огромных серебряные чаш, полных золотых монет. – Надеюсь, вы не откажетесь принять это приношение и разделите его между всеми своими братиями по вере, пострадавшими во время гонений, попросив и их помолиться о почившем государе.
Если первые слова императрицы воодушевили иконопочитателей, то дальнейшая ее речь подействовала на них как удар по голове. По их лицам было видно, что они совсем не готовились к подобному обороту дела, но обсуждать предложение императрицы прямо при ней было неудобно, – а Феодора как раз и рассчитывала на внезапность: так скорее можно было понять, что в действительности на уме у этих людей. Быстрее всех справился с собой Хинолаккский игумен и, выступив вперед, сказал:
– Государыня, твоя забота о доброй памяти супруга понятна и естественна, а твоя вера в силу иерейских молитв достойна всяческих похвал. Но осмелюсь сказать, что власть связывать и разрешать, данная Спасителем, всё же не безгранична: если человек скончался вне общения с Церковью, с нашей стороны было бы слишком дерзновенно поминать его наравне с православными.
– Да, государыня, – согласно кивнул Георгий, игумен одного Митиленского монастыря, – мы благодарны тебе… и твоему царственному супругу… за благодеяния, которые ты оказала и еще хочешь оказать нам, но, боюсь, мы не вправе исполнить твою просьбу.
Лазарь угрюмо взглянул на чаши с номисмами и глухо проговорил:
– Пожертвования – дело доброе, но вряд ли Бог предпочтет еретическое безумие нашим страданиям за Его образ!
Николай Студит тоже хотел что-то сказать, но тут подал голос иеромонах Симеон. Митиленец родом, брат игумена Георгия, в свое время он был сослан в связи с делом о пророчестве, которое распространяли архиепископы Евфимий и Иосиф. Хотя Сардский владыка никого не выдал, однако после его смерти Симеон выдал себя сам: сначала попал в тюрьму Претория за то, что открыто порицал императора и пытался подвигнуть живших в Константинополе православных на публичные выступления против власти, а потом, поскольку и в тюрьме умудрялся сеять возмущение, был по приказу эпарха бичеван и, с одобрения василевса, сослан на Афусию, где и жил до кончины Феофила.
– Да как же можно, братия, принимать деньги от гонителя веры?! – возмущенно воскликнул старец. – Серебро его с ним да будет в погибель! Нет ему части или жребия с благочестивыми и православными, святотатцу и богоборцу. Ведь он был врагом Божиим, и совершенно ясно, что таким он и умер!
Слова Симеона подействовали на присутствовавших подобно удару грома: все точно потеряли дар речи, однако, по лицам Георгия, Иоанна и Илариона было заметно, что суровость старца им куда ближе, чем более дипломатичные речи Мефодия. Сам же Хинолаккский игумен растерялся и в первый момент не нашел слов, чтобы как-то поправить положение. Это молчание иконопочитателей было истолковано августой как знак согласия. Феодора сумела скрыть раздражение, вызванное ответами Мефодия и Георгия, была готова простить Лазаря, памятуя его прижженные руки, но теперь вышла из себя. Она поднялась с трона, и глаза ее засверкали таким гневом, что испугался даже меланхоличный Петрона.
– Если вам так думается, идите прочь от меня! А я, как приняла и научилась от свекра и от мужа, так и буду царствовать и управлять. Вот увидите! – августа повернулась к эпарху. – Выведи их вон отсюда, и чтоб духу их не было в Городе! – и, не дожидаясь ни от кого ответа, она стремительно покинула залу.
От этого скандала при дворе не могли опомниться несколько дней. Императрица решительно заявила, что больше не хочет не только видеть «этих бесчеловечных иконопочитателей», но даже слышать ничего о них не желает. Мануил ходил, как в воду опущенный, Феоктист был хмур и задумчив. Сестры августы были потрясены. Каломария сказала, что покойный Арсавир был прав, говоря, что «иконопоклонники это стадо твердолобых баранов», и она раскаивается в своих прежних симпатиях к Мефодию. София вздыхала, вспоминала мужа, о котором не было никаких известий, и задумывалась о том, что иконопочитатели, пожалуй, и о нем тоже не станут молиться – ведь Константин как попал в руки агарян иконоборцем, так, очевидно, им и оставался, если был еще жив. Ирина сначала поссорилась с мужем – к немалому изумлению всех домочадцев, она накричала на него, обвиняя в том, что это он «всё подстроил вместе с дядей», потому что им «неймется, хотя и так теперь всем желающим можно хоть вместо одежды иконами обложиться», и что ему не жаль ни Феодору, ни Феофила, – а потом впала в уныние, целыми днями сидела в своих покоях и ни с кем не общалась. Сам Сергий недоумевал, как исправить положение, советовался с Мануилом, но тот только вздыхал и даже один раз обмолвился, что ему «лучше уж было бы умереть четыре года назад, чем дожить до всего этого безобразия». Варда несколько расстроился, хотя держал себя в руках. Только Петрона был, как всегда, меланхоличен и равнодушен.
– Экая невидаль, в самом деле! – сказал он. – Ничего нового мы не узнали. Как будто от этих монахов можно было ожидать чего-то еще!
Иконопочитатели были поражены не меньше. Эпарх действительно предписал им немедленно покинуть Константинополь, и они уплыли в Халкидон, по дороге бурно обсуждая происшедшее. Симеон стоял на своем и говорил, что «кто-то же должен был сказать им всем там правду, а то они, похоже, думают, что догматы это шутка». Остальные исповедники не одобряли резкости собрата и сожалели о том, что переговоры с императрицей сорваны, однако по сути были всё же согласны с Симеоном – они не верили, чтобы император мог изменить перед смертью взгляды на иконопочитание.
– Скорее всего, это выдумка императрицы, или она просто внушила сама себе то, во что ей хотелось поверить, – сказал Далматский игумен.
– Даже если и не выдумка, – отозвался игумен Иоанн, – всё равно император не покаялся перед священником и не принял православное причастие, а потому как можно в Церкви молиться за него? Это было бы противно правилам!
– Да, – согласился Георгий, – не нелепо ли это будет, если мы, столько лет страдая ради торжества веры, закончим тем, что предадим церковные правила ради того, чтобы получить для служения храмы? Ведь мы покинули их, чтобы страдать за благочестие и ни в чем не уступить противникам!
Только Мефодий отмалчивался. Перед его мысленным взором снова и снова вставала беседа с покойным императором. «Истинные догматы дают возможность спастись», – сказал ему тогда игумен… Что означали слова августы: «Перед самой смертью государь сожалел о том, что притеснял вас»? Сожалеть можно по-разному… Раскаялся ли он в своей ереси или просто в чрезмерной суровости по отношению к противникам? «Поговорить бы с августейшей! – думал игумен. – Да только захочет ли она теперь с нами когда-нибудь говорить?..»
– Послушай, отче, – обратился он к Симеону, когда все, наконец, высказали свое мнение о происшедшем и умолкли, – прости меня, но твоя выходка, по-моему, была совершенно неуместна. Следовало бы спросить у государыни, в чем именно состояло сожаление императора о прежних его делах. В конце концов, мы знаем множество примеров того, как грешники каялись перед самой смертью и Бог прощал их. Ты же оскорбил августу, сорвал переговоры, и теперь вообще неизвестно, что будет с нами и с Церковью. Суди сам, насколько разумно ты поступил!
Старец упрямо затряс головой:
– Вполне разумно! А вот ты, отче, меня удивляешь! Не тебя ли более всего морили по темницам покойный император и его отец, а ты взялся защищать их? Развесил уши перед августой! Да она теперь тебе наговорит, чего хочешь, даже что ее муж тайно иконы почитал, разве это проверишь! Ей бы покаяться самой, ведь она тоже до сих пор у этого колдуна причащается, а она… деньги нам предлагает! «Ужаснись, небо, восстени, земля», до чего мы дожили, по грехам нашим! Неужели ты теперь продашь нашу веру за горстку золотых монет?!
Остальные исповедники, когда узнали о случившемся во дворце, тоже выказали, кто более, кто менее, сочувствие Симеону: мало кто верил, что император принял иконы перед смертью, и в любом случае большинство считало, что поминать его как православного невозможно, даже если он и пожалел о содеянном.
– Отец Феодор всегда говорил, что кто с каким причастием умер, тот с таким и останется, – сказал игумен Навкратий. – Мы не можем поминать в Церкви того, кто отошел из жизни без присоединения к православным. Единственное, что тут возможно, это молиться за государя келейно, предоставив окончательный суд о нем Богу.
Мефодий не мог отрицать, что его собратья рассуждали вполне логично и согласно с церковными правилами, он и сам еще совсем недавно думал точно так же, но… Откуда же теперь у него сомнения? Он и сам не мог понять. Неужели причина была в том давнем разговоре с покойным императором?.. Правда, после истории с Начертанными братьями Мефодий очень возмутился против василевса, но тот гнев уже прошел, а вот воспоминание о беседе с Феофилом по-прежнему не давало покоя…
Наконец, Мефодий решил обратиться за советом к старцу Иоанникию и отправился на Антидиеву гору. Отшельник принял его с радостью, разделил с ним скудную трапезу из овощей и хлеба, а потом игумен рассказал о том, что думают православные о происшедшем на приеме у императрицы.
– Я вполне понимаю их взгляды, отче, – сказал Мефодий. – Но я не знаю, что нам делать дальше. Августа выгнала нас и собирается оставить всё по-прежнему… Думаю, если даже господа Мануил и Сергий уговорят ее опять вступить в переговоры, она снова обратится к нам с той же просьбой… Но братия, как видишь, не соглашаются пойти на такое! Все повторяют слова Феодора: «где человек застигнут, там и будет судим, и с каким напутствием отошел в жизнь вечную, с тем и останется»… Их точно так же не разубедить, как августу! Словом, я в печали.
– А ты, отче, стал бы молиться за государя? – спросил Иоанникий, внимательно глядя на игумена.
– Честно говоря… я готов поверить тому, что сказала августа. Ведь мне однажды пришлось беседовать с императором, и я убедился, что он не таков, каким его представляет большинство наших братий и представлял я сам до встречи с ним… Думаю, он действительно мог покаяться перед смертью… Но ведь проверить это нельзя, а почти все наши в это не верят. Симеон даже обвинил меня в том, что я готов продать веру за золото! – Мефодий нахмурился.
– Не скорби, отче! – тихо сказал старец и чуть улыбнулся. – Значит, братия считают тебя продажным? А я думаю, что если б августейшая, со своей стороны, согласилась на одно условие, это сделало бы их более уступчивыми.
– Какое условие?
– Возвещенное мне при встрече отцом Исаией: «Отрешите всех несвященных и тогда с ангелами принесите Богу жертву хваления!»
…Императрица собиралась пойти с сыном погулять в парк, когда препозит доложил, что логофет дрома просит августу принять его. Феоктист сказал, что у него важная новость, которую он хотел бы сообщить императрице без свидетелей. Феодора отослала препозита с кувикулариями и указала логофету на стул, а сама села в кресло у окна.
– Государыня, – сказал патрикий, – сегодня я получил письмо от игумена Мефодия. Он приносит множество извинений за несдержанность отца Симеона. Он понимает твое огорчение и предполагает, что ты не расположена видеть их, поэтому очень просит меня уговорить твое величество принять пока только его одного. Он пишет, что его собратья готовы отложить свою суровость в отношении твоего августейшего супруга, но у них есть какие-то… встречные условия… Он хочет обсудить всё это с тобой при личной беседе.
– Условия?! – императрица посмотрела на логофета с негодованием. – У них еще и условия!.. Великолепно! Может быть, у них есть и свой кандидат на ромейский престол?! – она встала, подошла к окну и молча постояла некоторое время, глядя в сад, а потом обернулась к Феоктисту и спросила уже спокойнее: – Письмо у тебя с собой?
– Да-да, вот, прошу, августейшая!
Императрица внимательно прочла письмо, нахмурилась, перечла еще раз, бросила лист на стол и вздохнула:
– Тошно мне, Феоктист!
Из всех своих помощников Феодора советовалась с логофетом чаще всего – помимо того, что он лучше всех знал взгляды придворных и, по должности, настроение народа в разных концах Империи, их с августой как-то сблизило чудо с энколпием. Порой она разговаривала с Феоктистом по душам и, хотя в слишком большую откровенность не пускалась, иногда обнаруживала перед ним свои истинные чувства и мысли по поводу происходящего, тогда как в присутствии всех своих родственников старалась сдерживаться, и никто из них толком не знал, что за мысли бродят в голове императрицы. Патрикий поднял глаза на августу.
– Когда тошно, августейшая, иной раз помогает игра в кости.
– В кости?!
Феодора удивленно взглянула на логофета и едва не рассмеялась: если кто менее всего походил на игрока, так это он – белокурый евнух с прямыми, словно прилизанными волосами, уныло повисшим носом и худыми длинными пальцами, с которых почти не сходили коричневые чернильные пятна. Было трудно представить, что его водянисто-голубые глаза могли загореться игровым азартом…
– Да, государыня, – кивнул Феоктист. – Конечно, лучше всего помогает сон, но если не уснуть, то можно скоротать время за игрой, а там, глядишь, уже и ночь, а утро вечера мудрее.
– Будто бы? – горько улыбнулась императрица. – По-моему, в последнее время каждое новое утро у меня не мудрее вечера, а мудрёнее!.. Раньше приходилось заботиться только о детях, а теперь… Вот уж точно – «не знаешь, что родит будущий день»! Кости… Сказать честно, я в них не играла никогда и не умею.
– О, это не трудно! Я могу научить, государыня, если ты соизволишь захотеть.
«Может, и правда соизволить?» – подумала Феодора.
– Между прочим, – добавил логофет, – порой за игрой в кости можно найти разрешение возникших трудностей… Иные за игрой в кости даже получали царство!
Феодора усмехнулась, задумалась ненадолго, вздохнула и сказала:
– Мне совсем не хочется вступать с ними в переговоры, Феоктист… Ты думаешь, это так уж необходимо?
– Боюсь, что это становится необходимым, государыня, – ответил логофет. – Иконопочитатели будоражат народ, и это может со временем создать нам определенные трудности, если дело с иконами как-то не уладить… или хотя бы не сделать вид, что оно сдвинулось с места… Осмелюсь заметить, что во встрече только с одним отцом Мефодием еще не будет никакой беды. Он произвел на меня впечатление приятное и, думаю, не склонен к необдуманным словам и тем более действиям, в отличие от некоторых его собратий.
Императрица немного помолчала, раздумывая.
– Послушай, Феоктист, – она подняла на него глаза, – мне противно с ними говорить! Ведь они думают, что не только Феофил, но все, кто умерли в иконоборчестве, пошли в ад! Мой отец, родители Феофила, наши дети Константин и Мария… Феофоб и другие…
– Эм… кто-то из них, возможно, так думает, но вряд ли все, – сказал Феоктист. – Вот, августейшая, к примеру, моя покойная мать никогда не думала, что мой отец попал в ад, хотя в конце жизни он не чтил икон, а она умерла, почитая их… Но перед смертью она говорила мне, что надеется скоро свидеться с отцом… Не думаю, что ее надежда была тщетна! Всё-таки отец, благодарение Богу, старался жить по заповедям, погиб, защищая державу от мятежников… Скорее всего, ревнители икон столь суровы к августейшему потому, что от него зависело почти всё в деле восстановления иконопочитания, а в Писании сказано, что «сильных будут сильно испытывать»…
– Да, только их будет испытывать Бог, а не отец Мефодий и его друзья! – сказал императрица с некоторым сарказмом. – У меня, знаешь, такое впечатление возникает, что… Я вот их просила простить Феофила потому, что им как священникам дана такая власть от Бога, а они вроде бы смиренно отрекались и говорили, что их власть ограничена. Да, конечно! Когда речь идет о молитве за их гонителей и о прощении врагов, то они говорят, что их власть ограничена, а вот когда речь идет об осуждении тех же самых гонителей, они смело ставят себя прямо на место Бога и отправляют своих врагов в погибель, как будто суд Господень им уже доподлинно известен! – Феодора прижала руку к груди и немного помолчала, пытаясь успокоиться. – И что теперь? Если я опять пойду на переговоры с ними, а они опять заведут свои песни про вечную погибель… Они извиняются за несдержанность!.. Да, может, они и будут вести себя сдержаннее, но думать-то они всё равно будут то же самое! И что – мне соглашаться с ними?!
– Вообще-то, государыня… гм… отчасти с иконопочитателями можно и согласиться, когда они говорят об иконоборцах, не называя имен: ведь некоторые иконоборцы действительно попали в ад, я в этом нисколько не сомневаюсь.
– А некоторые не попали, и значит, почему бы сейчас тебе не согласиться со мной? – насмешливо сказала императрица. – Кажется, это называется на философском языке диалектикой… По всему видно, что и мне теперь надо учиться… этой игре… Только мне противно, Феоктист! Потому что на обычном языке это называется двуличием и ложью!
– Осмелюсь возразить, государыня: никакой лжи тут нет. Ты думаешь, что диалектики занимаются тем, что называют черное белым и наоборот, но это совсем не так. В здешнем мире нет ни чисто черного, ни чисто белого цвета. Всегда есть какие-то, так сказать, оттенки. А если существуют оттенки, то можно, говоря о предмете, выделять то один цвет, входящий в его окраску, то другой. Мне думается, это вполне правомерно, если есть в том необходимость. Например, августейшая, я могу сказать, что мы верим «в единого Бога, в Троице поклоняемого», или просто: «в единого Бога». И в том, и в другом случае я скажу правду. Но если я скажу это, допустим, перед враждебным ко мне агарянином, то первое высказывание может побудить его к действиям против меня, а услышав второе, он, возможно, примет меня за единоверца. Если моя цель – не обращение агарянина в нашу веру, а, например, торговая сделка, то зачем мне ссориться с ним? Не лучше ли при случае употребить второе высказывание, а не первое?
– Действительно, это логично, – императрица взглянула на логофета с интересом, ненадолго задумалась и улыбнулась. – Как-то в молодости я решала один вопрос в таком роде, и брат сказал, что, «начав лицемерить в столь юном возрасте», к двадцати пяти годам я «превзойду всех фарисеев»… Ну вот, не к двадцати пяти, так к сорока мне, похоже, действительно придется преуспеть на этом поприще… Только я не уверена, что из этого что-нибудь выйдет. Святейший сказал мне, что иконопочитатели непременно потребуют удалить его с кафедры… Вот, кстати, не в этом ли состоят те условия, о которых Мефодий хочет говорить со мной? А мы ведь дали обещание Феофилу не делать этого!
Феоктист подумал несколько мгновений.
– Но ведь это не единственное, что мы обещали августейшему, – заметил он.
– Не единственное. Конечно, больше всего он беспокоился о сыне…
– В этом и заключен ответ на твои сомнения, государыня. Коль скоро будет невозможно обеспечить мирное царствования вашего августейшего сына иначе, чем через нарушения каких-то иных обещаний, думаю, разумно допустить нарушение менее существенного, чтобы достигнуть главнейшего.
Феодора чуть приподняла брови.
– Хм… Интересное рассуждение!.. Вот что, Феоктист, я сейчас погуляю с Михаилом, уложу его спать, а потом пошлю за тобой, и мы еще побеседуем… Поучишь меня дальше… играть в кости!
12. Сделка
Благочестие – это некое искусство торговли между людьми и богами.
(Платон, «Евтифрон»)
Императрица встретилась с игуменом Мефодием спустя неделю в одном из помещений Магнаврского дворца. Игумен поблагодарил ее за согласие принять его и еще раз извинился за «неразумное поведение» Симеона.
– Хорошо, не будем больше об этом, – сказала Феодора. – Но что же, господин Мефодий, вы изменили свой взгляд на мою просьбу?
– К сожалению, государыня, она не так легка для исполнения, как это тебе представляется… Но сначала, если ты позволишь, августейшая, я бы хотел задать тебе один вопрос.
– Я слушаю.
– Что ты имела в виду, когда сказала, что государь перед смертью сожалел о содеянном против нас? Жалел ли он просто о том, что слишком сурово гнал православных… или о чем-то еще?
Императрица посмотрела в глаза игумену.
– Да, и о чем-то еще. Я хотела рассказать вам об этом, но решила начать с рассказа о том, во что, как мне казалось, вам легче будет поверить – о его просьбе облегчить вашу участь. Но вы не только не поверили, но сказали то, что сказали… Конечно, вы бы тем более не поверили, если б я рассказала еще и о другом!.. Право, не знаю, сто́ит ли теперь говорить об этом.
– Я не могу настаивать, государыня, – тихо сказал Мефодий. – Но могу обещать, что не оскорблю твоих чувств к покойному государю.
Феодора помолчала, глубоко вздохнула и рассказала о чуде с энколпием и о том, что после него император искренне обратился к иконопочитанию. К концу рассказал голос ее прерывался, а в глазах стояли слезы.
– Икона до самой смерти лежала рядом с ним на подушке. И в ту ночь, когда он умер… он попросил меня поднести ему образ, поцеловал его и сказал: «Господи, прими меня, грешного!» – и скончался… И у него было такое спокойное и светлое лицо… А вы… говорите… что он умер «врагом Божиим» и «святотатцем»… Как я могу такое слушать?!
Она резко поднялась и отошла к окну. Мефодий тоже встал и попытался собраться с мыслями. Он был глубоко поражен рассказом императрицы и поверил ей сразу и безусловно – но как убедить других, что это правда?..
– Августейшая, – сказал он, наконец, – я очень рад, что государь перед смертью обратился к истинной вере. Это великое чудо Божие! Но… ведь ты не приглашала к нему православного священника для причастия?
Августа обернулась и пристально посмотрела в лицо Мефодию: похоже, он действительно обрадовался услышанному, был потрясен, даже растроган, и говорил искренне. «Хоть один христианин среди них, похоже, нашелся! – подумала она. – Впрочем, я еще погляжу сейчас, что ты скажешь, отче…»
– Нет, не приглашала, – ответила она. – Сказать честно, мне не пришло это в голову тогда. А государь сам ни о чем не просил… Видимо, ему тоже не пришла мысль об этом… Но разве это так уж важно? Ведь Писание говорит, что Бог смотрит больше на сердце, чем на внешние действия!
– Это так, августейшая, но, с другой стороны, сердечная вера необходимо должна вести за собой определенные действия… Хотя, вероятно, в данных обстоятельствах было бы трудно… может быть, даже неразумно требовать от государя чего-то большего, чем то, что он сделал.
– Вот именно, отче! Но я не думаю, что то, что он сделал, мало в глазах Божиих!
– В глазах Божиих это, конечно, не мало, государыня, но мы, к сожалению, сейчас вынуждены говорить о глазах человеческих…
– Да, к сожалению! – императрица в упор посмотрела на игумена. – Скажи мне, отче, почему вы так любите отправлять людей в ад?
– Что ты имеешь в виду, государыня? – Мефодий немного растерялся.
– То, что когда с вами говоришь о прощении умерших в заблуждении, вы говорите, что молиться за них – «выше ваших сил», что это было бы «слишком дерзновенно»… Но когда вы говорите об их вечной участи, то у вас вполне достает сил и дерзновения уверять, что они мучатся в аду! На каком основании? Только потому, что они неправильно верили? А разве это достаточное основание? Я вот, отче, на днях перечитала то место в Евангелии, где Господь говорит о том, как будет судить мир. Ведь там говорится, что перед Ним соберутся все народы – значит, и верные, и неверные. Но Он ничего, ни слова не говорит им о догматах! Зато Он обещает помиловать тех, которые были милостивы к ближним, кормили и поили бедных, заботились о больных… И вот, я спрошу тебя: многие ли из ваших единоверцев могут похвалиться обилием таких дел, а не просто сидением в ссылках? Зато если ты спросишь у наших граждан о том, кто больше всего оказал им благодеяний, защищал от притеснений чиновников и неправедных судей, от несправедливости, – как ты думаешь, кого они назовут в первую очередь? А кто построил в Городе странноприимницу, которой восхищается все – и здешние, и приезжие? Знаешь ли ты, кстати, на месте чего она была построена? Между прочим, многие из изгнанных оттуда блудниц раскаялись и поступили в монастырь, некоторые – в тот, что создала сестра государя на месте своего дома! А ее муж погиб, пытаясь освободить наших, попавших в плен к арабам, он и государя спас когда-то… Это ли не дела, достойные христиан? И несмотря на всё это, вы дерзаете выносить суд, отправлять человека в преисподнюю, как будто вас на это уполномочил Бог! Я сказала вам, что вы имеете власть разрешать и связывать… Но теперь мне, скорее, хочется спросить: почему вы любите только связывать и так не любите разрешать?! Такова-то ваша христианская любовь, которая «долготерпит и милосердствует»? Так вы исполняете заповеди о любви к врагам и о молитве за творящих вам напасти? А ведь вера доказывается делами!
Императрица говорила вдохновенно, глаза ее сверкали негодованием, и Мефодий невольно опустил взгляд: в сущности, ему нечего было возразить. Конечно, он мог бы начать рассуждать о том, что без правой веры всё-таки «невозможно угодить Богу», но… Внезапно ему вспомнился последний разговор с архиепископом Сардским: «Думаю, мы слишком торопимся видеть смерть грешника, отче! Может, оттого Господь и не дает торжества веры», – сказал тогда Евфимий. И теперь, после рассказа августы об обращении императора, Мефодий, вспоминая собственную беседу с Феофилом, понял, что владыка Евфимий был прав, – и права августа, укоряя их за стремление вынести слишком скорый суд над противниками…
– Твои упреки во многом справедливы, августейшая, – смиренно сказал он и умолк.
Кажется, его ответ, в свою очередь, поразил Феодору: по-видимому, она ждала, что он будет возражать, спорить, оправдываться… Августа удивленно взглянула на игумена, снова села в кресло и спросила как-то устало:
– И что же мы будем делать, отче?
– Полагаю, государыня, нужно вернуться к глазам человеческим и исходить из того, что пока они смотрят на дело не так, как нам хотелось бы. Я должен сказать, что большинство моих единоверцев, если и не придерживаются взглядов отца Симеона, всё же считают, что человек, умерший вне общения с православными, даже если он при этом совершил много добрых и великих дел, не может поминаться как верный и за него можно молиться только келейно, а не общецерковной молитвой.
– Что ж, даже если я расскажу им то, что рассказала тебе сейчас, они не изменят своего мнения?
– Боюсь, августейшая, что… Да не прогневается государыня на мои слова, но я скажу правду: многие из моих собратий считают… что государыня просто придумала историю с покаянием своего августейшего супруга, потому что ей слишком хотелось в это покаяние поверить… А другие полагают, что это всё ничего не значащие слова, потому что и сама государыня продолжает состоять в общении с иконоборцами…
– Вот как! Значит, и мои слова под подозрением, и я сама, и моя вера, а тем не менее, они ждут от меня, что я уважу их просьбу? Занятная у вас логика, отче! Я всегда думала, что к логическим построениям не способна, но теперь вижу, что далеко не я одна к ним не способна, – она усмехнулась.
– Увы, государыня, люди таковы, каковы они есть! Мы не можем их переделать, поэтому приходится думать о том, как побудить их изменить свое мнение.
– И что же ты можешь предложить? – спросила августа с иронией.
«Господи, помоги мне!» – мысленно помолился игумен и ответил:
– У меня есть некоторые соображения на этот счет, государыня. Во-первых, все самые уважаемые подвижники и исповедники не считают возможным оставить священный сан тем, кто попрал свое обещание до смерти стоять за веру, данное еще до изгнания в ссылку святейшего Никифора. Владыка называл этих людей крестопопирателями, поскольку они отреклись от своих подписей и от прежней веры, а значит, не могут иметь и данного им в той вере священства. Во-вторых, разумеется, все те, кто был рукоположен иконоборцами, не являются священниками Божиими, а потому при восстановлении иконопочитания тоже должны быть низложены и заменены православными. Великий отшельник Иоанникий, о котором, думаю, государыне известно, подвижник и прозорливец, уверял меня, грешного, что если иконоборцам будет оставлен священный сан, то они «введут в Церковь не только иудейство, но и язычество», поэтому их следует даже после покаяния принимать в Церковь только как мирян. Такого же мнения держатся почти все православные, страдавшие за веру. Я хорошо понимаю, что подобные действия могут многим показаться чрезмерно суровыми и жестокими, но если бы государыня на них согласилась, это в глазах исповедников стало бы лучшим доказательством того, что она действительно стремится к истинному торжеству православия. А это, в свою очередь, думаю, смягчит их сердца и подвигнет на молитву за почившего государя.
«Иоанн был прав! – подумала августа. – Господи, что же теперь делать?..»
– Значит, вы будете настаивать на избрании нового патриарха? – спросила она.
«Неужели она хотела бы оставить на кафедре этого Ианния?!» – ужаснулся Мефодий, а вслух сказал:
– Боюсь, без этого никак не обойтись, августейшая.
– Боишься? – насмешливо глянула императрица. – А мне говорили, что вы уже давно начали делить между собой кафедру!
– Это не совсем так, августейшая, – сказал игумен, как будто нимало не смутившись. – Но разговоры о будущем патриархе, действительно, идут – именно потому, что наши братия даже и мысли не допускают о том, что кому-то из иконоборцев может быть оставлен сан, ведь еще святейший Никифор не считал это возможным!
«Извергнуть из сана весь клир! – думала Феодора. – Ведь это конца не будет возмущению! А если оставить всё, как есть, возмущению тоже конца не будет с другой стороны… Феоктист говорит, что ревнители возмутят монахов, а через них и мирян… Ведь я женщина, Михаил мал, и они осмелеют… Дядя пугает государственным переворотом… Может, он просто пугает, а может… Кто их знает, этих ревнителей, на что они могут пойти ради икон! Но, в конце концов… В конце концов, надо мне самой понять, чего я хочу, и идти до конца! Если я верю, что иконы надо чтить, а я верю, тогда нужно действительно восстановить их почитание в Церкви… Ведь если бы Феофил остался жив, разве не рассудил бы он так же?.. И тогда придется идти на требования этих ревнителей, ведь других исповедников у нас нет, – она усмехнулась про себя. – Конечно, если бы Феофил был жив, он не позволил бы никого извергнуть, он нашел бы способ восстановить православие без всех этих… ужасов! И эти ревнители, которые сейчас отправляют его в ад, прославили бы его как христианнейшего государя! А теперь, чтобы они не осуждали его, мне приходится… торговаться!.. “О, для чего я родилась!” Святейший, я не смогу защитить тебя!»
– Имей в виду, отче, – сказала она, глядя в глаза игумену, – что если вы настаиваете на избрании нового патриарха, то я хочу, чтобы им стал такой человек, который не только поверит моим словам о предсмертном обращении государя, но и убедит других поверить этому и сотворить молитву о его прощении. В противном случае, повторяю: я буду управлять так, как правили мой свекр и муж – это мое последнее слово!
– Думаю, августейшая, – ответил Мефодий, не отводя глаз, – такой человек найдется.
– И ты уверен, что именно он будет всем угоден в качестве патриарха? – взгляд августы стал чуть насмешливым. – Ведь наверняка предложат несколько кандидатов.
– Их, безусловно, будет несколько, государыня. Но когда дойдет до избрания, полагаю, было бы делом благочестия вопросить волю Божию через какого-нибудь подвижника, издавна известного своим даром прозрения… Например, через отца Иоанникия.
Императрица улыбнулась.
– Что ж, – сказала она, – на том и порешим.
Перспектива низложения всего иконоборческого клира ошеломила членов регентства: ни Мануил, ни Феоктист не ожидали, что за торжество иконопочитания придется уплатить подобную цену, ведь они рассчитывали, что всё будет улажено через прощение покаявшихся, как то было в свое время сделано на Никейском соборе. Варда, наконец, перестал пожимать плечами и заявил, что только безумец может пойти на подобные требования.
– Тысячи людей, выброшенных на паперть! Вы подумали об этом? – воскликнул он. – Куда мы денем всех этих епископов, священников, диаконов? Куда они пойдут? А их семьи? А что скажут их родственники?!.. Похоже, на почве икон все решительно сошли с ума! Такого никогда еще не было, никогда! Вспомните историю! Кого извергали на соборах, какой собор ни возьми, кого осуждали? Только тех, кто отказывался принять православие! Где это видано, чтобы покаявшимся клирикам не оставляли сан? Что за самодурство?! Что они хотят этим доказать, эти ревнители? Это безумие, сущее безумие! Я не могу на такое согласиться!
– Да уж, – проговорил логофет, – это действительно как-то… чрезмерно! Неужели им, чтобы убедиться в искренности государыни, недостаточно того, что она восстановит православие?!
– Такие требования, пожалуй, в духе студитов… Но неужто они все там думают так? – сказал Мануил. – И ведь из них мало кого, в сущности, сильно гнали в последние годы…
Взять тех же студитов – жили себе спокойненько в разных местах! Хоть тот же отец Николай: ему моя сестрица все условия создала для безбедной жизни – сиди себе, молись, душу спасай… Да у него, небось, в монастыре не было таких условий, как в этой ссылке!.. Или этим Илариону с Симеоном – так ли уж плохо было на Афусии? Лазаря еще, допустим, можно понять, он действительно жестоко пострадал… Да и то – давно уж дело было, а после никто его и пальцем не тронул!.. Откуда в них такая озлобленность?! Непостижимо! «Введут в Церковь не только иудейство, но и язычество»! Еще и язычество? На что это они намекают?
– По-видимому, на любовь святейшего Иоанна к эллинским писаниям, – ядовито заметил Варда. – Уж конечно, православный патриарх не должен читать ничего, кроме Псалтири и Златоуста!
Императрица слушала своих помощников, не вмешиваясь, а когда все выговорились и умолкли, сказала:
– Господа, я вас не понимаю. Еще так недавно вы уверяли меня, что необходимо восстановить иконы, иначе Империю ждут великие бедствия, а нынче что же – эти бедствия вас уже не страшат? Как же вы были так недальновидны? А вот святейший сразу сказал мне, что иконопочитатели потребуют сделать именно то, что вас так возмущает, потому что когда-то они этого уже требовали. Вы, как видно, об этом забыли? А кто тут говорил о знании истории? Если вы хотели покоя, тогда нечего было и начинать! Но теперь, хотите вы или не хотите, а я доведу это дело до конца! Если можете, попробуйте договориться с иконопочитателями на иных условиях, если же у вас ничего не выйдет, то всё пойдет так, как я уговорилась с Мефодием. Пока я не знала, как эти ревнители смотрят на моего мужа и его вечную участь, я была спокойна, но вы сделали так, что я узнала об этом… Так вот, что я вам скажу: я не позволю, чтобы мои подданные думали, будто Феофил отправился в преисподние судилища, и сделаю всё, чтобы все узнали, что Бог принял его как верного и православного, – чего бы это ни стоило и как бы дорого ни обошлось!
…Приближалась зима, а вопрос об иконах всё еще не был решен. Феоктист, Мануил и Варда действительно попытались выговорить у иконопочитателей более мягкие условия восстановления православия, но ничего не добились: исповедники, даже в обмен на извержение из сана всех иконоборцев, не слишком охотно соглашались молиться за покойного императора – одни по-прежнему не хотели этого делать ни при каких условиях, другие были готов молиться не о том, чтобы Бог простил Феофилу гонения на православных, а прямо об избавлении императора от вечных мук… Переговоры шли тяжело и неприятно. Императрица в них больше не участвовала, а лишь наблюдала со стороны – логофет дрома докладывал ей обо всем. Варда продолжал стоять против прещений на иконоборческое духовенство и хотел, чтобы оно было принято через покаяние. Мануил в качестве самой крайней меры предлагал извергнуть поголовно только епископов, а клириков более низкого чина оставить в сане, если они покаются. Феоктист поначалу поддерживал Мануила, но к сентябрю перешел на сторону императрицы, видя, что ни она, ни ревнители икон не расположены сходить со своих позиций. Между тем иконопочитатели не сидели сложа руки, и к концу осени уже многие синклитики, придворные и военные стали выступать за восстановление православия, в народе и особенно среди монахов всё больше нарастало ожидание перемен в вере. Правда, духовенство сдерживало подобные разговоры среди паствы – слух о том, что иконопочитатели требуют поголовного извержения иконоборческого клира, уже прошел, и, конечно, становиться жертвой никому не хотелось…
Наконец, регенты сдались и на Богоявление объявили императрице, что ничего не остается, как пойти на условия, изначально предложенные Мефодием. На следующий день Феодора призвала к себе патриарха и рассказала ему о положении церковных дел, о переговорах и о требованиях противной стороны. Иоанн слушал молча, только время от времени чуть заметно усмехался.
– Святейший, я чувствую себя Пилатом! – с горечью сказала императрица.
– Это неподходящее сравнение, государыня, – ответил патриарх с улыбкой. – Если ты и не обретаешь во мне вины, это еще не значит, что я праведен пред Богом.
– Ну, конечно, все мы грешим, – пожала плечами августа. – Но не настолько же ты грешен, чтобы претерпеть то, на что я вынуждена тебя обречь!
– О, я не стал бы этого утверждать столь опрометчиво! Люди, конечно, не знают всех наших грехов, но ведь Богу известно всё. Мы грешим, каемся, несем епитимии, но не всегда знаем, насколько эти епитимии соответствуют сделанным грехам, а иногда даже и не замечаем за собой каких-то грехов. Поэтому случается и так, что Бог, видя нас недостаточно очищенными, посылает нам разные скорби, на первый взгляд не заслуженные. На самом деле чаще всего такие скорби посылаются как дополнительные епитимии, непосредственно от Бога, и никто не страдает безвинно, кроме, разве что, праведников, подобных Иову – но к нему я, разумеется, приравнять себя не дерзну. Поэтому, августейшая, – патриарх взглянул ей в лицо и еле заметно улыбнулся, – если в настоящем случае у тебя и есть сходство с Пилатом, то всего лишь в том, что ты, как и он, служишь орудием божественного промысла, и только. Мне бы очень не хотелось, чтобы тебя это огорчало. Если мне суждено испытать какие-то неудобства, это лишь послужит на пользу моей душе. А кроме того, признаться, я буду даже рад избавиться от бремени патриаршества и всего, что с ним связано. Поэтому я вижу в происходящем не что иное, как благой Божий промысел, и благословляю его.
– Что ж, – проговорила августа, вставая, – это очень по-философски и по-монашески, но… Всё-таки прости меня, владыка! Мне ужасно жаль, что так выходит! Я так хотела бы, чтоб ты остался на кафедре… Но, как видишь, мне пришлось сделать выбор, – она опустила голову. – Прости меня и благослови! Я никогда не забуду, как много ты сделал… для нас с Феофилом!
– Бог да благословит тебя, чадо, всегда, ныне и присно и во веки веков! – тихо сказал Иоанн, благословляя склонившуюся перед ним императрицу. – Не печалься, августейшая! Эта жизнь – всего лишь театр, а дом наш не здесь. И дай Бог, чтобы когда-нибудь мы все встретились в том доме!
13. Ради любви
(Осип Мандельштам)
- Потому что не волк я по крови своей
- И меня только равный убьет.
20 января, в годовщину смерти императора, патриарх совершил заупокойную литургию и панихиду в храме Апостолов, после чего августа раздала много денег народу, повелела выставить столы с едой для бедняков и нищих, а сама отобедала во дворце в узком кругу – приглашены были только члены семьи, регенты, препозит, эпарх, некоторые синклитики и кувикуларии, а также патриарх. Императрица была задумчива и печальна, остальные – так или иначе встревожены, дети – немного грустны, только Иоанн сохранял безмятежный вид. Феодора время от времени взглядывала на него, и, наконец, он улыбнулся и сказал:
– Августейшая, позволю себе поднять кубок, сопроводив его изречением одного древнего мудреца: «Уходя, не оглядывайся». Думаю, что если бы люди чаще следовали этому совету, их жизнь была бы гораздо счастливее.
– Да, хороший совет, – проговорила императрица, – и он особенно ценен в устах того, кто умеет ему следовать, – она умолкла на несколько мгновений. – Мне, владыка, нечем ответить на него, кроме как словами поэта: «Боги тебе за сие воздадут воздаяньем желанным!»
На другой день она приказала Феоктисту послать приглашения игумену Мефодию и другим первенствующим из исповедников, чтобы те прибыли в Константинополь к началу февраля, и когда ей доложили, что иконопочитатели ждут августейшего приема, она велела пригласить их в Большую Консисторию, куда собрались регенты и синклитики с другими придворными. На этот раз исповедников было значительно больше: пришли и синкелл Михаил, и Феофан Начертанный, и игумен Навкратий с Николаем, и Агаврский игумен Евстратий; монах Лазарь и иеромонах Симеон тоже были здесь. Почти у всех прибывших на лицах было мало воодушевления, поскольку они уже знали, что́ их ожидает: Мефодий сумел убедить большинство в том, что необходимо исполнить просьбу августы, поскольку в противном случае торжество веры не состоится, – но, хотя грядущее извержение всех иконоборческих клириков из сана действительно было по нраву православным, молиться за покойного императора мало кто из них согласился без внутреннего возмущения или смятения.
– Надеюсь, отче, ты не будешь просить нас на приеме у государыни произносить панигирики в честь покойника? – спросил Феофан, саркастически усмехнувшись.
В последнее время он постоянно чувствовал горечь, вспоминая о своем умершем брате – Феодор скончался меньше чем за месяц до смерти императора, и Феофану было нестерпимо обидно, что брат не дожил до торжества православия, ради которого перенес столько страданий. Но когда Начертанный думал о том, какой ценой достается это торжество, становилось еще горше, и он чувствовал себя почти предателем по отношению к Феодору и другими исповедникам, почившим в ссылках.
– О, нет! – улыбнулся Мефодий. – Я буду безмерно рад и благодарен вам всем, если вы хотя бы постоите молча и не будете выказывать недовольства!
«Эта жизнь – всего лишь театр, – повторяла себе императрица накануне дня встречи с иконопочитателями, пытаясь хоть немного перебороть волнение, – и завтра мне предстоит сыграть очередное представление… Нужно постараться сыграть его достойно…» Она взглянула на портрет мужа, висевший в ее спальне над кроватью и прошептала:
– Ради тебя, Феофил!
О том, как будет проходить грядущая встреча, в общих чертах было условлено заранее, но всё же обе стороны опасались каких-нибудь подвохов, и это создавало напряженность. Даже Петрона под маской всегдашнего своего равнодушия был явно насторожен. Почти во всех иконопочитателях ощущалась натянутость, исключение составлял разве что Никомидийский отшельник Исаия – неожиданно для собратий он оставил свою башню и тоже прибыл в Царствующий Город. Лучше всего владели собой императрица и Мефодий – оба держались с непреклонным достоинством, и в то же время Феодора словно источала благоволение, а игумен был сама любезность и само смирение, как и подобало пришедшему ходатайствовать перед августой по делу наивысшей важности. Варда украдкой поглядывал на обоих и дивился, насколько они хорошо подготовились, чтобы исполнить каждый свою роль. После взаимных приветствий Мефодий выступил вперед и сказал:
– О, боговенчанная владычица! Мы пришли к тебе сегодня с прошением по делу безмерной важности, столь же безмерной, сколь безмерно всё божественное и относящееся ко святой Церкви. Вот уже без малого тридцать лет наша Церковь волнуема и раздираема бесчинием и нестроениями, безрассудно привнесенными в нее противниками священных изображений. И ныне мы слезно молим тебя, августейшая госпожа: прикажи, чтобы Церковь Божия обновилась и воспрянула, вновь обретя досточестное и спасительное украшение, которое утратила – святые иконы, чтобы объединились расточенные и было восстановлено разоренное, и чтобы рог христиан вознесся ввысь при боговенчанной державе вашего царства! И тогда, государыня, имя и память твоя и твоих возлюбленных детей будет восхваляться, прославляться и ублажаться в роды родов!
– Мне, честнейшие отцы, – ответила императрица, – хорошо известны и горячность, и ревность, и православность вашей веры и благочестия. Но надлежит и вам узнать, что я сама чту святые иконы и поклоняюсь им со всем благоговением, наученная этой вере от моих родителей. И чтобы вы не подумали, будто это только слова, я докажу вам их на деле, – Феодора поднялась, вынула из-под хитона висевший у нее на шее на золотой цепочке большой крест с изображениями Спасителя и Богоматери, показала его всем собравшимся и, перекрестившись, приложилась к нему.
– Слава и хвала человеколюбию Божию! – воскликнул Мануил, и то же повторили все придворные.
– Благословен Бог, восставляющий защитников веры и благочестия! – сказал Мефодий, и остальные исповедники подхватили славословие.
Когда водворилась тишина, императрица снова села на трон и продолжала:
– Итак, досточтимые отцы и братия, вы видите сами, что я готова со всякой благосклонностью даровать вам восстановление святых и досточтимых икон. Но есть и у меня одна просьба к вам, и если вы желаете, чтобы я сотворила всё, что вам по душе, не погнушайтесь и вы моим прошением, но исполните его.
– Что же это за просьба вашего царства к нам, смиренным? – спросил игумен.
Тишина в зале стала почти звенящей: исповедники, казалось, до последнего надеялись, что «неудобную» просьбу удастся обойти, а придворные, несмотря на предварительную договоренность Мефодия с Феодорой, до последнего боялись за ответ, который императрица может получить от иконопочитателей.
– Просьба моя и прошение к вашему благоговеинству такова, – ответила августа, – чтобы вы сотворили молитву милостивому и человеколюбивому Богу о Феофиле, супруге моем, и умолили, чтобы Господь простил все согрешения его, особенно же то, что он сделал против святых икон и против вас, ревностно их чтивших. Ведь я знаю и уверена, что вам дана от Бога власть вязать и разрешать человеческие прегрешения.
Легкий вздох пронесся среди исповедников, а Мефодий, помолчав несколько мгновений, сказал со всей почтительностью, но и с должным сожалением:
– Августейшая, с твоей стороны совершенно естественно обратиться к нам с подобной просьбой, ибо мы должны воздавать благодарность властителям и благодетелям, если они правят достойно и боголюбиво. Но ныне мы в смущении и печали, поскольку твоя просьба выше сил и достоинства нашего: ведь мы не можем посягать на то, что выше нас. Простить ушедшего в мир иной может только Бог, мы же, грешные, поставлены от Него разрешать и связывать только находящихся в земной жизни. Правда, иногда мы можем разрешить и уже умерших, но только если их грехи сопровождались раскаянием хотя бы при последнем издыхании. В настоящем же случае мы пребываем в скорби и недоумении, как можно исполнить твою просьбу, государыня.
– Я ждала такого возражения с вашей стороны, почтенные отцы, – ответила Феодора, – и хочу клятвенно заверить вас, что сама была свидетельницей покаяния моего супруга на смертном одре. Господь умилосердился над ним и не попустил ему умереть противником икон, но перед самой кончиной вразумил его страшным сонным видением, и государь раскаялся, поцеловал святую икону и с этим исповеданием отдал душу свою в руки Божии. Это может подтвердить и стоящий тут господин логофет, и некоторые слуги моего мужа. Поэтому я верю, что Бог принял его покаяние, и ныне молю вас, чтобы вы своей священной молитвой запечатлели его предсмертное исповедание и перед всеми людьми сделали известным прощение его грехов. Итак, я прошу вас сотворить моление о моем супруге и быть свидетелями его прощения, сделавшись подражателями человелюбивого Христа, чтобы явить себя достойными принять и пасти Его святую Церковь. Если же вы не исполните моего прошения, тогда не будет ни моего согласие на ваши просьбы, ни восстановления почитания святых икон, но всё останется по-прежнему, и Церковь вы не получите. Это мое последнее вам слово, отцы, и теперь будущее Церкви зависит только от вас.
«Ай, да сестрица! – восхитился Варда. – Как ловко повернула! И как говорит-то!.. Если б государь сейчас слышал ее, он мог бы гордиться!»
Исповедники между тем переглядывались, некоторые не могли скрыть своего возмущения: императрица не только представила свою «невозможную» просьбу как исполнимую и совсем незначительную, но еще и перелагала на иконопочитателей вину в возможной неудаче всего предприятия по восстановлению православия!.. «Красивая история! – думал игумен Евстратий. – Если это и неправда, то августа поступила весьма умно, сочинив такое… Ведь не опровергнешь и не скажешь ей в глаза, что она лжет…» Феофан Начертанный, с самого начала воспринимавший всё происходившее как «недостойное представление», нимало не поверил рассказу императрицы о покаянии императора и уже собирался что-то сказать, как вдруг раздался тихий голос отшельника Исаии:
– Позволь, августейшая владычица, высказать мое смиренное слово.
Он выступил немного вперед, тяжело опираясь на посох, – уже совсем ветхий старец, согбенный и совершенной седой. «Сколько же ему сейчас лет? – подумала Феодора. – Ведь когда я была у него, он уже был стар… Господи!..» – тут она ясно вспомнила тот весенний день, когда отшельник благословил ее и вручил яблоко, и в ушах ее точно вновь зазвучали его слова: «Ты же, когда придет час, прославишь Его, как Он ныне прославит тебя…» Она невольно прижала руку к груди.
– Вижу, владычица, ты вспомнила сказанное тебе мною, ничтожным, – Исаия чуть улыбнулся. – Я же поистине узнал ныне, что Бог смиряет человеческую гордыню и никому не открывает всех судеб Своих! Ибо когда-то я, грешный, провидел не только твою будущую славу, но и скорби, ожидавшие тебя, но не дал мне Господь предузнать глубину любви твоей! Ибо поистине ты уподобилась апостолу Павлу любовью и состраданием, а через тебя Бог и нас, грешных, хочет научить тому же, – он повернулся к остальным исповедникам, слушавшим его с немалым удивлением, и сказал: – Ныне, братия и отцы, заклинаю вас не коснеть в нечувствии и жестокосердии, но уважить просьбу августейшей государыни, ибо так Господу угодно и православие восстановить, и государя помиловать, и нас научить Своему человеколюбию. Говорю вам: если теперь вы не согласитесь, то не только сами себя лишите пользы душевной, но окажетесь и богоборцами!
В зале воцарилась мертвая тишина: все были поражены и не находили, что сказать. У императрицы на глаза навернулись слезы, и она сделала огромное усилие над собой, чтобы не заплакать тут же при всех. «Господи! – подумала она. – Поистине Ты послал в его лице Своего ангела на помощь мне!» Та же мысль в этот миг пришла в голову и Мефодию: в душе возникло ощущение, словно он долго и мучительно пытался отплыть от берега на судне, но оно не двигалось с места – и вдруг некто обрубил под водой удерживавший его канат, и оно полетело вперед на всех парусах. Игумен благодарно взглянул на Никомидийского отшельника и обратился к августе:
– Государыня, мы все совершенно согласны с богопросвещенным отцом Исаией, и поскольку ты просишь нас с верой и уповаешь на силу церковной молитвы, то вот, как только твоим повелением будет открыта для нас Великая церковь Божия, мы все в определенное время сотворим пост и обратим моления к милостивому Господу. Но и ты сама сделай то же самое со всеми, кто живет с тобой в Священном дворце, от мала до велика, – и веруем, что тогда Бог непременно явит Свою милость и человеколюбие на нас, смиренных, ныне, как и всегда!
После этих слов остальным иконопочитателям не осталось ничего иного, кроме как согласиться с игуменом. Когда исповедники уже покинули дворец, Феофан подошел к Никомидийскому отшельнику и сказал:
– Прости меня, отче, но не мог бы ты объяснить, что означала твоя речь? Признаться, я весьма… удивлен, чтобы не сказать что-то менее приятное. Конечно, я не отрицаю, что августейшая государыня благочестива, но… сравнивать ее с великим апостолом, тогда как она, по сути, предпочла своего почившего мужа, не говорю нам, но самому православию и Церкви!..
– Да, вот и я подумал об этом, – вмешался Лазарь, услыхав слова Начертанного. – Это что же выходит: она готова оставить всю державу в этой гнусной ереси и сама пойти в конечном счете на вечные муки, только бы быть вместе со своим мужем – хотя бы и в аду?!
Исаия внимательно посмотрел в лицо сначала Феофану, а потом Лазарю, вздохнул и тихо ответил:
– Вспомните, отцы, что сказал Господь: муж и жена «уже не двое, но одна плоть». И что говорит апостол: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». А божественный Златоуст, толкуя эти слова Павла, говорит, что апостол не только не погубил своей любви ко Христу, но «еще усилил в себе эту любовь» и домогался этого отлучения ради братий именно потому, что сильно любил Христа. И не роптать тут надо, а смириться под крепкую руку Божию и благодарить Господа, что Он показал нам воочию, что такое истинная любовь!
В середине февраля во дворце, в помещении императорской канцелярии, состоялось, наконец, общее собрание православных, куда прибыли уже все, кто мог прибыть – в том числе епископы Диррахийский Антоний и Кизический Иоанн, которым предстояло руководить делом избрания нового патриарха. Присутствовали также многие синклитики и придворные. Императрица попросила огласить в собрании доводы в пользу почитания икон, чтобы убедить всё еще сомневающихся, – и тут более всего пригодилось большое «Обличение и опровержение» иконоборцев, составленное патриархом Никифором незадолго до смерти. На собор прибыли и многие епископы из числа иконоборцев, во всеуслышание проклиная ересь, – они надеялись таким образом избежать будущих прещений, слух о которых разошелся уже далеко. Наконец, когда было достигнуто общее согласие и ни у кого не осталось сомнений – или, по крайней мере, никто не выражал их вслух, – был поднят вопрос о предстоятеле Церкви. Тут Феоктист, от имени августы присутствовавший на собрании, сказал, что, прежде чем обсуждать возможных ставленников в патриархи, нужно вопросить Иоанна, не желает ли он покаяться и присоединиться к истинной вере. Хотя это было не по нраву исповедникам, Мефодий и епископ Иоанн не дали разгореться спорам, поспешив согласиться с логофетом, после чего тот направил друнгария виглы сообщить патриарху общее решение.
Когда Константин явился в патриархию, Иоанн находился в Фессалийском триклине – сидел в глубоком кресле у окна и перечитывал Евагрия Схоластика. Келейник доложил патриарху о приходе друнгария, и Грамматик, отложив книгу, поднялся навстречу посетителям. Вслед за Константином в помещение вошли четверо экскувитов. Поприветствовав патриарха, друнгарий сказал:
– Трижды августейший император и его августейшая мать послали меня сообщить тебе, владыка, что, уступая просьбам благочестивых людей и преподобнейших отцов-подвижников, они решили восстановить в Церкви почитание святых икон, – Константин откашлялся и продолжал. – Вероятно, такая перемена покажется тебе неожиданной… Но, тем не менее, теперь уже не время размышлять: почтенное собрание отцов хотело бы немедленно услышать твой ответ. Итак, если ты, владыка согласен с ними, то да восстановит Божия Церковь свою прежнюю красоту. Если же ты против этого, то оставь кафедру и Город, удались в свое имение и живи там, а досточтимые отцы готовы обсудить с тобой вопрос о святых иконах и убедить тебя.
Иоанн приподнял бровь и насмешливо посмотрел на друнгария.
– Господин Константин, уверяю тебя, в твоем сообщении для меня нет ровно ничего неожиданного, даже в том, что касается предложения почтенного собрания сменить веру по приказу свыше. Насколько мне известно, эти отцы ради того, чтобы получить начальство в Церкви, довольно быстро оставили в стороне кое-какие убеждения, хотя еще недавно собирались отстаивать их до последнего. Ничего удивительного, если они считают и других подобными себе. Но я должен их разочаровать: передай им, господин, что я намерен держаться и дальше той веры, в какой пребываю сейчас. Что же касается обсуждения вопроса об иконах, то, признаться, это предложение меня немало позабавило. Приславшим тебя отцам, думаю, еще памятны беседы, которые я имел удовольствие вести с ними лет двадцать пять назад. Я тоже хорошо помню те диспуты, и мне представляется, что надежда упомянутых отцов в чем-то меня убедить весьма опрометчива, – патриарх усмехнулся. – Что же до предложения оставить кафедру, то мне пока не предъявили никакой вины, и я не вижу, чего ради должен уходить отсюда. Если же отцы, о которых ты говоришь, вздумают на своем собрании низложить меня, то я, пожалуй, отвечу им то же, что когда-то сказал, как я знаю, почитаемый ими даже во святых Никифор: я пока еще патриарх, и я никаких собраний не созывал, самовольное же сборище клириков без моего ведома, да еще не в церкви, а во дворце, является каноническим нарушением, со всеми вытекающими последствиями. Конечно, если меня вынудят удалиться в мое имение, мне придется уйти, но в таком случае я надеюсь, что эти отцы любезно избавят меня от своего присутствия, ведь таким образом они, прежде всего, избавят самих себя от неприятной необходимости стукнуться лбом о мою закрытую дверь, потому что никаких диспутов с ними я уже давно не веду и не намерен вести их впредь.
По мере того как патриарх говорил, лицо друнгария сначала вытянулось, потом покрылось красными пятнами, а под конец Константин был уже вне себя от гнева: наслушавшись на собрании обличительных речей в адрес иконоборцев и уже проникнутый стремлением «изгнать из Церкви богопротивную ересь», сейчас он, столкнувшись со спокойным и насмешливым высокомерием Иоанна, вышел из себя.
– Да как ты смеешь такое говорить, владыка?! – воскликнул он. – Уж не хочешь ли ты сказать, что…
– Я хочу сказать ровно то, что сказал, господин, – прервал его патриарх. – Того, чего я сказать не хочу, я не говорю. Итак, полагаю, я ответил на предложение, которое ты пришел передать мне, а потому нашу беседу можно завершить, – патриарх слегка наклонил голову и проследовал мимо друнгария к выходу из залы.
Однако экскувиты, увидев, что Константин разгневан, настроились весьма решительно.
– Куда это ты, владыка? – спросил один из них, загораживая патриарху дорогу.
– Туда, куда считаю нужным, – спокойно ответил Иоанн. – Я ведь пока еще не под арестом, не так ли?
– Сиди здесь, проклятый еретик! – крикнул другой экскувит, перс, один из тех, которые не участвовали с Феофобом в злополучном походе, а потому остались живы и теперь служили в дворцовой охране.
Все эти экскувиты были из числа стоявших на карауле, пока шло собрание иконопочитателей. Послушав выступления, они мало что поняли относительно православия, зато усвоили, что Грамматик представляет чуть ли не главное зло: Агаврский игумен, решив подыграть Мефодию, выдвинул предположение, что император «уже бы давно покаялся в своем пагубном заблуждении, если б не Иоанн, который его испортил с детства и развратил его разум», – а значит, во всех бедах, обрушившихся на Церковь, виноват не столько покойный василевс, сколько его «нечестивый учитель», и как только Феофил, вследствие болезни, освободился хоть немного от влияния «колдуна», он пришел к осознанию своих прегрешений против икон… Феоктист слушал эту речь с внутренним содроганием, но почел за лучшее не вмешиваться, только мысленно благодарил Бога, что императрица не слышит подобных разъяснений.
Видя, что Иоанн и бровью не повел в ответ на его выпад, перс решил припугнуть его и, быстро обнажив меч, выставил против патриарха, но в запальчивости не рассчитал и ощутил, как острие коснулось тела Иоанна. Экскувит отступил в испуге, а патриарх, поморщившись, приложил руку к животу, и все увидели, как на хитоне начало расплываться темное пятно. Кледоний, потерянно взиравший на всю эту сцену, на миг застыл в ужасе, а потом бросился к Иоанну:
– Владыка, ты ранен?!
– Пустяки, – ответил патриарх, – вряд ли смертельно.
Однако он чуть побледнел и оперся на руку келейника.
– О, Боже! Владыку убили! – вскричал Кледоний и, поворотясь к растерявшемуся друнгарию и его спутникам, заорал: – Убирайтесь прочь, варвары! Вы не христиане, а язычники, даже хуже!
– Кледоний, перестань, – тихо сказал Иоанн. – Лучше помоги мне лечь и позови врача.
В патриархии поднялся страшный переполох, и прежде чем друнгарий явился во дворец, туда уже долетела весть, будто патриарх «убит язычниками, подосланными императрицей». Феодора едва не лишилась чувств, услышав это. Когда Константин, придя, доложил о происшедшем и о том, что рана, нанесенная Иоанну, никакой опасности для жизни не представляет – об этом сообщил врач, сразу вызванный к пострадавшему, – императрица мрачно посмотрела на друнгария и сказала:
– Константин, тебя только с медведями можно посылать говорить, но уж никак не с философами!
Оставшись одна, она не выдержала и несколько раз стукнула кулаком по столу, пока до боли не отбила себе руку.
– Почему такой ценой?! – прошептала она, взглянув на икону Спасителя, теперь уже открыто висевшую в ее покоях. – Неужели нельзя было иначе?!.. Господи! Прости меня, прости, что я предала его!.. Но это ради Феофила… и ради того, чтобы все узнали правду! Ты Сам видишь, что они не верят… Они ничему не верят, кроме собственной «праведности», «невинные страдальцы»!
Она едва удержалась, чтобы не пойти в патриархию проведать Иоанна: надо было играть свою роль до конца и не давать иконопочитателям лишних поводов для сомнений в ее православии…
«Неужели я теперь всю жизнь буду играть то одну роль, то другую? – думала она. – Господи, как хорошо было с Феофилом, я была собой, я всегда могла быть собой… Как я мало ценила это!.. “Наша жизнь – всего лишь театр”… Господи, я ничего уже не смогу сделать для владыки, Ты Сам утешь его, как знаешь! И вразуми меня, что мне делать, как вести себя дальше!»
…Иоанн стоял у окна и наблюдал за тем, что происходило во дворе патриархии. Он быстро оправился от ранения и теперь находился под домашним арестом, ожидая, когда ему будет определено место для ссылки.
После скандального происшествия в Фессалийском триклине императрица послала Варду самолично узнать у патриарха, что произошло, и постараться как-нибудь уладить дело и успокоить возмущение. Когда брат августы пришел к Иоанну, тот был в постели, уже с наложенной повязкой. Увидев патрикия, Грамматик иронически улыбнулся.
– Здравствуй, господин Варда. Что, пришел посмотреть, как замять дело?
– Святейший, – смущенно проговорил тот, – мы приносим тебе извинения… Августейшая чрезвычайно огорчена…
– О, ей не стоило бы слишком убиваться! Прошу тебя, господин, передай государыне, чтобы она не переживала так за мое смирение. Ей нужно копить силы на будущее, ведь отныне ей придется вместо меня общаться совсем с другими людьми, – патриарх усмехнулся. – Я же, со своей стороны, не могу не благословить Бога за то, что скоро окажусь от них на известном расстоянии.
Варда тяжело вздохнул.
– Владыка, – сказал он, помолчав, – господин логофет всё же хочет, чтобы они соблюли хотя бы видимость суда… чтобы не давать им слишком много воли…
– Срубив голову, плачет по волосам? Право, господин Варда, я не имею ни малейшего желания участвовать в этом представлении, являясь на их соборище! В конце концов ты можешь сказать им, что я покусился на свою жизнь, но попытался выдать это за покушение на меня, вот и всё. Это будет вполне достаточным поводом для моего низложения, которого они так жаждут!
Варда вздрогнул и ошарашено глянул на патриарха:
– Покусился на свою жизнь?!.. То есть…
– Да, разумеется. Пришел господин друнгарий, изложил мне известные требования, я обещал подумать, а когда он удалился, взял ножичек и пустил себе кровь, чтобы попугать моих легковерных служителей и поднять возмущение против иконопоклонников. Естественно, тут же поднялся крик, что меня убили… Разве не правдоподобная выходка для такого злодея, как я?
– О, Господи! – Варда заложил руки за спину, с трудом удерживаясь, чтобы не затрясти кулаками, и заходил по комнате. – Нет, это немыслимо, немыслимо! Что скажет августа?! Она не согласиться подвергнуть тебя такому позору!
– А вот это как раз и будет твоей задачей – уговорить ее, господин Варда. Мне же, признаюсь, никакой способ не кажется слишком неудобным, чтобы избавиться от нужды вступать в какие-либо беседы с упомянутыми достопочтенными отцами. В свое время я наговорился с ними предостаточно, и подобные опыты мне более не интересны. Если ты уверишь государыню, что ради удаления от этих ревнителей я любую тяготу приму как наслаждение, ты не скажешь ничего, кроме правды.
На другой день патриарх был низложен собравшимися иконопочитателями как «покусившийся на самоубийство», причем большинство не согласилось позволить ему просто удалиться в свое имение, но было решено сослать его «на исправление» в монастырь, – однако возникли разногласия, в какой именно, и пока что Иоанн ждал определения своей дальнейшей участи. Соборяне также постановили обыскать его личную библиотеку на предмет наличия в ней писаний, хулящих иконы.
Когда несколько монахов явились с этой целью в патриаршие покои, Грамматик не принял их, только велел Кледонию отдать им ключи от шкафов и проследить, чтобы они не обращались с книгами по-варварски, а сам заперся в своей келье. Монахи перевернули вверх дном содержимое всех шкафов, но, к своему разочарованию, почти ничего не нашли. Низложенный патриарх держал у себя только книги святых отцов и различные научные, исторические и философские сочиненения; из еретических книг были обнаружены только Ориген и «Вопросоответы» императора Константина Исаврийца, а также несколько трактатов против икон, написанных самим Иоанном. Кледоний наблюдал за обыском с крайним негодованием, но старался держать себя в руках и молчал.
– А это что? – спросил один монах, открыв очередную книгу и недоуменно уставившись в нее. – Какие-то буквы странные… Глядите-ка, братия, тут, верно, что-то зашифровано!
Его собрат подошел, взглянул и сказал:
– Да нет, это на латыни, – он повернулся к Кледонию. – Что это?
– Письма Сенеки к Луцилию, – насмешливо ответил тот. – Уверяю вас, про иконы там нет ни слова!
– Опять язычник! – воскликнул обнаруживший книгу монах. – Да тут у него просто целый склад эллинских басен! Вот что он читает вместо Священного Писания!
– Да ладно тебе, – пробурчал третий монах, – тут и отцы, вон, и книги Завета…
– О, а это что такое?..
Кледоний взглянул, и сердце его стукнуло: первый монах добрался до полок, где лежали химические рукописи – трактаты древних ученых и кое-какие из тетрадей, куда Иоанн в течение нескольких лет записывал свои заметки, мысли и результаты химических опытов. Часть из них хранилась у него в имении, а здесь были те, что он пролистывал на досуге в последнее время, размышляя над плодами своих исследований.
– «Книга огней»… «Изготовление смарагда»… «Жидкое золото»… «Гермес – Меркурий – ртуть»… «У Стефана: Осирис – свинец»… «Зосима: север – черный, запад – серебряный, юг – лиловый, восток – золотой»… Что это такое?!.. А-а, поглядите-ка, братия, тут дьявол нарисован! – монах ткнул в рисунок, изображавший дракона, изогнувшегося в кольцо и кусающего свой хвост. – Да это колдовские книги какие-то!.. Господи, помилуй! Смотрите: «И одно дает другому кровь, и одно порождает другое. И природа любит природу, и природа веселит природу, и природа побеждает природу, и природа господствует над природой…» Точно, какие-то заговоры!..
Спустя полтора часа Кледоний пришел к Иоанну в слезах.
– Владыка, они забрали все химические рукописи, всё – и книги, и твои тетради! Решили, что это колдовство… Я им говорю: это химия, – а они заладили свое: «Там, – говорят, – дьявол нарисован!» Это они про символ работы… Взяли их все и еще «Вопросоответы» об иконах, и Оригена, и твои сочинения… Говорят: всё сожгут! Что же это делается, а!
Грамматик чуть побледнел, но усмехнулся и спокойно сказал:
– Помнится, Фукидид заметил: «Не секрет, что большинство из тех людей, кому неожиданно и в короткое время достаются большие богатства, становятся наглыми». Лучшие из отцов учили не отвергать сказанное эллинскими философами, но «всё рассмотреть, чтобы увидеть, не содержит ли это истину», а нынешние отцы предпочитают не рассматривать, а сжигать. Что ж, «беззаконнующие пусть беззаконнуют еще», как говорится… Я же радуюсь, что Бог избавил меня от необходимости сообщаться с подобными людьми.
– Ты-то можешь этому радоваться, владыка, – сокрушенно сказал Кледоний, – а что делать мне?! Меня ведь с тобой не пустят…
– Возвращайся в монастырь, брат. Там в ближайшее время понадобятся здравые умы. А потом будет видно. Да не горюй так! – Иоанн улыбнулся. – Всякое ненастье когда-нибудь сменяется благорастворением воздуха, надо только уметь ждать.
Изъятые у Грамматика рукописи были рассмотрены на собрании православных и действительно приговорены к сожжению как «душевредные, бесовские и отравотворные»: если и не все из присутствовавших поверили в «колдовское» содержание найденных записей, эти тетради в любом случае были хорошим поводом представить низложенного патриарха перед простым народом как «колдуна и бесоначальника». Феоктист уже не пытался ничего спасти и, краем уха слушая выступление соборян, размышлял о том, какой монастырь назначить местом ссылки для Грамматика. Логофет лично сообщил ему о решении собора, и Иоанн лишь попросил, чтобы с места ссылки, если возможно, открывался вид на Босфор.
Теперь во дворе патриархии жгли «колдовские книги», и поглазеть на это собралась немалая толпа монахов и мирян. Кто-то выкрикнул, что «этого колдуна самого бы тут сжечь», но крикуна тут же увели следившие за порядком стратиоты, присланные эпархом.
– Господи, какие варвары! – раздался за спиной Иоанна голос его келейника.
Кледоний с утра складывал в сундуки библиотеку Грамматика – готовил его к отъезду, то и дело вытирая глаза рукавом. Сейчас монах смотрел в окно, и по его щекам текли слезы. Иоанн обернулся и положил руку ему на плечо.
– Брат, надо уметь «и избыточествовать, и лишаться». Вспомни, что говорил святой Иустин: «Мы убеждены, что ни от кого не можем потерпеть вреда, если не обличат нас в худом деле и не докажут, что мы негодные люди: вы можете умерщвлять нас, но вреда сделать не можете». То же самое, в общем, говорил и Сократ. Будем подражать философам не только в дни благоденствия, но и в скорбях, тем более, что нас никто не умерщвляет. А что до этих глупцов, Бог им судья! В конце концов, то, чем мы занимались, мы делали для себя и получили пользу, не так ли? Они же не только не получили от этих записей никакой пользы и даже не в состоянии понять, в чем она заключается, но своими действиями нанесли вред собственной душе. Их остается лишь пожалеть!
Вечером зашел Варда и сообщил Иоанну, что его решено сослать в Клейдийский монастырь на западном берегу Босфора. Патрикий, по поручению императрицы, собирался сам поехать туда и проследить, чтобы ссыльному предоставили условия для достойной жизни. Как только всё будет готово, Варда должен был лично доставить низложенного патриарха по месту назначения.
– А это государыня просила передать тебе, сама изготовила, – сказал он с грустной улыбкой, вручая Иоанну небольшой круглый коврик, затканный красными розами по золотому фону. – На молитвенную память.
– Благодарю! – ответил Грамматик. – Передай августейшей, что я всегда буду молиться за нее и ее детей. Впрочем, – он улыбнулся, – она об этом и так знает. Да пусть не скорбит слишком сильно. Как сказал поэт, «должно быть твердым, чтоб имя твое и потомки хвалили»!
14. Торжество православия
Любовь никого не ненавидит, никого не хулит… никем не гнушается – ни верующим, ни неверующим, ни чужим, ни грешником… подражая Христу, который… научает: «Будьте благи и милосерды, как Отец ваш небесный».
(Св. Аммон Египетский)
Сразу после низложения Иоанна православные занялись избранием кандидатов на патриарший престол. Было названо несколько имен, в том числе иерусалимского синкелла Михаила, но старец отказался, выставив на вид свою немощь, тогда как время требовало патриарха не старого и больного, а еще полного сил и деятельного. Одни выдвинули игумена Катасаввского монастыря, другие – студита Николая, последний предлагал игумена Навкратия, но тот отказался по той же причине, что и Михаил. За Мефодия голосовали епископ Иоанн, игумен Евстратий и многие подвижники, прибывшие с Олимпа и из вифинских монастырей. После того как, наконец, трое ставленников были избраны, им повелели удалиться из Города, каждому в отдельный монастырь, и ожидать окончательного выбора. Когда императрице были названы их имена, она сказала собравшимся:
– Преподобнейшие отцы, я, разумеется, могла бы сейчас назвать вам того, кого мне хотелось бы видеть на патриаршей кафедре. Но я хорошо знаю, что пути Божие нередко далеко отстоят от мыслей человеческих, поэтому мне пришло на сердце желание обратиться к прославленному подвижнику нашего времени, постнику и прозорливцу – я имею в виду всем вам хорошо известного отца Иоанникия – и попросить его помолиться, чтобы Господь указал ему того, кто достойно упасет православное стадо на спасительных пажитях.
К Олимпскому отшельнику были посланы игумен Иларион и монах Лазарь, с ними отправился и один спафарий от императрицы. Иоанникий, выслушав просьбу, поместил их в особую келью и велел молиться, сам же затворился в своей и молился три дня и три ночи, после чего вручил посланным деревянный посох и сказал:
– Ступайте, чада, и отдайте этот посох иеромонаху Мефодию, который сейчас пребывает в Елеовомитском монастыре.
Когда в Константинополе узнали об ответе старца, императрица тотчас послала скорохода, чтобы он объявил избраннику волю Божию и соборную. Игумен немедленно прибыл в Царствующий Город, и все стали готовиться к грядущим торжествам.
4 марта, в Сыропустное воскресенье, Мефодий был рукоположен в епископа и возведен на патриарший трон. Совершив праздничную литургию в Святой Софии, новый патриарх сказал перед паствой пространное слово. Возблагодарив Бога, милостиво дарующего, наконец, Своей Церкви после бурь и мятежей долгожданный мир и восстановление прежнего благолепия, он кратко изложил догматические основания иконопочитания, укорил иконоборцев в тупоумии и безумии, превознес исповедников, почивших в годы гонений на православие, и выразил надежду, что они в этот день невидимо присутствуют в храме и сорадуются живым о торжестве веры. Восхвалив благочестие юного императора, его матери и регентов, Мефодий завершил свое слово так:
– Однако мы, братия, не только должны радоваться о торжестве православия и отвращаться еретического безумия, но и явить милосердие к нашим ближним, по примеру Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, не погнушавшегося ни разбойником, исповедавшим Его в последний час жизни, ни гонителем веры Савлом, которого Он соделал великим проповедником истины. Завтра мы входим в Великий пост, чтобы принести пред Богом сугубое покаяние в своих грехах и испросить прощение и сил подвизаться в добродетелях. Господь же нам говорит: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших», – и еще: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Апостол же вопиет: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал бряцающий». Итак, поминая эти великие заповеди и страшные угрозы тем, кто не прощает своих врагов, призываю всех вас в эту первую седмицу святого поста совершить слезное моление к милостивому и всесильному Богу, чтобы Он простил почившему государю Феофилу то, что он при жизни своей соделал против почитания святых икон. Ибо боголюбивая августейшая супруга его и благоговейный господин Феоктист засвидетельствовали, что перед самой кончиной государь, вразумленный неким страшным видением, раскаялся в своем еретическом заблуждении и с верою облобызал святую икону, но, по причине тяжкой болезни и постигшей его смерти, не успел должным образом покаяться перед православным священником. И ныне мы призываем всех вас молить Бога, чтобы Он Сам «восполнил оскудевающее» и, приняв покаяние государя, простил ему все грехи его и вчинил с ликами ангелов и святых Своих. Смотрите, братия, чтобы нам, распалившись ревностью не по разуму, не погубить всех трудов наших, ибо «любовь не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит, никогда не перестает». Будем бдеть над своими душами и не допустим в сердце «горькую зависть и сварливость»! Ибо вот, Бог ныне зрит на сердца наши и смотрит, истинно ли мы являемся подражателями Сына Его, ради спасения грешников восшедшего на крест, истинно ли мы стараемся «быть святыми, как свят» Он, который «не хочет смерти грешника», но ожидает его обращения и, по слову божественного Златоуста, «упокоивает в одиннадцатый час пришедшего, как трудившегося от первого часа», «и дела приемлет, и намерение приветствует». Будем же, сколько есть сил, подражать Ему в милосердии и любви, да сподобимся получить оставление грехов и достойно встретить божественную Пасху, в грядущем же веке истиннее ее причаститься в царствии Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь!
После обеда императрица с небольшой свитой отправилась в Кассиин монастырь. Игуменья с сестрами тоже были в Святой Софии на рукоположении нового патриарха и в грядущую седмицу собирались ежедневно приходить туда и вместе со всеми молиться за почившего императора. Воротясь в обитель, Кассия занялась распределением послушания на неделю, так чтобы каждая сестра в какой-нибудь из дней могла поучаствовать вместе с настоятельницей в молениях в Великой церкви. Евфимия попросила у игуменьи позволения ежедневно ходить в Святую Софию вместе с ней – и, конечно, не получила отказа. Когда доложили о приходе августы, Кассия позвала Евфимию, и они вместе встретили Феодору у врат обители. Подошедшие вслед за ними остальные сестры приветствовали императрицу, и августа с кувикулариями зашли в храм помолиться, а потом Феодора вместе с игуменьей отправилась в ее келью, за ними последовала и Евфимия – всё это не сговариваясь: они словно читали мысли друг друга. Императрица села на стул, а обе монахини – на кровать. Феодора оглядела их и устало улыбнулась:
– Ну вот, как видите, мне всё же удалось заставить ваших единоверцев молиться за врагов, – в ее голосе прозвучала ирония. – Правда, на это пришлось потратить целый год.
– Я хорошо представляю, как это было трудно, государыня, – сказала Кассия. – Мы очень рады, что ты добилась того, чего хотела.
– Только мне пришлось заплатить за это немалую цену: извержение всех иконоборцев, изгнание патриарха… Правда, вас это вряд ли огорчит… Кстати, ты ведь знакома с Иоанном?
– Да. В свое время он очень помог мне, и я никогда этого не забуду.
– Значит, ты не считаешь его «слугой демонов», в отличие от твоих единоверцев?
– Нет, не считаю.
– Что ж, приятно слышать!.. Впрочем, я всё говорю: «твоих единоверцев», а ведь они уже стали и моими… Только знаешь, я до сих пор иногда об этом жалею!
– Меня это не удивляет, государыня… к сожалению. Но всё же главное – сама вера, а не личные качества ее приверженцев.
– Да, конечно… Хотя мне по-прежнему непонятно, на каком основании они рассуждают так прямолинейно! Если даже оставить в стороне Иоанна… Не знаю, слышали ли вы о перенесении сюда из Харсиана мощей Евдокима, стратига Каппадокии, который умер почти три года назад?
– Слышали, августейшая. Говорят, при перенесении совершались чудеса?
– Да, и немало! Я хорошо знала этого Евдокима… Он действительно был праведником. Но он, мать, служил иконоборцу и причащался с иконоборцами! И вот, как это совместить… с убеждением этих исповедников, что все, не чтившие икон, погубили свою душу?! Я иногда думаю об этом и не нахожу ответа… Когда Феофил умирал, мне подумалось, что, возможно, самое главное – не иметь сомнений в своей вере, какова бы она ни была… А когда я сообщила патриарху о том, что Феофил перед смертью принял иконы, Иоанн сказал… Представьте, он как будто даже не огорчился!.. Так вот, он ответил словами апостола: «Блажен, кто не осуждает себя в том, в чем испытывается»!
Кассия задумалась.
– Быть может, здесь он в целом прав, – тихо проговорила она. – Я тоже давно перестала верить так прямолинейно, как некоторые… Жизнь не дает! – она улыбнулась. – Но я всё же не могу согласиться, что нет никакой границы между истиной и ложью! Граница должна быть, но…
– Но она размыта?
– Не то, чтобы размыта… Просто нам часто хочется расставить всё по полкам, знать наверняка, чтобы всё было просто и понятно… Но это глупое стремление. Не только потому, что жизнь сложна и то и дело разрушает наши построения, а прежде всего потому, что мы словно хотим заключить совершенно свободного, беспредельного и всемогущего Бога в какие-то рамки. Но разве это не безумие? Я в последнее время много думаю… о том же, о чем и ты, государыня… Мне кажется, что апостол недаром, превознося любовь как «превосходнейший путь», так резко выразился, что если даже мы расточим всё имение, даже предадим себя на мученичество, но при этом не будем иметь любви, то всё это не имеет никакого значения… А любовь «никогда не перестает», она выше нестяжания, выше мученичества, выше пророчеств… Она – Сам Бог, который выше всех рамок, всех границ, всех предписаний… Это не значит, что предписания не нужны, что границы вредны – нет, они нужны, поскольку люди – существа ограниченные, строптивые, неразумные, а потому нам необходимы всякие рамки и правила, иначе мы легко можем впасть в заблуждение… Но Богу – совершенной святости, любви, милосердию – такие рамки не нужны. Как говорится, «где был ты, когда Я полагал основания земли? скажи, если знаешь», и «будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить?» Когда Иов сетовал, что Господь попустил ему страдать безвинно, Бог сказал ему: «Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под всем небом всё Мое», – но верно и обратное: никто из людей не предварил Бога, чтобы требовать от Него воздаяния грешникам. Он может в любой момент простить, кого пожелает, хотим ли мы того или не хотим… И человек не смеет требовать от Него отчета в том, на каком основании Он сделал это! Бог дает нам правила жизни, но может Сам и превзойти эти правила, по милосердию и любви. Наверное, так. Впрочем, это всего лишь мои догадки…
– Они очень похожи на правду! – воскликнула Феодора. – Мне тоже примерно так же представляется… Только я не умею так хорошо выразить это, как ты, мать, – она улыбнулась. – В общем, я рада, что всё так вышло и теперь эти исповедники помолятся за своего гонителя… Так сказать, явят любовь к врагам!.. Только мне ужасно жаль Иоанна! Он так много сделал для нас с Феофилом! А теперь… знаешь ли ты, что он отправится в ссылку… к тому же с обвинением в покушении на свою жизнь?
– Да, я слышала об этом.
– И поверила?
– Нет. Конечно, я не слишком хорошо его знала, но достаточно, чтобы не верить в эту сказку. Жаль, что так получилось, но… – игуменья чуть помолчала. – Возможно, это будет для него полезно.
– Он тоже так считает, а я… пытаюсь успокоить себя мыслью, что пришлось поступиться им ради Феофила… Хотя знаешь, мать, ведь я устроила всё это вовсе не потому, что думаю, будто он попал на мучения! Я уверена, что Бог простил его! Просто я хочу, чтобы об этом теперь узнали все остальные.
Кассия подняла глаза на августу.
– Я тоже думаю, что Бог простил его. Я молилась за него в ту ночь, когда он умер, и… Не знаю, как сказать… Я почувствовала, что Господь услышал молитвы всех, кто за него молился, и спас его.
– Вот как! – в глазах Феодоры блеснули слезы.
– Да. А потом я получила твое письмо… – голос игуменьи дрогнул, и она вытерла набежавшие слезы. – Но ты права, государыня: остальные тоже должны узнать. Да и мы сами… еще больше уверимся… Я только в последнее время стала ясно ощущать, насколько я маловерна!
– Да, я тоже… – сказала императрица. – А ты что думаешь, Евфимия?
– Я согласна с матушкой, – улыбнулась монахиня. – Я бы тоже хотела… еще увериться… И я очень, очень хочу, чтобы все узнали, что Бог простил государя!
– Они узна́ют! – Феодора встала. – Вы придете молиться с патриархом?
– Да, августейшая.
– Это хорошо… Я бы хотела, чтобы вы были там, – она чуть помолчала и взглянула на Кассию. – Мне бы хотелось сказать тебе несколько слов наедине, мать.
Евфимия покинула келью, и августа сказала, глядя игуменье в глаза:
– Прости меня… за Евфимию… и вообще. Я всё же причинила тебе много неприятностей.
– О, это ничего! – проговорила Кассия, в легком потрясении от слов императрицы. – Я, в общем… это заслужила… Прости и ты меня, государыня! – она поклонилась Феодоре в пояс.
– Да, – ответила августа. – Я… когда-то очень злилась на тебя, но это давно прошло. Всё-таки в конце концов мы все поняли, что в свое время сделали правильный выбор! – она улыбнулась. – Ведь это самое главное, правда?
– Конечно.
Моления за почившего императора продолжались всю первую седмицу Великого поста: патриарх со всем клиром, монахами и мирянами молился в Святой Софии; Императрица со своими родственниками и придворными по утрам тоже молилась там, а в остальное время – в дворцовом храме Богоматери Фарской. Только теперь иконопочитатели окончательно поняли, насколько почивший император был любим народом: Великая церковь была полна людей всякого пола и возраста, и почти все молились со слезами и поклонами, ожидая Господней милости. Молитвенные бдения продолжались почти круглосуточно, причем все строго постились, как и предписывал устав первой седмицы. Перед началом молений патриарх взял чистый лист пергамента и написал на нем крупно в столбик имена всех императоров-еретиков, какие правили до сих пор, завершив список именем Феофила, свернул лист и, запечатлев его собственной печатью, положил на престол Святой Софии под драгоценный покров-индитию, помолившись мысленно: «Господи, не посрами упования и веры августы! Если Тебе угодно моление наше и Ты прощаешь государя, яви знамение этому, как явил Твое благоволение о покаянии его!» Мефодий сам не знал, какого именно знамения надо ждать, но верил, что явление милости Божией непременно произойдет…
Этот сон привиделся ему под утро пятницы, когда Мефодий отдыхал в патриарших покоях: будто он вошел царскими вратами в алтарь Святой Софии, и увидел стоящего перед престолом ангела в блистающем одеянии. Патриарх поклонился ему в землю, а когда поднялся, увидел у ангела в руках развернутым свиток с именами императоров, который Мефодий положил под индитию. Ангел провел пальцем по какой-то строчке на пергаменте, снова свернул его, водворил на место и, обратившись к патриарху сказал: «Услышано, о епископ, моление ваше, и прощение получил император Феофил; больше о нем не докучайте Божеству!» – и тут Мефодий проснулся. Немедленно встав, он в волнении отправился в Великую церковь, где и теперь молилось множество людей – одни уходили отдохнуть, но на их место тут же приходили другие. Патриарх приказал разбудить остальных исповедников, и когда почти все собрались в храм, Мефодий отвернул покров на алтаре: список лежал на том же месте, запечатанный, как и был, – его никто не трогал. С бьющимся сердцем патриарх сломал печать, развернул пергамент, взглянул и едва не выронил лист: имени Феофила внизу списка не было – лист в этом месте был так чист, словно на нем никогда ничего не писали. Мефодий глубоко вздохнул и невольно прижал руку к груди.
– Что с тобой, святейший? – с беспокойством спросил Кизический епископ.
Патриарх ничего не ответил, покинул алтарь, взошел на амвон, высоко поднял пергамент, показывая всем бывшим в храме и громко произнес:
– Божией силой имя императора Феофила изглажено из списка богопротивных еретиков! Слава Богу, дивному в чудесах и в милосердии Своем! Государь прощен!
На мгновение в храме повисла тишина, потом пронесся всеобщий вздох, а затем началось что-то неописуемое: люди громогласно прославлял Бога, плакали, падали на колени и каялись в маловерии, просили оставления собственных грехов, обещали впредь исправить свою жизнь…
Когда Мефодий вернулся в алтарь, ему сообщили, что его хочет видеть императрица – оказалось, она еще раньше него пришла в храм и всё слышала. Патриарх поднялся на галереи. Феодора встретила его в слезах и рассказала, что этой ночью тоже видела сон: будто бы она стоит на форуме Константина у колонны и видит, как мимо проходит шумная процессия – люди с криками несут розги, бичи из воловьих жил, палки, орудия пыток, а посередине шествия ведут Феофила, одетого в простой хитон, босого, со связанными за спиной руками – как она видела его незадолго до его смерти, только сейчас его уже не били. Императрица в страхе последовала за процессией, и все дошли по Средней улице до Августеона и остановились у Медных врат во дворец. Над вратами висела икона Христа, некогда снятая иконоборцами, а под ней на помосте сидел на троне великий и страшный сияющий Муж, совершенно походивший на это самое изображение Спасителя. Феофила поставили перед Ним связанным, и тогда Феодора бросилась Ему в ноги и умоляла простить императора. Христос взглянул на нее и сказал: «О, женщина, велика вера твоя! Знай же, что ради твоей веры и слез, еще же ради молитв рабов Моих и священников Моих, Я дарую прощение мужу твоему от всех грехов его! – и, обратившись к предстоявшим, Он продолжал: – Развяжите ему руки, оденьте его и отдайте жене его!» Феофила тут же развязали, облекли в златотканые одеяния и пурпурную обувь и подвели к Феодоре. Он взглянул на нее с улыбкой, а она, и радуясь, и всё еще страшась перемены его участи, взяла мужа под руку, скорее повлекла прочь от того места – и тут проснулась…
– Слава милосердию Божию! Это еще одно подтверждение тому, что государь прощен! – сказал патриарх. – Отныне, августейшая, ты можешь совершенно не беспокоиться за его вечную участь. Поистине завидная судьба! Ведь мы мало о ком, кроме явных святых, можем сказать, что Господь точно принял их в Свое царство!
Императрица и улыбалась, и плакала одновременно.
– Благодарю, владыка! – сказала она. – Теперь осталось позаботиться о красоте церковной, чтобы все могли возрадоваться о торжестве веры!
В субботу на галереях Святой Софии состоялся собор, где были произнесены анафемы на иконоборцев – как против патриархов времен первого всплеска ереси, так и против Феодота, Антония и Иоанна, – были еще раз прокляты иконоборческие учения и подтверждены догматы, установленные на втором Никейском соборе, а затем все иконоборческие епископы и прочие клирики были низложены без всякого снисхождения, причем патриарх сказал:
– Если даже у кого-то – быть может, у многих – возникают сомнения относительно того, как поступить с клириками, отпавшими в богопротивную ересь, то в любом случае мнению большинства исповедников до́лжно в этом вопросе отдать предпочтение, а вы, отцы и братия, знаете, каково это мнение. Итак, если те, кто принял Духа и сохранил непорочным свое посвящение, отказываются сохранить сан отпавшим, предвидя, что, если дерзнуть на это, народ частично вернется к старому нечестию и даже зайдет еще дальше, то эти исповедники достойны предпочтения, как свои перед чужими и как неповрежденные члены перед зараженными. Ибо не только православные священники, сохранившие исповедание во дни еретической зимы, но и пребывающие в пустынях и горах отшельники, столпники и подвижники думают так же. К тому же призывают нас и великий Иоанникий, и богопросвещенный Исаия, и славный отец Симеон, и иные досточестно монашествующие. Итак, всякий род и чин православных не допускает, чтобы перед ними отдали предпочтение еретикам и презрели исповеднический подвиг ради сохранения сана тем, кто не позаботился соблюсти его незапятнанным. Посему я, не дерзая отвергнуть мнение столь великих подвижников и угодников Божиих, призываю и всех прочих не противиться провидению, но сотворить волю Господню, чтобы не постыдиться, когда будем взывать к Богу в молитвах!
В первое воскресенье поста, 11 марта, патриарх со всеми православными клириками, монашествующими и множеством мирян собрались в Великую церковь, неся кресты и иконы, а маленький император с матерью, в сопровождении кувикулариев и синклитиков, со свечами в руках, прошли в храм через Красивые двери и, соединившись с патриархом, вошли в церковь. Когда патриарх с императором помолились в алтаре, Мефодий провозгласил во всеуслышание анафемы иконоборцам и «вечную память» почившим исповедникам иконопочитания, после чего крестный ход вновь покинул храм через центральные двери и, пройдя по двору Святой Софии, вышел через западные врата, называвшиеся Ктенарийскими, и направился к Халкопратийскому храму Богоматери. Трехлетний Михаил был очень серьезен, обеими руками держал перед собой свечу и следил, чтоб она стояла ровно. Императрица шла рядом, и слезы то и дело наворачивались у нее на глаза – но теперь это были слезы радости. Остальные участники крестного хода тоже были взволнованы и воодушевлены: после явленных чудес все уповали на лучшее, и казалось, что для Церкви и государства, наконец, пришла пора мира и благоденствия. Только что свершившееся низложение иконоборческих клириков уже не беспокоило так, как прежде: раз Господь благоволил явить Свою милость, показав, что покойный император прощен, то и дальше, как думалось всем, Он не оставит Своих людей без помощи…
Помолившись в Халкопратии и воздав благодарение Богородице за Ее заступление, все направились к форуму Константина, где патриарх с императором и августой помолились в часовне у подножия колонны, а затем крестный ход прошел по Средней улице до Милия, откуда повернул к Святой Софии. Там все усердно помолились перед вратами, после чего патриарх совершил великий вход, процессия вошла в храм, и началась литургия. Феофила поминали за ней как православного государя. Император с матерью и сестрами, все придворные и множество монахов и мирян приняли святое причастие. По окончании службы патриарх произнес проповедь: еще раз возблагодарив Бога за совершившееся восстановление иконопочитания, он сообщил, что, согласно решению православного собора, отныне ежегодно память этого торжества православия над ересью будет совершаться в Церкви в первое воскресенье Великого поста. Затем Мефодий подробно рассказал о чудесах, удостоверивших прощение покойного государя, и пустился в пространные рассуждения о том, что милосердие Божие, как бы ни было оно велико, проявляется не без оснований, но в том случае, если человек, даже если в чем-то заблуждался при жизни, тем не менее, старался жить по заповедям и творил добрые дела. Напомнив о том, что почивший император был известен своей заботой о безопасности Города, справедливостью и нелицеприятием, милосердием к бедным и нищим и вообще попечением о подданных, патриарх так заключил свое слово:
– И вот, отцы, братия и сестры, воззрев на всё множество благих дел, совершенных государем, Господь услышал наши смиренные молитвы, простил его беззакония против икон и вчинил его с ангелами и святыми, чего и мы можем удостоиться, если будем не просто уповать на милость Божию, но и привлечем ее к себе добрыми делами и исполнением заповедей, данных нам в Евангелии Господом нашим Иисусом Христом, Ему же да будет слава со безначальным Его Отцом и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь!
После литургии во дворце, в триклине Девятнадцати лож, был дан торжественный обед, где присутствовала вся императорская семья, ближайшие родственники, синклитики и кувикуларии, эпарх, стратиги и начальники дворцовой охраны, а также патриарх с епископами и избранными клириками. Феодора выглядела усталой и предоставила говорить застольные речи логофету дрома и эпарху. Большинство сотрапезников ели молча, словно переваривая происшедшие события. В целом обед шел чинно и спокойно – до того момента, когда маленький император, обведя взглядом присутствовавших, вдруг спросил:
– А где владыка Иоанн?
Раздался звон – это кубок, выпавший из рук доместика схол, ударился о тарелку, заливая вином стол. Императрица побледнела и до боли в пальцах стиснула ножку своего кубка. Варда едва не подавился тушеной фасолью, сестры августы испуганно взглянули на патриарха, Сергий Никетиат чуть нахмурился, а Петрона только хмыкнул и осушил до дна кубок. Феоктист в первый момент растерялся, но тут же пришел в себя и, поймав взгляд императрицы, откашлялся и сказал:
– Он удалился от нас на покой, государь, поскольку решил, что довольно уже пробыл в здешней суете, и пожелал окончить свои дни в философском уединении, за книгами и молитвой.
– Значит, он уехал и больше не вернется? – мальчик посмотрел на логофета обиженно.
– Нет, Михаил, – тихо промолвила августа. – Ты ешь лучше, а об этом мы потом поговорим.
Остаток обеда прошел напряженно, хотя все старались делать вид, что ничего особенного не произошло. Маленький император понял, что, кажется, сказал что-то не то, но не мог понять, что именно, и до конца обеда просидел чуть надувшись. Михаилу нравился прежний патриарх, хотя им пришлось не так уж много общаться: мальчик любил получать от него благословение; ему нравилось, что Иоанн никогда не разговаривал с ним, как с несмысленным ребенком, и не сюсюкал, как тетки; Михаил чувствовал изящество Грамматика, хотя, конечно, не мог пока для себя определить, что это такое, и любил бывать в церкви, когда Иоанн служил. Правда, мальчику понравилось и то, как служил новый патриарх – несомненно, Мефодий умел это делать красиво и с чрезвычайным достоинством, – но сам он, с лысой головой, подвязанным подбородком и странно двигавшейся нижней челюстью, немного пугал Михаила… Сейчас он увидел, что взрослые знали и понимали что-то, чего он не понимал, и это его злило: «Почему они скрывают?!» – думал он, впиваясь зубами в сочную грушу. А императрица поглядывала на него и думала: «Как ему всё это объяснить?.. Про ересь он не поймет сейчас… Не говорить же, что Иоанн оказался злым человеком и обманщиком! О, Господи!.. Был бы Иоанн здесь, он бы нашел, что сказать… что-нибудь философское… А теперь – некому… Вот эта новая действительность, в которой нам отныне придется жить! Надо привыкать, что же делать… Может быть, Михаил поймет, когда вырастет… А пока… остается только напоминать себе почаще, что эта жизнь – всего лишь театр!»
…Когда Кассия с сестрами пешком возвращалась в обитель после торжества православия и литургии в Святой Софии, Елисавета – племянница Сергия Никетиата, поступившая в обитель всего два месяца назад по совету императрицы – спросила:
– Что же теперь, император, значит, прощен и…
– И мы встретимся с ним в царствии небесном, – чуть приметно улыбнувшись, сказала игуменья, – если попадем туда.
– Мне всё-таки кажется, что это… не совсем справедливо, – проговорила Елисавета нерешительно. – Получается, что великие исповедники, такие как патриарх Никифор, или отец Феодор, или владыка Евфимий и другие, кто защищал православие, окажутся вместе со своим гонителем?
– Так ведь Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много»! – вмешалась Анна. – А значит, каждый получит свою, по своему труду, я думаю… Не могут же спасаться только одни великие святые, а то… так и для нас надежды не останется, какие наши подвиги! Только покаяние, да и то…
– Да, это во-первых, – кивнула Кассия. – А во-вторых… правосудие – одно из свойств Бога, это правда, но милосердие – тоже Его свойство, причем по преимуществу. Право судить преступников имеют и некоторые люди, но они не всегда имеют право их миловать, а поступают согласно законам. Только император может помиловать любого – и в этом, как и во многом другом, он есть образ небесного Царя: Господь может миловать всех, Он превыше всякого закона и власти… И милосердие выше правосудия. Вот ты, Елисавета, говоришь: «несправедливо», – а ведь тем самым ты и для себя требуешь справедливого суда. Но подумай: если бы Господь поступал с нами справедливо, по нашим грехам, что было бы? И неужели мы можем жалеть о том, что Господь помиловал грешника, если сами хотим быть помилованными?!
– Это так, матушка, – сказала Елисавета, – просто я подумала… Я не жалею о том, что Господь помиловал государя, нет! Просто мне непонятно… Например, монахи, всю жизнь подвизаются, лишают себя разных удовольствий, мучаются от внутренних браней… А многие еще и за православие страдают и даже принимают смерть… Но выходит, для спасения всё это необязательно? Получается, спастись могут и еретики, которые гнали верных, и люди, всю жизнь проведшие в роскоши…
– Но святейший ведь сказал сегодня, что у государя было много добрых дел, и Господь помиловал его не просто так! – возразила Лия. – И потом, откуда мы знаем, как он жил? Ведь были же императоры, которые на публике появлялись во всякой роскоши, а сами под одеждой власяницу носили и по ночам молились!
– Это тоже верно, но я бы не стала объяснять всё именно этим, – сказала игуменья. – Разве мы подвизаемся для того, чтобы получить за это плату?.. Впрочем, – она взглянула на Елисавету, – твои вопросы закономерны… Подожди до вечера, я сегодня скажу кое-что об этом.
После вечерни Кассия произнесла перед сестрами слово.
– Мы узнали о чудесном прощении почившего государя, – говорила она, – и некоторые из-за этого пришли в недоумение. По их мнению, выходит, будто те, кто страдает за православие, зря подвизаются, если спасаются – и как будто бы легко – гонители верных. Но если мы посмотрим на эту сцену в единственное верное зеркало, какое у нас есть – Евангелие Христово, – то сразу увидим, что недоумевающие уподобляются старшему сыну из Господней притчи, который тоже позавидовал, что его младший распутный брат был легко прощен отцом, и разгневался так, что даже отказывался войти в отчий дом, то есть в царствие небесное. Вот до чего может довести зависть, прикрываемая таким благовидным предлогом, как ревность о правой вере! Но это только самый поверхностный взгляд на дело. Попробуем взглянуть глубже. Ради чего мы подвизаемся? Если мы трудимся ради мзды, то мы еще не познали, что такое настоящее монашество. Ведь и грешные люди, стремясь получить удовольствия и удобства в этой жизни, ради их достижения тоже бывают готовы на временные лишения и труды. Мы отказываемся от мирских благ и готовы терпеть неудобства, но это еще не значит, что мы тем самым уже становимся не говорю – монахами, а даже просто христианами. Ведь можно подвизаться с мыслью, что сейчас мы помучаемся, а потом, на том свете, будем наслаждаться, а люди, живущие здесь в свое удовольствие, потом зато получат по заслугам… Подвизающиеся с таким настроением, если узнают о прощении грешника перед самой его кончиной ради небольшого, казалось бы, покаяния, бывают недовольны, им это кажется несправедливым. Вот тут и обличается сластолюбие, все еще живущее в нас несмотря на то, что внешне мы отреклись от сластей мира. Мы должны подвизаться единственно из любви к Богу, из стремления угодить Ему и быть с Ним, а никак не для того, чтобы в день суда позлорадствовать над теми нерадивыми и ленивыми, которые будут отвергнуты Богом. Господь сказал, что мы должны быть благи, как Он, повелевающий солнцу светить всем – и праведным, и неправедным. Мы должны радоваться, когда человек спасается, а не возмущаться и не рассуждать о том, насколько он этого достоин. Тем более, что мы не можем этого знать. Бывает и так, что человек, несмотря на свою неправую веру, несет разные скорби и труды, творит добрые дела, борется со страстями – и делает это ради Христа, хотя и неправо верует в Него. А мы, верующие право, может быть, совсем не так много трудимся… Но апостол говорит: «скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела; покажи мне веру твою от дел твоих, а я тебе покажу от дел моих веру мою». И какой же будет позор для нас, если еретики от дел своих покажут больше веры, чем мы, православные! Не скажет ли нам тогда Господь словами апостола: «Из-за вас имя Мое хулится среди язычников»? Быть может, Господь именно потому так и устроил Своим промыслом о государе, явив перед всеми его покаяние и прощение, чтобы мы лишний раз задумались о том, ради чего и как мы подвизаемся…
В тот вечер Кассия долго молилась, благодарила Бога за Его промысел о Феофиле, помолилась и об Иоанне, чтобы перемена участи пошла ему на пользу. «Как знать, не обратится ли он? – подумала игуменья. – Вот ведь, когда я говорила Феофилу, что, пока он жив, есть время покаяться, я надеялась на это, но не верила до конца, потому что ужасно боялась… А как всё вышло! Поистине, надо надеяться до последнего вздоха! Да и потом тоже… Молитва сильна! О, как она сильна, а мы так мало верим в ее силу, мы так боязливы и немощны…»
Она вышла во внешнюю келью, зажгла светильник и села за стол. Спать совсем не хотелось. Кассия подперла рукой щеку и устремила взгляд на огонь. Она думала о женщине, чья любовь была так сильна, что смогла даже собрать всех православных на молитву за их гонителя и, по сути, заставила их отмолить все его грехи. «Да, в тот день он выбрал правильно! – подумала игуменья. – На ее месте я бы, наверное, так не смогла…» Вдруг ей вспомнилось изречение из Книги Ездры – ответ юноши на вопрос, что всего сильнее: «Сильнее суть жены, но всех побеждает Истина». Кассия улыбнулась. «А ведь случившееся как раз и подтверждает это, – подумала она. – Истина победила – с помощью женщины! И православие восторжествовало, и его гонитель прощен… Вот уж действительно: “милость и истина встретились, правда и мир облобызались”!»
Кассия вынула из шкафчика книгу «Вопросоответов к Фалассию» святого Максима Исповедника и открыла наугад. Удивительным образом, открылся вопрос, где преподобный толковал то самое изречение из Ездры, над которым она только что размышляла! «“Женами” он называет обоживающие добродетели, из коих возникает любовь, соединяющая людей с Богом и друг с другом… – читала игуменья. – А “Истиной” он называет единую и единственную Причину сущих – Начало, Царицу, Силу и Славу их… И, чтобы сказать кратко, словом “жены” третий юноша указывает на любовь как на конец добродетелей – этот конец есть безупречное наслаждение и нераздельное единение с Благом по природе тех, кто сопричаствует Ему. Словом же “Истина” он обозначает конечный Предел всех знаний и самих познающих…»
Она дочитала вопросоответ до конца и закрыла книгу. «Что ж, всё верно! Побеждает высшая из добродетелей – любовь, и через нее все приходят к Богу – тому пределу, дальше которого невозможно идти, потому что в Нем – бесконечность…»
Кассия убрала рукопись в шкаф, достала оттуда свою тетрадь со стихами, открыла и, немного подумав, написала:
Она остановилась в задумчивости, снова обмакнула перо в чернила, еще подумала и не стала писать ничего больше.
– Этого довольно, – прошептала она. – Это верно и в низком смысле, и в высоком… И кто понимает высокий, тот знает, что «всех побеждает Истина». А кто не понимает, тот будет думать не о добродетелях и любви, а о женщинах и страстях. «Ибо всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец»…
15. Победители
Великий и знаменитейший царь Агесилай боялся больше мира после войны, чем войны до мира.
(Михаил Пселл)
После восстановления иконопочитания прошло полгода, и все видели, что дела идут не совсем так, как они рассчитывали, независимо от того, кто каких взглядов придерживался. Извержение из сана иконоборцев действительно стало, как и боялись регенты, огромным потрясением для общества, и, хотя императрица выделила значительную сумму для материальной поддержки лишившихся своих мест клириков, пока они смогут найти себя иные занятия, глухой ропот не утихал. Впрочем, с изверженными из числа монашествующих особых трудностей не возникло: почти все они приняли восстановление икон и остались жить в своих монастырях в чине простых иноков. Не то было с белым духовенством: многие из низложенных занялись частными уроками, кто-то устроился работать при храмах и различных благотворительных заведениях, иные занялись торговлей или земледелием, кое-кто пошел даже на черные работы, – но при этом далеко не все согласились осознать свою вину и покаяться в ереси. Многие надели на себя личину невинных страдальцев и, встречаясь с иконопочитателями на улице, смотрели высокомерно и насмехались над ними, говоря, что они победили «не Божиим содействием и своим благочестием, а из-за поддержки императрицы». Это, в свою очередь, злило православных, потому что им, в сущности, нечего было сказать в ответ…
Удаление от алтарей такого количество духовенства создало большие трудности и для самих православных, в первую очередь для патриарха: нужно было думать о том, кого рукополагать взамен, причем довольно спешно, а кандидатов было не так много, как хотелось бы. Мефодий смотрел прежде всего на православный образ мыслей ставленников, но тут он не избежал попреков со стороны своих же ревнителей, укорявших его в неразборчивости. Более всего недовольства возникло по поводу рукоположения новых епископов. Когда патриарх решил рукоположить Феофана Начертанного в митрополита Никейского, некоторые монахи стали возмущаться, что на такую славную кафедру Мефодий хочет поставить «чужестранца», о котором никому толком не известно, что он из себя представляет… Патриарх решительно пресек эти разговоры, указав, что, во-первых, Феофан вовсе не безвестен среди подвизавшихся за веру, а во-вторых, носит на лице знаки своего исповеднического подвига, и уже их одних было бы достаточно, чтобы показать его достоинство и православность, даже если б о нем не было больше ничего известно. Многие ожидали, что ряд епископских кафедр займут студийские монахи, но этого не произошло: патриарх рукоположил некоторых студитов в священный сан, по просьбе игумена Навкратия, но епископством никого из них не почтил, – это вызвало недовольство как самих студитов, так и их почитателей, которые возмущались «унижением» исповедников, чьи подвиги в свое время воодушевили столь многих на борьбу за православие. Патриарх и тут повел себя жестко, заявив вопрошавшим, что ни перед кем не собирается давать отчета, почему он одних ставит в епископы, а других нет, и заметил:
– Уж не ждали ли эти почтенные отцы получить кафедры как плату за свои подвиги? Мне всегда казалось, что они подвизаются не в чине наемников, а как сыны – исключительно из любви к Богу. Или они считают, что Господь недостаточно воздал им за их исповедничество? Впрочем, – добавил Мефодий насмешливо, – когда-то, помнится, отец Платон не постыдился продвигать на патриарший трон собственного племянника, так что, пожалуй, такие разговоры даже в их духе… Только пусть они не ждут, что я буду потакать подобным устремлениям!
Когда слова патриарха стали известны в Студийском монастыре, они вызвали всплеск гнева среди братий, и игумен едва сумел успокоить монахов, напомнив им о смирении и о том, что главное – не здешние чины и отличия, а тот чин, каким каждый будет почтен от Бога в Его царствии. Но, хотя возмущенные разговоры стихли, подспудное недовольство патриархом всё равно ощущалось среди студитов.
Отдельное затруднение возникло в связи с Сиракузской епархией: Сицилийский архиепископ Феодор Крифина наотрез отказался покинуть свою кафедру и деятельно противился утверждению иконопочитания на острове – влияние, которым он пользовался среди паствы и у местных властей, это ему вполне позволяло. В начале царствования императора Михаила Феодор, будучи придворным диаконом, стал экономом Святой Софии, после того как Иосиф, покаявшись и присоединившись к иконопочитателям, вторично покинул свой пост. Новый эконом, сицилиец родом, прекрасно владел латинским языком, и ему поручались важные дипломатические задачи: помимо посольства к Людовику после окончания мятежа Фомы, Феодор тремя годами позже побывал в Компьене с посольством, доставившим королю драгоценный подарок – роскошную рукопись творений святого Дио нисия Ареопагита, которую франки поместили в храм Свято-Дионисиева аббатства, где от нее, как говорили, даже совершались чудеса исцелений. Незадолго до смерти Михаила Феодор был рукоположен в священника, а в начале царствования Феофила стал архиепископом Сиракузским – и, в отличие от многих других областей Империи, иконоборческие взгляды на Сицилии благодаря ему проводились твердой рукой и неукоснительно. Неудивительно, что у православных Крифина вызывал живейшее раздражение. И вот, теперь он не желал покориться, а патриарх пока не мог найти кандидата для рукоположения на Сиракузскую кафедру: среди исповедников не было человека, в нужной степени знакомого с западным наречием – а без владения латынью архиерею нечего было делать на Сицилии. Мефодий уже подумывал лично отправиться на остров и поискать ставленника среди местных жителей, как вдруг счастливый случай помог ему.
На другой день после праздника Воздвижения Креста Господня по окончании утрени патриарху доложили, что его хочет видеть некий монах, приехавший с Сицилии. Мефодий велел пригласить его: гость оказался довольно молодым человеком, – по-видимому, он еще не достиг тридцати лет. Монах был высокого роста, статен и вообще замечательно хорош собой: волнистые черные волосы, овальное лицо с угловатыми скулами и волевым подбородком, изящный прямой нос с небольшой горбинкой; большие каштановые глаза смотрели прямо и открыто из-под густых бровей, похожих на крылья чайки. С первого же взгляда гость кого-то напомнил патриарху – но кого? Мефодий не мог этого понять, хотя, глядя на монаха, не мог отделаться от чувства, что когда-то уже видел похожие черты лица и манеры с явственным налетом аристократизма – было очевидно, что до пострига этот инок принадлежал к высшим слоям общества. Григорию – так звали гостя – было двадцать шесть лет, и он уже восьмой год подвизался в одной из сиракузских обителей. Пытаясь осознать, кого же монах напоминает ему, патриарх стал задавать вопросы о его жизни и занятиях, в том числе до поступления в монастырь. Оказалось, что в юности Григорий получил хорошее светское образование, прекрасно владел как греческим, так и латынью и к тому же обладал художественным талантом – он показал патриарху Псалтирь, которую собственноручно переписал несколько лет назад и украсил миниатюрами.
– До монастыря я жил в Равенне, – рассказывал он. – Мой отец, Марк Асвеста, служил у императора Карла, мы всегда жили богато, и мне нанимали хороших учителей. А моя мать в юности изучила греческий и научила ему меня. У нас в доме всегда жили слуги из греков… Мама умерла, когда мне было девятнадцать, – Григорий чуть погрустнел. – Она была такая замечательная!.. Когда я сказал ей, что хочу идти в монахи, она обрадовалась, но благословила меня монашествовать на Сицилии – ведь это была ее родина, и ей хотелось, чтобы кто-нибудь из детей вернулся туда…
Патриарх почувствовал странное волнение. Он еще раз внимательно оглядел монаха и прервал его:
– Прости, брат, позволь задать один вопрос: при постриге тебе поменяли имя?
– Да, владыка. В миру меня звали Мефодием, – Григорий говорил, опустив глаза, и не заметил, как патриарх вздрогнул. – Я как раз хотел про это рассказать! Мама перед смертью сказал мне, что назвала меня в честь одного монаха, с которым была знакома в юности, когда еще жила в Риме с родителями. Она завещала мне, когда у вас тут окончится ересь, поехать сюда и попробовать разыскать его или хотя бы узнать, что с ним стало… Она сказала, что мне будет, чему поучиться у него, потому что, по ее словам, это был единственный настоящий монах, которого она встретила в жизни. Может быть, она и преувеличивала, но, наверное, этот отец Мефодий и правда был совсем особенный и великий подвижник… Мама сказала, что он прожил в Риме несколько лет, а когда императора Льва убили, вернулся на родину, но что с ним стало дальше, она не знала. Она очень уважала и почитала его, и мне так бы хотелось разыскать его, владыка! Мама сказала, что на родине он был игуменом монастыря… Хино…
– Хинолаккского? – Мефодий едва справился с охватившим его волнением.
– Да, точно, владыка! Здесь есть такой монастырь? Может быть, ты знаешь, что стало с отцом Мефодием? Конечно, уже прошло много лет… Но всё-таки…
– Не так уж много, брат, – улыбнулся патриарх; жаркое римское лето двадцатисемилетней давности сейчас встало перед ним так, словно дело происходило вчера. – Твою мать звали Сабиной?
– Да, – Григорий вскинул на патриарха изумленный взгляд. – Откуда ты знаешь, владыка?!
– Просто отец Мефодий – это я.
– О, Господи! – только и мог сказать ошеломленный Григорий.
Спустя две недели Асвеста уже стал патриаршим архидиаконом, но Мефодий возлагал на него гораздо бо́льшие надежды: лучшего кандидата на Сиракузскую кафедру найти в настоящее время было невозможно, и хотя Григорий еще не достиг указанного в канонах возраста для рукоположения в епископы, патриарх предполагал по снисхождению нарушить этот запрет. Однако он не хотел чересчур торопиться, чтобы не вызвать лишних нареканий, и рассчитывал рукоположить Григория в священника на Рождество Христово, а в епископа на Пасху, чтобы потом отправить на Сицилию восстанавливать православие.
Столь быстрое возвышение приезжего монаха вызвало недовольство в столице. Вновь пошли разговоры, что патриарх сплошь да рядом отличает «иноземцев»: то палестинцев Феофана и Михаила – Мефодий поставил наставника Начертанных братьев игуменом Хорской обители, а потом сделал и своим синкеллом, – то «этого италийца»… Но патриарх не обращал внимания на пересуды. Иные жалобщики писали самой императрице, однако Феодора сказала логофету:
– Феоктист, разбирайся с ними сам, а мой ответ на всё это раз и навсегда таков: патриарх избран на их соборе ими же самими, и избрание утверждено откровением Божиим через отца Иоанникия, так чем же они недовольны? Уж не хотят ли они спорить с Богом? – она усмехнулась. – Говорят, у Бога бо́льшую честь получает тот, кто больше любит Его и ближних, что же удивительного, что так вышло и у нас? Кто скорее смирился и согласился молиться за врагов, тот и получил первенство, и я думаю, что это вполне справедливо!
Асвеста между тем быстро освоился в Константинополе. Город привел его в неописуемый восторг, так что первое время он даже не замечал неприязни кое-кого из окружающих. Впрочем, Григорий держался скромно, но с достоинством и, несмотря на относительно молодой возраст, скоро стал вызывать у большинства знакомых искреннее уважение. Он неожиданно быстро подружился с протоасикритом – теперь им был Фотий. Поскольку Лизикс не пожелал присоединиться к иконопочитателям, а его упрямство грозило тем, что вслед за его уходом из канцелярии уйдет и большинство тамошних работников, встал вопрос о его замене лицом не менее уважаемым и знающим – а лучше Фотия никого нельзя было найти. Впрочем, Фотию было уже тридцать – возраст, с учетом его дарований, вполне подходящий для столь высокой должности. Его назначение на новый пост не вызвало возражений ни у кого, даже у почитателей Лизикса, так что вслед за смещенным протоасикритом покинули канцелярию только Христодул и еще несколько человек. Фотий и Григорий сошлись благодаря библиотеке протоасикрита – за прошедшие годы Фотий приобрел немало книг. Кроме того, он показал Асвесте свои записки о прочитанном, когда-то начатые по просьбе брата Тарасия, – Фотий продолжал дополнять их после возвращения из посольства, и постепенно они разрослись в объемистый кодекс. Они чрезвычайно заинтересовали архидиакона.
– Да этому цены нет! – воскликнул Григорий. – Особенно для тех, кто не может добраться до всех этих книг… Послушай, Фотий, а ты никогда не пробовал преподавать? Мне кажется, у тебя это прекрасно получилось бы! Ты так много знаешь, так хорошо умеешь рассказывать! Право, на твоем месте я бы затеял что-то вроде дружеских встреч и бесед… Я бы сам первый ходил к тебе! Представь: ты рассказываешь о литературе, стихосложении, грамматике, философии, а мы слушаем, записываем, задаем вопросы, читаем вместе книги и обсуждаем их… О, это было бы так прекрасно! Правда, почему бы тебе не организовать что-нибудь такое? Я уверен, что многие будут счастливы ходить на такие встречи!
– Хм… Интересная мысль! – проговорил протоасикрит. – Вообще-то Логофет предлагал мне преподавать в школе у Сорока мучеников, ведь господин Игнатий опять уехал на Олимп, но я отказался. Я ведь сам учился там и представляю, что там за ученики… Они далеко не всегда бывают на таком уровне и с такой жаждой знаний, чтобы мне было интересно заниматься с ними. Но потом из Фессалоник вернулся господин Лев, и моя помощь больше не потребовалась. Но ты, Григорий, меня озадачил, – Фотий улыбнулся. – Хотя мне некоторые из друзей, кому я давал читать свои записки, тоже говорили что-то в этом роде… Да, я подумаю над этим.
Лев действительно возвратился из Солуни – уже не архиепископом, а простым монахом – и, по желанию августы, занял прежнее свое место преподавателя. Правда, патриарх заикнулся было о том, что ставить бывшего иконоборческого епископа учить юных – не самое разумное решение, но здесь императрица настояла на своем, сказав, что ручается за Философа, его добрые нравы и его веру. Математик принес формальное покаяние в том, что общался с иконоборцами, хотя и не выказал того сокрушения, какого, возможно, от него ожидал патриарх, – однако, поскольку Льву покровительствовали не только августа и ее братья, но и логофет дрома, многие другие высокопоставленные лица отзывались о нем с любовью и уважением, а бывшие ученики вспоминали его уроки с восторгом, Мефодий почел за лучшее не настаивать на своем. Единственное, о чем Философа попросили регенты – воздержаться от посещений низложенного патриарха, хотя видеться с Иоанном никому не запрещалось.
– Ты ведь понимаешь, господин Лев, – сказал Феоктист, – такие дела… Сейчас даже простой дружеский жест может быть истолкован превратно, а при твоем положении лучше «не давать повода ищущим повода». Думаю, в ближайшее время тебе не стоит даже писать Иоанну – мало ли, что… Кто знает, не донесут ли тамошние монахи святейшему… Государыне лишние затруднения сейчас совсем ни к чему!
– Я понимаю, – ответил Математик с грустной улыбкой.
Приехав, он почти сразу ощутил, как изменилась атмосфера в Городе: при внешних достаточно гладких отношениях, и во дворце, и в патриархии ощущалась скрытая напряженность, а в народе недовольство положением дел проскальзывало то там, то тут достаточно явственно: одни были недоволен новыми рукоположениями патриарха, другие всё еще сердились на Мефодия за то, что он пошел на условия восстановления иконопочитания, поставленные императрицей; иные из родственников низложенных клириков роптали на патриарха за «жестокость», а почитатели студитов были недовольны тем, что Мефодий «презрел великих исповедников»… О самих же иконоборцах что говорить – они не прекращали насмехаться над православными и при случае задирать их, тем более что пока далеко не все из знати и военных согласились присоединиться к иконопочитателям. Ходили упорные слухи о том, что низложенный патриарх «еще себя покажет», хотя об Иоанне, с тех пор как Варда увез его в монастырь на Босфоре, не было никаких достоверных известий. Возможно, молву подпитывало то обстоятельство, что Лизикс, ближайший почитатель Грамматика, упорствовал в прежних взглядах, и говорили, будто он посещал сосланного патриарха…
На третий день после Рождества Христова императрица давала обед во влахернском дворце Кариан, построенном Феофилом для дочерей – Феодора любила устраивать там званые обеды. Среди приглашенных были эпарх, синклитики и другие знатные лица, а также патриарх и многие из исповедников. Пировали вовсю, но разговоры велись чинные, так что иные из придворных даже заскучали: по старой памяти привычные к тому, что покойный император с прежним патриархом всегда оживляли подобные застолья философскими беседами и тонкими, в меру язвительными шутками, они еще не вполне приучились к новому стилю придворной жизни. Между тем августа в течение всего обеда украдкой, но довольно внимательно, разглядывала исповедников. Уже подали медовые лепешки и прочие сласти, и скучавшие с облегчением думали о том, что трапеза близится к концу, когда Феодора остановила взгляд на митрополите Никейском. В этот миг на ее лице обозначилось странное выражение, крайне обеспокоившее логофета дрома, который, в свою очередь, ощущая растущую скуку сотрапезников и какую-то тайную и неясную ему мысль, будоражившую императрицу, наблюдал за Феодорой с некоторой тревогой. Феоктист пытался определить, что такое делается с августой, и вдруг с испугом понял, что́ именно напомнило ему выражение ее лица – похожее выражение нередко проглядывало на лице покойного императора Михаила, когда он собирался устроить какое-нибудь «представление». В тот самый момент, когда логофет понял это, Феофан поднял глаза на императрицу и, заметив, как пристально она глядит на него, спросил:
– Почему, августейшая, ты так смотришь на меня, смиренного?
– Смотрю на эти знаки, запечатленные на твоем лице, владыка, – ответила Феодора, – и дивлюсь твоему терпению.
– То же самое, государыня, претерпел вместе со мной и мой брат Феодор, – сказал митрополит в ответ. – Он умер в горькой ссылке и не дожил до торжества веры, за которую подвизался, – Феофан помолчал несколько мгновений и твердо добавил: – И об этой надписи, августейшая, мы рассудим с мужем твоим и государем на неподкупном суде Христовом!
Повисла ужасная тишина. Все устремили взоры на императрицу, а она, чуть побледнев, поднялась с места; глаза ее сверкали негодованием.
– Так вот оно, ваше прощение! – воскликнула она. – Это ваше обещание не поминать зла, сделанного вам моим супругом?! Вы не только не прощаете его, но и на суд требуете!
Но еще никто не успел сообразить, что же делать, как патриарх тоже встал и сказал:
– Нет, августейшая, прошу тебя, не беспокойся! Наше слово твердо, и чудо Божие, подтвердившее его, никто не может опровергнуть! Не обращай, государыня, внимания на речи этого человека, – и Мефодий одарил Феофана таким взглядом, что сидевшие вблизи подумали, что самое интересное, скорее всего, начнется после того, как обед закончится и все отправятся восвояси.
«Этот человек» сделал над собой заметное усилие, чтобы не покинуть залу немедленно, всё же сдержался и, очень бледный, принялся за еду, не сказав более ни слова. Между тем подал голос митрополит Никомидийский Игнатий:
– Истинно так, августейшая владычица! Будь совершенно покойна, твой супруг прощен, и мы – свидетели тому.
Со стороны исповедников раздалось еще несколько подобных же реплик, после чего трапеза продолжалась, как ни в чем не бывало, хотя у всех было ощущение, словно над ними только что пронесся ураган…
По окончании обеда патриарх отправился во Влахернский храм, очень спокойным тоном пригласив Никейского митрополита пройти вместе с ним. Феофан столь же спокойно выразил покорность: он чувствовал свою правоту и потому нисколько не смущался. Поклонившись раке с ризой Богоматери, оба архиерея прошли в небольшие покои для патриарха, пристроенные к храму. Затворив дверь, Мефодий повернулся к митрополиту, окинул его взглядом и спросил:
– Владыка, прости меня, но в своем ли ты уме?
– В своем, святейший, – невозмутимо ответил Феофан. – Кто-то же должен сказать правду! А то после отъезда отца Симеона некому стало это делать.
Митиленец, в свое время сорвавший переговоры православных с императрицей, в начале осени уехал на Лесбос. После торжества православия патриарх сделал его синкеллом и предоставил ему для жительства Сергие-Вакхов монастырь. Но Симеон и несколько находившихся при нем послушников, со своею прямолинейностью и открытой неприязнью к иконоборцам вообще и к бывшему патриарху в частности, не прижились в обители. Хотя Арсений, прежний игумен монастыря, был лишен сана и должности, однако его место занял эконом, Арсений же принял экономство, и таким образом, дух в обители нимало не изменился: бывший настоятель по-прежнему занимался изготовлением лекарств и красок, только химические опыты временно прекратил, чтобы не вызывать подозрений у нового церковного начальства, особенно пока в обители жили лесбоссцы. Хотя сергие-вакховы монахи отнеслись к Симеону с должным уважением, по крайней мере внешне, старец чувствовал себя неуютно среди этой братии и, в конце концов, сославшись на немощь и возраст, отказался от поста синкелла и попросил у патриарха позволения отправиться на родину – «умирать», как выразился он без обиняков; после него синкеллом стал Хорский игумен Михаил.
– Что ты называешь правдой? – столь же невозмутимо спросил патриарх. – Ты хочешь сказать, что мы лжем?
– Конечно, мы лжем – прежде всего, самим себе, святейший, – ответил митрополит, и в голосе его прорвалась долго сдерживаемая горячность. – Мы продались, но при этом делаем вид, будто всё идет хорошо и по воле Божией!
– Продались? – Мефодий чуть пожал плечами. – Право, я не могу взять в толк, о чем ты.
Он улыбнулся, и это окончательно вывело Феофана из себя.
– Ты прекрасно всё взял в толк, владыка! – воскликнул митрополит. – Тебе ли не знать толк в куплях и продажах?! Я долго молчал, но теперь скажу… Ты превратил наши страдания в разменную монету, ты продал нас… и ради чего?! Ради торжества православия? – Феофан саркастически рассмеялся. – Вовсе нет! Оно и так восторжествовало бы, я уверен, если бы мы проявили твердость! За нас тогда были господа Мануил и Сергий, за нас были сестры августы… Да и логофет тоже! Еще немного, и они сломили бы упрямство императрицы… Но ты, святейший, всё испортил, потому что… потому что тебе хотелось занять кафедру, не так ли? И ты нас продал – вовсе не ради торжества веры, а ради «спасения» нашего гонителя, чтобы доставить удовольствие августе! Мало того, ты продал не только нас, но и тех, кто страдал прежде нас и преставился к Богу в изгнаниях и темницах – владыку Никифора, отца Феодора и других, моего брата, наконец! О, если бы жив был Студийский игумен! Он никогда, никогда не пошел бы на подобную сделку, я уверен!
Глаза патриарха на мгновение сузились, но он тут же улыбнулся и спокойно сказал:
– Да, владыка, я вас продал и не жалею об этом. Единственное, о чем я могу пожалеть, так это о том, что продал вас слишком дешево. Пожалуй, надо было бы побудить вас молиться не только за государя, но и за его родителей, умерших детей, еще кое-каких родных… А то августейшая, я знаю, беспокоится об их вечной участи, – он глянул в ошарашенное лицо митрополита и чуть заметно усмехнулся. – А теперь серьезно, владыка. Обвинение в том, что я «продал» вас, чтобы занять кафедру, я оставлю без ответа; думай, как тебе угодно. Что до отца Феодора, то здесь ты, пожалуй, прав: Студит действительно не пошел бы на условия, выдвинутые государыней. Только, владыка, не потому ли Господь Своим промыслом упокоил его раньше торжества православия, чтобы он своей горячностью как-нибудь не помешал бы ему? Тебе это не приходило в голову? А мне приходило. Горячность, владыка, тоже иногда надо умерять… Что же до того, будто надо было еще немного подождать, чтобы родственники августы убедили ее, то я понимаю, со стороны это кажется правдоподобным. Только никто из вас не говорил с государыней об этом наедине. А я говорил. И могу тебя уверить, что она никогда бы не согласилась на другие условия. Никогда – можешь ты это понять?.. Скажи-ка мне, владыка, ты когда-нибудь любил?
Феофан растерялся.
– Любил?.. Разумеется, любил – брата, родителей, отца Михаила…
– Я не об этом, владыка, – улыбнулся Мефодий. – Любил ли ты когда-нибудь женщину?
Митрополит уставился на патриарха в немом изумлении.
– Я понимаю, что вопрос нескромен, – сказал тот, – но поверь, я спрашиваю не из праздного любопытства. Это имеет прямое отношение к нашему разговору. На всякий случай уточню: я имею в виду не похоть, а именно любовь. Так любил или нет?
– Нет.
– Я так и думал. Вот потому ты и не сможешь понять, почему августа никогда не согласилась бы на иные условия. Она любила своего мужа так, как, думаю, люди вообще редко любят. И мы еще должны быть благодарны ей за то, что она всё-таки немного научила нас молиться за врагов, здесь отец Исаия совершенно прав. Не знаю, читала ли государыня Послания божественного Ареопагита, но она оказалась лучшей его ученицей, чем мы, готовые «злом мстить за Благого». Я слушал твою нынешнюю речь, владыка, и как раз вспомнил рассказ о Карпе, как он «неблагочестиво скорбел, горевал и говорил, что несправедливо, если останутся живы безбожные люди, “развращающие правые пути Господни”, и говоря это, молил Бога, чтобы какая-нибудь молния без пощады лишила жизни» того, кто совратил христианина к безбожию. Так вот, владыка, сейчас мне хочется спросить тебя приведенными у святого Дионисия словами Христа: «Смотри, не кажется ли тебе, что пребывание государя Феофила в пропасти со змеями хорошо бы заменить пребыванием с Богом и благими и человеколюбивыми ангелами?» Неужели не кажется?
Феофан некоторое время молчал, опустив глаза, а потом тихо проговорил:
– Если честно, я думал… что всё это была только игра. Я не верил, что мы отмолили его… Я думал, что ты… просто подменил пергамент.
– Вот оно что! – патриарх усмехнулся. – Это многое объясняет. Но я могу поклясться, что ничего не подменял.
– Нет, не нужно, святейший, – Феофан взглянул на Мефодия, и губы его дрогнули. – Прости меня! Я действительно… несколько выступил из ума… Что же это с нами такое делается в последнее время?! – вырвалось у него.
Мефодий шагнул к нему и, глядя в глаза, сказал тихо и жестко:
– А ты что думал, владыка? Внести иконы в храмы и почить на лаврах?.. Древние говорили, что самое опасное на войне – это победа. Теперь ты можешь убедиться в этом воочию.
…Клейдийский монастырь, где уже десятый месяц жил в ссылке низложенный патриарх, был обителью небольшой и ничем не примечательной, кроме того, что отсюда открывался прекрасный вид на Босфор. Особняк Арсавира находился всего в нескольких милях от монастыря, и Иоанн изредка писал старшему брату, но сразу попросил его не приезжать в гости и не присылать ничего, кроме разве что соленых оливок. Грамматика поселили в небольшом флигеле, где в годы расцвета монастыря было зернохранилище, а после того, как число братий значительно уменьшилось и потребность в больших запасах отпала, хранилась всякая рухлядь: это затхлое, пыльное, заросшее паутиной помещение, где пол изгрызли мыши, а крыша при ливнях протекала, настоятель поначалу даже не собирался приводить в приличный вид, злорадно думая, что «злейшему ересиарху только так и жить, пусть поплатится сполна за свое нечестие!» Однако приехавший в обитель незадолго до вселения Иоанна брат императрицы, осмотрев помещение, дал игумену денег и велел немедленно сделать во флигеле уборку, проделать окна побольше и пониже и вставить в них хорошие стекла, перестелить пол, покрыть крышу новой черепицей, разделить флигель перегородками на несколько комнат и в большей из них устроить книжные шкафы. Варда также наказал предоставить Иоанну мебель, какую тот попросит, позволять прогулки по монастырю и прием посетителей и вообще «не доставлять никаких неприятностей», заверив встревожившегося настоятеля, что Грамматик никакого вреда обители не причинит и «совращать братию в нечестие» не будет.
– Если же, паче чаяния, что-нибудь случится, – добавил патрикий, – сообщайте государыне, и она решит, что делать.
Бывший патриарх действительно жил в ссылке очень тихо, общаться с братией не пытался и вообще походил на молчальника: слуга, вызванный Иоанном из имения в Психе́, понимал своего господина почти без слов, а гости к Грамматику не ходили – за полгода ссыльного навестили только несколько раз. Сначала это были два монаха из столичного монастыря – из какого именно, они не сказали. Они пробыли у низложенного патриарха около трех часов, после чего Иоанн проводил их почти до ворот обители и с улыбкой простился. Привратник выпустил их и видел, как они, уходя по дорожке от монастыря, утирали слезы. Потом три раза приходили какие-то миряне, а однажды приехал военный – как видно, издалека, верхом на великолепном скакуне, весь в дорожной пыли. Все они, кроме военного, перед тем как направиться во флигель к Иоанну, заходили помолиться в монастырский храм, – значит, иконоборцами не были. Евсевий, игумен обители, гадал, «что им понадобилось от анафематствованного нечестивца»… Дважды Грамматика навестил знатный человек, богато, чтобы не сказать роскошно одетый, сухощавый, невысокого роста; с его тонкого умного лица, когда он говорил с игуменом, не сходило высокомерно-насмешливое выражение. Совсем другим его взгляд был, когда Иоанн провожал своего гостя до ворот – Евсевий следил за ними из окна своей кельи и понял, что они находятся в дружеских отношениях, хоть и неравных: посетитель обращался к Грамматику почтительно, но без подобострастия. Во второй визит этого гостя Иоанн, провожая его, даже вышел вместе с ним за ворота монастыря и, уже прощаясь – привратник, пытавшийся подслушать их разговор, в тот же вечер донес об услышанном настоятелю, – сказал с улыбкой:
– Не скорби, господин Лизикс! «И местом молчания, и училищем философии» стал для меня сей Ламис, как сказал бы Богослов. Право же, я рад этому и не стремлюсь… – дальше привратник не расслышал, но видел, как бывший протоасикрит попросил благословения у Иоанна и тот благословил его по-иерейски.
Только об одном привратник не рассказал игумену – о том, как поразило его выражение лица «злочестивого ересиарха» при прощании с Лизиксом: от обычной отстраненной холодности, с какой он всегда смотрел на монастырскую братию, не осталось и следа, и когда Иоанн вернулся в обитель, его взгляд еще хранил тепло и искристую веселость… Поглядев на привратника, стоявшего у приоткрытой калитки в монастырской ограде, Грамматик спросил:
– Что, брат, боишься, что убегу?
Но монаха так поразило явление этого другого «нечестиеначальника», что он не нашелся с ответом. Иоанн еле заметно улыбнулся и пошел к своему флигелю.
После второго посещения Лизикса вот уже почти три месяца никакие гости к ссыльному не приходили, – как можно было догадаться по подслушанному разговору, Иоанн сам не стремился никого видеть. В теплое время он часами просиживал с книгой на скамье в саду, откуда открывался наилучший вид на Босфор; самые суеверные из монахов даже перестали садиться на эту скамью, избегая возможного «чародейного влияния» Грамматика. Чтобы мыши не беспокоили его и книги, Иоанн завел кота – как нарочно, совершенно черного, с огромными ярко-зелеными глазищами; братия боялись этого кота, называли «колдовским» и обходили стороной, когда видели во дворе. В октябре пошли дожди, и Грамматика вообще никто не видел по целым дням, зато можно было заметить, что по ночам светильник у него в комнате гас не больше, чем на два-три часа. Бывший патриарх, кажется, не тяготился одиночеством, но монахи обители приписывали это не аскетизму, а «дьявольской гордыне». Игумен еще до прибытия Иоанна внушил братии, что главарь иконоборцев – человек опасный, сильный в софизмах и диалектике, «заговорит в два счета, так что и не заметишь», к тому же колдун, изучил всякую «халдейскую мудрость» и умеет вызывать бесов…
Разумеется, Евсевий и не думал разубеждать монахов, но у него самого относительно низложенного патриарха в голове постепенно забродили мысли самые разные: ссыльный уже не казался ему таким однозначным, каким представлялся поначалу. Иоанн возбуждал любопытство, и иногда игумен – о, он ни за что и никому не признался бы в этом! – подолгу просиживал у окна своей кельи на втором этаже монастырского жилого здания, откуда открывался хороший обзор на всю территорию монастыря, и наблюдал за Грамматиком: как тот гуляет по саду, сидит на скамейке, то чуть склонившись над книгой, то устремив взгляд вдаль, на море и противоположный берег; он мог сидеть так очень долго – о чем он думал?.. Или он молился?.. По крайней мере, было ясно, что в отношении не только сна, но и еды жизнь его была самой аскетической: прислужник никогда не приносил с рынка в обитель и не просил в монастырской трапезной для бывшего патриарха чего-либо, кроме овощей, хлеба и вина, да и то в небольшом количестве. Сам прислужник питался в соседней деревне у родственников – он любил мясное и вообще любил поесть, как обмолвился однажды в разговоре с привратником. Странным образом, игумен иной раз начинал ловить себя на чувстве, похожем на зависть к ересиарху, – и был почти готов возроптать на то, что Иоанна сослали в его монастырь. В свое время, когда ему возвестили августейшую волю, Евсевий был вне себя от радости: он представлял, как «злочестивец» будет жить в холодном грязном флигеле, как монахи будут выражать ему презрение, как он будет постоянно чувствовать общественное осуждение… Но всё вышло иначе! «Виновник великих бедствий для христиан» проводил дни в обустроенном жилище, а презрение, которое братия действительно поначалу пытались ему выражать, если не словесно – этого они боялись, ввиду указания императрицы не причинять ссыльному неприятностей, – то, по крайней мере, взглядами и выражением лица, быстро сошло на нет перед его ледяным молчанием: Грамматик смотрел на задиравших перед ним нос монахов словно на пустое место. Братия поначалу пытались разговорить прислужника и выведать у него о жизни хозяина, но тот упорно молчал, а если и говорил – что, впрочем, можно было считать большим событием, – то лишь о себе. Словом, Иоанн жил так, будто никаких враждебно относящихся к нему монахов и монастыря вовсе не существовало на свете – однако не было никакого повода упрекнуть его в чем бы то ни было и воспользоваться правом жалобы на имя императрицы… Чем больше Евсевий наблюдал за опальным ересиархом, тем неуютнее становилось у игумена на душе: этот человек, по внешнему поведению как будто бы такой простой, ощущался словно некая загадка. Она не давала спокойно жить, а разгадать ее было невозможно – не приступать же к Иоанну с какими-то разговорами, в самом деле! да и о чем спрашивать его?.. Иногда чудилось, что Грамматик догадывается о мыслях игумена: однажды, когда Евсевий со жгучим раздражением, смешанным с не менее, если не более острым любопытством, наблюдал за ним из окна, укрывшись за занавеской, Иоанн, проходя по монастырскому двору, вдруг приподнял голову, взглянул, казалось, прямо на него и насмешливо улыбнулся. Игумен вздрогнул и отскочил вглубь кельи. В тот же день, пройдя по тому месту, откуда Иоанн поглядел вверх, Евсевий внимательно посмотрел на окно своей кельи: нет, с улицы было совершенно невозможно увидеть, что кто-то смотрит из-за занавески! Как же тогда Грамматик узнал?!..
Игумен не подозревал, что Иоанн вызывал любопытство не только у него. Другим монахом, в ком постепенно зародилось то же чувство – правда, далеко не такое жгучее, – был Герман, один из монастырских иконописцев. Он пришел в обитель восемь месяцев назад, после того как монастырек, где он подвизался раньше, со смертью настоятеля пришел в совершенный упадок: преемников игумену не обрелось, а монахов было всего четверо, и они разошлись, куда глаза глядят. Герман не стал ходить далеко и попросился в соседнюю обитель. Его охотно приняли, и игумен, узнав, что Герман в миру учился живописи, решил поставить его на иконописное послушание. Иконы были теперь одной из статей доходов монастыря: после торжества православия спрос на них подскочил, как никогда. Правда, Герман предупредил настоятеля, что не занимался живописью с тех пор, как постригся, и особого таланта у него никогда не было, но Евсевий сказал, что это нетрудно проверить, и отправил монаха в мастерскую. Икона Христа, написанная Германом после нескольких пробных набросков, игумену понравилась и вскоре была продана за неплохие деньги. Так новоприбывший инок пополнил число иконописцев обители, однако послушание не доставляло ему радости: хоть игумен и хвалил его работу, Герману всё время казалось, что он рисует плохо, бездарно, что иконы получаются «неживыми», – но в чем причина этого, монах понять не мог. Остальные трое его собратий по послушанию были ненамного талантливей его, но не страдали от сознания собственного несовершенства. Видя, что Герман недоволен своими произведениями и склонен из-за этого унывать, они утешали его, хвалили его работы и уверяли, что он печалится совершенно напрасно. Но монах больше слушал свой внутренний голос, еще ни разу не сказавший: «Вот оно!»
Герман был упорен. Он проводил за иконописью всё свободное время, нередко оставался без послеобеденного перерыва на отдых, чтобы лишний час порисовать, пытаясь уловить то, что от него ускользало, но результаты ему по-прежнему не нравились. Он перерыл монастырскую библиотеку в поисках каких-нибудь произведений об искусстве живописи, но, поскольку библиотека включала в себя только книги Писания и святоотеческие творения, то найти в ней что-либо, кроме богословского обоснования иконопочитания и описаний святыми отцами виденных ими священных изображений, Герману не удалось, а трактат об иконописи, хранившийся в самой мастерской, был слишком краток и не давал ответов на многие вопросы – очевидно, он был создан для обучения иконописи под чьим-то руководством, а не самостоятельно. Иногда Герман косился в сторону флигеля, где жил низложенный патриарх, как говорили, окруженный горами книг. Хотя при поступлении в обитель настоятель сразу же предупредил новичка, что ему не следует общаться с Грамматиком, «чтобы не заразиться от него каким-нибудь нечестием», Германа не пугала возможность такого общения самого по себе; но мысль о том, что вряд ли в библиотеке иконоборца найдется что-нибудь об иконописи, останавливала монаха от обращения к Иоанну. Между тем он стал ловить на себе пристальный взгляд Грамматика – они иной раз встречались во время прогулок по саду. Слава «колдуна и нечестивца» ограждала бывшего патриарха от посягательств кого-либо из монахов на его уединение, но Герман по вечерам часто, вместо дозволенного общения с другими братиями, выходил побродить по саду в раздумьях о живописном искусстве и поневоле сталкивался там с Грамматиком. Он никогда не пытался заговорить с Иоанном, однако всегда при встрече с ним здоровался легким поклоном, получая то же в ответ, и не шарахался от него, как иные из братий, хотя пронизывающий взгляд стальных глаз иногда смущал монаха.
Как-то раз Герман в разговоре с другими иконописцами, как бы невзначай, высказал предположение, что у Иоанна могут быть в библиотеке книги о живописи, но монаха тут же засмеяли.
– Ты с ума сошел, брат! – воскликнул Келсий. – У этого-то иконоборца?! Да он, поди, и слышать о живописи ничего не желал бы, а не то что читать! Книги!.. Ха! Если у него и есть такие книги, то разве что с хулами на иконы!
– Вряд ли, – возразил Михаил, – такие у него, скорее всего, отобрали, когда отправили сюда.
– Может, отобрали, а может, и нет, – пробурчал Тимофей и, понизив голос, злобно продолжиал: – Вон, как его тут разместили… с удобствами! При нем православные томились по тюрьмам да по подвалам, не то, что читать – есть было нечего! А этот, вон, гуляет да еще смотрит на всех так, будто он тут выше игумена!
– Да уж, и правда, – кивнул Келсий. – Откуда только нашей обители эта напасть?!
– Грешим много, должно быть! – вздохнул Михаил.
– Да, например, осуждением и злословием, – сказал Герман.
Все трое монахов посмотрели на него подозрительно, но он с самым невинным видом продолжал выписывать складки на одежде Спасителя. Больше со своими собратьями говорить об Иоанне он не пытался.
16. Слава отцов
(Александр Межиров)
- Бывало всяко. Даже тяжело, —
- До полного развала и распада.
- Я требовал от вас того, чего
- От человека требовать не надо.
После Рождества Христова игумены Студийский Навкратий и Саккудионский Афанасий обратились к патриарху и императрице с просьбой позволить перенести тело Феодора Студита с острова Принкипо в родной монастырь. Уже на другой день получив разрешение, они оповестили всех, кого могли, о грядущем событии, и в Город стали собираться монахи из разных обителей, желавшие почтить память великого исповедника. Патриарх обещал лично принять участие в торжестве и поручил Никейскому митрополиту написать в честь святого Феодора канон, чтобы пропеть его при перенесении мощей.
Феофан с радостью принялся за дело: ему хотелось почтить прославленного игумена – не только потому, что он любил святого, но и потому, что ему было обидно за Феодора. После разговора с патриархом Феофан перестал сомневаться в прощении покойного императора и больше не роптал на то, что Мефодий «продал» исповедников, однако слова патриарха о том, что Студийский игумен не дожил до торжества православия именно из-за своей «неумеренной горячности», задели Никейского владыку. Ему хотелось также сделать подарок всем студитам и, быть может, утешить их – Феофан знал, что они оскорблены «непочтением» со стороны патриарха, обошедшего их при рукоположении епископов на покинутые иконоборцами кафедры. Впрочем, готовящееся торжество вселяло надежду на то, что Мефодий хочет улучшить свои отношения с учениками Феодора…
«Глагол Божия в тебя явственнейше вселившийся, премудрый Феодор, – писал митрополит, – догматов реки источает обильно, ими же ныне наслаждаяся, богодохновенный, ученики твои благодарно вопием немолчным гласом: силе Твоей слава, Человеколюбче…»
26 января множество монахов и игуменов во главе с Навкратием и Афанасием отправилось на Принкипо, чтобы извлечь из могилы тело Феодора. Со свечами и фимиамом они пришли к могиле исповедника, и Студийский игумен во всеуслышание стал умолять святого возвратиться в его Город и монастырь:
– Ты ведаешь наше влечение к тебе, о, наилучший и чадолюбивейший из отцов, знаешь преизбыток привязанности, знаешь глубину любви – посему мы и пришил к тебе с прошением, явились, призывая, прибыли с мольбой: дай согласие нам, умоляющим, склонись к просящим тебя, дай пастве твоей перенести твое священное тело, дай столице поместить у себя твой честной прах, дай благоприлично положить почитаемые твои мощи, дай устроить общую радость об этом, общее ликование, ибо мы жаждем получить тебя, жаждем удержать и принять у себя. Жаждет тебя твоя прославленная обитель, жаждет тебя множество чад твоих, коих ты породил, и дал созреть, и привел в меру духовную, жаждет тебя вскормившее отечество, а вернее Царица городов, где ты и икону Христову славно проповедал, и явственно заклеймил ее ругателей. Приди к твоему народу, к твоей пастве, к устроению Церкви, к украшению ее, ко благолепию!..
Помолившись и воспев множество гимнов, как благодарственных, так и уже составленных к тому времени в честь преподобного Феодора студийскими монахами, они подняли гроб святого из могилы и понесли на судно. Всю дорогу до Города монахи продолжали петь гимны и составленный митрополитом Феофаном канон.
«В видении деятелен, в деяниях богослов был для нас, богоглаголивый, постник учительный, священномученик славный, православия столп, Церкви утверждение…»
На берегу мощи Студита встречали толпы народа со свечами и благовониями: здесь были и клирики, и монахи, и миряне, многие из них прибыли издалека. Фимиама было воскурено столько, что благоухание разнеслось по всем окрестным кварталам. Императрица по случаю торжества прислала в Студий драгоценные благовония, а многие синклитики и логофет дрома приняли участие в перенесении тела святого в его монастырь.
«Благоухает благолепно догматами божественные слова твои и из глубины злых ересей всех возводят, всемудрый, православия к превышней крайности…»
Когда, наконец, гроб Феодора поставили в правом приделе Студийской базилики и открыли, взорам всех предстало совершенно нетленное тело игумена, светлое, словно только вчера похороненное. От него исходило тонкое, но явственное благоухание. Все видевшие это были поражены и обрадованы. Лица студитов лица светились счастьем, многие плакали от избытка чувств. К этому же дню приурочили и перенесение из Фессалии останков архиепископа Солунского Иосифа – части костей и праха: его тело сохранилось не целиком. Патриарх собственноручно переоблачил тело Феодора в новые ризы, и мощи братьев стояли в храме два дня, чтобы желающие могли поклониться и приложиться к ним. В эти дни в Студии перебывали почти все константинопольцы, а затем патриарх совершил торжественное погребение святых: останки братьев были положены в ту гробницу, где много лет назад был похоронен их дядя Платон. Так трое исповедников вновь соединились на земле, как уже давно были соединиены на небе.
«На земле подвизался ты, благочестия защитник и неправды нелживый обличитель быв, всеблаженный, как дар Божий, и на небесах правды венцами венчался, течение совершил, веру соблюл, превознося Христа во веки», – этот тропарь канона особенно понравился студийской братии, и Николай после литургии, благодаря Никейского митрополита за его труд, сказал:
– Как хорошо, владыка, что ты прославил подвиги нашего отца не только ради догматов, но и ради соблюдения канонов и евангельских заповедей! А то ведь его правоту в этих делах не все признавали даже много лет спустя!
– Не думаю, чтобы теперь нашлись такие, – с улыбкой ответил Феофан. – Тем более, что и святейший Никифор в конце концов согласился с отцом Феодором, как я знаю… Ведь это так?
– Да! – с жаром ответил иеромонах Дорофей и рассказал о той трапезе в монастыре, где жил в ссылке патриарх-исповедник, когда Никифор посадил Феодора рядом с собой, как равного и более всех подвизавшегося за веру.
– А мне, – вмешался игумен Навкратий, – очень понравился вот этот тропарь: «Глаголов твоих вещание, дарованием Божиим, слышно было всем нам, всехвальный, как гром, в концах вселенной, и словно реки истекают твоих учений писания. Сего ради богословом и богоглаголивым тебя достойно именуем». Да и весь канон прекрасен! Благодарю, владыка, за труд! – он поклонился в пояс митрополиту. – Пусть наш отец испросит за это тебе от Господа всяческих благ, временных и вечных!
Мефодий слушал этот разговор, не вмешиваясь, и внешне оставался совершенно спокоен, но в его душе поднялся целый вихрь воспоминаний. Итак, студиты по-прежнему считали, что их прославленный игумен всегда был прав во всем и действовал справедливо, если же кому-нибудь и казалось иначе, то в конце концов все признавали правоту Феодора… И теперь Феофан словно бы закрепил это мнение богослужебно! Патриарху тоже понравился написанный митрополитом канон, но ему совсем не нравилась торжествующая «самоуверенность» студитов… Мефодий думал об этом за праздничной трапезой в Студии, думал и потом, когда уже возвратился в патриархию. И чем больше он размышлял, тем плотнее сжимались его губы – в такую же жесткую линию, как много лет назад, когда он собирался в далекий Рим, а святой Никифор говорил ему о том, что впредь не следует «ворошить прошлое».
Нет, Мефодий не забыл тот разговор. Но замысел, созревавший в его голове, представлялся ему не ворошением прошлого, а ревностью о славе святителей-исповедников. Ведь игумен Феодор давно переселился на небеса, его слава засвидетельствована всей Церковью, и не будет ничего ужасного в признании, что при жизни он допустил кое-какие ошибки – разумеется, из лучших побуждений, но всё же ошибки, которые нужно во всеуслышание за таковые признать. Преподобному это уже не могло повредить, зато могло уберечь потомков от впадения в те же оплошности. В конце концов, ошибки бывали и у великих святых, в силу их человеческой ограниченности, – а разве Феодор не такой же человек? В пылу сражений за церковную правду, как он ее понимал, он допускал слишком резкие высказывания в адрес своих противников, и сейчас было бы вполне уместно и полезно признать, что то были перегибы, а вовсе не образец для подражания. Особенно это казалось уместным ввиду грядущего перенесения в Город мощей патриарха Никифора – Мефодий уже давно думал об этом, но теперь окончательно решил, что устроит это торжество лишь после того, как память святителя будет очищена от нареканий всё еще памятных многим и, как патриарх воочию убедился, не забытых студитами.
Однако Мефодий ни с кем не делился своими планами, и никто из участников торжеств в честь Студийских исповедников не подозревал, чем обернутся для всей Церкви похвалы канону, написанному Никейским владыкой, и некоторые из пламенных речей, произносившихся в память игумена Феодора и архиепископа Иосифа…
Пока, при поверхностном взгляде, можно было сказать, что церковные дела идут неплохо: за прошедшие месяцы к Церкви присоединилось довольно много иконоборцев, поначалу не хотевших каяться, а в первое воскресенье Великого поста торжественно отметили годовщину торжества православия. Однако не всем это действо пришлось совершенно по вкусу, поскольку перед литургией в Святой Софии прозвучали не только анафемы против попранной ереси и шестерых иконоборческих патриархов. Мефодий прочел также канон собственного сочинения, и это творение вызвало у императрица и ее приближенных внутреннее содрогание.
Патриарх не пощадил своих противников. Канон начинался прославлением Бога и благочестивого императора: «Благодарственную песнь благодетелю Богу всех воспоем верные, ибо воздвиг Он спасения рог, царство державное, православия поборника», – и далее в нем многократно восхвалялось вновь обретенное Церковью иконное благолепие, однако по обилию поношений в адрес еретиков, причем не в общих словах, а поименно, сочинение Мефодия превосходило все известные произведения подобного рода. «Да постыдятся же и посрамятся отныне неистовые Лизикс лютый, и Антоний с Иоанном, и Феодор, отметники веры», – восклицал автор канона. Сиракузский архиепископ по-прежнему не сдавался, хотя патриарх надеялся, что Григорий Асвеста после Пасхи отправится на Сицилию и, наконец, исправит на острове положение церковных дел; Лизикс тоже пока не собирался каяться в ереси, а вместе с ним упорствовал и кое-кто из придворных. Таким образом умалялась «всеобщность» торжества православия, а кроме того, это таило в себе зерно возможных нестроений в будущем – и Мефодий не церемонился с врагами икон.
Императрица слушала анафемы в адрес «безумного Иоанна», «излиявшего кровь» подвизавшихся за иконы и учившего «дельфийским нравам», и гадала, что́ сказал бы Грамматик, если б это слышал. Вероятно, пожал бы плечами и презрительно усмехнулся… А Варда, услыхав тот же тропарь, подумал, что патриарх, возможно, не заметил двусмысленности, привнесенной им – вероятно, невольно – в канон. Ведь, в сущности, для философа это могло бы прозвучать как похвала: знаменитая дельфийская надпись призывала «познать самого себя» – чем не занятие, достойное христианина и монаха!
– «Зверей и богоборников, Антония скверного и преступника Иоанна сатаномысленнаго, церковного борителя, как волков лютых, сошедшись, верные, проклятию предадим»! – громогласно выводил патриарший архидиакон.
Феодора внутренне поёжилась. «Да, – подумала она, – не хотела бы я попасться под перо патриарху! Впрочем, не затем ли он так распаляется, чтобы боялись возможные противники? Наверное, думает: услышат, каким проклятиям можно подпасть, и лишний раз поразмыслят, стоит ли поднимать голову… Тем более, что я вроде как покровительствую святейшему, – она усмехнулась. – Цена нашей сделки, похоже, продолжает расти, но как-то всё с одной стороны! Впрочем, может, это не так и плохо, если патриарха будут побаиваться… В конце концов, лишние смуты нам сейчас действительно ни к чему!»
«В день суда, всеокаянный, встанет обличитель безбожной твоей души – собор отцов, коих тела безчисленными язвами ты обнажил», – обращался патриарх к своему низложенному предшественнику.
«А всё-таки я не обманула Феофила! – думала императрица. – Я не дала им отыграться на Иоанне! Ссылка – единственное, чего они смогли добиться… Ну, если не считать этой неприятности с друнгарием… А теперь они злятся… Да ведь Мефодий, наверное, потому так и поносит его, что на деле-то они не смогли ему отомстить так, как хотели! – эта мысль ее даже развеселила. – Что ж, пусть позлятся, погромыхают словами… От этого сотрясения воздуха Иоанну хуже не будет!»
Лев вернулся домой после службы в Великой церкви печальный и сразу, даже не поев, сел за письмо Кассии. «Когда я слушал этот канон, – писал Философ, – меня не покидало горькое чувство. Мне думалось, что Церковь это место, где мы с земли как бы восходим на небо уже тут, в этой жизни, а значит, все здешние обиды и счеты должны оставаться за дверями храма. Между тем, я ощущал совсем противоположное: словно в храм впустили шум рыночной драки. Разумеется, проклинать ересь и еретиков как ее распространителей необходимо, прежде всего для воспитания простого народа, это наиболее действенное средство проповеди… Однако, увы, в сегодняшнем каноне мне почудилось не только желание предостеречь людей от ереси, но явное злорадство. Возможно, я не прав… Может быть, это не злорадство, а попытка внушить самим себе, что вот теперь-то мы восторжествовали… Потому что на самом деле – не будем лукавить! – торжество пока далеко не совершенно. Однако я, сказать честно, очень сомневаюсь в том, что подобные поношения содействуют этому торжеству. В очередной раз можно убедиться воочию, по каким узким дорогам и над какими безднами нам приходится ходить, как тонка граница между истиной и ее подделками, между ревностью о Боге и злорадством или злопамятством, как трудно не переступить эту черту, как непросто найти ту середину между крайностями, которая зоветеся добродетелью… Прости, мать, кажется, я выражаюсь не очень внятно, но это от того, что я сильно взволнован и огорчен. Пострадавших за иконы исповедников и лишенные икон храмы, небо и землю – всех этот канон словно бы призывает на отмщение “предтече антихриста сатаны”. Конечно, тут можно вспомнить Откровение: “Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу?” – но ведь и там мученикам сказано было подождать до тех пор, пока грядущие святые и исповедники “дополнят число”. По сути ведь это значит – подождать до последнего и всеобщего суда! Но человек нетерпелив… Зная, что перенес патриарх за годы гонений на иконы, вряд ли справедливо строго судить его горячность, но… Меня охватывают печаль и горечь, и я ничего не могу поделать с этим! Я не был здесь, когда шли споры о том, молиться ли за государя Феофила и признать ли его предсмертное покаяние, но сегодня мне подумалось, что, хотя в конце концов православные согласились простить своего гонителя, они так и не пряняли этого согласия всем сердцем, потому что в этом каноне слышится всё тот же гнев, вся та непримиримость, с которой на самом деле расстались не как с таковой, а только ради одного человека. Августа говорила мне, что патриарх первым из исповедников поверил ее рассказу о покаянии государя и уговорил других молиться за него, но, судя по тому, что многие из них и позже не забыли прежних обид, святейшему нелегко: вероятно, ему приходится принимать меры, чтобы ублажить по мере сил обе стороны. Его можно понять, но не знаю, можно ли с этим до конца смириться!»
Читая письмо друга, Кассия думала, что он прав и сделать тут ничего нельзя, остается только надеяться, что со временем все эти противоречия сгладятся, а страсти утихнут. «Я не могу их осуждать! – думала она. – Меня ведь никогда никто не трогал, если не считать того давнего бичевания, я жила спокойно в своей обители, а каково было другим в те годы! Ведь далеко не все избежали неприятностей так же, как я… Одни скитались, другие жили в ссылках, а кто-то сидел в тюрьме и претерпел бичевания… Патриарх столько выстрадал, а всё-таки первый пошел навстречу августе!.. Просиди я двадцать лет в тюрьме, так еще неизвестно, что бы я сказала в ответ на предложение простить моего гонителя… Вот и святой Григорий говорит, что “страждущий памятливее”! Нет, осуждать нельзя, и в то же время…»
В то же время ей было невыносимо грустно и отчасти тревожно. Раздражение против иконоборцев, в общем, было вполне понятным со стороны тех, кто долго был гоним и даже, как Никейский митрополит, потерял в годы «еретической зимы» дорогих людей. Больше беспокоило другое. Во времена господства еретиков православные были как-то единодушнее, сплоченнее, и хотя в те времена иной раз тоже проявлялись взаимонепонимание, зависть и прочие человеческие слабости, это сглаживалось общим чувством причастности к единой вере, единым стремлением отстоять ее. Теперь же, после торжества над противниками, после утверждения веры, когда вроде бы всем подобало единодушно возрадоваться и еще более сблизиться в этой радости о Господней милости, – напротив, всё чаще возникало ощущение, что их всех словно бы расшвыривало в разные стороны… Почему?.. Потому, что с окончанием гонений исчезла та внешняя преграда, которая сдерживала проявления неизжитых страстей, стремлений, желаний?.. Или потому, что у каждого было свое видение того, как именно победившая истина должна торжествовать?.. Впрочем, судя по тому, что на раздоры среди христиан, единомышленных в вере, сетовал еще Григорий Богослов, подобное случалось всегда… Значит, не нужно этому удивляться, не нужно ждать полного единодушия? Получается, оно – принадлежность только будущего века?..
«Господи! – молилась игуменья. – Помилуй нас грешных, вразуми всех, помоги понять Твою волю и смириться под Твою руку!» Но сердце сжималось предчувствием, что впереди ожидает вовсе не конец этой всё возраставшей напряженности, а новые искушения…
…Между тем логофетом дрома тоже овладело желание славы – правда, не для почивших отцов и не церковной, а для себя и военной. Он попытался добыть ее сразу после торжества православия: уже 18 марта, невзирая на Великий пост, Феоктист с большим флотом отправился на Крит – в пылу торжества над ересью и воодушевления от чудес и знамений, логофету казалось, что Бог тут же явит Свое благоволение и предаст в руки православных захваченный неверными остров. Арабы действительно были поражены многочисленностью ромейского войска и, за невозможностью оказать достойный отпор, прибегли к хитрости: подосланные ими лазутчики из числа принявших ислам греков подкупили кое-кого из архонтов, чтобы те распространили слух, будто в Константинополе возвели на престол нового императора. Логофет, испугавшись, что иконоборцы устроили заговор против августы и ее сына, поспешил вернуться в Город, и в итоге весь поход окончился не только впустую, но и с потерями для войска – его изрядно потрепали арабы после отъезда главнокомандующего.
– Сидел бы ты, господин логофет, на суше! – ядовито заметил Феоктисту Варда после этого позорного провала. – Плавать ты явно не умеешь!
Патрикий ничего не ответил на эту реплику, но не простил ее брату императрицы. Когда год спустя агаряне под водительством Амра вторглись в ромейские пределы, августа отправила логофета с войском отразить врага, послав с Феоктистом и Варду. Но и тут сражение с арабами в Каппадокии у Черной реки окончилось разгромом, а некоторые архонты, недолюбливавшие «белобрысого евнуха», даже перебежали в стан врага. Озлобленный логофет по приезде заявил императрице, что очередной провал был не иначе как результатом происков Варды: тот, якобы, нарочно склонил часть войск к бегству, чтобы только отнять у Феоктиста военную славу. Феодора видела, что логофет сильно обозлен, расстроен и обижен на Варду, и не очень-то поверила его жалобам – надо было выслушать и другую сторону. Когда августа рассказала брату часть из того, что наговорил ей Феоктист, патрикий даже присвистнул и заявил:
– Ну, сестрица, этак мне с вами не сносить головы! Пожалуй, если случится, не дай Бог, землетрясение и рухнет крыша дворца, то и тут я буду виноват, что расшатал какую-нибудь колонну… или вовремя не укрепил… Знаешь, что: управляйтесь-ка со всем этим сами, а я лучше займусь юным государем, буду ему книжки читать, сказки рассказывать… Мне это сподручнее, чем быть у тебя на побегушках и служить этому евнуху мальчиком для битья!
После этого Варда действительно отстранился от всех дел и стал вести образ жизни частного человека – поначалу он, в порыве обиды, совсем перебрался на жительство в свое загородное имение, так что пошли даже разговоры, будто императрица изгнала его из Города. Обеспокоенная этими слухами Феодора попросила брата вернуться во дворец, и Варда возвратился, но по-прежнему не принимал участия в государственных делах, а только занимался с маленьким императором: гулял с Михаилом по паркам, играл в мяч с ним и с его сестрами, бегал наперегонки и в догонялки – с завидной прытью для своих сорока двух лет, – словом, всячески веселился и развлекался, а попутно рассказывал Михаилу эллинские мифы и разные истории из жизни прежних императоров. Мальчик был в восторге: хотя он любил мать, всё же его больше тянуло к мужскому обществу, а Феоктист ему, так же как и дяде, не слишком нравился.
Это была первая серьезная ссора между членами регентства, и она привела августу в глубокую печаль: начались такие трудности, разрешения которых она не могла найти с уверенностью, а посоветоваться тоже было не с кем. Она попыталась было поговорить с Петроной, но тот меланхолично сказал:
– Наплюй, сестрица! Подуются друг на друга, да и перестанут, не дети всё же!
Между тем низложение иконоборцев и недовольство в обществе этой крутой мерой привели спустя год к необычайному всплеску деятельности павликиан, усиленно распространявших слухи, что в Империи «возобновилось идолопоклонство», «женщины и евнухи взяли власть» и очередные неудачи на войне с арабами – расплата за всё это «нечестие»… Обеспокоенный патриарх намекнул императрице, что неплохо было бы обуздать павликиан – помимо прочего, Мефодию хотелось теперь добиться против этих еретиков тех мер, от каких в свое время игумену Феодору удалось отговорить императора Михаила Рангаве. Мефодий помнил, что патриарх Никифор изначально поддерживал жесткие меры и уступил мнению Студита лишь позже – как думалось Мефодию, напрасно: «Мягкость привела только к распространению этой заразы, а сейчас не знаешь, куда от нее деваться!» Действительно, павликиан было множество повсюду в восточных провинциях, они служили и в войсках, причем даже не стараясь скрывать свою веру… Резкие меры против них принимал и Феофил, в чье царствование был убит главный вождь этих еретиков Сергий; что же касается споров, возмущавщих двор и церковные круги при Рангаве, то августе о них ничего не было известно, поэтому она достаточно легко согласилась с патриархом. Правда, Феоктиста против павликиан она отправлять уже не стала, поручив это дело трем военачальникам более низкого ранга. Расправа с еретиками была жестокой: им предъявили требование отречься от своих мудрований и присоединиться к Церкви; всех отказавшихся – а таковых было большинство – предали смертной казни, имущество же их отписали в государственную казну.
Эти меры поначалу вызвали у жителей восточных провинций некоторое оцепенение, и казалось, что теперь, наконец, воцарятся «тишина и покорность», на что надеялись патриарх и часть синклитиков. Но другие придворные качали головами и поговаривали, что это дело может в будущем аукнуться весьма скверно. Клир тоже не весь был согласен с Мефодием – многие еще помнили высказывания Студийского игумена о казни еретиков, а после перенесение его мощей и окончательного уверения всех в его святости слова Феодора обретали еще больший вес. Игумен Навкратий сказал с печалью:
– Похоже, у нас нынче позабыли слова святого Григория, что за веру «надо сражаться со всей ревностью, однако словами, а не оружием»… Боюсь, как бы нам вскоре не познать справедливость слов Писания: «Невозможно нечествовать против Божественных законов, и сие покажет грядущее время»!
17. Уроки иконописи
Если б я поступал, как все, я не был бы философом.
(Хрисипп)
После обеда все монастырские иконописцы ушли на полагавшийся братии отдых, а Герман вернулся в мастерскую и вновь сел перед незавершенной иконой. Он смотрел на свое творение и хмурился. Монах и сам не мог толком объяснить, почему ему не нравились собственные произведения – они были явно не хуже тех, что рисовали остальные живописцы в мастерской, а хозяева близлежащих имений с удовольствием покупали написанные Германом иконы, но… «Мои иконы получаются мертвыми, плоскими, – с досадой думал Герман. – Вот уж точно иконоборцы сказали бы, что это “мертвая материя”!.. Что же сделать, чтоб они ожили?..»
Но разведенные на яичных желтках краски звали к работе: завтра они уже станут непригодными, а сегодня оставалось не так уж много времени до начала вечерни… Нужно было нанести контуры и штрихи, придающие образу жизнь и выразительность, и Герман, взяв кисть, снова застыл в нерешительности и почти в страхе: он неплохо научился подбирать краски и писать все слои, и только этот, последний, у него никогда не получался – а ведь от заключительных линий и «светов» зависело так много… Монах взглянул на законченную им недавно икону мученика Георгия и вздохнул: плоский лик, мертвые глаза!..
– Ты неправильно выписываешь лики, брат, – раздался сзади негромкий голос, – и складки тоже. И пробелку немного не так надо делать.
Герман обернулся: за его спиной стоял Иоанн с книгой в руках и внимательно разглядывал икону. По-видимому, Грамматик, проходя мимо мастерской, заглянул внутрь, заметив, что дверь приоткрыта.
Увидев перед собой «начальника ереси», иконописец растерялся и не нашелся, что ответить на его неожиданную реплику. Иоанн отложил свою книгу на край стола, еще несколько мгновений рассматривал образ и вдруг сказал:
– Разреши-ка!
Властным жестом он взял из руки монаха кисть, обмакнул в желтовато-розовую краску и несколькими тонкими линиями сделал обводку век, затем киноварью очертил контуры носа, коричневым – подбородок… Окончив обводку лика, он подправил несколько складок на одежде Христа и принялся накладывать белильные «светы». На Германа нашло оцепенение: он молча смотрел, как Иоанн легкими, точными, уверенными штрихами наносил краску там, где собирался проводить линии и сам иконописец… почти там, но всё-таки не совсем, а иногда и вовсе не там… Глаза, линии носа, губ, подбородка оживали под кистью бывшего патриарха, и вот уже на Германа смотрел как раз такой лик, какой он страстно желал написать, но никак не мог. Грамматик отложил кисть и улыбнулся:
– Видишь, брат, как нужно?
– Вижу, – прошептал потрясенный монах и перевел глаза на своего нежданного помощника. – Но как это у тебя вышло… господин Иоанн?!
– Так и вышло, – улыбка вновь тронула губы Грамматика. – Посиди на досуге и подумай, как, – и, не простившись, он взял свою книгу и ушел.
Остальные иконописцы как раз возвращались с отдыха и увидели, как Иоанн вышел из мастерской и не спеша направился к монастырскому саду.
– Что тут делал этот еретик?! – воскликнул Келсий, входя в иконописную.
– Да, что тут понадобилось проклятому иконоборцу? – спросил вошедший за ним Михаил.
Тимофей тоже хотел что-то сказать, но когда все трое взглянули на стоявшую перед Германом икону, слова застряли у них в горле. Некоторое время они молча смотрели на удивительный лик, настолько живой, что казалось – Спаситель вот-вот отверзет уста и что-нибудь произнесет.
– Кто это написал? – наконец, выдавил Михаил.
Осознав, что вопрос звучит нелепо – кто же еще мог это написать, кроме Германа? – он воскликнул:
– Как тебе это удалось?!
– Это написал не я, – меланхолично ответил Герман, даже не повернувшись к братиям, – а «проклятый иконоборец».
Происшествие обсуждали в монастыре несколько дней. Германа забросали вопросами: «Почему? Как?» – он не знал, что на них отвечать. Почему Иоанн вдруг заинтересовался его работой? «Не знаю». С чего это он вздумал помочь? «Не знаю». Откуда он так сведущ в живописи? «Не знаю». Герман спрашивал его о чем-нибудь раньше? «Нет». Это было непостижимо, а то, что главный иконоборец и ересиарх не только взялся помочь писать икону, но к тому же оказался великолепным живописцем, подействовало на братию, словно морок: принять новую действительность без объяснений было невозможно, а объяснения напрашивались тоже какие-то «невозможные»… Нет, всё-таки Герман должен знать! Не может быть, чтобы это вышло «просто так»! Он что-то скрывает! – и монахи вновь и вновь приступали к нему с расспросами. В конце концов Герман, обозлившись, пожаловался настоятелю, что братия уже замучили его и, если они и дальше будут осаждать его вопросами, он уйдет из обители. Эта угроза встревожила игумена: хотя он раньше своих братий стал подпадать под власть морока, окружившего теперь остальных монахов, но завершенную Грамматиком икону он продал одному столичному чиновнику за такую сумму, какую раньше выручал за три-четыре иконы, написанные в мастерской обители, и если Герман научится писать похожие образа… Нет, Евсевий совершенно не хотел упускать такой источник дохода, а возможно, и будущей славы монастыря! Вслед за этим соображением его посетила мысль несколько безумная: быть может, Иоанн не случайно помог Герману… Что, если монаху удастся сойтись с Грамматиком, и тогда… и тогда можно будет, расспросив брата, узнать, наконец, кто же он такой, этот ересиарх!.. Тут Евсевий тряхнул головой и перекрестился, отгоняя помыслы слишком уж странные для настоятеля православной обители, но в тот же вечер – а была среда, когда все братия ходили к игумену на исповедь – строго запретил монахам досаждать молодому иконописцу своим любопытством.
Герман между тем пребывал в глубокой задумчивости. Он несколько дней изучал дописанный «проклятым иконоборцем» образ, копировал мазки и штрихи на своих черновых набросках. В конце концов все линии отпечатались у него в мозгу, и не страшно было, что игумен продал икону. Но «как это вышло» у Иоанна, монах по-прежнему не понимал. Грамматик при встречах с ним вел себя так, будто ничего не произошло, и Герману иногда казалось, что визит Иоанна в мастерскую случился во сне, а не наяву… Монах начал писать икону Богоматери, однако работал гораздо медленнее, чем раньше, часто откладывал кисть и задумывался. Соработники по мастерской косились на него, но после втыка от игумена вопросов больше не задавали. Дойдя до стадии наложения обводки и «светов», Герман попытался воспроизвести приемы Грамматика и увидел, что дело плохо: образ не оживал.
Потратив два дня на бесплодные попытки добиться желаемого, Герман, наконец, решился: после ужина, когда до повечерия у монахов было свободное время для общения друг с другом или отдыха, он, пользуясь тем, что уже стемнело и на дворе никого не было, направился к «еретическому флигелю» и постучал. Открывший дверь прислужник уставился на монаха.
– Прошу прощения, – робко сказал Герман. – Могу ли я побеседовать с господином Иоанном?
– Сейчас спрошу, – прислужник исчез за дверью, оставив монаха на улице, но вскоре вновь появился и сказал уже гораздо любезнее: – Благоволи пройти, отче.
Иоанн занимал во флигеле одну комнату, в другой разместил привезенную с собой библиотеку, в третьей обитал прислужник и там же он готовил пищу для бывшего патриарха, а четвертая служила трапезной и приемной для посетителей – здесь Грамматик и встретил своего гостя.
– Здравствуй, брат, – сказал он с улыбкой. – Садись, – он указал на стул, покрытый куском бараньей шкуры, а сам сел на табурет у окна. – Прости, для начала небольшое уточнение: ведь твое имя Герман? – монах кивнул. – Очень приятно. Итак, чем могу быть полезен?
– Я хотел… – начал Герман с бьющимся сердцем. – Я подумал… У тебя, говорят, очень много разных книг, господин Иоанн… Может быть, у тебя есть какие-нибудь книги, по которым можно научиться ико… живописи? Если это возможно, я бы очень просил дать мне их почитать, – он проговорил всё это под острым взглядом стальных глаз, запинаясь от волнения.
Грамматик еле заметно улыбнулся.
– Пока не удалось понять, как же у меня это вышло?
– Нет, не удалось, – ответил Герман почти жалобно и с ужасом ощутил, что готов расплакаться: на мгновение ему показалось, что Иоанн сейчас просто посмеется над ним и простится…
– А ты думал над этим, Герман? – спокойно поинтересовался бывший патриарх. – Или ты больше думал о том, как скопировать мои приемы?
Монах вспыхнул и ответил еле слышно, опустив глаза:
– Да, я… действительно думал больше о последнем… Но не только! – добавил он почти с отчаянием.
В этот миг он понял, что попытка скопировать приемы Грамматика была, конечно, самым глупым из всего, что можно было сделать, и что Иоанн совсем не то имел в виду, когда советовал ему посидеть и подумать…
– Я больше так не буду! – проговорил он почти в безнадежной тоске.
– Верю! – сказал Иоанн; Герман несмело поднял взор и увидел, что в глазах Грамматика зажглись веселые огоньки. – Я дам тебе для начала одну книгу, брат, а когда ты ее прочтешь, посмотрим, что дать тебе дальше.
Иоанн поднялся, покинул комнату, вскоре вернулся и протянул Герману книгу. Тот с жадностью раскрыл ее и с изумлением прочел заглавие: «Диогена Лаэртия, жизнеописания философов». Монах в недоумении взглянул на Грамматика:
– Это… поможет мне научиться иконописи?!
– Да, – ответил Иоанн совершенно серьезно. – И даже очень поможет. Кстати, ты живешь в келье один?
– Нет, – растерянно ответил Герман. – Ох, я не подумал об этом! Я живу с братом Тимофеем, он тоже иконописец… Я думал, что…
Он умолк. Конечно, Герман предполагал, что Иоанн даст ему почитать какую-нибудь книгу о живописи, и такое чтение не вызвало бы ни у кого подозрений. Но Грамматик дал ему совершенно другое, и если Тимофей, а вслед за ним, разумеется, и прочие братия узнают, что такое он читает… Можно себе представить, какие пойдут разговоры: «Еретик дал ему эллинскую книгу! Он хочет совратить его в язычество!» О, Господи!.. Нет, это немыслимо!..
– Понятно, – сказал Иоанн, словно прочтя его мысли. – Вот что: ты можешь приходить ко мне… скажем, когда у вас послеобеденный отдых или как сейчас, вечером, и читать у меня. Если, конечно, – он остро глянул на монаха, – ты не боишься пересудов.
– Нет, – твердо ответил Герман, – пересудов я не боюсь. Да они всё равно уже идут… Но так, по крайней мере, братия не будут знать, какие именно книги ты даешь мне читать, – и он несмело улыбнулся.
Герман приходил во флигель ежедневно после обеда или ужина, хозяин проводил его в библиотечную комнату, оба усаживались в кресла и погружались в чтение. Они почти не разговаривали: Иоанн сидел с книгой в одном углу, Герман читал свою в другом и только иногда задавал Грамматику вопросы. Тот всегда отвечал кратко, но исчерпывающе и вновь устремлял глаза в рукопись. Герман исподтишка поглядывал на него: под рукой у Иоанна всегда были чернильница и перо, и он нередко делал пометки на полях читаемых книг – очень быстро, летящим почерком. Этот почерк Герман видел во многих местах на полях Лаэртия и поневоле устремлял более внимательный взгляд на помеченные строки и схолии к ним… Книга почти с первых же страниц несказанно увлекла его, и по мере чтения вызывала всё больший восторг – легкостью выражений, искрометной мудростью и веселыми шутками великих людей древности, проходивших перед ним, словно живые. Герман читал медленно и вдумчиво, нередко перечитывая отдельные места. Иногда он забывался и начинал смеяться почти в голос, прижимал ладонь ко рту и смущенно взглядывал на Иоанна, но бывший патриарх лишь молча улыбался. Вскоре Герман перестал робеть перед ним, всё смелее задавал вопросы и заводил разговор о том или ином понравившемся ему философском изречении или об учениях, пересказанных у Лаэртия. Время от времени монаха мучило желание расспросить низложенного патриарха о его жизни и занятиях, но он стеснялся, тем более что Иоанн, по-видимому, не был расположен откровенничать. «Человек ненасытен! – думал Герман. – Раньше мне казалась верхом счастья одна возможность взглянуть на его книги, а теперь вот, о чем я уже мечтаю…» Один раз, уходя, он всё же рискнул задать вопрос:
– Господин Иоанн, тебе никогда не бывает… – он остановился, подбирая слово, – грустно от такой жизни? Ведь раньше ты жил совсем иначе…
По губам Грамматика пробежала улыбка.
– Я познал в этой жизни, конечно, не всё, что может познать человек, но, по крайней мере, всё, что мне хотелось познать. А теперь мне осталось познать только одно – покой.
Странная дружба, завязавшаяся между ссыльным ересиархом и Германом породила в обители новую волну пересудов. Монах на все вопросы отвечал, что Иоанн согласился дать ему почитать кое-какие книги о живописи, но лишь в его присутствии, поскольку отдавать их на руки чужому человеку не хочет. После происшествия в иконописной мысль о наличии у Грамматика подобных книг уже не казалась дикой, но сближение с ним Германа представлялось весьма подозрительным.
– Что это он вдруг стал ему помогать? – говорили монахи. – Наверное, это уловка! Хочет заманить его в свою ересь… Хитрый ход! Сначала расположит к себе, а потом… А может, они сговорились и тайно готовят ниспровержение веры у нас в обители?!..
Все эти толки, разумеется, в конечном счете выливались при откровении помыслов – да и в иное время тоже – в уши игумена. Евсевий, как мог, пытался утихомирить братий, хотя не очень успешно. Герман на расспросы настоятеля ответил то же, что и прочим, и сказал, что ни о каких догматах и ересях Иоанн речей не заводит да и вообще почти не разговаривает с ним, «разве что на вопрос ответит».
Икону Богоматери Герман пока оставил неоконченной и принялся за два других образа – Иоанна Крестителя и Антония Великого, предполагая пока что подготовить нижние слои и надеясь, что к тому времени, как он окончит их, он поймет то, что всё еще от него ускользало. К счастью, игумен не торопил его, зато собратья по мастерской не упускали случая для насмешки:
– Представляем, сколько заготовок у тебя накопится к старости!
Герман злился, но усилием воли пропускал колкости мимо ушей и молчал, так что в конце концов это стало вызывать всё более злобные замечания:
– Ишь, молчит, словно не ему говорят! Возгордился совсем! У этого нечестивца научился, такой же стал… твердокаменный!
Монахи и не подозревали, каким сладким медом лились в душу Германа подобные ругательства. «Если б я мог хоть немного походить на него!» – думал он и уже не смущался от мысль, что ему хочется быть похожим на «злейшего ересиарха»…
Однажды, прочтя у Лаэртия эпиграмму о Гераклите, отчеркнутую на полях двойной линией, Герман поднял глаза и внимательно посмотрел на Иоанна. Тот взглянул на него и чуть улыбнулся:
– Есть вопрос, брат?
– Нет, просто… – Герман остановился в нерешительности, но всё же набрался смелости и продолжил. – Я подумал, что тут в эпиграмме… похоже на тебя, господин Иоанн:
– Ты, наверное, и раньше был таким, – проговорил Герман, ужасаясь собственной дерзости, но ею же окрыляясь, – и теперь… Ведь ты здесь, можно сказать, как бы умер для прошлой жизни… и как будто «у Персефоны в дому»…
– Пожалуй, неплохо замечено! – рассмеялся Грамматик. – Но в дому у Персефоны, думается, не так светло!
Библиотека, действительно, была самой светлой комнатой во флигеле – с двумя высокими окнами на юго-восток. Герман улыбнулся, внутренне исполняясь ликования: он ощущал, что отношение к нему Иоанна становится всё более дружеским, они чаще беседовали, и это воодушевляло монаха несказанно.
– Да, я всегда любил эту эпиграмму, – продолжал Грамматик, – как и ту, что следует за ней. Последняя, в сущности, применима к любой мудрой книге – и христианской, и эллинской, – и он прочел на память:
Герман помолчал и опять взглянул на бывшего патриарха:
– Скажи, Иоанн, – он впервые, сам не заметив этого, назвал его просто по имени, не прибавляя слова «господин», – почему ты стал помогать мне?
– Потому что ты хочешь научиться. Истинное желание научиться встречается не так часто, чтобы пренебрегать им.
Монах ответил не сразу; вновь трепеща от сознания своей дерзости, он проговорил еле слышно:
– Это не весь ответ.
Иоанн пристально поглядел на него.
– Ты прав, – он отложил книгу и поднялся. – Идем!
Почти вне себя от волнения, Герман последовал за Грамматиком в соседнюю комнату – как он понимал, «святое святых» этого жилища. Келья Иоанна служила ему вместе и молельней: эта комната была поменьше библиотечной и с одним окном, но казалась просторнее, поскольку не была заставлена шкафами. Здесь в одном углу стояла узкая кровать, больше походившая на лавку, и рядом с ней маленький столик, в другом – сундук, а в восточному углу висело большое деревянное распятие, под ним стоял аналой со шкафчиком для богослужебных книг внутри, и тут же у стены – высокий стол, покрытый роскошным золототканым покровом – пожалуй, самая дорогая вещь в этой скромной комнате. «Может, он здесь служит, а это – вместо престола?» – мелькнула у Германа мысль, когда Грамматик сказал ему:
– Взгляни!
Монах повернулся в ту сторону, куда смотрел Иоанн и замер: на стене у двери, почти под самым потолком, висела икона Богоматери, и у Германа не возникло никаких сомнений в том, чья рука написала ее. Он долго созерцал прекрасный лик, не в силах оторваться, а когда, наконец, ошарашенный, повернулся к своему учителю, тот улыбнулся и сказал:
– Как ты мог догадаться, Герман, я немало знаю и умею. И всё, что я знаю и умею, я познал и изучил по собственной воле и желанию. Лишь одному искусству я научился не по своему желанию, а потому, что меня заставили, – он помолчал несколько мгновений. – Эта икона – последняя из написанных мной. Продав ее, я простился с этим ремеслом, но спустя много лет она вновь попала мне в руки при своеобразных обстоятельствах, и я решил оставить ее себе… Все свои знания и умения в течение жизни я так или иначе сумел использовать и передать другим людям. Все, кроме одного. Но, видимо, Богу угодно было послать мне человека, которому я смогу передать и это последнее, – он посмотрел в глаза Герману. – Именно поэтому.
Они вернулись в библиотеку и вновь взялись за свои книги. Но после нескольких фраз Герман понял, что не способен читать дальше: ему надо было осознать происшедшее.
– Иоанн, можно я сегодня уже пойду? – тихо спросил он.
– Разумеется, – Грамматик взглянул на него с чуть заметной улыбкой. – Приходи, когда придешь в себя.
Герман приходил в себя несколько дней. Монахи, заметив, что он перестал ходить к «нечестиеначальнику», полезли было с вопросами, но Герман без обиняков осадил их: «Простите, братия, но вас это не касается». С утра до вечера он просиживал в мастерской, выписывая складки на одеждах Богоматери и святых. Он взялся за них как-то вдруг, без какой бы то ни было подготовки и размышлений, лишь повторяя в уме Иисусову молитву. Внутреннее напряжение, прежде более или менее сильно угнетавшее его из-за непонимания, враждебности и насмешек окружающих, постоянная неуверенность, заставлявшая его иногда по несколько раз примериваться, чтобы провести линию, куда-то испарились. Теперь ему было совершенно всё равно, что братия косятся на него, не интересно, что они расскажут про него другим после ужина, не важно, понравится или нет им, игумену или кому-то еще его работа, – и это «высокомерие», как они, должно быть, про себя называли его поведение, породило в нем странную легкость, а вслед за ней пришло непреодолимое желание взяться за кисть, и в душе не было прежнего страха и нерешительности. Герман проводил линию за линией – уверенно и точно, и ему казалось, будто кисть сама притягивается к иконе именно там, где нужно. И когда он взглянул на готовые складки, в нем впервые запело: да, это оно!
И впервые братия, подойдя в конце дня взглянуть на работу Германа, некоторое время молча смотрели на начавшую оживать икону, а потом, не проронив ни слова, вышли из мастерской.
Когда Герман вновь пришел к Иоанну, тот внимательно посмотрел на него и спросил:
– К каким выводам почтенный отец пришел за минувшее время?
– «Сделать переоценку ценностей», – ответил монах тихо, но решительно.
– «Бей, но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня, пока ты что-нибудь не скажешь»?
– Да! – улыбнулся Герман.
– Отлично! В таком случае, сегодня мы поговорим об обводке.
С этими словами Грамматик подвел монаха к столу, где были разложены несколько книг, украшенных миниатюрами и узорами. Тут же лежала пачка листов с набросками чертежей какого-то здания и отдельных комнат, и в этих рисунках, так же как в буквицах и узорах, украшавших небольшую рукопись Псалтири – местами строго простых, иногда фантастически замысловатых, но всегда легких, изящных и словно парящих над листами, – иконописец угадал уже знакомую руку. Иоанн словно знал, что его ученик придет именно сегодня, и всё приготовил. «Как он мог это узнать?» – подумал Герман, а потом уже не думал, только смотрел, слушал и впитывал, как губка…
Наступила зима, дни стали коротки, хмуры и дождливы, изредка припорашивало и снегом, но в библиотеке Грамматика не было недостатка в светильниках, а холод довольно успешно разгоняла жаровня, хотя хозяину и гостю приходилось закутываться поплотнее в мантии. Герман читал Аристотелевы «Этики» и Платоновский «Пир», Иоанн перечитывал одновременно Ареопагита и отрывки из Эпикура и иногда зачитывал выдержки вслух. Заодно он изумил Германа знанием латыни, читая Сенеку и с ходу переводя.
– Послушай, как это верно у него: «Я никому не отдался во власть, ничьего имени не принял и, хотя верю суждениям великих людей, признаю некоторое право и за моими собственными. Сами великие оставили нам не только открытия, но и много ненайденного». Или вот: «Две вещи больше всего укрепляют дух: вера в истину и вера в себя. И то, и другое дается поучением, потому что ему верят и, поверив, чувствуют в душе великое вдохновение и веру в себя».
– А как же: «Не верь себе, пока не ляжешь в гроб»?
– «Себе» и «в себя» – вещи разные. К тому же всякое слово можно понять правильно только в связи с окружающим текстом. Недаром тут говорится сначала о вере в истину. И мы знаем: «Всё могу в укрепляющем меня Христе». Не так ли? – Грамматик улыбнулся. – А вот еще, это может пригодиться тебе в будущем… Сенека оспаривает тех, которые, подобно киникам, бросаются с увещаниями к каждому встречному и говорят: «К чему мне беречь слова? Ведь они ничего не стоят! Мне не дано знать, помогут ли мои уговоры тому или этому, но я знаю, что уговаривая многих, кому-нибудь да помогу. Нужно всякому протягивать руку». Вот его возражение: «Не думаю, чтобы великому человеку следовало так поступать: влияние его будет подорвано и потеряет силу», ибо «стрелок из лука должен не изредка попадать, но изредка давать промах. Если цели достигаешь случайно – какое же это искусство! А мудрость – искусство: пусть она метит наверняка, пусть выбирает таких, кто на что-то способен, и отступится от тех, в ком отчаялась».
Час пробегал, точно миг, и Герман каждый раз с сожалением покидал флигель, где ему открылись сокровища, о существовании которых он и не подозревал. Иногда ему казалось, что так не бывает – такого не могло быть с ним, «обычным и простым монахом», чье достоинство состояло разве что в стремлении научиться хорошо писать иконы – и за одно это желание на него излился, можно сказать, золотой дождь всяческой премудрости… «Если люди так щедры, то как же щедр Господь!» – порой думалось ему.
К весне Герман не только окончил начатые осенью иконы, но написал и несколько новых. Теперь с них смотрели живые лики, «светы» светились и складки ложились так, как нужно, а рука иконописца двигалась всё увереннее, всё легче… Монахи обители по очереди ходили смотреть, как работает Герман, и подолгу стояли за его спиной, затаив дыхание. Трое его собратий по мастерской умирали от зависти и мысленно посылали проклятия в адрес «злочестивого волхва», который с наступлением теплых дней вновь читал книги на скамье в саду и любовался Босфором. Тимофей и Михаил уверяли других монахов, что открывшееся в Германе необычайное дарование – следствие Иоаннова «колдовства», потому что «не может человек так быстро научиться такому!» Кто верил, кто пожимал плечами, кто смеялся. Игумен между тем не только наложил на двух иконописцев епитимию «за распространение глупых сплетен», но и дал Герману задание: написать несколько икон не на продажу, а для монастырского храма.
Это стало каплей, переполнившей чашу терпения. На другой день после того, как об этом стало известно, Келсий, в присутствии еще нескольких братий, по пути на обед зашедших в иконописную поглядеть на работу Германа, дождался, пока тот положит кисть и оторвет взгляд от иконы, и сказал ему деланно слащавым тоном:
– Послушай, брат, ты задал нам великую загадку, и мы более не в силах томиться в неведении! Твой неожиданно проявившийся талант… настолько изумителен, что мы можем лишь преклоняться перед ним… Конечно, ставшему из бедняка богачом малоприятно вспоминать нищенское прошлое, но… Вспомни, брат, ведь еще недавно ты был таким же, как мы, даже поначалу рисовал похуже нас, несмотря на то, что просиживал с кистью в руке гораздо больше, чем мы! Но внезапно всё изменилось – и как? Сказать правду, внимание, оказанное тебе злейшим ересиархом и нечестиеначальником, сосланным к нам в обитель, хотя, возможно, представляется тебе великой честью, – тут Михаил и Тарасий захихикали, а по губам Келсия пробежала противная улыбочка, – но нам видится чрезвычайно подозрительным, ведь совершенно неясно, почему этот бесоначальник вдруг решил помочь тебе… Но можно предположить, что он мог заметить в тебе нечто, облегчающее путь для действия сопротивной силы…
– Например, тщеславные мечты об успехе! – вставил Тарасий.
– Например, да, – кивнул Келсий. – Ведь это такая прозрачная диавольская хитрость: сначала заманить через благое, вроде бы, дело – кто же назовет иконопись делом неблагим?! – а потом незаметно совратить в свою ересь и погубить на вечные веки! Но если даже это и не так, не подумал ли ты, что обучение иконописи у виновника стольких бедствий для христиан опасно и для твоей души, и для всей нашей обители… Подумай, брат, ведь если твои… хм… беспримерные успехи в иконописи вызваны колдовским волхвованием этого злочестивого иконоборца, не падет ли на нашу любимую обитель гнев Божий, если ты начнешь, пользуясь советами этого предтечи антихриста, писать иконы для святого храма! Думаю, все согласятся, что…
Келсий любил повитийствовать, и говорил бы еще, вероятно, долго, тем более что все присутствовавшие монахи слушали его, едва не раскрыв рот, но терпение Германа иссякло. Его уже не задевали насмешки, зависть и злоба братий в собственный адрес, но потока ругательств, изливавшегося на голову учителя, он вынести не смог.
– А вам никогда не приходило в голову, дорогие братия, – заорал Герман, – что я единственный отнесся к Иоанну как к человеку?! Что же вы удивляетесь, что он стал учить не вас, а меня? Скажите-ка честно, что бы вы ответили, предложи он кому-нибудь из вас свою помощь? Вы все шарахаетесь от него, как от прокаженного! Боитесь заразиться ересью, да? Чего ж у вас такая вера-то некрепкая, что вы думаете, будто она от одного разговора с человеком противных взглядов поколебаться может? А? Да, если хотите знать, он ни разу не попытался меня «совратить в свою ересь»! И вообще, он благородный человек! И вежливый, в отличие от многих из вас, да! И отстаньте от меня, понятно?!.. А если уж я так оскорбляю ваши благочестивые души, то скажите игумену, пусть изгонит меня из обители!
Монахов словно парализовало, они безмолвно смотрели на Германа, а он, от возбуждения позабыв данное Иоанну обещание не рассказывать никому о том, что видел в его келье, выпалил:
– И вообще, с чего вы взяли, что он такой злейший еретик и иконоборец?! Да если хотите знать, у него в келье висит икона Богородицы!..
…«Доводим до сведения вашего преблаженного благочестивейшего самодержавнейшего величества и вашей преблаженной благочестивейшей матери, что сосланный в нашу богоспасаемую обитель злейший ересиарх, нечестиеначальник и колдун Иоанн, недостойный называться этим именем, но, скорее, Ианний и волхв, не восхотел жить спокойно и каяться в своих многосоделанных нечестиях и многоскорбных испытаниях, коими этот лютый волк терзал агнцев Божиих – святых исповедников веры, в их числе и святейшего нашего и многострадальнейшего патриарха. Не пожелав ни в чем этом слезно покаяться, этот злочестивый нечестивец учинил в нашей обители хулу и злочестие, ибо он – страшно и вымолвить, ибо боимся осквернить язык и гортань рассказом о таковом бесонеистовстве! – выколол пречистые и всесвятые очи на лике Пресвятой и Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии…»
Феодора бросила письмо на стол.
– Что это за бред, Феоктист?! – воскликнула она. – Я не верю, что Иоанн способен на такое! Это нелепо!
– Совершенно согласен, государыня, еще как нелепо! – кивнул логофет. – Но всё же за этим письмом, мнится мне, что-то должно стоять… По меньшей мере, какое-то недовольство, возбужденное влады… эм… господином Иоанном в обители…
– Что ж, надо послать туда… хоть Петрону, пусть он разберется, что там случилось! Вот ведь еще какая притча! – императрица нахмурилась и, помолчав, добавила: – Да поскорее, пока всё это не дошло до патриарха…
Брат августы приехал в Клейдийский монастырь 3 апреля, в пятницу Светлой седмицы, и сначала имел разговор наедине с игуменом. Евсевий проявил чудеса софистики, стараясь выгородить и себя, и Германа, и остальных монахов, и одновременно не сказать худого слова в адрес Грамматика. Однако, прочтя анонимное письмо, полученное императрицей, игумен скривился, сказал, что «в таком стиле намарать мог только Келсий», и в конце концов весьма прозрачно намекнул высокому посланцу, что был бы рад, если б Иоанна куда-нибудь выслали из монастыря: Грамматик стал неприятной обузой и источником беспокойства для братий… Петрона отправился допрашивать остальных монахов, а Евсевий принялся раздраженно перелистывать монастырскую учетную книгу, на душе у него скребли кошки.
Герман, будучи допрошен, отвечал патрикию прямо и ясно, что действительно ходил в течение нескольких последних месяцев к Грамматику читать книги, перечислил то, что прочел, упомянул о наставлениях по поводу живописи, данных ему Иоанном, сказал, что никаких разговоров о догматах они не вели, что низложенный патриарх никогда не пытался совращать его в ересь, и добавил, что никаких колдовских действий ни Грамматик над ним, ни они вместе не совершали и что ни про какую икону с выколотыми глазами он знать не знает.
Остальные монахи, по выражению Петроны, доложившего потом своей царственной сестре о поездке, устроили перед ним «танцы на льду».
Одни были настолько перепуганы, что от них можно было на все вопросы услышать лишь: «Ничего не знаю». Петрона с усмешкой вопрошал:
– Но хоть что Герман научился иконы красиво писать, ты знаешь?
– Знаю, – опасливо отвечал монах, втягивая голову в плечи.
– «А кто отверз ему очи, мы не знаем, сам взрослый, самого и спросите»? – еще насмешливее говорил патрикий, а инок в ответ испуганно хлопал глазами и тряс головой.
Другие монахи «крутили-вертели», особенно трое монастырских иконописцев. Келсий сначала упорно не признавался, что был автором письма, но когда Петрона пригрозил забрать его в столицу и допросить в присутствии эпарха, испугался, заплакал и прогундосил, что письмо он действительно написал, поскольку «хотел избавить святую обитель от злейшего бесоначальника». На вопрос, видел ли он сам икону с якобы выткнутыми Иоанном глазами, монах заявил, что не видел, но что «иначе оно и быть не может, потому что зачем же еще этому еретику икона, если не для того, чтоб над ней ругаться?!»
Наконец, Петрона плюнул на «тупоумных чернецов» и отправился к Грамматику. Как раз подоспело время обеда, и низложенный патриарх только уселся за свою скромную трапезу, когда брат августы постучал во флигель. Иоанн, сделав знак прислужнику принести еще один стакан и тарелку, приветствовал гостя гомеровскими строками:
– «Радуйся, странник, войди к нам, радушно тебя угостим мы!
Нужду ж свою нам объявишь, насытившись нашею пищей».
– Да уж, – вздохнул Петрона, перекрестившись и усаживаясь на стул, – я действительно не прочь немного угоститься… А то здешние монахи кого хочешь доведут до обморока!
Иоанн приподнял бровь.
– Ты приехал сюда, господин, чтобы пообщаться с ними? – он разлил по стаканам вино и опустился на табурет. – Боюсь, тут есть лишь один монах, с которым можно общаться.
– Вот-вот, и ты с ним, как слышно, пообщался с большой пользой, оттого-то мне и пришлось сюда приехать! – ответил патрикий и разом опустошил свой стакан почти целиком.
– Неужели? – Иоанн чуть пригубил вино. – Угощайся, прошу, хотя эта скудная трапеза вряд ли удовлетворит твой вкус.
– Ничего, ничего, – пробурчал Петрона, набивая рот тушеной с луком и острым перцем фасолью, – мне полезно, я что-то толстеть начал…
Отчасти насытившись, он осушил остатки вина в стакане, откинулся на спинку стула и заговорил. Рассказав вкратце о доносе, приведшем его в обитель, и о беседах с настоятелем и монахами, Петрона в упор посмотрел на бывшего патриарха, который слушал его повествование с безмятежным видом, и сказал:
– И что прикажешь с тобой делать, господин Иоанн? Ты возмутил всю обитель! А ведь обещал нам, что будешь жить тихо-мирно! – обычная меланхоличность на этот раз явно изменяла патрикию. – Ну, какого дьявола, скажи на милость, тебе понадобилось учить этого Германа?!
– Что же, – спросил Грамматик с иронией, – разве в нашей христианнейшей державе нынче нет нужды в хороших иконописцах?
Петрона резко поднялся и, ожесточенно ероша свои темные волосы, заходил по комнате от стены к стене. Иоанн всё так же спокойно сидел и потягивал вино из глиняного стакана.
– Есть! есть нужда! – воскликнул патрикий, останавливаясь перед Грамматиком. – Но ты пойми, Иоанн: ты не должен учить таким вещам! Ты иконоборец, ты не можешь учить иконописи! Это нелепость, противоречие, это…
– Черепаха, которую никогда не догонит Ахилл.
Петрона ошарашено взглянул на Иоанна, рассмеялся, сел и налил себе и бывшему патриарху еще вина.
– «О ты, удивительный ты человек»! Великий софист, любитель опытов… Разумеется, Германа надо было выучить – я видел его работы, это необыкновенный талант! Но ты – что теперь с тобой? Ты не можешь оставаться здесь!
– Господин Петрона, праведный гнев благочестивых христиан, полагаю, уже достаточно насыщен известием о моей ссылке под строгий надзор в эту убогую обитель, – Иоанн отпил чуть-чуть вина и продолжал. – Поэтому, если августейшая государыня соблаговолит, я бы предложил разрешить мне удалиться в мое имение в Психе́. Могу обещать, что там я буду жить, никого не тревожа и ни с кем не видясь, разумеется, кроме тех, кто сам пожелает меня видеть. Таким образом, любая обитель, город и селение нашей богохранимой державы будут навсегда избавлены от моего малоприятного и развращающего присутствия.
Петрона в некоторой растерянности смотрел на сидевшего перед ним сухощавого монаха в поношенном хитоне, всё такого же умного, изящного и беспощадно ироничного, каким его знали и десять, и двадцать лет назад, – человека, поднятого судьбой до самых высот, а потом низведенного почти до последнего унижения, но казалось, нимало не сожалевшего о том: сидя на грубо сколоченном табурете в этой бедной комнате за убогим столом, он по-прежнему возвышался над всем и всеми, как и тогда, когда благословлял народ с патриаршего места в алтаре Великой церкви…
– Ну, а икона-то, которой ты «выколол глаза», хоть была? – спросил патрикий.
– О, да, была. Впрочем, она и сейчас на месте. Если желаешь, я покажу тебе ее, – Петрона кивнул, и Иоанн провел его в свою келью. – Вот она, взгляни. Правда, как ни странно, глаза в целости и сохранности. Но я ведь мог их потом заново нарисовать! А то даже и так: с утра выскабливать, чтобы утолить свою ненависть к иконам, а вечером восстанавливать… И так каждый день! Чем не занятие для ссыльного иконоборца, не правда ли?
Петрона скривился, словно у него внезапно заболел зуб.
– Ладно, оставим это… Эти черноризцы тебя не любят…
– А я не люблю этих черноризцев, – с улыбкой докончил Грамматик. – Как сказал Эпикур, «никогда я не хотел нравиться народу – ведь народ не любит того, что я знаю, а я не знаю того, что любит народ». На этом, полагаю, мы можем с тобой проститься. Мне остается лишь пожелать тебе доброго пути, а самому ждать августейшего приказа об определении моей дальнейшей участи.
– Думаю, августейший приказ не замедлит, – Петрона чуть поколебался и, посмотрев бывшему патриарху в глаза, спросил: – Послушай, Иоанн, почему бы тебе было не принять… в таком случае… восстановление икон? Сам знаешь, августа была бы рада видеть тебя на кафедре гораздо больше, чем Мефодия! И все эти извержения из сана, потрясения… всего можно было бы избежать!
– Господин Петрона, я не меняю веру по чьему-то приказу, даже императорскому, – ответил Грамматик с некоторой холодностью. – Это во-первых. Во-вторых, что ты имеешь в виду под «таким случаем»? Эта икона для меня – не предмет поклонения, а только произведение художественного искусства. И Германа я учил, строго говоря, не иконописи, а искусству живописи, которое – как, впрочем, любое другое искусство – для достижения высот требует определенного состояния ума и души. А в-третьих, мне бы хотелось провести остаток своих дней так, как подобает истинному философу, ибо, по слову божественного Григория, «не утратят Бога удалившиеся от престолов, но будут иметь горнюю кафедру, гораздо выше и безопаснее этих кафедр». Итак, я буду ждать, господин, августейшего решения.
Неделю спустя Иоанн покидал Клейдийскую обитель. Конечно, Феодора сразу согласилась на перемену места его ссылки, но рассказывать ей об истории с уроками иконописи Петрона не стал, сообщив лишь, что сплетня о выколотых глазах появилась после того, как братия узнали об иконе в келье Грамматика от монаха, которому он иногда давал читать книги. «Лучше сестрице не знать подробностей, – рассудил патрикий, – а то она, пожалуй, загорится мыслью уговорить его вернуться на кафедру, он откажется, зато о ее желании узнает Мефодий и остальные, будет скандал… Нет, нет, философу – философская жизнь, а тут у нас теперь не до того!..»
Герман пришел проститься с Иоанном. В глазах монаха стояли слезы, он прижимал к груди небольшой сверток.
– Что, брат, печалишься? – спросил Грамматик. – Не сто́ит! Лучше скажи мне: ты понял, как это у тебя получилось?
– Понял, – Герман улыбнулся. – Нужно быть свободным.
– Да. Теперь из тебя выйдет настоящий живописец.
– Я не останусь здесь, Иоанн! – воскликнул Герман. – Как бы я мог… после всего этого!
– Лучше всего тебе перебраться в Город и поступить в Сергие-Вакхов монастырь.
– Но ведь он придворный! Разве меня возьмут туда?
– Просто так не возьмут, конечно, если у тебя не будет письма от меня, – Иоанн с улыбкой протянул монаху запечатанный пергамент. – Тамошний эконом очень любит изготавливать разнообразные краски. Думаю, вы с ним найдете, о чем поговорить.
Герман несколько мгновений безмолвно смотрел в лицо Грамматику, а потом, не в силах что-либо сказать, взял его руку и прижал к губам. Иоанн мягко высвободил ее, взял монаха за плечи, чуть встряхнул и тихо сказал:
– Не горюй! Даст Бог, еще свидимся, – он улыбнулся. – Если не забудешь зайти в гости к «нечестиеначальнику».
– Я обязательно зайду! – с жаром сказал Герман. – Иоанн, я хотел сделать тебе подарок… в благодарность… и вообще…
Он с некоторой робостью протянул Грамматику сверток. Иоанн развернул льняную ткань, в которую была завернута небольшая икона, и долго смотрел на лик великого апостола, державшего свиток с надписью: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», – тонкие черты, воздушная обводка, переливы красок, мягко переходящих одна в другую, золото складок на одеждах, приглушенное золото фона…
– Прекрасный образ, – сказал он, наконец. – Благодарю, брат!
Евсевий после всего происшедшего не пытался удерживать Германа, сразу дал ему отпуст, и на другой день иконописец тоже оставил монастырь. По окончании литургии игумен сообщил монахам, что их собрат переходит в другую обитель, а затем Герман вышел на середину храма, испросил прощения у всех и поклонился в землю. Братия молча отдали ему поклон, но после выхода из церкви никто не подошел и не сказал ему ни слова, кроме одного из привратников. Этот низенький полноватый монах, с которым Герман за всё время жизни в монастыре общался очень мало, теперь, подойдя к нему, тихо проговорил:
– Знаешь, Герман, я ведь один раз видел его глаза… когда он смотрел по-другому… Я ужасно, ужасно завидую тебе! – и, словно испугавшись того, что сказал, привратник засеменил прочь.
У Герману вдруг стало необычайно легко на душе, словно он был снявшимся с якоря кораблем, чьи паруса надувал ветер, унося в открытое море… Он закинул на спину мешок с нехитрыми пожитками и направился к монастырским вратам. Внезапно его окликнули, и монах обернулся: его догонял настоятель.
– Постой, брат! – проговорил Евсевий, задыхаясь, будто от волнения. – Ответь мне… скажи… Скажи, как по-твоему, кто он такой… этот Иоанн?!
Герман удивленно взглянул на игумена и вдруг понял, что того давно снедает невыносимое любопытство, что бывший патриарх стал для него мучительной загадкой, и сейчас, не выдержав ее бремени, он почти умолял дать хоть какой-то ответ, сказать хоть что-нибудь, что могло приблизить к разгадке… Герман немного помолчал, глядя мимо игумена на море, синевшее сквозь ветви маслин, посмотрел в глаза Евсевию и тихо ответил:
– Это единственный настоящий монах и философ, которого я встретил в жизни!
18. Бывшие
(Ал-Хасан б. Вахб ал-Катиб)
- О, если бы сладка была смерть для нас,
- О, если бы жизнь наша не была приятной!
Феодор Крифина, приехавший с Сицилии в начале года, поселился в скромном особнячке в пригороде Константинополя. Деятельность Григория Асвесты, рукоположенного патриархом в архиепископа Сиракуз и прибывшего на остров в мае прошлого года, была столь успешной, что к зиме Феодору пришлось смириться со своим поражением и покинуть Сицилию. Молодой архиепископ был не только очень деятелен, но и обладал совершенно особым обаянием, которое, вместе с его внешностью, аристократическими манерами и красноречием, действовало на окружающих почти безотказно, – и Крифина не смог долго противостоять влиянию Асвесты. Однако присоединяться к православным Феодор не собирался. Почти сразу по приезде он разузнал, куда сослан бывший патриарх, и написал ему письмо в Клейдийский монастырь. Иоанн ответил быстро, но просил низложенного архиепископа пока не приезжать к нему в гости. Зато самого Крифину вскоре навестил бывший протоасикрит.
– Какие люди! – с улыбкой воскликнул Феодор, встречая его. – Приветствую, господин Лизикс! Рад тебя видеть!
– Здравствуй, владыка! С приездом! Пришлось всё-таки сдаться? Но ты долго продержался, тебя можно поздравить!
– С чем? – скривился Крифина. – С тем, что меня поверг этот юнец, присланный Мефодием? Погоди, я тебе расскажу, как это было… Но сначала мне хочется послушать тебя. Рассказывай, как тут это их торжество происходило! До меня доползали всякие слухи, но мне хочется услышать из уст очевидца.
– О, да тут и без слухов есть, что порассказать!
Лизикс в красочных подробностях поведал низложенному архиепископу о восстановлении иконопочитания, о предшествовавших ему «торгах», о низложении Грамматика и других иконоборцев, о молениях за покойного императора и о чудесном исчезновении его имени из списка еретиков, о недовольстве против Мефодия среди иконопочитателей – словом, обо всем, что знал и наблюдал в Городе за последние два с половиной года.
– И что, ты думаешь, государь действительно раскаялся перед смертью? – недоверчиво спросил Феодор.
– Не знаю, владыка. Всякое может быть, конечно, но, с другой стороны, августа ведь не сразу сообщила об этом, так что… Вполне может быть, что она придумала эту историю, когда увидела, что иконопоклонники не хотят молиться за государя… В общем, дело темное. Между прочим, не все иконопоклонники поверили в его прощение: кое-кто решил, что Мефодий подменил пергамент… Но мне это представляется не особо важным. Даже если августейший и раскаялся, что с того? Он ведь тогда был уже при смерти и бредил, а в таком состоянии до чего угодно можно дойти… Вон, Мануил никогда икон не чтил и вообще жил, словно язычник, а как стал умирать и его иконопоклонники припугнули, так он сразу и покаялся, теперь такой благочестивый стал, что ты!.. Вообще, всё это печально. Эти два года я наблюдаю за происходящим со стороны и не испытываю ничего, кроме тоски, а в последнее время, честно говоря, и злорадства: победители себе показали во всей красе! Не успели победить, как стали грызться между собой… Хотя я Мефодия понимаю: он ведет свою линию и вполне последователен. Он мне не симпатичен, но я его уважаю: он знает, чего хочет, и добивается этого. Правда, Бог ведает, что из всего этого выйдет в итоге, слишком уж резко он берется за дело иной раз…
– Помощников себе подбирать он не промах, что говорить! Этот юнец, присланный мне на смену, как приехал в Сиракузы, так не прошло и двух месяцев, и все тамошние жены и девы от него растаяли, точно воск от огня, – Крифина усмехнулся, – ну, а за ними и мужья с отцами и братьями, понятное дело! И главное, упрекнуть его не в чем: нрава строгого, беседы только по делу, аскет, богослужение любит… Но как служит, ты бы видел! Я раз-другой зашел посмотреть и сразу понял, что сиракузских женщин невозможно осуждать: этакую красоту нечасто встретишь! И проповеди у него – огонь! Слышал бы ты, как он доказывал необходимость поклоняться иконам и честил меня за «ересь»! Вдохновенно, просто новый Богослов! Ему там какой-то льстец и эпиграмму написал: «Воссияла ныне нам звезда, не от Назианза, но от Сиракуз пришедшая»… Так что пришлось мне собирать вещи и грузиться на судно. Как говорится, пора на покой…
– Понятно… Значит, Мефодий не ошибся в выборе. А ведь здесь-то его еще как порицали за то, что он рукоположил этого Асвесту – молод слишком и только что приехал, «чужеземец»…
– Зато там он пришелся в самый раз, – с усмешкой заметил Крифина, немного помолчал и вздохнул. – В общем, дела наши не мёд, прямо скажем. Святейшему я написал, да он попросил пока его не навещать. Следят там за ним, видно, что ли.
– Следят, но в общем, он живет достаточно свободно. Я был у него два раза.
– Неужели? И как он?
– Ему там дали отдельные кельи, библиотека при нем, слуга свой… Конечно, это далеко не та роскошь, что была в патриархии, но он не жалуется. Живет анахоретом, читает книги, почти ни с кем не общается и уверяет, что вполне доволен. Глядя на него, я вспомнил сказанное об Аристиппе: «Тебе одному дано ходить одинаково как в мантии, так и в лохмотьях»… Всё-таки величие человека яснее всего познаётся в том, как он переносит удары судьбы!
Лизикс приносил Крифине последние новости – бывший протоасикрит, хоть и покинул свой пост, по-прежнему был в курсе почти всех дел благодаря сохранившимся знакомствам и связям. Феодор всегда был рад его видеть и с удовольствием беседовал с ним, однако со временем стал замечать, что Лизикс про себя думает некую мысль, хотя не признается, что его что-то тревожит. Наконец, когда Лизикс пришел к нему на Светлой седмице, Крифина сам решил спросить его обо этом:
– Послушай, я гляжу на тебя и давно замечаю, что ты всё о чем-то задумываешься. Случилось что-нибудь? Или секрет?
– Нет, владыка. Я вот как раз пришел сегодня сказать тебе, что я думал, думал и надумал. Я решил присоединиться к иконопочитателям. Видишь ли, меня самого мнение толпы не интересует, и если кто меня презирает или задирает, я переживу. Дураков на свете много, и, как заметил Сократ, «если б меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?» Но я человек семейный, и вот, когда из-за меня начинают презирать и уничижать мою жену и детей, это уже не сказать, как нехорошо!
Пока Лизикс говорил, упитанный рыжий кот с завидным достоинством не вошел, а словно вплыл в комнату, подошел к гостю, неторопливо обнюхал его ноги и, запрыгнув на колени, уютно свернулся и замурлыкал. Лизикс улыбнулся, почесал кота за ухом и продолжал:
– Поначалу-то было не так, пока еще многие не признавали восстановление икон, а теперь наших остается всё меньше… А у меня сыновья подросли, их бы на службу надо отдать, но при дворе сейчас не то, что прежде. Мануил стал пламенным иконопочитателем, Сергий всегда таким был, а Феоктист в любом случае старается подыгрывать патриарху, ему ведь нужно, чтобы было меньше напряжения, я его понимаю. Но мне от этого не легче! В Синклите-то смотрят на окружение августы, а там теперь иконопочитание цветет… и, думаю, будет цвести и дальше. Глупо надеяться, что прежнее вернется. Да и святейший отказался от какой бы то ни было борьбы. Он всем нам предоставил свободу поступать, как угодно. При последней встрече сказал мне: «Как бы ты ни верил, ты всегда останешься моим другом», – а ведь в то время я и не думал переходит к иконопочитателям! Похоже, он это провидел еще тогда… Жаль, конечно, что он решил так отойти от дел и всё уступить, но это его выбор, остается с ним смириться.
– Понятно, – Феодор мрачно помолчал. – Только Мефодий теперь тебя, думаю, так просто не примет! Знаешь ведь, как он тебя ославил в своем каноне? «Лютый Лизикс», «споспешник прелести»… Он для тебя что-нибудь поунизительнее придумает, вот увидишь!
– Ничего, я стерплю. В конце концов, у меня в жизни не так уж много было поводов смиряться, – Лизикс усмехнулся. – Зато потом заживу спокойно, и на меня не будут косо смотреть, а главное, оставят в покое моих детей и жену. Я ведь не монах! Монаху что – забрался в какой-нибудь угол и сиди… В этом смысле я святейшего понимаю! Но у меня так не выйдет, увы.
– Ну, воля твоя, – хмуро сказал Крифина. – А я ни за что с ними не примирюсь! Во-первых, не верю я в этот их догмат! Все эти их свидетельства, по большей части, – пустословие и натяжки… Как они ни крутили свои софизмы, а главный довод у них один – предание старины! Только вот кто и для кого это предание установил как истину? Приспособленцы-епископы для грубой толпы, которой вместо одних идолов понадобились другие, «христианские»! А во-вторых, как посмотрю я на них, этих «православных»… Да я лучше удавлюсь, чем пойду к ним на поклон! – в сердцах закончил Феодор.
– Тебя можно понять, – бывший протоаскирит улыбнулся с некоторой грустью. – Но что делать! Судьба коварна… Впрочем, думаю, мы имеем основания и для снисхождения. Мы ведь почитаем святых и признаём благочестивыми императоров, украшавших иконами храмы. Тот же Юстиниан Великий… И если они чтили их не так, как нынешние иконопоклонники, то значит, и у нас есть право чтить их иначе. Опять же в Писании сказано: «разумный в те дни умолчит, ибо время лукаво».
– Мефодий заставит тебя признать всё, что они наговорили на соборе, и предать анафеме святейшего. Ты и на это пойдешь?
– Увы! Впрочем, владыка написал мне, что не будет на меня за это в обиде. Я же тешу себя надеждой, что небесный суд не всегда следует за земным, что бы там иконопочитатели не вещали. К тому же это принесет некоторую пользу: я уже поговорил с Феоктистом, и он сказал, что если я покаюсь, они потребуют у Мефодия удалить из чина этот канон, где он нас всех проклял. «Слушать его не мог без дрожи, – говорит. – Надо же было такое написать!» – Лизикс улыбнулся и задумался, а потом сказал: – Знаешь, мне после разговора со святейшим пришла мысль… Быть может, она тебе покажется странной, но тем не менее… Мне подумалось, что он занимался всем этим, словно какой-то игрой… То есть не просто из собственных убеждений, а еще потому, что ему было интересно наблюдать, как ведут себя участники этой игры, обе стороны, какие приемы применяют, как отражают нападения, как отстаивают свое… А теперь он уже всё понял, что хотел, и ему больше не интересно. Потому он и отошел от всего этого и не хочет возвращаться.
– Гм! Интересная мысль… Да, ведь он действительно… Я как-то раз напросился поглядеть на его мастерскую, еще когда он был игуменом, а я экономом в Софии. Он был так увлечен всем этим! Помню, я спросил его, давно ли он занимается опытами, а он ответил: «Всю мою сознательную жизнь». Я сначала удивился, тогда он объяснил, что имел в виду не только химические, а вообще…
– Да, а сейчас, по-видимому, он решил, что опыт его деятельности в Церкви подошел к концу… Говорит, что хочет окончить жизнь философом, в покое и тишине. И то сказать: ведь он прошел все степени, от мирянина до патриарха, всё повидал… Как исследователю ему теперь и правда должно быть неинтересно!
Лизикс и некоторые из иконоборцев, вместе с ним захотевших присоединиться к Церкви – среди них Христодул и еще несколько прежних работников императорской канцелярии, – были приняты в православие во время императорского выхода в день Пятидесятницы. Мефодий действительно решил обставить поторжественнее присоединение одного из влиятельных еретиков, и покаявшихся приняли не просто через проклятие ереси, но и через миропомазание. Присоединившихся облекли в белые одежды, как после крещения, вручили им по горящей свече и торжественно ввели в Великую церковь, где они удостоились причастия Святых Таин вместе с православными. После этого Христодула вновь взяли работать в канцелярию – он не только смирился с тем, что придется работать под начальством Фотия, но даже был отчасти рад этому. Протоасикрит искренне поздравил его с присоединением к Церкви и вообще был очень дружелюбно настроен. Не ожидавший этого Христодул растрогался и, улучив момент, попросил у Фотия прощения за прежние враждебные выпады. Тот лишь улыбнулся и сказал:
– Да и я должен просить у тебя прощения, Христодул, ведь я тогда посмеялся над тобой… Но теперь, как сказал поэт,
Лизиксу тоже предложили место в канцелярии, но он отказался и предпочел оставаться дома, дожидаясь внуков от своих сыновей.
– Наше время прошло, – сказал он с улыбкой Фотию после литургии, – а ваше только начинается. Дай Бог, чтобы вам повезло больше, чем нам!
…После разгрома павликиан, учиненного по настоянию патриарха и по приказу императрицы, несколько тысяч еретиков сбежали к Мелитинскому эмиру Амру. Предводителем их стал Карвей, бывший протомандатор при стратиге Анатолика. Убежденный павликианин, с восстановлением иконопочитания он только еще больше утвердился в своих взглядах: насмехаясь над христианами, Карвей говорил, что они не имеют никаких убеждений, а всегда верят так, как им прикажут свыше. Извержение из сана иконоборческих клириков он воспринял с откровенным злорадством, правда, пожалев, что на их место «нарукоположат других, еще худших». Вывод из всего этого был один: церковная иерархия, священство и обряды суть зло и должны быть отменены… Павликиане вступили в соглашение с арабами, и вскоре Карвей со своими людьми стал делать набеги на ромейские земли, причиняя бывшим сородичам не меньше вреда, чем магометане. Захваченных пленных павликиане частично оставляли себе, а частично продавали арабам, и среди первых же ромеев, попавшихся к ним в Колонии, оказался турмарх Каллист, назначенный туда на службу еще Феофилом. Карвей лично подарил его халифу, а тот предложил турмарху принять ислам и, встретив отказ, заточил в ту же тюрьму в Самарре, где уже шесть лет томились захваченные в Амории ромейские военачальники – все, кроме Аэтия, который был вскоре после захвата Амория казнен вместе с персидским мятежником Бабеком.
Пленные сидели в оковах в мрачной темнице и терпели много лишений. В течение всех этих лет к ним приходили разные люди от халифа и предлагали принять магометанство, но ромеи отказывались. Когда к ним Каллист присоединился, многие из них были уже больны и ослабели от суровых условий тюремной жизни. Пленники обрадовались, увидев единоверца, к тому же прибывшего с родины. Его забросали вопросами о том, что там происходит, и Каллист рассказал о кончине императора, восстановлении иконопочитания и обо всем прочем.
– Значит, все родственники августы тоже возвратились к почитанию икон? – спросил Константин Вавуцик.
– Да, – ответил турмарх, – и твоя супруга тоже, и ее братья и сестры. Госпожа София, как я знаю, все эти годы творила много милостыни и молилась, чтобы Бог дал тебе терпения перенести варварский плен. С тех пор, как Мутасим отказал государю отдать вас за выкуп, она мало надеялась вновь увидеть тебя живым…
По мере того как силы заключенных слабели, к ним всё чаще приходили агаряне с уговорами принять ислам. Одни призывали узников пожалеть своих родных и друзей, скорбящих на родине об их участи, и говорили, что ромеи могут принять магометанство притворно, чтобы получить свободу, а позже, во время какого-нибудь военного похода, перебежать к своим и вернуться к христианству. Другие сожалели об участи пленников и оплакивали их «неразумие», поскольку они не хотят признать «могущество Аллаха и его пророка», несмотря на то, что столько раз испытали его на себе, терпя жестокие поражения от магометан. Третьи удивлялись, что пленники не хотят предпочесть закону Христа «гораздо более легкий и приятный для исполнения» закон Магомета. Однако узники в ответ осмеивали агарянскую веру, многоженство и ночное обжорство во время поста; указывали, что о Христе в Писании было множество пророческих свидетельств, а о Магомете – ни одного; наконец, говорили, что военные победы не зависят от истинности веры, поскольку когда-то Бог позволил завоевать множество земель идолопоклонникам – персам, потом Александру Македонскому, а затем римлянам…
Когда кто-нибудь из узников начинал унывать, Константин Вавуцик старался утешить собрата по заключению.
– Смотрите, – говорил он, – как долго мы уже тут находимся и в каких ужасных условиях, а ведь мы почти всю прошлую жизнь провели в удовольствиях и удобствах! Разве это не свидетельство явной помощи Божией? Если бы Господь не укрепил нас, как бы мы смогли вынести всё это? Будем же благодарить Его за такой о нас промысел, ведь этими страданиями очищаются все наши прежние грехи!
Наконец, видя, что ромеи не поддаются ни на какие уговоры, халиф – это был сын Мутасима Харун ал-Васик – решил предать их смерти. Некоторые из его советников, правда, предлагали выдать их ромеям за большую сумму золота, но Васик отказался:
– Если мой отец, захвативший этих нечестивцев, не отдал их грекам даже за двести кентинариев золота, то и мне не следует делать этого, тем более, что сейчас за них уже вряд ли столько предложат – кому нужны эти отощавшие больные люди!
Об этом решении узнал Венду, некогда предавший Аморий арабам. Получив от Мутасима пятьсот тысяч дирхемов и отрекшись от христианства, он с тех пор служил при дворе халифа, однако по старой памяти питал симпатию к Константину Вавуцику. Вечером 5 марта Венду пробрался в тюрьму и, подозвав через окошко в двери нотария Константина, некогда служившего у Вавуцика и вместе с ним взятого в плен, тихо сказал:
– Константин, я много лет с любовью относился к твоему господину и даже до сих пор жалею его и хочу ему добра. Я узнал, что халиф собирается завтра казнить всех вас, если вы не примете ислам. Посоветуй твоему господину притворно принять агарянскую веру и сам сделай то же, так вы избавитесь от смерти, а если в душе своей вы не отступите от Христа, Он, думаю, не прогневается за это, ведь вы находитесь в таких тяжких обстоятельствах!
Константин перекрестился и ответил словами псалма:
– Отойди от нас, делатель беззакония!
Венду вздохнул и закрыл окошко. Вавуцик внимательно посмотрел на нотария и спросил:
– Кто призывал тебя к окошку и зачем?
Константин отвел патрикия в сторону и тихо пересказал ему новость. Вавуцик осенил себя крестным знамением и произнес:
– Да будет воля Божия! – и, обратившись ко всем соузникам, сказал: – Братия, пребудем всю эту ночь в молитве!
Узники до рассвета пели псалмы – поскольку никаких книг в заключении они не имели, это были единственные молитвы, которые они могли петь сообща. Многие знали разные псалмы на память, а Феодор Кратер, когда-то бывший священником, но потом сложивший с себя сан и записавшийся в войско, помнил наизусть почти всю Псалтирь и за годы жизни в темнице научил псалмопению всех соузников. Уже перед самым восходом солнца Каллист подошел к Вавуцику и тихонько спросил:
– Нас сегодня убьют, да?
– Да, так сказал Венду Константину этим вечером. Не бойся, господин Каллист, мы должны пребыть верными Христу до конца! Мы много претерпели ради Него, а сегодня наши страдания окончатся.
– Я не боюсь. Я только хотел бы… У меня тут есть икона… – Каллист смущенно умолк.
– Да, понимаю, – Вавуцик ненадолго задумался, а потом обратился к заключенным. – Братия, я вижу, вы догадались, почему мы бдели в молитвах этой ночью. Наши страдания сегодня должны закончиться. Как вы знаете, у нас на родине снова чтят иконы, и лично я хотел бы отойти к Богу в той вере, какая теперь восторжествовала в нашем отечестве и какую исповедуют мои родные и друзья. Не знаю, было ли наше общение с иконоборцами таким страшным грехом, как считали исповедники икон, но думаю, если в этом был грех, пусть Господь простит нас, ведь мы, как бы там ни было, старались по мере сил угождать Ему, верно служили земному царю и претерпели скорби за нашу веру во Христа! У господина Каллиста есть с собой святой образ, и если кто-нибудь хочет последовать моему примеру, я буду рад, если же нет, я всё равно буду почитать вас всех как братьев до последнего издыхания. Простите меня, грешного, если я чем обидел вас за годы нашего пребывания тут, и помолитесь за меня, чтобы Господь наш Иисус Христос дал мне мужества до смерти пребыть Ему верным!
С этими словами Константин поклонился всем в землю и, взяв у Каллиста небольшую икону Богоматери, которую тот носил на груди, перекрестившись, поцеловал ее. Остальные узники с плачем тоже стали просить прощения и молитв у него и друг у друга и все приложились к иконе вслед за Вавуциком.
Наутро сорок два пленника были выведены во внутренний двор тюрьмы, где их допросил военачальник халифа. Первый вопрос его был о том, сколько лет ромеи находятся в заключении.
– Зачем ты спрашиваешь о том, что знаешь? – ответил за всех Вавуцик. – Уже седьмой год, как мы заключены тут.
– Неужто в течение столь долгого времени вы еще не познали, как человеколюбив к вам повелитель верующих? И он, и его отец до сих пор щадили вас, хотя могли бы уже давно предать смерти. Вам бы следовало быть ему благодарными, любить нашего владыку всей душой за такое милосердие и давно принять нашу веру, чтобы увидеть еще большее человеколюбие!
– Мы молимся за наших гонителей, об их вразумлении, как повелевает Бог, но принять вашу веру мы не не можем, потому что она ложна, а мы рождены и воспитаны в истинной вере во Христа, с ней мы и умрем! – сказал Васой, в молодости бывший одним из знаменитых возниц Ипподрома; разбогатев, он перестал участвовать в бегах, поступил на службу в армию и сумел достичь известного положения при дворе, хотя и после этого столичные любители скачек узнавали его на улице и радостно приветствовали.
– Вы безумны! – сказал агарянин. – Истинная вера у нас, а не у вас, ведь это ясно из того, как наш народ распространился по земле, и сколько городов и пленных Аллах – велик он и славен! – предал в наши руки! Повелитель верующих в последний раз предлагает вам совершить вместе с ним молитву великому Аллаху и обещает вам многие дары и почет вместо вашей грязной темницы. Он может даже вытребовать сюда с вашей родины ваших жен и детей, и вы вновь увидите и обнимете их! Итак, соглашайтесь исповедать пророка Магомета, чтобы не умереть злой смертью!
– Мы этого не сделаем! – сказал Каллист. – Мы жили с верой во Христа и умрем с ней! Магомет же с его пророчествами да будет проклят!
Разгневанный военачальник тут же повелел связать пленникам руки за спиной и вести на казнь. Их повлекли к Евфрату, и пока они спускались к реке, за ними увязалось довольно много народа. По дороге мученики молились Богу, чтобы Он принял их души в мире. Когда пленников привели на место казни, палачи-эфиопы принялись точить мечи и угрожающе размахивать ими. Феодор Кратер, стоявший рядом с Константином Вавуциком, шепнул ему:
– Господин, ты превосходишь нас как чином, так и добродетелью, и думаю, тебе первому из всех нас подобает принять мученический венец.
Кратер вдруг забоялся, что патрикий, увидев убиение соузников, поколеблется и может устрашиться смерти: протоспафарий знал, что Константин очень скорбел все эти годы об оставленных на родине жене и дочерях и сильно тосковал по ним, не переставая надеяться, что когда-нибудь всё же удастся еще с ними увидеться… Но патрикий твердо посмотрел в глаза собрату и ответил:
– Нет, господин Феодор, иди ты первый прими смерть за Христа, а мы все последуем за тобой!
Тогда турмарх помолился:
– «Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое!» – и с этими словами Феодор подошел к палачу и приклонил голову под меч.
Вслед за ним и остальные ромеи один за другим, по порядку своих чинов, бестрепетно приняли смерть. Видя, как спокойно и даже радостно они шли под меч, военачальник халифа всё больше мрачнел, и когда, наконец, упала на землю голова последнего мученика, он сплюнул и пошел прочь: араб надеялся похвалиться перед халифом если не тем, что кто-нибудь из ромеев в последний момент дрогнет и отречется от Христа, так хотя бы тем, что перед смертью осужденные будут плакать, дрожать от страха и стенать, но теперь… Теперь похвалиться перед «повелителем верующих» было решительно нечем!
19. Тени прошлого
Какое-то неблаговерие настало для Церкви, на нее напали лютые звери, которые и сейчас даже, по возвращении ясных дней, не щадят нас и не стыдятся быть сильнее самого времени.
(Св. Григорий Богослов)
Петрона не зря думал, что в столице нынче «не до философии» – пожалуй, давно уже происходившее в Городе было так далеко от любомудрия, как теперь.
Прошло чуть больше года после перенесения мощей Студийского игумена и его брата-святителя, и монастырь за это время стал местом стечения многочисленных паломников, приезжавших со всех концов Империи поклониться святым останкам исповедников. Нередко у мощей совершались исцеления. Патриарх в годовщину их перенесения побывал в обители и совершил праздничную литургию. Казалось, отношение его со студитами были прекрасными, поэтому то, что произошло всего несколько дней спустя, произвело на всех впечатление внезапного удара молнии или землетрясения: за неделю до начала Великого поста патриарх издал обращение ко всей Церкви, где, вкратце обозрев историю борьбы и победы православия над иконоборчеством, напомнил, что близится тридцатая годовщина изгнания святителя Никифора с Константинопольской кафедры, и подчеркнул, что торжество веры ни после первого, ни после второго всплеска ереси не могло бы состояться, если бы не твердость патриархов Тарасия и Никифора. «Поскольку же, – говорил патриарх, – еще находятся некоторые люди, дерзающие укорять этих доблестных служителей Троицы, пустословя на развращение слышащих, будто великие наши отцы и святители отступали от божественных законов и действовали во вред церковному стаду, то вот, мы ныне полагаем предел этой несмысленной болтовне и предаем анафеме всё, что когда-либо было написано против святых и блаженных отцов наших святейших Тарасия и Никифора, чтобы исполнить заповедь Божию о почитании отцов и заповедь апостольскую о почитании наставников наших, и чтобы не допустить более бесчестия духовных родителей наших, как это в обычае у отцеубийц…» Действительно, анафема на «всё написанное против патриархов Тарасия и Никифора» была не просто принята на созванном Мефодием соборе епископов, но и внесена в текст Синодика для прочтения в первое воскресенье Великого поста в память о торжестве православия.
Мефодий ясно дал понять, что под хулами на патриархов-исповедников он имеет в виду писания студитов, прежде всего игумена Феодора, по делу о венчании экономом Иосифом прелюбодейного брака императора Константина, причем сообщил на соборе, что студиты хранят в монастырской библиотеке несколько памфлетов, написанных Феодором во время разрыва общения с патриархом Никифором, где последний назывался «начальником прелюбодействующих» и подобными словами. Мефодию удалось достать копии этих писаний через монаха из Хорского монастыря, который некоторое время, с позволения игумена Навкратия, переписывал книги в библиотеке Студия.
– Конечно, они уже давно не распространяют эти злочестивые писания, – сказал патриарх на соборе, – но, тем не менее, до сих пор не уничтожили их, и это представляется мне подозрительным. Итак, я почитаю за лучшее предписать всей нашей пастве уничтожить и сжечь таковые хулы на святых отцов-исповедников, если у кого-нибудь они еще сохранились.
Большинство епископов были согласны с патриархом, и никто из них не предполагал, что анафема на сочинения, порицавшие Тарасия и Никифора, выльется в церковную смуту. Предполагал ли это сам Мефодий? Впоследствии многие задавались таким вопросом, и некоторые склонялись к мнению, что патриарх нарочно устроил всё это, чтобы уязвить и «поставить на место» студийских монахов, студиты же заподозрили Мефодия в этом с самого начала. Игумен Навкратий лично явился к патриарху, когда стало известно о принятых анафемах, и выразил недоумение о происшедшем.
– Мы все почитаем святителей Тарасия и Никифора, владыка, но ведь и святые могут допускать ошибки, – сказал игумен.
– Совершенно верно, – ответил патриарх. – И теперь вы должны признать, что святой Феодор тоже ошибся.
– Ты хочешь сказать, святейший, что в той истории ошибался наш отец, а патриархи были во всем правы? – Навкратий никак не ожидал подобного поворота. – Прости меня, но это неправда! И святой Тарасий, и святой Никифор в свое время, примиряясь с нашим отцом, признали, что они не во всём были правы!
– Если они в чем и были неправы, так в том, что пошли на уступки вашим притязаниям! – сказал патриарх сурово. – Известно, что из этого вышло: несколько лет смуты, а в результате подняли головы еретики, последствия чего мы все испытывали почти тридцать лет! Ты никогда не думал, отче, что противники вознесли свою ересь вторично именно потому, что увидели нас раздираемыми и разделяющимися между собой? Устроенная вами смута – надо, наконец, честно это признать – привела вовсе не к утверждению веры, а к тому, что все увидели, как легко можно пренебречь патриархом! Что и сделали все те, кто отпал в ересь и не только попрал данные ранее обещания стоять за веру, но еще и потребовал низложения законного предстоятеля, стоило только императору и его сторонникам поманить их или припугнуть! Но я, благодарение Богу, показал этим перебежчикам, что менять веру как стоптанный башмак и презирать законного архиерея, словно последнего нищего, – дело не такое безопасное, как им мнилось! И вот что я тебе скажу отче: при всем моем уважении к вам и при всем моем почтении к памяти святого Феодора, чему вы недавно были свидетелями, я не допущу, чтобы вы учинили еще одну смуту, как вы это любили делать раньше. Вы, кажется, никогда не вспоминали о пятом правиле святого Антиохийского собора, но теперь я настоятельно советую вам вспомнить о нем.
Пока мул неспешно вез игумена в Студийский монастырь, возмущение в душе Навкратия улеглось, но во врата обители он входил с тяжелым сердцем. Ему шел уже девятый десяток лет, и он достаточно хорошо знал людей, чтобы ясно понимать, что Мефодий не отступит от своего решения. Между тем Навкратий не чувствовал в себе сил для новой борьбы: он был стар, и ему хотелось после десятилетий, протекших в лишениях и ссылках, окончить свои дни в покое. Но, похоже, покой опять ускользал: пойти на требования патриарха было совершенно невозможно, ведь Мефодий дал понять, что не просто хочет уничтожить писания против своих предшественников по кафедре – само по себе это требование было бы даже странным, ведь студиты уже давно не распространяли обличений в адрес сторонников снисхождения в деле об Иосифе, – нет, патриарх хотел, чтобы студиты признали, что их прославленный игумен был неправ в том споре, а с этим никто из них не мог согласиться! Навкратий пошел в храм обители и, опустившись на колени перед ракой с мощами двух святых братьев и их дяди-исповедника, стал молиться. «Отче, отче, неужели нам придется пережить новую смуту! – взывал он к Феодору. – Отче, помоги нам! Если можно, избавь нас как-нибудь от этой напасти!»
В первое воскресенье поста новые анафемы были провозглашены в Великой церкви, и в тот же день стало известно, что в Студийском монастыре Синодик был прочитан в прежнем виде, без добавок. Выждав несколько дней, Мефодию обратился к студитам с требованием анафематствовать известные сочинения и уничтожить их. В ответ игумен Навкратий написал патриарху, что они не выполнят его требования, поскольку в сложившихся обстоятельствах это равносильно признанию, будто игумен Феодор в свое время действовал ошибочно и был не защитником канонов, а раскольником.
К середине лета события приняли неприятный оборот. Поскольку монахи Студия и Саккудиона не желали подчиниться требованию патриарха, Мефодий, после нескольких обращений к ним, издал распоряжение, согласно которому непокорным монахам впредь до раскаяния запрещалось общаться с кем бы то ни было из собратий и принимать в своих обителях паломников и гостей; им позволялось покидать монастыри только ради того, чтобы купить пищу или продать рукоделие, и для хозяйственных послушаний. Одновременно патриарх обратился к студитам с пространным посланием, составленным в довольно резких выражениях. Патриарх не остановился даже перед тем, чтобы заявить, будто игумены Навкратий и Афанасий вообще не были законным образом поставлены на игуменство, поскольку не имеют соответствующих указов, подписанных патриархом Никифором, а значит, все их монахи могут покинуть их в любой момент и «присоединиться к Церкви». Что же до тех, кто по прежнему упорствовал в своем отказе признать требования Мефодия, то патриарх даже насмехался над ними, говоря, что они, издавна любя занимать особое положение и быть не как все, теперь, когда он запретил им общаться с собратиями, улучили желаемое: «Как вам и нравилось, вы отсечены, и как вам любо, отколоты, поскольку вы по природе не входите в стадо, словно какие-то одичавшие вепри-одиночки, что вам и было по душе, – чтобы растление ваше не вредило людскому множеству». Обращаясь дальше к писаниям игумена Феодора против почивших патриархов-исповедников, Мефодий говорил: «Если вы не анафематствуете книги, написанные против всесвященного Никифора и триблаженного Тарасия, или сегодня перед братьями и сослужителями, или в установленный день, когда они придут в ваш монастырь послушать вас, и не согласитесь сжечь и анафематствовать то, что там содержится, как мы предписали в наших посланиях ко всей Церкви, то знайте, братия, что за эту привязанность мы подвегнем вас не только анафеме, но и суровейшему – катафеме. Ибо блаженный ваш игумен и учитель при счастливом конце своей жизни будучи в литургическом общении с нами, сам отменил собственные заявления, поскольку он никогда не присоединился бы к нам, если бы держал в мыслях своих написанное против нас».
Послание это привело студитов не к смирению, а в еще больший гнев.
– За кого он себя держит?! – возмущались монахи. – То, что было написано, говорилось против тех патриархов, а он ставит себя наравне с ними и говорит «мы»! Что за неслыханное превозношение! Требует признать, что Феодор отрекся от своих прежних мнений, хотя вот, отец писал о сторонниках Иосифа, что «Бог им судья», а вовсе не отрекался от всего прежнего! Он просто счел тогда возможным примириться с патриархом, после того как святейший указал, что во всем был виноват император, а сейчас нам предлагается признать, что во всем был виноват наш отец?! За кого Мефодий нас принимает?!..
Такая резкость патриарха пришлась не по нраву уже не только студитам, но и многим другим: студийских монахов уважали, и подобный выпад против них, причем, казалось бы, на пустом месте – ведь они действительно не распространяли тех старых писаний Феодора против патриархов-исповедников, – представлялся неуместным. За студитов попытались вступиться игумен Катасаввский Иоанн и его монахи, а также саккудионцы, но патриарх отказался даже говорить с ними, заявив, что они вообще не имеют права заниматься посредничеством по данному делу, согласно четвертому правилу Халкидонского собора, гласившему: «Монашествующие в каждом городе и стране да будут в подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат только посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, где отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в житейские дела, и да не принимают в них участия, оставляя свои монастыри, разве только когда это будет позволено епископом города, по необходимой надобности». Тогда студиты попытались повлиять на патриарха через некоторых епископов, в том числе Никомидийского митрополита Игнатия и Кизического епископа Иоанна, – тщетно!
– Не вы ли сами, отцы, подтвердили соборное решение об анафеме на всё написанное против святых Тарасия и Никифора? – спросил патриарх. – Что же, вы теперь отрекаетесь от этого решения? В таком случае подумайте, что вы тем самым противитесь не мне, смиренному, а Божией Церкви и Самому Духу Божию!
Жалобы пошли и к императрице, но Феодора отвечала то же, что и прежде: сами выбрали патриарха, вот пусть и подчиняются ему.
– В конце концов, почему бы им и не анафематствовать какие-то пыльные книжки, тем более что их никто уже много лет в глаза не видел и не увидит впредь? – заявила она и ядовито добавила: – Мой муж когда-то наказал из-за их сочинений всего несколько человек, так они и то до сих пор забыть этого не могут. Представляю, что бы было, если б Феофил каждый раз устраивал такие разбирательства и суды, как они теперь! От иконопочитателей и косточек бы тогда не осталось! Но думаю, каждый жнет, что сеял, так что пусть собирают урожай!
Патриарх между тем исполнил свою угрозу и действительно предал студитов и их стронников анафеме и катафеме, а поскольку поддержавшие студитов епископы продолжали критиковать его решение, он обратился за помощью к императрице, и «взбунтовавшиеся» иерархи были удалены со своих кафедр силами местных властей. Мануила вся эта история с самого начала привела в негодование, но когда он принялся укорять царственную племянницу за безоговорочную поддержку патриарха, Феодора сказала:
– А что тут такого, дядя? Святейший борется с схизмой, и он в своем праве. Не студитам же мне помогать! Если б не патриарх, они бы, верно, предали Феофила анафеме, так почему я теперь должна их защищать от нее?
Поскольку волнения в обществе по поводу разгоревшейся смуты не прекращались, патриарх счел нужным на Рождество Христово произнести в Великой церкви пространное слово: он сравнил «схизматиков» с Дафаном и Авироном, напомнив, что тех, восставших против Бога, когда-то поглотила земля, и нынешние «смутьяны» тоже не избегнут наказания.
– Скажите, дерзкие, – обращался он к своим противникам, – говорите, бесстыжие, не таитесь, лицемеры, скажите, упившиеся, произведите на свет уродцев, зачатых вами в темноте ваших помышлений! Желаете ли вы повиноваться канонам? Они заставляют вас молчать, и, даже если вы не хотите, вы умолкните.
Приведя правила, запрещавшие монахам презирать своего епископа и вмешиваться в какие-либо гражданские и церковные дела без позволения архиерея, а священникам – творить свои особые собрания без его позволения и отвергать его предписания, если епископ не приказывает ничего противного благочестию, патриарх напомнил, что все таковые нарушители канонов подвергаются отлучению и низложению, а в случае неповиновения передаются в руки государственной власти. Предвидя возражения по поводу того, что священники должны учить народ, даже если они монахи, и должны исправлять своих собратий, если те погрешают, Мефодий говорил, что низшим не по чину исправлять высших и епископов могут исправлять только епископы, а вовсе не священники или диаконы, которые должны повиноваться архиереям, а не учить их.
– А что для священников подобающее им по достоинству определяют епископы, то есть иерархи, а для иерархов – апостолы и преемники апостолов, то есть патриархи, это со всей очевидностью покажут сочинения боговещанного Дионисия и предписания канонов. Ибо подобающее по достоинству определяют вышестоящие чины для нижестоящих, вплоть до апостолов, а их преемники, то есть патриархи, тоже суть апостолы, как показывает божественнейший Дионисий.
Итак, каноны запрещали монахам и священникам даже «шевельнуть языком», а не то что выступать с публичной критикой патриарха. Но поскольку соответствующие правила очевидным образом указывали только на низший клир, а не на епископов, Мефодий пояснял, что епископы «обязаны подчиняться апостолам, то есть патриархам», и утверждал, что иерархи, попытавшиеся вступиться за «схизматиков», позволили ввести себя в заблуждение, защищая студитов, «восставших не просто против епископов, но против преемников апостолов, или, скорее, против самих апостолов – нас, грешных».
– Епископ есть имя и дело обыкновенное, – говорил Мефодий, – а что до апостолов и преемников их, то это – редкое и весьма немногочисленное, начальственное и самовластное…
Патриарх не только отлучал тех, кто не хотел повиноваться его предписаниям, но и запрещал верным дружески общаться с ними и посещать их, утверждая, что таким образом всякий сочувствующий им подпадает под анафему. Речь эта, тут же записанная и распространенная по всем церквам и монастырям, произвела на многих слушателей и читателей впечатление тяжкое.
– Да, если Мефодий сам себя приравнял к апостолам, так чего уж больше ждать! – проговорил Студийский игумен. – Не иначе, антихрист при дверях!
– Хотел бы я знать, где он этого набрался! – возмущался Николай. – Вывести из писаний святого Дионисия неподсудность патриарха никому, кроме Бога! Неслыханно!
– Где набрался? – Навкратий усмехнулся. – Думаю, в Риме. В свое время отец Епифаний много чего рассказал мне о том, что он там видел, когда отвозил письмо к папе. Это очень в тамошнем духе – считать, что если ты вещаешь с патриаршей кафедры, то, будь ты лично сколь угодно грешен, через тебя всё равно говорит Сам Бог…
– И что теперь будет?
– Увидим… Да ты не печалься так, Николай! Нам не привыкать к таким вещам! Конечно, жаль, что всё это произошло именно сейчас, когда, казалось бы, можно было надеяться на церковный мир и благоденствие…
– Я, отче, печалюсь даже не из-за этого… Вот он обвиняет нас в лицемерии, а сам он разве не лицемер? Сначала прославил вместе с нами нашего отца, а теперь… так его обесчестил! Неужели он не понимает, что оболгал его?!
– Может, и не понимает… Возможно, он действительно думает, что раз отец примирился со святейшим Никифором, значит, тем самым отрекся от своих прежних взглядов… Хотя вообще-то можно то же самое повернуть и иначе: если святейший тогда пошел на примирение, значит, он признал свою неправоту – как оно и было.
– Вот именно! – сказал Николай и в сердцах добавил: – Не понимаю, за что ему так нас ненавидеть?!
– Это не ненависть, брат. Просто у него свои взгляды на церковное устройство. А может, ему за святителей обидно, не хочется признать, что они ошибались… Кто знает! – Навкратий устало помолчал. – Надо терпеть, когда происходят неприятности, когда окружающие вдруг меняют свое отношение к нам – терпеть, как мы терпим перемены погоды. Не замечать то и другое могут только совершенные. Думаю, этот ветер еще переменится… Хотя, видно, мне уже так и придется умереть под анафемой, – он усмехнулся.
– Нет, – тихо, но убежденно проговорил Николай. – Этого не будет. Я верю, отче, что ты тоже увидишь, как правда восторжествует!
…За две недели до Пятидесятницы к эпарху пришли несколько синклитиков, и один из них, протоспафарий, крайне возмущенный и весь взъерошенный, заявил, что его жена стала жертвой преступления, и если случившееся не откроется, то множество людей получит великий вред, а если откроется, то женщина боится, что ей не поверят и накажут за клевету. Пострадавшую звали Хиония, она была особой уважаемой, известной своим благочестем, так же как и ее муж; их сын Митрофан получил хорошее образование, служил в императорской канцелярии и уже обращал на себя внимание. Пригласив к себе Хионию, эпарх стал уверять, что ей ничего не грозит, что все знают ее как достойную доверия, а потому она может безбоязненно открыть дело. Тогда она заплакала и сказала, что патриарх, с которым она уже несколько лет состояла в довольно близком знакомстве – он был крестным ее племянников и духовным отцом ее сына, – сотворил над ней насилие. По словам Хионии, дело было в гостях у ее сестры, матери двух патриарших крестников: у нее родилась дочь, и патриарх снова стал крестным отцом, а потом был приглашен на обед; среди званных были и Хиония с мужем.
– И вот, – с плачем рассказывала протоспафария, – пока дожидались некоторых гостей, я пошла погулять в сад… А у сестры сад большой, укромных уголков много, и пруд, и беседки… Было жарко, и я зашла в одну беседку. Сижу, а тут вдруг патриарх заходит. Я вскочила, а он говорит: сиди, мол, что тут церемонии устраивать, не в церкви, мол… И сам сел рядом на лавочку: жарко, говорит, а тут беседка такая… Мол, случайно зашел, не знал, что еще тут кто-то может быть… А я что, как я могу что подумать? Поговорили мы о племянниках моих, о новокрещеной… И вдруг… он меня за руку взял! Я удивилась, испугалась, а он… говорит… Нет, я не решусь повторить, стыдно мне! В общем, что он уже давно не… И сказал: «Не кричи, всё равно тебе никто не поверит!» – протоспафария разрыдалась, а немного успокоившись, продолжала. – Я мужу хотела сказать, а потом забоялась… И всё боялась, а потом… подумала: как же, ведь патриарх на такой высоте, а ведь нельзя ему теперь, по правилам-то… Да еще он, может, это и не первый раз, кто его знает… Вот и решилась сказать, уж будь, что будет!
В тот же день эпарх донес о деле логофету дрома. Феоктист был потрясен: чтобы Мефодий на шестом десятке лет, столько лет проведя в монашестве и претерпев такие лишения за веру, впал в блуд, казалось невероятным. Но не доверять Хионии не было никаких причин, а похожие случаи были известны из патериков и житий – так почему подобное не могло произойти и сейчас?.. Но что теперь делать?! Устраивать суд?.. Сколько злорадства у противников иконопочитания вообще и недоброжелателей патриарха в частности это вызовет! Однако дело уже вышло наружу, о нем узнал не только муж Хионии, но и кое-кто из придворных – значит, огласки не избежать. А кроме того, дело дает повод подумать о новом предстоятеле Церкви, и это не так уж плохо…
Теперь, по прошествии трех лет после торжества православия, Феоктист не мог не признаться самому себе, что церковная политика Мефодия утомила его. Особенно логофета раздражало то, что патриарх не удовольствовался извержением иконоборческого клира, но затеял скандал со студитами… Он ничего не мог изменить, поскольку императрица постоянно вставала на сторону патриарха, но нынешний случай давал прекрасный повод, наконец, расстаться с Мефодием. Феоктист был бы рад новому патриарху, более спокойному и менее притязательному, и знал, что Мануил обрадуется этому еще больше: после того как Мефодий анафематствовал студитов и их сторонников, магистр ходил мрачнее тучи и нередко повторял, что если б он знал, чем закончится восстановление икон, он был бы последним из тех, кто ратовал за него…
Разбирательство состоялось в патриархии спустя несколько дней, и, неожиданно для Феоктиста и Мануила, руководивших рассмотрением дела, собралось множество самого разного народа – клирики, миряне, монахи, придворные и простолюдины, православные и до сих пор не покаявшиеся иконоборцы. Слух о преступлении патриарха распространился по Городу, как ветер, и одни пришли, опечаленные таким странным обвинением, а другие, напротив, обрадованные случившимся. Патриарх был удивительно спокоен, словно бы дело касалось вовсе не его. Когда вошли Хиония и синклитики, первоначально пришедшие с ней к эпарху – мужа протоспафарии, как «лицо заинтересованное», на собрание решили не допускать, во избежание чего-нибудь совсем неподобающего, – логофет, обратившись к Мефодию, сказал, что Хиония имеет к нему некую жалобу. Увидев женщину, патриарх улыбнулся:
– Здравствуй, госпожа Хиония! Как поживаешь? Как твои муж и сын, сестра и племянники, здоровы ли?
Протоспафария растерялась от этих простых вопросов, заданных перед такой разношерстной толпой, и в первый момент не нашлась с ответом. Зато пришедшие с ней синклитики возмутились:
– Вы только посмотрите, какая наглость! Растлил почтенную женщину, мать семейства, и делает вид, будто ничего не произошло!
Собрание зашумело, и Феоктисту, чтобы водворить тишину, пришлось несколько раз постучать по железному кругу небольшим молоточком. Поскольку Хиония словно потеряла дар речи, ее спутники сами изложили обвинения против патриарха, под смех, свист и оскорбительные для Мефодия выкрики собравшихся. Патриарх, однако, нимало не утратил спокойствия, и логофет, глядя на него, подумал: «Или он невиновен, или точно знает, как выкрутиться… Пожалуй, сейчас мы только опозоримся с этим делом!..» Выслушав обвинителей, Мануил обратился к обвиняемому:
– Святейший, что ты можешь сказать на это?
Патриарх поднялся, обвел взглядом собрание и сказал:
– Что ж, суть обвинения мне понятна, господа, и сейчас я на него отвечу. Но сначала хочу задать вопрос: есть ли среди вас врачи?
– Есть! Есть! – раздались выкрики, и вперед вышли сразу четверо мужчин из числа наследников Асклепия.
– Очень хорошо. Попрошу вас, господа, подойти сюда, – сказал Мефодий и обратился к логофету. – Господин Феоктист, полагаю, четырех врачей будет достаточно для независимого освидетельствования?
– Конечно, владыка, – проговорил патрикий удивленно. – Но кого ты хочешь освидетельствовать?
«Не Хионию же, дьявол побери?!» – подумал он.
– Меня, – ответил патриарх. – Пусть господа лекари посмотрят и скажут, мог ли я две недели назад иметь сношение с женщиной или нет.
С этими словами Мефодий до пояса закатал свой хитон. По зале пронесся общий «ах», Хиония вскрикнула и закрыла лицо руками, а пораженные обвинители так и застыли с раскрытыми ртами. Врачи, несколько смущенные, осмотрев «орудие», которым патриарх должен был совершить свое преступление, во всеуслышание заявили, что Мефодий, несомненно, уже много лет лишен возможности делать то, что ему ставят в вину. Вся зала загудела, но Феоктист снова постучал молоточком, и когда собравшиеся поутихли, патриарх продолжал:
– Итак, как видите, господа, я никак не мог совершить того, в чем меня обвинили, причем я утратил эту способность уже давно, почти тридцать лет назад. Но, видимо, в то время я принес недостаточное покаяние в одном своем грехе, и Господь восхотел очистить меня этим малым позором, поэтому пусть о моем соблазне будет поведано во всеуслышание.
И Мефодий рассказал в самых общих словах о случившемся с ним в Риме искушении и о том, как он чудесным образом избавился от страсти по молитве к апостолу Петру. Когда он закончил и сел на свое место, снова поднялся возмущенный крик, но теперь против обвинителей патриарха. Феоктист тут же приказал взять их под стражу и пригрозил Хионии, что если она не расскажет, зачем возвела клевету на святейшего, ее посадят в самый сырой и темный подвал Претория. Женщина зарыдала и немедленно призналась, что оклеветать патриарха подговорили ее пришедшие с ней синклитики, дав ей за это целый мешок золота, лежащий у нее дома в сундуке, – и Хиония отдала логофету ключ от него, добавив, что муж ничего об этом не знал и был уверен, что ее в самом деле изнасиловали. Эпарх немедленно отправился с несколькими служащими домой к протоспафарии и действительно принес найденное золото. Хиония между тем упала в ноги патриарху и с плачем сказала, что не встанет, пока не получит прощения, умоляя назначить ей какую угодно епитимию. Ее сообщники тоже распростерлись перед Мефодием и молили о прощении. Патриарх сказал, что прощает их, и попросил логофета и магистра, чтобы наветников не карали ни бичеванием, ни каким-нибудь другим наказанием; он только захотел узнать, с какой целью эти люди оклеветали его. Это было не очень понятно и Феоктисту, зато Мануил догадывался, в чем дело: клеветники были из числа порицавших патриарха за устроенный раскол со студитами и, по-видимому, рассчитывали добиться его смещения, – с одним из этих синклитиков магистр не так давно сам имел разговор о церковных делах, и тот без обиняков высказал пожелание, чтобы Мефодий «так или этак поскорей слетел с кафедры», и намекнул, что ждать этого, возможно, осталось недолго… В испуге, что теперь это дело выйдет наружу и может только еще больше повредить студитам, Мануил, прежде чем обвиняемые что-либо ответили, заявил:
– Эти несчастные, должно быть, всё еще не могут простить святейшему низложение проклятых еретиков!
Он мысленно взмолился Богу, чтобы синклитики поняли его намек, – и они поняли: будучи спрошены Феоктистом, они ответили, что скорбь из-за некоторых низложенных клириков из числа их родственников и знакомых действительно «помутила их рассудок и довела до греха», и снова упали в ноги патриарху. Тот улыбнулся и сказал, что в таком случае для них достаточно будет в качестве наказания ежегодно в праздник Торжества православия со свечами ходить крестным ходом из Влахерн в храм Святой Софии и перед всеми проклинать иконоборческую ересь и еретиков. На том и порешили. Закрывая собрание, Феоктист произнес краткую речь, сказав, что ныне все воочию увидели, как гнусна клевета и как Бог оправдывает угождающих Ему, и поздравил патриарха с тем, что он удостоился пострадать от клеветников так же, как некогда святой Афанасий Великий, тоже обвиненный арианами в блудном грехе… Словом, вся эта затея принесла патриарху вместо позора еще бо́льшую славу, а противники Мефодия совсем притихли. Теперь даже Мануил уговоривал придворных, склонных возмущаться деятельностью патриарха, «потерпеть и подождать, пока Бог явит Свою волю», не пытаясь ускорить события.
– Сами видите, к чему это может привести! – вздыхал он.
Между тем Кассию всё происходящее привело в глубокое уныние. С тех пор как патриарх запретил студитам общаться с собратиями, отец Феоктист перестал служить у нее в монастыре. В то же время игумен Навкратий прислал письмо, где умолял ее не выступать с какими-нибудь протестами, «пожалеть сестер и обитель», уверяя, что «претерпевший до конца узрит избавление от Бога». Пока же сестры причащались запасными Дарами. К счастью, никто из монахинь не пороптал, поскольку все они чтили память святого Феодора и понимали, что патриарх действительно потребовал от студитов невозможного. Но никто не мог сказать, сколько придется ждать окончания смуты: было ясно, что ни одна из сторон не уступит, а приглашать служить в обители священника из числа сторонников патриарха Кассия не хотела… Когда уныние особенно жестоко нападало на нее, она брала с собой Евфимию или Анну и отправлялась в гости ко Льву. Философ тоже был не в восторге от церковной смуты, но, как всегда, предпочитал держаться от подобных дел в стороне.
– Грустно мне, Лев, грустно, просто сил нет! – сказал игуменья. – Отец Феодор когда-то писал мне, что нынешние мужчины и женщины сильно уступают в доблести и прочих качествах прежним. И чем дольше я живу, тем яснее вижу, как он был прав. Раньше были подвиги, борьба за истину… А ссоры и споры, если и случались, тоже выглядели как-то… не благороднее, но… весомее, что ли… А теперь что? Какая-то недостойная возня!
Лев улыбнулся.
– Я тоже иногда думаю об этом. Но вот что заметь, мать… Помнишь у Гомера это восклицание: «Каковы ныне смертные люди!» Думаю, людям всегда кажется, что герои прошлого велики, а современники по сравнению с ними мелки и суетны. Но на самом деле, если б мы оказались современниками тех, кого почитаем сейчас героями и святыми, мы, может быть, даже не узнали бы их в толпе. Каждому человеку свойственно проявлять какие-то слабости – по греховной ли немощи или просто по ограниченности человеческого естества. Но до потомков доходит великое – великие подвиги или великие злодеяния, – а мелкое и преходящее забывается и тонет в Лете. А современники нам видны именно в ореоле этих мелочей, преходящих слабостей, мелких или крупных ошибок… Вот камни у берега – они такие гладкие, блестящие, и мы забываем, что когда-то они были шероховатыми, угловатыми, колючими и, быть может, совсем не такими красивыми, как теперь. Так и люди. Время, как морская вода, сглаживает шероховатости человеков. Быть может, те, кого мы сегодня презираем или считаем за обычных и недалеких людей, в силу их слабостей и ошибок, которые у нас на виду, будущим родам покажутся героями, потому что потомки будут знать только о благих делах, совершенных ими… Как знать? Нам, слава Богу, довелось лично знать святых, но, быть может, и сейчас рядом с нами живут те, кого будут почитать во святых потомки!
20. Будущие
(Виктор Цой)
- В нас еще до рожденья наделали дыр,
- И где тот портной, который сможет их залатать?
– Ми-и-иха! Да куда он делся?!.. Ми-и-ха-а-а!.. Михаи-и-ил!
– Чего тебе? – лениво спросил маленький император, глядя на сестру, растерянно стоявшую под чинарой, на чьих толстых ветвях он так удобно устроился.
Пульхерия задрала голову:
– Так вот ты где! А чего не отзываешься? Я уже охрипла тебя звать!
– Ты неправильно зовешь, вот я и не отзываюсь! «Миха, Миха»! Какой я тебе Миха? Вот если я тебя буду Пульхой называть, ты отзовешься?
– Вот, какой важный! Может, тебя еще «ваше величество» называть?
– Да! «Августейшее»! Я коронован, а ты нет, что, съела?
Пульхерия надулась и тряхнула белокурой головкой.
– Я с тобой тогда не буду играть! – и она, задрав нос, пошла прочь.
– Подумаешь! Сама опять первая прибежишь!
– Не прибегу! Я к Фекле пойду, она меня звала поглядеть, как она на лошадке ездит, а ты так не умеешь! И завтра она с мамой поедет во Влахерны, а ты нет, что, съел? – и девочка, показав брату язык, засмеялась и убежала.
Мальчик закусил губу. «Ну, погодите у меня еще! – подумал он, до боли в пальцах стискивая ветку дерева. – Вот я вырасту и всем вам покажу! И тебе, и Фекле… и Феоктисту!.. Тогда вы у меня… поедите!..»
Михаилу шел уже седьмой год, и, несмотря на всё внимание и заботу окружающих, вряд ли он назвал бы свое детство безоблачным, если б мог рассуждать об этом по-взрослому. Отца не хватало всегда, и ни мать, ни дяди, ни Феоктист не могли заменить его. Феодора иногда удивлялась, насколько хорошо сын помнил то, что было связано с Феофилом – многое даже с шестимесячного возраста, а после года почти всё. Большой портрет отца висел в его комнате, и Михаил часто подолгу смотрел на него.
– Мама, ведь папа красивый? – спросил он однажды, когда ему было четыре года.
– Да, очень.
– А я таким же буду?
– Да, – Феодора улыбнулась. – Может, и еще красивее.
– А папа меня увидит с неба?
– Увидит.
– И порадуется, что я красивый! – мальчик задумался. – Я еще буду сильный! И еще хороший буду… А папа к нам не может придти оттуда, хоть на чуточку?
– Нет, родной. Только мы к нему когда-нибудь.
– А когда? Поскорей нельзя?
– Нет, только когда время придет.
– Так это еще долго, да? А я скорей хочу!
– Не спеши. Ты еще вырасти должен и стать хорошим, а для этого нужно время. А то вот придешь к папе, а папа тебя спросит, что ты сделал в жизни, а ты ничего и не сделал еще хорошего, папа огорчится.
– Тогда я долго-долго буду жить, чтобы сделать много хорошего!.. А потом мы будем все вместе?
– Конечно, будем!
– Всегда-всегда?
– Да, мой хороший.
Иногда Михаил замечал, что мать после таких разговоров становится грустной, однажды спросил, почему, и она ответила, что ей «тоже не хватает папы»…
Мальчику не хватало не только отца, но и друзей. Его двоюродные братья, сыновья дядей и теток по материнской линии, были гораздо старше него, и играть с ними он не мог. Сестры больше общались между собой, играли в куклы, шушукались, а Михаил с презрением относился к их «секретикам». К тому же Фекла была в два раза его старше, Анна и Анастасия тянулись за ней, только Пульхерия охотнее играла с братом, чем со старшими сестрами – отчасти потому, что те считали ее еще маленькой, хотя Анна была всего на год ее старше, дразнили «белобрысой» и превозносились тем, что они все были коронованы августами, а она нет… Михаил ее не дразнил, хотя любил перед ней порисоваться и тоже не упускал случая заметить, что венчан на царство, в отличие от нее, – но от него терпеть такие замечания было не так обидно, как от сестер, ведь он действительно когда-нибудь должен был стать полновластным императором.
Кувикуларии-воспитатели, подобранные Феоктистом для маленького императора, не очень-то нравились Михаилу: они казались ему слишком скучными, чопорными и часто одергивали его, когда он пускался в разные шалости. Однажды он пожаловался на это Варде, и дядя, с согласия августы, приставил к мальчику еще одного воспитателя – более простого и веселого нравом. Правда, это вызвало недовольство Феоктиста, считавшего Клеопу «распущенным», но Михаил был в восторге, и логофет не решился в этом вопросе перечить императрице и ее брату. Однако он заметил, что мальчику пора начинать учиться – Михаилу шел тогда шестой год, – и тут же предложил дать ему в учителя солунца Константина – по мнению Феоктиста, юношу рассудительного и благоразумного, способного переломить «дурное влияние» Клеопы на маленького императора.
Константин к тому времени уже второй год учился в столице: Лев, вернувшись на родину, не забыл об одаренном мальчике, замолвил за него слово перед августой и логофетом, и Феоктист вызвал юношу в Царствующий Город. Константин воспринял это как настоящее чудо. После отъезда Льва из Фессалоник он пребывал в унынии, поскольку спрашивать теперь было некого, а вопросов при изучении святителя Григория накапливалось всё больше… Константин со слезами молился Богу, чтобы Он даровал ему возможность учиться дальше, и посланца от логофета принял словно ангела. Прибыв в Константинополь, он с жадностью набросился на учебу и книги и стал ходить в училище, где преподавал Лев. Посещал он и ученый кружок, организованный протоасикритом: Фотий последовал совету Григория Асвесты и действительно стал устраивать у себя дома чтение и обсуждение разных книг, читал лекции по грамматике и стилистике, а также по философии, обсуждались там и богословские вопросы, особенно интересовавшие юного солунца. Константин делал поразительные успехи и спустя два года уже вполне мог обучать детей, но когда ему доверили маленького императора, он оробел и поначалу отказывался, однако Феодора, поговорив с юношей, не просто попросила, а приказала ему взяться за обучение своего сына – настолько Константин понравился ей.
Юноша был серьезен, рассудителен и тих, но умел и шутить, а его уроки захватывали и очень нравились Михаилу, и мальчик быстро полюбил своего учителя. За год Михаил прекрасно научился читать, и они с Константином разучивали гомеровские поэмы нараспев, с соблюдением размера. После каждого урока маленький император шел к Пульхерии и декламировал перед ней очередную порцию гексаметров, а девочка слушала его с искренним восторгом и аплодировала, иногда к ней присоединялись и старшие сестры. Брат поражал их своими актерскими способностями, читая стихи с потрясающим выражением и на разные голоса, в зависимости от говоривших героев, а порой, когда не видели строгие кувикуларии, очень смешно и похоже передразнивал дядек, теток и придворных. Михаил был горд тем, что становится «всё умнее и умнее», и порой читал стихи перед портретом отца, втайне надеясь, что «папа с неба услышит, как я хорошо читаю, и порадуется».
Да, в последний год с небольшим, благодаря учебе у Константина, мальчик чувствовал себя счастливее, чем когда бы то ни было. Но внезапно его счастье омрачилось – это произошло Великим постом, на праздник Торжества православия. Михаил слушал грозное пение «анафема, анафема, анафема» и «да будут прокляты» после возглашения имен еретиков и вдруг понял, что проклинаемые «Феодот, Антоний и Иоанн» это патриархи, бывшие в Церкви до Мефодия. Открытие потрясло его: «Значит, всё это время меня обманывали?!» После вопроса об Иоанне, заданного несколько лет назад на праздничном обеде, Михаил удовлетворился объяснением матери и логофета дрома: Феодора пояснила, что Иоанн покинул Город, потому что разошелся во мнениях с некоторыми людьми, в том числе с нынешним патриархом, а Феоктист сказал, что предшественник Мефодия не захотел больше управлять Церковью и удалился на покой, поскольку устал от всей этой суеты и давно мечтал остаться наедине со своими книгами и друзьями, поэтому даже обрадовался случившейся размолвке, чтобы достигнуть желаемого.
– Значит, друзья навещают его? – спросил маленький император.
– Да, конечно, – ответила Феодора.
– А мы когда пойдем к нему в гости?
Тогда он не понял, что мать растерялась, и поэтому на помощь ей опять пришел Феоктист:
– Мы, к сожалению, не можем ходить к Иоанну в гости, потому что он живет почти отшельником и принимает не всех, а только самых близких друзей и родственников. Так уж он сам решил, государь, и тут ничего не поделать. Но ты не огорчайся, ведь Иоанн о нас помнит и всегда молится о тебе и о всех нас!
«Он наврал!» – теперь Михаил понял это совершенно ясно. Иоанн удалился на покой не потому, что «устал от суеты», а потому, что его выгнали… И они ни разу не были у него в гостях не потому, что он принимал не всех, а потому, что его прокляли и ходить к нему в гости было «неприлично» и «недостойно императора», как внушали ему воспитатели, поучая, как себя вести…
Михаил не понимал, так ли уж плохо не чтить икон, но ему казалось, что всё-таки это не может быть настолько плохо, чтобы за это проклинать. «Может быть, эти патриархи сделали еще что-нибудь плохое… Но что?! Мне ничего не сказали… Почему мне ничего не сказали?! Почему Феоктист врал? Они что, думают, что я маленький и ничего не пойму?!..»
Хотелось то ли плакать, то ли драться.
Михаил, однако, проявил терпение, и за трапезой по окончании службы вел себя, как ни в чем не бывало, а зайдя к матери – она уже несколько дней лежала простуженная и не была на литургии, – ничего не спросил у нее. Только когда они с Вардой отправились на послеобеденную прогулку в парк, мальчик сказал:
– Дядя, сегодня на службе пели «анафему» Иоанну… Это ведь владыке Иоанну, который до Мефодия был?
Варда растерялся и не нашелся, что ответить, кроме правды:
– Да.
– За что же его прокляли? Что он такое сделал?
– Он… не поклонялся иконам.
– И всё?! Разве это так плохо, что за это нужно проклинать?
«О, Боже! – подумал Варда. – Цена, уплаченная нами за торжество иконопочитания, продолжает расти! О чем еще он будет спрашивать?.. И что ему отвечать?!»
– Иоанн неправильно учил о Боге, когда объяснял, почему Христа нельзя рисовать на иконах, – ответил он, – и ввел в заблуждение много людей.
Мальчик нахмурился.
– А Бог всех любит, – вдруг сказал он. – В Евангелии говорится, что Он светит на праведных и неправедных! Значит, Он всех любит?
– Да, всех.
– Значит, если даже Иоанн что-то неправильно делал, Бог его всё равно любит?
– В общем, да…
– Как же можно проклинать того, кого Бог любит?!
Этот вопрос привел Варду в полнейшую растерянность. Маленький император смотрел требовательно и строго, он ждал ответа, а его дядя не знал, что отвечать. «Интересно, что ответил бы на это Мефодий?» – подумал Варда.
– Понимаешь, Михаил, – наконец, проговорил он, – некоторых людей проклинают для того, чтобы другие не последовали за их неправильными учениями.
– А откуда мы знаем, что эти учения неправильные? Раньше, когда Иоанн был с нами, ты и тогда думал, что он учит неправильному? И Феоктист? И дед Мануил? А почему тогда Иоанну ничего не сказали?
Вопросы били по самым больным местам, и Варда даже вспотел, пока слушал племянника.
– Понимаешь, – сказал он, – раньше мы думали, как Иоанн, а потом…
– Передумали?
– Потом мы поняли, что думали неправильно. А Иоанн остался с прежними мыслями и потому уехал отсюда жить в своем доме на Босфоре. Переубедить его мы не смогли.
– А почему вы поняли, что думали неправильно? Кто это сказал? – упрямо продолжал спрашивать мальчик.
– Так решили на соборе в Церкви, там собралось много сведущих людей, епископов и священников, и монахов, они молились Богу и просили вразумления… И решили, что иконам нужно поклоняться, потому что это угодно Богу.
– Значит, Бог вразумил этот собор? А Иоанна Он почему не вразумил?
«Хотел бы я сам это знать!» – подумал Варда и ответил:
– Может быть, потому, что он не просил вразумления.
Михаил помолчал и угрюмо спросил:
– А почему Феоктист мне наврал? Он сказал, что Иоанн не принимает гостей и потому мы к нему не пойдем… Сказал, что Иоанн сам уехал из Города… Но ведь его выгнали, да?
– Не то, чтобы прямо выгнали… Просто ему поставили такие условия, которых он не принял, и тогда он вынужден был уехать. А Феоктист… Видишь ли, Михаил, ты ведь был еще маленький тогда, ты бы не понял того, что понимаешь теперь.
– Он мне наврал! – упрямо повторил император. – Мама не врала, а он наврал! – Михаил стиснул кулаки.
Варда присел на корточки и посмотрел в глаза племяннику.
– Михаил, послушай меня. Не говори сейчас с мамой об этом! Она огорчится, она и тогда огорчалась из-за того, что Иоанну пришлось уехать… И я огорчался, и Феоктист тоже, поверь! Просто у нас не было другого выхода… к сожалению. Нужно было восстановить в Церкви почитание икон, а Иоанн не хотел этого… Там и еще были разные обстоятельства, вот подрастешь, и я расскажу тебе, а сейчас ты не поймешь всего… Потерпи еще немного, хорошо? А с мамой не говори об этом, не огорчай ее, ладно?
– Ладно, – мальчик всё еще смотрел немного обиженно. – А Иоанну хорошо живется… там, где он живет?
– О, вполне! – Варда улыбнулся. – Думаю, не хуже, чем нам.
– А то, что его тут проклинают… Это ничего? Он не обижается?
– Нет! – патрикий совсем повеселел, вспомнив рассказ брата о посещении Граматика, когда тот еще жил в Клейдийской обители. – Ты вот у дяди Петроны спроси об этом, он навещал Иоанна однажды… по одному делу. Знаешь, был такой философ в древности, Сократ, и однажды его спросили об одном человеке, который его сильно ругал: «Разве этот человек тебя не задевает?» И Сократ ответил: «Конечно, нет. Ведь то, что он говорит, меня не касается».
Маленький император взглянул на дядю и вдруг звонко рассмеялся: он понял.
…В праздник Рождества Богородицы на литургию в Кассиину обитель пришла знатная женщина с маленькой дочкой. У женщины был вид обычной замужней матроны, но печальная тень на ее лице выдавала тайную скорбь. Девочка – лет семи, зеленоглазая, с рыжими вьющимися волосами – в будущем, как было ясно с первого взгляда, обещала необыкновенную красоту. Мать и дочь причастились Святых Таин, а по окончании службы женщина – звали ее Александра – подошла к игуменье и спросила, нельзя ли с ней немного побеседовать. Кассия пригласила ее разделить с сестрами трапезу, а потом повела к себе в келью. Девочка с любопытством разглядывала всё вокруг, даже под стол в трапезной заглянула, но в целом вела себя тихо, не задавала никаких вопросов ни матери, ни сестрам и рассматривала монахинь как будто даже с некоторой опаской. Сестра Ирина, прислуживавшая за трапезой, поставила перед ней небольшую тарелку с вареными овощами и рыбой и, обменявшись взглядом с игуменьей, сказала:
– Кушай, дочка. Как тебя звать?
– Евдокия.
– Отведай, Евдокия, монашеской пищи, – улыбнулась Ирина. – Наверное, еще ни разу не пробовала?
Девочка не ответила. К концу трапезы в ее тарелочке мало что убавилось. Александра заворчала на нее и стала извиняться перед игуменьей, но Кассия с улыбкой сказала, что это пустяки и Евдокия, быть может, просто не очень голодна.
В келье у игуменьи Александра внезапно расплакалась и рассказала, что почти семь лет назад император приказал постричь ее мужа в монахи:
– Какая-то прорицательница, агарянка из пленных – будь она неладна! – сказала, будто «Ингер будет царствовать». Об этой болтовне сразу донесли во дворец, агарянку допросили, и она снова то же сказала – что Мартинакии, мол, воцарятся… А Ингер Мартинакий это мой муж! Он тогда при дворе служил, и успешно очень… А наследник тогда только родился, и государь, конечно, беспокоился о будущем… Он ведь уж тогда болен был, видно, думал, как без него будут государыня с сыном… В общем, мужа моего под стражу и… – Александра всхлипнула, – увели в Сергие-Вахов и постригли! И сразу на Принкипо! Домой только попрощаться привели… А меня с детьми выселили в Хрисополь! С тремя детьми я осталась, двое своих и пасынок… Господи!.. Правда, государь нас не обидел – повелел выплачивать пособие… Но что деньги, когда дети без отца? И вот, уже семь лет почти, семь лет! Муж-то смирился давно, подвижничает там, на острове… Мы с детьми к нему ездим иногда… Он нам письма пишет, да всё теперь о божественном… А я… всё плачу да ропщу, плачу да ропщу! Ведь как мальчиков без отца-то выращивать? И вот доченька еще, – она прижала к себе Евдокию, которая слушала материнские причитания, надув губы и исподлобья разглядывая игуменскую келью. – Не могу, ропщу! За что?!..
– Да, это тяжело, – сказала Кассия. – Но раз Господь попустил такое, то надо верить, что Он Сам вас и защитит. Иногда со всеми случаются такие испытания, которые кажутся невыносимыми… Невыносимее всего даже не само искушение, а то, что оно не отпускает и неизвестно, пройдет ли оно когда-нибудь, будет ли лучше…
– Да-да, матушка! – закивала Александра. – Это вот самое невыносимое и есть, что живешь и думаешь: вот так оно всё и будет, мужа-то не вернешь, отца детям не найдешь, будто вдовой стала, и ничего не изменишь… А ну, как и со мной что случится – и что тогда с детьми будет? Я, когда об этом думаю, просто вся дрожать начинаю!
– Мы малодушны, да, но Господь это знает и снисходит к нашей немощи. Бывает, Он испытывает нас, чтобы мы что-то поняли в жизни, а когда мы поймем, что нужно, жизнь меняется… Может быть, внешне и до самой смерти ничего не изменится, но внутренние изменения обязательно будут! Твой супруг для мира умер, и твое положение действительно как у вдовы, но ведь в Писании много раз говорится, что Бог – заступник вдов и сирот и в обиду их не даст. Нужно молиться и надеяться на помощь Божию, а роптать поменьше, – игуменья улыбнулась, – если уж совсем не роптать не получается. Вы ведь не нуждаетесь, госпожа?
– Не нуждаемся, но… – тут Александра немного смутилась и быстро продолжала: – Конечно, живем не то, чтобы роскошно, но всё нужное у нас есть… Да вот, нам государыня позволила теперь и в Город снова перебраться!
– Вот и хорошо, значит, Господь о вас печется.
– Да, матушка, но я всё время боюсь, что одна не смогу воспитать детей, как до́лжно… Константин-то, пасынок мой, слава Богу, послушный растет, разумный, никогда слова поперек не скажет, ни одного занятия в школе не пропустит, в церковь на все службы со мной ходит… А вот мой-то, Мартин, уж такой непоседа, иной раз не справиться… И ведь он маленький еще, девять годочков только, а что же дальше-то? Боязно мне… – Александра всхлипнула.
Тут Евдокия внезапно скорчила кислую рожицу и сказала:
– Да Конста всё притворяется! Мартин церковь больше любит, чем он!
– Евдокия! – воскликнула пораженная мать. – Ты что такое говоришь?! Мартина молиться не заставить, в храме вертится всё время… В последний раз так крутился, что и мне молиться не дал нисколько! – Александра обращалась к дочери, но Кассия понимала, что на самом деле она говорила это для нее. – То ли дело Конста… Как ты про него могла так – «притворяется»?!
Евдокия хотела что-то сказать, но, поймав на себе внимательный взгляд игуменьи, чуть нахмурилась и пробурчала:
– Никак! Я, мама, тоже притворяюсь.
– Вот еще, что это за выдумки! – Александра ласково потрепала дочь по голове и улыбнулась Кассии. – Я Мартина-то поначалу баловала слишком, знаю, мой грех… Первенец ведь! А теперь вот, начинаю пожинать терния, как говорится… Думаю часто: хорошо, Константин послушный такой, а то его шалости я не смогла бы так терпеть…
– Может быть, он это понимает, потому и слушается, – сказала Кассия.
Снова взглянув на девочку, она поняла по ее лицу, что угадала. Поняла она и другое: Евдокия сказала правду о «притворстве» Константина. «Хотя дети еще малы, а, пожалуй, тут уже дело далеко зашло, – подумала Кассия. – Но кто знает, вышло бы всё лучше, если б с ними был отец? Кого из сыновей он любил бы больше?.. Спрашивать при девочке о таком не годится… Да и что, в самом деле, я могу посоветовать? Скорее, что-нибудь полезное тут могли бы сказать Евфрасия с Акилой…»
Александра между тем задумалась, и на ее лице снова появилось плаксивое выражение.
– Вот я и боюсь, матушка, – почти жалобно проговорила она, – страх как боюсь, что одному любви не додам, другому строгости… Плохо воспитаю их, а потом с меня спросится!
– Конечно, опасаться этого надо, но в меру, – с улыбкой ответила игуменья. – Излишняя боязнь тоже вредна. И чаще всего она бывает от того, что мы слишком надеемся на свои силы. Но ведь мы сами по себе, без помощи от Бога, вообще ничего не можем делать, как надо – ни семейные, ни монахи, хоть бы у нас было море помощников. А если мы будем терпеть находящие скорби, молиться и стараться соблюдать заповеди, то Бог восполнит недостающее и вразумит, зачем с нами случилось то или другое.
Они неспешно беседовали, и Александра постепенно успокоилась, даже заметно просветлела лицом. Но Кассию не покидало ощущение, что, хотя она говорит разумные и правильные вещи, это совсем не те слова, в которых на самом деле нуждалась эта женщина, – и в то же время игуменья сознавала, что она не может сказать ей ничего, кроме общих ободряющих слов, потому что не знает, как на самом деле обстоят дела в ее семье. Это можно было бы узнать, поговорив со всеми детьми, посмотрев, как они живут, поняв, что делается у них внутри… Но этого, как было очевидно даже из краткого разговора с их матерью, не знала и сама Александра. Значит, если бы даже Кассия могла сказать ей то, что нужно, женщина вряд ли восприняла бы ее слова. А если б и восприняла? Неизвестно, принесло бы это большую пользу.
«Когда-то отец Феодор тоже говорил мне разные правильные вещи, а я соглашалась и старалась жить соответственно… И он был прав, и я… Но сколько всего еще должно было произойти, чтобы я по-настоящему что-то поняла! – подумала Кассия. – Не занимаюсь ли я сейчас пустословием? Вот и Евдокия уже заскучала…»
Девочка к концу беседы действительно заметно соскучилась. Игуменья смотрела на нее и думала, что только один раз в жизни прежде видела волосы такого прекрасного и вызывающего оттенка – огненно-рыжие, они словно окружали голову Евдокии сиянием: такого же цвета была шевелюра Анастасия Мартинакия, давшего ей пятнадцать ударов бичом и совет «поменьше подражать амазонкам»… «Да ведь и они Мартинакии! – внезапно сообразила Кассия. – Уж не родственники ли?.. Занятно!»
– Спаси тебя Господь, мать! – сказала, наконец, Александра, вставая и кланяясь игуменье в пояс. – Правду мне сказали о тебе, когда советовали пойти сюда, что ты умеешь ободрить и утешить… Храни тебя Бог, тебя и сестер, и обитель твою!
– Во славу Божию! – ответила Кассия.
– Даст Бог, матушка, как-нибудь еще зайду сюда… Хорошо у вас тут! – Александра повернулась к дочери. – Попрощайся с матушкой, Евдокия.
Девочка несколько мгновений молча глядела на игуменью, а потом сказала:
– А ты красивая!
– Евдокия! – с укором воскликнула Александра.
Кассия улыбнулась.
– Ты тоже будешь красивой, Евдокия, – сказала она. – Но не в этом главное.
– А в чем? – спросила девочка, бессознательно театральным жестом отводя со лба рыжую прядь.
– Это ты сама должна понять.
Евдокия долгим и серьезным взглядом посмотрела на Кассию и сказала:
– Хорошо, я попробую. А мы еще встретимся?
– Не знаю, – с улыбкой ответила игуменья. – Может, и встретимся.
Мать и дочь ушли, Кассия закрыла за ними дверь кельи и постояла немного в задумчивости. Неясное предчувствие говорило ей, что она еще услышит о рыжеволосой девочке с зелеными глазами. На память ей снова пришел Анастасий Мартинакий. «Что бы он сказал обо мне сейчас?» – вдруг подумала Кассия. Ей вспомнилось, как в юности она воображала себя амазонкой, сидя верхом на лошади и оглядывая окрестные поля с вершины холма, возле которого познакомилась с Акилой. Даже когда она уже избрала свой путь, ее представления о монашестве во многом были продолжением тех же детских мечтаний: манящее сияние подвигов, борьбы и славы… Много лет должно было пройти, прежде чем она поняла, что воображавшийся ей тогда «великий и светлый путь», исполненный непрестанной помощи Божией и чуть ли не каждодневных знамений и чудес – такой же миф, как легенды об амазонках. На деле дорога оказалась далеко не такой прямой, легкой и сияющей, но полной претыканий, блужданий в тумане, иногда шла и по краю пропасти, а помощь Божия наиболее явственным и чудесным образом приходила там, где иссякала всякая сила, всякая надежда на избавление – тогда, когда Кассия чувствовала себя не «амазонкой», а маленькой беспомощной девочкой, потерявшейся в лесу… И на пути к божественному свету, который дано было ей познать, она пережила столько всего, что свои детские представления о монашестве могла вспоминать теперь только с улыбкой – однако без грусти или досады: та восторженность была состоянием духовного младенчества и для «младенца разумом» была вполне естественна, даже нужна… Значило ли это, что Кассия давно перестала быть «амазонкой»? Пожалуй, да, но только в некотором смысле. В других отношениях она была ею всю жизнь – в противном случае она не смогла бы ни устоять перед Феофилом на смотринах, ни создать свою обитель, ни принять духовный совет от последнего ересиарха, ни продолжать дружбу со Львом после его ухода к иконоборцам, ни молиться за императора в то время, когда большинство ее единоверцев ждали его смерти…
«Всё-таки я так и осталась “амазонкой”!» – подумала Кассия и улыбнулась: она была уверена, что Мартинакий был бы этим доволен.
21. «Престол славы»
Никто не терпит того, чтобы быть побежденным в споре, пусть даже он знает, что истинно то, что он слышит.
(Амвросиаст)
После позорно провалившейся попытки обвинить патриарха в блуде противники Мефодия прикусили языки, тем более что отшельник Иоанникий всячески поддерживал святейшего и не только ободрил, когда тот посетил его на Антидиевой горе, но и всем, приходившим к нему, говорил, что противящиеся патриарху идут против Церкви и отлучают сами себя от божественной благодати. Теперь уже мало кто решался открыто критиковать какие-либо действия Мефодия и защищать студитов, по-прежнему живших в своих монастырях под гнетом анафемы. Некоторые из порицавших патриарха клириков и монахов покаялись и просили у него прощения. Выселять непокорных иноков из Студия и Саккудиона Мефодий не стал, сочтя, что так они, осужденные и отгороженные от всех, будут лишены возможности смущать остальных. К тому же логофет дрома дал понять, что разогнать Студийскую обитель патриарху не позволят в любом случае.
– Владыка, – сказал Феоктист, – ты, кажется, забыл, как окончили жизнь те императоры, которые устраивали гонения на Саккудион и Студий, – Константин, Никифор, а потом и Лев. Я не особенно суеверен, но всё же иные уроки, подаваемые нам божественным промыслом, слишком очевидны, чтобы забывать о них. Государь Феофил поручил мне заботиться о том, чтобы царствование его супруги и сына было спокойным и долгим, и я постараюсь приложить все усилия для этого. Я знаю, кое-кто из твоих единомышленников готов даже разогнать обе эти обители, но не думай, что мы это допустим! С тех пор как ты занял кафедру, святейший, ты делал в Церкви всё, что хотел. Тебе уступлено много – может быть, слишком много. И я бы советовал тебе не ждать чего-то большего!
– О, я вовсе не собираюсь закрывать эти монастыри, господин, и ничего у вас более не прошу, – ответил патриарх. – Сделанного вполне достаточно.
Вокруг Мефодия образовалось что-то вроде кружка «книжников». Монахи Свято-Феодоровского монастыря, где скончался святитель Никифор, передали его личную библиотеку в дар патриарху. Там были святоотеческие книги, философские трактаты и хроники, сочинения самого патриарха-исповедника и еще несколько произведений, написанных в недавнее время, в том числе «Хронография», составленная игуменом Великого Поля, и житие игумена Мидикийского Никиты, написанное его учеником Феостириктом, – и теперь Мефодий вознамерился пополнить это собрание новыми сочинениями, прежде всего житиями исповедников времен иконоборческой ереси и похвальными словами в честь их подвигов.
Когда из Самарры в Константинополь дошла весть о кончине сорока двух аморийских пленников, патриарх сразу же объявил, что они умерли как мученики и достойны церковного почитания. Константин Вавуцик в ночь перед их мученичеством продиктовал нотарию Константину письмо, где вкратце описал их жизнь в плену, а в конце говорил: «Написал же я это для того, чтобы все наши родные и братия знали и не сомневались, что мы умерли христианами и за Христа. Да будет с нами святая Его воля!» Агаряне согласились переправить это послание на родину страдальцев. Константинопольцы были потрясены происшедшим, особенно много слез пролилось во дворце. Впрочем, все утешали Софию, говоря, что ее супруг стал святым мучеником и, конечно, не оставит ни ее, ни детей без помощи.
Патриарх написал стихиру в честь новых святых и поручил диакону Игнатию написать им канон. Игнатий после торжества православия оставил преподавание в школе при храме Сорока мучеников и удалился в Пикридиев монастырь. Но спустя полгода патриарх вызвал его в столицу: поскольку Игнатий раскаялся в своем общении с иконоборцами еще в царствование императора Михаила и с тех пор не служил, а жил как простой монах, Мефодий счел возможным даровать ему прощение, как некогда было прощено падение Мидикийского игумена. Игнатий был принят в сане диакона, который имел до начала иконоборчества, а еще спустя год патриарх сделал его скевофилаксом Великой церкви.
«Прекрасно, как река из Эдема, устремившиеся, град Божий вашими кровями веселите, мученики, нечестия скверну благочестно очистивши», – писал диакон. – «Исмаил пребезумный, мнивший убедить богомудрых отречься от Христа, посрамился, ибо те, умирая, благочестно взывали: “Благословен Ты, отцов наших Боже!”».
В своем слове в честь Аморийских мучеников Мефодий сказал, что они, если и согрешили против истинной веры, все свои заблуждения очистили последующими мучениями, и с этим никто спорить не дерзнул. Вскоре получил широкую известность рассказ о чуде с телами страдальцев: на другой день после казни халиф повелел бросить их в Евфрат, а еще через день их всех нашли рядом на противоположном берегу, причем, как говорили, голова каждого из сорока двух мучеников лежала рядом с его телом.
Игнатий взялся и за составление житий патриархов Тарасия и Никифора, а один из насельников Хорского монастыря, по имени Георгий, попросил у патриарха благословения написать хронику «от Адамовых времен до падения последней и злейшей ереси иконосжигателей». Мефодий благословил монаха и предоставил ему разные источники из патриаршей и своей собственной библиотек, но ознакомившись спустя полгода с первыми плодами его сочинительства, понял, что Бог несомненно обделил новоявленного хрониста писательским талантом: Георгий переписывал источники, зачастую довольно неумело соединяя между собой куски, а когда брался за перо сам, на пергаменте появлялись фразы, достойные разве что школьных упражнений… Мефодий даже подумывал положить конец этой писанине, но потом махнул рукой: «В конце концов, может быть, этот его опус будет понятней для простого народа, чем сочинение отца Феофана», – подумал он, и «грешный Георгий», как назвал себя монах в заглавии своего сочинения, продолжал усердно «трудиться во славу Божию»…
Но Мефодию не суждено было насладиться покоем и книжными занятиями. Новый всплеск недовольства вызвало дело архиепископа Сиракузского. Григорий поступил опрометчиво, рукоположив священника Захарию в епископа Тавроменийского. Захария был послан патриархом с письмом к Римскому папе и задержался там, а на обратном пути, узнав, что на Сицилии наконец-то появился православный предстоятель, заехал на остров познакомиться с Григорием. Асвеста привел его в восторг; архиепископу, в свою очередь, понравился Захария, и Григорий спросил патриарха в письме, может ли он рукоположить иеромонаха на одну из сицилийских кафедр – нехватка духовенства была самой значительной из трудностей, ожидавших Асвесту на острове. Поначалу Григорию приходилось самому объезжать все окрестные города и селения, изгонять иконоборцев, утверждать иконопочитание, рукополагать православных клириков. Помимо того, что это отнимало много времени и сил, такие поездки были весьма опасны, поскольку по острову бродили арабы, то и дело появляясь и возле Сиракуз.
Военные дела на Сицилии вообще в последние годы шли неудачно, и восстановление иконопочитания ни к каким успехам в деле борьбы с варварами здесь не привело. Правда, вслед за неудачным походом Феоктиста и Варды в Каппадокию императрице удалось заключить мир с Васиком, который тоже не был расположен к военным действиям, поскольку халифат после смерти Мутасима раздирали внутренние смуты. Вскоре после гибели в Самарре сорока двух мучеников начались переговоры об обмене пленными. Он состоялся в сентябре на реке Ламис: было решено менять человека на человека, а поскольку пленных арабов оказалось больше, чем ромеев, Васик приказал для обмена выкупить проданных в рабство греков в Багдаде и Ракке и даже вывел из своего дворца греческих пленниц. Перемирие на востоке развязало ромеям руки для действий на западе, но сицилийская война продолжала идти столь же неудачно, как и при Феофиле: арабы захватили Мессину и крепость Модику, а ромейское войско из Харсианской фемы, посланное на остров, потерпело поражение и не смогло совершить ничего сколько-нибудь значительного.
В таких обстоятельствах требовалось больше епископов для окормления православных на Сицилии, поскольку передвижение по острову в связи с военными действиями всё более затруднялось, а христиане унывали, видя победы иноверных. Получив согласие патриарха на рукоположение Захарии, Асвеста поставил его епископом в Тавромению, но неожиданно против нового иерарха восстали сами тавроменийцы: большинство из них хотели видеть своим предстоятелем игумена одного из тамошних монастырей, а Захария, как «чужак», не вызывал у них доверия. Впрочем, часть паствы, из уважения к Сиракузскому архиепископу, приняла Захарию, но его противники не хотели с этим смириться и отправили в Константинополь посланцев с жалобой на Асвесту, что тот не посчитался с их мнением при выборе ставленника и даже не потрудился узнать это мнение; некоторые предполагали, что Захария подкупил архиепископа. Патриарху не хотелось поднимать это дело, тем более что он знал Захарию как человека высокой жизни и деятельного, и он попытался успокоить возмущенных тавроменийских клириков. Ему это почти удалось, но, к несчастью, слух о «преступлении» Григория быстро распространился по столице, а недоброжелатели и завистники Асвесты постарались его раздуть как можно сильнее: говорили, что Сиракузский архиепископ самовольничает, рукополагает архиереев без одобрения своих собратий и паствы, он обманным путем улучил согласие патриарха на рукоположение Захарии, запятнал себя симонией… Мефодий был вынужден устроить соборное разбирательство и вызвал Григория в Константинополь.
На соборе Асвеста без обиняков разъяснил причины своего проступка и повинился в том, что действительно поторопился с рукоположением Захарии: тот казался настолько пригодным для епископского служения и таким приятным в общении, что архиепископу не пришла в голову мысль о возможном недовольстве тавроменийцев. В завершение своей речи Григорий выразил готовность понести епитимию, какую будет угодно назначить собору. Хотя речь его была краткой, к ее концу симпатии большинства собравшихся были на стороне молодого иерарха. Григорий обладал удивительной привлекательностью: уверенность в себе, но без высокомерия, ум и глубокая образованность, ясно отражавшиеся в речах, прекрасные ораторские способности, аскетизм, никому не позволявший упрекнуть Асвесту в чем-нибудь предосудительном и недостойном монаха, сдержанность, сквозь которую, как огонь через матовое стекло, проступали горячность нрава и ревность о вере, внутреннее смирение, сочетавшееся с природным аристократизмом и утонченностью, – всё это вместе с его внешностью создавало вокруг архиепископа словно магнитное поле, и очень многие, сталкиваясь с Григорием, быстро подпадали под обаяние его личности. Зато те, на кого его магнетизм не действовал, напротив, проникались к Асвесте более или менее сильной неприязнью; несколько таких людей было и среди собравшихся разбирать его дело епископов. Они настаивали на том, чтобы в наказание удалить Григория с Сиракузской кафедры и отправить на покой в монастырь, причем вспомнили и то обстоятельство, что он был рукоположен в епископа раньше указанного в канонах возраста – и вот, как и следовало ожидать, «не справился»… Это было уже косвенное обвинение в адрес патриарха, но Мефодий, выступив, положил конец прениям.
– Братия, – сказал он, – мы уже выслушали объяснения владыки Григория; полагаю, они вполне удовлетворительны, и его проступок заслуживает снисхождения. В любом случае предложение удалить его с кафедры мне представляется совершенно неразумным. Вы все хорошо знаете, что мы обязаны владыке восстановлением православия на Сицилии, и уже одно это должно побудить нас простить его и позволить вернуться к своему служению. Когда нечестивый Феодор Крифина противился постановлениям нашего священного собора и продолжал отвергать святые образа, не находилось никого, кто вызвался бы порадеть о сицилийских христианах. Никто из вас не предложил мне выхода из трудного положения, когда я искал, кого бы поставить на Сиракузскую кафедру. Поэтому, чем порицать владыку Григория за его молодость, не лучше ли задуматься о том, что в таких молодых годах он сделал больше иных зрелых мужей? Кроме того, позволю себе напомнить случай из жизни преподобного и богоносного отца нашего Феодора Сикеонского: он был рукоположен в священника в возрасте восемнадцати лет, и рукоположивший его епископ в ответ на порицания говорил, что великий апостол Павел удостоил святого Тимофея епископства, несмотря на его молодость, поскольку надо обращать внимание, прежде всего, не на возраст, а на душевное благородство. Итак, я призываю всех вас, братия, «не судить по наружности, но судить судом праведным», как заповедал нам Господь!
Таким образом, дело Асвесты было закрыто, и Григорий вернулся в Сиракузы. Его огорчало лишь то, что он снова был вынужден расстаться с патриархом, которого полюбил, как второго отца. Впрочем, они с Мефодием постоянно переписывались – архиепископ обращался к нему за советами, как относительно пастырской деятельности, так и по поводу собственной духовной жизни. Но после отъезда Григория толки о нем и о «покрывавшем» его патриархе продолжали ходить по Городу и окрестностям. Особенно возмущались противники «иностранцев», а некоторые порицали Асвесту за то, что он «слишком мудр, только не мудростью божественной». Последних раздражали проповеди молодого архиепископа, слышанные константинопольцами за те полтора месяца, что он провел здесь. Кое-кому казалось, что он нарочито превозносится своей образованностью, слишком уж выставляя ее напоказ: Григорий с легкостью перемежал свою речь как цитатами из Писания и выдержками из творений отцов Церкви, так и аллюзиями на эллинские мифы, и случаями из жизни древних философов – сиракузцы недаром сравнивали архиепископа с Григорием Богословом. Сочувствующие студитам тоже недолюбливали Асвесту: он не присутствовал на соборе, где было решено анафематствовать сочинения преподобного Феодора против патриархов-исповедников, но прислал письмо – пламенную речь в защиту решения Мефодия, и впоследствии патриарх использовал ее для убеждения сомневающихся и даже своих противников. Хотя в Константинополе в последнее время недовольные опасались открыто выражать свое мнение, однако на Принцевых островах монахи вели себя смелее: за годы, когда на Принкипо было погребено тело великого игумена, почти весь архипелаг наполнился его ревностными почитателями, и островные монастыри, как мужские, так и женские, были чрезвычайно поражены и возмущены действиями патриарха после перенесения мощей святого Феодора: никто не хотел понимать, какие соображения двигали Мефодием, почти все воспринимали его прещения против учеников прославленного Студита как оскорбление верующих и даже самого Бога…
Центром этого недовольства – впрочем, не доходившего до разрыва общения с патриархом – был монастырь на острове Теривинф, созданный младшим сыном императора Михаила Рангаве Никитой, получившим в постриге имя Игнатий. Сначала он жил вместе с отцом и братом на острове Плати и к концу царствования императора Льва стяжал известность среди местных монахов своими иноческими подвигами. Михаил, постригшись, безвыездно прожил на Плати тридцать с лишним лет и умер спустя десять месяцев после торжества православия, найдя на маленьком пустынном островке последнее пристанище; только памятная надпись на скромной надгробной плите над могилой монаха Афанасия сообщала, что там лежит бывший император ромеев. Старший сын императора тоже не покидал Плати, но младший стремился к деятельности более обширной: вскоре после воцарения Феофила он основал на острове собственный монастырь, затем второй на Иатре и, наконец, третий на Теривинфе, где и стал игуменом. Игнатий и его монахи всегда чтили иконы и не поминали иконоборческих патриархов, но в открытую борьбу с ересью не вступали, довольствуясь проповедью среди местных жителей и тех, кто сам приходил к ним за советом, поэтому Игнатий избежал преследований и за тридцать лет, протекших от воцарения Льва до торжества православия, почти не покидал монастырских стен. Отчасти его спасло от гонений то, что все монастыри, где он подвизался, находились на малых островах архипелага и их нечасто посещали. Игнатий попал в монашеское окружение четырнадцатилетним ребенком, не получив достаточного образования, а дальнейшее его обучение состояло в чтении псалмов, Священного Писания и аскетических сочинений. Это, однако, нисколько не смущало его, ведь мирская образованность не входила в число добродетелей, прославлявшихся в прочитанных им духовных книгах, а слухи об «эллинствующих» начальниках ереси Антонии и особенно Иоанне не способствовали появлению симпатии к знаниям такого рода. После торжества православия Игнатий стал нередко бывать в Константинополе, и патриарх, видя его простоту и прямолинейность, общался с ним тоже просто и прямо, поэтому игумен симпатизировал Мефодию – по крайней мере, до начала раскола со студитами. Но проповеди Асвесты, которые игумену довелось услышать еще до рукоположения италийца в епископы, когда Григорий был священником и числился в патриаршем клире, вызвали у Игнатия острое раздражение. Было ли это следствием загнанной много лет назад глубоко внутрь горечи от сознания, что устроенный Львом Армянином переворот положил конец только начинавшейся жизни юного Никиты, который мог бы при других обстоятельствах пройти свой путь совсем иначе? Или, быть может, следствием понимания того, что Игнатий никогда не сможет говорить так, как Асвеста, потому что поворот судьбы лишил его возможности получить образование, тогда как Григорий являл собой разительный пример умения совмещать благочестие с той внешней мудростью, чьи дары обошли Теревинфского игумена стороной?.. Как бы то ни было, Игнатий невзлюбил Сиракузского архиепископа и считал его просто «баловнем судьбы», плывшим на волне патриаршего благоволения. Впрочем, теперь и сам патриарх вызывал у игумена больше раздражения, чем почтения. Правда, Игнатий молился, чтобы Бог вразумил Мефодия и чтобы уничтожились несправедливые прещения, постигшие студийскую братию, но ему поневоле думалось, что всё случившееся может исправить только одно – смерть патриарха…
Между тем патриарх, как бы спокойно и жестко он ни проводил внешне в церковную жизнь свою линию, внутренне не всегда ощущал ту уверенность, что в годы страданий за веру давала ему силы переносить все лишения. Всё чаще он чувствовал в душе усталость и его посещали сомнения, не перегнул ли он палку: ведь, несмотря на прещения, студиты так и не сдались, а многие православные скрытно или явно поддерживали их или сочувствовали им. Патриарху было известно, что игумены Навкратий и Афанасий, оба бывшие уже в очень преклонных летах, изъявили готовность умереть под анафемой и не боялись этого, а некоторые из студийских братий уже покинули земную жизнь, так и не сделав шага к «примирению с Церковью». Конечно, всё это можно было объяснить «злостным упрямством схизматиков», но…
Шел четвертый год патриаршества Мефодия, и «престол славы», о котором когда-то пророчил ему Сардский архиепископ, всё чаще давил на патриарха тяжелым бременем. Да, победа в войне с ересью оказалась бо́льшим испытанием, чем сама война, – но когда Мефодий говорил об этом Никейскому митрополиту, он еще сам не осознал сполна правоты своих слов…
Тем временем прежние соратники по борьбе один за другим покидали поприще жизни. Симеон умер на Лесбосе вскоре после того, как прибыл туда из столицы. Феофан Начертанный скончался спустя два с половиной года после торжества православия и был похоронен, с позволения патриарха, в Хорской обители рядом с покоившимся там святителем Германом – «исповедник рядом с исповедником», как сказал Мефодий, лично совершив погребение митрополита. Синкелл Михаил не намного пережил своего ученика. Проведя, по своему обычаю, весь Рождественский пост в безмолвии и молитве, накануне праздника старец получил откровение о своей скорой кончине и сообщил об этом патриарху. Мефодий просил Михаила пребыть с ним до смерти, и синкелл, не желая проявлять непослушания, действительно провел у патриарха пять дней, побывав также во дворце и благословив августу, маленького императора и его сестер.
– Благоденствуйте, владыки земные, – сказал им синкелл, – и не забывайте Владыку небесного, Господа Иисуса Христа, оберегайте Церковь Его от всякой ереси и не отвергайте Его икон. И вот, говорю вам, веруя во Христа моего и Бога, что со всеми святыми вы удостоитесь царствия небесного, вместе со святыми Константином, Феодосием и Елизвоем, христианнейшими, православными и божественными владыками, потому что вы вернули невесте Божией, апостольской Церкви, ее иконную красоту!
Синкелл, однако, не остался с патриархом до конца, но всё-таки попросил отпустить его умереть в своем монастыре и, проведя еще пять дней в молитвах, простился со всей хорской братией и скончался с молитвой: «В руки Твои предаю дух мой». Патриарх сам отпел его, и исповедника погребли в монастыре рядом с его учеником-песнописцем. «Удалось ли нам воспитать новое поколение, которое сможет защитить и закрепить то, что мы выиграли в борьбе? – думалось Мефодию. – Справится ли оно, когда мы все уйдем?..» В таких, как Сиракузский архиепископ, патриарх мог быть уверен – но много ли их было?..
Хотя Мефодий никому не жаловался на печаль и раздумья, донимавшие его в последнее время, поддержка вскоре пришла к нему от старого друга и наставника: в конце октября патриарх неожиданно получил письмо от отшельника Иоанникия. «Я, владыка, – писал старец, – никогда не дерзал просить тебя придти ко мне, недостойнейшему, но это было твоим благим делом, когда Всесвятой Дух побуждал тебя посетить нас и увещевать к добродетели поощрительными речами. Ныне же, одолеваемый великой нуждой, подвигаемый от Бога, я сам возжелал написать святому моему владыке придти к нам, грубейшим, чтобы принять твои молитвы и отойти в мире». Сначала это письмо опечалило патриарха: еще один сподвижник готовился перейти в мир иной, причем человек, лучше других знавший все трудности и скорби Мефодия и способный его утешить. Но когда патриарх прибыл на назначенную встречу в Агаврскую обитель, он нашел там собранными множество клириков, монахов и даже некоторых епископов. Оказалось, что Иоанникий пригласил их, и теперь все, переглядываясь, гадали, какие чрезвычайные обстоятельства могли подвигнуть отшельника на подобные действия. Старец спустился к ним, и всем сразу стало понятно, что он вот-вот покинет земную жизнь – в его облике было что-то нездешнее: слишком сухой, слишком седой, с кожей, похожей на папирус; слишком костлявы были пальцы, сжимавшие палку, на которую он опирался, но не тяжело, потому что в нем словно уже не было веса… Поприветствовав всех и приняв благословение от патриарха, Иоанникий еще раз обвел взглядом пришедших и сказал:
– Я собрал всех вас, отцы и братия, потому что готовлюсь уже покинуть этот мир и, зная о нападках и хулах еретиков и схизматиков на нашего святейшего патриарха, скорблю сердцем и печалюсь о том, что нечестивые и самолюбивые люди сеют плевелы в Церкви, соблазняют верующих во Христа и причиняют скорби нашему влыдыке. И хотя, по слову Господа, суд их будет столь страшным, что лучше б им было утонуть с жерновом на шее, ни они сами не страшатся возвещенных прещений, ни те, кто склонен сочувствовать им в их дерзких деяниях. И потому сегодня, перед лицом владыки Мефодия я, недостойный, дерзаю обратить к вам мое смиренное слово. Послушайте, все вы, пришедшие в эту пустыню, и возвестите услышанное в городах и селениях! Отцы наши учили не иметь никакого общения ни с еретиками, ни с раскольниками, и я, недостойный, ничтожный и неученый, ныне говорю вам: удаляйтесь и от нечестивых еретиков, и от гнуснейших студитов, от сущих с ними Катасаввского игумена и изгнанных от предстоятельства в Никомидии и Кизике, изрекших много пустой болтовни против нашего патриарха и не имеющих страха Божия, потому что они дерзнули пойти против Божией Церкви. Они, злосчастные, не вострепетали, восстав против святых отцов и патриархов, учинив соблазн в Церкви, сыны лукавого и плевелы. И если кто не принимает Мефодия патриарха, как великого Василия, богоглаголивого Григория и божественного Златоуста, анафема да будет! И если кто разрывает общение с ним, тот будет отторгнут от Божией славы в день суда! Ибо наш богоносный патриарх Мефодий должен считаться началом, корнем и основанием православной веры, потому что он изгнал из Церкви все направления заблуждений и богомерзкую иконоборную ересь. Потому-то даже до нынешнего дня поносят его те, кто покровительствует еретикам и разделяет Тело Христово. И те, которые говорят, что не согласны с еретиками, но учиняют расколы, тоже бесстыдно противятся православным, сами желая господствовать над наследием Божиим. Вы же, чада, отделенные от иконоборцев, и от раскольников удаляйтесь, ибо они бесчеловечно рассекают на многие части Христово тело – святую Его Церковь! Кто сообщается с еретиками и раскольниками, тот не имеет общения со Христом! Кто злословит владыку Мефодия, будет отсечен от Церкви! Кто не считает его в ряду патриархов со святыми Германом, Тарасием и Никифором, тот отпадет от их заступничества! – и, обратившись к патриарху, старец возгласил: – Кто восстает против тебя, святейший, тот восстает против Бога и против своего спасения. Ты же, владыка, переноси обиды великодушно. Моя жизнь в этом бренном теле окончена, а скоро и ты последуешь за мной. Помни же, что «претерпевший до конца спасен будет»!
Мефодий был потрясен и растроган. Все пришедшие к Иоанникию наперебой устремились взять благословение у патриарха и выразить ему свою поддержку, почтение и любовь. Потом, когда все разошлись, старец еще долго наедине беседовал с Мефодием, всячески ободряя его и увещевая не впадать в малодушие от поношений и озлоблений.
– Не унывай, владыка! – говорил он. – Враг, видя, что ты уже близок к концу поприща, пытается смутить тебя: наводит скорби через людей, гнетет и сам унынием и печалью. Но «не неразумеем козней его»! Всегда я, грешный, молился о тебе, чтоб Господь укрепил тебя, а теперь отхожу и прошу тебя, святейший: молись обо мне, недостойном, чтобы неосужденно предстать пред Богом! – и, видя, что в глазах патриарха заблестели слезы, продолжал: – Не скорби о моем исходе, владыка, ибо я уповаю, что милостивый Господь сподобит нас с тобой свидания в небесном царствии!
Иоанникий умер спустя три дня после этой встречи, 4 ноября, и был погребен в Антидиевом монастыре. Когда патриарх узнал об этом из письма от тамошнего игумена Иосифа, он перекрестился и прошептал:
– Поминай меня, грешного, отче, пред Богом, чтобы мне сподобиться встречи с тобой и со всеми исповедниками во царствии Его!
…На Введение во храм Пресвятой Богородицы Кассия с Анной побывали в гостях в Клувийской обители, где в этот день был престольный праздник: их пригласила игуменья Евфросина, с которой Кассия изредка переписывалась еще со времени кончины стратига Феодота, свекра Евфрасии. Евфросине шел уже седьмой десяток лет, в последний год она сильно страдала от болезни желудка и, готовясь переселиться в мир иной, хотела проститься с Кассией. После литургии и трапезы обе игуменьи удалились в кельи Евфросины, а Анна пошла взглянуть на монастырскую библиотеку и вообще осмотреть обитель, где была впервые.
– Оглядываясь на свою жизнь, – сказала Евфросина Кассии, – я могу только благодарить Бога за всё: Он сподобил меня послужить Ему в ангельском образе, сохранить православную веру в годы гонений, знать таких великих подвижников как святые Феодор и Иоанникий, дожить и до торжества православия… Только одно меня печалит теперь, при исходе – что ученики великого Феодора оказались так неразумны, восстали против святых патриархов и отпали от Церкви. Всё-таки насколько враг хитер: запинает даже великих исповедников и подвижников, даже в глубокой старости… Могла ли я думать, что отец Навкратий попадет под анафему!
– Думаю, этого и никто не мог предполагать, – вздохнула Кассия. – Но я вовсе не считаю отца Навкратия неразумным. Надеюсь, что Господь еще поможет ему и его братии и восстановит справедливость!
Евфросина удивленно посмотрела на свою гостью.
– Ты считаешь, мать, что студиты поступили правильно, воспротивившись указам святейшего?
– Конечно. Патриарх потребовал от них невозможного! Если б он еще просто приказал уничтожить писания святого Феодора против двух святителей, это можно было бы исполнить, но ведь он сделал это потому, что отец Феодор якобы ошибался, когда отделялся от патриархов из-за дела эконома Иосифа, а патриархи были правы. Этого не только студийская братия, но и многие другие никогда не призна́ют, и я тоже. Но я надеюсь, что Бог вразумит владыку Мефодия… или прекратит эту смуту каким-нибудь другим путем, – совсем тихо докончила Кассия.
– Вот не ожидала от тебя таких речей, мать, – проговорила Евфросина. – А ты знаешь, что великий Иоанникий перед смертью публично предал анафеме студитов за противление святейшему?
Кассия чуть заметно нахмурилась.
– Отец Иоанникий слишком много на себя взял, – сказала она. – Кто вообще дал ему право анафематствовать кого бы то ни было, да еще от лица Божия? – Кассия помолчала и, не выдержав, добавила: – Я уж не говорю о том, что он почти всю жизнь просидел на горе, в мире и покое, а теперь дерзнул проклясть подвижников, претерпевших бичевания, тюрьмы и ссылки за образ Христов!
– То есть… – ошарашено проговорила Евфросина. – Ты что, матушка, не признаёшь его святости и того, что в нем говорил Дух Божий?!
– Я не знаю, какой дух в нем говорил, – в голосе Кассии появилась жесткость, – и даже не хочу этого знать. Святейший сказал, будто преподобный Феодор отрекся от своих взглядов на дело эконома Иосифа, когда примирился со святителем Никифором, но это неправда! Хорошо еще, если владыка Мефодий, говоря так, просто ошибается и не знает истины, в противном случае вышло бы, что он сознательно оболгал святого… Разве ты, мать, сама не знаешь, что отец Феодор от своих взглядов никогда не отрекался?
Евфросина чуть помолчала.
– Знаю, – ответила она тихо. – Может, владыка Мефодий и ошибся в этом случае… Но ведь сейчас дело не в святом Феодоре, а в его преемниках! Что стоило отцам Навкратию и Афанасию сжечь эти несчастные трактаты? В конце концов святейший не заставлял их исповедовать во всеуслышание, что преподобный Феодор ошибался в вопросе о прелюбодейном браке… Почему бы им не явить снисхождение в этом споре, чтобы лишний раз не разделять Церковь? Но они не захотели… И вот, опять смута! Всё же мне кажется, тут дело не столько в почтении к памяти отца Феодора, сколько в самолюбии… Потому, думаю, отец Иоанникий и объявил их действия пагубной схизмой. Ты говоришь, что не знаешь, какой в нем дух глаголет, но разве в этом можно сомневаться? Отец Иоанникий был чудотворцем и прозорливцем, и на его могиле уже совершаются чудеса!
– И что это доказывает? – возразила Кассия с горячностью. – Сам Господь предрек: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не Твоим ли именем мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, творящие беззаконие». Ты, матушка, помнишь, как Златоуст толкует это место?
– Нет.
– Он говорит, что это сказано о тех, которые при жизни мнят себя друзьями Божиими, но на суде узна́ют, что Господь «даровал им благодать не как друзьям». И что ничего нет удивительного, если Бог дает дары благодати людям, верившим в Него, но не имевшим жизни, согласной с верой – ведь «Он действует и в тех, кто не имел ни той, ни другой»: например, Бог ради спасения других людей открыл будущее Валааму и фараону, хотя у них не было ни истинной веры, ни добродетелей. Вот цена чудес и прозорливости самих по себе! Кстати, небезызвестный тебе господин Лев, бывший иконоборческий архиепископ Солунский, тоже прославился среди своей паствы несколькими чудотворениями, и я доподлинно знаю, что рассказы об этом верны.
Ефвросина некоторое время молча смотрела на Кассию и, наконец, сказала печально и немного усмешливо:
– Умна ты слишком, мать. Тебя послушать, так господин Иоанникий и вовсе не свят! Только, знаешь, здесь я с тобой никогда не соглашусь – так же как и сотни людей, приходивших к нему и получавших исцеление души и тела. Даже сам владыка Мефодий посещал его!.. Я чтила отца Феодора и получила от него много полезных советов, но и от отца Иоанникия я получила верное предсказание и несколько наставлений, которые мне очень пригодились. Я считаю, что они оба святы! А что до отца Навкратия… Он, конечно, великий исповедник, но разве он не мог ошибиться, как человек?
– Разумеется, мог. Но точно так же мог ошибиться и отец Иоанникий, когда проклинал студитов. Я не знаю, свят он или не свят, и не буду говорить об этом. Речь сейчас о том, что он анафематствовал отцов Навкратия, Николая и других братий. Так вот, я считаю, что это совсем не святое деяние, и никто не убедит меня в обратном, – Кассия чуть помолчала. – Мне, право, совсем не хочется ссориться с тобой, матушка. Будущее покажет, кто был прав, а кто ошибался.
– Да будет воля Божия! – проговорила Евфросина. – Надеюсь, что на небесах… все эти противоречия и непонимание… как-то разрешатся…
– Да, только на это, кажется, нам и осталось теперь надеяться, – вздохнула Кассия.
22. До дома Божия
(Янка Дягилева)
- Нелепая гармония пустого шара
- Заполнит промежутки мертвой водой,
- Через заснеженные комнаты и дым
- Протянет палец и покажет нам на двери,
- Отсюда – домой…
Ободренный Олимпским подвижником, патриарх более не сомневался в избранном пути: смирятся или не смирятся студиты и их сторонники, уступать им он не собирался ни на йоту. Ради еще большего прославления памяти святителя Никифора, Мефодий решил давно задуманное им перенесение мощей патриарха из Свято-Феодоровой обители в столицу совершить как можно более торжественно. В первое воскресенье Великого поста после литургии он обратился к императрице с речью.
– Не подобает державе и государству, – говорил Мефодий, – более того, будет весьма неприлично и неблагоприятно, если мы не потщимся перенести в Город богоносное тело почтенного и знаменитого в патриархах Никифора, который ради всеславной и непорочной веры был изгнан со святительского престола и закончил жизнь в длительной ссылке, чтобы нам не показаться настолько неблагодарными по отношению к нему, что мы и после смерти оставили его без чести, как бы под тем же приговором изгнания. Не потерпим же дальше видеть, как чада благочестия, вскормленные божественными поучениями святого Никифора, оплакивают разлуку с отцом и как прекрасный и царственный Город, превосходнейший в поднебесной, знавший его первоверховным вождем, пребывает лишенным его драгоценных мощей – ибо они, безусловно, станут для него крепким охранением и защитой. Пусть же Церковь вернет своего жениха и, богопослушным мановением пастырелюбивой государыни, достигнет через перенесесение тела посмертного соединения с тем, кто при жизни был отнят у нее тиранической рукой беззаконновавшего императора. Ведь ты видишь, августейшая, как эти люди, благодаря тебе обретшие единодушие и единомыслие, горячо стремятся слышать голос своего духовного пастыря даже после его смерти. Если только они увидят, как к ним возвращаются его останки, они сочтут, что получают обратно его самого, и будут хранить его как поселившееся у них неприкосновенное сокровище и многожеланное богатство.
– Я, священный владыка, – ответила августа, уже знавшая, с какой просьбой обратится к ней патриарх, – совершенно согласна с тобой и думаю, что необходимо как можно скорее почтить святого Никифора перенесением его честных мощей в наш Город, устроив радость всем верным. Через это не только Церковь обрадуется возвращению своего пастыря, а Город обретет защиту и покров, но слава об этом будет идти и в нынешнем, и в будущем поколениях, к величайшему благополучию меня и моих детей. Поспеши же, владыка, исполнить задуманное и не сомневайся, что будешь иметь моего сына и меня содействующими тебе в этом благом деле!
Перенесение мощей патриарха-исповедника Мефодий задумал приурочить к годовщине изгнания святителя из Города – 13 марта. Патриарх вместе со своим клиром и множеством игуменов и монахов столичных обителей отправился в монастырь мученика Феодора, где перед гробом святого вознес во всеуслышание моление:
– О, блаженнейший, ты приобщился святому Иоанну Златоусту в таких же испытаниях, как выказавший ту же ревность и дерзновение, что и он, и претерпевший одинаковые с ним лишение престола и смерть на чужбине! Подай же ныне себя нам, сердечно жаждущим твоего возвращения, переселись отсюда и вернись к себе, чтобы и твое перенесение, как некогда Златоустово, отцелюбивый народ встретил с ликованием. Некогда отчужденный от Бога император противостал тебе и безрассудно изверг тебя из Церкви – и понес достойную кару, злосчастной кончиной извергнутый из власти и из жизни и пожавший плоды своего злонравия. Ныне же императоры, близкие к Богу благочестивыми нравами, отдают тебе Церковь даже умершему и, словно усыновленные тобою через Евангелие, представляют ее тебе вместе со мной «не имеющую пятна или порока», какой ты и оставил ее когда-то. Взгляни и узри собравшихся чад твоих, пришедших сюда, и других, ожидающих вдалеке твоего возвращения к ним, не оставь их мучиться и страдать от твоего отсутствия! Пусть же Город твой владеет твоим всеблагодатным телом прежде любого другого драгоценного приношения, гордясь им и всеблаголепно радуясь, и похваляясь им более, нежели царским величием!
Патриарх совершил всенощное бдение и литургию в монастырском храме, после чего тело святителя Никифора было поднято из могилы. Когда гроб открыли, тело оказалось нетленным и целым, несмотря на прошедшие со дня кончины святого девятнадцать лет. Мощи переложили в драгоценную раку и перенесли на борт дромона, предоставленного императрицей. Когда корабль достиг городской пристани, там мощи встречали император, августа, синклитики и прочие придворные. Тело святого под непрерывные псалмопения было перенесено в храм Святой Софии, где простояло несколько дней, причем патриарх ежедневно совершал там бдения и литургии, а множество народа из Города и окрестностей приходило поклониться мощам. Наконец, в воскресенье мощи были с крестным ходом торжественно перенесены в храм Святых Апостолов и положены в сделанную для святителя Никифора гробницу. На крестный ход сошлось множество людей всякого возраста и положения – мужчин, женщин, детей: они теснились даже в переулках, а некоторые залезали на крыши домов, чтобы увидеть шествие. Патриарх постарался обставить погребение святителя как можно торжественнее, так что пышности процессии удивлялись почти все константинопольцы, привычные ко всякого рода праздничным шествиям. Поговаривали, что Мефодий хотел таким образом затмить бывшее за три года до этого перенесение мощей Студийского игумена, а кое-кто предполагал, что патриарх хотел представить это торжество как покаяние императорской власти перед церковной… Как бы то ни было, празднование удалось на славу, и еще много дней к гробнице святителя прибывали паломники из окрестных городов и селений, а то и из дальних концов Империи.
Кассия добралась до храма Апостолов, чтобы помолиться святому патриарху, спустя несколько дней. В ее душе было больше горечи, чем радости, и она просила святителя как-нибудь умирить Церковь и положить конец длившемуся уже два года разделению. Во дворе храме она неожиданно встретилась со Львом.
– Что, мать, ты не очень-то рада нынешним торжествам? – спросил он у игуменьи, когда они поприветствовали друг друга.
– Да, кроме самого открытия мощей, радостного мало, – тихо ответила она. – «Исчезнет радость от пиршества светлого, ежели зло торжествует!» Неужели это никогда не кончится?..
– Всё, что дано, может быть отнято, в том числе жизнь.
Кассия подняла глаза на Философа:
– Ты думаешь… патриарх скоро умрет?
– Господь так или иначе пытается вразумить человека, – ответил Лев, задумчиво глядя вдаль, – но если он не вразумляется, что еще остается? Только забрать его из жизни, чтобы он не сделал еще бо́льших ошибок. «Он был взят, чтобы злоба не изменила разума его»… Конечно, святейший много сделал для православия, но, увы, похоже, не выдержал бремени победы…
– Возможно, он еще передумал бы, если б не отец Иоанникий! Ты ведь знаешь, что он сказал за три дня до своей смерти?
– Да… Что ж, посмотрим, чем всё это окончится. Разумеется, я не пророк, но у меня есть предчувствие, что это не продлится долго, – Лев помолчал. – И при всем этом, как ни странно, я нисколько не сомневаюсь в святости жизни отца Иоанникия или владыки Мефодия. Их можно понять, так же как и студийскую братию… Думаю, при таких неприятных размолвках мы сталкиваемся с ограниченностью человеческой природы, только и всего. Но ведь на небесах всё то, что от людской немощи, заблуждений и пристрастий, уже перестанет иметь значение, а останется только непреходящее, только то, что действительно от Духа Божия. Мне кажется, нам для утешения этого довольно!
– Наверное, – ответила игуменья. – Только всё равно грустно… Почему-то людям так трудно бывает понять друг друга! С этим нелегко смириться… В юности я даже не предполагала, что может быть такое взаимонепонимание между теми, кто подвизается ради одной и той же цели, исповедует одну веру… Казалось, все единоверцы должны друг друга понимать и любить… А теперь, наоборот, после всего пережитого кажется, что взаимопонимание – такая редкость, что на него не стоит даже рассчитывать, а если оно бывает, воспринимать, как чудо. Но это, наверное, неправильно – слишком мрачно выглядит… А ведь сказано: «будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны»… Где это всё у нас?.. Неужели для единодушия непременно нужны гонения?!
– Вряд ли непременно. Периоды «неблаговерия», на которое сетовал святой Григорий, бывают по временам, но они проходят. Думаю, надо смотреть на всё это немного со стороны и спокойно заниматься порученными нам от Бога делами, а там, глядишь, тучи и рассеются! – Лев улыбнулся. – Не грусти, мать! Как говорил Марк Аврелий, «пусть не увлекает тебя ни чужое отчаяние, ни ликование». Если уж мы избрали философскую жизнь, то должны стараться иметь и разум философа – «вне человеческой суеты и обращенный к божественному». Это наш дом, а всё, что вокруг, будь то хорошая погода или ненастье, остается за окном нашей «внутренней клети». За окном «сегодня говорят одно, завтра другое, а философия говорит всегда одно и то же»!
Спустя месяц после перенесения мощей святителя Никифора патриарх заболел: сначала у него опухли ноги, а потом отек стал подниматься выше. Врачи нашли скоротекущую водянку, попытались лечить – давали больному лекарства для сердца и почек, сделали и несколько надрезов на ногах, чтобы выпустить жидкость, но безуспешно: отек продолжал распространяться. Мефодий написал Сиракузскому архиепископу, сообщая о своей болезни и прося Григория приехать, и это письмо было последним, написанным им собственноручно, – вскоре у патриарха отекли руки. Врачи не скрывали, что дни его сочтены, и он продиктовал своему асикриту обращение ко всем епископам патриархата – что-то вроде завещания, где Мефодий объявлял свою последнюю волю относительно еретиков и схизматиков. Иконоборческих клириков он запрещал когда бы то ни было принимать в сане, напоминая о том, что такому снисхождению противились все православные исповедники. Что касается разделения, возникшего из-за непокорства студитов и их сторонников, то патриарх прощал епископов, поддержавших «схизматиков»: в случае покаяния и анафематствования написанного против святителей Тарасия и Никифора, эти архиереи могли быть приняты в своем прежнем сане, однако без права управлять кафедрой. Самим же студитам патриарх запрещал возвращать сан даже в случае их покаяния и подчинения его требованиям: «устроившие раскол» клирики должны были приниматься только в качестве простых монахов.
«Смотрите: вы, состоящие под нашим водительством, не имеете права принимать их помимо указанного строгого испытания, – говорил Мефодий в заключение своего обращения. – Так творя и таким образом соблюдая сказанное, и сами вы прекрасно совершите служение, и Церковь сохраните в благополучии, будучи убеждены, что мы говорим не просто так и не ввиду крайней степени болезни и смертного часа, но движимые божественным Духом и ради сбережения Церкви без соблазна».
Когда Асвеста прибыл в Город, только лицо и плечи патриарха еще не были захвачены неумолимой болезнью, Мефодий дышал и говорил с трудом. Григорий не мог сдержать слез:
– Так поздно я познакомился с тобой, владыка, и вот, ты уже покидаешь нас!
– На всё воля Божия, – тихо ответил патриарх и продолжал, немного помолчав: – Может быть, Господь попустил этой болезни так быстро скосить меня потому, что я перешел меру ревности… был слишком суров с подвластными мне…
– Ты имеешь в виду студитов?
– Да. Еще в молодости… впрочем, не так уж я был молод тогда, но, по крайней мере, в два раза моложе, чем теперь, – Мефодий чуть улыбнулся, – как раз в то время, когда я познакомился с твоей матерью, Григорий… уже тогда мне не нравилось, как вели себя студиты, как они унижали святого Никифора из-за возвращения сана Иосифу… Мне было так горько за святейшего! Хотя он сам, по смирению, всех простил… и даже просил меня больше не вспоминать о той истории… но я не мог не вспоминать! Особенно в Риме. Вот где чтут предстоятеля Церкви, не то, что у нас!.. У нас чуть не каждый встречный считает не просто возможным, но даже едва ли не своим долгом осуждать епископов, выискивать сучки в их глазах… сегодня клясться в верности православию, а завтра из-за сиюминутной выгоды перейти к еретикам и уничижать патриарха, требовать его низложения… Мне думалось, что такому отношению надо положить конец, и, милостью Божией, мне это почти удалось. Но студитов я так и не смог убедить, только несколько человек из них присоединилось к нам… Вероятно, я был слишком резок.
– Но они сами виноваты! – с горячностью возразил архиепископ. – Почему они не хотели отказаться от тех старых писаний? Только потому, что сочли это оскорблением памяти преподобного Феодора? Но они повели себя вовсе не просто как жертвы несправедливости! Мне говорили, владыка, что та история с Хионией… Всё это подстроили студиты, надеясь избавиться от тебя! Ведь это подло!
– Я знаю, что это они, точнее не они сами, а сочувствовавшие им. Я это понял уже тогда, во время разбирательства. Сами студиты, быть может, и не участвовали в том деле… Как бы то ни было, Бог им судья! Я всем прощаю то, что они против меня, грешного, говорили и делали. Но в Церкви жизнь должна идти по правилам, а каноны не позволяют монахам и священникам так дерзко вмешиваться в дела, подлежащие ве́дению архиереев, как это делали студиты. Поэтому то, что я решил относительно них, должно оставаться в силе, – патриарх закрыл глаза и некоторое время отдыхал, тяжело дыша, а потом взглянул на Асвесту и улыбнулся. – Я хотел видеть тебя перед смертью, Григорий. Вероятно, я совершил какие-то ошибки, может быть, и относительно рукоположений… Но за тебя я всегда благодарю Бога! Ты хорошо начал свой путь и прекрасно продолжил. Шествуй так же и дальше, владыка! Твои родители могли бы тобой гордиться. Впрочем, думаю, они сейчас видят, каким ты стал, и радуются.
В глазах Асвесты снова заблестели слезы.
– Я постараюсь жить так, чтобы и ты мог там радоваться за меня владыка! – проговорил он. – А ты помолись за меня, грешного, когда предстанешь престолу Божию!
– Если Господь дарует мне это, буду молиться… Бог да благословит тебя, да вразумит, да поможет тебе во всем! И не печалься, что мы мало общались с тобой тут. Главное – чтобы мы смогли общаться в вечности! Молись за меня, владыка… «Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь лицу Божию», и уповаю, что, по милосердию Господню, «войду в место скинии дивной, до дома Божия, во гласе радования»… До встречи, Григорий, в дому Божием!
Патриарх умер спустя два дня, 14 июня, и был похоронен в храме Апостолов. На его погребении, помимо епископов, столичного клира и игуменов константинопольских монастырей, присутствовали императрица с сыном и дочерьми, весь Синклит, придворные и множество простого народа.
– Что ты думаешь о новом патриархе, Феоктист? – спросила августа у логофета вечером того же дня. – Я, право, не знаю, кто мог бы теперь занять место Мефодия… Да мне, в общем, всё равно, лишь бы только оставались в силе принятые им решения относительно Феофила.
– Тут и думать нечего, августейшая, – ответил патрикий. – Новый патриарх должен как можно скорее помириться со студитами. Мефодий, правда, завещал не принимать их без покаяния и не возвращать сан, но, думаю, этим его пожеланием можно пренебречь… В конце концов он не Бог, чтобы устанавливать подобные заветы! Так что ставленника надо выбирать из тех, кто сочувствует студитам… Кого-нибудь с Принцевых.
…Избрание нового предстоятеля Константинопольской Церкви состоялось спустя две недели после смерти Мефодия. Епископам, съехавшимся в Город, сразу дали понять, что императрица и регенты желали бы видеть на кафедре человека, который «мирно и ко всеобщей радости» покончит с церковным расколом, и что завещание покойного патриарха лучше вовсе не предавать широкой огласке, – впрочем, значительное число архиереев и сами склонялись к этому. Сторонники студитов, особенно монахи с Принцевых островов, сразу после смерти Мефодия развили бурную деятельность, убеждая всех, кого можно, в необходимости избрать патриархом того, кто «положит конец этому безобразию». Однако, чтобы не возникло подозрений, что происходит резкая смена церковного курса, ставленник должен был быть человеком строгих нравов и нерыхлого характера – это тоже понимали все, даже те, кто больше всего возмущался «ревностью не по разуму», проявленной покойным патриархом.
Всё сложилось вроде бы как нельзя удачнее: все трое кандидатов, избранных на соборе и представленных на выбор императрице, оказались из числа принцевских монахов, причем царственного происхождения – это были двое сыновей императора Льва, Василий и Григорий, в последние годы, после смерти матери, жившие в монастыре на Принкипо, и Теревинфский игумен Игнатий. Их православность ни у кого не вызывала сомнений, но Феодора, по совету Феоктиста и Мануила, остановила выбор на Игнатии: хоть он и не претерпел гонений от иконоборцев, однако изначально вместе с отцом и братом пострадал от произвола «зверонравного Льва» и к тому же через создание трех обителей показал себя человеком деятельным, а главное – сразу же согласился представить письменное заверение, где обещал не участвовать ни в каких заговорах и кознях против императора, его матери и сестер. О его подвижнической жизни было известно почти всем, о Василии и Григории, рукоположенных в священный сан после торжества православия, тоже невозможно было сказать ничего укорного, и никто из троих избранников собора по своим личным достоинствам не вызвал недовольства даже у самых ревностных почитателей покойного патриарха. Правда, многих смущало то, что имя Игнатия было заранее названо логофетом дрома как наиболее желательное, но председательствовавший на соборе Никейский митрополит быстро погасил возникшее недовольство. Сиракузский архиепископ поднял было вопрос о завещании Мефодия, выразив недоумение по поводу того, что его не зачитали на соборе, но мало кто из архиереев его поддержал и дело замяли. Асвеста был возмущен, однако пришлось смириться – по хиротонии он был младше других и затевать споры с прочими владыками ему было не совсем по чину, особенно теперь, когда его святейший покровитель покинул этот мир…
В день наречения патриарха императрица обратилась к ставленнику с краткой речью.
– Честнейший отец! – сказала она. – В этот знаменательный для всех нас день, когда, избранием преосвященных епископов и при одобрении наших благочестивых граждан, тебе вручается кормило церковного корабля, я радуюсь вместе со всеми, благодарю Бога, так благоволившего о нашей святой Церкви, и надеюсь, что, приняв в руку пастырский жезл, ты упасешь свою паству на пастбищах тучных, орошенных благодатью Святого Духа и недоступных для волков. Мы все верим, что ты, взойдя на патриарший трон, будешь таким же твердым борцом с ересью и блюстителем святых канонов, как твой славный предшественник. Но мы также уповаем, что ты сумеешь там, где нужно, проявить пастырское снисхождение ради церковного мира, собирая расточенных и устраняя все соблазны и нестроения, чтобы виноградник, который вручает тебе Господь, принес во время благопотребное обильный плод.
Нареченный патриарх в ответном слове заверил всех в своей приверженности к православию и сказал, что приложит все усилия для того, чтобы его паства «избегала стремнин и пропастей всякой пагубной ереси, а наипаче гнусного злочестия иконоборцев». В то же время Игнатий пообещал «утешить снисхождением всех, особенно немощных членов тела Христова», и «не допустить, чтобы хитон Господень раздирался пагубными расколами», а также уверил юного императора и его мать в своей «всегдашней преданности» их державе. Словом, будущий предстоятель Церкви дал понять, что пожелания августы и регентов относительно дальнейшего церковного курса будут исполнены, и при дворе, наконец, вздохнули свободно. Однако радость длилась недолго и омрачилась уже в самый день возведения Игнатия на патриарший престол.
Рукоположение было назначено на воскресенье, 3 июля. Когда нареченный патриарх вместе с маленьким императором, который участвовал в церемонии как взрослый, вошли в алтарь, а епископам, собравшимся для рукоположения, были розданы зажженные свечи, Игнатий, обведя взглядом архиереев, вдруг обратился к Сиракузскому архиепископу и сказал:
– А тебя, владыка, я бы просил не участвовать в хиротонии. Возведенное на тебя обвинение еще недостаточно разобрано и должно быть рассмотрено со всей точностью в ближайшее время.
В алтаре все замерли, многие в первый момент даже подумали, что ослышались, – выпад Игнатия поразил даже тех, кто не питал к Асвесте симпатий: казалось бы, дело о «проступке» архиепископа уже было рассмотрено и закрыто, запечатанное словом покойного патриарха, и никому не приходило в голову, что вопрос может быть поставлен вновь. Сам Григорий несколько мгновений смотрел на будущего патриарха почти с недоумением, а потом его брови сошлись на переносице и в темных глазах засверкало негодование. Асвеста уже подметил неприязнь к нему нареченного патриарха, да и друзья говорили ему об этом, однако Григорий надеялся, что со временем их отношения улучшатся, и поступок Игнатия ошеломил и возмутил его. Асвеста увидел в этом выпаде не просто личную неприязнь, которую еще мог бы перенести со смирением, но явное неуважение к покойному патриарху – ведь по Городу уже ходили разговоры о намерениях нового предстоятеля простить студитов, пренебрегая завещанием Мефодия, об этом говорили и некоторые епископы на соборе, где избирали кандидатов на патриарший престол. Такого оскорбления своему духовному отцу и учителю архиепископ простить не мог. Ему мгновенно вспомнился последний разговор с покойным патриархом, его сожаление о резкости по отношению к студитам и обоснование необходимости оставить в силе прещения против них: доводы Мефодия представлялись для Григория убедительными, особенно потому, что патриарх в то же время смиренно признавал недостатки в своем поведении, тогда как сторонники студитов никак не обосновали свое стремление предать забвению завещание Мефодия, и вот теперь Игнатий дал понять, что сомневается в правоте и других поступков своего предшественника… «Да кто они такие, чтобы судить его?! – промелькнуло в голове у Григория. – Они ничего не претерпели ради веры! Другие восстановили православие, а они только воспользовались чужими трудами… Когда был жив владыка, они не смели и слова сказать, а теперь, значит, осмелели?!» Асвеста бросил свои свечи на пол и воскликнул:
– В нашу Церковь вторгся не пастырь, а волк!
Ни слова более не говоря, Григорий стремительно вышел из алтаря южными дверями и покинул храм. По галереям прошелестело тихое «ах», и после нескольких мгновений растерянной тишины в Великой церкви поднялся глухой шум. В алтаре все тоже пришли в замешательство. Игнатий не ожидал от Асвесты такой резкости в ответ. Хотя его неприязнь к архиепископу и раздражение «самоуправством» Мефодия сыграли определенную роль, он всё же не думал нарочито оскорблять память покойного патриарха, а больше хотел показать всем, в том числе императрице, что действительно намерен быть строгим блюстителем церковных правил и не собирается управлять Церковью только «по указке властей», как о том шептались некоторые после его избрания. Но не успел еще нареченный патриарх сообразить, каким образом погасить начавшийся скандал, как еще двое иерархов открыто поддержали Сиракузского архиепископа: Петр Силейский и Евлампий Апамейский последовали за Григорием, причем Силейский епископ, уходя из алтаря, насмешливо заметил:
– Великолепное начало патриаршего служения!
Вслед за ними покинули Святую Софию и некоторые игумены и священники, в том числе из придворного клира. Хор, к счастью, не подвел и продолжал медленно петь «аллилуйя».
Маленький император наблюдал за происходившим с любопытством и недоумением. От него ускользала суть ссоры нареченного патриарха с Сиракузским архиепископом; Михаил только понял, что Игнатий оскорбил Асвесту, и это пришлось мальчику не по душе – Григорий успел внушить ему симпатию за те несколько раз, когда он видел, как он служит, и слышал его проповеди; покойный патриарх в свое время представил архиепископа императрице и ее детям, и Асвеста очень понравился им всем. Михаилу стало обидно за архиепископа, и он, нахмурившись, смотрел на Игнатия. Заметив это, Ираклийский митрополит поспешил спасти положение, подав возглас, после чего началось пение «Святый Боже», а затем последовала хиротония; все оставшиеся в алтаре епископы и клирики делали вид, будто ничего не произошло.
Императрица, глядевшая на всё это со своего места на западных галереях Великой церкви, прижала руку к груди и подумала: «Господи, что он делает?!.. Вот так “утешил снисхождением”, вот так покончил с “ревностью не по разуму”! Если таково начало, что же будет дальше?! Надо как-то его унять… Тем более, что он уверял нас в своей преданности!»
23. Надежда
…пока не настанет день, когда Господь отдернет пред человеком завесу грядущего, вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах: Ждать и надеяться.
(А. Дюма, «Граф Монте-Кристо»)
Лев снял с крюка дверной молоток на кованой цепочке и постучал в металлический круг справа от двери. Пришлось ждать довольно долго, прежде чем ему отворили.
– Господин Лев! Боже милостивый, какое посещение!
– Отец Кледоний? – удивленно спросил Философ, всматриваясь в открывшего дверь монаха.
– Да-да, он самый! Проходи, господин, проходи!
– Не ожидал тут встретить кого-нибудь из вашей братии, признаться, – Лев улыбнулся. – Но я рад!
– Ох, господин, знал бы ты, как приятно услышать доброе слово! – вздохнул Кледоний, запирая ворота на тяжелый засов. – Коня я потом отведу в стойло, – монах привязал лошадь Математика к столбу у стены. – Вот только проведу тебя к владыке… Нам сюда, – они вместе пошли к особняку через сад по вымощенной камнем неширокой дорожке. – А уж как меня поносили, не сказать! Я ведь, как владыку в монастырь услали, места себе не находил… А узнал, что он сюда переселился, так сразу и пришел – думал, попробую умолить, чтоб разрешил остаться! В ногах готов был валяться… А владыка сразу и принял, вот как! Слава Богу!
«Владыка», – отметил про себя Лев слово, которым монах называл низложенного патриарха. Но ведь Кледоний вместе со всеми присоединился к православным… Что же, опять отпал? Или живет тут просто как прислужник?..
– Не понимаю я нынешних христиан, господин Лев! – продолжал монах, и в его голосе зазвучала горечь. – Чего только не говорили, каких только небылиц не плели! Нет, наши-то братия, сергие-вакховы, ничего, они все владыку помнят и любят, а вот местные… Ты, говорят, пошел на службу к колдуну, он, говорят, совращал монахинь и гадания с ними устраивал, мол, в Бога не верует, а молится Зевсу и Афродите, Платона чтит выше Евангелия… Вот ведь, прости Господи, какие глупцы невиданные! Я говорю: столько лет рядом жил, ничего подобного не знаю, – не верят. Говорят: он тебя заколдовал, так ты и не замечал ничего! Ну, скажи, господин Лев, как это можно назвать?!
– Тупое невежество! – вздохнул Философ. – А что Иоанн говорит?
– Смеется! – Кледоний улыбнулся. – Что ты, говорит, скорбишь? Этой участи не избежал и Октавиан Август! Но он говорил: «Не слишком возмущайся, если кто-то обо мне говорит дурно: довольно и того, что никто не может нам сделать дурного». Прекрасный, говорит, совет! Да, вот так мы тут и живем, господин Лев…
– Ты один прислуживаешь Иоанну?
– Нет, как можно! Еще повар тут с помощником, слуги, что убирают в доме, садовник еще… Садовник тут – просто чародей!
– Да, сразу видно! – кивнул Математик, оглядываясь вокруг: сад и цветники, окружавшие особняк, действительно, могли поспорить по красоте с дворцовыми.
– А я так, вроде келейника: книжку принести, чернил… или записать что-нибудь… Владыке-то теперь много писать тяжело, да и читать иной раз, глаза устают… Вот я при нем и состою, тому и рад!
В доме монах провел Льва в гостиную и пошел доложить хозяину, тут же вернулся и проводил Философа прямо в покои к Грамматику.
– «Боги! ужасное чудо моим представляется взорам!» Неужто бывший архиепископ пришел навестить бывшего патриарха? – улыбаясь, воскликнул Иоанн. – Рад тебя видеть, Лев!
– Здравствуй, Иоанн! Наконец-то я добрался к тебе, слава Богу! На самом деле я должен был сделать это раньше… Я чувствую себя ужасно виноватым из-за того, что подчинился требованию не видеться с тобой!
– Пустяки! Это требование было вполне разумным и служило к твоей же пользе, прежде всего. Право, я не в обиде.
– Но теперь всё-таки хватит. Иначе мне пришлось бы перестать себя уважать.
– Даже так? – Грамматик приподнял бровь. – Что так? – он пристально взглянул на Философа.
– Видишь ли… Когда-то ты верно заметил, что боевой дух мне не свойственен. Но вчера при мне патриарх сказал августе, что неплохо было бы заточить тебя куда-нибудь в крепость, потому что «верные возмущаются» тем, что ты не только «не принес покаяния и не понес наказания за свои нечестивые деяния», но еще и живешь спокойно «в свое удовольствие»…
– Вот оно что! Не дает же иконопоклонникам покоя моя скромная личность! – Иоанн усмехнулся. – А что августейшая?
– Слава Богу, августа решительно воспротивилась и заявила, что не позволит тебя тронуть и пальцем. И даже добавила, что если уж она покойному Мефодию, который весь иконоборческий клир отправил на паперть, не дала над тобой «всласть поиздеваться», то Игнатию тем более не даст. Патриарх даже растерялся от такого выпада. А она ему говорит, насмешливо так: «Ты же, владыка, обещал всех утешить своим снисхождением, неужели ты не пощадишь уже поверженного врага? Это было бы так невеликодушно!» Святейший поначалу заупрямился и возразил, что он готов проявить великодушие, но и о строгости тоже не надо забывать: мол, к тебе сюда ходят всякие люди и ты можешь совратить кого-нибудь в нечестие… Но августа усмехнулась и сказала: «Уверяю тебя, святейший, слухи о совращающих способностях Иоанна сильно преувеличены! Лично я, например, ни от кого из духовных лиц за свою жизнь не получила большей пользы для души, чем от него!» Патриарх поразился, помолчал и сказал, что ему «странно слышать из уст благочестивой государыни о пользе от общения с человеком, из-за которого наше государство столько лет пребывало в ереси». А государыня тогда вдруг обратилась ко мне: «А ты что думаешь? – спрашивает. – От еретика может ли быть что доброе?» Я ответил, что еретик, разумеется, вполне может подать хороший духовный совет, что ничего странного в этом я не вижу и завтра же отправлюсь к тебе в гости и делом докажу, что ничего опасного в общении с тобой нет! – Философ улыбнулся.
– Понятно. Что ж, проходи, садись, – Иоанн сделал пригласительный жест и сам тоже опустился в кресло. – Сейчас Кледоний принесет нам чего-нибудь закусить… Как твои дела? Всё преподаешь?
– Да, слава Богу, у меня всё прекрасно, как было и при прежнем государе. Честно говоря, я очень рад, что лишился епископской кафедры и вновь оказался на преподавательской. Я счастлив! Хотя, конечно, если б не августейшая, вряд ли мне позволили бы вернуться в училище. Владыка Мефодий поначалу возражал, но государыня настояла на своем.
– Разве твое покаяние Мефодия не устраивало? Ведь ты же покаялся?
– Да, но святейший… – тут вошел Кледоний, и Лев умолк.
Монах принес овальный серебряный поднос, где стояли два хрустальных кубка и кувшин с вином, тарелки с ломтиками сыра и соленой рыбы, миска с оливками, блюдо с ломтиками груш и дольками апельсина, и принялся расставлять всё на невысоком деревянном столе, покрытом простой льняной скатертью с полоской из вышитых крестиков по краю.
Лев тем временем окинул взглядом комнату, которую не успел еще толком рассмотреть. Она была не очень большой, но светлой за счет высокого окна, выходившего в сад. Помимо стола и двух плетеных кресел, покрытых бараньими шкурками, здесь стоял под окном небольшой диван, застеленный узорчатым покрывалом, а в углу жаровня. На полу лежал пестрый, уже истоптанный ковер, судя по рисунку, сирийской выделки. Чуть приоткрытая дверь справа вела, вероятно, в библиотеку – Философ разглядел в глубине той комнаты книжный шкаф. На восточной стене висело простое деревянное распятие, под ним на полочке – лампада из синего стекла на серебряной подставке и тут же небольшой аналой со шкафчиком для книг внутри, а перед ним круглый коврик, расшитый красными розами. На аналое строго поблескивало Евангелие в серебряном окладе. Но самое странное открытие ждало Льва на той же стене левее, почти в углу: это была икона Богоматери – та самая, что когда-то висела в «приемной» келье Сергие-Вакхова монастыря. Историю, из-за которой Грамматику было разрешено покинуть обитель, куда его прежде сослали, и удалиться в свое имение, Лев знал лишь в общих чертах – как монахи написали на Иоанна нелепый донос, узнав, что он держит у себя в келье образ Богородицы. Но что означала загадочная привязанность к этой красивой и немного странной иконе? Неужели просто память о годах юности, быть может, о каком-нибудь событии, известном только Иоанну?..
Лев взглянул на Грамматика и увидел, что тот наблюдает за ним. По губам Иоанна пробежала чуть заметная улыбка. Между тем Кледоний наполнил вином кубки и поставил перед хозяином и гостем.
– Благодарю, брат, – сказал Грамматик. – Угощайся, Лев! Сыр тебе, рыба тоже, а мне оливки, – проводив взглядом Кледония, он снова повернулся к племяннику. – Кстати, молиться по отдельности будем? Я ведь еретик.
Лев вздохнул и махнул рукой:
– Благословляй ты.
– Хм! – в глазах низложенного патриарха заплясали смешинки, он встал, благословил еду, снова опустился в кресло и поднял кубок. – За встречу! – он пригубил вино, Лев последовал его примеру. – Так что́ Мефодий?
– Святейший считал, что бывших еретиков вообще не следует допускать ни к каким высоким должностям, и магистры Мануил и Сергий его поддерживали. Но при дворе, к счастью, не все такого мнения.
– Еще бы! – Иоанн усмехнулся. – Они ведь там все, можно сказать, «бывшие еретики». Впрочем, теперь-то каждый может стать ревнителем борьбы с побежденной ересью! Когда-то я, помнится, сказал господину Никифору, что в борьбе за веру всегда есть место подвигу.
– Какому Никифору?
– Патриарху, которого вы почитаете во святых. Я слышал о перенесении его мощей… Ведь и ты почитаешь его, не так ли?
– Почитаю, – ответил Лев, немного помолчал, пережевывая кусок рыбы, пристально взглянул на Иоанна и спросил: – Послушай, скажи честно, тебе никогда не приходило в голову, что истина всё-таки в иконопочитании, а не в иконоборчестве? Каковы бы ни были по личным качествам нынешние победители, плохи или хороши, это ведь не отменяет существования истинных догматов!
– Не отменяет, разумеется. Но что из этого? Даже если б я принял догмат об иконопочитании и решил покаяться, то для покаяния, как показывают жития и патерики, свидетели не нужны: я и Бог, вот и всё. Если б я и решил взять свидетеля, то довольно было бы хоть того же Кледония. Это рассуждая духовно. А если рассуждать «по-человечески» – что лично мне могло бы принести публичное покаяние? Господин Мефодий заставил бы меня ежегодно ходить в процессии со свечкой у всех на глазах и радовался бы своему торжеству над «злейшим ересиархом». А народ бы глазел и пальцами в меня тыкал, ликуя, что наконец-то окончательно повержен под ноги православным «предтеча антихриста сатаны»… Мефодий вдохновенно написал канон, да, я оценил! – в голосе Грамматика возрастала насмешливость. – «Отравотворный Иоанн», поревновавший житию Крона и Аполлона!.. Но Мефодий еще был образованным человеком, а вот господин Игнатий… Я слышал, что он вообще недолюбливает людей, сведущих в «эллинских баснях». Так что, пожалуй, он бы меня заставил собственноручно сжечь книги с «безбожными учениями», по которым я воспитывал свою паству в «дельфийских нравах»… Теперь ведь ежегодно в Великой церкви читают анафемы на «отвергшегося веры»?
– Читают, – Лев поморщился, как от зубной боли. – Но ты же понимаешь, такие вещи нужны прежде всего, чтобы впечатлить народ.
– Конечно. Им и покаяние мое нужно для того же – чтобы произвести впечатление, потешить собственное тщеславие. Полагаю, участь моей бессмертной души их нимало не заботит. Зачем же мне пред ними каяться, даже если б я и надумал? Чтобы угодить их тщеславию? «Людям ли я угождать стараюсь? Если б я угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Ты покаялся, и тебя оставили в покое, даже преподавать позволили – но прежде всего потому, что к тебе благоволит августейшая. Ко мне она тоже благоволит, только мне это не помогло бы, ведь я – символ «нечестия». Так что пришлось бы мне ходить со свечкой и быть пугалом для невежественной толпы. Если уж Лизикса принимали так торжественно, при всем честно́м народе, то для меня и подавно изобрели бы какую-нибудь впечатляющую церемонию, заставили бы публично посыпать голову пеплом, проклясть поименно всех моих единоверцев, сжечь какие-нибудь «нечестивые писания»… Зачем мне всё это? А так я, видишь, живу тут себе спокойно, никого не трогаю, и меня никто не трогает. Молюсь, читаю, размышляю. Дай Бог так прожить и до смерти!
– А химические опыты?
– О, нет, с ними я покончил в тот день, когда увидел в окно, как сгорают мои записи, – усмехнулся Иоанн. – Некоторые вещи наши современники не способны вместить, и я подумал, что когда люди станут к этому способны, найдется и тот, кто накормит их нужной пищей… Так что теперь я читаю, пишу схолии иногда… Кледоний мне помогает, добрая душа!
– Где же он молится?
– Здесь, со мной. Я служу по воскресеньям и праздникам, тут есть домовая церковь. Сначала он, впрочем, пытался ходить в одну обитель здесь неподалеку, да тамошние ревнители, как узнали, что он мне прислуживает, выгнали его, как прокаженного, такого наговорили, что он до сих пор опомниться не может… Я, знаешь ли, всё чаще вспоминаю Аврелия: «Лучше всего примирит тебя со смертью внимательный взгляд на предметы, которые тебе предстоит покинуть, и мысль о характере людей, с которыми твоей душе уже не придется соприкасаться. Ибо хотя и не следует гневаться на них, а, наоборот, надлежит и заботиться о них, и переносить их с кротостью, но в то же время не нужно забывать, что разлука предстоит тебе не с людьми единомыслящими».
Он умолк, отпил вина и отправил в рот большую зеленую оливку. Лев тоже поднес к губам кубок, искоса разглядывая Иоанна. Грамматик выглядел не просто спокойно, а как-то умиротворенно. Всё такой же худой, немного бледный, но не болезненно, почти совсем седой, в поношенном хитоне и старой мантии; те же изящные точные движения, та же неуловимая улыбка. Однако Лев мог отметить и перемену: в глазах «великого софиста» больше не было заметно металлического блеска и той жесткости, что нередко проглядывали в них раньше, когда Грамматик говорил о людях, к которым не испытывал добрых чувств.
– Да, – наконец, сказал Лев с улыбкой, – ты похож на придворного философа на покое!
– Я, в общем, он и есть, – улыбнулся в ответ Иоанн. – Так уж вышло, что немалая часть моей жизни прошла при дворе. Впрочем, благодарение Богу, государи, которых мне довелось близко знать, были далеко не худшими представителями человеческого рода и, думаю, вполне достойно носили пурпур.
– Особенно государь Феофил!
– О, да! И в том, что он был именно таким, есть и моя скромная заслуга.
– Думаю, твоя заслуга тут наибольшая, не скромничай! Правда, иногда мне приходит мысль… Тебе никогда не было обидно из-за его предсмертного обращения? Ведь в конце концов, можно сказать, ты был побежден, да еще женщиной!
– Что ж! Женщины сильнее всех, как сказал Ездра. Побежден? Только частично. Государь ведь не изменил тому образу жизни, которому я научил его: он был императором-философом, таким и остался, а это главное, ведь именно этому я учил его прежде всего. А что до перемены веры, то здесь нет ничего странного. Победа приходит там, где больше любовь. Неудивительно, что любовь между мужчиной и женщиной оказалась сильнее, чем между учителем и учеником, если это именно любовь, названная у Платона притяжением половин целого.
– Значит, по-твоему, здесь дело только в женщине, а не в Истине? – спросил Лев, пристально глядя на Грамматика. – А как же быть с этим? – он указал взглядом на икону на стене.
– Это всего лишь произведение художественного искусства, – ответил бывший патриарх с еле заметной улыбкой.
– Остаться неразгаданным до конца! – сказал Математик с некоторой грустью.
– Нет, не то, – Иоанн чуть помолчал. – Полностью открыться другому человеку возможно, и это бывает прекрасно, но я считаю, что такой опыт можно позволить себе лишь один раз в жизни. У меня этот один раз уже был.
– Может, и так, но ведь чистота подобного опыта зависит от того, когда именно он проводится: есть же разница, открываешься ты другому в юности или уже в зрелом возрасте, когда познал жизнь!
– Разумеется. И мой опыт в этом отношении был предельно чист: мне было тогда уже сорок два, а ты ведь должен помнить, что сказано у Марка Аврелия о сорокалетней границе.
По еле уловимым ноткам в голосе Грамматика Лев понял, что дальше лучше не расспрашивать: ответа всё равно не будет. Он переменил тему, заговорил о своих лекциях, об учениках, о протоасикрите и его ученом кружке. Иоанн слушал с интересом: до него доходили вести о Фотии и его научных занятиях.
– Да, господин Фотий далеко пойдет! – сказал он. – Лизикс тоже рассказывал о нем… Лизикс и владыка Феодор меня иногда навещают, да и еще кое-кто из прежних знакомых. Так что совсем заброшенным старик Иоанн себя не чувствует, – Грамматик улыбнулся. – Ваше поколение пошло гораздо дальше нашего, и это прекрасно! Думаю, если что и может свидетельствовать о благоволении Божием, то именно это. Военные победы и поражения, всякий внешний блеск, впечатляющий толпу, постройки и разрушения, смены царств, мир и война – всё это пройдет, и о большей части этого сохранятся лишь смутные воспоминания и малодостоверные мифы, а то не останется и их. А знания и мудрость пребывают, это то неразрушимое основание, на котором и дальше будут строить, всегда, сколько бы ни просуществовал род человеческий. Сейчас, уже подходя к концу жизни, я могу сказать, что особенно счастлив оттого, что в этой постройке есть и положенные мною кирпичи.
Лев просидел у Грамматика до сумерек. Когда Кледоний, постучав, вошел с намерением зажечь свисавший с потолка медный семилампадный светильник, Философ поднялся и сказал, что, пожалуй, ему пора домой, ведь завтра с утра занятия, и нужно еще заглянуть кое в какие книги… Иоанн проводил гостя до ворот, по пути проведя по саду и показав скамью, где частенько читал, любуясь Босфором. Они немного постояли, глядя на море, над которым уже мерцала первая звезда.
– Есть нечто знаменательное и очень верное в том, что я начинал свою жизнь на этих берегах и здесь же ее окончу, – сказал Грамматик. – Босфор был моей первой любовью, он же станет и последней. После моей ссылки друзья жалели меня, многие даже оплакивали мою участь, а я, право, давно не был так счастлив, как теперь, и могу только благодарить Бога за всё, что было в моей жизни, и за всё, что есть в ней сейчас: я не мог бы пожелать ничего иного!
Уже у выхода Лев обернулся, посмотрел бывшему патриарху в глаза и спросил:
– Иконоборчество не есть ли тоже только «опыт», Иоанн?
– Мы поговорим об этом в лучшем мире, Философ, – ответил Грамматик с тонкой улыбкой.
– Ты уверен, что мы там встретимся?
– Можно ли в здешней жизни быть в этом уверенным, Лев? Но можно надеяться.
…Дождь шел уже третий день, почти не прекращаясь. Мокрые листья, втоптанные в дорожные плиты, походили на призраки. Идя к вечерне в храм, Кассия ступала по ним и думала: «Вот так уходят с земли поколения за поколениями… Сначала современники еще хорошо помнят ушедших, их деяния, потом всё постепенно тускнеет, покрывается мраком, растворяется во тьме… Опавший лист темнеет, становится всё прозрачнее, и остается только коричневый силуэт на темном камне… А вот и его нет – растворился во тьме времен. Мы все так же растворимся когда-нибудь… И кого будут помнить потомки? Дольше всего помнят святых… или злодеев…»
В нартексе храма перед входом в неф Кассия остановилась, чтобы помолиться перед иконами по сторонам от входа – две из росписей, Христа и Богородицы, были тут с основания монастыря, а две других появились недавно: рядом со Спасителем – патриарх Никифор, рядом с Богоматерью – Студийский игумен Феодор.
В последнее время игуменья всегда молилась здесь перед началом службы, прося у дорогих ей святых душевного мира: известия о церковных нестроениях, доходившие до нее, повергали Кассию в печаль и горькие раздумья. Пока был жив прежний патриарх, она мечтала о восстановлении справедливости по отношению к студитам, и теперь Студий и Саккудион снова были в общении со всеми собратиями: Игнатий, приняв кафедру, тут же отменил прещения, изреченные Мефодием против «мятежных» монахов, не требуя от них ни анафематствования писаний преподобного Феодора против святых патриархов, ни какого-либо покаяния в «расколе». Сторонники студитов прославляли «мудрую снисходительность святейшего», но конец раздора не принес настоящей радости, поскольку спустя три месяца после рукоположения Теревинфского игумена в патриарха Константинопольского стало совершенно ясно, что на смену прежнему расколу пришел новый, причем более тяжкий: Григорий Асвеста и присоединившиеся к нему епископы и клирики прервали общение с новым патриархом и, хотя Игнатий уже на другой день после восшествия на патриарший престол, по настоянию императрицы, попросил прощения у Сиракузского архиепископа за свою резкость, не приняли извинений – ведь патриарх раскаивался не в том, что решил вновь поднять уже «закрытый» вопрос, а только в том, что нашел для этого неподходящее время. Примирение же со студитами и вовсе удалило Асвесту и его сторонников от нового патриарха – они сочли, что Игнатий не только не внял заветам своего предшественника по кафедре, но, напротив, действовал противоположным образом, «как настоящий отцеубийца»…
Что же теперь будет? Этот вопрос задавали себе не только константинопольцы, и никто не знал на него ответа. Конечно, нельзя было не одобрить Игнатия за то, что он поспешил уладить раздор со студийскими монахами, но можно было понять и негодование Асвесты и тех из почитателей покойного патриарха, кто видел в происходящем неуважение к Мефодию. Выпад же против Сиракузского архиепископа, так необдуманно сделанный патриархом в день хиротонии, осуждали почти все…
«Отче Никифоре, помолись за владыку Игнатия и за владыку Григория, чтобы они примирились и всё уладилось! – в печали молилась Кассия каждый день, входя в храм. – Отче Феодоре, утишь эту смуту, вразуми всех, помоги нам! Вы видите, что делается, ведь это невыносимо, это ужасно… Как так получается, что в мирное время мы стали ссориться между собой и наносить Церкви раны едва ли не бо́льшие, чем прежде еретики?!.. Помогите нам, вразумите всех! Неужели это никогда не кончится?..»
Но сейчас, войдя в нартекс, Кассия внезапно ощутила, вместо печали и скорби, покой и даже радость от простой и утешительной мысли: вот, перед ней были иконы двух святых, которые при жизни разрывали между собой общение и говорили каждый в адрес другого резкие слова, предпринимали действия отнюдь не дружеские – стоит вспомнить хотя бы трехлетнее заключение преподобного Феодора, допущенное святым патриархом, или письма Студита к папе Римскому с призывом осудить патриарха и его единомышленников-«прелюбодейников», – а тем не менее, оба святых теперь вместе в царствии небесном, оба прославлены нетлением мощей, оба источают исцеления молящимся, оба смотрят здесь с икон на входящих в храм и молятся о них…
Когда при встрече у храма Апостолов Лев говорил ей, что человеческие немощи и заблуждения остаются на земле, а на небо переходит только то, что от Духа Божия, Кассия сказала: «Наверное», – умом она понимала, что это так, однако в душе всё равно скорбела и не могла смириться. Но теперь она ощутила сердцем, что Философ был прав и неразумно печалиться о том, что даже люди святой жизни не свободны от человеческой немощи. Сам Христос по человечеству показывал Себя неведущим, спрашивая, когда заболел бесноватый мальчик, сколько лет расслабленный лежал у купели или где был погребен Лазарь, хотя как Бог знал всё это, – а люди ведь не так совершенны, как Он! Здесь по временам неизбежны недоразумения и непонимание, а там…
«Разве там они помнят о том, что их, случалось, разделяло здесь? – думала Кассия. – Разве может то, что было тут от ошибок или немощи, от запальчивости и необдуманности, или просто от разницы во взглядах на церковные дела – разве может всё это омрачить их вечную радость? Конечно, нет!»
А раз так, значит, даже самые резкие слова, сказанные друг другу людьми, которые, исповедуя одну веру, по-разному представляют себе то, как эта вера должна торжествовать, даже самые резкие действия, быть может, ошибочные и необдуманные, – не должны повергать в уныние: у людей, действительно стремящихся подвизаться о Господе, в вечность перейдет то, что от силы Божией, а то, что от немощи человеческой, останется здесь и растворится в веках, как исчезает след опавшего листа на дороге…
Кассия вытерла навернувшиеся на глазах слезы, улыбнулась и прошептала:
– Значит, надежда есть!
24. «Волною морскою»
(Дж. Голсуорси, «На другой берег»)
- На все вопросы Бог ответит:
- «Покойтесь! Не скажу – зачем!»
20 января, в годовщину смерти императора, патриарх отслужил заупокойную литургию в храме Апостолов и торжественную панихиду в усыпальнице перед гробом Феофила, а затем, по обычаю, беднякам были розданы хлеб и медяки на помин души усопшего. «Прошло уже шесть лет! – думала Феодора. – Даже не верится… Когда-то мне казалось, что я и нескольких месяцев не проживу без него!..»
Простившись с патриархом и отправив детей домой, императрица отослала кувикуларий и снова пошла в усыпальницу. Там в тишине и сумраке мерцали лампады; в бледных лучах света, струившихся из узких окон, поблескивали саркофаги. Августа подошла к гробнице великого Юстиниана. «Всё-таки хорошо, что Феофил похоронен здесь! – подумала Феодора. – Он хотел быть похожим на Юстиниана, и в чем-то это ему удалось, а значит, справедливо, что теперь они лежат в одной усыпальнице…» Помолившись за упокой душ свекрови и свекра, а также сына и дочери у их гробниц, августа подошла к саркофагу мужа, провела рукой по прохладному зеленому мрамору и закрыла глаза.
Каждый год в этот день она подводила итог прожитому, старалась понять, что она сделала правильно, а что нет, пыталась представить, что сказал бы муж о тех или иных ее действиях, и заупокойные моления у гробницы Феофила утешали и успокаивали августу – они словно подтверждали, что, несмотря на все трудности и неприятности, жизнь идет своим чередом и порядком, и встреча на небесах, как бы долго еще ни пришлось ожидать ее, всё-таки приближается…
Хотя в церковной жизни одни нестроения сменялись другими, в последние месяцы императрица стала относиться к ним более философски, чем раньше: «У Феофила было много неприятностей из-за войн с арабами, а у меня теперь – из-за раздоров у православных… Что ж! Без тех или иных неприятностей всё равно не прожить!» Ее тревожил не столько новый раздор в Церкви, сколько то, как он сказался на сыне. После ссоры нового патриарха с Сиракузским архиепископом Михаил не то, чтобы невзлюбил Игнатия, но относился к нему без уважения: один из воспитателей однажды сообщил Феодоре, что подсмотрел, как мальчик передразнивал патриарха перед своими сестрами, да так похоже, что девочки не могли удержаться от смеха. Правда, Анастасия поначалу заметила, что «грех так дразнить владыку», но потом тоже расхохоталась, глядя на Михаила, удивительно точно копировавшего не только походку и выражение лица Игнатия, но и его манеру говорить – то быстро и резко, то важно и медлительно… Императрица не стала порицать сына, но решила при случае поговорить с ним о патриархе. Случай представился скоро: в Рождественский пост Михаил должен был исповедаться, уже второй раз в жизни, как взрослый, и теперь у нового патриарха, но когда мать заговорила с ним об этом, мальчик заявил:
– Я не хочу идти к владыке Игнатию!
– Почему, родной?
– Он меня будет ругать, скажет, что нельзя делать того, что я делаю… А я ведь всё равно буду делать!
– Что ты будешь делать?
– Ну… дразниться, драться с Пульхерией…
– За это он не будет тебя ругать, – улыбнулась Феодора.
– Будет! – упрямо сказал Михаил. – Он злой!
– Почему же злой? Зря ты так говоришь, это нехорошо. Он не злой, а просто строгий.
– Он владыку Григория выгнал, – проговорил маленький император, чуть надувшись и глядя в пол. – А владыка Григорий добрый, у него глаза добрые… А владыка Игнатий как посмотрит, так убежать хочется!
«Это точно!» – подумала августа. Она понимала, что называть патриарха злым было несправедливо, однако тоже чувствовала себя неуютно, думая об исповеди у него: суровый монах, не видевший, по сути, ничего, кроме своих обителей, не знавший иной жизни, кроме строгих подвигов на пустынных островках, он, казалось, не способен был понять скорбей и искушений, обуревавших мирских людей. Ни перед Антонием и Иоанном, ни даже перед Мефодием у Феодоры не возникало желания как-то сгладить собственные прегрешения, рассказав о них в самых общих словах; но сейчас, готовясь к исповеди у Игнатия, она ловила себя на размышлениях о том, как бы открыть ему грехи и в то же время «ничего не сказать»…
– У кого же ты хотел бы исповедаться, сынок? – спросила она.
Мальчик ненадолго задумался, а потом поднял глаза на мать:
– А у отца Иакова можно?
– Сергие-Вакхова игумена? Да, конечно.
– Тогда я к нему пойду, ага, мама?
– Ага, – улыбнулась императрица и чуть заметно вздохнула, вспомнив о прежнем игумене этой обители – о том, кого Феофил хотел видеть учителем сына…
«Хорошо хоть, что он счастлив, – подумала августа; Лев рассказал ей о своем посещении низложенного патриарха и о том, что сказал Иоанн о своей нынешней жизни. – Он это заслужил!»
И теперь, у гробницы мужа, она молилась прежде всего о Михаиле и просила, чтобы отец сам умолил Бога направить жизнь их сына так, как нужно. «Раз Бог простил его и принял к Себе, то Он услышит его молитвы скорее, чем мои, – думала она. – Только бы там нам всем быть вместе, Господи! Только бы дождаться той встречи, только бы дойти… пусть спотыкаясь, пусть падая, но дойти – туда!»
Кассия с Евфимией тоже приходили на заупокойную литургию по императору и молились за панихидой в усыпальнице, и вновь игуменья думала о непостижимости судов Божиих. Как удивительно всё сложилось! Феофил почти всю жизнь был еретиком и притеснял православных – а спасся быстрее, чем она, с юности избравшая монашеский путь и никогда не сообщавшаяся с ересью! Да, он спасся, а вот спасется ли она, еще неизвестно… Когда они встретились в ее келье, она призывала его думать о встрече на небесах, а вышло так, что теперь уже он оттуда словно призывал ее постоянно думать об этом: будет ли встреча на небесах? Живешь ли ты так, чтобы встретиться с теми, кто пришел туда раньше тебя? Вот уж, воистину, «всё премудростью сотворил» Бог, чтобы смирить человеческое самомнение!..
– Матушка, – спросила Евфимия, когда они уже возвращались в обитель. – А ведь если государь спасся и сейчас там, с Богом, то он, верно, может молиться о нас?
– Думаю, может, – ответила Кассия. – Видишь, как Господь всё устроил! Я когда-то читала в Послании к римлянам о том, что Бог «кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает», и очень боялась за государя, что он станет «новым фараоном»… И многие православные считали его таким, а вот как обернулось!
– Да! Наверное, об этом сказано: «Нареку не людей Моих людьми Моими, и не возлюбленную возлюбленной»?
– Да, и еще у апостола о том, что итог зависит «не от хотящаго, не от бегущего, но от милующаго Бога»… Вот, получается, мы до самого конца не можем знать, кого Господь помилует, потому что никто не может знать, что в человеке, «только дух человека, живущий в нем».
– Это очень хорошо! – воскликнула Евфимия. – Только бы не забывать об этом, а то ведь мы, когда любим-то, не осуждаем и желаем человеку вразумления и всяких благ, а вот если кто нам неприятен… – она вздохнула.
– Бог для того и являет такие чудесные случаи, как с государем, чтобы мы об этом помнили.
– Значит, это ничего, если я иногда прошу его молиться за меня? – несмело спросила Евфимия.
– Конечно, – улыбнулась игуменья. – Да я и сама иногда прошу его об этом, ведь мы точно знаем, что он спасся. И это тоже чудо! Сколько людей умирает, даже очень благочестивых по жизни, но мы не можем быть точно уверенными, спаслись они или нет, и молимся только об их упокоении… А с государем вышло так, что мы можем быть уверены. Рассуждая по-человечески, меньше всего можно было ожидать, что это будет даровано не только еретику, но и гонителю православных, но случилось именно то, чего «не могло быть» – то самое, что невозможно у людей, но возможно у Бога!
Войдя в свою келью, Кассия села за стол, положила перед собой чистый лист, взяла перо и некоторое время прислушивалась к музыке, зазвучавшей внутри нее, когда они с Евфимией возвращались из храма Апостолов: теперь мелодия слышалась всё отчетливее – словно едва различимый шум в приложенной к уху морской раковине постепенно превратился в рокот настоящих волн, разбивающихся в пену о прибрежные камни. И Кассия тихонько запела:
Она улыбнулась, перекрестилась, обмакнула перо в чернила и начала писать.
Игуменья давно собиралась составить канон в честь Великой Субботы – одного из ее самых любимых дней в году, когда в Церкви вспоминалось, как Христос, пребывая телом во гробе, душой сошел в ад и вывел оттуда умерших, ожидавших Его пришествия, – но ее намерение было слишком неопределенным, и только теперь…
Теперь она, наконец, поняла, какую мысль ей особенно хотелось выразить в этом каноне.
Жизнь побеждает смерть – побеждает так, что эта победа оказывается сотканной из противоречий, и в то же время – единственно невозможно возможной…
Раздался тихий стук в дверь, Кассия чуть вздрогнула и подняла голову.
– Да?
Вошла Елена – молодая девушка, два года назад поступившая в обитель и в последние несколько месяцев проходившая послушание в трапезной.
– Ты что, Елена? – спросила игуменья, увидев ее заплаканное лицо, отложила перо и встала.
Сестра упала ей в ноги.
– Матушка, прости! – проговорила она. – Я тут… на мать Евфимию накричала… хотя она не виновата, это я… Мне мать Христина сказала лук почистить и порезать, а я рассердилась: что это, говорю, как лук, так всё я! А Евфимия… она как раз зашла… Она сказала, что ей тоже поначалу всё давали лук чистить и она плакала, но старалась думать про адские муки и о своих грехах вспоминать. «А то, – говорит, – от лука мы быстро плачем, а о грехах – не заставишь»… Но она это по-доброму так, а я… разозлилась… «Вот и плачь, – говорю, – о грехах от лука, а я так не хочу!» Нож бросила и ушла совсем, вышла из трапезной и опомнилась: что это я сделала!.. А идти назад стыдно…
– Ну, Елена, успокойся, – игуменья подняла девушку с пола. – Сядь, посиди тут. Лук – вещь горькая, но кричать нехорошо. Пойди сейчас, попроси прощения у Евфимии и у Христины. А чтобы лук глаза не так ел, окунай нож почаще в воду, – Кассия улыбнулась. – А пока посиди, послушай, – и она негромко запела:
– Что это, матушка? – восхищенно спросила Елена.
– Будет канон на Великую Субботу, я давно хотела написать, но вот, только сегодня поняла, как нужно… Это один из ирмосов, а вот еще тропарь: «Всем, в нерешимых узах ада скованным, Господь возопил: “Те, кто во узах, выходите; те, кто во тьме, освободитесь”, – Царь наш, избавляющий сущих на земле». Мы тоже живем, как в аду, пока мы еще в страстях, и они нас сковывают, как нерешимые узы: даже когда хотим делать хорошее, выходит часто плохое. Но унывать не надо, нужно молиться и призывать Господа, чтобы Он сошел в наш ад и освободил нас от этой тьмы грехов. Он непременно придет в известное Ему время, а мы должны надеяться и ждать, и терпеть не только ближних, но и самих себя, когда мы падаем, когда у нас не получается быть хорошими… Мы ведь думаем, что вот, начнем подвизаться, и всё у нас быстро получится, а когда видим, что не получается, унываем и иногда готовы совсем всё бросить. Это от гордости, от того, что мы ждем от себя хорошего. Но истинно хорошее бывает только от Бога, по Его дару, вот и нужно призывать Его и ждать Его пришествия, как в аду ждали Его воскресения праотцы. Тогда и раздражаться будешь меньше, и кричать будешь реже, – игуменья снова улыбнулась.
Ободренная Елена подняла глаза и несмело спросила:
– Матушка, а что там дальше в каноне?
– Дальше пока не написано. Сейчас иди, Елена, попроси прощения и трудись, слушайся мать Христину. А когда я закончу канон, спою всем вам.
Девушка поднялась, взяла благословение и уже сделала два шага к двери, но остановилась и снова повернулась к игуменье:
– Матушка, прости, я еще, можно, скажу помысел? – Кассия кивнула. – Я вот иной раз за день так набегаюсь, что думаю: суеты тут больше, чем в миру!.. Да еще стараешься, стараешься всё как лучше, а всё равно – то одна сестра недовольна, то другая… то мать Христина пожурит, что не так приготовила что-нибудь… А молиться я часто и вовсе забываю, прямо в иные дни – как безбожница! Вечером прихожу в келью и думаю: что и пользы в такой жизни?..
– Это бывает со всеми новоначальными. В Патерике есть история про брата, который жаловался, что «не исполняет никакого монашеского дела», говорил: «Я нахожусь в большой беспечности: ем, пью, сплю, имею постыдные помыслы и сильное возмущение, переходя от дела к делу, от помыслов к помыслам». А старец сказал ему: «Сиди в своей келье и, что можешь, делай без смущения. Я желаю и малого, что можешь сделать ты ныне, как некогда авва Антоний совершал великие подвиги в пустыне. И уверен, что пребывающий в келье своей ради имени Божия и блюдущий свою совесть находится и сам на месте аввы Антония». Так и мы должны пребывать на своих послушаниях ради Христа и не унывать. Один преподобный сказал, что работающий Богу не должен унывать и быть мрачным, а должен непрестанно радоваться, ведь он служит такому великому Царю! Так что, Елена, не горюй!
– Да, я вот и сама думаю: тут я хоть и в суете, но всё же ради Христа стараюсь… И на службах молюсь… Хоть и плохо живу, но всё же…
– Но всё же мы тут «во граде огражденном», где Господь являет Свою милость. Не унывай, Елена, терпи. В таких искушениях монахи и испытываются. Морские волны катают камушки, бьют их друг об друга, и постепенно они становятся из угловатых и шершавых гладкими, блестящими, и все любуются ими. Так и монахи: сначала их долго бьют искушения, но зато потом они становятся красивыми и пригожими… Перетерпишь, и Господь явит милость Свою, потом сама удивишься, что это ты раньше столько роптала и мучилась.
Елена вздохнула.
– Да, я понимаю… Хоть я и нерадивая, но в миру-то вообще неизвестно, чем бы я занималась… Точнее, известно…
– Вот именно.
– Но всё равно иногда так мысль и травит: «И зачем это?.. Почему непременно нужно терпеть такое?..»
– Мы ведь невесты Христовы, Елена. А невеста на то и невеста, чтобы любить своего Жениха, – Кассия помолчала. – Любовь, как сказано, долготерпит, надеется, верит и никогда не перестает. А почему и зачем с нами случается то или это, нам не всегда дано узнать, по крайней мере, сразу, и это тоже полезно. Если всё разложить на «зачем» и «почему», то где была бы вера? Где были бы надежда и любовь? Если мы любим Бога, то должны верить Ему, доверять во всем, верить, что если Он что-то устроил определенным образом, то это нужно для нашей пользы. Любовь не спрашивает, зачем.
– Не спрашивает, зачем! – тихо повторила Елена.
– Да. Чтобы понять некоторые вещи, нужна тишина. А чтобы она пришла, надо перестать вопрошать, «зачем».
Елена ушла, игуменья помолилась за нее, а потом снова села и продолжала писать, напевая то, что получалось – гимн той невозможной возможности, в которой заключались и совершившиеся от века чудеса, и спасение Феофила, и надежда на собственное спасение и спасение дорогих людей, и упование, что все недоумения и раздоры между единоверцами когда-нибудь останутся за порогом того дома, где сияет вечный и бесконечный Свет…
…Вечером, когда сестры уже разошлись ко сну, игуменья долго молилась, а потом надела теплую мантию, покинула келью и тихонько прошла по коридору. Ни под одной из дверей не мерцала полоска света – все сестры спали. Ночь была холодной, безоблачной, безветренной, от тишины закладывало уши. Выйдя на монастырский двор, Кассия немного постояла, глядя в опрокинутую над ней звездную бездну. Спал монастырь, спал Город, спало море, спала, казалось, вся вселенная, звезды тянули к земле тонкие лучи… И вечность вливалась в душу вместе с тишиной, сияла внутри: жизнь теряла начало, теряла конец, сливалась с бесконечностью, где всё пережитое и всё, что предстояло еще пережить, скорбное и радостное, обретало последний смысл и тонуло в едином предвечном Свете…
Вернувшись к себе, Кассия поправила фитиль в светильнике на столе, достала с полки тетрадь в фиолетовой обложке, открыла и записала:
2003–2008, 2012Санкт-Петербург – Константинополь
Примечания автора
Мною переведены с древнегреческого на русский:
– стихиры и стихи Кассии во всем романе, а также ее канон в ч. 5, гл. 24;
– стихи Феодора Студита (ч. 1, гл. 12; ч. 2, гл. 16);
– эпиграмма Льва Математика на роман Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт» (ч. 4, гл. 19);
– тропари канона в честь св. Евфимия Сардского (ч. 4, гл. 22);
– ямбы, начертанные на лицах Феофана и Феодора Начертанных (ч. 4, гл. 22).
Я сделала поправки в некоторых из приводящихся в романе библейских цитат в соответствии с греческим текстом, поскольку синодальный русский перевод не всегда соответствует оригиналу.
Богослужебные тексты (тропари канонов, стихиры и т. п.) приводятся в моем собственном переложении на русский: я не стала приводить их по церковнославянски, поскольку для византийцев не было такой разницы в языке, какая существует в настоящее время между русским и церковнославянским или между совеременным и древним греческим, – в Византии молились на том же языке, на каком писали и говорили, хотя, разумеется, существовала определенная стилистическая разница.
Письма Феодора Студита и патриарха Никифора, творения Григория Богослова, Иоанна Златоуста и других святых отцов православной Церкви, а также сочинения Гомера, Платона, Аристотеля и иных античных авторов цитируются по существующим русским переводам (см. соответствующие ссылки в списке использованной литературы), однако иногда я делала в них поправки в соответствии с греческим оригиналом или стилистические.
Все даты в романе соответствуют Юлианскому календарю, по которому жили византийцы. Время у них считалось как от сотворения мира, так и от Рождества Христова, а также по индиктам; счет по индиктам начинался заново каждые 15 лет.
Список литературы, использованной при написании романа, можно найти в интернете по адресу: <http://kassia-senina.ru/saga/kassia/biblio_kassia.htm>
Я буду рада получить отзывы о романе по электронной почте: [email protected]
Византийская Империя в IX веке
Константинополь, общий план
Константинополь, азиатское побережье Пропонтиды и Принцевы острова
Примерные реконструкция и план константинопольского Большого Дворца
По книге A. Vogt, Le Livre des cérémonies (Paris, 1934)
Константинопольский храм Святой Софии
Рисунок Анатолия Сенина. Бумага, акварель, 2011 г.
Св. Кассия Константинопольская
Икона из собрания автора романа.
Словарь терминов
Авгу́ста – титул императрицы.
Ага́ряне – мусульмане; византийцы считали их потомками Агари, служанки Авраама.
Апокрисиа́рии – послы Римского папы, которых он отправлял с различными поручениями в другие государства.
Архо́нт – буквально в переводе с греческого начальник (военный или мирской).
Асикри́т – секретарь.
Великий кура́тор – чиновник, заведовавший императорскими имениями.
Вестиопра́т – торговец готовой одеждой.
Доме́стик экскуви́тов – начальник отрядя экскувитов (придворной стражи).
Друнга́рий ви́глы – начальник ночной стражи, на которую возлагалась охрана императорского дворца и столицы в целом.
Инди́кт – период в 15 лет, одна из единиц измерения времени у византийцев.
Ипа́т – то же, что консул, придворный чин.
Ипострати́г – помощник стратига.
Кандидат – кандидаты и спафарокандидаты обычно служили в личной охране императора и сопровождали его при выездах.
Кандидати́сса – супруга кандидата.
Кано́н – 1) церковное правило; 2) гимнографическое произведение, по священное какому-либо празднику или памяти святого, которое читается или поется за богослужением, обычно состоит из 8 песен, по несколько тропарей в каждой.
Коми́т (шатра, схол и т. д.) – один из военных чинов.
Кувикула́рий, кувикула́рия – что-то вроде спальничих и ближайшей прислуги у императора и императрицы.
Куку́ль – монашеский головной убор вроде капюшона; мужчины могли откидывать его на спину; в Византии сшивался вместе с параманом (полосой ткани с вышитыми крестами; параман символизировал распятие монаха для мира, никогда не снимался, но носился в те времена, в отличие от нынешних, поверх туники).
Ли́кос – река, протекавшая через Константинополь; ныне засыпана.
Логофе́т генико́на – то же, что министр финансов.
Логофе́т дро́ма – начальник почтового ведомства, также отвечал за гос безо пасность, один из самых высоких придворных чинов.
Мафо́рий – женская головная накидка, была достаточно большой, чтобы укутывать также плечи и грудь.
Паракимомéн – заведующий императорской спальней.
Патрúкий – высокий придворный титул, давался высшим гражданским и военным чинам.
Патрúкия-зóста – «опоясанная» патрикия, высший чин для женщин при дворе.
Пéнула – женский плащ с капюшоном.
Пóртик – крытая галерея, крышу которой поддерживали ряды колонн, где могли ходить пешеходы и располагались разные лавки; в больших городах портики шли с обеих сторон вдоль главных улиц, могли быть двухэтажными; часто портиками украшали и отдельные здания.
Препозúт – чиновник, заведовавший личными покоями императора.
Протоасикрúт – главный секретарь императорской канцелярии.
Протопсáлт – начальник придворного клира.
Протоспафáрий – придворный титул из числа титулов первого ранга.
Протострáтор – начальник страторов, главный конюх.
Синкéлл – помощник патриарха, ответственный по связям Церкви и государственной власти.
Скарамáнгий – мужская одежда наподобие длинного кафтана.
Спафáрий – придворный титул второго ранга.
Спафáрия / протоспафáрия – жена спафария / протоспафария.
Спафарокандидáт – кандидат в чине спафария.
Скевофилáкс – хранитель церковной утвари, должность при храме.
Стихúра – церковный гимн в честь праздника или святого.
Стратúг – военный главнокомандующий, вроде генерал-губернатора в дореволюционной России.
Стратиóт – солдат.
Стрáтор – заведующий лошадьми, конюх.
Схолáрий – воин из отряда схол; несколько таких отрядов держалось для охраны дворца.
Тáгма – военная часть.
Тунúка – одежда вроде платья до пола у женщин (или укороченная вроде рубахи – у мужчин), с длинными рукавами и без пуговиц, надевалась через голову.
Турмáрх – командующий тýрмой (отрядом), военный чин.
Фéма – административная единица деления государственной территории в Византийской Империи, аналог российской губернии.
Форум – площадь.
Энкóлпий – нагрудная икона или крест с иконами, носившиеся обычно под одеждой.
Эпáрх – градоначальник, что-то вроде современного мэра.
Список действующих лиц, упомянутых в романе по имени[3]
Аббáс, сын халифа Мамуна
Абдаррахмáн, правитель Испании
Агáпий, студийский монах
Агáфия, девица
Агафодóр, кровельщик
Агафóн, студийский монах
Áгния, жена Фомы Славянина
Адриáн, сын Акилы и Евфрасии
Акúла, муж Евфрасии
Албенéка, сестра Фео досии
Александр, комит шатра
Александр, монах, зять Сисиния
Александра, жена Ингера Марти накия
Алексей Муселé, муж Марии, зять Феофила
Áммон, студийский монах
Анатолий, монах обители Великого Поля
Анастáсий, мятежник
Анастасий Мартинáкий
Анастасúя, девица
Анастасия, дочь Феофила
Андрей, студийский монах
Андрей, ученик Льва Математика
Андрей-«Констáнций», мятежник
Анна, двоюродная сестра Кассии
Анна, девица
Анна, дочь Феофила
Анна, мать Петра Атройского
Анна, патрикия
Антóний, вифинский иеромонах
Антоний, епископ Диррахийский
Антоний, отец ипата Михаила
Антоний, патриарх Константинополь ский
Антоний (в миру Иоанн Эхил), монах*
Анф, студийский монах
Анфúм, патрикий
Анфим, экзарх
Анфýса, служанка Марфы
Арéта, монахиня Кассииной обители
Аркадий, монах Павло-Петрской обители
Арсавир, муж Каломарии
Арсавир Морохарзáмий, брат Иоанна Грамматика
Арсáфий, патрикий
Арсéний, больничник Сергие-Вакхова монастыря
Арсений, монах обители Св. Феодора
Арсений, священник из города Мас тавры
Артемий, начальник монетной мастерской
Асáд, арабский кади
Áстий, монах Воскресенской обители
Афанáсий, игумен Павло-Петрского монастыря*
Афанасий, игумен Саккудионского монастыря
Афанáсия, кувикулария императрицы Феклы
Афрáт, студийский монах
Афродисий, студийский монах
Аффóний, студийский монах
Афшин, арабский военачальник
Ашнáс, арабский военачальник
Аэтий, стратиг фемы Анатолик*
Бабéк, персидский вождь
Вáрда, брат Феодоры
Варда, муж Албенеки
Вардáн Турк, стратиг
Варсúсий, монах из Филомилия
Васик, арабский халиф
Василий, игумен Свято-Саввского мо настыря в Риме
Василий, комит шатра
Василий, отец Евдокима
Василий, отец Кассии
Василий, сын Льва V
Василиса, девица
Вассиáн, студийский монах
Вéнду, комит из Амория
Виссариóн, студийский монах
Виталиáн, отец Сабины
Влáсий, учитель Кассии
Гелáсий, слуга Марфы и Кассии
Георгий, брат Марфы
Георгий, монах и летописец
Георгий, игумен
Гéрман, монах и иконописец
Григорá, мирянин
Григорий, сын Льва V
Григорий Асвéста, архиепископ Сира кузский
Григорий Декаполитский, игумен*
Григорий, студийский монах
Григорий Птерóт
Давид, брат Антония Эхила
Дендрис, шут
Димохáри, логофет
Диогéн, турмарх
Дионисий, студийских монах
Дорофéй, студийский иеромонах
Дорофей, студийских монах
Евдоким, стратиг Каппадокии*
Евдокия, девица
Евдокия, дочь Ингера, будущая императрица
Евдокия, мать Евдокима
Евдоко, девица
Евлáмпий, епископ Апамейский
Евóдий, студийский монах
Еврепиáн, студийских монах
Евсéвий, игумен Клейдийского монастыря
Евстрáтий, игумен Агáврский*
Евстратий, столпник Атталийский
Евтихиáн, протоасикрит
Евфимий, архиепископ Сáрдский*
Евфимий, протопсалт
Евфимий, студийский монах
Евфимий, турмарх Сицилии
Евфимия, монахиня, бывшая кувикулария Феодоры
Евфрасúя, сестра Кассии
Евфросина, игуменья Клувийского монастыря
Ефросина, императрица, вторая же на Михаила II
Елена, девица
Елена, монахиня из Кассииной обители
Елена, сестра Феофила
Елисавета, монахиня из Кассиной обители
Емилиáн, епископ Кизический*
Епáтий, студийский монах
Епифáний, студийский монах
Ефрем, помощник эпарха
Ефрем, студийский монах
Захáрия, епископ Тавроменийский
Захария, спафарокандидат
Захария, студийский монах
Зосима, студийский монах
Зоя, девица
Иáков, монах обители Св. Христофора
Игисим, студийский монах
Игнáтий, диакон и скевофилакс Святой Софии
Игнатий, епископ Милетский
Игнатий, епископ Никейский
Игнатий, митрополит Никомидий ский
Игнатий Рангавé, патриарх Константинопольский*
Иларион, игумен Далматский*
Ингер Мартинáкий
Иоанн, епископ Кизический
Иоанн, епископ Монемвасийский
Иоанн, игумен Катасáввской обители
Иоанн, игумен Халкитский
Иоанн, иеродиакон из Атрóйской обители
Иоанн, монах Саввской лавры в Па лестине
Иоанн, палестинский отшельник, бывший разбойник
Иоанн Аплáки, стратиг фемы Македония
Иоанн Грамматик Морохорзáмий, патриарх Константинопольский
Иоанн Спéкта
Иоанн Эксавýлий
Иоанникий, вифинский отшельник*
Иов, палестинский монах
Иов, патриарх Антиохийский
Иóсиф, архиепископ Солунский (Фессалоникский)*
Иосиф, игумен Керамéйский
Иосиф, эконом храма Св. Софии
Иосиф песнописец, монах*
Ипáтий, студийский монах
Иперéхий, студийский монах
Ирина, византийская императрица*
Ирина, мать Фотия*
Ирина, сестра Феодоры
Ирина, спафария
Исáия, никомидийский отшельник
Исидóра, мать Акилы
Каллúста, мать Льва Математика
Калогир, студийский монах
Каломария, сестра Феодоры
Карл I, римский император
Карломáн, король франков
Картéрий, студийский монах
Кассия, монахиня, песнописица*
Кáллист, турмарх*
Каллóна, спафарий
Карвéй, вождь павликиан
Катакил, стратиг Опсикийской фемы
Кéлсий, монах Клейдийской обители
Кирилл, императорский чиновник
Кледóний, келейник Иоанна Грам ма тика
Клеóпа, воспитатель Михаила III
Константин, будущий Кирилл, просветитель славян*
Константин, друнгарий виглы
Константин, скевофилакс Св. Со фии
Константин, сын Феофила, император-соправитель
Константин VI, византийский император
Константин (Симватий), сын Льва V, император-соправитель
Константин Вавýцик*
Константин Мартинáкий
Кратéр, стратиг фемы Анатолик
Крум, болгарский хан
Ксенофóнт, соузник Мефодия на острове Св. Андрея
Лáзарь, монах и иконописец*
Ламарис, экзарх
Лев, друнгарий в Солуни
Лев, ипат
Лев, папа Римский
Лев V Армянин, византийский император
Лев Математик и Философ*
Леонид, стратиг Каппадокии
Леóнтий, секретарь Анастасия Марти накия
Леонтий, студийский монах
Лизикс, протоасикрит
Лúя (в миру Маргарита), монахиня, бывшая горничная Кассии
Лукиáн, монах обители Св. Христофора
Лукиан, студийский монах
Людовик, король франков
Магдалина, патрикия-зоста
Макáрий, игумен Пеликитский*
Максим, турмарх Македонской фемы
Малик-ибн-Кедáр, арабский военачальник
Мамýн, арабский халиф
Манýил, дядя Феодоры
Маргарита, девица
Мариáн, протоспафарий
Мáрин, отец Феодоры
Мария, дочь Феофила
Мария, монахиня, бывшая императрица, жена Константина VI
Мария, сестра Феклы
Марк, отец Григория Асвесты
Марфа, мать Кассии
Мáртин Мартинáкий
Мегалó (Ирина), монахиня
Мелúта, жительница острова Оксия
Мефодий, патриарх Константино поль ский*
Мúра, служанка Марфы
Миропúя, монахиня из Кассииной обители
Михаил, митрополит Синáдский*
Михаил, ипат, зять Георгия, муж Анны
Михаил, монах Клейдийской обители
Михаил, синкéлл патриарха Иерусалим ского*
Михаил, императорский стратор
Михаил I Рангавé, византийский император
Михаил II Шепелявый, византий ский император
Михаил III, византийский император
Мутасим, арабский халиф
Навкрáтий, игумен Студийский*
Нектáрий, студийский монах
Никита, игумен Мидикийский*
Никита, кандидат
Никита, патрикий
Никифор, патриарх Константинополь ский*
Никифор, препозит
Никифор I, византийский император
Николай, чиновник
Николай, келейник патриарха Никифора
Николай, студийский монах*
Нил, священник
Нóнна, сестра Алексея Муселе
Олвиáн, стратиг фемы Арменьяк
Олимпиада, девица
Омуртáг, болгарский хан
Оорифа, военачальник
Орáва, стратиг Фракисийской фемы
Орéст, студийский монах
Павел (в миру Христофóр), монах, брат Петра Атройского
Панкрáт Морохорзáмий
Панкрáтий, крестьянин
Пантолеóн, логофет
Парфéний, студийский монах
Пасхáлий, папа Римский
Пáтрик, придворный архитектор
Пелагúя, кувикулария императрицы Феклы
Петр, вифинский монах
Петр, епископ Силейский
Петр, игумен Атрóйский*
Петр, игумен Гулейский
Петр, митрополит Никейский*
Петр, слуга Марфы и Кассии
Петр Трандонико, дож Венеции
Петрóна, брат Феодоры
Пúмен, брат эконома Иосифа
Платон, игумен Студийский*
Прокóпий, монах-библиотекарь
Прокопия, императрица, жена Михаила I
Прот, патрикий
Пульхéрия, дочь Феофила
Сабúна, мать Григория Асвесты
Савва (в миру Феóдор), монах
Сергий, отец Фотия*
Сергий Никетиáт*
Симеóн, иеромонах митиленский*
Симеон, монах, родственник императора Никифора
Симеон, придворный врач
Симеон, студийский иеромонах
Симеон, студийский монах
Сисúний, стратиг фемы Анатолик
Софúя, девица
София, монахиня Кассииной оби тели
София, сестра Феодоры
Ставрáкий, византийский император
Стефáн, доместик схол
Стефан, епископ Хрисопольский
Стефан, заведующий прошениями
Стефан, игумен
Стефан, императорский асикрит
Стефан, студийский монах
Схоластикий, паракимомен
Тарáсий, брат Фотия
Тарасий, патриарх Константинополь ский*
Тимофéй, монах Клейдийского монастыря
Тит, студийский монах
Уджéйф, арабский военачальник
Фаддéй, студийский монах*
Фéкла, дочь Феофила
Фекла, императрица, жена Михаила II
Феогнóст, протоспафарий
Феóдор, игумен Студийский*
Феодор, слуга Марфы и Кассии
Феодор Кратéр*
Феодор Крифина, архиепископ Сиракуз ский
Феодор Начертанный, иеромонах*
Феодóра, императрица, жена Феофила*
Феодóсий, сын Льва V
Феодосий Вавýцик, патрикий
Феодосия, императрица, жена Льва V
Феодóт, патрикий, отец Акилы
Феодот, протоспафарий
Феодот Мелиссин, патриарх Константи но польский
Феодóта, императрица, вторая жена Константина VI
Феоктист, вифинский отшельник
Феоктист, магистр
Феоктист, монах
Феоктист, патрикий, хранитель императорской чернильницы и логофет дрома*
Феоктист, студийский иеромонах
Феостирикт, мидикийский монах
Феофáн, игумен монастыря Великого Поля*
Феофан, комит шатра в феме Анатолик
Феофан, оруженосец
Феофан, турмарх Македонской фемы
Феофан Начертанный, митрополит Ни кейский*
Феофáния, вдова
Феофания, крестьянка
Феофáно, императрица, жена Ставракия
Феóфил, византийский император
Феофилáкт, епископ Никомидий ский*
Феофилакт, сын Михаила I, император-соправитель
Феофóб (Насир)
Филарéт, придворный художник
Филúпп, спафарий
Филóн, студийский монах
Флорина (в монашестве Феоктиста), мать Феодоры
Фома, патриарх Иерусалимский
Фома, патрикий
Фома Славянин
Фóтий, протоасикрит, будущий патриарх Константинопольский*
Хиóния, женщина, оклеветавшая Мефо дия
Христúна (в миру Фотúна), монахиня, бывшая горничная Кассии
Христодýл, асикрит
Юлия, мать Сабины